Анастасия Туманова Прощаю – отпускаю
Сумрачным мартовским утром 1857 года из ворот Рогожской заставы вышла большая каторжная партия. Впереди верхом ехал конвойный офицер, следом двигались арестанты в ручных и ножных кандалах, за ними – скованные с той же строгостью арестантки. Позади тащился обоз. По бокам покачивались в сёдлах конвойные казаки. Движение партии сопровождалось барабанным боем: в огромный барабан истово бухал невысокий дядька-солдат, весь вспотевший от усердия.
– Будет уж, Фролов, вышли, – бросил ему, проезжая мимо полосатых ворот, конвойный унтер.
Барабан умолк. Фролов с облегчением вытер лоб и улыбнулся:
– Ну, хоть не зря долбил, ваше благородие! Мне – и то бублика в карман сунули на Рогожке-то!
Казаки заухмылялись. Улыбнулся и конвойный, повернувшись в седле:
– Ну что, ребята, довольны?
– Много довольны, ваша милость, благодарствуем! – послышались бодрые голоса арестантов.
– А коль довольны, так по уговору!
– Знамо дело, ваше благородие! Оченно вам благодарны. И за то отдельное спасибо, что через Рогожку провели, – сдержанно поблагодарил сутулый, сухой мужик с морщинистым обветренным лицом и обширной плешью.
Конвойный офицер, подъехав к нему, спокойно протянул руку. Арестант так же спокойно положил что-то в эту руку, поклонился. Офицер кивнул и поехал далее. Сутулый обернулся к прочим:
– Ну что, мужики? Врал я аль нет? Кто там со мной на полтинник спорил? Ты, Ефимка? Отдавай!
– Да на, лови, дядя Кержак, нешто жалко? – серебряный полтинник взлетел над головами каторжан и приземлился точно на лысину Кержака.
Тот тряхнул головой, поймал монету в ладонь. Под общий хохот озадаченно спросил:
– Нарочно, что ль, ирод?..
– Да какое! Само угодило так! – хмыкнул высокий парень с широченными плечами. Физиономия его была совершенно серьёзной, но в зелёных наглых глазах билась усмешка. – Вишь, дядя Кержак, какая у тебя плешь-то доходная – сама к себе деньгу тянет! Ты её береги смотри! Не то, не ровён час, волосьём зарастёт – по миру пойдёшь!
Каторжане опять заржали, а сам Ефим недоверчиво усмехнулся:
– Вон ведь как вышло-то! Не думали, не гадали…
Ефим Силин и его брат Антип шли на каторгу впервые. Когда ранним утром один из бывалых каторжан потребовал со всей партии по полтиннику «офицеру поднести», Ефим воспротивился:
– Это с какой же радости? Не дам, и всё! Я его вижу впервой! Детей мне с ним не крестить, на новом этапе другому нас сдаст! Не, дядя Кержак, извиняй – а не дам! У меня деньги в кармане яиц не несут, наутро новые не вылупятся!
Стоящий рядом Антип молчал, но на его лице тоже читалось недоверие. Точно такие же насупленные рожи были у остальных арестантов. Расставаться со своими кровными копейками никто не хотел. Но Кержак и ещё несколько бывалых бродяг хохотали от души.
– Вот что, Ефимка, давай спорнём с тобой! – отсмеявшись, предложил Кержак. – Моё слово – как с Москвы выйдем, у тебя в кармане вдесятеро больше будет! И тогда ты мне ещё полтинник даёшь! Ну, а коль нет – я тебе его возвертаю, ты и не внакладе окажешься! Годится этак?
Ефим сощурился, чувствуя подвох. Но на него выжидающе смотрела вся партия, и он с неохотой согласился:
– Ну, леший с тобой, давай! Разбейте, мужики! Только смотри: обманешь – кулаком по репку в землю вгоню! Скажи хоть, за что офицеру платим?
– А за улицы хлебные да за барабан! – добродушно смеясь, пояснил Кержак. – Да не злись ты, сам увидишь! Пропал твой полтинник как есть!
Ефим переглянулся с братом, пожал плечами.
– Ты б поосторожней, братка, ей-богу, – вполголоса сказал тот, поглядывая на сумрачное, низкое небо. – Глянь, ещё Москву пройти не успели – а ты уже на деньги спорить взялся! Так они из нас ещё до Сибири всё по копеечке вытянут: народ бывалый, ушлый… Вперёд думай!
Ефим сердито промолчал, подозревая, что Антип прав.
– Ништо, – чуть погодя ответил он. – Мы с тобой на пару, ежели захотим, всю эту кандальную братию на заборах развешаем.
– И будет тебе двадцать лет вместо десяти, дурень. Да кнута ещё схватишь. Аль мало оказалось? Сила есть – ума не надо…
Тут уж отвечать было нечего, и Ефим умолк окончательно.
Партия каторжан медленно потянулась по улицам Москвы. Офицер повёл их через Замоскворечье – богатое купеческое место. Барабанный бой разносился далеко по сонным улочкам и переулкам, и вскоре уже отовсюду слышались вопли детей:
– Маменька! Тятенька! Кандальников ведут! Несчастненьких ведут!
Захлопали ворота, заскрипели двери. Партия была вынуждена остановиться: узкую улицу перекрыла толпа баб, детей и старух. Идущий впереди Кержак невозмутимо выставил вперёд ящик для подаяния. В него полетели медь и серебро. Арестантам же совали пироги, яйца, хлеб и прочую снедь. Ефим даже испугался этих протянутых отовсюду рук. Он, как и другие, едва успевал неловко благодарить и рассовывать по карманам подаяние. Обернувшись, он заметил, что и женщин-кандальниц тоже обступили люди.
– Что ты, девонька… Что ты, куда такое отдаёшь?! Белый хлеб-то! Без спросу взяла, поди? На праздник, видать, припасено было? Мамка забранит, неси домой… – испуганно отпиралась высокая молодая женщина с серыми глазами.
Но девчушка лет десяти настойчиво совала ей в руки ковригу:
– Что ты, бери, бери! У тебя доля горькая… Тебе до самой Сибири, до гор высоких… Таковы муки принимать идёшь, да в цепях-то! – со взрослой слезой в голосе, качая головой, говорила девочка. – Ты возьми на здоровье, а у нас ещё есть! Мамка мне сама дала, вон она стоит! На праздник-то ещё напекём! Тебя как звать-то? Помолюся за тебя!
– Устиньей, милая… – прошептала женщина, не замечая бегущих по лицу слёз. – Спаси тебя Христос… И матерь твою…
Затем барабан застучал опять. Партия повернула с Ордынки на Полянку – и всё повторилось вновь. С Полянки вышли на Пятницкую – и снова бегущие навстречу люди, сочувственные лица, пироги, хлеб, мочёные яблоки, деньги… Ефим не знал, что и думать. Он только переглядывался с братом, у которого тоже были совершенно ошалелые глаза.
– Да что ж это… – пробормотал он, машинально пряча в карман мятный пряник и не чувствуя, что его уже давно тихо, но настойчиво теребят за рукав.
Антип первым заметил низенькую старушку в потёртой ватной накидке и ткнул брата кулаком в плечо. Тот, вздрогнув, обернулся к бабке:
– Что ты, мать?
– Прими-ка, сыночек… Горяченький ещё, только что из печи вынула! – старушка протянула ему пахнущий на всю улицу грибами пирог. – Да за пазушку, за пазушку суй, если сразу есть не хочешь! Долго там продержится… заодно и погреешься! Холодно нынче, будто и не весна… Ты за что идёшь-то, маленький?
Ефим запнулся, даже не усмехнувшись над «маленьким» (бабка едва доходила ему до груди). Язык не повернулся сказать вслух, что он идёт на каторгу за двойное убийство. Впрочем, бабка не ждала ответа. Опёршись дрожащими руками-лапками о локоть Ефима, она горьким шёпотом сказала:
– Сыночек у меня в Сибирь ушёл… Максимушка… Уж четвёртый год ни слуху ни духу… Ты, сынок, когда дойдёшь да, может, встретишь Максимушку моего, передай поклон. Скажи – жива мамаша и здорова, сестру Аннушку замуж на Покров выдала, кланяются ему все! Не забудь, сыночек, – Максим Фёдоров! Двадцать второй год ему после Рождества сровнится!
– За что сына-то забрали, мать? – хмуро спросил Ефим, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. – По пьяному делу зашиб кого?
– Что ты… Как есть тверёзый был! В сапожной мастерской подмастерьем мучился, так при расчёте хозяин его обидел. А Максимка не стерпел да колодкой его по лбу-то – хлоп! Из того и дух вон! Максимка-то – он как ты был, сажень в плечах косая! Враз и забрали маленького моего… Коль встретишь его, сыночек, – кланяйся от меня!
– Поклонюсь, мать, передам… Ты… ступай домой, не мёрзни.
Напоследок бабка сунула Ефиму варежки – лёгкие, серенькие, вязанные из козьего пуха. Ефим показал их брату:
– Глянь! Добрые варьги… Только мне на один палец! Устьке вот гожи будут.
Антип кивнул. Оба они одновременно повернулись к женской партии, но издали Устю было не разглядеть. Ефим сунул бабкин пирог в одну варежку, прикрыл другой и обратился к идущему рядом цыгану:
– Передай, коль не в тягость, к бабам… Устинье Шадриной.
Цыган с готовностью кивнул и тут же отправил пушистый свёрток дальше:
– К бабам, Устинье Шадриной, от мужа!
Варежки с пирогом пошли по рукам. Партия уже выходила за заставу, когда свёрток приняла красивая цыганка с весёлым и дерзким взглядом. Её красный платок съехал на затылок. В чёрной волне волос уже видны были серебряные нити – но цыганка была стройной и лёгкой, как девочка. На плечи её была наброшена пёстрая линялая шаль. Из-под юбки торчали босые, сизые от холода ноги.
– Кому? Шадриной? От мужа? – она живо обернулась вокруг. – Эй, королевишны мои! Которая тут Устинья Шадрина?
Закованные по рукам и ногам «королевишны» молчали – и цыганка, с недоумением оглядев всю партию, сердито повторила:
– Устинья Шадрина кто будет, спрашиваю? Нешто в пересыльном её позабыли?
– Я Устинья, господи – я… – сдавленным шёпотом отозвалась наконец сероглазая. Она до сих пор всхлипывала, сжимая в руках ковригу белого хлеба. Цыганка протянула ей варежки и изрядно помятый пирог.
– Держи, зарёва, муж тебе кланяется! Да ты что воешь-то? Аль мало подали?
Устинья улыбнулась через силу, принимая подарок, но из глаз её снова побежали слёзы. Цыганка пожала плечами:
– Вот ведь дурная – ей муж пирога шлёт, а она слезами заливается!
– Да не лезь ты к ней, ворона! – в сердцах сказала баба лет сорока, с некрасивым, испорченным вмятинами и рубцами лицом. – Я с этой Устиньей два дня под замком сидела. Она и ржаной-то хлеб раз в году видала! В деревне своей с голодухи лебедой пузо набивала! Вот и сомлела, как ей белого подали… А ты обувайся наконец, дура копчёная! Сил нет на пятки твои синие глядеть!
Цыганка расхохоталась, доставая из заплечной котомки казённые коты.
– И ведь через всю Москву эдак прошла, гусь лапчатый, бр-р! – передёрнула плечами тётка. – Ничего ей не делается, босявке! Вы, цыгане, заговорённые, что ль, от мороза-то?
– Не цыгане, а цыганки! – важно поправила та. И вдруг, запрокинув голову, на всю заставу запела: – А я мороза не бою-ся, на морозе спать ложу-у-ся!
Голос был такой сильный и звонкий, что на песню обернулась вся партия вместе с конвойными: даже Устинья перестала плакать и восхищённо улыбнулась. Но цыганка перестала петь так же внезапно, как и начала, и хвастливо показала сердитой тётке свою раздутую от подаяния торбу:
– Видала, сколь мне накидали за мои ножки босенькие?! То-то же! Знаю небось, что делаю, всю жизнь с людской милости живу! Закон нам такой от Бога дан!
Устинья тем временем аккуратно убрала и хлеб, и пирог за пазуху.
– Да что ж ты не ешь-то, глупая? – пожала плечами цыганка, шагая рядом с ней. – Пирог уж вовсе остыл… Ты жуй, до вечера-то долго идти!
– Не… Я потом… Я лучше оставлю! – почти испуганно отказалась Устинья. – Ведь когда ещё поесть-то придётся…
Конец её фразы утонул в звонком хохоте цыганки.
– У, глупая! – сквозь смех махала она руками. – Ты что ж думаешь, это последний раз?! Ой, ну уморила ж ты меня, изумрудная… Да тебе в каждой деревне столько же дадут! А ежели село богатое, так и втрое накидают! И на этап придём – тоже покормят! Харч хоть казённый, а сыта всяко будешь! Это тебе не у барина в лебеде пастись! Лопай, лопай, не мучься!
Устинья, однако, покосилась с недоверием:
– Да откуда тебе знать? Нешто не впервой идёшь?
– Впервой, как есть впервой, – усмехнулась цыганка. – На пару с мужем иду. Только наше дело кочевое, много чего видала. Где кандальнички прошли, нашей сестре гадалке делать нечего! Как есть пусто по хатам: всё арестантам снесли!
Устинья пожала плечами, но всё же решилась отщипнуть от белой краюшки и бережно положила кусочек в рот. Цыганка перестала улыбаться, посмотрев на неё с искренним сожалением:
– Откуда будешь-то, милая?
– Смоленской губернии.
– Батюшки! И я оттуда! – всплеснула руками цыганка. – Это надо ж – мы землячки, выходит! Что – не веришь?! Я, покуда за своего разбойника замуж не вышла, с отцовским табором по Смоленщине ездила! Вдоль и поперёк мы твою губернию искочевали! Катькой меня звать!
– А скажи, тётка Катя… – осторожно начала Устинья, но цыганка снова перебила её смехом:
– Какая тётка? Просто Катькой зови! Тебе годов-то сколько? Двадцать есть? Ну, я в матери тебе не гожусь ещё!
Шли целый день под низким серым небом, под сухой снежной крошкой: март выдался холодным. Бабы с девками ругали кандалы, которые стёрли им ноги в кровь. Все страшно устали уже к середине пути, и начальство разрешило привал. У дороги запалили костры. Арестанты столпились возле них, обогревая замёрзшие руки. Среди мужской партии образовалось кольцо, в середине которого неторопливо вещал Кержак:
– В нашем деле арестантском артель – перво-наперво! Артели легче и с начальством договариваться, и промеж себя дела решать. Опять же, майдан общий у старосты держится. Я пятый раз на каторгу иду, и ни разу без артели не обходилось. Сами видите, как в Москве живо дело обладилось! И нам с барышом, и начальству доходно! Кто до Сибири уж хаживал, тот знает!
Несколько человек солидными кивками подтвердили его речь.
– А в старосты тебя, что ль? – с недоверчивой насмешкой спросил Ефим.
Кержак в ответ сощурился ещё ехиднее:
– На што меня? Становись ты, коль хошь! Сам с ундером порешаешь, сам ему своей спиной и отвечать станешь, коли непорядок какой, аль сбегит кто…
– Нашёл дурня-то! – отмахнулся Ефим. – Ведь, поди, через одного бегают! Отвечай за них, дьяволов, да ещё…
Закончить он не успел: бывалые бродяги заржали так, что на них сердито обернулся конвойный казак:
– Чего загоготали-то, черти? И мороз ить не берёт!
– Ничего, служба, не завидуй! – отмахнулся Кержак и, отсмеявшись, пояснил: – С этапа, парень, не бегают.
– Это отчего ж? – хмыкнул Ефим. – Коли я захочу – нешто меня вот эти, с кремнёвками, догонят?
– Может, и не догонят, – серьёзно ответил Кержак. – Только сам гляди: ты сбежишь – вся партия по твоей милости далее на одной цепи вереницей пойдёт. Аж до Сибири. Никакой поблажки от начальства уж не жди. Мимо деревень в обход поведут: враз живот к спине прилипнет. Да мало ль притеснениев начальство сделать может, коли его разозлить хорошенько!
Ефим подумал, переглянулся с братом. Неуверенно кивнул.
– Согласен?.. А теперь дальше смекай. Положим вот, подорвал ты. Положим, не свезло, и взяли тебя через неделю-другую. Часто этак бывает. И в ту же партию возвернули. А люди уже вдосталь намучились из-за тебя-то! Понимай теперь, что с тобой на первом же растахе сделают! Тут и сила твоя не поможет, коли тридцать одного метелят!
Ефим невольно передёрнул плечами.
– Всё правильно, дядя Кержак, – спокойно подал голос из-за его плеча Антип. – Коль артель – значит, артель, мы согласны. По скольку с носа-то требуется?
– По три серебром прежде полагалось. И вы мне, ребята, верьте: внакладе не будем, – пообещал Кержак. – Артель – это и арестанту, и начальству выгодно. Главное – договориться уметь! Они ж тоже не звери, не первый год нашего брата в Сибирь гоняют… Тоже понимают, сколь от нас вреда быть может, ежели несправедливое учуем. Наш брат кандальник на пакости-то гораздый, никого учить не надо! Помню, раз охвицер на этапе в баню нам не дозволил… Пятьдесят, вишь, рублей за то просил. А с какой же радости платить, коли нам баню по положениям устроить обязаны? Ну, мы для виду смирились… А как в поле отошли вёрст на десять – сейчас вся партия посредь дороги улеглась и идти напрочь отказалась! Даже бабы с дитями! Охвицер бегает, орёт. Солдаты кремнёвки наставили – и чего? Всё едино не выстрелят, потому арестант – человек казённый и в него просто так тоже палить нельзя. Мы лежим не встаём, в небушко поплёвываем! Часу не пролежали, а уж охвицер сам согласился нам червонец дать, лишь бы мы поднялись и далее тронулись… У него ж – время, он нас по списку сдать на этапе должон, за задержку с него спросится! Так что ежели справедливость блюсти, то завсегда поладить можно. А какие деньги на этапе наваривают – сами в Москве видели! Кто на водку да на баб в пути не спустит – в Сибирь миллионщиком придёт!
– Больно они надобны в Сибири – миллионы-то… – проворчал Ефим, глядя на то, как в шапке Кержака исчезают их с Антипом шесть рублей. – Подтереться мне этим миллионом в руднике-то под каменюкой?
Но Кержак только пожал сутулыми плечами и усмехнулся:
– Бог не выдаст, парень. И в рудниках люди живут. Николи не знаешь, как твоя доля повернётся. Не серди Бога да начальство и живи весело.
– Вот и гляжу – довеселились уж… – сквозь зубы процедил Ефим, глядя на мелькающие в стылом воздухе снежные хлопья. На сердце у него было тяжело.
Миллионщиками они, видите ли, в Сибирь придут… А дальше-то что?! Тот же Кержак за полдня пути уже успел рассказать всем желающим о страшных рудниках на Каре и Акатуе. О тьме и сырости, о духоте, о тесных забоях, где только и места – размахнуться кайлом. О том, как страшно дрожит гора перед тем, как обрушить на головы рудничных обвал камней, и не успеешь даже перекреститься – а душа уже отлетит… И слава богу, если отлетит, а не завалит тебя, ещё живого, так, что никому не дорыться, и – умирай с голоду впотьмах… Сколько Ефим ни старался, он не мог отогнать этих мыслей.
«И пусть бы меня одного… – зло думал он, шагая вместе с отдохнувшей партией и гремя кандальными цепями. – Я один Упыриху душил. Один и Афоньку топором уходил, гадёныша… А эти что?! Антипка не помогал даже! Устька – и вовсе рядом не стояла! А идут туда ж, куда и я… Где правда-то?! А начальство так ничему и не поверило…» Ефим только с горечью усмехнулся, вспомнив, как до хрипоты орал на допросах, стараясь убедить этих дураков, что вовсе незачем всем вместе пропадать в Сибири. Какое там! Оба и слышать ничего не хотели! Устинья решительно объявила, что она ему жена и обязана идти за мужем хоть на каторгу, хоть на смерть. Антип же преспокойно сообщил следователю, что дело они с братом обделывали вдвоём.
– Чего «вдвоём», какое «вдвоём»?! Ври, да не завирайся! – выходил из себя Ефим. – Я один всё делал!
– А я сторожил. Так и запишите, ваша милость… – следовал невозмутимый ответ. – И Афоньку я топором тюкнул. Тож запишите. Я подпишусь опосля, грамотный…
К частоколу этапного острога подошли уже в глубоких сумерках и под густым снегопадом. Усталых арестантов быстро разогнали по казармам: мужиков – в одну, девок и баб с детьми – в другую.
Оказавшись на нарах, Устинья вдруг обнаружила, что цыганки Катьки, к которой она уже успела привыкнуть, нигде не видно. Ей сразу же стало не по себе.
– Тётка Матрёна, а где ж цыганка-то наша? – пересилив себя, вежливо спросила она у рябой бабы.
– А ты не видела? – отозвалась та. – В каморку дальнюю её загнали. Видать, совсем уж что-то страшное сотворила, копчёная, – раз её отдельно запирают…
«Господи! – ужаснулась Устинья, вспомнив, что она целый день прошла рядом с этой «страшной» цыганкой и, хоть убей, не заметила в ней ничего опасного. – Не злая совсем… Весёлая… Пела как! И кто б подумать мог! Это что же хужей смертоубийства сотворить-то можно было?!»
Бренчание цепей вокруг не стихало. Вокруг возились с плачущими детьми или устраивались на ночлег три десятка женщин. Одна дёргала гребнем волосы, другая отпихивала к краю нар лежащую пластом соседку, третья плакала… Рядом с Устиньей сидела девка со спутанной косой, выпавшей из-под намокшего от снега платка. Она держалась рукой за щёку и, сгорбившись, тихо стонала. С минуту Устинья сочувственно наблюдала за ней. Затем, набравшись смелости, спросила:
– Чем мучишься, милая?
– Ох, отста-ань… – простонала та, почти не разжимая губ. – Всё едино не поможешь…
– Зубы болят?
– Спасу не-е-ет… Ещё в пересыльном начали… – Девка едва говорила сквозь слёзы, и Устя видела, что ей действительно худо. – А как цельный день по холоду прошла, продуло наскрозь, так совсем… Ой, матушки мои, помру этой ночью… Как бог свят, помру…
– Дай я погляжу! – подсела ближе Устинья. – Ты не думай, я умею! Хуже не будет, вот тебе крест, дай только гляну!
– Да ну тя, остуда… Ещё чего! – почти с ненавистью процедила девка и отодвинулась подальше. – Ишь, фершал нашёлся! Ой, мамонька, помираю-ю…
– Как знаешь, – огорчённо сказала Устя. Было тоскливо и жутко, хотелось плакать. Тихонько откусив от холодного зачерствевшего пирога, она подумала о Ефиме. «Он-то там с братом хоть… Всё не так страшно, да и кто их обидит, здоровущих этаких? А тут… Цыганка такой доброй показалась, а на-ко – опасная! И эти все… Тоже ведь не за ясные глазки сюда попали! И убивали, поди, и резали… Господи, как же теперь спать-то? Ведь глаза закрыть не насмелишься! В тюрьме, в одиночке, и то спокойней было…»
Долго предаваться тягостным мыслям Усте не дали: девка, которая мучилась зубной болью, с коротким звериным стоном повернула к ней перекошенное лицо:
– Слышь… Как тебя… Коли умеешь – давай… Хуже чем есть, уж верно, не сделаешь… Помру – и на том спасибо!
– Не бойся, – с облегчением сказала Устинья, придвигаясь ближе. – Как тебя звать-то? Марья? Ну и ладно, а я – Устя… Покажи. Вот сюда, под лучину, ложись. А лучше мне на колени голову положи. Ох, боже мой, да как же это ты?!.
У Марьи оказался чудовищных размеров флюс, от которого разнесло втрое левую щёку. Десна раздулась и налилась гноем так, что страшно было смотреть. С минуту Устинья сосредоточенно рассматривала её. Затем подняла голову и, обведя взглядом женщин, решительно спросила:
– Милые, у кого ножик есть? А если бы ещё водки…
– Нешто водку пьёшь, красавица? – с усмешкой спросила тётка Матрёна. – Вроде молода ещё…
– Не пить, – коротко сказала Устинья. – И нужно совсем малость.
– У караульных узнаю, – сомневаясь, сказала тётка и пошла к дверям.
Вскоре она вернулась.
– Двоегривенный за стопку!
– Годится! – обрадовалась Устинья. – У меня и есть! Неси скорей!
– Ой, не дам резать! Ой, убери ножик, ведьма! – заблажила Марья, увидев, как Устинья прокаливает лезвие, медленно поворачивая его на пламени. – Ой, бабы, заберите её от меня, зарежет, к лешему! Ой, смертушка пришла, спасите-е-е!!!
– Не. Эта девка умеет. Знает, что делает, – вдруг сказала тётка Матрёна. – Ты, дура, лучше лежи да не дёргайся. Устька, не подержать ли её?
– Зачем? Не надо, – спокойно отказалась Устинья. И, глядя прямо в круглые от страха глаза Марьи, велела: – Ты не голоси, а меня слушай. Только каждое словечко, каждое-каждое… Ежели хоть одно пропустишь – заговор не поможет, а надёжа-то на него главная! Слушай да не пропускай! А глаза лучше закрой, так слова в самый разум пройдут. Заговор прочту – а потом только с ножиком подумаем, может, и не придётся вовсе… Ну, с богом! Во имя отца-сына и Святого духа! Встану благословясь, пойду перекрестясь из избы в двери, из дверей в сени, из сеней в ворота, из ворот – во чисто поле…
Голос Усти звучал мягко, спокойно, напевно. Под монотонную речь сама собой накатывалась дрёма. И, когда измученная Марья наконец сомкнула глаза, Устинья резким и точным движением вскрыла нарыв. Хлестнул густой гной пополам с кровью. Марья издала дикий вопль, торчком села на нарах, замахнулась кулаком… И вдруг по её лицу расплылось выражение неземного блаженства.
– Ой-й-й… Царица небесная… Хорошо-то ка-ак… У-у-устька-а… Благодарствую, родимая!
– Всё! – Устинья, улыбнувшись, вернула нож хозяйке. – А крику-то было, шуму – ровно дитё малое! Вот теперь набери водки в рот, прополощи как следует – да не вздумай, дура, сглотнуть! Вон туда, в кадку, всё выплюнь! Эх, кабы ромашка у меня была аль зверобоя настой… Ничего-то сейчас ещё не сыщешь, так хоть водка пойдёт.
Испугавшиеся было каторжанки весело загомонили. Марья, выплюнув остатки водки в бадью у дверей, повернулась – и все увидели, что она красавица. Из-под изогнутых бровей смотрели припухшие от слёз большие карие глаза с густыми ресницами. Потрескавшиеся от холода губы были розовыми, пухлыми.
– Да ты красотка какова, когда без дули-то! – расхохоталась тётка Матрёна. – И за что таких касаточек в каторгу берут? Деревню, что ль, подожгла?
– Что я – басурманка какая? – насупилась Марья. Улыбки на её лице как не бывало. – Никакую не деревню, а барина порешила!
– Ишь ты, барина! – недоверчиво покачала головой Матрёна. – Кто ж тебя до него допустил-то?
– Сам и допустил, паскудник старый… – с непрошедшей ненавистью процедила Марья, обеими руками встряхивая косу и отбрасывая её за спину. Каштановая медь волос осыпала спину девушки густой волной. – На деревне меня увидал и враз сказал: «Двадцать шестой будешь, ягодка!» А другие двадцать пять у него в усадьбе жили… Всю красоту с поместья себе собрал, греховодник! Ой, как мать-то моя выла, как отец у него в ногах валялся… Жених же у меня был, Васенька… С малых лет сосватаны были! Так барин Васю – в рекрута без очереди, отца – на конюшню, а меня – себе в комнаты полы мыть! И сразу же хватать начал, рассукин сын! А сам-то – старый, в чём только душа держится, плешивый, губа трясётся, слюни висят… И этак мне гадостно стало, что я его евонной же штуковиной… На столе там, тяжёлая, лежала… Из него и дух вон! А меня, грешную, сверху на него ещё и вытошнило! – Марья махнула рукой, горько усмехнулась. По её щеке медленно сползла одинокая слеза.
– Это что… А мы вот управляющего в яме закопали! – раздался голос из тёмного угла. – Таков же был, как барин твой. Как увидит девку справную – сейчас лапать! А тех, кои ему перечили, заставлял колодцы рыть… Сучок немецкий! Ох, и надсадились мы над теми колодцами! У меня по сей день нутро ноет! А он, змеёныш, ещё придёт и смотрит, как мы жилы рвём, усмехается… Да только зазеваешься – он за титьки-то и хвать! У-у… Надоел он мне этак, я его в сердцах в колодец-то локтем и пихнула! Только пятки брыкнули! Переглянулись мы с девками – и ну его землёй забрасывать! Он было прыгать, орать… Да нас-то восемь! Живо справились…
– Ещё бы – восемь-то! Как не справиться! – насмешливо дёрнула плечом девчушка лет шестнадцати. Её круглое лицо было испорчено глубокими ямками. – А я вот своими силами барыню на тот свет спровадила!
– Это она тебя этак? – глухо спросила Устя.
– Щипцами, – кивнула бывшая горничная. – И ладно бы меня одну… Но когда она за сестрёнку взялась! Нет уж, думаю, иродица, не дам тебе над Маланькой моей издеваться! Есть Бог на небе! Табуретку схватила – и как есть по башке! И ещё раз! И ещё! Башка-то и надвое…
– Господи! – изумлённо сказала Марья. – А я-то, грешным делом, думала, что одна такова буду! – Она вдруг вскочила и загоревшимися глазами обвела женщин. – А ну, бабьё да девки, кто не боится рассказать – за что каждая по Владимирке пошла?! Давайте, как на духу! Нам вместе небось не один годок коротать! Обчество знать должно!
Через час выяснилось, что из двадцати восьми каторжанок двенадцать осуждены за убийство или покушение на своих владельцев. Три не донесли на подруг и попали под статью о соучастии. Ещё несколько сторожили или помогали держать. Одна подожгла господский дом, приперев дверь, а заодно и ставни в комнате барина. Все эти были по приговору суда жестоко наказаны кнутом и сами дивились, что выжили.
Две молодые бабы сознались в том, что ночью, провалившись в мёртвый сон во время страды, «заспали» собственных детей. Другая крестьянка, отбиваясь от домогательства, нечаянно убила своего свёкра кочергой. Белобрысая, в конопушках, девка-чухонка по-русски не говорила совсем, а жестов её хватило лишь на то, чтобы насмешить всю казарму. Чёрная и носатая еврейка поведала с неугасшей страстью о том, как держала шинок в Могилёве и съездила сковородой по уху вымогателя-пристава.
– Что «дура», что «на кой»? И ничего не «жидовская жила»! И вовсе не «всё племя за грош удавится»! Да кому это надо и кто это стерпит, я вас спрашиваю – по шесть разов в месяц ему платить?!
Только одна пожилая женщина, не сказав ни слова, легла и отвернулась лицом к стене. Никто не стал её теребить.
– Ну а я, бабы, не барина и не свёкра, а мужа законного прибила до смерти, – спокойно сказала тётка Матрёна.
– Что ж так? – опасливо отодвинулась от неё соседка.
– А вы на меня гляньте… Ведь места живого нет! Смертным боем всю жисть бил – вот только не принимал меня Господь! У меня все рёбры переломаны да срослись вперекось… А теперь? Вот, иду с вами в Сибирь… Нешто плохо? Думаю себе: что ж ты, дура, двадцать годов-то терпела? Битьё да муку примала?
– Твоя правда, – донёсся возглас от дверей. – Все мы тут поротые-перепоротые…
Матрёна кивнула, не дав договорить:
– Нет, девки, нашей сестре только и житьё, что на каторге!.. Я как в тюрьму-то попала – кажин день молилась и спасибо Богородице пречистой говорила! Самые светлые да спокойные мои денёчки то были! Лежишь – хлеб жуёшь, на допросы ходишь… Благода-ать!
Все расхохотались.
– Вот ведь притча-то… – вытирая слёзы и смеясь, говорила Марья. – Девки, что ж это мы за каторжанки негодящие?! Хоть бы одна за поджог на деревне аль за убивство по корысти какой… Устька! Ты-то, случаем, не на большой дороге с кистенём грабила?
– Меня засечь насмерть собирались, – тихо созналась Устинья. – А муж мой не дал… Теперь он – за убийство, а я – за соучастие…
Договорить она не смогла: горло сдавила судорога. Но вокруг уже сочувственно кивали, и никто не требовал от неё продолжать.
– Вот ведь дела так дела-а… – Марья покачала головой – и вдруг прыснула: – Ой, девки, а я-то как боялась с вами на дорогу выходить! Как есть, думаю, со злодейками придётся идти! Страсть-то какая!
Вокруг расхохотались так, что стало ясно: подобные мысли посещали не одну Марью.
– А давайте, девки, вот что… Споём, что ли?
– А начальство-то не осерчает? – нахмурилась искалеченная щипцами Прасковья.
– Нешто мы бунтуем? – махнула рукой Марья. – И нешто начальство страшнее барыни твоей? Эх, цыганки нашей нет, у ней бы лучше получилось… Ну да уж как выйдет, – и она запела слабоватым, но звонким голосом:
Как у нашего попа, у рославельского, Повзбесилась попадья, посвихнулася! Наш рославельский поп был до девок добр!– Нету денег ни гроша, зато ряса хороша! – подхватили те, кто знал песню. Устинья слышала её впервые и потому не подтягивала, но смотреть на поющую Марью было приятно, и сердце больше не ныло.
Ночью она не могла заснуть. Лежала, прижималась щекой к мягким, подаренным мужем варежкам, потихоньку отщипывала от своей краюшки, ёжилась от холода (прогоревшая печь быстро остыла), улыбалась, думала.
«Вон оно как вышло… Все мы тут одинакие почти. А я, глупая, тряслась… У мужиков, поди, по-другому… Мы-то все, как одна, впервой идём, а там-то бродяги есть – и по три раза, и по пять в Сибирь ходили! И убивцы настоящие, не то что мой Ефим… И как он там? Спит, поди, – тяжело нынче пришлось… Даст Бог, дальше легче будет. Вон еда какова хороша! Да каждый день! Да девки с бабами вовсе добрые… Жаль их, бедных… Да только всяко теперь лучше, чем на воле-то было! И им, и мне. Одно худо – с Ефимкой и не перевидаться никак… А вдруг и получится? Вон, за две гривны водки добыли враз! Может, так же можно и упросить, чтоб хоть поговорить с мужиком дали? Кабы законным мужем был, может, легче было б… А кто ж нам даст сейчас повенчаться-то? Узнать бы…»
Додумать Устинья не успела: звякнула откинутая щеколда, скрипнула дверь. На пороге нарисовалась бесформенная фигура часового.
– Бабы! Которая тут Шадрина? Вставай, выходи!
Устинья испуганно вскочила:
– Я Шадрина! Чего надо, дяденька?
– Выходь!
Накинув платок и дрожа от холода, Устя вышла в сени.
– Чего надобно? Зачем побудил?
– Иди вон туда! – усмехаясь, приказал немолодой солдат, махая рукой на каморку в конце коридора, отгороженную рваной тряпкой. – Ступай, да пошибче!
– Ещё чего! – Устинья прижалась спиной к ледяным брёвнам. – Никуда я с тобой не пойду! Нет такого закона! Сейчас голосить начну, всё начальство вскочит! Я мужняя жена! Не смей трогать, охальник, не то как раз…
– Да ты сдурела, что ль?! – обиженно буркнул солдат. – Я те в дедки гожусь! Бежи, дурында, мужик твой тебя дожидается!
Устинья ахнула, рванулась мимо часового – и упала, запутавшись в тяжёлых цепях. Ручные кандалы оглушительно грохнули о чёрные доски.
– Да тише ты! – хохотнул солдат. – И впрямь унтера разбудишь!
Но она уже ничего не слышала. Вот метнулась в сторону ветхая занавеска, пахнуло вонью прелой соломы – и Устинью в кромешной темноте поймали знакомые, сильные, горячие руки.
– Устька… Господи… Игоша моя болотная! Сколько дён-то не видались?! Изголодался, как волк зимой… Сил уже никаких нет… Как ты? Ну, как ты без меня-то? Как шла нынче? Не забижали? Если чего, ты скажи, я этих баб одним пальцем…
– Ой, дурак… Ой, молчи… Ой, Ефимка, да как же? Да почему ж?.. – не могла поверить нежданному счастью Устинья. – Ты как это сделал-то? Нешто можно?! Как бы потом нам с тобой хуже не было б… Может, назад лучше, пока не поздно?.. Ты как служивого уломал?!
– Велика мудрость… – громко засмеялся Ефим, и Устя поспешно зажала ему ладонью рот. – Мужики научили! Дай, говорят, ему гривенник, он тебе сам твою бабу выведет… Я поначалу не поверил, думал – для смеху врут! А Кержак говорит: какой смех, когда у нас артель?.. Можно, Устька! Здесь за деньги-то всё, оказывается, можно! Хоть каждую ночь вместе ночуй. Никто и не спросит!.. А ты знаешь, что те, которы не первый раз идут, все разом кандалы с ног у себя постягивали?! В них, говорят, спать несподручно, нехай рядом полежат!
– Да ну тебя!.. Придумаешь тоже! – фыркнула Устинья. – Как это можно – без кузнеца-то?!
– Да ей-богу ж, поснимали! И ловко так! Сапоги стянули, портянки размотали – и железа уж на босой ноге болтаются! А потом один ногу с кандалом под дверной косяк подставляет – а другой плечом на ту дверь нажимает! Сплюснут эдак железку-то – и стягивают через пятку! Пособили друг дружке – и захрапели, как у тятьки на полатях! Вот как бог свят, я завтра так же сделаю!
– Ой, господи… Подождал бы ты пока, Ефимка, а? – снова заволновалась Устя. – Экий варнак бывалый мне выискался… Доснимаешься «через пятку», гляди!
– Антипка тоже собирается! – заверил Ефим, и Устинья, слегка успокоившись, вздохнула:
– Жаль, бабам так же нельзя… Нас-то на голу ногу ковали, в тесное железо… – но тут же забыла обо всём на свете, прижавшись к широкой груди Ефима. – Господи, Ефим… Разбойничья твоя душа, нешто мы счастья дождались?! Да не рви рубаху мне, дурной!!! Жалко же!!! С утра уж пойдём, когда мне зашивать-то?! Да не сюда… Да не здесь же! Ох, пожди, я сама лучше…
– Да где ж тут у тебя?.. Тьфу, будь они неладны, железки эти… У бабы собственной не найдёшь чего надо! – Ефим, ворча и смеясь, стиснул свою невенчанную жену в руках – тёплую, дрожащую, живую… Всё, как во сне, который ночь за ночью сводил его с ума в тюрьме. Там казалось – не держать больше в охапке этой шальной девки… Не падать головой в горячую грудь, не целовать, не пить её взахлёб, как ключевую воду в жаркий полдень, не умирать от запаха – горького, сухого… – Устька… Видит бог, никого, кроме тебя, не надо… Помирать буду – не забуду… Полынь ты моя… Лихо лесное… Теперь уж – вместе! До смерти… Никому не отдам, убью… Сдохну – а не отдам!
– Да кто отнимает-то, глупый?.. Тише… И так твоё, всё твоё… Ох, Богородица пречистая, счастье-то… Вот тебе и каторга!
Уже перед рассветом зевающий солдат отвёл Устинью в камеру. Она прокралась в темноте на своё место, упала на нары рядом с Марьей и уснула мгновенно, со слабой, недоверчивой улыбкой на губах.
Утро принесло новые радости. Оказалось, что на этапе можно купить кожаные подкандальники. Поскольку деньги теперь у каторжанок водились, каждая уселась, шнуруя обновки.
– Вот ведь толково придумали! – нахваливала тётка Матрёна. – А я-то вчера весь день про сапоги думала… Так голенища-то под железо не пропихнёшь!
Хватило денег и на вторую нужную вещь: пояс с ремешком. Он позволял подвешивать ножные кандалы за середину. Теперь, когда тяжёлая цепь не волочилась по мёрзлой земле, идти было гораздо легче, и арестантки заметно повеселели.
Сразу же за воротами к Устинье пристроилась цыганка Катька.
– В «секретке» сидела, алмазная моя, где ж ещё… – с досадой ответила она на осторожный вопрос. – Мне, разнесчастненькой, теперь до самого Иркутска от вас отдельно ночевать! Да ещё на ночь на цепь к стене, как собаку, пристёгивают! У-у, чтоб им всем…
– Да за что же это, Кать? – испуганно спросила Устя.
Цыганка только махнула рукой и несколько минут шла, глядя в сторону чёрными угрюмыми глазами. А затем вдруг рассмеялась – так звонко, что Устинья подпрыгнула от неожиданности:
– Да что ты?! Блажная, что ль?
– Ой… Устька… Золотенькая, ты бы рожу-то эту видела… Того начальника, на которого я с ножницами-то в Медыни кинулась! Вспоминать почну – злюсь, не могу, так бы и убила, борова паскудного… А как морду его представлю! Он ведь под стол от меня залез, креслом загораживался да верещал, как порося недорезанное! – цыганка вновь расхохоталась. Отсмеявшись и вытерев слёзы, уже спокойнее сказала: – Я тут, как ты: из-за мужика. Конокрад мой Яшка. Такой, что и могила не исправит! Видит бог, он в аду из-под самого Сатаны жеребца выкрадет! Ничего с ним не поделаешь, и сам не рад – а на чужую лошадь спокойно глядеть не может! Сколько раз его били, сколько раз вязали, сколько в полицию таскали… А уж сколько я его из тюрьмы вытаскивала – ой! За те деньги уж можно было ему цельный конный завод купить! Так нет – выйдет на волю, и за старое… И ведь дети у нас в таборе!
– Сколько? – с интересом спросила Устя, окидывая взглядом стройную фигуру цыганки.
– Четверо! Всю жизнь трясусь, что они без отца останутся – а Яшке и горя мало! Ну да бог с ним, из сокола курицы не сделаешь… И вот в последний раз под Медынью споймали его. Да ведь как плохо-то вышло – он, когда от мужиков отбивался, одного так худо приложил, что тот башкой о колесо тележное – и дух вон! А Яшка-то нешто того хотел?! Отродясь он людей не убивал, вот тебе крест святой! – истово, несколько раз перекрестилась она.
– Да не божись, верю я!
Катька благодарно кивнула и продолжила:
– Ой! Мужики после этого вовсе озверели! Чуть не разорвали на месте! Слава богу, барин верхом прилетел, остановил… А за убивство-то каторгу дают! Я как сумасшедшая в тюрьму кинулась, к самому наиглавному начальнику пробилась, в ноги кинулась, завыла… Пожалей, кричу, родненький, что хочешь проси… Тысячу, говорит, принесёшь – вытащу. Ну, как я ту тыщу собирала – отдельный сказ, не хочу и поминать… Но собрала! Принесла. Из рук в руки отдала. Иди да жди, говорит, будет тебе твой мужик. Я поверила, пошла. Жду. А Яшки нет и нет! Целый месяц прождала – ничего! Опять на приём пробилась! – цыганка яростно лязгнула кованым железом. – Ещё и пущать не хотели! Ну так я ж всё равно прорвалась! И кричу: «Отдавай, ирод, мужа – аль деньги назад подавай!» Так он ещё ногами топать! «Пошла вон, – орёт, – ты кто такая?! В первый раз её вижу! Гоните в шею!» – Катька недобро усмехнулась. – Это меня-то – гнать?! Да они меня, родненькие, впятером по кабинету ловили! Ой, сколько я там всего разнести успела! Ой, сколько переколотила! И чернильницей-то в окно заехала, и ещё чем-то там – в шкаф зеркальный… А под конец ножницы мне в руку попались со стола – и я теми ножницами начальнику-то – в рыло!
– Насмерть? – одними губами спросила Устя.
– Не… – отмахнулась цыганка. – Промазала, слава богу. Но тут уж скрутили меня да уволокли. И теперь мне, как и Яшке, каторга – за покушенье-то. Шесть лет… Большой человек, мол! На службе, вишь, государевой! Да ещё, проклятые, написали в моей бумаге, что я – самая опасная и ко всякой пакости наклонная! Вот и запирают, как собаку бешеную… На всю ночь! Чтоб им самим на том свете так сидеть… Теперь до самой Сибири до мужа родного не дорвёшься! – На лицо цыганки набежала тень, она с сердцем пнула мыском грубой каторжной обувки снежный комок под ногами.
Устинья сочувственно тронула её за плечо. Катька повернулась к ней – и неожиданно улыбнулась во весь рот:
– Да ла-адно! Живы будем – не помрём, вот мой тебе сказ! Нам с Яшкой теперь лишь бы до Сибири дойти да весны дождаться. А там – только нас и видели!
– Нешто побежите?
– Конечно! Нам домой, в табор надо! У меня старшей дочке уж пятнадцать лет, невеста вовсе! Не хватало ещё, чтоб она без нас замуж вышла! Обещалась подождать… Да когда ж это девки замуж ждали? Так что торопиться нам надо… Ой! Чёрта помянешь – он и появится! Ну, как ты здесь, проклятье моё?!
«Проклятье» уже шагало рядом и весело скалило большие белые зубы. Устинья уставилась на Яшку во все глаза. Было интересно, что же в этом мужике оказалось такого, что Катька раз за разом тащила его из тюрьмы и даже каторгу из-за него приняла? На взгляд Устиньи, цыган был самым обыкновенным: лохматым, смуглым, с озорными чёрными глазами.
– Здравствуй, красавица! – поприветствовал он Устинью. – Как дорожка?
– Слава богу, – растерянно ответила она. И сразу же испуганно спохватилась. – Ой! Катька! Дядя Яшка! А не боитесь вы? Солдаты не осерчают ли, что ты сюда… К нам…
– Чего им серчать? – с улыбкой отмахнулся цыган. – Смотри, уж все расползлись! Авось строем-то до самой Сибири не погонят!
Устинья огляделась – и убедилась, что вся партия действительно растянулась по мёрзлой дороге. Женщины шли рядом с телегами, на которых сидели их дети, мужья отыскали жён. К её изумлению, ни конвойные казаки, ни офицер не обращали на это никакого внимания. А тут и её саму окликнул родной голос:
– Устька! Ну – как? Поспать-то успела хоть под утро?
– Поспишь с тобой, как же… – проворчала Устя, не замечая того, как губы сами собой расползаются в счастливую улыбку.
Ефим же через её плечо сердито посмотрел на цыгана:
– А ты, конокрад недобитый, чего на мою бабу вытаращился? Смотри… Приложу железами по башке!
– Ефим!!! – ахнула Устинья. – Да что ж ты, ирод, напраслину-то… Вовсе ополоумел!
Цыган, впрочем, ничуть не обиделся и лишь покачал встрёпанной головой:
– Дурак ты, парень… Твоя Устька хороша – а моя цыганка-то получше будет!
Ефим машинально взглянул на Катьку. Та немедленно высунула длинный розовый язык и скорчила такую рожу, что рассмеялись все вокруг. Усмехнулся и Ефим. А цыганка сообщила Устинье:
– И твой – чурбан, и мой не лучше… А других-то не бывает! Ничего! Живы будем – не помрём и счастья добудем!
За день пути Катька не умолкала ни на минуту. Она успела поболтать с каждой из партии. Всем искренне посочувствовала, а некоторым даже умудрилась погадать. Устинья от ворожбы отказалась:
– Что там… Я про себя сама всё знаю! Ты вон лучше той погадай! С самой Москвы идёт – молчит, бедная… Никому из нас слова не молвила ещё! Верно, вовсе горе у тётки, что губ не разжимает… А видать, не из простых – вон какой на ней салоп хороший, да юбка новая! Может, хоть ты ей дух-то подымешь?
Катька сощурилась на «тётку», которая шла чуть поодаль от всех остальных, мерно гремя кандалами и глядя себе под ноги. Это была женщина средних лет с блёклыми, наполовину седыми волосами, гладко зачёсанными под платок, с сухим некрасивым лицом. Глаза её, близко посаженные, круглые и жёлтые, как у совы, внушали оторопь. Сходство усугублял и застывший немигающий взгляд.
Катька с минуту подумала – и решительно начала разговор:
– Что-то ты, милая, грустишь вовсе… Нельзя так, нельзя! Бог над нами есть, он не оставит! Посмотри на меня! Хочешь – про судьбу твою расскажу? Денег не возьму, вот тебе крест!
– Пошла вон, мерзавка, – тусклым, невыразительным голосом сказала женщина.
– Да за что же ругаешь? – пожала плечами Катька. – Я тебе пока худого не делала. По-доброму говорю, дай погадаю…
– Мне не нужно твоё гаданье, дрянь! – с ненавистью отрезала та. – Отойди, от тебя воняет навозом!
Тут уж прислушались все. С лица Катьки пропала улыбка. С минуту она, сощурившись, смотрела в искажённое брезгливой гримасой лицо. Было видно, что цыганка ничуть не сердится. Затем она кинула взгляд на каторжанок и почти весело скомандовала:
– Вот что, красавицы! Тут – гадание тайное, египтянское, чужим ушам слушать незачем! Идите-идите… Кто подслушает – прокляну и понос напущу до самого Иркутска! А ты, милая, не серчай попусту. Я тебе сейчас всё как есть скажу. И кто ты такая, и за что здесь. И что с тобой тут станется, ежели, к примеру, я…
Тут Катька понизила голос до шёпота, и никому не удалось услышать ни слова. Изумлённые женщины могли только наблюдать, как страшно бледнеет арестантка в хорошем лисьем салопе и как испуганно бегают её блёклые глаза. А Катька всё говорила и говорила. Умолкла она лишь тогда, когда на пронзительный визг обернулись конные казаки:
– Замолчи, проклятая! Я велю тебя… Хватит!!!
– Хватит, – согласилась Катька. – Только не забудь… Упредила я тебя, барыня моя брильянтовая.
И отошла не оглядываясь. Устинья растерянно смотрела в лицо цыганки: оно было незнакомым, презрительным. В чёрных глазах бился сухой и недобрый блеск.
– Господь с тобой, Катька… Чего ты ей наговорила-то?! Вон, она идёт злая-злая, а сама за сердце держится! Зачем напугала-то?
Катька угрюмо молчала. Затем, не глядя на Устинью, медленно, словно раздумывая, сказала:
– Ты вот что… Не лезь лучше к этой. И не заговаривай даже. Незачем.
– Да и не больно-то надо… – пожала плечами Устинья, чувствуя, что цыганку сейчас лучше не трогать. И до самого вечера товарки прошагали молча.
К этапу пришли в сумерках. К общему унынию, в казармы никого не пустили, загнав всю партию на широкий этапный двор.
– Да что ж такое?!. – ругались промёрзшие и голодные арестанты, ёжась от холода. – Совсем у начальства головы отсохли? Околеем ведь!
Конвойный офицер, впрочем, растолковал, что стояние это ненадолго: в казарме неожиданно зачадила печь, и теперь придётся подождать, пока выветрится угарный дым. Услышав это, каторжане слегка успокоились и приготовились ждать. Но даже прыгать и махать руками, чтобы согреться, уже не было сил.
– Всё, бабы, сейчас прямо на снегу и засну! – убеждённо заявила тётка Матрёна. – Все кости гудут, сил нет… Будь она неладна, эта печь! Ох, не дай бог, у меня спину схватит! Не разогнусь ведь наутро, так глаголем и пойду!
Устя молчала: холод, которого днём она почти не чувствовала, теперь пробирал до костей. Вздохнув, она обернулась к цыганке:
– Вот ведь незадача-то, Катька! Как бы теперь не…
Она не договорила. Катька, глаза которой ясно блестели в свете поднявшейся луны, вдруг поочерёдно дрыгнула ногами. Промёрзшие насквозь коты под звон цепей полетели в разные стороны.
– Эй! Вы тут стойте-нойте, коли нужда, а я греться буду! По-цыгански! Яшка! Яшка, где ты там?! Сбага́са ту́са?![1] Зи́ма-лето, зи́ма-лето с холодком…
– …моя жёнка, моя жёнка босиком! – тут же отозвался из толпы её муж. Голос у цыгана оказался сильным и чистым. Он разом покрыл все звуки на дворе: и недовольное бурчание арестантов, и лязг железа, и детский рёв, и фырканье обозных лошадей. Катька топнула и взяла вдруг ещё выше – таким звонким, щемящим серебром, что у Устиньи чуть не остановилось сердце:
Ай, что ж ты вышел, грудь простудишь! Да ты не бойся – моим ты будешь!Ну! Мар! Джя! Жги!!! И пошла, пошла по кругу, вкрадчиво переступая по утоптанному снегу. Кандалы на её загорелых босых ногах ритмично брякали, но цыганка словно не замечала их. Ручную цепь она закинула за шею и лукаво задрожала плечами – будто начала свою пляску не на этапном дворе, а в родном таборе, у пылающего костра. Платок её сполз на затылок, выпустив вьющиеся волосы. Небрежным движением кисти цыганка поймала его, не давая упасть. Арестанты смолкли, любуясь на плясунью. Один за другим они начали отступать назад, давая ей место. А Катька шла всё быстрей, била плечами всё чаще, улыбалась всё отчаяннее. Она блестела зубами так, словно и эта морозная ночь, и снег, и тяжёлые оковы – всё на свете было ей трын-трава.
Ходи, изба, ходи, печь! Хозяину негде лечь! Пляши, кнут, пляши, дуга, Веселися, кочерга! Пьяным море по колено, Голова недорога!Ах, как она летала! Как сияли чёрные глазищи, как светились в шальной улыбке зубы! Минута шла за минутой, а Катька плясала и плясала без устали, под восторженные вопли толпы, и снег веером летел из-под её пяток, а от ветхой одёжки валил пар. С крыльца за цыганкой с улыбкой наблюдал конвойный офицер. Солдаты восторженно толкали друг друга локтями. Казаки привставали в сёдлах, чтобы лучше видеть летающий по кругу, смеющийся, бренчащий вихрь. А под конец пляски к жене пробился Яшка, встал фертом прямо перед ней – и, сощурившись, ударил ладонью по голенищу сапога: раз, другой, третий… И взвился в воздух, сверкнув бешеным и горячим чёрным глазом так, что арестанты шарахнулись в сторону:
– Вот ведь цыган… Улетит ведь! Сейчас с железами прямо и улетит! Ну и порода – ничего их, дьяволов, не берёт! Эй! Цыган! Яшка! Давай, чёрт, давай!!! Догоняй её! Гори, душа каторжная! Эх, мужики, кабы мне так… Неделю бы по ярмаркам с цыганами поплясал, а потом – хоть на плаху!
Катька повернулась к мужу, затрепетав плечами так, словно у неё вот-вот должны были вырасти и развернуться крылья. Яшка обеими руками взъерошил курчавые, засыпанные снегом волосы, снова хлопнул по сапогу и полетел за женой. А дальше они уже гремели цепями вместе под дикие крики и хохот всего двора. Никто даже не заметил, как распахнулись двери казармы и унылый голос прокричал:
– Запущайте, можно! Не дымит!
– Ну – и хватит с вас! – внезапно остановилась Катька. – Я согрелась – теперь вы идите грейтесь! Эй, миленькие, не примёрзли вы там? – резко обернулась она к солдатам. – Что такое? Рот не закрывается? Не помочь ли? Да поведёшь ты меня под замок аль нет, казённая морда?!
Подошёл расплывшийся в улыбке солдат и увёл плясунью в камеру-одиночку. Арестанты, ещё смеясь и покачивая головами, потянулись в казармы. Все хвалили Яшку-цыгана, громко восхищались Катькой:
– Вот ведь баба! Что значит – цыганка! Сколько времени тут по снегу скакала – и хоть бы что! Мы и про мороз-то позабыли…
– Видал, какова Катька у меня? – тихо спросил Яшка у Ефима Силина, заходя вместе с ним в казарму. – Где я ещё такую найду? Нет таких боле – ни у цыган, ни у ваших! И как вот мне теперь без неё два года ночью спать?.. Будь она трижды проклята, «секретка» эта ихняя!!!
Ефим пожал плечами и, видя в Яшкиных глазах горькую тоску, не решился ничего ответить.
* * *
«…Владимир Сергеич отворил дверцы кареты, предложил жене руку. Помпонский пошёл с его тёщей, и обе четы отправились по Невскому в сопровождении невысокого черноволосого лакея в гороховых штиблетах и с большой кокардой на шляпе».
Никита Закатов дочитал вслух последние строки, опустил толстую книжку журнала на стол. Некоторое время, ещё не оправившись от прочитанного, смотрел в стену. Затем, вспомнив, что он не один, повернулся к жене:
– По-моему, прекрасно… Даже дух захватило! Как по-твоему, Настя, ведь здесь Тургенев… – Он не закончил фразы, увидев, что жена спит. Спит, откинувшись на жёсткую, неудобную спинку кресла и чуть приоткрыв губы. Неровный свет свечи выхватывал из полутьмы её скуластое, резкое лицо ногайской княжны, ресницы вздрагивали, но сомнений не было: графиня Анастасия Закатова забылась самым безмятежным сном. Некоторое время Никита смотрел на неё. Затем чуть заметно усмехнулся, поднялся из-за стола и, стараясь не скрипеть половицами, подошёл к окну.
Там, в густой темноте, лил дождь, стуча по крыше, шелестели листья полуоблетевшего сада: заканчивался август. Глядя, как искрятся в тусклом свете свечи сбегающие по стеклу капли, Закатов думал о том, что незачем было мучить Настю чтением. Он и не собирался, зная, что это удовольствие мало кто способен разделить с ним – по крайней мере здесь, в Бельском уезде. Но жена сама попросила почитать ей:
– Может, так и в самом деле пойму что-нибудь? Брала я как-то раз книги ваши, Никита Владимирович, но совсем в голову нейдёт, не понимаю ничего.
– Зачем же ты взяла Вольтера? – удивился Никита. – Он и в самом деле труден. Тебе бы почитать что-то по-русски… романы… уж если вздумалось читать.
– А что, есть что-то приличное?! Никита Владимирович, может, тогда вы сами мне подберёте? Вы всяко лучше меня в этом смыслите…
Послушался. Подобрал. К счастью, в кабинете нашлась старая, ещё военного времени, книжка журнала «Современник» с повестью Ивана Тургенева, которого Никита очень любил. Ему подумалось, что и Насте покажется интересным этот сочинитель: тем более что повесть была небольшая. Сразу после ужина, дождавшись, пока зевающая девка уберёт со стола, они с женой сели у окна, и Никита открыл книгу. И с первых же строк провалился в неё, как в колодец, как всегда проваливался в хорошие книги: с головой, забыв обо всём вокруг, забыв даже о Насте, на которую за всё время чтения и не взглянул ни разу.
«Сколько же она мучилась, прежде чем догадалась заснуть?» – с насмешливой горечью подумал Закатов, и тут же ему стало стыдно за эту насмешку. Ему ли судить Настю… Настю, которая в сто раз лучше его самого? Не будь её – он, Никита Закатов, сейчас сидел бы один в пустом доме, слушая храп дворни, в тысячный раз передумывая одни и те же мысли, мучаясь одним и тем же, страдая от того, что давно случилось – и к чему нет возврата… Вздохнув, Никита оглянулся на безмятежное лицо жены. Снова повернулся к окну. И в который раз, ярко, беспощадно, словно это было вчера, а не два года назад, перед ним встал зимний холодный вечер в Москве, в Столешниковом переулке. Тот последний вечер, когда они с Верой вдвоём оказались в пустом доме Иверзневых. Той самой проклятой зимой, когда велось следствие по заговору против государя и был арестован Михаил Иверзнев – брат Веры и лучший, единственный друг Никиты.
Когда до Закатова дошло известие, что Мишка взят под стражу, он сразу же кинулся в Москву – хотя и знал, что помочь не сможет ничем. У него не имелось ни больших денег, ни высоких связей: графы Закатовы были нищими провинциальными дворянами, годами не вылезавшими из своей вотчины. И всё же Закатов понёсся в столицу, не задумавшись ни на миг. Молодая жена была оставлена одна в Болотееве.
Почти одновременно с ним в Москву, в семейный дом, прибыли братья и сестра Мишки. С утра Александр и Пётр убегали обивать пороги всевозможного начальства – а Никита всё время проводил с Верой. Вспоминая об этом позже, он удивлялся. Почему никто не счёл неприличным, что женатый мужчина и молодая вдова остаются наедине в пустом особняке? Вероятно, не до того было… Да и с Верой он был знаком с самого детства. Двадцать лет назад замкнутый кадет Закатов сдружился в корпусе с Мишкой Иверзневым. Войдя в его дом, он был поражён жизнью весёлой дружной семьи, где все неистово любили друг друга. И очень скоро его стали считать здесь чуть ли не родственником.
Вера с утра до вечера бродила по комнатам – изнемогшая от слёз и ожидания, с кругами под глазами, страшно подурневшая. Впервые Никита видел её в таком отчаянии. Михаил и Вера были очень близки и могли поверять друг дружке самое сокровенное: недаром Вера никогда не имела подруг, искренне не понимая, для чего они, когда у неё есть Мишка. Сейчас, когда встала угроза надолго, а может, и навсегда, потерять дорогого ей человека, Вера совсем упала духом. Она плакала без конца, то кружа по маленькой гостиной с зелёными портьерами, то сидя за столом с бессильно опущенной на руки головой, то скорчившись в комочек в огромном кресле. Если она и начинала говорить, то лишь о том, что всё это ошибка, чудовищная ошибка, в которой, конечно же, должны разобраться! О каком заговоре может идти речь, если Иверзневы – столбовая дворянская, беззаветно преданная престолу семья! Отец был рядом с Багратионом во время Бородина! Дед брал Измаил с Суворовым! Братья стояли на Малаховом кургане всего два года назад!.. Никите оставалось лишь поддакивать и соглашаться. В глубине души он отчётливо понимал, что никакие хлопоты уже не поправят дела. Но ни у него, ни у Петьки с Александром не хватало духу сказать об этом Вере.
В тот вечер Москву засыпало снегом. Из окна было не разглядеть ни забора с калиткой, ни старой липы в палисаднике. Весь мир, казалось, утонул в мутно-белой кутерьме летящих хлопьев. Закатов с Верой сидели за столом в тёмной гостиной. Мерно тикали старые часы на стене; изредка звонко шлёпалась капля воска с оплывшей свечи или принимался скрипеть за печью сверчок. С другой половины дома доносился слабый грохот посуды: зарёванная кухарка, у которой всё валилось из рук, кое-как пыталась состряпать ужин. Ждали Александра с Петей: с самого утра старшие Иверзневы уехали в приёмную графа Дубовцева, на которого возлагалась последняя надежда. Но время шло, наступил вечер, началась метель, а братьев всё не было.
Никита, едва справляясь с желанием закурить, то и дело снимал нагар со свечи, поглядывал в окно. Смотрел на бледное, осунувшееся лицо Веры. Что он мог сказать ей, как утешить? В голове царила торичеллиева пустота.
– В этих приёмных, Вера Николаевна, всегда столько народу, – вполголоса начал он, и голос его странно громко прозвучал в тихой комнате. Вера медленно, словно проснувшись, подняла на него измученные глаза. – Не удивлюсь, если Саша с Петей только сейчас и вошли к графу. Я сам, когда дело о наследстве утрясал, полдня в губернском правлении высидел, а это ведь не столица всё же была, а Смоленск! Я думаю, что с минуты на минуту…
– Никита, вы ведь знали об этом? – вдруг спросила Вера, и Закатов невольно вздрогнул. С самого своего приезда в Москву он ждал этого вопроса. Ждал и страшно боялся его, потому что знал: солгать Вере в лицо он не сможет никогда.
– Вы ведь жили здесь вместе с Мишей довольно долго… Кажется, год. – Вера смотрела на Закатова через стол блестящими от слёз глазами. – Нам ничего не было известно, Саша в Петербурге, Петя в Варшаве, я с детьми – в Бобовинах… Но вы, Никита? Вы ведь всё знали, не правда ли?
– Догадывался, – тяжело сознался он. – Но, признаться, не считал это серьёзным. Студенты, мальчишки… Собираются, болтают, хотят, как всегда, изменить дремучую нашу Россию… Поверьте, Вера Николаевна, он и мне ни о чём не рассказывал, у них там была какая-то клятва. Молчали, я уверен, все до одного насмерть!
Вера лишь горько улыбнулась, а Никита со стыдом вспомнил о том, что никогда и не пытался расспрашивать Мишку о его героической деятельности. Как знать, приступи он к Иверзневу всерьёз, тот, глядишь, и рассказал бы лучшему другу кое-что. Да Мишка ведь и его пытался привлечь! Сыпал многозначительными фразами о будущем России, о новых людях, которые всё перевернут и исправят, о том, что им выпала высокая честь вершить судьбу империи… А он, Закатов, и слушать не хотел всю эту высокопарную чепуху. А ведь мог бы послушать, со злостью на себя подумал он. Мог бы сообразить, что такие, как Мишка Иверзнев, ничего наполовину не делают, что уж если он вознамерился вершить судьбу империи – до самого конца пойдёт и не остановится, покуда башки себе не свернёт… Так всё и вышло. А лучший друг только смеялся, отмахивался и язвил… свинья. А ведь мог бы, наверное, остановить, вмешаться как-то, с запоздалой горечью думал Закатов. Да хоть Сашке в Петербург накатать донос обо всей этой якобинщине в Столешниковом переулке! И плевать, что Мишка после этого ему бы руки не подал – зато сидел бы сейчас, дурак, дома, а не в крепости! Однако что-то подсказывало Закатову, что ни старший брат, ни лучший друг не смогли бы удержать Мишку от того, чем была забита его голова. Да ещё и эта проклятая рукопись отца Никодима… Кто мог знать, что она так «выстрелит»? Надо же было этим злосчастным бумажкам попасть Мишке в руки! А кто, спрашивается, виноват?!
– Это всё из-за меня, Вера, – медленно произнёс он. Внутренний голос истошно вопил о том, что ещё не поздно заткнуться, помолчать, не жечь за собой мосты… Но огромные, чёрные, мокрые от слёз глаза Веры смотрели на Закатова через стол, и отступать было поздно. – Это из-за моего попа, из-за моих крепостных… Из-за моей преступной беспечности. Видите ли… Ох, право, не знаю, как и объяснить вам… Пока я здесь, в Москве, валял дурака, мужики в моём Болотееве жили хуже каторжных с этой отцовской управляющей… Упырихой, как они её звали. Сперва, как и положено, терпели и мучились – ибо Христос терпел и им велел. А потом, видимо, устали подражать Христу и – уходили Упыриху топором вместе с её… сердечным другом. И подались к барину, то есть ко мне, – Никита криво усмехнулся. – На Москву правды искать. Вчетвером – двое парней и две девки. А с собой у них была рукопись моего сельского попа… Этакие записки обывателя со всеми ужасами, которые в Болотееве творились. Меня в Москве в это время не оказалось, рукопись попала к Мишке. И он не нашёл ничего лучшего, как отдать её своим друзьям! Почитали, повозмущались, начали списки делать… Списки эти пошли гулять по Москве, потом в Петербурге оказались…
Он беспомощно умолк, глядя в стол. Молчала и Вера, но Никита, не поднимая глаз, чувствовал на себе её внимательный взгляд. Часы на стене тикали, казалось, так оглушительно, что Закатов не понимал, отчего у него не взрывается голова от этого грохота.
– Оставьте, Никита… – пробился наконец к нему потухший, усталый голос. – Даже если это всё так… так, как вы сейчас сказали… В чём вы можете себя винить? Как можно было предугадать, предвидеть…
Но в это время глухо стукнула входная дверь, и в гостиную ворвался ледяной сквозняк. Послышался встревоженный голос кухарки, короткий ответ Саши – и в гостиную, не снимая заснеженных шинелей и фуражек, вошли оба брата Иверзневы. И по их лицам Закатов мгновенно понял: всё…
– Ну, что? – сорванным, чужим голосом спросила Вера, вставая из-за стола. – Что, Саша?.. Что у графа?!. Саша, Петя, что?!.
Александр глубоко вздохнул… И вдруг ударил кулаком по дверному косяку так, что тот затрещал и на пол посыпались щепки. Ничего не ответив, он быстро, грохоча мёрзлыми сапогами, прошёл через всю гостиную в кабинет отца. За ним, выругавшись совершенно по-площадному, пронёсся Петька, хлопнула дверь… И Закатов вдруг увидел, что Вера, неловко цепляясь руками за край стола, съезжает на пол. Испугавшись – обморок! – он бросился к ней, нечаянно сбил на пол свечу, та погасла. И в полной темноте Никита схватил Веру в охапку, крепко, с силой прижал к себе, уткнулся в тёплые, пахнущие вербеной волосы… И – разом пропало дыхание, и пусто, холодно стало в голове.
– Так, значит, всё… Значит – бесполезно, бессмысленно… – отрывисто шептала Вера. – Значит, нет надежды… Граф отказал… Нет надежды, нет… Всё кончено…
Никита почти не слушал её. Ничего не отвечая, ни о чём не думая, целовал в темноте Верины ледяные руки, волосы, губы, мокрое от слёз лицо, – и сам не понял, когда, в какой миг эти руки захлестнулись на его шее. Содрогаясь от рыданий, Вера прижалась к нему. Они что-то шептали друг другу, что – Никита, хоть убей, не мог вспомнить, хотя много дней спустя раз за разом вызывал в памяти тот вечер… За окном мело, вьюга свистела и голосила в печной трубе, – а они с Верой стояли, намертво прижавшись друг к другу в тёмной комнате, и сердце Закатова, оборвавшись, летело куда-то вниз, прочь, очертя голову…
А потом он увидел, что дверь кабинета открыта, жёлтый клин света падает на паркет, а в проёме неподвижно, как статуи, стоят Саша и Петька. Вера молча отстранилась от Никиты, опустилась в кресло и замерла. Закатов вышел в переднюю, сорвал с вешалки шинель и, не надев её, вышел в ночь, в воющую пургу.
Он успел дойти до калитки и даже открыть её, когда распахнулась дверь дома и по заваленному снегом крыльцу скатился Александр.
– Никита! Чёрт! Стой! Ума лишился, куда ты? Стоять, говорят тебе! Старший по чину приказывает!
– Слушаюсь, господин полковник, – глухо ответил Закатов, останавливаясь.
Саша быстро подошёл к нему. Помедлив, тронул за плечо.
– Иди-ка, брат, в дом… нечего дурить. Тебя ещё нам не хватало.
– Саша, право, мне лучше уйти, – помолчав, сказал Никита. Снежные хлопья били в лицо. Но и без этого Закатов не мог бы сейчас поднять глаз на брата Веры.
– Не дури, – тоже не сразу повторил Александр. – Мы с Петькой не слепые… И не дураки. Подумаешь, секрет… все всё давно знают и понимают. И спасибо тебе, что ты Верку подхватил. Она и так эти дни едва держится, а мы, два болвана… Всю дорогу совещались, как лучше её подготовить, и вот вам… Но, право же, зла не хватает! – вдруг взорвался он. – Мы на этого Дубовцева, как на апостола, надеялись, а он!.. Туша свиная трусливая в кителе! Каналья! Я ему прямо там, в кабинете всё в лицо сказал! Боюсь, даже в приёмной слыхать было… Ну, да терять всё равно нечего. Кто меня теперь в Генштабе терпеть будет с младшим братом – государственным преступником? Подаю в отставку, и плевать на них всех! Я своё России отслужил – и честно, по-солдатски, а не по кабинетам! Петьке бы вот греха не вышло… Ну, что ты стоишь, сукин сын, марш в дом! Возиться тут с тобой ещё…
Никита послушался. Невозможно было спорить, глядя в застывшее, каменное от горя Сашкино лицо. Ночь Закатов провёл не раздеваясь, сидя верхом на стуле в своей комнате и уткнувшись лицом в судорожно стиснутые кулаки. И тяжёлым, дурным сном казалось то, что всего несколько часов назад он впервые в жизни целовал Веру Иверзневу… Веру! Княгиню Тоневицкую! И сам он был женат, и для них, ни разу не сказавших друг другу слов любви, всё было кончено.
Конечно, он не уехал. Конечно, дождался суда. И против воли восхищался Мишкой, который держался так спокойно, сдержанно и холодно, словно ему грозила не Сибирь, а отправка на кислые воды в Пятигорск. И таким же спокойным и холодным было лицо Веры, когда зачитывали приговор – пять лет на поселении в Иркутской губернии. Она лишь страшно побледнела и коротко взглянула на Никиту. А он… Он не мог даже пожать ей руку. И на другой же день, ни с кем не простившись, уехал в своё Болотеево.
… – Никита Владимирович, я, никак, уснула тут?
Вздрогнув, Закатов обернулся. Настя, потягиваясь в кресле, сонно смотрела на него.
– Немудрено. – Закатов потёр лоб, отгоняя остатки воспоминаний. Отошёл от окна. – Час уже поздний… Да и книга, вероятно, показалась тебе скучной.
– Скучной? – Настя пожала плечами. – Отчего же… Довольно увлекательно. Тем более вы так хорошо читаете.
– Но ты ведь уснула тем не менее?
– Уснула, как только в самом деле скучно стало. А это уж было к концу.
Никита с невольным интересом взглянул на жену.
– Вот как? С какого же места ты заскучала?
– Да я же говорю – к концу. – Настя, подсев к старому зеркалу на стене, принялась поправлять растрепавшуюся причёску. – Когда она в пруд кинулась.
– Тебе это показалось скучным?! – поразился Никита.
Жена, почувствовав перемену его тона, обернулась, взглянула в упор чёрными раскосыми глазами.
– Так ведь когда непонятно – всегда скучно. Ну с чего, скажите, ей в пруд кидаться понадобилось? Вот я уснула, а вы мне скажите: господин Тургенев там дальше написал, что она сумасшедшая была?
– И не думал, – слегка обиженно возразил Никита.
– Так это она со здорового ума утопилась? Неужто не скучно?
– Ты ведь слышала, она полюбила человека, который оказался слабым… недостойным… А она любила его всем сердцем и просто не выдержала…
– Право, не пойму, чего тут было не выдержать, – с коротким вздохом отозвалась Настя. – Вы меня простите, Никита Владимирович, я совсем ничему не учена и книг никогда не читала, и потому по-простому, по-житейски рассуждаю. Что это за тягость такая, которой не выдержать? Да наши дамы в уезде через одну более тягостей выносят! У одной – муж-пьяница, бьёт её, бедную, как последнюю девку дворовую… У другой – того хуже, имение промотал, изволь теперь в приживалки идти на старости лет к собственной племяннице. У Марфы Семёновны единственный сын в последнюю кампанию погиб… Барышню Истратину за сумасшедшего мать выдала, потому что никто другой без приданого брать не хотел. У Сатиных дети один за другим мрут… И никто не топится, хоть убей! А тут что за притча? Уж коли господин Тургенев непременно хотел страстей напустить, то уж хоть бы, право, повод посерьёзней выдумал! Ишь ты, не того полюбила, да он не так себя повёл! Ваша барышня горя настоящего в жизни не видала, вот и всё моё рассужденье!
Никита молчал, пристально глядя на Настю, обдумывая сказанное и понимая, что жена в чём-то права и в чём-то ошибается. Та, впрочем, поняла его молчание по-своему.
– Не обращайте внимания, Никита Владимирович. Если вы говорите, что повесть сия хороша, – значит, так и есть, вам лучше знать.
– Отчего же, ты имеешь право на своё мнение, – улыбнулся Закатов. – В нём есть здравое зерно. Надеюсь, что ты никогда не бросишься в пруд из-за несчастной любви?
– Надеюсь, нет, – в тон ему отозвалась Настя. – Боюсь, что воспитание у меня не то. Вернее, его и вовсе не имеется… Вот и вам со мной скучно.
– Не наговаривай на себя, – помолчав, сказал Никита. Он снова смотрел в окно, за которым шелестел дождь, и отчего-то не мог заставить себя повернуться к Насте, хотя ни одним словом не врал ей. – Мне было бы безумно скучно и плохо здесь без тебя. Пожалуй, и впрямь можно было бы головой в пруд… Вернее, в нашу речку… Кабы она не была курице по колено.
– И дался вам этот пруд! – раздражённо всплеснула руками Настя. – Вот до чего чтение-то доводит! Один дурак сочинит под плохое настроение, другой – прочтёт да поверит, и вот – сейчас топиться да вешаться, будто других дел нет! У него семья-то хоть имеется, у господина вашего Тургенева?
– Позволь… Нет, кажется, – слегка растерялся Закатов. Сам он никогда не задумывался об этом. – Он, по слухам, влюблён в певицу Полину Виардо, живёт из-за неё за границей…
– Ну вот, видите! Сам в жизни не устроился – и другим нипочём не даст сочинениями своими! Вот хоть дурой набитой меня теперь считайте, Никита Владимирович, а эта повесть нехороша и даже, если позволите, вредна! Слава богу, мы с вами хотя бы люди взрослые и семейные! А если бы эта книжка той же нашей барышне Истратиной попалась? Сей же час бы вообразила, что это так великолепно и шармант – сигать в воду по первому поводу! И ведь прыгнула бы! Лучше бы ваш Тургенев написал, в каком виде этих утопленников из пруда вытаскивают! Синих да раздутых, раками погрызенных, узнать нельзя! Сразу бы барышень от глупостей отвратил!
Никита невольно рассмеялся и протянул к жене обе руки.
– Ступай спать… Тебе старый резонёр Вольтер, я вижу, всё же на пользу пошёл.
– Да он и поумнее будет, – подтвердила Настя, поднимаясь из истошно заскрипевшего кресла. – Хоть я, впрочем, тоже не всё там поняла, худо по-французски читаю. Вы идёте спать?
– Сейчас. Ложись, я только погашу свечи.
Жена ушла. Никита убрал в шкаф журнал, заложив, однако, страницу, чтобы продолжить чтение назавтра. Начал было задувать свечи, но не закончил этого, оставив одну – нещадно чадящую, оплывшую до бесформенного кома. Взяв подсвечник, подошёл с ним к зеркалу. Привычно поморщился, увидев в неверном свете собственную физиономию: некрасивую, перерезанную рваным шрамом, полученным во время недавней Турецкой кампании. Вздохнув, подумал о том, что жена с её практическим умом права: любовь, вероятно, хороша только в романах. Как она минуту назад сказала ему? «Мы люди взрослые и семейные…» А Насте всего двадцать один год. И никакой любви за все эти годы она не видела и не знала. Может, и к лучшему для неё. Иначе разве она пошла бы за графа Закатова с его изрезанной рожей, хромой ногой и полудохлым имением? С отвращением взглянув напоследок на своё отражение, Никита дунул на свечу, поморщился от капнувшего на руку горячего воска и отправился спать.
* * *
… – А ещё здесь, в Сибири, растёт такой бесценный корешок, который называется «женьшень». Не улыбайся, Устя, это по-китайски. В Китае и Маньчжурии его гораздо больше, но и у нас здесь должен попадаться. Он жёлтый, толстенький и похож на человечка с ручками и ножками… Волосатенький такой. Растёт обычно в низинах, где папоротники, в кедрах… А лист выглядит вот так! – Михаил Иверзнев достал из кармана пальто истрёпанную записную книжку и карандашик, начал набрасывать на ходу рисунок. Устинья, шагая рядом, пристально следила глазами за бегающим по бумаге грифелем.
– Надо ж… На нашу ежевику похоже!
– Похоже, но всё же не то. Ежевика – семейство розоцветных, а жень-шень – аралиевых. В России он не растёт. А вот Юго-Восточная Азия, Китай, наша Сибирь отчасти…
– Так что ж – его здесь, выходит, найти можно? – взволнованно переспросила Устя. – И всё-всё этим корешком вылечить получится?
– Теоретически – да, найти возможно. Но жень-шень попадается очень редко. Вряд ли ты его отыщешь во время этих ваших набегов за грибами.
– Я всё равно поглядывать стану, – твёрдо сказала Устинья – и задумалась. На её лбу, между бровями, появилась короткая морщинка. На своего собеседника она больше не смотрела.
Каторжная партия, которая почти два года назад вышла из Москвы, теперь подходила к Иркутску. Стояли тёплые и сухие осенние дни. Процессия арестантов растянулась по дороге, как нитка рассыпавшихся бус. Кандальные цепи мерно побрякивали в такт неспешным шагам. Конвойные казаки дремали в сёдлах. Каторжанки брели босые. Ещё в начале дороги, во время страшной весенней распутицы, они убедились, что с казённой обувью – одни мучения. Коты вязли и не держались на ноге. В конце концов даже городским арестанткам надоело выуживать неудобную обувку из глубокой грязи. Все покидали коты на обозные телеги и с облегчением зашлёпали по раскисшей дороге босиком. Обутой упорно шла только немолодая арестантка в городской одежде, утратившей со временем приличный вид. За два года пути «барыня» так и не перемолвилась ни словом с товарками по партии. На растахах сидела отдельно. Смотрела в сторону неподвижными злыми глазами, молчала. К цыганке она и вовсе избегала приближаться, и Катька платила ей полной взаимностью. Арестанткам так и не суждено было узнать, что по Владимирке с ними шла знаменитая на весь Мещёрский уезд графиня Шевронская, которая замучила до смерти одну за другой шесть своих горничных. Дело вскрылось, и замять его взятками не удалось. Шевронскую судили, лишили дворянства и отправили в Сибирь.
Душой всей партии по-прежнему была Катька. Никто и никогда не видел её в плохом настроении. Если она не болтала, то пела. Если не пела, то смеялась. Если не смеялась, то разговаривала с мужем на своём языке, и с её загорелого дочерна лица весь день не сходила улыбка. Солдаты и казаки искренне восхищались её гаданием. Передавая цыганку с рук на руки новому конвою, они советовали воспользоваться случаем. Офицеры – словно по эстафете – слушали модные городские романсы, которые Катька откуда-то знала во множестве. Вместе с другими бабами цыганка шмыгала по тайге вдоль дороги, собирая ягоды или грибы. Отстав от партии, она неслась следом во весь дух – с кандальным грохотом и пронзительными воплями: «Подождите, брильянтовые! Сокровище-то, сокровище-то главное ваше забыли!!! Как жить-то дальше без меня будете, яхонтовые?!» Конвойные покатывались со смеху, глядя, как запылённое, чумазое «сокровище», теряя грибы и бешено хохоча, с разлёту врезается в спину своего Яшки. С мужем она проводила целые дни, но на ночь Катьку по-прежнему запирали отдельно. Не помогали ни денежные посулы, ни слёзные уговоры. Только это и отравляло цыганке жизнь. Устинья от души сочувствовала ей, сказав однажды:
– И как ты, бедная, мучишься-то… Я без Ефима с ума бы сошла – столько-то времени! И ведь надо ж было этак попасть вам… А ты ещё вон весёлая какая скачешь!
– Да по-хорошему-то, пустяк это! – отмахнулась цыганка. – Я думала, Бог для меня похуже что выдумает. Пуще всего тряслась, что на детях отыграется…
Подруга не смогла скрыть удивлённого взгляда. Тогда Катька, вздохнув, перекрестилась и нехотя пояснила:
– Грех на мне, понимаешь? Тяжёлый… Уж лет шесть как висит, всю душу высосал… Не поверишь!.. Я ведь – когда мне каторгу объявили – даже обрадовалась! Вот оно, думаю! Заплачу сейчас сама по всем счетам – а детям моим тогда ничего не будет! Так что – пусть уж… Велика невидаль – с мужиком не спать! Да я дольше мучилась, когда он по тюрьмам ошивался! – Она снова широко улыбнулась, блеснув чёрными глазами. И Устинья отчётливо поняла, что больше Катька ничего не расскажет.
В самом конце партии тянулись обозные телеги. На одну из них было свалено имущество Иверзнева. Но ни узлов, ни старого чемодана не было видно под ворохом сухих, подсыхающих и совсем свежих пучков трав и кореньев. Задержав шаг, Устинья дождалась, пока телега нагонит её, и пошла рядом, осторожно перекладывая собранные растения. На её лице появилась слабая улыбка. Михаил продолжал следить за ней. Он не замечал, что на него самого уже давно в упор смотрит Ефим Силин. Взгляд Ефима был нехорошим, а зелёные глаза – стылыми, как октябрьская вода.
Устинья первая заметила взгляд мужа и сразу потемнела. Выпустила из рук большой пучок таволги, который до этого аккуратно расправляла, удаляя подгнившие листья, и быстрым шагом пустилась догонять партию.
– Ефим! Ефим! Да пожди ты, леший!
Тот остановился. Устинья, догнав, с разбегу ухватилась за его плечо.
– Ну? Что опять надулся как мышь на крупу?
– Устька, доведёшь же. Я тебя и впрямь побью так, – не глядя на неё, сквозь зубы сказал Ефим. – И доктору твоему башку сверну, как курчонку. Сил достанет.
– И болваном выйдешь, – сердито сказала Устинья. – Ну чем ты себе башку забил?!
– Сама знаешь чем. Вся партия уж смеётся. Ты ещё давай к нему на телегу сядь и ноги свесь, как жена законная!
– Законная-то я тебе буду!
– Вот и вспоминала бы про то почаще. А то, гляжу, память вовсе коротка стала.
– Совесть у тебя коротка! – не сдержалась Устя. – Забыл, кому Михайла Николаевич лихоманку сгонял во Владимире? Забыл, как он у Антипа нашего вереды сводил?
– Ты сводила. Ты и лихоманку сгоняла, – усмехнулся Ефим.
– А снадобье-то кто приготовил и дал?! – вознегодовала Устинья. – У-у, ирод, никакой благодарности в тебе не обитает! Да на Михайлу Николаевича вся партия молится! Ведь не то, что мы! Барин благородный! А с каторжанами возится, как с братьями родными… Святой человек, а ты ругаешься всё!
– Святые на чужих баб не таращатся.
– Тьфу, дурень ты, дурень! – в сердцах сплюнула Устинья. – Ну как с тобой толковать-то?! Антип Прокопьич, да вразуми хоть ты его – терпежу у меня нет!
Старший брат Ефима, отставший на несколько шагов, только усмехнулся. Антип Силин вообще предпочитал помалкивать. Этот огромный парень с косой саженью в плечах не любил ни свар, ни ругани. Но за два года пути в Сибирь ни один из самых отпетых разбойников не решился на ссору с братьями Силиными. Ещё в начале пути Ефим и Антип вдвоём за минуту раскидали жестокую драку каторжан. Казаки из охраны подоспели, когда всё уже было кончено. Драчуны стонали и матерились на обочине дороги, а Ефим, ругаясь, зализывал царапину от ножа на предплечье. Его брат в это время без особых усилий удерживал в охапке Ваньку Кремня, укоряюще бурча при этом:
– Вздумал тоже, паря… Ножиком-то размахивать без ума… Этак же бог весть до чего домахаться можно! И живого человека порешить, не ровён час! Нет, брат, ты у меня смертного греха на душу не возьмёшь!
Ванька Кремень, у которого смертных грехов на душе было не счесть, бешено выдирался и пытался достать Антипа хотя бы зубами, но куда там… Охрана подобрала ножи, раздав на всякий случай полтора десятка зуботычин. Кремня по приходе в острог уволокли в «секретную», – и больше братьев Силиных никто не трогал.
– Чего нового-то сведала, Устя Даниловна? – с улыбкой спросил Антип, и Устинья улыбнулась в ответ. Сначала сдержанно, затем всё живее начала рассказывать про сказочный корешок женьшень.
– Вот найти бы! Горя бы не ведала, всё бы им лечить могла!
– Нешто мало сена надрала? – хмыкнул Ефим. – Вон – вся телега у барина твоей травой завалена! Копна целая, хоть корову заводи! Другие бабы – ягоды, грибы, а ты из леса всё травку тащишь…
– А лечить-то вас чем?! – рассердилась Устинья. – Да Михайлу Николаичу в ножки впору кланяться, что дозволил телегу свою под травы мои приспособить! Слава господу ещё, что осень бездожжевая выдалась, не сгнило ничего! Прибудем на место – ещё неизвестно, что там да как, а от травок моих одна польза!
– Вот чует барин, чем тебя, дуру, взять, – с издёвкой сказал Ефим.
Устинья только всплеснула руками, не находя больше слов.
Некоторое время они шли не разговаривая. Антип искоса укоризненно поглядывал на брата, но не вмешивался. Чуть погодя он и вовсе прибавил шагу и ушёл вперёд.
Минуту спустя Ефим хмуро спросил:
– Ну – разобиделась, что ль, вконец?
– Много чести будет! – отрезала Устинья. – Ну, Ефим, хоть бы ты сам подумал-то! Что мне до барина? Что ему до меня? Пустяк… Только где же я ещё такое послушаю? Кто мне расскажет – про травы-то, да про коренья, да где искать, да как готовить?
– Ну, этому ты сама любого доктора научишь! – фыркнул Ефим. – Вы со своей бабкой всю округу лечили! Даже от господ к старой Шадрихе-то присылали…
– Мало этого, – твёрдо возразила Устя, – мне бы по-настоящему разуметь… Как господа… Михайла Николаевич вот говорит, что, если правильно взяться – всякого человека выучить можно! И грамоте, и любой науке, и делу любому! И меня тоже, только…
– Зубы он тебе заговаривает, вот что! – уже без улыбки, зло перебил Ефим. – А ты, дура, слушаешь да веришь! И последнее моё тебе слово, Устька, – перестань к барину бегать! Не то…
Устинья вдруг остановилась посреди дороги. Резко брякнули кандалы. Глаза, похолодев, стали серыми, как ледяная кромка на воде.
– Ну, вот что, Ефим Прокопьич! Надоел ты мне! Всю душу вымотал по нитке! Да рассуди ты, что мы вместе с Михайлой Николаичем уж почти год идём! Хоть однова он ко мне, аль к другой какой с глупостями приставал?! Ну – вспомни! Ничего мы от него не видали, кроме уваженья! Хоть кого спроси – то же самое скажет! Ну, что, говори, – вру я?!
Ефим тяжело молчал, смотрел себе под ноги. Затем вдруг шагнул к Устинье и, прежде чем она опомнилась, крепко взял её за плечи.
– Устька! Устя! Вот ведь игоша разноглазая… Ну что ты, ей-богу, разошлась? Ну, коли обидел – прости… Только сил же нет смотреть, как он на тебя глядит! Ты-то и впрямь не замечаешь, в голове одни травки да корешки… Завсегда такая была… А я-то вижу, чего ему от тебя надобно! У него же глаз горит, когда на тебя смотрит! И как мне это терпеть-то, скажи?! Устька! Чего молчишь? Да ты что – впрямь осерчала, что ль?
– Что толку на тебя, анафема, серчать… Всё едино не разумеешь ничего… – бормотала Устинья, отталкивая его руки. Но Ефим не отставал, и в конце концов Устинья перестала вырываться.
– Ну тебя, право слово… Что в лоб, что по лбу. Остолоп! – поймав парня за ухо, она сердито дёрнула его.
Ефим стерпел с усмешкой – проворчав, однако:
– Эку привычку взяла – законному мужу ухи драть!
– И ничего ещё не законный! Можно покуда! Вот обвенчаемся – тогда и… Ефим!!! Да убери ж руки-то, бесстыжий, люди кругом!
– И чего? Ты мне жена! Вот доберёмся до Иркутска, окрутимся – и тогда ты у меня уже ни к какому барину не побежишь!
– Ну да! А сейчас я только и делаю, что по барам бегаю! День – с одним, ночь – с другим! – опять рассердилась Устинья. – И в кого ты сатана такой упрямый, Ефим?! И за что я только к тебе присохла? Доведёшь ты меня до погибели…
– Дура ты, Устька, дура… – Ефим крепко обнял её, прижал к себе. – Да кто у меня есть-то, кроме тебя? И кто мне ещё надобен? На всю жизнь к тебе, ведьме болотной, присуждённый, надо ж было эдак вляпаться…
– А я-то к тебе, разве нет? – сквозь слёзы улыбнулась Устинья. – Тоже ведь угораздило к такому разбойнику прилипнуть… Мало ль добрых парней было, так вот нет! Ну всё, всё, будет с тебя! Тьфу, измял только…
Устинья сунула руку за пазуху, извлекла изрядно помятый ржаной пирог.
– Хочешь вот?
– Ещё чего! Сама ешь. Давай, жуй! – велел Ефим. – Знаешь ведь, не люблю с горохом.
– Ух, порода ваша силинская! – Устинья аж задохнулась от негодования. – Зажрались, горох им уж не в радость!
Ефим только ухмыльнулся. Он крепко помнил: хуже той жизни, которой жила Устька дома, быть не может ничего. Но даже они с братом были изрядно удивлены лёгкостью этапной жизни. Оба они выросли на хороших харчах в богатом доме. Сносной кормёжкой их было не удивить. Но чем дальше их уводили от России, тем больше становилось дорожных вольностей. Конвойные офицеры относились к арестантам снисходительно, позволяли привалы и в особенно жаркий летний день даже отпускали всю партию поплескаться в реке или озере. Подаяния и пожертвования в деревнях были такие, что Устинья диву давалась: «Ровно не кромешники, а святые апостолы по Руси движутся! И кто б только подумать мог!»
Так всё хорошо шло… И надо ж было этому барину на головы им свалиться! Ефим до сих пор скрипел зубами, вспоминая, как больше двух месяцев сидели на полуэтапе во Владимире, ожидая, пока пройдёт карантин, – и как в день отправки соединились с догнавшей партией из Москвы. Когда все вместе тронулись по дороге, Ефим заметил, что к обозу прибавилась новая телега.
– Это кто там едет? – крикнул он. – Антипка, поглянь! С виду из бар!
– Может, кто по делу, – пожал плечами Антип. – Охвицер какой до места следует, да мало ль…
Ефим пригляделся. Лицо человека, который зябко кутался в потрёпанную пехотную шинель, показалось ему смутно знакомым. Но пока он напрягал память, рядом тихо ахнула Устинья.
– Батюшки! Богородица пресвятая! Да… как же это?!
Ефим оглянуться не успел – а жена уже летела назад по обочине дороги и кричала на всё поле:
– Барин! Господин Иверзнев! Михайла Николаевич! Да как же это, боже мой?!
– Вот так, Устинья, – спокойно и, казалось, без удивления ответил ссыльный. Спрыгнув со своей телеги, он ловко подхватил Устю, цепи которой спутались в шаге от него. – Вот… видишь, как встретиться довелось! Не знаю, как ты, а я рад! Где твой муж? И его брат? Они живы?
– Здесь… Оба здесь… – Устинья плакала и не верила собственным глазам. Как могло случиться, что Михайла Николаевич, студент, доктор, друг её барина… и вдруг – здесь? Среди кандальной партии?! – Да вы-то, господи, вы-то как же… Вы ведь благородный… С нами… На телеге… Да за что же?!
– Эй! Что ещё такое? А ну, на место! Ещё через город не прошли! – сердито окликнул её конвойный. – Ишь, кинулась! Не положено!
Устинья испуганно попятилась, успев лишь шепнуть:
– После, Михайла Николаевич…
И этих «после» потом оказалось столько, что и считать было невмочь!.. Спокойно ехать на телеге, как полагается благородному барину, Иверзнев категорически не желал. Весь путь он проводил на ногах, болтая с каторжанами обо всём на свете. Понемногу дошло до того, что Ванька Кремень во всех подробностях рассказал ему историю своей роковой любви к московской шлюхе и паскуде Аксиньке. Иверзнев сочувствовал и кивал. Старый бродяга Кержак, посмеиваясь, объяснял дотошному барину, как можно переплыть озеро Байкал в рыбной бочке и как отбиться от медведя, имея лишь разряженную кремнёвку. Михаил Николаевич от души восхищался. Цыганка Катька, заливаясь смехом, девять раз подряд спела ему песню «Ай, во поле во вечернем» – до тех пор, пока Иверзнев не сумел найти вторую партию. Катькин муж полдня объяснял Иверзневу, как стамеской отладить старому коню зубы «под молодого». Антип Силин – и тот не сумел отвертеться и был вынужден растолковать барину, почему мужики по деревням знать не хотят никакой воли, покуда им не нарежут земли. Всю эту болтовню Иверзнев старательно записывал по вечерам в свою потрёпанную книжку и подолгу сидел потом над своими записями. «И на что ему?.. Как бы не донёс по начальству-то…» – беспокоились поначалу арестанты. Но вскоре стало очевидно, что доносить на них чудной барин не собирается. Напротив, он как мог старался помочь товарищам по несчастью. На его телеге постоянно виднелись головки детей, следующих за родителями по этапу, лежали больные или присаживались просто уставшие. Постоянно Иверзневу приходилось лечить стёртые кандалами ноги, врачевать простуды, растирать мазями и гусиным жиром отмороженные пальцы. За своё лечение он не брал ни копейки – напротив, тратил на снадобья для недужных собственные деньги – и в конце концов молодого доктора зауважала вся партия. У Антипа Силина он сводил вереды на пояснице какой-то мазью, на которую Устинья смотрела горящими глазами:
– Это ж надо… В три дня всё сошло! А я печёной луковицей полторы недели бы лечила! Это из чего ж сготовлено-то, Михайла Николаевич?!
И – понеслось… Ефим злился до темноты в глазах. Поначалу он думал, что барин просто смеётся над дурой-девкой. Но вскоре убедился – ничего подобного. Понемногу были вынуты и книжки из барского саквояжа, в которые Устька таращилась с умным видом, будто чего соображала, и без конца расспрашивала о травках и корешках. «И не осточертели они ей за всю жизнь-то, травки эти! – выходил из себя Ефим. – А барин и рад стараться… Баба чужая ему занадобилась! Сукин сын…»
Хуже всего было то, что, кроме Ефима никто, казалось, ничего не видит и не понимает. Не одна Устинья могла поболтать с Иверзневым. Каждая из каторжных баб уже давно рассказала ему свою горькую судьбу, и рассказ этот даже был записан в известную всей партии чёрную записную книжку. Ни к одной из девок – даже к писаным красавицам – доктор не пытался приставать. Дальше задушевных разговоров дело не шло, за что каторжанки «понимающего барина» страшно уважали. Однажды Ефим, набравшись терпения, добрых два часа прошагал рядом с Иверзневым и Устиньей, слушая их разговор (оба не обращали на него никакого внимания), и, хоть убей, не услышал ничего похабного. Но по временам он ловил взгляды… Короткие взгляды доктора, брошенные на его жену. И цену этим взглядам Ефим знал. Это и мучило больше всего. «Она, глупая, не видит, не понимает… И никто не видит. А доктор-то повёлся на эти глазки! Собачий сын, отметелить бы ночью… Аль прямо сразу кандалами по башке приложить…»
… – Эй! Стой! Куда, дьявол?! Ах ты, чёрт, стоять! Сейчас стрелю! Стоя-а-а-ать!!!
– Да что такое? – растерянно замедлил шаг Ефим. Остановились и другие. Антип машинально придвинулся ближе к брату – как всегда, когда ожидалась свара. А впереди, за поворотом дороги, слышались испуганные и злые крики конвойных солдат. Потом ударили выстрелы – один, другой, третий… Подбежавшая Устинья схватила мужа за плечо:
– Господи, Ефим! Антип Прокопьич! Что там стряслось-то?
Ответить никто не успел: в ту же минуту из-за поворота вылетели верховые казаки с криком:
– А ну, в кучу, разбойники! В линию становсь! Живо все! Живо, сказано, не то нагайками сейчас!!!
Было ясно: случилось что-то невероятное. Ещё ни разу за два года пути каторжную партию не сгоняли так стремительно в кучу и не брали в оцепление. Из леса выгнали перепуганных баб, которые собирали грибы к ужину. С телег посталкивали больных и «семейных». Люди прижимались друг к другу, недоумённо переговаривались:
– Да что случилось-то, крещёные? Чего они всполошились? И Фёдор Ипатьич где?
Конвойного офицера между тем рядом не было, а обозлённые солдаты отвечать на вежливые вопросы отказывались.
– Да не дёргайте вы служивых! – рявкнула наконец Катька, поглядывая сердитыми чёрными глазами в лес. – Ванька Кремень утёк!
– Да ну! Брешешь! – сразу же обступили её.
– Да чтоб мне околеть! Прямо у меня на глазах в кусты кинулся!
Вся партия стояла неподвижно посреди дороги и ждала до тех пор, пока из леса не показалось с десяток солдат во главе с конвойным офицером Аносовым. По их сумрачным, вспотевшим лицам было понятно: беглеца не догнали. Аносов держал в руках сброшенные кандалы Кремня.
– А ну, становись на пересчёт, висельники! – тяжело дыша, велел он. – И чтоб без фокусов мне!
Прямо посреди дороги начались перекличка и пересчёт. Это всё заняло довольно много времени, и арестанты, ожидая выкрика собственной фамилии, вполголоса переговаривались. Половина партии утверждала, что Ванькиного дёра в кусты вполне стоило ожидать. Второй год Кремень не мог успокоиться из-за своей брошенной в Москве подруги.
– В Москву мне надо… В Москву мне надо, ребята, назад! – то и дело слышали от него. – Спасу нет… Аксинька у меня там! Как она без меня-то, шалава проклятая? Что с ней станется, покуда я до Иркутска-то добреду?
– Да уж, поди, давно с кем другим связалась, не мучься, родимый! – «утешал» кто-нибудь, и Кремень темнел. Однако терпел: с этапа не бегали. Но в августе каторжане надолго застряли «в пересыльном» из-за холерного карантина. Теснота была страшная, а две недели спустя подошла ещё и новая партия. Кремень обнаружил среди прибывших своих московских знакомцев. После разговора с ними Ванька вернулся на свои нары злым как чёрт и весь вечер провалялся вниз лицом. Оказалось, Аксинька спуталась с богатым купцом и вовсю гуляет с ним по трактирам.
После тяжёлого известия Кремень ни с кем не перемолвился ни словом, чернел на глазах и о чём-то неотрывно думал. Все были уверены, что он убивается по изменнице, и в душу к Ваньке не лезли. И вот – здравствуйте, святая Троица!
– Подался Кремень до Москвы, до своей Аксиньки… – цедил сквозь зубы Ефим. – А ведь как хорошо шли-то! И начальство понимающее, и брало по-божески, и дозволяло много чего… А теперь – всё!
Начальство и в самом деле было понимающим. Фёдор Ипатьич Аносов ходил по этапу всю свою жизнь и каторжан знал как облупленных. Семьи у Ипатьича не было, а посему брал он скромно и народ попусту не мучил. Арестанты хорошее обращение ценили и старались платить той же монетой.
– Ведь это ж последний переход его, Фёдора Ипатьича-то, – поведал братьям Кержак. – За двадцать пять лет николи у него не было, чтоб с этапа дёрнули! Я сам с ним ходил лет с десяток назад, и всё чинно-благородно было! А теперь что? Ему нас по бумагам на этапе сдавать, а окажется – хвать! – и человека нету! И накроется ему вся пенсия, а за что? Экое несправедливие…
– И что, поделать ничего нельзя? – напряжённо спросил Ефим. – Может, нам всем скинуться да умаслить его?
– Не пойдёт, – ожесточённо скребя в затылке, выговорил Кержак. – Что ему с нашей деньги, коль старость спокойная шайкой накрывается? Нет, тут другое надобно… Счас. Не троньте меня минуту, ребята… подумаю.
Через четверть часа от партии каторжан отделились Кержак и Яшка-цыган. Конвойные тут же наставили на них дула:
– Назад, дьяволы! Мало вам?!.
– Не шумите, – веско сказал Кержак. – Нам Фёдору Ипатьичу слово молвить.
– Чего вам ещё, черти? – к арестантам подошёл мрачный Аносов.
– Разговор имеется, ваше благородие!
– Совесть у вас лучше бы имелась! – вспылил офицер. – Ну, чего вам, ироды? Каку-таку ещё радость мне приготовили? Всё, кончилась слобода ваша! Теперь пойдёте, как по закону положено, ежели человеческого обращенья не понимаете! Я с вами по-христьянски, а вы…
– …и мы весьма соответствуем, – сдержанно ответил Кержак. – И очень даже ваше расстройство нынешнее понимаем. Тем более что и нам оно накладно выходит.
– Так как же ты, сукин сын, допустил?!. А ещё старшой в партии!
– Ваша правда, безобразие сущее вышло. Виноват, недосмотрел, – пожал сутулыми плечами Кержак. – Но, на наш взгляд, всё ещё поправить можно… ежели, конечно, ваше благородие дозволит.
– Поправить, говоришь? – недоверчиво сощурился Аносов. – Это как?
– А вот, цыган божится, – Кержак с чуть заметной усмешкой показал на Яшку, – что в одночасье вам того Кремня изловит.
– Врёшь, – убеждённо сказал Аносов, глядя в смуглую нахальную физиономию конокрада. – Поди прочь, не то обеззублю!
– Воля ваша, Фёдор Ипатьич, не вру! – усмехнулся цыган. – Дозвольте облаву сделать! Далеко он по тайге уйти не сможет! Дайте мне людей – и поймаю вам его! Прямо вот из партии, кого помоложе да покрепче, десятка два! Ну, и для верности Катьку мою! Цыганка – баба лесная, у неё чуй, как у лисицы! Враз того Кремня вынюхает, ежели по следу пустить!
– Угу… а ружжо тебе в придачу не выдать? – хмыкнул Аносов.
– Без надобности, – в тон офицеру заметил Яшка. – Я по живым людям палить не обучен… Да и нужды не будет. Да вы не бойтесь, Фёдор Ипатьич, не убегём!
Через час облава была готова. Три отряда разошлись веером. В одном были солдаты, которые пошли прочёсывать чащу цепью. В другом – спешившиеся казаки. Обозлённые арестанты рвались искать беглеца все до единого, но Кержак с Яшкой взяли только молодых и здоровых. Два десятка каторжан торжественно забожились, что вечером вернутся к месту привала, деловито посбрасывали с ног приплюснутые оковы и резво углубились в тайгу. Следом, звеня цепями, побежала Катька.
Над вековым лесом висело хмурое октябрьское небо. Блёклое солнце стояло ещё высоко. Братья Силины шагали рядом с Яшкой.
– Слушай, цыган, да с чего ты взял, что Кремня сыщешь? – с сомнением спросил Антип. – Лес-то – не лукошко, наугад иголочку не вынешь… Может, он, покуда мы считались да собирались, уже с десяток вёрст отмахал…
– Кто – Кремень? – коротко хохотнул Яшка: блеснули белые зубы. – И господь с вами, земели… Кремень – он же московский! Отколь ему тайгу знать? Тут ведь умеючи надо! И знающий человек, не ровён час, сгинет, а уж городская птица… Опять же – путь верный держать надо. По солнышку, аль по мху на деревьях…
– Ну, ты нас-то хоть не учи, – проворчал Антип, напряжённо вглядываясь в сплетение суковатых ветвей. – Мы-то тож по лесам блукать обучены. Я вот другого уразуметь не могу – как в городах-то ваших люди не теряются! Однова вёз с тятей пшеницу к дядьке в Гданьск… – Он умолк, заметив, что цыган его не слушает. Словно неведомая сила увлекла Яшку в сторону – к прогалу. Потом отчего-то его понесло влево. Катька повторила этот зигзаг, словно привязанная на тонкой, невидимой бечёвке. Глаза её неотрывно следили за мужем. Она шла следом шаг в шаг – не замечая ни острых сучьев валежника под босыми ногами, ни скользкой палой хвои… Антип коротко взглянул на эту пару и хмыкнул. Придержал брата за плечо:
– Погодь…
Ефим остановился. Проводил глазами Яшку, который без единого слова свернул в кусты. Изумлённо посмотрел, как исчезает вслед за ним Катька.
– Антипка… они чего? Тож, что ль, в бега ударились? Глянь – как сговорились… Может, покуда не поздно, придержать их?!
– Выдумал тоже… – махнул рукой Антип, пряча улыбку в серых спокойных глазах. – Сами вернутся к вечеру, куда денутся. Я смекаю, Яшка для того Катьку и выпросил, чтоб полюбиться хоть малость. Их ведь друг до друга с самой Москвы не допущают! Два года почти – шутка ль?
Ефим невольно вздохнул, покосившись на заросли, в которых пропали Яшка с женой. И молча зашагал вслед за братом.
… – Ой… Яшка… ой, мэ мэра́в, дэвлалэ́… Акана́ мэ мэра́в, совлаха́ва![2] Ой, что ж ты делаешь, чёрт, постой… О-о-о, дэвлалэ-э-э… Ми́ленько, ми́ленько миро́-о-о[3]…
– Катька… Катька… Два года без тебя, дура… Два года! Как не помер, не знаю… Дэвла, как пахнет от тебя… Как раньше… мёдом гречишным… Не судьба мне без тебя остаться… Бог про то знает… он и вот сейчас… Тихо!!!
Последнее слово муж сказал вдруг таким голосом, что Катька враз умолкла. И застыла, вжавшись спиной в колкую холодную почву. Радостный шёпот замёрз в горле, от страха похолодели пальцы. Но она много лет была замужем за конокрадом и сейчас по одному короткому его слову затихла, замерла, готовая лежать так хоть до завтрашнего утра. Она боялась даже охнуть от боли, хотя муж прижимал её к земле всей тяжестью и, казалось, вот-вот расплющит, как лягушку. Прошло несколько минут, прежде чем она решилась спросить чуть слышным шёпотом:
– Что, Яша?
Он нахмурился: молчи! И показал взглядом влево, в густой кустарник на краю болотца. Катька скосила глаза – и обмерла. Там, возле огромного, с повисшими корнями выворотня, шевелилось и ворчало что-то мохнатое, тёмное.
– Рыч?[4] – одними губами спросила Катька. Муж кивнул, и оба застыли. Шевельнуться и, не дай бог, звякнуть цепями в эту минуту означало верную погибель. Можно было только слиться с этой мокрой палой хвоей, с ветвями, с корнями, с птичьим писком. И ждать.
Цыгане лежали так долго. Солнце медленно двигалось над их головами, путаясь в ветвях вековых сосен. Паук над самыми глазами Катьки успел сплести целую паутину и засел в розетке жёлтых листьев, ожидая первой жертвы. Прямо над затылком Яшки дятел долбил сухой сук. Труха сыпалась на чёрные курчавые волосы цыгана: он не стряхивал её. Неслышно, сизой лентой, протекла мимо гадюка. А медведь всё не уходил: до Катьки доносилась его возня и ворчание. Казалось, прошла целая вечность, пока огромный зверь не кончил терзать трухлявое бревно и не пошёл, переваливаясь, к болоту.
Яшка на всякий случай подождал ещё немного. Потом осторожно приподнял голову. Долго вслушивался в тишину вокруг. Затем облегчённо перевёл дух. И наконец-то решился освободить жену.
– Жива, ла́чинька?[5]
– Фу-у-у… В блин раздавил меня, леший… – простонала Катька, растирая ладонью плечи и грудь. – В меня ещё и железка твоя воткнулась! Ну что же это за…
Договорить она не успела: со стороны болота донёсся отчаянный хриплый вопль. Сразу же вслед за ним раздался грозный рёв зверя.
– Ох ты ж… – бормотнул Яшка. И – пружиной взвился на ноги, выхватил нож.
– Яша! Ой! Яшка! С ума сошёл, куда?! – вскинулась Катька. – Стой, зачем?!
Но какое там! Муж уже летел, ругаясь на весь лес, туда, где снова и снова раздавался полный ужаса крик. Катька вскочила и понеслась следом.
Они почти одновременно выбежали к болотцу – и застыли. В нескольких шагах от берега, на мшистой кочке, держась рукой за чахлый ствол, стоял Ванька Кремень. Он был без шапки, мокрый, щека – в крови. Серый армяк полосами свисал с плеча. Кремень дико озирался вокруг, явно прикидывая, куда бы ещё прыгнуть, но со всех сторон его окружала ржавая вода. А прямо через болотце, переваливаясь на мохнатых лапах, к нему шёл медведь. Когда расстояние между ними сократилось до трёх аршин, Кремень снова отчаянно завопил и дёрнулся было в сторону – но нога его сразу ушла по колено в воду.
– Стой, дурак, где стоишь! – заорал Яшка. Набрал побольше воздуху… и вдруг закричал-запел на всё болото так истошно, что с дальней кочки испуганно взметнулась стайка уток. – Ай, да мои ко-о-о-они!.. Да пасу-у-утся в чистом по-о-о-о-оле-е!!!
Оглушительная песня скачками понеслась по воде. Медведь замер. Медленно, всем телом повернулся на новый звук. Некоторое время, казалось, раздумывал. Затем не спеша пошёл назад. Прямо к Яшке.
У Катьки остановилось дыхание. Стоя на краю полянки, в зарослях болотного багульника, она беспомощно смотрела на то, как медведь двигается к её мужу. Вот зверь подошёл так близко, что до Катьки донёсся отвратительный запах из его пасти. Поднялся на задние лапы, грозно заворчал. Яшка мельком взглянул на жену – и ухмыльнулся вдруг широко и отчаянно, блеснув крупными зубами. Переложил нож из левой руки в правую, чуть пригнулся и оскалился точь-в-точь как медведь. И сделал первый шаг. Медведь взревел… И тут Катька пришла в себя.
– А-ай-й-й-я-я-я-яй-и-и-и-и!!! – взлетел над болотцем пронзительный «ведьмин» визг, сопровождаемый грохотом кандалов. Это оказалось так оглушительно, что зажмурился даже Кремень на своей кочке. Медведь недоумённо повернул голову – и в тот же миг Яшка бросился вперёд. Взметнулась рука с ножом, яростно заревел медведь, ударила мохнатая когтистая лапа, снова и снова взлетел нож. Катька верещала в полный голос, вцепившись руками в растрепавшиеся косы и прыгая на месте: брызги веером летели из-под ног. Птицы с криком улетали прочь, какой-то маленький зверёк, пища, улепётывал по кочкам… И вдруг стало тихо.
Вся дрожа, суетливо вытирая с лица слёзы, Катька смотрела на то, как из-под рухнувшей наземь лохматой туши, кряхтя, выбирается муж.
– Тьфу… Фу-у-у… Вот это, я тебе скажу, ей-бо…
Договорить он не успел: жена бросилась к нему, обняла, жадно ощупала, осмотрела всего с головы до ног:
– Ой, дурно-ой… Совсем дурной, головы и в помине нет… И не было отродясь… Мало мне твоих коней… Что вздумал?! А как загрыз бы он тебя?! Что бы со мной, с детьми бы нашими стало, а?! Что бы я в таборе матери твоей сказала? А?! Да будешь ты хоть когда своей башкой пустой думать?! Это кровь, откуда? Где?!
– Да ничего… Его это кровь, – тяжело дыша, отвечал Яшка. У него дрожали руки, но, взглянув на перепуганную жену, цыган снова улыбнулся. – Дура ты, Катька… Вот кабы он Кремня сожрал, то кого бы мы с тобой Ипатьичу привели? А? То-то… Эй! Куда?! Стой, сдурел, куда?! Стоять, дурак, сгинешь!!! – Он вскочил и кинулся к болотцу. Но Кремень уже нёсся по кочкам, как заяц, поднимая столбы брызг, поскальзываясь, проваливаясь, снова вскакивая, с трудом выдираясь из липкой грязи…
– Не ходи-и-и! – завопила Катька, хватая мужа за рубаху. – Чёрт с ним, пусть уходит! Утонешь! Ой…
Шлёпанье по воде и чавканье грязи вдруг стихло. Схватив мужа за плечо, Катька круглыми от ужаса глазами смотрела на то, как беглец по пояс ушёл в трясину. Ванька заорал, рванулся, судорожно зашарил руками по стеблям болотной осоки, ища опоры и – не находя её. Ещё один крик, дикий, полный смертного страха, разлетелся по болоту.
– Яша… – задохнулась Катька. – Может, достанем?..
– Поздно, – хрипло ответил тот. И, зажмурившись, медленно перекрестился, когда голова Кремня скрылась под водой и оборвался последний крик.
Силины долго пробирались через лес, спотыкаясь о коряги, перелезая через поваленные, заросшие мхом и лепёшками лишайников стволы и прислушиваясь к каждому шороху и хрусту. За любым кустом мог оказаться не только беглый арестант, но и голодный зверь. Ефим уже с тревогой посматривал по сторонам.
– Антипка, может, ерунду мы делаем? – наконец вполголоса спросил он. – Ну как человека в этакой чащобе сыщешь? Вот мы идём, башками по сторонам крутим – а он, может статься, прямо над нами на ёлке сидит!
– На какой ёлке? – не оборачиваясь, отозвался Антип. Его внимание привлекла содранная с могучей сосны кора, и он сосредоточенно изучал её красноватый корявый ствол. – Ты глянь на эти ёлки! Голая стволина чуть не на версту в небо тянется! Это ты на неё, может, влезешь, да я. Ну, цыган наш заберётся, коль ему за это рубль посулить. А Кремень – нипочём, хоть до крови надсадится! Прав Яшка, городскому человеку в этаком лесу только запропасть. Недалёко он ушёл, найдём… А ну, чш-ш!
Последнее Антип произнёс упавшим до чуть слышного шёпота голосом. Ефим замер. С минуту они оба стояли неподвижно, вслушиваясь в лесную тишину. Вскоре Ефиму послышался чуть слышный хруст. Затем – ещё, ещё… Он скосил глаза на брата, взглядом показал вправо – оттуда тянуло сырым овражным холодом. Антип согласно кивнул. Бесшумно повернулся и двинулся в сторону оврага. Ефим, стараясь не задевать низко нависших ветвей, тронулся за ним.
Из оврага пахло прелой сыростью, грибами; он казался безлюдным – и всё же там кто-то был. Ефим видел это по примятой траве у края склона, по нескольким сломанным ветвям на кусте можжевельника, по тому, как молчали птицы. Антип одним движением бровей показал: спускаемся. И первым шагнул вниз.
Всё произошло так стремительно, что братья не сумели даже понять, что случилось. Из-за поваленного ствола выметнулось что-то чёрное, бесформенное, сбило с ног Антипа и вместе с ним покатилось вниз по склону оврага. Ефим кинулся следом, громко ругаясь. Ему почудилось, что на брата напал какой-то диковинный зверь и брань напугает его. Но, ещё не достигнув места побоища, он понял: это человек. «Нешто Кремень наш?!» Ефим прыгнул ему на плечи – и по мощному удару, отбросившему его на замшелые камни, сразу понял: Кремню до этого лесного чудища далеко.
Это был огромный, кряжистый мужик. Дрался он молча и яростно – лишь тихо ухал при ударе. Ефим поспел вовремя: неизвестный уже навалился всей тяжестью на брата и уверенно душил его. Антип ещё кряхтел, стараясь сбросить с себя давящую ношу, но убийца был неподвижен и тяжек, как северный валун. Ефим, налетев сзади, нанёс ему сокрушительный удар кулаком. Неизвестный покачнулся – и этого мгновения Антипу хватило, чтобы сбросить с себя разбойника.
– Ефимка, держи! Держ-ж-жи варнака этого… Фу-у… Чуть не до смерти… проклятый… уходил… Да дай ты ему ещё раз! Посильнее! Вишь – не уймётся никак!
Тот и впрямь не унимался: рвался, выкручивался, выдирался изо всех сил. Братья вдвоём едва удерживали его. В конце концов Антип, потеряв терпение, ударил пленника по лбу так, что тот обмяк. Ефим, облегчённо вздохнув, ослабил ручную цепь, накинутую на горло противника. Глядя на огромную тушу, лежавшую на прелых листьях, с уважением сказал:
– Вот отродясь не видал, чтоб кто-то сильнее нас с тобою был!
– И я не видал, – согласился Антип, наклоняясь и с усилием переворачивая тело. – У, тяжеленный, бугаище… Кого ж это мы с тобой поймали? Сущий оборотень!
– Какой оборотень… – хмыкнул Ефим, разглядывая изодранную, грязную одежду пойманного. – Варнак беглый! Ты взглянь ему на ноги – небось от кандалов метки есть?
– И что ж с ним делать? – озадачился Антип, садясь на мох и разглядывая физиономию беглого каторжанина, испорченную старыми шрамами и свежими царапинами. Тот в ответ молча палил из-под бровей упорным взглядом. Глаза пленника были ледяные, голубые, жуткие.
– Отпущать его аль с собой волочить? Кремня-то мы с тобой так и не добыли…
Издалека донёсся слабый крик: кто-то из партии окликал их. Ефим, вскочив на ноги, отозвался. Затем взглянул на солнце. Оно падало к вечеру.
– Возвращаться надо, – решил Антип. – А этого с собой заберём. Кремня не нашли, так хоть этого лешака Ипатьичу доставим. Авось сгодится для чего-нибудь. А коль нет – пущай обратно в лес бежит.
– И то дело, – согласился Ефим. Пленный угрожающе заворчал, но Антип уже вязал его, поглядывая на темнеющие верхушки деревьев.
… – Вы мне кого приволокли, висельники?! – орал Ипатьич, бегая по дороге вдоль неровного строя арестантов и воздымая к вечернему небу кулаки. – Я вас спрашиваю, где вы только этакого страшилища выловили?! И что мне с ним делать-то? Да что вы за народ за такой?! Их, как людей, за одним пошлёшь – как есть другого притащат! Одного разбойника вдесятером отыскать не сумели!
– Ваше благородие, как есть невозможно это обделать было, – аккуратно вклинился между двумя офицерскими воплями Кержак. – Потому вот цыган сказывает, что Кремень в болоте у него на глазах утоп. Доставать его оттуда никак невместно, уж вы моему слову поверьте. Здешняя трясина такова, что не только человека – лошадь с телегой в один миг употребит!
– У нас с Катькой на глазах и сгинул парень, – подтвердил Яшка. Жена в подтверждение тяжело вздохнула и перекрестилась. – Только булькнуть два раза и успел, сердешный… Я было кинулся за ним, да какое! Шагу сделать не успел…
– Ваше благородие, а этот вам не сгодится ли? – осторожно спросил Кержак. – Всё едино наш брат беглый, а что рожа другая – так кому какая разница? По бумагам очень даже спустить можно…
– Где же спустишь, коли приметы вовсе не те?! Да и не согласится он… – Ипатьич сердитым, скорым шагом подошёл к связанному пленнику, который так и стоял на дороге между братьями Силиными. Офицер вгляделся в лицо пойманного, удивлённо крякнул, помолчал. Затем попросил:
– Семёнов, посвети-ка!
Казак поднёс фонарь. Жёлтые неровные блики запрыгали по физиономии пленника – и Ипатьич усмехнулся:
– Берёза… Никак ты?
– Добрый вечер, ваше благородие, – прогудел в ответ пойманный. Ефим, стоящий рядом, невольно вздрогнул: почему-то ему казалось, что беглый варнак окажется глухонемым. Ещё более неожиданной оказалась улыбка Берёзы, мутно блеснувшая в свете фонаря и больше напоминавшая оскал зверя.
– Как есть, атаман Берёза. Здравствуйте.
– Я тебя, кажись, два года назад вёл?
– Три, Фёдор Ипатьич.
– Тьфу, память – решето… Так ты что же – с Зерентуя идёшь? – В голосе старого офицера просквозило невольное уважение.
Берёза в ответ улыбнулся почти самодовольно. Затем озабоченно спросил:
– А с чего же эти медведища меня взяли? На кой я вам сдался? Никого не обидел, никого ни на поселении, ни в деревнях не тронул… Как ангел, летел себе через таёжку-матерю… Пошто ловили-то?
– Ловили-то, балбес, не тебя, – с досадой поведал Ипатьич и, словно разом забыв о своих подопечных, принялся расхаживать взад и вперёд вдоль обочины. Сзади его сопровождал почтительный Семёнов с фонарём. На обветренном, морщинистом лице унтер-офицера читалась мучительная работа мысли. И Берёза, и каторжане напряжённо следили за этим процессом. Наконец Аносов медленно, словно продолжая раздумывать над каждым словом, спросил:
– Ты, Берёза, ведь за убийство попал на бессрочную-то?
– За четыре, Фёдор Ипатьич, – с достоинством поправил тот. – Сами знаете.
– Угу… Память, говорю, вовсе худа стала… Ну, так слушай. Коль так вышло, может, останешься? Оно и тебе выгодней будет.
Светлые голубые глаза Берёзы не выразили ничего. И голос его был таким же безразличным, когда он негромко спросил:
– В чём же мой барыш, ваше благородие?
– Не разумеешь? Барыш, да ещё с магарычом! – Ипатьич остановился прямо напротив огромного атамана. Чтобы посмотреть тому в лицо, офицеру пришлось задрать голову. – Гляди сам. Ежели тебя изловят да на место возвратят – сам знаешь, сколько плетей полагается. Да к стене заодно прикуют.
– Знаем мы цепи-то эти, сиживали, – хмыкнул Берёза.
– Это смотря к какому начальству попадёшь, – заметил Ипатьич, и беглый каторжанин, подумав, согласно кивнул. – Оно, конечно, тебя и не словить могут… Но ведь рано или поздно ты всё равно туточки окажешься!
– Такая доля наша, – опять согласился Берёза.
– Ну вот… А ежели ты сейчас с нами пойдёшь да на всех этапах будешь Иваном Трофимовым прозываться – тебе прямой навар! Потому что тот Трофимов шёл всего на пять годков. Стало быть, и пригляд за тобой другой будет, и жизня поспокойней, и… И сам разумеешь. Как кукушка проснётся – не в пример легче тебе будет утечь.
– Нешто я по приметам с вашим Трофимовым схож? – ухмыльнулся Берёза, поводя широченными плечами.
Улыбнулся и офицер.
– Кудыть… Ты, колокольня, в своём роду единый! Так ведь по приметам проверять уже на месте станут! Назовёшься непомнящим. Кому там знать, на каком этапе ты в партию протырился? Покуда бумаги ходить туда-сюда станут, покуда тебя выяснят да уточнят – ты зиму в тепле на казённом харче пересидишь да смыться по весне успеешь. А иркутский острог – это тебе не Зерентуй и не Кара, сам знаешь. К тому ж очень даже просто можешь вместо рудников на заводы попасть. А там всяко легче. Годится тебе этак?
– Сорок рублей серебром, – поразмыслив, мирно сказал Берёза.
– Это как артель, – в тон ему отозвался офицер. – Эй, Кержак! Староста! Поди…
Через минуту коротких переговоров с артелью Кержак заверил, что сорок рублей «ненакладно станет».
– Ну, вот и столковались. – полной грудью вздохнул Ипатьич. – Тьфу, нечистая сила… С вами не то что поседеешь до срока – облысеешь к чёртовой матери! Семёнов, Паранин – гоните всех спать! А которые ловили – тем ужинать двойную порцию принести! И Трофимову Ивану тоже! И ложитесь, черти, всё едино на этап уж опоздали! Ночуй из-за вас как попало, в сырости!
– Ништо, ваша милость, до света подымемся и пошагаем. Как есть к солнышку на месте будем! Даже не беспокойтесь! – уверенно сказал Кержак, и все знали, что так всё и будет.
На ночлег расположились прямо вдоль дороги, наспех нарезав в лесу лапника. Пойманный Берёза лёг у ближайшего костра, вытянулся и, казалось, сразу же заснул. Братья Силины, сидящие поодаль, переглянулись.
– Спать в череду придётся, – шёпотом сказал Ефим брату. – Глядишь, ночью зарежет ещё… Мы ж его повязали-то!
Сказано это было чуть слышно, но Берёза сразу повернул голову. В светлых глазах его мелькнула усмешка.
– Не боись, парень. Ты, верно, первый раз по этапу-то?..
– Как есть первый, – переглянувшись с братом, осторожно подтвердил Ефим.
– Ну, так смекай, что я слово дал офицеру вашему. А коли дал – так без безобразиев до Иркутска с вами пойду. И потом, у меня на вас сердца нет. Тот дурак ваш, кто сбежал да артель подвёл. Я бы его сам колом по башке образумил… Спите давайте! Завтрашний переход – вёрст тридцать…
Берёза умолк и на этот раз, казалось, действительно уснул. Братья некоторое время сидели молча. Было тихо, лишь изредка из глубины леса доносился тоскливый волчий вой. Догорали, затягивались седым пеплом костры.
Взошла луна. Рядом с Ефимом, прижавшись щекой к его руке, тихо спала Устинья, и парень не пытался высвободиться. Сон не шёл. По дыханию брата рядом он чувствовал: Антип тоже не спит.
– Чего сопишь там? – наконец спросил Ефим.
Рядом – короткое молчание. Затем Антип вполголоса сказал:
– Я тебе, знамо дело, не указ… Но не теребил бы ты Устю Даниловну-то попусту. С барином этим нашим. Думай сам: скоро уж на место придём. Нас – в рудники аль на заводы, как выйдет, а барина – на поселение… Поди, и не увидимся мы с ним боле никогда.
– Дай бог, дожить бы, – зло процедил Ефим. Но Устинья радом зашевелилась, простонала что-то сквозь сон, и он поспешно накрыл её рукой. И долго ещё лежал без сна, глядя в чёрное небо, где синела, мигая, одинокая звезда.
* * *
В имении графов Браницких праздновали именины хозяйки. Стояло начало октября, все окрестные поля давно были сжаты. На скошенных лугах высились огромные копны сена, по утрам уже покрывавшиеся серебристым налётом изморози. Вокруг имения бронзовели осенней листвой дубовые рощи. Нарядным багрянцем щеголяли осиновые перелески. Дни стояли ясные, сухие. Затуманенное солнце по временам проглядывало из-за кучек седых облаков, и музыка из имения далеко разносилась по пустым полям.
Браницкие всегда жили на широкую ногу: на именины графини Марии Ксаверьевны съехалась чуть ли не вся губерния. С самого утра возле ворот уже теснились экипажи – от модной кареты предводителя дворянства до развалистых дормезов и тарантасов соседей победнее. Ожидался и спектакль домашнего театра, и балет, и живые картины, в которых участвовали все окрестные барышни, а вечером – непременный бал. Знаменитые балы Браницких, о которых не стыдно было рассказать и во время зимнего сезона в петербургских гостиных, гремели на весь уезд. Крепостной оркестр под руководством дирижёра Михея Сидоровича, говорившего на трёх европейских языках и учившегося в Италии у самого маэстро Санти, знал все модные новинки. Музыканты играли и вальсы, и полонезы, и мазурки с котильонами – причём половина из них была сочинена самим Михеем Сидоровичем или его сыном Васькой, первой скрипкой оркестра.
В огромной бальной зале сиял наборный паркет, в котором лукаво бликовали огни свечей. С хоров раздавались звуки настраиваемых скрипок. Однако осенний вечер выдался неожиданно тёплым, и гости не спешили уходить с обширной веранды. В углу её притулился большой ломберный стол, который почему-то позабыли унести, и вокруг этого стола собралось небольшое мужское общество. Здесь было человек шесть местных помещиков, отнюдь не блиставших в своём быту утончённой роскошью. Это их тарантасы-развалюхи выглядели растрёпанными коробками на фоне изящных карет. Впрочем, уездных господ сей контраст нимало не смущал. Здесь считалось, что звание столбовых дворян компенсирует невеликие доходы. Было выпито уже немало и бургонского, и шампани, и знаменитой хозяйской наливки. Голоса гостей стали громкими, смех – слишком раскатистым, а жесты – излишне широкими. Лакею, которому был поручен ломберный стол, уже не раз приходилось ловко подхватывать на лету сброшенную неловким движением бутылку или пустой бокал.
– Как хотите, господа, а утомительно всё это! – брюзгливым голосом говорил Трентицкий – высокий сухой старик в коричневой паре, от которой попахивало мышами. Его поросшая седыми волосами бородавка на подбородке гневно подрагивала. – Пошли, конечно, господь здоровья и благоденствия графу и Марии Ксаверьевне, благодетели они наши, но… Взять хоть эти живые картины! У меня, сами знаете, пять дочерей, и все на выданье! Стало быть, все участвуют, одна – Психея у ручья, другая – Терпсихора, третья – какая-то Рогнеда в крепости… Прочих и позабыл! И что же? Вынь и на стол положи им костюмы, да не по одному, а по три, и на все материи по восемь аршин, а для чего? Для того лишь, чтобы минуту постоять в них в виду общества! Я не спорю, эта выдумка графини забавна, но… Доходы, господа, сами знаете какие! Я своей Катерине Николаевне так прямо поперву и сказал: какие, мать моя, могут быть костюмы и картины, когда рожь ещё с рук не сбыта и за холсты ни копейки из уезда не получено?
– Однако смелый вы человек, Павел Ардальоныч! – ехидно заметил толстенький курчавый Мефодий Агарин, одетый в потёртую венгерку Черноярского гусарского полка. – Так-таки прямо в глаза супруге и брякнули?! Одна-а-ако… Ведь Катерина Николаевна, когда гневаться изволят, сущая Немезида!
– Не смелость это, а дурь, государь мой! – всё так же брюзгливо возразил Трентицкий. – Уж, казалось бы, заранее знаешь, что дело гиблое… Ан нет, всё надеешься на божью помощь! Брякнул, разумеется… Бросил уголь в солому! Ну и, разумеется, сразу же… Девчонки в обмороках лежат по своим комнатам, горничные с солями носятся, Катерина Николаевна рыдать взялась… И сразу же: «Вы пустой человек, вы не отец своим детям, вы Петеньке в полк денег не шлёте, мальчику перед товарищами стыдно…» А к чему было отправляться служить в уланы?! Накладно это по нынешним-то временам! Да вот хоть Алексея Кондратьича спросить… Ведь недёшево вам сын обходится в гусарах-то?
Алексей Кондратьич тяжко вздохнул и отсалютовал обществу из плетёного кресла бокалом бургонского:
– Ваше здоровье, господа… Не поверите, хоть и грешно, но иной раз и Богу спасибо скажешь, что у нас с Аглаей Ивановной из четырнадцати только двое выжило. Отправил Мишку в полк, так сейчас же письмо за письмом – то подписка, то поздравлять командира, то вечер какой-то в пользу бедных, то бал, то перчатки немодные, то скачки, то проигрался в вист… Грачёвку пришлось продать, а ведь доходная деревенька была! Сходнино в закладе, и бог ведает, удастся ли выкупить…
– Выкупите, Алексей Кондратьич, – утешил Агарин. – У вас в этом году такие льны уродились, такие овсы…
– Ох, боюсь, тут овсами не поправишь… – отмахнулся Алексей Кондратьевич. – Одно лишь спасибо – что Мишка не в лейб-гвардию определился!
Соседи грохнули смехом. Подбежавший лакей умело наполнил бокалы.
– Я вас, господа, понимаю как никто, да-с! У меня у самого сын служит! – важно и весело заговорил между тем толстенький Агарин, поглядывая прищуренным глазом в багряную глубину бокала. – Сами видите, молодец – хоть сейчас же во дворец! В отпуск от полка прибыл, пытается мне по хозяйству помогать, да что-то толку мало. Больше за девками бегает по сеновалам, ну так что ж – дело молодое… Николаша, что ж ты в дом не идёшь, там бал начинается! Поди, барышни заждались! Нехорошо, милый, ты ведь во всех книжках числишься!
Николай Агарин только чуть усмехнулся краем тонких губ. По его скучающей смазливой физиономии было видно, что ничьи бальные книжки молодого человека не интересуют. Он сидел на ступеньках веранды и, поглядывая на рдеющий за парком закат, тянул из бокала вино. Отец с гордостью поглядывал на него.
В это время на широкой аллее парка появился очередной гость. Он шёл, сильно прихрамывая, и, судя по неспешной походке, тоже не слишком торопился на бал. В розовом вечернем свете было видно, что человек этот ещё молод. Судя по потёртой армейской форме, он тоже прибыл на этот бал в разбитом тарантасе. Не замечая, что его разглядывают с веранды, он остановился у края пруда, заросшего кувшинками, и начал наблюдать за игрой закатных бликов на стоялой воде. Молодой Агарин, поставив свой полупустой бокал на ступеньку, с интересом разглядывал эту одинокую фигуру.
– Кто это, papá? – наконец спросил он. – Вон там, у воды?
Агарин, который как раз забавлял своих друзей каким-то гусарским анекдотом времён Николая Павловича, повернулся на голос сына и, близоруко сощурившись, присмотрелся.
– Ба-а… Никак сам Никита Владимирович Закатов прибыли! Нечего сказать, большая честь для графа с графиней! Сам затворник болотеевский почтил, так сказать, визитом! И на чём этакую честь записать?
В голосе его сквозила неприкрытая насмешка. Сын изумлённо поднял брови, повернулся – и увидел, что другие гости тоже улыбаются иронически и не слишком добро.
– В самом деле, господа, – первый раз вижу его у кого-то в гостях! – усмехнулся Трентицкий, подходя к ступенькам. – Третий год хозяйничает у себя в имении – и хоть бы визиты нанёс старым друзьям отца! Нет-с, на такое современное воспитание не распространяется!
– Позвольте, да я сам к нему приезжал! Я его ближайший сосед, всего-то четыре версты! – живо заметил Истратин – ещё молодой человек лет тридцати пяти. – Подумал – разница в годах невелика, могли бы дружиться, а то по вечерам, да ещё зимой, скучно же, ей-богу! Принял он меня, конечно, вежливо, надо отдать ему должное, и супругу представил, и обедать предложил… Но, господа, я сразу заметил, что прибыл некстати! Вообразите, сидим с ним в гостиной, я ему рассказываю уездные новости, а к нему то и дело без доклада входят какие-то дурно пахнущие мужики, бабы, его Авдеич… кланяются, лезут со своими разговорами о коровах, племенном жеребце, о том, что леса на хаты недостаёт… А он, вместо того чтобы выставить этих наглецов вон, просит меня обождать – и идёт с ними разбираться! Чёрт возьми, о каком тут воспитании речь, если столбовой дворянин, давний знакомец его батюшки, достоин меньшего внимания, чем дворовая баба на сносях! Честное слово, господа, я плюнул и уехал не прощаясь! Так он этого, по-моему, и не заметил даже! С какими-то цыганами на скотном дворе ругался! Ещё и на их языке!
Присутствующие невольно рассмеялись. Молодой Агарин привстал и с усиленным интересом вгляделся в неподвижную фигуру Закатова.
– А по-моему, он просто опасен, – медленно выговорил Трентицкий. – Обычное дело, контузия на войне… Вы видели его лицо? Изуродован ужасно! А контузия с людьми делает страшные вещи, господа! Иной, кажется, и нормальным выглядит, и разговоры вести может разумные, и ложку за обедом в ухо не несёт… А после такое вскрывается, что мороз по спине! Впрочем, эти Закатовы всегда слегка того были… Старый граф после смерти супруги тоже многие годы никого видеть не хотел. Однако закон знал и дворянскую честь высоко держал! Мужики у него в Болотееве по струнке ходили! Пять дней барщины вынь да положь, и попробуй только рот открой! Бунтов не было, да-с, боялись! Да и управляющая у них была… Ох! Женщина, а иному и мужчине было чему поучиться! Для барского дохода себя не жалела! Через это и мученическую смерть приняла, голубушка Амалия Казимировна…
– А что с ней сталось? – лениво полюбопытствовал Николай Агарин.
– Да, изволите видеть, мужики зарубили! Вот эти самые закатовские мужики, с которыми их нынешний барин носится как курица с яйцом! – ехидно усмехнулся Трентицкий. – Она, будь ей земля пухом, каждую копейку из мужичья выбивала, шесть дней барщины назначила, ни есть, ни спать им, мерзавцам, во время страды не давала, покуда всё не уберут! Всё до копейки – молодому барину этому слала… Святая женщина, мученица, что и говорить! Никита Владимирович в Москве жил и горя не знал! Только денежки получал! А эти свиньи возьми управляющую да и пореши! Сами, разумеется, на каторгу пошли, но ведь человека-то дельного не вернёшь… Закатов приехал и начал свои порядки наводить. Мы с Мефодием Аполлоновичем попервости пытались ему советы давать… Из искреннего уважения к его покойному батюшке, по-отечески! Так он всё мимо ушей пропускал! Ещё и возражал, якобинец этакий! Не-ет, господа, ничуть не удивлюсь, если у него имение скоро в опеку примут!
– Отчего же, князь? – удивился молодой Агарин.
– Помилуйте, Николай Мефодьевич, да как же?! Он же мужиков портит, развращает! И ладно бы хоть своих, да ведь и чужие на это глядят и выводы делают! Вы послушайте, какие разговоры ведутся, – да хотя бы у меня в Середневке! «Болотеевский барин два дня барщины обозначил! Полсела строится, лесу дал! Барских коров по хатам раздал, себе лишь трёх оставил! Тринадцать семей на оброк отпустил!» Ну и что это за цацканье с мужиком, позвольте вас спросить?! Разве ж этак можно? Разве этих мерзавцев из узды выпускать годится? Никита Владимирович этого по молодости лет не понимает, да ещё, вероятно, в Москве вредных идей понабрался! А может, боится, что мужики его зарежут, как управляющую, заигрывает с ними пока что из трусости-то. После-то локотки кусать будет, когда у него в именье прямой бунт начнётся, да уж ничего не поделать будет!
Другие помещики подтвердили эту страстную речь солидными кивками. Молодой Агарин, скривив в усмешке тонкие губы, иронически разглядывал их.
– Однако же, может быть, в этом есть искра здравого смысла? – заметил он. – Мужики ведь, господа, та же скотина, а скотину кормить нужно, ухаживать за ней, тогда она и работать лучше будет…
– Скотина, Николай Мефодьич, тем от мужика выгодно и отличается, что не бунтует, – со вздохом ответил Трентицкий. – А посему и обращения гораздо лучшего заслуживает. Вот папенька ваш это хорошо понимает, оттого у него и хозяйство чуть не лучшее в уезде… наших сегодняшних хозяев, разумеется, в расчёт не берём, здесь – иные измерения! За здоровье пани графини, господа!
– Позвольте, а как же супруга-то его всё это выносит? – выпив и поставив пустой бокал на стол, удивился Истратин. – Ведь он женился, кажется, пару лет назад?
– В самом деле, удивительно! – усмехнулся и молодой Агарин. – При его внешности жениться… Большую смелость надобно иметь или же большие деньги! Но там, судя по вашим рассказам, ни того и ни другого?
– И девица-то из хорошей семьи, порядочной… – задумчиво сказал его отец. – Господина майора Остужина вся округа знала, редкой был доброты человек! Правда, душа-человек выпить любил и в преферансик поигрывал изрядно, но…
– Никакой в нём доброты не было, и ума тоже, – поморщившись, возразил Трентицкий. – Знаю, знаю, Мефодий Аполлоныч, о покойниках или же хорошо, или же вовсе молчи, но… Поигрывал он и впрямь изрядно! Да так, что после его кончины дочке только и осталось, что деревенька нищая в десяток дворов да три человека дворни! Денег, разумеется, ни копейки, одни долги! Что же было несчастной девице делать? Более к ней никто не сватался, а на безрыбье и штабс-капитан Закатов выгодным женихом оказался. Вообще, господа, очень там всё нечисто, на мой взгляд! Свадьбу они и ту тайно сыграли! Никого из соседей даже на венчанье не пригласили, где-то в дальнем сельце окрутились! К чему, спрашивается, такой карамболь было устраивать?
– Полагаю, папенька, всё просто, – с циничной усмешкой пожал плечами молодой Агарин. – Честь девицы и всё такое. Господин Закатов, как порядочный человек, вероятно, просто обязан был…
Конец фразы молодого военного потонул в понимающих смешках. Однако развить свою мысль далее Николай не успел. Закатов, которому, очевидно, прискучило стоять у берега, вдруг резко повернулся, и, хромая, зашагал прямо к веранде.
– Никита Владимирович! Господин Закатов! – окликнул его Агарин. – Добрый вечер, и вы здесь? Не желаете ли к нам присоединиться?
– С удовольствием, господа, – не сразу ответил Закатов. – Я здесь, признаться, один-единственный гость, приехавший по делу. Право, очень стыдно, но я напрочь забыл, что у пани Браницкой нынче именины и мы с женой тоже званы. Проезжал мимо из уезда, вспомнил, что задолжал графу и как раз могу вернуть долг. Подкатываю – а всё забито экипажами! Разумеется, граф ни о каких делах и слушать не захотел, сразу же погнал меня смотреть спектакль, после – обедать…
Говорил Закатов медленно, словно тщательно выбирая каждое слово, и эта речь сильно разнилась с его молодым, загорелым, чуть скуластым лицом, испорченным давним шрамом. Говоря, он улыбался, но светлые серые глаза смотрели холодно.
– Ходят слухи, что вы, Никита Владимирович, у себя барщину отменили? – пригубливая из бокала цимлянское, спросил Агарин. Его кошачьи усы недоверчиво подрагивали. – Неужто так с женитьбой разбогатели, что решились?..
– Вздор, – коротко ответил Закатов. Про себя подумал: и ведь каждый раз одно и то же, и не надоест им… – Вовсе отменить барщину я не могу, поскольку наёмных работников не держу, а на земле кому-то надо работать. К тому же…
– Ну вот, я же и говорю! – не дослушав, с жаром перебил, обращаясь к прочим, Агарин. – Я всё это время вам, господа, говорил, что этакую глупость и спьяну не придумаешь – барщину отменять! И не таков Никита Владимирыч, чтоб себе в убыток дела ладить! Слава богу, хозяйство у него пусть небольшое, но доходное… Было, по крайней мере, при покойнице Амалии Казимировне. Однако два дня барщины – это, на мой взгляд, маловато всё же! Вот вы, Никита Владимирыч, человек молодой, и супруга у вас молодая, весьма достойная особа. И восхитительна крайне, надо сказать, – мне, старику, можно. Что ж вы её к нам не вывозите? Увольте, не поверю, чтобы дама не пожелала показать соседям своих новых нарядов!
– Анастасия Дмитриевна не привыкла к обществу, – сухо сказал Закатов. – Я надеюсь, господа Браницкие всё же извинят её и меня.
– Неужто тряпок жёнке не накупили, Никита Владимирыч? – довольно развязно поинтересовался Трентицкий. – Нельзя так, мой милый, нельзя… Этак с женщиной что-то вовсе скверное станется! Их же хлебом не корми, а дай перед соседками повертеться в каком-нибудь гроденапле или муаре! И она вам не спустит, что вы о своих мужиках думаете более, чем о ней!
Молодой Агарин тихо рассмеялся. Закатов, взглянув в его темные, масляно блестевшие глаза, вдруг почувствовал острый, как тошнота, приступ отвращения. В который раз подумал: незачем было сюда ехать.
– Вот и в карты вы не играете, я вижу, – не унимался Трентицкий. – Крупной игры я и сам, признаться, не одобряю, а по маленькой отчего не позабавиться? Люди повыше нас не брезговали! Думаю, и господа сочинители, коих вы весьма почитаете, резались в вистик понемножку! А, Никита Владимирович?
– Не вижу, признаться, в этом никакого удовольствия, – без улыбки сказал Закатов. – Да и денег у меня свободных нет.
– Ну, вот видите! – сочувственно сказал Агарин. – А вы мне тут изволите толковать о двух днях барщины! А послушали бы разумных людей да надбавили пару деньков – глядишь, и в вист перекинуться было б на что! Вот вы конный завод у себя затеяли, у цыган жеребцов купили… Хороших жеребцов, нечего сказать, да только это дело тоже капитала требует! А вы своим мужикам лесу без счёта на избы отпускаете, коров в хозяйство даёте… Верно ли, что вы в прошлом году, когда недород свалился, весь свой хлеб в деревню отдали, так что и продать было нечего?
– Ну, коли б я весь отдал, так перед вами бы сейчас не стоял. Помер бы зимой с голоду вместе с женой, – усмехнулся Закатов. – Пустое. Но и дать своим мужикам умереть тоже, согласитесь, было бы непрофитно. Покойница Веневицкая довела их до того…
– …что они её уходили топором, – сурово закончил Агарин. – Вот к чему недогляд и попустительство приводят! А вы им, мерзавцам, ещё и потакаете! В острог троих сдали – а можно было бы полсела! Это же сущий бунт! Мы, соседи, несколько месяцев тряслись, слушая новости из ваших владений! Ну да дело прошлое, что теперь поминать… Но только, милый мой, не повторяйте же прежних ошибок! Я ведь всё понимаю, молодость, светлая пора… Всё думаешь мир изменить! А он, проклятый, не меняется! – он доверительно придвинулся к тяжело молчавшему Закатову, подмигнул. – Я сам, признаться, когда женился на своей Авдотье Михайловне, ей в угоду отменил внушения на конюшне. Ну и что из этого путного вышло? Ей же девки в лицо хамить начали! Уж по первому зову не бегут, ленятся! Ты ей, мерзавке, слово, а она тебе в ответ – десять, и смотрит, поганка этакая, прямо в глаза, чуть ли не смеётся! Я всё терпел, не хотел в бабьи дела лезть… Но уж когда мужики в моём лесу для себя рубить начали… Да прямо средь бела дня, еретики, без стыда и совести, дров у них, видите ли, нет!.. Тут уж я послабления отменил да на стародедовский путь всё возвернул. Как перепороли всю эту порубную команду да вслед за ней полдевичьей – так порядок и воцарился! Сама Авдотья Михайловна мою правоту признала – а это за четверть века семейной жизни хорошо если раза два было! Мужик – он вор, свинья и хам, его в крепкой узде держать надобно!
– А этот ваш Гришка? Воробей или как его… Стриж? – вмешался Истратин. – Вы же, Мефодий Аполлоныч, сущую змею на своей груди вырастили! Теперь всему уезду мука!
– Ох, не травите душу, мой милый… – сокрушённо вздохнул Агарин. – И сам знаю, что надо было пресечь вовремя… не допустить… Но как и предположить было?! Служил парень тихо-мирно конюхом, характер имел, конечно, бешеный… Ну да у меня унять всегда умели. И вдруг, извольте видеть, просит разрешения жениться! И выбрал-то, стервец, самую красивую девку в усадьбе! Ну уж нет, говорю, не для тебя такова ягодка! Так что вы думаете?! В ту же ночь, мерзавец, сбежал! Да не просто так, а красного петуха мне подпустил! Весь флигель спалил, чуть самый дом не занялся! А с ним ещё четверо утекли, коих я в рекруты определил! И что теперь? Прячутся на болоте и разбойничают по уезду! Да и другие к ним бегут, уж сколько соседей жаловались! И урядник приезжал, расспрашивал! По дороге в Бельск теперь хоть вовсе не езди! Экая свинья неблагодарная оказалась!
– Поймают, Мефодий Аполлоныч, не переживайте, – успокоил Трентицкий.
Агарин только горестно отмахнулся.
– Ну, свиней и хамов и среди нашего брата помещика предостаточно, – совершенно невинным голосом заметил Закатов. – Между прочим, я только что, у ворот, видел вконец умученное существо! Стоит экипаж – а к нему сзади девка привязана! Грязная, пыльная, вся зарёвана, и ноги в кровь сбиты! Вёрст двадцать, не меньше, пробежала за дрожками! Отвязать её, покуда хозяева веселятся, разумеется, никто не удосужился… Господа! Ведь даже лошадей после долгой дороги вываживают, обтирают, дают отдых…
Закатов сообщал это всё спокойным полунасмешливым тоном, по которому непонятно было – шутит ли он или говорит всерьёз. На веранде воцарилась неловкая тишина. Кто-то нахмурился, кто-то неуверенно заулыбался. Трентицкий, покосившись на Агарина, ехидно поинтересовался:
– Николай Мефодьич, не в ваш ли огород камешек-то? Ваше это «существо умученное»?
– Васёнка-то? – с натянутой улыбкой переспросил Агарин. – Да-с, моя. Ну, тут уж, господа, я просто вынужден был… Девка упряма, дерзит, Николаше перечить осмеливается… Безусловно, надо было высечь – но Николаша ведь и не дал! Кожу, видите ли, портить не захотел, говорит – сущее сияние лунное! Пришлось хоть таким вот образом наказать. А как же иначе прикажете, государь мой? И то благодарна, дура, должна быть, что семь шкур не спустили!
– А ведь прав Николай Мефодьич-то! – ухмыльнулся Трентицкий. – Вы ведь, молодой человек, с ней уже неделю эдак по гостям катаетесь? Надо полагать, скоро совсем шёлковая станет! Вот как, Никита Владимирович, хамок-то вразумлять надо! Побегает ещё с недельку за дрожками – глядишь, и поумнеет! А вы с ними миндальничать думаете!
– Что ж, возможно, – сдержанно сказал Закатов. И вдруг, повернувшись к младшему Агарину, спросил: – А что, Николай Мефодьевич, не сыграть ли нам сейчас на эту вашу Васёну? Поставите её на кон?
Младший Агарин недоверчиво улыбнулся… И потерял улыбку, наткнувшись на холодные серые глаза Закатова.
– Позвольте, но… но ведь это запрещено, – запинаясь, выговорил он.
– Да пустое! Оформим после по бумагам, есть же способы…
– Пожалуй, всё же нет, Никита Владимирович. Не обессудьте. Всё-таки это папенькин подарок и…
– Оставь, оставь, Николаша! – немедленно вмешался старший Агарин, которому, в отличие от сына, неожиданная ситуация очень понравилась. – Бог с ней, с Васёнкой, проиграешь – не беда! А вот увидеть нашего болотеевского схимника за игрой – это действительно забавно! Вообрази, я за два года его ни разу с картами в руках не видал! Обет, что ли, у вас таков, Никита Владимирыч? Или, несмотря на молодые годы, уже успели наделать роковых ошибок?
– Почти что так, – коротко сказал Закатов. И, не позволяя Агарину развить далее эту тему, спросил: – Итак, Николай Мефодьевич, во что поставите Василису?
– Право, не знаю, – тот нахмурился. – Девка хороша, но очень зла и строптива, так что… Чёрт, да я и не знаю, сколько это может нынче стоить! Папа!
– Да поставь в тысячу по-соседски! – совсем развеселился Агарин. – Имейте в виду, Никита Владимирович, если бы вы её покупали, я бы с вас все пять содрал! В самом деле – хороша! Сейчас, конечно, грязна несколько, но ежели умыть…
– В тысячу, годится, – коротко сказал Закатов, усаживаясь за зелёный стол. Агарин-младший неловко опустился напротив, и сразу же казачок в красной рубахе подал запечатанную колоду. Стол плотно обступили любопытствующие, и игра началась.
Закатов выиграл Василису в первый же кон. Разгорячившийся Агарин пожелал отыграться, отец его поддержал, и через полчаса возле Никиты лежала ещё стопка смятых ассигнаций. Рядом уже никто не улыбался. Помещики поглядывали друг на друга с недоумением и даже некоторым испугом.
– Николаша, может быть, довольно? – наконец в замешательстве сказал старший Агарин. – Господину Закатову положительно везёт сегодня. Отыграешься позже!
– Не думаю, – ровным голосом заметил Закатов, складывая ассигнации. – В ближайшее время я не собираюсь возвращаться к висту. Меня сие занятие совсем не развлекает.
– Странно! – удивился Николай Агарин, которого стремительная игра и огромный проигрыш привели в крайнее возбуждение. – Вам так везёт, вы, можно сказать, магистр виста… кто бы мог предположить! И вы не играете?!
Закатов только неопределённо пожал плечами и встал.
– Мы не выпьем за ваш выигрыш? – неуверенно сказал кто-то.
Никита обвёл глазами изумлённых, недоверчиво смотрящих на него соседей. Пить ему совершенно не хотелось. «Вот ведь чёрт… У них теперь будет разговору на месяц, пожалуй!»
– Благодарю вас, господа. Охотно.
Чуть позже победитель и проигравший подошли к каретному сараю. Василиса спала под дрожками со скрученными за спиной руками. Агарину пришлось довольно ощутимо потыкать её сапогом, чтобы она заворчала сквозь зубы, как сердитый щенок, и приподняла лохматую голову. Молодой офицер принялся отвязывать верёвку, которой девушка была за шею привязана к поперечине дрожек. Василиса следила за ним с нарастающим ужасом.
– Васёнка, вот твой хозяин новый, болотеевский помещик, – сквозь зубы отрекомендовал молодой Агарин. – Ну вот, Никита Владимирыч… получите свой выигрыш.
– Благодарю, – коротко сказал Закатов. – Василиса, ступай вон к тому тарантасу и разбуди моего Кузьму. Объясни, что я тебя выиграл в карты, и ждите, скоро уж поедем.
– Не привяжете? – удивился Агарин. – Считаю долгом предупредить: девка с норовом, может и сбежать.
– На таких-то ногах? – жёстко усмехнулся Закатов, провожая взглядом ковыляющую холопку. – А впрочем, пусть бежит, если хочет, искать не стану. Я, знаете ли, не особо дорожу тем, что мне легко досталось. Однако, Николай Мефодьевич, благодарю вас за игру. Приятно было тряхнуть стариной.
– Вам ничуть не было приятно, – мрачно сказал Агарин, и Закатов первый раз за вечер внимательно посмотрел на него. – Вы и играть не собирались. Может быть, я и кажусь вам пустым человеком, но я вовсе не полный дурак.
– Вы не можете казаться мне пустым человеком, поскольку я вас совсем не знаю, – медленно сказал Закатов, шагая обратно к дому по сумеречной дубовой аллее.
Агарин невольно пошёл рядом, стараясь приладиться под хромоту своего нового знакомого. Увидев, что Николай не отстает, Закатов неожиданно спросил:
– Ваш папенька говорил, что вы воевали в эту кампанию?
– Под началом генерала Меншикова, – немного удивлённо подтвердил Агарин. – Дошёл с ним до Малахова кургана.
– Стало быть, мы с вами могли бы там даже видеться, – усмехнулся Закатов. – Мне именно там разворотило колено… И физиономию заодно. Кончали московский корпус?
– Петербургский.
Некоторое время молодые люди шли не разговаривая. Закатов смотрел поверх макушек дубов на бледный месяц, поднимающийся в небо. Агарин искоса поглядывал на своего спутника.
– Послушайте, Николай Мефодьевич, – вдруг негромко сказал Закатов. – И заранее извините, если мои вопросы покажутся вам слишком неуместными. Я и так, кажется, среди соседей уже кажусь опаснейшим чудаком…
– Это ведь из «Евгения Онегина»? – уточнил Агарин.
– Вы и «Евгения Онегина» прочли? – без улыбки удивился Закатов. – Я вижу, вы действительно образованный человек, и, думаю, храбрый офицер… Вы воевали. Неужели вам в самом деле безразлично то, как здесь относятся к людям?
– Я не понимаю вас! – искренне и изумлённо сказал Агарин.
Закатов остановился. Пристально посмотрел в молодое красивое лицо. Убедился: действительно не понимает. Но почему-то остановиться уже не мог:
– Послушайте, ведь эта ваша Василиса… Она же в некотором роде человек! Вы в Бога веруете? Кажется, в Евангелии сказано, что все мы равны перед Всевышним… Она очень красива, и я, как мужчина, готов вас понять… Но неужели вам приятно будет вступить в права хозяина… После того, как она полмесяца отбегает за вашими дрожками, как привязанная шавка? И уже даже на сторожа-пьяницу будет согласна? Право, не понимаю. Вам не будет… противно? – отрывисто выговорил Закатов.
Агарин смотрел на него во все глаза. Затем, запинаясь, выговорил:
– Вы, господин штабс-капитан, в самом деле… странный человек!
– Пожалуй, – помолчав, согласился Никита. Отвернувшись, сказал: – Если мои слова чем-то обидели вас, то прошу меня простить. Всякий живёт как может. Если вы не умеете совладать с девушкой иначе, как измучив её до полусмерти…
– Господин штабс-капитан!!! – возмутился наконец Агарин. – Вы позволяете себе недопустимые высказывания! Я…
– Ещё раз прошу прощения, – вяло отозвался Закатов.
Но Агарин уже не унимался:
– Вы действительно мало знаете меня! И не имеете права на подобные реприманды! Что вы назвали девушкой? Да что это за проповедь, в конце концов?
– Если вам требуется сатисфакция… – будничным тоном начал было Закатов, но Агарин прервал его резким взмахом руки:
– Не требуется! Я не дерусь с увечными и умалишёнными! Да и повода, право же, нет! Ещё не хватало стреляться из-за дворовой девки! Прав был отец, вы не в себе! Взрывная контузия – тяжёлое дело, господин штабс-капитан! – последние слова Агарин выговорил, уже скрываясь за поворотом аллеи.
Закатов усмехнулся. Постоял немного и продолжил свой путь к дому уже один.
На душе было отвратительно. Никита успел пожалеть и о своём карточном выигрыше, и о минувшем разговоре. Прихрамывая, он двигался по тропинке и спорил сам с собой по давней привычке одинокого человека.
«Глупость, и более ничего… К чему это было нужно? Ишь, сыскался проповедник… Если человек преспокойно может кататься по всем соседям с девкой на аркане – его никакими проповедями не возьмёшь. Мог бы и сообразить! Ещё и Бога зачем-то приплёл, в которого сам не веруешь… И ведь все они тут таковы! И покойный отец был такой же! И ты, ты сам давно ли прозрел?! Да в твоём собственном доме девки пряли с измочаленными спинами – сидя на цепи! А ты ничего не знал и знать не хотел! Торчал в Москве, получал доход с имения и в ус не дул! А теперь, скажите, пожалуйста, читаешь мораль мальчишке! А отношения с соседями теперь совсем испорчены! Ещё, чего доброго, Трентицкий и луга не захочет продавать, Настя расстроится… Тьфу, болван… Ещё Василису эту теперь надо же куда-то девать!» – не мог успокоиться Закатов.
Сойдя с тропинки, он притянул к себе отяжелевшую от росы ветвь садовой калины. Протёр разгорячённое лицо мокрыми листьями, не удержав, выпустил упругую ветку, и та, распрямившись, окатила его холодными каплями. Вполголоса выругавшись, Закатов выбрался из-под куста, вернулся на тропинку – и только сейчас обнаружил, что забрёл не туда. Дома не было видно за сплошной массой чёрных деревьев; о том, где он находится, можно было судить лишь по звукам бравурной музыки оркестра. В чистом небе уже в полную силу, опоясавшись голубым ореолом, сиял месяц; крупные звёзды влажно мигали около него. Оглядевшись, Закатов наконец заметил сквозь переплетение ветвей чуть заметный свет из окна – и сразу же понял, где находится. Это был флигель старого дома Браницких, в котором давно никто не жил. Закатов долго с изумлением смотрел на освещённое окно, пока не вспомнил, что у хозяев гостят какие-то дальние родственники, которые из-за траура не принимают участия в сегодняшнем празднике. Вероятно, это те самые родственники и есть… Должно быть, уже спать ложатся. Закатов как можно тише продрался сквозь мокрые ветви и заросли мальв на дорожку, идущую под самым окном, и уже зашагал по ней к дому, когда в освещённом окне дрогнула занавеска. И голос – тот, который он узнал бы из тысячи, – заставил его замереть на месте.
– Саша, может быть, закрыть окно? Софья Стефановна простудится…
– Вера, в комнате дышать нечем! – возразил уверенный бас. – Если ты сейчас закроешь, панна Зося просто задохнётся! Оставь окно в покое! И, честное слово, пора спать! У нас меньше трёх часов осталось!
– Вы как хотите, а я спать всё равно не в силах! – весело отозвался ещё один знакомый Никите голос. – Как можно спать в присутствии ангела?!
Ни о чём больше не думая, Закатов одним прыжком пересёк расстояние до окна и, схватившись за трухлявый наличник, громко спросил:
– Саша! Петя! Вера Николаевна! Это вы?!
Воцарилась тишина. Затем пятно свечи стремительно проплыло из глубины комнаты к окну, в жёлтом свете мелькнули китель и эполеты. Затем показалось смуглое, чернобровое и усатое лицо Александра Иверзнева. Некоторое время полковник молча смотрел в темноту. Затем неуверенно позвал:
– Никита? Закатов?! Вот это встреча! Ну-ка, брат, сигай сюда!
– Саша, ты с ума сошёл! Он не сможет никуда «сигать», у него нога, ранение… – послышался встревоженный женский голос, от которого у Никиты снова мурашки пробежали по спине. Сам не зная как, он взлетел на подоконник – и тут же забарахтался в объятиях Саши, а затем незамедлительно перешёл в медвежьи лапы среднего Иверзнева – Петьки, который ещё в кадетском корпусе носил кличку Геркулесыч.
– Никита! Никита! Да как же ты здесь?! Откуда ты узнал?! Почему ночью?! Сестрёнка, погляди-ка, кто тут под окнами бродит!
– Бог с тобой, Петька, ничего я не знал, откуда же?.. – с трудом пропыхтел Закатов. – Да пусти же, медведь, задушишь… Это случай, я здесь гость… Просто проходил мимо, услышал голоса… Да поставь же меня на место, Святогор окаянный! Вера… Вера Николаевна… Княгиня… Добрый вечер!
Она ответила не сразу. Улыбнулась, подошла ближе, тоненькая, как девочка, в своём глухом чёрном платье. Внимательно посмотрела на него.
– Здравствуйте, Никита Владимирович. Вот уж не ожидала! Сколько лет, сколько зим!
– Я… тоже… никак не ждал, – запинаясь, ответил он. И больше ничего не мог сказать, потому что заговорил Александр:
– Собственно, чему ты, Верка, удивляешься? Где же ему ещё быть? Бельский уезд! Вероятно, имение в двух шагах, верно, Никита?
– В семи верстах.
– Ну вот! Ты сюда в гости приехал? А мы, понимаешь, проездом… остановились у знакомых, знать не зная, что праздник будет. Только напрасно, кажется, причинили хозяевам лишние хлопоты… Ну, теперь уж ничего не поделать. Впрочем, завтра мы отбываем в Москву, домой.
– Что ещё случилось, господи? – испугался Закатов. Помедлил, боясь выговорить самое страшное. – Что-то… от Мишки? Дурные вести? Он ведь, кажется, уже на место должен прибыть?
– О, нет! Слава богу, нет, ничего дурного! – торопливо заверила его Вера, и Никита заметил, как в глазах её блеснули слёзы. – От Миши было письмо, он здоров… Ещё не доехал, но уже совсем скоро… И обещал сразу же написать! Ох, да что же я снова, как последняя дура, реветь собралась… Никита, простите, ради бога… А у нас между тем такое счастливое событие! Не хватало ещё портить его слезами! Петя, Софья Стефановна, ну что же вы молчите?!
Только сейчас Никита заметил, что в комнате находится ещё одна женщина. Она сидела у дальней стены, и её платье смутно белело в полутьме. Пётр, подойдя, подал ей руку. Вместе они подошли к освещённому столу.
– Что ж, знакомьтесь, – с лёгкой неловкостью выговорил Пётр. Поймав удивлённый взгляд Никиты, смешался, усмехнулся, отвёл взгляд. Никита, не привыкший видеть Геркулесыча в таком смущении, недоверчиво вгляделся в его некрасивое лицо со следами давней детской оспы… И убедился, что Петька глупо, невыносимо, оглушительно счастлив.
– Софья Стефановна, позвольте вам представить друга моего, графа Закатова Никиту Владимировича. Никита, прошу любить и жаловать: Софья Стефановна Годзинская. Моя невеста.
Барышня, стоявшая рядом с Петром, была ослепительно хороша. С тонкого, словно нарисованного кистью акварелиста лица прямо, немного растерянно смотрели блестящие чёрные глаза. Тяжёлые тёмные косы были убраны в простой узел, слегка растрепавшийся к вечеру. Высокий чистый лоб, нежная линия подбородка, мягко очерченные губы, тень от густых ресниц, дрогнувших, когда она подала Никите свои бледные, ещё по-детски тонкие пальцы… Рядом с тридцатичетырёхлетним Петром его невеста казалась ребёнком – да ей и было не больше девятнадцати. При виде этой сияющей красоты у Закатова даже дух перехватило. Он бережно коснулся пальцев девушки и от растерянности спросил:
– Так это вы – панна Зося?..
– Я, разумеется! – просто и весело ответила она, рассмеявшись, и наваждение разом схлынуло. – Отчего вы так на меня смотрите? Вам Пётр Николаевич что-то навыдумывал про меня?
– Лишь то, что влюблён в вас безумно, – усмехнувшись, ответил Никита. – Я это слышу уже три года. Да ведь это чистая правда! Увидев вас, кто усомнится?
Зося снова рассмеялась – звонко, без капли кокетства, – обернулась к жениху, и Никита внезапно почувствовал укол острой зависти к этим двум счастливым людям. Тут же устыдившись этого чувства, он задал первый пришедший на ум вопрос:
– Но, если вы оба здесь, значит?..
– Да! – перебил его Пётр. – Мы венчаемся завтра, здесь, в церкви графов Браницких! И – к чёрту родительское благословение!
Зося Годзинская происходила из старейшей варшавской семьи. Годзинские, пламенные польские патриоты, ненавидевшие Россию и «клятых москалей», отметились и во время «варшавской заутрени», и в бунт 1830 года, после которого чуть не половина мужского состава семьи отбыла на сибирские рудники. Однако конфедератские настроения в семье не только не утихли, но разгорелись с новой силой, как торф, прикрытый углём. По-прежнему на семейных и дружеских сборищах проклинались враги «ойчизны польской». По-прежнему строились планы освобождения, произносились страстные речи и собирались средства «на освобождение». Но всё это происходило втайне, за закрытыми дверями. Более того, старики Годзинские всячески старались подчеркнуть свою благонамеренность и лояльность официальной власти. В их доме говорили по-русски, на балы и рауты неизменно приглашались русские семьи и офицеры батальона внутренней стражи. Двое старших сыновей Годзинских учились в Петербургском университете, младший оканчивал гимназию в Варшаве. Дочь Зося была на выданье, и в женихах у красавицы панны недостатка не было. Но покуда пан Годзинский выбирал самую достойную партию для дочери, панна Зося и Петр Иверзнев, штабс-ротмистр Варшавского полка, насмерть влюбились друг в друга.
Три года Пётр пытался сломить сопротивление Зосиного отца. Три года в семье Годзинских не прекращались слёзы, ссоры и упрёки. Юная Зося обладала стальным характером: объявив отцу, что она не выйдет ни за кого, кроме штабс-ротмистра Иверзнева, она раз за разом отказывала блестящим польским женихам. Разумеется, можно было обвенчаться тайно и без позволения родителей. Но положение осложнялось тем, что Пётр Иверзнев служил при главном штабе польского наместника. Тайный брак штабного офицера с девицей из известной варшавской семьи мог вызвать бурю возмущения в городе, где и так достаточно было бросить спичку, чтобы вспыхнул очередной бунт. Пётр боялся рисковать своей карьерой и положением русского гарнизона в Варшаве. Зося плакала, молилась и ждала.
Неизвестно, сколько бы ещё продолжалось это мучение, если бы месяц назад старший брат Зоси не был арестован в Петербурге за нападение на русского офицера во время студенческих волнений. Двадцатилетнего парня приговорили к Сибири и каторжным работам. После этого пан Годзинский решительно объявил дочери, что через неделю она выходит замуж за графа Гжельчека, давнего друга семьи.
Зося не возразила отцу ни словом. Но тем же вечером она пришла на квартиру Петра Иверзнева – одна, без горничной, тайком скрывшись из дому.
… – И вот она стоит передо мной, белая как стена, глаза угольями горят… И говорит – спокойно, будто на светском рауте: «Решайте мою судьбу, Пётр Николаевич, я всё сделаю по вашему слову!» – рассказывал Пётр, от волнения дёргая и обрывая уже четвёртую кисточку на бархатной скатерти.
Близился рассветный час, но за окном, в осеннем саду, было ещё темным-темно. Из-под плохо прикрытой ставни тянуло сквозняком. Пламя свечей дрожало и билось, бросая отсветы на лица сидящих за столом мужчин. Вера и Зося ушли, чтобы хоть немного поспать перед венчанием, назначенным на раннее утро. Братья Иверзневы и Никита решили, что ложиться на два часа нет никакого смысла, и уселись за столом с бутылкой мадеры.
– И понимаешь ты, брат, мне так стыдно стало! Барышня ничего в жизни ещё не видела, у маменьки с папенькой под мышкой жила – а не боится ничего! Ведь понимала чудесно, на что шла, когда ко мне из дому убежала! Ведь скажи я ей, что – никак-с, панна Зося, я вас обожаю, но у меня, видите ли, карьера, репутация в полку, что скажет наместник… Что бы ей тогда делать было?! Идти за этого Гжельчека?! Видал я его раз у папаши на приёме! Стручок сушёный! Мазурку танцует, подсигивает, как кузнечик, из сюртука пыль летит… И ведь не побоялась ко мне прийти на ночь глядя! А если бы увидел кто? Панна Годзиньска по вечерам бегает в казармы Варшавского полка! Конец репутации, конец всему… И я по лицу Зосиному вижу, что отпусти я её – она не домой пойдёт, а на мост! И в Вислу кинется! Видал я этот польский норов, ни в чём удержу не знают… И, главное, сам-то хорош – мужчина, боевой офицер, войну прошёл! И что потерять страшился?! Расстреляют меня, что ли? Да чёрт с ней, с карьерой! Подам в отставку, уеду в Хмелевку грядки копать! Три года неизвестно чего боялся… Стою перед Зосей красный, как бурак, слава богу, хоть свечи не горели… Тьфу, вспомнить совестно… – Пётр сокрушённо махнул рукой, отвернулся. Сидящий рядом Александр с улыбкой похлопал его по спине.
– Брось, брат. Не ты один таков. На войне мы все храбрецы с саблями наголо, а как до женщины доходит – труса празднуем…
– Сашка, я до сих пор Бога благодарю, что Зося тогда не заметила ничего, – серьёзно сказал Пётр. – Ты её не знаешь! Гонористая, как все они! Если бы хоть каплю сомнения моего учуяла – только б я её и видел! И не догнал бы, и из Вислы бы вытащить не успел! Но, видать, сильно взволнована была… А может быть, слишком во мне уверена. Ну, правда, и я быстро в себя пришёл. Видать, ангел-хранитель мой в ту ночь плохо спал, по первой тревоге поднялся!
Опомнившийся Пётр и впрямь действовал быстро. Прямо при Зосе он набросал три бумаги к своему полковому командиру: одну – с просьбой об отпуске с сегодняшнего дня, другую – рапорт об отставке, третью – личное письмо с объяснением «всей этой горячки». Пакет был вручен сонному денщику с приказом передать бумаги по назначению наутро же. Через час штабс-ротмистр Иверзнев и панна Софья Годзинская покинули Варшаву. Через два дня они были в Смоленской губернии, в имении графов Браницких – близких родственников семьи Иверзневых. А ещё через пять дней туда прибыли брат и сестра жениха. За это время Зося успела принять православие, взяв в крёстные матери графиню Марью Ксаверьевну, и готовилась к венчанию.
– Так или иначе – самое страшное позади! – весело сказал Александр, разливая по бокалам остатки вина. – Давай, Петька, по последней… За твоё счастье… И за то, что панна Зося никогда не узнает о твоих терзаниях! Женщинам, знаешь, некоторые вещи трудно понять… Уж лучше по мере наших сил их от этого избавлять!
– И то правда, – без улыбки согласился Пётр. – Я, знаешь ли, все эти дни трясся, что Зося меня спросит: чего же ты, ангел мой, три года ждал, если всё так просто в три минуты решилось?
– Ну, тебя ещё ждёт нахлобучка от начальства…
– Переживу, куда деться. Всё равно, как только отвезу Зосю в Петербург, вернусь в Варшаву. Ты прав, надобно явиться к Горчакову и выслушать всё, что заслуживаю… а потом уж с чистой совестью в отставку. – Он встал, с хрустом потянулся, медленно прошёлся по комнате. Остановился перед зеркалом, тщетно стараясь рассмотреть в темноте свою физиономию. Неожиданно усмехнулся: – Знаешь, до смерти, наверное, не пойму, что она во мне нашла. Рожа, как у пещерного жителя… Ещё и рябая!
– Ну, это ты хватил, Геркулесыч, насчёт пещерного жителя, – отозвался Закатов, залпом допивая мадеру и тоже вставая. – Рожа как рожа, вполне мужественная… Во всяком случае, получше моей. А моя супруга как-то вот рискнула тоже…
Пётр смущённо промолчал. Старший брат укоризненно взглянул на него. Затем перевёл взгляд на Закатова. Помолчав, медленно спросил:
– Никита, спрошу на правах старого друга, для чего тебе понадобилась эта женитьба?
Закатов повернулся. Некоторое время молча смотрел на Александра. Затем губы его дрогнули, словно он собирался ответить. Но он так ничего и не сказал, и в комнате повисла неловкая тишина. А за окном уже светлел старый парк, послышались сонные голоса дворовых девок, и на фоне неба начали обозначаться макушки полуоблетевших дубов и вязов.
– Что ж, пора приводить себя в порядок. – Александр тоже поднялся из-за стола. – А то хороши будут жених с родственниками! Ты, Петька, прав: пещерный житель, да ещё с небритой мордой… Да панна Зося из-под венца сбежит! Никита, ты, надеюсь, с нами?
– Разумеется.
– Тогда дам тебе свою бритву и прочее. Идём.
Церковь была маленькой, белой, похожей на сахарную игрушку. В ограде росли старые рябины, тонкие, вызолоченные осенью липки и могучий дуб с поредевшей медной листвой. Раннее холодное солнце, кое-как выбравшись из седой дымки облаков, повисло прямо над крестом купола. В церкви пели. Слабый свет входил в стрельчатые окна, дробясь на алтаре и смешиваясь с блеском свечей. Пахло ладаном, воском, почему-то грибами. Старый священник дребезжащим голосом читал молитвы, но Никита не слышал ни слова, машинально крестясь в нужных местах и не сводя взгляда с Веры. Она стояла рядом со светлой, спокойной улыбкой на губах. Церковная свеча озаряла тонкое смугловатое лицо, делая его радостней и моложе. Вера безотрывно смотрела на Зосю – в самом деле похожую на ангела в простом белом платье и фате, наспех сшитых в девичьей графини Браницкой, светящуюся от счастья, юную, прекрасную. Священник вёл их с Петром вокруг аналоя под «Исайя, ликуй», а Никита не сводил глаз с Веры, и в сердце поднималась волна давно забытого счастья. Он не помнил сейчас ни о собственной женитьбе, ни о Верином вдовстве. Словно обезумевший от жажды путник, он пил сейчас это несказанное счастье – стоять в церкви рядом с любимой женщиной, смотреть в милое лицо без тени горя и слёз, незаметно касаться её рукава… И пусть ничего нельзя исправить и вернуть, пусть сделана тысяча неисправимых глупостей и потеряно самое дорогое… Но вот сейчас он стоит рядом с Верой Иверзневой и смотрит на неё, и никто не откажет ему в этом праве. И этого воспоминания хватит ещё надолго.
После венчания и выхода из церкви молодую пару окружило многочисленное семейство Браницких. Ограда наполнилась деловитым женским щебетом, мужским смехом, поздравлениями и пожеланиями. Александр тоже отошёл к гостям, и Вера с Никитой оказались одни. Вернее, она пошла, ни на кого не глядя, по узкой дорожке в парк, а он, как заколдованный, тронулся следом.
– Господи, какое счастье, Никита… – Вера остановилась, сорвала гроздь рябины, прикусила несколько ягод, поморщилась. – Ещё горчит, надо же… Неужто у вас тут не было заморозка? А у нас в Москве уже все ягоды прихватило… Как же всё хорошо, наконец!.. После всего, что на нас упало, я думала, что Бог за что-то нашу семью проклял. Ведь, как умерла мама, – беда за бедой! Петино вдовство, моё вдовство, потом – Миша… А теперь Петя так счастлив! Я давно у него таких глаз не видела, прямо как мальчик… А ведь у него уже седина! И Зося прелестна… Такая смелая и так любит его… Поневоле порадуешься за них и позавидуешь! Я никогда в жизни такой красоты не видывала, просто дух захватывает!
– Зная вас, Вера Николаевна, я не могу признавать никакой другой красоты.
Закатов сам не понял, как это вырвалось у него. Земля на миг словно ушла из-под ног, холодной волной окатило спину. Испугавшись собственного нахальства, Никита начал мучительно соображать, как перевернуть всё в шутку… И понял, что спастись уже не удастся. Вера резко остановилась посреди тропинки. Чёрные глаза посмотрели на него в упор.
– А раньше вы не были так смелы, Никита Владимирович, – со странной улыбкой сказала она. – Впрочем… Сейчас уже можно, не так ли? Это ничем вам более не грозит.
– Что вы имеете в виду, Вера Николаевна? – медленно спросил он, подходя.
Вместе они пошли по усыпанной листвой аллее в глубь сада. Ясное пятно солнца затянуло блёклыми тучами. Прямо перед лицом Закатова, вертясь, пролетел рыжий кленовый лист.
– То, что мы стареем, Никита, и детские наши глупости пора оставлять.
– Боюсь, что все мои глупости останутся со мной до смерти. – Никита изо всех сил вглядывался в усыпанную желудями дорожку. – Я люблю вас, Вера. Я всегда, всю мою жизнь любил только вас.
– Я знаю, Никита, знаю, – помолчав, спокойно и устало сказала она.
– Но отчего же тогда?.. – он не договорил.
Молчала и Вера, грустно улыбаясь и зачем-то теребя в пальцах веточку дуба с двумя маленькими желудями. Вот один из них, оторвавшись, полетел в пожухлую траву. Вот следом отправился и второй. И сломанная ветка упала рядом.
– Вера, вы ведь знаете… Вы всё знаете. – Они снова шли по пустой аллее, и снова Закатов касался рукава Веры, но теперь уже не замечал этого. – Что я мог вам дать, какую жизнь предложить? Ведь у меня даже не было доли в наследстве… Это ведь случай, что и отец, и старший брат умерли, оставив мне моё полудохлое Болотеево. Как я смел делать вам предложение, имея за плечами лишь жалованье подпоручика?
– Могли бы и рискнуть, – спокойно заметила Вера. – И, заметьте, ничего не потеряли бы при этом. И как знать… Может быть, мы были бы счастливы в этом вашем… полудохлом Болотееве.
– Но, Вера Николаевна… Ведь Иверзневы – известная семья, к вам сватались богатые люди… И вы в конце концов сделали блестящую партию…
– Боюсь, что эту партию, Никита, сделали за меня. Впрочем, какое это имеет значение?
Никита остановился. Не поднимая взгляда, мрачно сказал:
– Вера Николаевна, я никогда в жизни не поверю, что вас вынудили к этому браку! Кто мог взять на себя это? Ваша матушка, ваши братья, которые вас обожают?! Ведь ни Саша, ни Петька, ни Мишка не понимали, для чего вы вышли замуж за Тоневицкого! Все они не знали, что и думать! И я вместе с ними! Вы были гувернанткой у его детей – и вдруг… Этот неожиданный брак… Каковы причины?
– Я не буду объяснять их вам, Никита, – помолчав, сказала Вера. – Дело уж давнее, прошлое. И князя уже нет на этом свете. Скажу лишь, что у меня попросту не оказалось иного выхода.
– Вера Николаевна, но… Вы хотите сказать… – он умолк, набираясь наглости. – Вы служили гувернанткой в его доме. Неужели Тоневицкий осмелился?.. Ваша репутация… Вышло так, что он обязан оказался на вас… Именно поэтому ваши братья ничего не знают?! Даже Мишка?!
– Никита, у вас нет никакого права разговаривать так со мной, – ровно, без гнева перебила она, и Закатов опомнился.
Тяжело дыша, он пробормотал:
– Простите…
Вера грустно улыбнулась. Уже мягче продолжила:
– Тем более что дело сделано. И я даже успела овдоветь. Однако на мне по-прежнему мои дети…
– Вернее, дети Тоневицкого! – снова не удержался Никита. – Он очень удачно перепоручил их вам, умирая! А вы между тем всего на восемь лет взрослее своего старшего пасынка! Со стороны вашего супруга было бесчеловечно так обойтись с вами! Да ещё запретить вам новый брак до тех пор, пока дети не устроят свои судьбы!
– Никита, уймитесь. Никто мне ничего не запрещал. Князь, умирая, попросил меня об этом… И да, я дала слово. Потому что всё равно не могла бы поступить иначе. Вы, разумеется, можете думать обо мне любые гадости…
– Вера!
– …но я согласилась на этот брак только ради детей. Только ради них… Если бы вы знали!
– Вера Николаевна, я просто скотина, простите меня, – грустно сказал Закатов. – Никогда в жизни я не смог бы подумать о вас гадости.
– Думаете, и ещё как. «Блестящая партия»! «Князь обязан был жениться»! Никита, Никита, вы ведь знаете меня с детства! – горестно упрекнула Вера. – Неужто вы в самом деле могли подумать, что мне нужны титул, деньги, все эти побрякушки… Ну что же вы за невозможный человек! Впрочем, не мне вас укорять. Столько сделано ошибок, столько глупостей… И ничего уж не вернуть. Да и вы давно женаты. Так что, пожалуй, придётся нам с вами обо всём забыть и тихо радоваться чужому счастью. Я уже смирилась, Никита. Теперь очередь за вами.
– А я не смирюсь никогда, – упрямо сказал Закатов, комкая в руке фуражку и не в силах посмотреть в блестящие от слёз глаза напротив. – Это невозможно, Вера Николаевна. Когда по собственной глупости теряешь самое дорогое, самое святое, что было в жизни… Когда всё могло бы быть иначе, не будь я таким ослом… Таким трусом… И что ж… Теперь я наказан по заслугам.
– Не гневите Бога, Никита. – Вера вытерла слёзы, улыбнулась. – Вы теперь семейный человек. Я видела вашу супругу. Она очень хороша собой. И если вы женились на ней, стало быть, у неё имеются и другие достоинства. Никита, милый, никогда не знаешь, как повернётся жизнь! Мне почему-то кажется, что вы ещё будете счастливы. Иначе… Иначе было бы слишком несправедливо.
– Вы верите в справедливость, Вера Николаевна?
– Да ведь больше ничего не остаётся. – Вера сорвала рябиновую гроздь, растёрла в пальцах несколько ягод, поднесла к губам. – Как всё-таки горчит… Идёмте к церкви, Никита Владимирович. Нас, кажется, уже хватились.
Никита молча предложил ей руку. Вера оперлась на его локоть, и вместе они пошли к церковной ограде. Закатов больше не смотрел на Веру, и только в висках бились слова, которыми она случайно обмолвилась: «Никита, милый… милый…»
– Куда вы теперь, Вера Николаевна? – спросил он, когда они вышли к гостям, уже рассаживающимся по экипажам.
– В свои Бобовины. – Вера уже была спокойна, безмятежна. – Остались кое-какие осенние хлопоты, надобно закончить. Зиму, видимо, придётся провести в Москве, девочек пора вывозить.
– В Москве? У вас в Столешниковом?
– Разумеется.
– Вы позволите навестить вас там?
– Нет, Никита. – Вера уже сидела в дрожках. – Не обижайтесь на меня, но… Право, вам не стоит приезжать. Мне это будет тяжело. Да и вам, я думаю, тоже не радостно. Вы ведь всё понимаете.
– Но, Вера…
– Прощайте, Никита Владимирович.
Закатов хотел сказать что-то ещё, но его окликнули. Пётр и Зося, весёлые, смеющиеся, в окружении семейства Браницких махали им из коляски. Молодые ехали в Петербург. Оттуда Пётр, оставив юную супругу на попечение семьи старшего брата, должен был вернуться в Варшаву. Вспомнив слова Веры о том, что теперь им только остаётся радоваться чужому счастью, Закатов в последний раз сжал в ладони холодные пальцы княгини Тоневицкой и, не оглядываясь более, пошёл к молодой паре.
Полчаса спустя, оставшись наконец один, Закатов медленно прошёл через старый парк к воротам имения. Было уже около десяти утра. Солнце давно поднялось над дальним лесом, нехотя осветив убранные поля. Сверху, из вышины, послышались отрывистые клики. Никита поднял голову и увидел, что небо пересекает чуть заметная, запоздалая цепочка улетающих гусей. «Как поздно они, однако, в этом году…» – подумал он.
… – Барин, да что же это за нелепие такое… – немедленно принялся ворчать Кузьма, когда Закатов извлёк его, сонного и облепленного соломой, из-под тарантаса. – Было слово, что на час всего вы до графа будете! Я и не выпрягал, и напоить не дал… Хоть бы распоряжение дать изволили! Лошадь – она ведь вам не человек, она от плохого обхождения очень даже околеть может! Шутка ль – всю ночь запряжённая простояла!
– Ладно, старина, не серчай: виноват уж, – усмехнулся Закатов. – Сейчас поедем. Так уж вышло. Дела…
Но Кузьму уже было не остановить:
– Дела-то делами, только барыня дома, поди, уж разума от беспокойства лишилась! Видано ли, супруг на час уехал, а всю ночь нету! В округе-то небось Стриж безобразит! Уж сколько бедствий было! Четвёртого дня только Истратиных управляющего дубиной по башке на дороге приложили да ограбили вчистую! Экие разбойники…
– Какие ещё разбойники, выдумал! – с досадой оборвал его Закатов. – У нас с тобой и взять-то нечего!
Он подошёл к тарантасу, намереваясь забраться внутрь, – и вдруг отпрянул, невольно выругавшись: из-под колеса на него смотрело чудовищно грязное, худое, глазастое лицо.
– И вот тоже ещё, девка откуда-то взялась! – продолжал бурчать Кузьма, возясь с упряжью. – Пришла и говорит: велено, дядя, здесь быть, потому твой барин меня в карты выиграл! Я, понятное дело, руки ей развязал. А всё ж не верится. «Поди, – говорю, – прочь, дура немытая! Врёшь ты! Наш барин отродясь не играл…»
– Всё правда, Кузьма. – Закатов наконец вспомнил о своей партии в вист. – Это Василиса, она теперь наша. Давай, Васёна, полезай в тарантас, на своих ногах ты всё равно не дойдёшь.
Василиса молча подчинилась, скользнув по лицу Закатова сумрачным взглядом. Кузьма сердито кивнул на её ноги, покрытые корками запёкшейся крови:
– Кто скотину не жалеет, кто людей… Тьфу! Ну, так едем, что ли, Никита Владимирович? Садитесь!
– Трогай, я пока так. – Никите отчаянно хотелось спать, но почему-то при мысли о том, что семь вёрст придётся ехать в тарантасе с глазу на глаз с этой Василисой, все мысли о сне пропали. – Дорога сухая, пройдусь.
– Как знаете.
Через десять минут старый скрипучий тарантас катился по пустой дороге. Кузьма взмахивал вожжами, вполголоса напевал песню. Закатов шёл рядом с лошадьми и слушал, как с неба, уносясь за лес, кричат гуси.
Когда тарантас, содрогаясь всеми членами, в последний раз взобрался на вершину холма, внизу открылся вид на Болотеево – сельцо в две улочки серых, разваливающихся изб, крытых где соломой, где старым тёсом. Правда, две-три избы виднелись новых, да несколько явно ремонтировались. Церковь тоже была старая, с осевшей на один бок колокольней. Над куполом кружила, уныло каркая, стая ворон. Большой пруд, почти целиком затянутый ряской, топорщился ржавыми зарослями рогоза. Полуголые вётлы, казалось, цепляли сучьями рваные облака. Единственным светлым пятном в открывшейся панораме был новый господский дом над прудом, в котором настлали полы и навесили двери лишь месяц назад.
Старый родовой дом, в котором прошло его одинокое детство, Никита терпеть не мог. Когда два года назад он, уже хозяином, вернулся в Болотеево, то долго не мог спокойно засыпать в отцовской комнате. Всё здесь напоминало об одиночестве и старости: отстававшие от стен штофные обои, потёки свечного сала на ветхой скатерти, засиженные мухами окна и траченные молью портьеры екатерининских времён. Всё хотелось выбросить и сжечь.
Молодая супруга Никиты, прибыв в Болотеево после венчания, прошлась по крошечным комнатам дома, старательно отмытым и отскобленным дворовыми к приезду новой барыни, глубоко вздохнула и обратилась к мужу напрямик:
– Друг мой, но здесь же жить нельзя!
– Я знаю, – честно согласился он. – Но другого дома у меня нет, и вы об этом знали и ранее.
– Разумеется! Но для чего же до смерти в этом мучиться? Вы – хозяин, и решать вам, но почему бы не построить новый дом?
Закатов страшно растерялся.
– Но… как же это можно?
– Боже мой, да очень просто! – пожала Настя плечами, в упор глядя на него своими раскосыми глазами ногайской княжны. – Лес – свой, лошади – свои, мужикам назначите барщину! Что в этом невозможного?
Закатов не знал, что ей ответить. Но жена ждала, пристально глядя на него, и Никита решился:
– Что ж… Тогда дождёмся весны.
Она кивнула – и отправилась смотреть на дворню.
«Никита Владимирович, я вас, боже упаси, учить не берусь, каждый человек в своём доме хозяин, – резко сказала Настя, придя тем же вечером в кабинет мужа. – Но объяснитесь! Для чего, с какой целью было доводить своих людей до такого? Сегодня Варька в девичьей уронила на пол кросны, они сломались. Так у неё сущий припадок начался! Выла и головой о лавку колотилась так, что впору отливать было! Я с перепугу ничего не могла понять, сама с рук её мятной водой отпаивала! Что с тобой, дура, кричу, что это за истерика такая? А она знай себе вопит как резаная: «Барыня, помилуйте! Барыня, виновата, помилосердствуйте!» В конце концов так мне это надоело, что я те проклятые кросны через колено сломала! И бог с ними, кричу, не реви только, стоят ли они того, деревяшка! Никита Владимирович, что тут творилось у вас?!»
В ту ночь Никита рассказал молодой жене обо всём. О том, что он никогда не считал Болотеево своим владением. О том, что здесь всем ведала управляющая, которая выжимала из мужиков и дворни последние соки.
– Но ведь больше ничего подобного здесь не будет? – прямо спросила Настя, выслушав мужа. – Надеюсь, вы не допустите?..
– Я делаю что могу. Разумеется, все эти цепи и колодки давно выброшены. Но девки, вы сами видите, до сих пор боятся.
– Ещё бы… В один день от такого не отвыкнешь. – Настя взволнованно ходила по комнате. Лицо её было тёмным от гнева, широкие ноздри раздувались, как у породистой лошади, и Никита снова невольно залюбовался этой нерусской красотой. – Что ж… Если позволите, я сама займусь и дворней, и домом, и домашним хозяйством. В конце концов, ведь для этого вы и женились?
– Благодарю вас, – растерянно, но искренне сказал Закатов. – Признаться, я настолько ошалел уже от всего, что здесь творится… Мне с лихвой хватит и деревенских забот. А вы, я убеждён, со всем справитесь гораздо лучше меня.
Болотеевская зима, в детстве казавшаяся Никите бесконечной, сейчас пролетела как один миг. В старом доме неожиданно посветлело, стало чище и уютней. Теперь Закатов то и дело натыкался в комнатах на очередную девку, деловито скоблящую старые половицы или натирающую древний паркет в зале – так что потом дня четыре невыносимо воняло мастикой. Половики и ковры чуть не ежедневно выволакивались на снег и усердно чистились. С книжных полок, абажуров, столов пропала пыль. Зелёные, залитые воском подсвечники неожиданно засияли медью и бронзой. Из перин непостижимым образом пропали клопы! Даже чёрные тараканы перестали сновать по стенам, хотя старая кухарка весьма переживала их утрату, уверяя, что вместе с тараканами из дома уйдёт богатство.
– Не мучайся, Власьевна, то, чего нет, и уйти не может! – весело утешила её Настя, лихо прибив тряпкой последнего «партизана». – Тьфу, ненавижу этих тварей ползучих! Чтоб и духу их здесь не было! Никита Владимирович, вы ведь не возражаете, или будем богатство беречь?
Никита не спорил, втайне восхищаясь этой насмешливо-бесстрашной манерой жены обращаться с ним. Чем-то она неуловимо напоминала ему Веру – навсегда утраченную, о которой он теперь запрещал себе и думать. Чем – Никита и сам не знал. Возможно, смуглой, тёмной красотой, смоляным отливом причёски. Возможно, этой прямой, без капли жеманства, манерой разговора, способностью говорить только то, что думаешь, неприятием никакой лжи. Запуганная закатовская дворня теперь боготворила молодую барыню. Её распоряжения выполнялись быстро и старательно. Настя не щадя гоняла девок, её звонкий голос слышался с утра до ночи: «Да что же вы натворили опять, бестолковки! Кто же паркетный пол дресвой чистит?! А какая бестолочь вздумала глиной половики стирать, их же теперь только выкинуть! Тьфу, проклятые, сейчас всех перепороть велю!» Но все давно знали, что угрозы – простое сотрясание воздуха. Самое большое, на что оказалась способна молодая барыня, – от души шлёпнуть веником провинившуюся служанку.
«Послал нам господь ангела за страдания наши…» – весело шепталась дворня. В девичьей снова, как когда-то на памяти Никиты, зазвучали песни и смех. Теперь там начальствовала Дунька – рыжая особа лет двадцати, составлявшая вместе с кухаркой Власьевной Настино приданое. Дунька была мастерицей на все руки, умела и шить, и вязать, и прясть, и плести кружево, и ткать тонкое полотно, а сверх того – довольно толково могла «расписать пульку». Покойный майор был заядлым игроком и от нечего делать выучил дворовую девку преферансу, штоссу и висту. Дунька быстро наладила в девичьей работу, и вскоре девки, у которых при Упырихе месяцами не заживали спины, весело распевали за пряжей, а иногда даже подымали возню, кидаясь барскими клубками и мотками. Впрочем, Дунька умела без всякой вздорности прикрикнуть на них так, что порядок воцарялся мгновенно.
Похорошели девушки и с виду: Настя распорядилась устраивать баню для людей еженедельно и выдала каждой девушке полотна на сарафаны и рубашки. Цветных лент и дешёвых украшений она накупила им сама, выбравшись на ярмарку в Бельск.
Весной мужики принялись валить в лесу дубы для нового дома. Настя, как заправский архитектор, сама распоряжалась всеми работами и до хрипоты ругалась со старостой плотницкой артели, который никак не мог взять в толк, что потолки надо делать выше, окна больше, а комнаты – просторней. Однако работа делалась, и к осени Закатовы перебрались в новый дом, куда Настя решила поставить и новую мебель.
«Вот увидите, Никита Владимирович, ненакладно будет! – уверяла она мужа. – К чему нам готовую мебель в Бельске заказывать, это ведь убыток только! У меня в Требинке есть мужик, Перфил, – так он из липы такие буфеты и шифоньеры режет, что любо-дорого взглянуть! Никакого красного дерева не надо! Он Истратиным на заказ бюро делал, так даже профиль Дидерота на дверцах вырезал – и похоже ведь вышло! Уж как меня Аркадий Ксенофонтыч благодарил! И опять же – и материал, и мастер свои собственные! Я Перфила специально на оброке держу – пользы больше!»
Никита согласился на Перфила – и не прогадал. Ему самому хотелось, чтобы в новом доме ничего не напоминало ни об отце, которого он никогда не любил, ни об изуверке Упырихе.
За два года Закатов ни разу не пожалел о своей внезапной женитьбе. Ни разу между ним и Настей не было размолвки. Она лишь изумлялась без ехидства его способности целую зимнюю ночь напролёт сидеть за книгой: «Право, спали бы лучше, неужто вам дня мало?» Никита не спорил. Редко-редко с горечью думал о том, что Веру Иверзневу подобное вряд ли удивило бы: она и сама могла убить на книгу не один час. Думал – и старался поскорей забыть.
…Когда тарантас вкатился на двор имения, солнце стояло уже высоко над крышей дома. Из сарая доносились удары топора, где-то на задворках голосил петух. От бессонной ночи и долгого пути пешком Никита устал так, что в голове было пусто и звонко, как в глиняной корчаге. Ему хотелось повалиться на кровать и закрыть глаза. Кроме того, он не знал, как вести себя с Настей. Ещё ни разу ему не пришлось пропасть на целую ночь, не известив об этом жену. Он пытался поразмыслить об этом по дороге – но в голове, хоть убей, была Вера, одна только Вера. И думать о чём-то другом не получалось совсем. И вот теперь волей-неволей нужно было как-то…
Довести мысль до конца Закатову не удалось: Настя уже показалась на крыльце. Она была в своём обычном саржевом платье, с наброшенной на плечи шалью – свадебным подарком. Лицо её было спокойным. Только растрёпанная причёска и тёмные круги у глаз говорили о том, что она тоже не спала этой ночью.
– Доброе утро, друг мой, – услышал Никита обычный, резковатый голос жены. – Где это вас носило? Я уж не знала, что и думать! Уехали на час к Браницким долг вернуть – и до утра пропали!
– Прости… так уж вышло – времени не рассчитал.
– Чем же заняты были?
Врать Никита всегда умел плохо и сейчас молчал, как дурак, глядя в бледное, усталое лицо жены. На счастье, за спиной его раздалось шуршание, и из тарантаса на траву выпала Василиса – о которой он в очередной раз благополучно забыл. И на Никиту снизошло озарение:
– Веришь ли, сам не думал, что так окажется, но… Встретился там с Агариным, была предложена партия в вист, потом другая… и вот, так увлеклись, что не заметили, как ночь прошла! Зато – посмотри, какое приобретение! Васёна, подойди, это вот барыня твоя… Думаю, такая красота недёшева. Правда, я не спросил у Мефодия Аполлоныча, что она умеет делать. Впрочем, теперь ты и сама это выяснишь.
Василиса низко, до земли поклонилась барыне и замерла, уставившись в землю. Настя спустилась с крыльца, подошла, внимательно осмотрела девку.
– Что у тебя с ногами, милая?
– За дрожками бежала, барыня, – ровным, каким-то неживым голосом ответила Василиса.
– Как… за дрожками? – Настя поняла не сразу, а уразумев, нахмурилась. – Чем же ты так провинилась?
– Молодому барину не потрафила, – всё так же безжизненно ответила девка. Спутанная прядь волос упала ей на лицо. Василиса не убрала её.
– Что ж… – Настя помолчала. – Ну, коль так… Дунька! Дунька!
С крыльца скатилась взъерошенная начальница девичьей. Рыжие волосы, выбившиеся из косы, воинственно топорщились, фартук съехал набок. Выразительно осмотрев безмолвную Василису с ног до головы, она сморщила нос и повлекла новое приобретение в девичью. Настя снова повернулась к мужу:
– Что ж, Никита Владимирович, коли хотите завтракать, то Дунька сейчас вернётся и подаст. Я распоряжусь.
Сказала – и сразу же скрылась в доме. Никита, слегка озадаченный и уяснивший лишь то, что разноса за проведённую невесть где ночь не будет, пошёл следом.
В окна большой столовой лился блёклый свет. В палисаднике чуть слышно шелестели тонкие, лишь месяц назад привезённые из леса берёзки. Листьев на них уже не было, и почти прозрачные ветви чертили голубоватое, словно выцветшее небо. Никита сел за стол, мельком увидел своё отражение в медном боке самовара, поморщился. Через пять минут за дверями зашлёпали босые ноги, и в столовую вошла насупленная Дунька с подносом. Следом спешили ещё две девки, тоже с поклажей.
– Извольте, барин, – кашка пшённая… Блинчики… Полотки… Сливки… Сичас положу. Глашка, Агафья, брысь отселева!
Девок сдуло – только подолы метнулись у двери. Дунька, ещё суровей сдвинув брови, встала с ложкой у стола и сдёрнула крышку с котелка. От каши поднялось ароматное облачко, оконное стекло немедленно запотело.
Закатова позабавила Дунькина суровость.
– Ты ступай, я сам управлюсь.
– Не велено, – последовал упрямый ответ. – Барыня приказали подать.
– Ну а я барин, и велю тебе идти.
– А я не ваша, а Настасьи Дмитриевны! Она меня на вас не отписывала! Одна её воля надо мной и есть!
– Дунька, ты что – белены объелась? – заинтересовался Закатов. – Или не выспалась?
– Выспишься тут с вами! Почитай что вся дворня, подымя хвосты, по округе бегала, вас искаючи! – Дунька яростно шлёпнула в тарелку жёлтый комок каши. – Гришка, Агариных беглый, в лесу озорует – аль не слыхали?! Настасья Дмитриевна, голубушка, извелась вся! Ни есть, ни спать не могла! Да вы, говорю, не мучьтесь, а пошлите человека к Браницким, пущай скажут, был до них наш барин да уехал ли домой? Нет, говорят, этак я Никите Владимировичу конфуз сделаю, все соседи подумают, будто его жена на поводке держит, никуда не отпущает… А сами ревут так, что душа перевёртывается! Весь пузырь капель лавровишневых я на них извела, а толку – чуть! Только тогда успокоились, когда я потихоньку Ермолая верхи к Браницким отослала и он своими глазами ваш тарантас увидал и Кузьму на ём! А к рассвету барыня кинулись себе простоквашу на лицо нашлёпывать, чтоб и тени тех слёз не было! Как же – барин обеспокоятся!
– Полно, Дунька, врёшь! – ошеломлённый Закатов не знал, что и думать. С одной стороны, сердитая Дунькина физиономия казалась вполне правдивой. С другой – представить себе Настю рыдающей он не мог, как ни старался.
– Много чести будет! – огрызнулась Дунька, проливая молоко мимо стакана. – Вы, конечно, в дому хозяин и хоть вовсе ночевать не являйтесь – воля ваша! Только на что же тогда себе супругу было брать? Да не какую задрыгу, а из порядочной семьи, где отродясь такого не водилось!
Уже рассердившийся Закатов собирался было возразить в том духе, что в доме покойного майора Остужина водилось и не такое и вся округа тому свидетели… Но в это время из-за стены послышался странный сдавленный звук. За ним – ещё. И ещё.
– Ну, вот вам! – провозгласила Дунька, с грохотом роняя на пол ложку. – Так я и знала, что ничего капли не помогут! И простокваша тоже, даром только полкорчаги испортили! Надобна я вам ещё, барин? Нет? Так дозвольте бежать!
– Поди прочь, я сам! – решительно поднялся Закатов.
Дунька, подумав, подняла ложку, обтёрла её фартуком и, пропустив впереди себя барина, тоже тронулась к дверям. Уже в сенях она довольно внятно прошипела в спину Закатову:
– И попробуйте только не повинитесь как положено!
«И с чего только Настя считает её дурой?..» – подумал Никита, проводив взглядом метнувшееся в сторону девичьей голубое платье. Постояв немного в полутьме сеней, он прислушался. Сдавленные звуки из спальни слышались по-прежнему. Закатов тяжело вздохнул, подавил желание перекреститься и открыл дверь.
В спальне тоже были отдёрнуты занавеси: Настя не любила сумрака. С подоконника радостно топорщились цветущие герани и бальзамин. На круглом столе лежало брошенное шитьё, в беспорядке валялись мотки ниток. Сильно пахло лавровишневыми каплями. Цветной половик на полу был сморщен и съехал к стене. Закатов, войдя, машинально расправил его ногой, позвал: «Анастасия Дмитриевна!», и огляделся.
Настя лежала на их широкой кровати, скорчившись в комок и мелко вздрагивая. При осторожном оклике мужа она вскинула голову, и на её залитом слезами лице Никита увидел сразу и страх, и отвращение, и смертельный ужас. Теперь уже он действительно испугался: никакой ночью, проведённой не в супружеской спальне, нельзя было вызвать таких чувств. Решительно перейдя комнату, Закатов сел на кровать.
– Анастасия Дмитриевна, что стряслось?
– Никита Владимирович, отчего вы не сказали мне этого раньше? – хриплым, сорванным шёпотом спросила она. – Это бесчеловечно, безбожно! Если бы я знала, я бы никогда не пошла за вас! Я вдосталь нахлебалась этого счастья у папеньки! Как вы могли, зачем?! Если бы за мной хотя бы давали громадное приданое… Если бы вы были влюблены…
– Анастасия Дмитриевна, я, ей-богу, ничего не понимаю! Объяснитесь! О чём я должен был рассказать вам?
– О том, что вы играете, – лицо Насти сморщилось, словно от сильной боли. – Право, Никита Владимирович, лучше бы вы пили… или издевались надо мной, как Истратин над своей Агафьей Филипповной… Думаю, я бы это вынесла. Но карты, карты!.. Папаша из-за них перестал быть человеком! Он разорил себя, мать, согнал её в конце концов в могилу! Про мою старшую сестру вы, надеюсь, слышали?
– Нет! – храбро соврал совсем сбитый с толку Никита – хотя кое-какие смутные слухи до него доходили.
– Врёте! – выпалила Настя ему в лицо с самой чистой, беспримесной ненавистью. Сейчас она как никогда была похожа на княжну дикого племени. – Мне было одиннадцать лет, но я отлично помню, как вся округа ездила к нам сочувствовать! После того, как папенька спустил в вист её приданое! Целую деревню с пятьюдесятью душами! А ведь Аня могла вырваться отсюда, у неё уже был жених! Которого, разумеется, после этой истории как ветром сдуло – а как же могло быть иначе?!
– И ваша сестра?..
– Отравилась!!! Аня отравилась, Никита Владимирович, она наглоталась сулемы! И папеньке стоило больших денег убедить попа, что она сделала это в приступе безумия! Иначе её и на кладбище не позволили бы похоронить! И вы думаете, папеньку это образумило хоть малость?! Ничуть!!! Всё продолжалось по-прежнему! Зачем, зачем вы скрыли от меня это?!.
– Анастасия Дмитриевна… – всё выглядело так глупо, так смешно и вместе с тем так ужасно и больно, что Закатов не знал, как объясняться с этой перепуганной девочкой. Никогда прежде ему не приходилось вести подобных разговоров. – Анастасия Дмитриевна… Настя… Ты ошибаешься, спасением души клянусь! Всё вовсе не так! Я не игрок, и могу в том поцеловать тебе образ. Конечно, я не святой, но… Но на твоего покойного папеньку вовсе не похож.
– Я вам не верю, – хрипло сказала Настя, резким движением вытирая слёзы. – И про образ ничего не говорите мне! Папенька после каждого проигрыша этот образ целовал, а толку?! Что проку, если человек и стыд, и совесть давно спустил в вист?!. Вы не игрок! Как поверить?! Вы за ночь вон девку выиграли! Красивую! Ещё скажите мне, что неопытным игрокам всегда везёт и что фортуна любит новичков!
– Ничего подобного, это красивая сказка для дураков, – хмуро буркнул Никита. – В картах вообще мало случайностей. Просто расчёт и математический анализ, вот и всё.
– Вы – шулер?.. – побелевшими губами спросила Настя, и, если бы не её искажённое ужасом лицо, Закатов рассмеялся бы.
– Нет. Послушай… Послушай, в корпусе у меня был высший балл по математике. Я очень быстро сумел понять всю суть и виста, и штосса… И тем более преферанса. Там нет ничего мудрёного – особенно если умеешь логически мыслить и имеешь хорошую память. Я однажды обыграл весь свой полк в Малоярославце.
– И… что же?
– И после этого бросил игру совсем. Мне это показалось действительно шулерством. И больше не брал карт в руки… Разве что для важных дел. Ну, как, например, этой ночью. Настя, я клянусь тебе, мне просто стало жаль эту несчастную Васёнку! Да и Агарина, мерзавца, стоило проучить.
– Но… как же так? – по-прежнему недоверчиво спросила жена, садясь напротив и в упор глядя на Никиту своими узкими, уже высохшими глазами. – По вашим словам, вы можете выигрывать за ночь огромные деньги без всякого мошенства…
– Ну… Могу, пожалуй.
– …и совсем не пользуетесь этим?! Даже при наших расстроенных делах?
– Я не считаю возможным этим пользоваться.
– Я вам не верю! – отрезала Настя, вставая и поворачиваясь к мужу спиной. – Не верю! Но воля ваша, я вам жена, полностью в вашей власти и, стало быть…
– Послушай, к чему такие разговоры? – огорчённо спросил Закатов. Подойдя, он взял её за плечи, попытался развернуть к себе. – Я не тиран и не деспот. И никогда не обманывал тебя. Может быть…
– Минуту, Никита Владимирович! – Настя, внезапно вырвавшись из его рук, метнулась к резному бюро и, за мгновение перерыв его сверху донизу, извлекла из нижнего ящика потрёпанную колоду карт. – Предупреждаю, что я никогда не поверю вам на слово! Но докажите мне! Преферанс? Отлично! Я тоже не лыком шита, я двадцать лет с батюшкой прожила! Обыграйте меня хотя бы пять раз подряд, и тогда…
– Хоть двадцать пять, – хладнокровно сказал Никита, садясь за стол напротив жены. – И заметь, у тебя преимущество – колода твоя и не новая.
– Ни-ког-да Остужины не были уличены в краплёных картах! – отчеканила Настя. – Мечите!
– …Но… Как же такое может быть?!. – шёпотом спросила Настя, проиграв в двенадцатый раз и растерянно перебирая в руках атласные листочки карт. – Никита Владимирович… Я не верю… Вы что-то делаете?!
– Ты обещала, что поверишь, – усталость минувшей ночи наваливалась неумолимо, и Закатов едва сдерживал зевоту. – Теперь ты видишь, что я тебя не обманул.
– Невероятно… Да вы страшный человек!
– Ну что же это такое: всё «вы» да «вы»!
– Никита Владимирович…
– Настя, не пора ли тебе наконец говорить мне «ты»? – усмехнулся Закатов, забирая из рук жены карты и вынуждая её подняться из-за стола. – Всё-таки третий год вместе… приличный срок.
– Как вам будет угодно, – всё ещё в замешательстве ответила она. – Но…
– Послушай, мы оба этой ночью не спали. Признаю, по моей вине. Прости меня, душа моя, и пойдём выспимся наконец. Обещаю тебе, что больше никакого виста с преферансом, не беспокойся. И знаешь, если бы я прежде знал о твоём семейном горе, я бы вовсе плюнул на эту Васёну. В конце концов, обоих Агариных этим не исправишь.
– Нет, вы были правы, – медленно сказала Настя, поднимая на мужа странно блестящие глаза. – Вы были правы… И слава богу, что вы мне всё это рассказали. Ступайте спать, Никита Владимирович… А у меня ещё есть дела. Нужно отдать распоряжения, и в девичьей со вчерашнего дня беспорядок… Нет, мне надо идти. Что люди подумают, если барыня завалится спать средь бела дня?
– Настя, останься, – Никита обнял её худенькие плечи, впервые почувствовав острую нежность к этой девочке, которая никому не верила на слово. Растрёпанная коса жены упала ему на плечо, мягко мазнув по щеке. Настя слабо вздрогнула, когда муж обнял её, закрыла глаза. Совсем по-детски всхлипнула. Вскоре она уже спала у него на руке, а ещё через мгновение заснул и сам Закатов. Низкое осеннее солнце, прорвавшись через тоненькие ветви берёз, пробило комнату широким лучом, и в луче этом появилась Дунька. На цыпочках просеменив через спальню, она бесшумно задёрнула занавеси, вздохнула, покачала головой. Истово перекрестила свою спящую барыню. Подумав, размашистым крестом осенила и храпящего барина. И лишь после этого мягко, по-кошачьи ступая, вышла из спальни.
* * *
– Ну, Настасья Дмитриевна, – не было у бабы забот, так купила себе баба порося! – мрачно объявила Дунька, войдя в комнату барыни и с размаху опуская на стол стопку выглаженного белья. – И что только у барина в голове было, когда он эту Васёнку привёл, – побей бог, не разумею!
– Да уж поболе, чем у тебя, у барина-то в голове! – нахмурилась Настя, ловко подхватывая рассыпавшееся бельё. – Ты в рассуждения не ударяйся, не по чину тебе, а толком говори! Что тебе Васёна? Дерзит или не слушается? Или работает плохо?
Стоял холодный октябрьский день. Небо было обложено тяжёлыми сизыми тучами, вот-вот должен был хлынуть дождь. Облетевшая липа за окном дрожала на ветру. Где-то на задворках уныло и монотонно орал петух, и этот бестолковый крик только усиливал осеннюю скуку.
– Ей-богу, зарезать на суп прикажу… – вслух подумала о петухе Настя. – И так голова ноет, а он ещё и голосит, проклятый… Так что стряслось с этой Васёнкой?
– С ней-то, шишигой, ничего… А вот с вами, не ровён час, да с барином – случится, коль не спровадите её подобру-поздорову! – зловеще предрекла Дунька. – А что улыбаетесь-то? Барину-то всё пустяк, привёл, сбросил вам на руки – а вам тоже горюшка мало! Одна я в доме обо всём думать должна!
– Ну, разумеется, без тебя нам всем давно бы пришёл конец…
– А то нет?! – подбоченилась Дунька. – Я-то, как эту Васёну увидала, сейчас подхватилась – и к Агариным понеслась! У меня там кума в ключницах обретается… И всё как есть вызнала! Гоните её, барыня, прочь, покуда беды не сделалось!
– О-о-ой, только не говори, что она ведьма и от её взгляда молоко киснет…
– Хуже!!! Ведьма не ведьма, а Гришки Стрижа невеста наречённая! – выпалила Дунька и торжествующе взглянула на свою барыню. Настя потёрла пальцами лоб, нахмурилась:
– Подожди-подожди… Какого ещё Гришки Стрижа? Это того самого, который…
– Истинно!!! Сами помните, он ещё перед Пасхой от барина сбёг, да ещё какой убыток учинил – полдома спалил! И по лесам теперь хоронится, как леший, и цельная ватага у него таких же лешаков! Они и у Трентицких дальний хутор сожгли, и Лазареву-барыню на дороге подловили и такое с ней учинили, что сказать вам совестно, хоть вы и мужняя жена! И Истратиных старосту Гришка в овраге зарезал, и…
– Ну, будет, будет, мне ясно. Но с чего ты взяла, что наша Василиса как-то к этому причастна?
– Может, и не причастна, а только бережёного бог бережёт! – отрезала Дунька. – Мне Пантелеевна рассказывала, что Гришка до своей наречённой сам не свой был! Из-за неё, Васёнки этой, весь сыр-бор и разгорелся! Из-за неё он и барина чуть не порешил, из-за неё Гришка…
– Так в чём же был сыр-бор? – недоверчиво улыбнулась Настя. – Как в этих глупых романах, не смогли обвенчаться попросту, без страстей-мордастей?
– Вам смехи всё! А только барин не дозволил венчаться-то, Гришка и осерчал! Да ещё говорят, будто…
– Довольно, избавь меня от этих сплетен! – замахала руками Настя – и тут же обессиленно откинулась на спинку кресла. – Боже, да как же виски ломит, хоть бы впрямь дождь пошёл… Дунька! Ты мне с утра ливень обещаешь, и где он?!
– Сбегать поторопить? – невинно осведомилась Дунька.
– Слушай, я в тебя сейчас кину чем-нибудь!
– Воля ваша, а что с Васёнкой прикажете? Вы разумейте, что Гришка её всё равно для себя добудет! Спалит вам всё имение, в убыток вгонит – а добудет, потому он до неё больной с малолетства! Вот моё вам слово, избавьтесь от этой шишиги поскорей, покуда…
– Кто бы меня от тебя избавил! – полусердито оборвала её Настя. – Как я, по-твоему, смогу от неё избавиться, если это – приобретение Никиты Владимировича?
– Барин её вам подарил, стало быть, и распоряжаться вам!
– Всё, замучила ты меня! Поди вон! И… Позови ко мне Васёну.
Дунька гордо прошествовала в людскую. Когда она скрылась, Настя встала, озабоченно встряхнула обеими руками тяжёлую косу, так и не уложенную с самого утра в причёску, и несколько раз прошлась по комнате. Остановившись у окна, всмотрелась в голый, облетевший сад, грустно вздохнула.
Осторожное шарканье босой ноги по полу заставило Настю обернуться.
– Изволили звать, барыня?
Василиса стояла у дверей. Настя обернулась к ней – и невольно залюбовалась стройной фигурой девушки, не испорченной даже старым мешковатым сарафаном, её густой косой, переброшенной на грудь, чистым, строгим, красивым лицом, длинными стрелами бровей, синими спокойными глазами.
– Бог мой, как же ты хороша! – искренне сказала она, подходя к Василисе. – Я такого и не видала никогда!
– Шутить изволите, барыня, – ровным голосом отозвалась та.
– Какие шутки, когда и впрямь – Василиса Прекрасная! Вот только что мне с тобой делать теперь?
– Что желаете, воля ваша.
– Что ты скажешь, если я выпишу тебе вольную?
– Ка-а-ак это?.. – ахнула Василиса.
– Очень просто, – пожала Настя плечами. – Ты мне ни копейки не стоила, стало быть, в убытке не останусь. Барин, я уверена, возражать не будет. Справим документы в уезде, и ты – свободна!
– Барыня, миленькая!!! Да за что же?!! – простонала Василиса и с размаху кинулась опешившей Насте в ноги. – За что же гневаться изволите?! Что я худого сделала, чего вам про меня наговорили?!
– Как, ты не хочешь быть свободной? – озадаченно спросила Настя. – Да встань ты, дура, что за глупости такие?! Поднимись и объясни, только без рыданий! Ну, бог с тобой, не будет тебе вольной, только растолкуй же…
– Да чего ж тут толковать?.. – Василиса неловко, цепляясь за дверной косяк, поднялась. Руки у неё дрожали, по бледному лицу ползли слёзы, и девушка тщетно вытирала их рукавом. – Куда же я, вольная, пойду-то? У меня на всём свете родни никого, кроме дедушки, у господ Агариных остался… Куда денусь-то, барыня, благодетельница? Чем на хлеб заработаю? Кто из господ местных вольную в работу возьмёт, коли у каждого свои люди есть? А в городе я и не знаю никого, и…
– Ты могла бы отыскать своего жениха.
Васёна побледнела так, что на лице, казалось, остались одни огромные синие глаза, и Настя против воли снова залюбовалась ею. «Родит же Господь красоту такую… Будь она дворянского сословия – вся высшая знать лежала бы у неё в ногах!» Вслух же она удивилась:
– Да что ж ты так перепугалась? Я не буду чинить препятствий!
Василиса закрыла глаза. Несколько раз глубоко, всей грудью вздохнула, явно силясь успокоиться и взять себя в руки. Ей это удалось. Через мгновение она уже прямо смотрела в лицо Насте и своим ровным, почти бесстрастным голосом говорила:
– Барыня, я вам присягнуть готова, что пустое это всё. Всё, что вам про меня и про Гришку наговорили. Пустое и напраслина. В том могу и крест поцеловать.
– Ты хочешь сказать, что он не был твоим женихом?
– Николи! Да дедушка и не согласился бы никогда! Да кто ж за него пошёл бы, за Гришку, за аспида такого?! Свататься – сватался! Да барин наш… – тут Васёна запнулась, и по её лицу разлилась густая розовая краска. Настя, подойдя, смотрела на неё с растущим любопытством.
– И что же приказал твой барин?
– Сказали, что я не для мужика сиволапого рождена… Изволили распорядиться в комнаты меня взять… в услуженье… Сыну хотели приятное сделать… – Васёна смотрела в пол у себя под ногами. – А мы что же… Мы люди подневольные… Только с того дня дедушка уж сильно занедужил. Он и так грудью мучился, а без меня и вовсе… И в саду ему трудно стало…
Настя встала и, не замечая того, как испуганно умолкла девушка, принялась ходить по комнате.
– Ох уж мне Агарины эти… И старый, и молодой… Так чем же ты занималась до того, как попала в барские комнаты?
– Изволите видеть, садом господским мы с дедушкой занимались и ранжиреями, – лицо Василисы вдруг посветлело, она слабо улыбнулась, вспоминая. – Вот ей-богу, барыня, не хвалюсь, но таких цветов, как у нас с дедушкой… То есть у барина нашего… ни у кого в целой губернии нет! Дедушка и в Москву два года назад ездил и такие редкие диковинки оттуда привёз, что мы с ним ночами не спали, думали – не приживётся, не вырастет, цвету не даст… Всё, как есть, всё прижилось!
– Так ты садовница? – разочарованно спросила Настя. – Но что же мне тогда с тобой делать? У меня и сада никакого нет! Мы не такие господа, как Агарины, чтобы подобными пустяками тешиться, да ещё людей на них отрывать! Если бы ты хоть в огородном деле понимала…
– Я, барыня, и в огородном смыслю! – торопливо перебила Васёна. – И семена, и гряды, и овощь вся на нас с дедушкой была! Нам и девок в помощь давали, когда работы было много, и… А отчего же, барыня, вы сада не желаете? Упаси меня господь насмелиться советы давать… Но вон ведь у вас под окном какое место чудесное даром под мусором пропадает!
Настя машинально выглянула в открытое окно. Там буйно топорщилась пожухшими сорняками довольно большая лужайка, на которую прежде стаскивали строительный хлам.
– И в самом деле… Как-то нехорошо, – вынуждена была признать она. – Я прежде почему-то не замечала… Но послушай, милая, я же не могу оставить тебя для занятий пустяками, когда…
– Отчего ж пустяки-то?! – всплеснула руками Васёна.
– Сколько тебе лет, Васёнка?
– Шестнадцать, барыня… – одна надежда на то, что она сможет вернуться к любимому делу, зажгла на щеках девушки яркий румянец. – Отчего же вы цветы пустяками зовёте? Ведь самые красивые создания господни они есть! И таковы разные, и привычки у каждого цвета свои, и язык свой, и…
– Язык? – насмешливо улыбнулась Настя.
– А как же?! Как есть у каждого свой! Вы думаете, люпин георгину поймёт когда? Их и рядом сажать николи нельзя: заедят друг друга, рассорятся, и земля под ними бедна станет! – воодушевлённо рассказывала Василиса. – А ежели, к примеру, к тому же люпину астру подсадить, так душа в душу жить будут, и никакого навозу не надобно для них! А коли вам аромат приятный в саду нужен, так можно аглицкий душистый горошек во-он там, у стеночки высадить, и двойная выгода будет! Во-первых, стену он так оплетёт, что никакого безобразия видать не станет, а во-вторых, от него вечерами такой дух идёт, что…
– Довольно, довольно, – Настя удивлённо осмотрела взволнованную девушку с головы до ног. – Воистину, я не понимаю Мефодия Аполлоныча… Такую разумную особу взять для услужения барчуку?!
Василиса приняла её слова за насмешку и жарко вспыхнула. На ресницах у неё выступили слёзы.
– Прощенья просим, барыня… Забылась я…
– Глупости! – отмахнулась Настя, снова принявшись ходить по комнате: неожиданное предложение уже захватило её. – Но скажи мне, милая, если, допустим, я решу весной засадить эту лужайку… Всё равно она более ни подо что не годна… Во что мне это обойдётся? Ведь цветы и семена придётся покупать, и время, по-моему, уже упущено, и…
– И-и, барыня, ни во что, ей-богу! – взмахнула руками Василиса. Лицо её снова засияло. – Я одна и землю подыму, и коренья повыберу, и земельку распушу! Дело-то привычное, с малолетства на нём! Тем более что сейчас как раз последние самые денёчки для этого остались! Я так земельку подготовлю, что весной и навоза не надо будет – сама собой родит!
– А сажать, сажать-то что будешь? – рассмеялась Настя. – Лебеду с задворков?
– Добуду! – уверенно сказала Василиса. – У нас с дедушкой знакомства по цветочным делам такие были, что и предводителю не снились! Всю округу обойду, а найду всё, что требуется! И вам это ни в грош не обойдётся, Христом-богом клянусь! Вот увидите, какая красота будет! И огород вам по весне налажу лучше, чем у господ Агариных!
– Как ты, однако, загорелась! – Настя, качая головой, разглядывала девушку. – Право, не знаю, будет ли из этого толк… Ну да хуже уж не окажется, думаю.
– Сами увидите, барыня, какая красота у вас под окном окажется! – истово перекрестилась Василиса. – Дозвольте только заступ взять!
– Что ж, я распоряжусь, и завтра тебе всё…
– Да пошто же завтра? Я и сегодня взяться могу, для чего же хорошему дню пропадать?
– Да ведь дождь с минуты на минуту хлынет! Зальёт тебя, дура, водой!
– Ничего, чай, не сахарная… Дозвольте, барыня…
– Ну, господь с тобой. Иди покуда в людскую обедать… Да поешь, сказано тебе, успеешь в земле накопаться! Экий крот на мою голову взялся! А я распоряжусь. Всё, что тебе будет нужно, возьмёшь у Ермолая, если он ещё не пьян. Ну, что же ты стоишь? Ступай.
Василиса и впрямь почему-то медлила, стоя у порога. Когда же Настя сделала нетерпеливый жест, девушка подошла к ней, низко, до земли поклонилась и поцеловала ей руку.
– Благодарствую…
– Да ступай же! – уже слегка рассерженно велела она, и Василиса исчезла.
Оставшись одна, Настя пожала плечами, тихо рассмеялась чему-то и подошла к окну. Там из-за дальнего леса поднималась туча, и первые капли уже ударили в окна.
* * *
– И только ради этого вы просили вас принять, Михаил Николаевич?
– Моя просьба кажется вам несущественной, господин Брагин?
Начальник Александровского винокуренного завода не ответил на вопрос посетителя. Неспешно поднявшись из-за стола, он сделал несколько шагов по кабинету, остановился у окна. Это был большой, уже отяжелевший человек лет сорока с некрасивым, грубо рубленным лицом, обрамлённым седеющими николаевскими бакендардами. Мохнатые, растрёпанные брови придавали ему угрюмый вид. Под набрякшими тяжёлыми веками были почти скрыты тёмные внимательные глаза. Побарабанив пальцами по подоконнику, он вновь обернулся к просителю:
– И всё же я не понимаю вас. Вы сосланы на поселение и под надзор полиции. Проживаете на квартире отца Порфирия. Никакого отношения ни к заводу, ни к моим разбойникам не имеете. Вам дозволено иметь книги, продолжать свои занятия, никаких ограничений в передвижении… Чего ж вам больше и к чему эта филантропия? Неужто вам мало её оказалось в Москве?
Михаил Иверзнев, сидящий у массивного, крытого потёртым зелёным сукном стола вспыхнул было, но сдержался. Сердито взъерошив ладонью волосы, он глубоко вздохнул и сказал:
– Филантропия здесь совершенно ни при чём. И решать, разумеется, вам. Но я, право, не понимаю, чем вам помешает моя работа в заводском лазарете. Я, как вы знаете, учился на хирурга. Последнюю кампанию прошёл с бригадой Пирогова, меня ни кровью, ни увечьями не напугать. Если бы не арест, сейчас я уже сдал бы экзамены, кончил курс и получил диплом. Вам не нужен такой фельдшер?
– Да ВАМ-то всё это к чему, господин Иверзнев? – пожал плечами Брагин. – Каторжане – народ непростой, с ними не враз сладишь, уметь надо…
– Не люблю сидеть без дела, – коротко пояснил Михаил. – А для врача, как и для священника, все равны – что каторжный, что вольный. Смею вам заметить, что лазарет заводской находится не в лучшем состоянии. Я с вашего недавнего разрешения заходил полюбопытствовать. Два фельдшера-инвалида, которые вечно пьяны. Грязь. Ухода за больными мало… Вернее, его вовсе нет. Однако не так уж трудно всё это поправить. И вам выгодней: быстрее на ноги ваши рабочие вставать будут. И смертей меньше окажется.
Брагин молчал, продолжая не спеша расхаживать по кабинету. Бронзовая чернильница на столе вздрагивала от его шагов. Иверзнев, глядя ему в спину, негромко сказал:
– Здешний народ отзывается о вас хорошо. Говорят, что вы справедливы и понапрасну не мучаете людей. Большая редкость по нынешним местам, как я уже успел заметить.
– Экого комплимента получил, – без улыбки отозвался Брагин. – А ну как врут они, люди-то? Вы, Михаил Николаевич, здесь человек новый. Я вам рекомендую поменьше слушать моих разбойников. Они без вранья часу не живут, так что…
– Я сам видел, как вы приказали по прибытии этапа немедленно расковать всех женщин.
– Разумеется. У меня бабы в кандалах не ходят.
– На других заводах не так. И мужики говорят, что в заводе тоже работают без ручных кандалов. Хотя правила предписывают…
– Те, кто писал эти правила, работы нашей не знают, – невозмутимо пояснил Брагин. – Некоторые вещи исполнять в кандалах попросту невозможно. А расковывать этих чертей с утра и заковывать их обратно вечером – никакого времени не хватит. Так что, сами видите, всё имеет свой резон.
– Ревизоров не боитесь? – с интересом спросил Михаил. Брагин только усмехнулся.
– Что ж, Михаил Николаевич… Коль вам нечем более себя занять – прошу в лазарет. Но предупреждаю – это не московская больница. Действительно – грязно, вонюче и вшиво.
– Сделаем лучше.
– Мда?.. Ну, бог в помощь. Денег, однако, не дам. Я не вор и прибылей по карманам не прячу. Но и отдавать их на пустяки тоже не намерен. У меня своё начальство, всё хозяйство подотчётное и…
– Никаких денег и не надо. Нужно только, если не пожалеете, несколько баб – отмыть лазарет хорошенько и в дальнейшем поддерживать чистоту. Всё остальное я налажу сам. Я хотел вас попросить, если возможно, ещё об одном одолжении. От моей квартиры до завода идти довольно долго… нельзя ли мне при лазарете какую-нибудь комнатёнку занять? Я неприхотлив, мне много места не надо. Просто чтобы не тратить время на ненужную беготню по утрам и вечерам.
– Да чем же вам отец Порфирий не угодил?! – непритворно изумился Брагин. – Уж, казалось бы, так рад был, что учёный человек из столицы у него поселился! Матушка его в восторге, поповны – те и вовсе… Ведь в экий цветник вы попали, Михаил Николаевич! Шесть девиц – и все на выданье! Даже весьма на выданье…
Брагин говорил абсолютно серьёзно, но в его тёмных глазах скакали весёлые искорки. Михаил улыбнулся в ответ – слегка смущённо.
– Я это тоже успел заметить. По-моему, я только шуму лишнего наделал в почтенном семействе, а я… мне… Удобнее было бы просто находиться постоянно при лазарете. Вот и всё.
– Ну, как знаете. Место найдётся. Однако странный вы молодой человек… – Тёмные глаза испытующе взглянули на Иверзнева из-под тяжёлых век. Тот посмотрел в ответ спокойно и прямо, чуть улыбнулся. Брагин, в очередной раз пожав плечами, вернулся за свой стол, сел (дубовый стул сердито скрипнул) и положил на зелёное сукно огромные руки со сбитыми костяшками пальцев.
– Ну что же… воля ваша. Квартиру вам подготовят быстро. Сможете хоть завтра переехать. Прежних фельдшеров, однако, оставьте. Они, конечно, выпивохи, но в здешнем народце поболе вашего разбираются. Думается, полезны будут.
– Как вам угодно. Я и не собирался никого гнать.
– Скажите, Михаил Николаевич… Вы ведь с отличием курс должны были окончить?
– Должен был, – с едва заметной иронией в голосе ответил Михаил.
– В таком случае и я хотел бы просить у вас одолжения.
– Разумеется, всё, что смогу.
– У меня, видите ли, дети… Дочь в Иркутске в пансионе обучается, а Алёша здесь, при мне… И не могу никуда его отправить, поскольку болен сынок мой. Летом-то, слава богу, ничего, а как к зиме дело – просто с ног валится! Обмороки какие-то, голова кружится… Показывал докторам в Иркутске, говорят – болезнь сердца. А Алёшке всего-то десять лет! Я в эти годы не знал, где оно, это сердце, и находится в организме! Началось у него, однако, недавно, три года назад… После смерти супруги моей. Очень он мать любил… – Брагин говорил медленно, словно с трудом выбирая слова. Его лоб перерезала глубокая складка. – Так вот я хотел бы попросить вас, господин Иверзнев, – не изволите ли вы Алёшку осмотреть?
– Конечно, я готов, всей душой… – слегка растерянно сказал Михаил. – Но, боюсь, у меня мало опыта… Тем более что врачи из Иркутска уже видели вашего сына. Впрочем, я, конечно, выполню вашу просьбу. И если смогу чем-то помочь…
– Идёмте, – не дослушав, отрывисто сказал Брагин, и оба встали. Покинув кабинет, прошли через большие тёплые сени, устланные половиками. Возле дальней двери им навстречу легко поднялся невысокий, но очень стройный и ладно сложенный кавказец с узким, замкнутым лицом. На нём был пыльный и рваный бешмет, перетянутый красным кушаком, из-за которого торчал огромный кинжал. За спиной кавказца, на пестрядевом половике, лежало разобранное ружьё. При виде Брагина он коротко поклонился, а на Михаила уставился недоверчивым угрюмым взглядом.
– Сиди, Хасбулат, это доктор к Алёшке, – бросил на ходу начальник завода, и кавказец снова бесшумно опустился на пол. Михаил, проходя мимо него, с изумлением кинул взгляд на оружейные части, но ни о чём не решился спросить.
Комната брагинского сына была маленькой: свеча в медном шандале освещала её почти целиком. Войдя внутрь вслед за Брагиным, Иверзнев увидел у окна некрашеный стол с шахматной доской, там же – сваленных в кучу солдатиков, в углу – старую лошадку-качалку. На полке стояли книги. Несколько из них, раскрытые, валялись на столе рядом с шахматами. На стене висел портрет молодой женщины. Изразцовая печь в углу источала ровное тепло. Большая кровать была расстелена, и в постели под пуховым стёганым одеялом сидел мальчик лет десяти. Он удивлённо посмотрел на гостя.
Алёша Брагин ни капли не был похож на отца. С бледного до синевы, тонкого, болезненного личика смотрели огромные, прозрачные серые глаза. Взгляд мальчика был внимательным, умным и грустным – как у взрослого, много видевшего человека. Рядом с ним на одеяле лежала раскрытая книга. Михаил машинально пригляделся: это была карамзинская «История государства Российского».
– Алёша, поздоровайся, – ласково сказал Брагин, подводя Михаила к кровати сына. – Это наш новый доктор заводской, Михаил Николаевич Иверзнев. Он сейчас тебя посмотрит.
– Здравствуйте, господин доктор, – вежливо сказал мальчик. – Право, вам не стоило беспокоить себя.
– Рад нашему знакомству, Алексей Афанасьевич, – серьёзно, как взрослому, ответил ему Михаил. – Никакого беспокойства быть не может, осмотр займёт совсем мало времени. И вы вернётесь к своему занятию. Вам нравится история?
– Очень! Так интересно! Жаль, что у меня лишь один том… И тот чудом ко мне попал. – Мальчик, повинуясь просьбе Иверзнева, снял рубашку, обнажив неожиданно сильный и стройный торс. – У отца Порфирия нашёл, а тому после одного квартиранта осталось… Я так просил поискать, нет ли остальных, – не оказалось, к несчастью.
– У меня есть, – сообщил Михаил, с помощью роговой трубки старательно выслушивая грудь маленького пациента. – Дышите… Ещё… Ещё, пожалуйста… А теперь не дышите… У меня все шесть томов, и я готов их вам предоставить, если ваш папенька позволит.
– Разумеется! – Худенькое лицо Алёши просияло. – Спасибо, спасибо большое! Так скучно, знаете, лежать целыми вечерами напролёт… Папа, ты ведь разрешишь?
Брагин молча, с улыбкой смотрел на сына. И в улыбке этой было столько нескрываемой любви и горечи, что Иверзнев едва подавил вздох.
– Каков же ваш вердикт, Михаил Николаевич? – отрывисто спросил начальник завода, когда они покинули комнату Алёши и вновь оказались в кабинете с дубовым столом.
– К сожалению, вряд ли смогу что-то добавить к выводам местных докторов, – не сразу отозвался Михаил. – Аритмия, да, имеется. Перебои в сердце есть. И если, с ваших слов, случаются обмороки и долгие приступы слабости, то… Мне, право, жаль, что не могу вас обнадёжить.
Брагин потемнел. Коротко сказал:
– Благодарю вас.
– Но не следует вовсе терять надежды! – торопливо добавил Иверзнев. – Медицина, знаете, ошибается часто, и…
– Мать его от того же самого умерла, – хмуро перебил Брагин, и Михаил растерянно умолк. Чуть погодя сказал:
– Я обещал Алексею Афанасьичу книги. Вы позволите прислать сегодня же?
– Мал он ещё для Афанасьича-то, зовите Алёшкой, – усмехнулся Брагин, и мучительная складка на его лбу разгладилась. – Разумеется, присылайте. Верней, сами и занесите, жду вас ужинать нынче вечером. Вы, я вижу, Алёшку-то заинтересовали сильно. Он у меня книжник этакий, всё что-то новенькое просит да вопросы задаёт. А у меня, признаться, не всегда время на него есть. Коли не почтёте за труд, заходите с ним поболтать изредка. И он, и я рады будем.
– Буду счастлив, – улыбнувшись, согласился Михаил. – В таком случае не смею более вас задерживать… и… последняя просьба, если позволите.
– Слушаю вас.
– Вместе со мной по этапу прибыли две женщины. Силина Устинья и цыганка Мурашкина Катерина. Так сложилось, что с Устиньей я знаком ещё с Москвы, а с цыганкой имел удовольствие не раз беседовать во время следования по этапу.
– Подождите… припоминаю, – наморщил лоб начальник завода. – Силина вместе с братьями Силиными, один из которых стал ее мужем, по документам прежним, кажется, Шадрина, убила управляющую имением, а Мурашкина… у неё покушение на земского исправника?
– Примерно так, – помедлив, подтвердил Иверзнев. – Так вот, обе женщины – отличные травницы. Устинья в своей деревне лечила пол-уезда, и я сам имел возможность убедиться в её способностях. Катерина же, как она сама говорит, «лесной человек» и в травах тоже отменно ведает. Сейчас обе они работают на заводе, таскают воду в упряжке с прочими. Я осмелюсь просить, если это возможно, перевести обеих в лазарет. Они могут быть мне там весьма полезны. Устинья привезла с собой целую копну всяческой травы, отдала мне на сохранение и сушенье. А я боюсь без неё перепутать что-нибудь, и вообще… А весной-летом снова начнётся травный сбор, и тут уж я без этих баб как без рук! Сам-то я, в отличие от них, человек отнюдь не лесной!
– Стало быть, Устинья, которая по мужу Силина, и Катерина Мурашкина… – Некрасивое лицо Брагина было абсолютно серьёзным. – Что ж… Если у них, по вашим словам, такие исключительные способности, то извольте, я пришлю их вам. Пока что можете распоряжаться в больнице на ваше усмотрение. А вечером жду вас в гости. Уверен, что и сын будет в нетерпении.
– Благодарю вас, – Михаил поднялся, коротко поклонился. Уже подойдя к порогу, спросил: – Скажите, а вашего горца там, в сенях, действительно зовут Хасбулат?
– Он черкес, – уточнил Брагин. – И настоящего его имени вам нипочём не выговорить. Мне, впрочем, тоже. Хасбулатом – это я его окрестил. Он, изволите видеть, у себя в ауле жену зарезал из ревности. И соседа, который эту жену пытался украсть. Хасбулат у меня при Алёшке состоит, я им полностью доволен.
– Понятно, – слегка растерянно сказал Иверзнев. – В таком случае – до вечера, Афанасий Егорович.
Когда за Михаилом закрылась дверь, Брагин недоверчиво усмехнулся, пожал плечами. Встал и, сделав несколько шагов по кабинету, снова глубоко задумался у окна.
* * *
Первый снег в Москве выпал поздно, в самом конце ноября. Он хлопьями валился с тяжёлого свинцового неба, нависшего над церквушками и домиками Замоскворечья. Белесые полосы мелькали между липами и вётлами, ложились на высокие заборы, на крыши и наличники. На тротуарах уже высились пушистые островки. Лужи были покрыты тонким ледком. Он с хрустом ломался, когда по нему ступали две савраски, влекущие похоронные дроги с закрытым гробом.
Похороны были бедными: за гробом шло всего несколько человек. Все они были молоды: двое студентов, сжимающих в руках университетские фуражки, двое мастеровых – судя по перемазанным красками зипунам – красильных или иконных мастерских, и три девушки. Одна из них горько всхлипывала, цепляясь за локти подруг. Те наперебой утешали плачущую:
– Варенька, милая, да что ж поделать-то… Такова доля людская! – гудела низким, почти мужским альтом девица дет двадцати в мужском овчинном полушубке. Её круглое веснушчатое озабоченное лицо выражало искреннее сочувствие. Красные от холода пальцы беспрестанно гладили рукав подруги. – Оно что же, оно от бога положено – старым-то людям помирать. Горе, а куда ж деться? Ты не убивайся, мы тебя не бросим, нешто не свои люди? Ты – мастерица, девица честная, разумная. Мы ещё тебя замуж за стоящего человека выдадим, а Трофим Игнатьич на небеси возрадуется…
– Какие глупости, Флёна, право, ты несёшь! – грустно перебила её худенькая девушка в чёрном изящном, но потёртом пальто, которое уже не раз было чинено и перешито. Вместо платка на ней был такой же потёртый ватный капор, из-под которого выбивались непослушные пряди светлых волос. Лицо девушки было бледным и болезненным, но голос звучал твёрдо. – У Вари такое горе, а у тебя одно замужество на уме! Ей теперь нужно думать, как прожить… Ох, ведь почти всё, что было, эти похороны съели! Ну, ничего, ничего. В одном Флёна права – вместе не пропадём!
Но Варя, не слушая подруг, плакала навзрыд. Старый пуховый платок совсем сполз с её головы, подставив под снежные хлопья рыжие, роскошной густоты волосы. Слёзы ползли по лицу, девушка не вытирала их, горестно шепча:
– Тятенька, милый, родненький, да на кого ж вы меня покинули… Да как же я без вас теперь… Да что же мне делать, как жить-то, господи… Тятенька-а-а…
Снег пошёл гуще. Впереди уже виднелась ограда Пятницкого кладбища, откуда доносился унылый церковный звон.
– Мало поминок, так ещё и здесь убытки! – мрачно сказал один из студентов, комкая в кулаке фуражку и ероша чёрные, и без того растрёпанные волосы. – Видано дело – попу заплати, причту – заплати, богомолкам этим – заплати… На одни свечи полтина ушла! А покойный и в Бога-то веровал для приличия, и монашек галками бессмысленными называл! Я сам слышал! Право слово, лучше бы за квартиру заплатили да красок Варваре Трофимовне купили! Киноварь вчистую вышла ещё третьего дня!
– Андрей, да помолчи же ты, дурак! – сердито оборвал его товарищ. – Похороны и те для своих проповедей выбрал! Если Варя захотела панихиду – значит, так надо! И не наше дело рассуждать! Тем более что пользы в твоих рассуждениях – нуль! Скажи лучше – отпустит Канавин киновари в кредит или лучше и не соваться?
– Тебе, Петька, не отпустит, вид у тебя не кредитный… а вот Анниньку пошлём. Да и заплатить можно будет в пятницу, когда у меня за уроки расчёт будет. Худо то, что Емельянов за квартиру вперёд просит, ирод… будто не видит, в каком Варвара Трофимовна положении! С него станется и на улицу выставить!
– Ну, этого мы не допустим! У меня есть кое-какие мысли. Вот только сейчас, боюсь, не время…
– На поминках можем потолковать, господа скубенты, – солидным баском вмешался третий товарищ. У него не было университетской фуражки, и его бараний, испещрённый заплатами полушубок был весь испачкан красками. Голубоглазая физиономия была отмыта и отскоблена, очевидно, со всем тщанием, но под волосами и за ухом предательски виднелись следы всё той же краски. – Мы с Яшкой тоже не лыком шиты, пропасть Варваре Трофимовне не дадим! Добро ихнее и тятеньки её хорошо помним. А что до киновари, так будет завтра же, чтоб мне света не видать! Ещё и сепии добудем!
– Сопрёт, как есть сопрёт, – уверенно сказал его друг, потирая плохо выбритый и тоже не отмытый от краски подбородок. – Вот помяни моё слово, Антон, попадёшься! Мастер – он тоже не слепой, додумается когда-нибудь, куда краска девается!
– А! – отмахнулся Антон. – У этого живодёра не взять – дураком остаться!
– Да тише вы… Варя услышит! После поговорим, сейчас главное – панихиду выдержать! Вот, ей-богу, я бы на месте правительства законом отменил все эти похороны и поминки! Покойному это всё равно без разницы! Те же попы учат, что он уж не с нами, а в лучшем мире, чего ему и желаем… А близким одни убытки… Да ещё любуйся на эти пьяные рожи за столом! При жизни покойному и помочь не хотели – а теперь сидят с постными физиономиями, пьют за чужой счёт и рассуждают глубокомысленно о бренности бытия земного! Тот же Емельянов…
– Да заткнись ты, ей-богу, Андрей! – шёпотом рявкнул Петя, кивая на растрёпанную рыжую головку впереди. – Хоть сейчас идеями не фонтанируй, невместно… Хотя ты прав… Уж очень это всё утомительно. Да и для Варвары Трофимовны тяжело.
Студенты не ошиблись. Поздним вечером, когда снег за окном маленькой квартиры на Полянке валил стеной, а гости с поминок уже удалились, Варя была едва жива. Она полулежала на узкой кровати, запрокинув осунувшееся от слёз и усталости лицо, а вокруг суетились подруги. Анна стаскивала с ног Вари чулки, сильная Фёкла, которую все звали Флёной, расчёсывала частым гребнем рассыпавшуюся, спутанную косу.
– Флёна, Аннинька, да оставьте… Да что я – барышня, я сама, сейчас сама встану… – бормотала Варя, силясь приподняться, но голова её падала, а глаза закрывались сами собой. Наконец она заснула на полуслове. Девушки сообща уложили её на кровати, укрыв платком и аккуратно подоткнув его со всех сторон.
– Вот и слава богу, вот и хорошо. Ишь, наревелась, бедная… – вздохнула Флёна, могучим движением бедра придвигая кровать к стене и придерживая качнувшуюся лампадку перед образом. – После всех этих страданий поспать – самое первое дело! А мы с тобой, Анна, идём. Там, в кухне, уж вовсю совещаются!
В тесной кухне, которая служила одновременно и спальней, и мастерской покойному отцу Вари, действительно разгорелись жаркие прения. Помимо студентов и мастеровых, здесь домывала в тазу посуду после поминок мать Флёны, Марья Спиридоновна – хозяйка крошечной швейной мастерской. Вытирала же эту посуду старшая сестра Анны, Полина Григорьевна, – белокурая высокая дама, служившая в одном из московских пансионов. Подруги вошли как раз в разгар спора.
– …и нечего тут умничать, я ей место завсегда в мастерской сохраню! – Марья Спиридоновна с чувством грохнула тарелками и тут же испуганно заглянула в таз – не разбились ли. – Варя – девушка старательная, с клиентками вежливая. Чтоб нагрубить или поперёк слово молвить – никогда, а ведь клиентки всякие бывают! Иная и сама не знает, что хочет, а попробуй не потрафь! Нет, Полина Григорьевна, вы хоть и учёны и место имеете, а я вам так скажу: у нашей сестры кусок надёжный, твёрдый должен быть! Чтоб ни на кого, кроме себя самой, огляда бы не было! Я Варенькой всегда довольна была и батюшку её покойного уважала. А уж какую он мне вывеску расписал да по-соседски ни гроша не взял!.. Кто ж я буду, ежели его дочку оставлю? Нет, Варенька у меня будет! Я ей жалованье хорошее положу, и клиентки у неё постоянные имеются, белошвейка она выдающая! Так чего же ещё надобно?
– Вы, конечно, правы, Марья Спиридоновна, – задумчиво говорила Полина. Молодой женщине было не больше двадцати пяти лет, но её сильно старило чёрное траурное платье, круглые очки и продольные морщины на бледном лбу. – Разумеется, верный кусок хлеба для женщины – это очень много. Но, вспомните, Трофим Игнатьич хотел, чтобы Варя не бросала живопись. Она в самом деле очень талантлива. А за шитьём она довольно быстро испортит глаза, и что же тогда?
Марья Спиридоновна недовольно вздохнула, но не нашлась, что возразить. Вместо неё быстро и сердито заговорил один из студентов: черноволосый и взъерошенный Андрей Сметов:
– Конечно же, нельзя бросать живопись! Тут и речи быть не может! Кабы это обычные акварельки дамские были, птички да бабочки… А ведь у Варвары Трофимовны рука стоящая! Половина картин, которые батюшка покойный в магазин сдавал, ею писаны! И брали без разговора!
– Тем более что подписывалась она «Трофим Зосимов», – без улыбки напомнил второй студент – вихрастый, рыжеватый Петя Чепурин.
– Ну, тут уж ничего не поделаешь – коммерция… С дамским именем ещё и не принять могли, лавочники – народ упёртый. И батюшка всегда говорил, что ей писать надо! Опять же, классы живописные она посещала, последние деньги на это шли, а теперь вот…
– Ничего не попишешь, пришла беда – отворяй ворота! – пожала плечами владелица швейной мастерской. – Теперь уж какие классы… Теперь ей с голоду бы не пропасть да на дорожку худую не свернуть.
– Вот об этом, маменька, вы и вовсе напрасно! – сердито сказала Флёна. – Варя никогда такого не допустит! Строга сверх меры даже! Я её ни на одной вечёрке не видала, а вы…
– Не видала, покуда тятенька жив был, а теперь ещё и невесть что начнётся! – парировала мать. – Видывали мы девиц всяких, которые смолоду без родителей оставались, видывали! Иная, кажется, и воспитания хорошего, и поведения строгого, а через полгода, глядь – ни того и ни другого, одни кавалеры да трактиры загородные! Я про Вареньку, спаси Господь, ничего худого не скажу, да только ведь соблазн…
– Ну уж это вы, Марья Спиридоновна, и в самом деле зря! – Полина нервно поправила очки. – На этот счёт я, например, совершенно спокойна. И мы здесь не обсуждаем нравственность сирот, а решаем, как помочь Варе! И как сделать так, чтобы она не бросала классов!
– Складчина! – азартно предложил Андрей. – Наша, студенческая складчина! Я прямо завтра поговорю с людьми…
– Знаем мы ваши студенческие доходы-то, – без насмешки, грустно перебила его Флёна. – Дай боже, за неделю плату внесёте, а дальше? Даже если и мы добавим, все равно – не разговор… Тут постоянный добыток нужен. А ежели она работать в полный день пойдёт, тогда и не до рисованья станет, потому – свет надобен! Нет, тут уж или учиться, или работать, а вместе – никак. А учиться без платы тоже не выйдет!
– Да нешто мало она учена?! – всплеснула руками хозяйка мастерской. – И грамотна, и историю с географией, и книжек вон всяких полон шкаф… Неприлично даже для молодой девицы-то! Куда больше-то, на что ей?! И посейчас не пойму, к чему покойному вздумалось это ученье дочери в ум пихать? Для чего оно простому человеку-то? Нет, господа хорошие, вы б Варваре голову не морочили! Лучше бы жениха ей приличного подыскали – и всей мороке конец!
Тут поднялся такой возмущённый крик (особенно старалась мужская половина собрания), что Анна и Флёна тщетно шипели и махали руками, уговаривая общество голосить потише и не разбудить Варю. В разгаре праведного гнева никто не заметил вошедшего с улицы и остановившегося у дверей господина лет сорока в круглой шляпе – невысокого, сутулого, уже поседевшего. На плечах старого пальто лежали комья снега, и господин осторожно отряхивал их, стараясь, чтобы снег попадал в сени. Некоторое время он переводил взгляд с одного участника прений на другого, затем тихо покашлял в кулак – никто его не услышал. Тогда он так же осторожно начал постукивать друг о друга рыжие, давно не чищенные сапоги, сбивая с них снег. Наконец на него обратила внимание Анна.
– Господи! Аким Перфильич! Господин Нерестов! Здравствуйте! Да что ж вы так поздно-то?!
– Я прошу прощения… Разумеется, час уже поздний, – смутился пришедший. – Но Трофим Игнатьич с Варварой Трофимовной обычно рано не ложатся, и я решил… А где же они?
– Да вы откуда? – оторопело спросила Марья Спиридоновна. – Нешто не знаете ничего?
– Только утром прибыл из Петербурга, – пожал плечами Нерестов. – Так где же Трофим Игнатьич?
Карие глаза его недоумённо смотрели на опешившую компанию. Флёна, всплеснув руками, уже открыла было рот, но в это время из соседней комнаты послышался шорох. Варя – с растрёпанными волосами, с красными, опухшими от слёз глазами, жмурясь на свет, вышла из комнаты – и, увидев вошедшего, пошатнулась.
– Господи… Аким Перфильич… Слава богу! А я вас ждала, ждала… Горе у нас ка-ко-е…
Последние слова она выговорила, уже падая. Поздний гость едва успел подхватить её, и девушка разрыдалась на его плече.
Трофим Зосимов и его дочь Варя были бывшими крепостными крестьянами Гжатского уезда Смоленской губернии. Умирая, хозяин дал Зосимову и его дочери свободу. Об этом его просила жена: Трофим был талантливым художником. Дочь Варю он сам обучил грамоте, а потом за её образование взялась барыня, увидевшая в крепостной девочке недюжинный талант и способности. Под её руководством Варя выучилась истории, географии, привыкла к постоянному чтению и даже брала уроки музыки. У отца Варя училась писать красками и рисовать углём. Получалось, к изумлению Зосимова, очень неплохо. Вскоре Трофим Игнатьевич начал возить работы дочери вместе со своими на продажу, в одну из смоленских лавок. Там их охотно брали.
Оказавшись вольным, Зосимов продал своё небогатое деревенское имущество и вскоре вместе с шестнадцатилетней дочерью уехал в Москву. Из знакомых у него был там только Аким Перфильич Нерестов – художник и преподаватель Училища зодчества и ваяния, который когда-то случайно увидел работы Зосимова в смоленской лавке. Восхищённый зосимовскими солнечными пейзажами и портретами деревенских мужиков, Нерестов навёл справки, познакомился с художником и забрал некоторые из его картин в Москву на продажу. Картины продались хорошо. С тех пор Нерестов раз-два в год приезжал в гости к Зосимову, чтобы отдать деньги за проданные картины, забрать новые и в который раз пригласить Зосимовых в Москву. И вот наконец Трофим с дочерью решились на переезд.
Первое время всё и в самом деле шло неплохо. У Зосимова были скоплены кое-какие деньги. Обрадованный его приездом Нерестов тут же приискал старику с дочерью недорогую квартирку в одном из тихих замоскворецких переулков. По соседству была белошвейная мастерская, где Варя нашла работу. Нерестов, впрочем, был этим весьма недоволен, считая, что девушка напрасно портит себе глаза, когда могла бы заниматься живописью. Однако Варя спокойно возразила:
– Мы, Аким Перфильич, люди простые и бедные, нам кусок хлеба нужен. Картины – они сегодня продадутся, завтра – нет. А на стол ставить каждый день что-то надо. И за фатеру платить, и за дрова, и за воду. Как без твёрдого заработка-то?
– Но вам, Варвара Трофимовна, надобно учиться! В конце концов, грешно морить ваш замечательный талант!
– Замечательный талант, поди, не уморишь! – улыбалась Варя. – А плохого не больно-то жаль. Да и рисованье я вовсе не бросаю! Когда время находится – всегда за мольберт сяду. К тому же вы мне такие краски чудесные подарили, дорогие, поди! Благодарствую на том!
Смущённый Нерестов только махал рукой и призывал на свою сторону Зосимова:
– Трофим Игнатьевич, повлияйте же на свою дочь! Она не ценит своего таланта!
– Отродясь я на Варю не влиял, – решительно отказывался Зосимов, и в его сощуренных глазах плясали такие же весёлые искорки, как и у дочери. – Варвара – девица разумная, я иной раз и сам её послушаюсь. И насчёт работы она верно говорит: вон тут, в столице-то, какова жизнь дорога! Ежели захочет писать – я с неё воли не снимаю. А без хлеба люди тоже жить не могут, одним талантом сыт не будешь. Вы не беспокойтесь, Аким Перфильич, годы её молодые – всё поспеет!
Первый год в Москве прошёл спокойно. Зосимов продолжал писать картины – теперь это были виды московских окраин и монастырей. Сделал на заказ несколько удачных портретов. Один из этих портретов – Флёны, дочери владелицы белошвейной мастерской, – был с гордостью повешен матерью в приёмной, и заинтересованные дамы-клиентки наперебой спрашивали о художнике. Так у Зосимова появилось несколько заказчиков из богатого общества. Варя брала из мастерской работу на дом, её изящные вышивки очень ценились клиентками. В свободное время она продолжала писать, и её работы продавались наряду с картинами её отца. В маленькой квартирке на Полянке начали появляться знакомые Нерестова – молодые студенты-художники. Они наперебой уговаривали Варю всерьёз заняться живописью и не тратить свой талант на шитьё. Но девушка лишь улыбалась и отказывалась. Свои картины она подписывала именем отца, и только друзья знали, что под именем Трофима Зосимова пишет и его юная дочь.
Беда пришла неожиданно. В середине ноября Зосимов уехал в подмосковное село Коломенское писать вид на Москву-реку. День с утра был солнечным, морозным и ясным, но к обеду собрались тучи. Хлынул холодный дождь со снегом, и домой художник вернулся мокрым и промёрзшим насквозь. Всю ночь он прокашлял, утром не стало лучше. К вечеру поднялся жар. А на другой день в доме появился сумрачный и серьёзный студент-медик – Андрей Сметов. Ничего утешительного ни перепуганной Варе, ни её друзьям он сказать не смог. Простуда развивалась стремительно, началось воспаление лёгких, и через неделю Трофима Зосимова не стало.
– Мы, конечно, чем могли, помогли, – хмуро рассказывал Андрей. – Только ведь Варваре Трофимовне дальше жить надо! Вы сами видели, в каком она состоянии! С кладбища мы с Петькой её чуть не на руках несли…
– И то верно, убивается по отцу – страсть! – всхлипывая, подтвердила Флёна. – Как бы ещё не слегла с расстройства. А в доме денег – полтина, да за фатеру не плочено… Всё, что было, Варька в аптеку снесла, думала батюшке помочь… А чем же поможешь, коли время ему подошло…
– Боже мой, кто бы мог подумать… – бормотал Нерестов, нервно ероша ладонью седеющие волосы. – Ведь старик вполне крепок был… Крестьянская ведь кость! По его словам, и не болел ни разу в жизни!
– Вот такие как раз в одночасье и сгорают! – хлюпнув носом, заявила Спиридоновна. – Иная старуха всю жизнь на болячки жалуется, а всё скрипит до ста лет да родню помаленьку хоронит. А Трофим Игнатьич вон как… Дочери перед смертью только и сказал: «Живи по чести да своим умом». И как святой отошёл…
– А мы тут ломаем голову, как поступить, – осторожно вмешался Петя Чепурин. – Разумеется, Варваре Трофимовне сейчас не до устройства собственной судьбы, но ведь время пройдёт… Она теперь одна и…
– Ну, долго-то одна не пробудет, – немедленно вставила Спиридоновна. – Охотников на такое добро найдётся. У меня то и дело кавалеры об ней спрашивают, да такие все обходительные!
– Ну, знаете ли, только сводничества нам недоставало! – густо покраснев, взвился Петя. – Вы, Марья Спиридоновна…
– А вы помолчите, сударь мой! – поджала губы в оборочку хозяйка мастерской. – Я сводничеством отродясь не занималась. А только порядочной девице нужно пораньше судьбу свою устраивать! И не с голодранцем каким из красильной и не со студентом нищим – не в обиду вам будет сказано, – а с солидным человеком! Который ей и жизнь безбедную устроит, и плакать не заставит!
– Да что же это такое, господа!.. – возмутился и Андрей. – Что это за булыжники в наш огород?! Мы, кажется, никогда не позволяли себе… И с чего вы взяли, что…
– Сорок лет на свете живу, много чего знаю! – отрезала Спиридоновна.
– Дамы и господа, ругаться сейчас вовсе не время, – строго заметила Полина. – Нам надо что-то решать! Между прочим, скоро утро!
Все посмотрели в окно. Там стояла глухая ноябрьская темнота. Но скрипучие часы в углу в самом деле показывали пятый час утра, и со двора, словно подтверждая это, послышался сиплый петушиный крик.
– Аким Перфильич, скажите хоть вы этой… этой почтенной даме! – возмущённо обратился Андрей к Нерестову. – Она теперь житья не даст Варваре Трофимовне и в конце концов затащит её к себе в мастерскую навечно! А Варя ведь талантлива, ей нужно продолжать… Любой ценой продолжать писать!
– Если бы только удалось её саму убедить в этом, – грустно сказала Анна. – Варя – такая же крестьянская косточка, как её отец. Привыкла к тяжёлому труду, к постоянной работе. А живопись, как это ни глупо, трудом вовсе не считает! Так и говорит: «Если мне работа в радость и устатка не делает, значит, это не труд, а забава!» А её «Пруд в Борисове», между прочим, за двадцать рублей в лавке взяли!
– Вот на это и стоит нажимать! – провозгласил Андрей, подхватывая с блюда последний кусок селёдки. – На то, что живопись доход может приносить! И ничуть не меньший, чем вся эта белошвейная чепуха!
– Уж позвольте, сударь мой!.. – снова вскинулась Спиридоновна, но все так замахали на неё руками, что почтенная особа была вынуждена замолчать. Воцарилась тишина. Все, как один, уставились на Нерестова, который молча, задумчиво постукивал пальцами по столу.
– Аким Перфильич… – нерешительно окликнула художника Флёна. – Что ж нам поделать-то? На вас вся надёжа, как скажете – так и будет! Вас Варя послушает! Вы её батюшке другом были, такое участие в них приняли. Варька вас ух как уважает!
– А Флёна-то, то есть Фёкла-то наша, права, – с заметной неохотой признал Андрей. – Варвара Трофимовна ценит ваше мнение. Так вы её убедите, Аким Перфильевич?
– Право, не знаю, как и поступить, – медленно, глядя в стол, сказал Нерестов. – Тут даже и не я должен… Нужно, чтоб Варя сама… Сама поверила в свои силы, в то, что она сумеет… И, разумеется, мы её не оставим. Вот что, господа. Одна мысль у меня имеется. Надо только подумать, как это устроить.
В середине января, вьюжными сумерками, когда по Замоскворечью носились белые столбы снега, в большой шестикомнатной квартире на Полянке царил кавардак. Роскошная квартира принадлежала домовладельцу Емельянову и обычно сдавалась внаём. Но на сегодняшний вечер помещение было предоставлено хозяином для выставки картин молодой художницы. Купец Емельянов, хлебный торговец, державший в Москве четыре лавки, лабаз в Охотном ряду и магазин на Лубянке, отчего-то мнил себя покровителем высоких искусств. Когда молодые художники пришли к нему с просьбой о выставке, купец, недолго думая, предложил одну из своих квартир. Предложение было с восторгом принято, а самому Емельянову вручены восемь билетов на выставку – с угощением, концертом и танцами. Супруга купца, правда, забеспокоилась, что станется с квартирой после студенческой пирушки. Но мадам Емельянову клятвенно заверили в том, что всё будет вычищено и убрано, а со стороны дворника и квартального не окажется никаких претензий: «Вечеринка без вина будет, на том мадемуазель Зосимова особо настаивает!»
Подготовку начали с раннего утра – и всё равно к вечеру оказалось, что почти ничего не готово. Мебель из трёх комнат была вынесена, и по стенам развешаны картины Вари. Расстановкой и отбором картин руководил лично Нерестов. В огромном зале с роялем должны были проходить танцы, но рояль оказался чудовищно расстроен (Емельянов держал инструмент исключительно для солидности). За настройщиком Селуянычем в Колокольников переулок понёсся Петя Чепурин. Селуяныч оказался вдребезги пьян. Вместо него прибыл его ученик – грязный, встрёпанный Николашка в стоящей колом от застарелого пота рубахе. Николашка заявил, что меньше чем за полтину работать не возьмётся, «потому струмент конченый – хоть селёдку в нём соли!». Полтина была обещана, и Николашка нырнул в рояль. Студенты неуверенно обещали добыть цыган с гитарами, но на это никто особенно не надеялся: цыгане стоили слишком дорого. Над угощением спозаранку трудились Фёкла с матерью. Украшением комнат занималась Анна с сестрой. Посуду принесли из трактира, и в последней свободной комнате уже были установлены столы.
– Скатерти, главное, счесть, не забыть! – вслух размышлял мастеровой Яша, стоя посреди залы с огромным самоваром в руках. – Как есть дюжину в трактире дали, но велели стирать опосля самим, иначе – платить отдельно! Конфеты от Еремеева заказали, с минуты на минуту будут… Пирожных брать не стали, уж больно дорого, пусть уж лучше пироги. У Спиридоновны пироги знатные: ни в один карман не влезают!
– А княгиня ежели приедут? – запыхавшаяся Флёна ворвалась в комнату с охапкой салфеток. – Княгиня с дочерьми могут и пирожных захотеть…
– Захотят – пускай в кондитерскую едут! – грубовато сказал Андрей Сметов, который расставлял вдоль стен стулья. – Мы сюда не жрать приглашаем, а картины смотреть! Да, думаю, Флёна, что и не явится твоя княгиня. Не княжеское дело по студенческим выставкам бегать. Им бы балы у губернатора да журфиксы всякие, а у нас тут по-простому…
– Приедет! – твёрдо сказала Флёна. – Моё слово верное!
Билеты на выставку Вари начали распространять за две недели до события. Большая часть разошлась среди студентов университета и военных: двоюродный брат Полины и Анны, офицер Московского гарнизона, обещал привести половину полка. С десяток Анна оставила в семье, где служила учительницей, и, весьма гордая, привезла вырученные за них четыре рубля. Целую дюжину удалось пристроить Нерестову в училище, и на его гостей возлагались особые надежды. Это были люди, понимающие в искусстве. Но больше всех гордились Флёна с матерью, сумевшие заполучить на выставку «целую доподлинную княгиню». Княгиня была клиенткой белошвейной мастерской, и Спиридоновна с дочерью прожужжали ей все уши о выставке молодой художницы. Аристократка заинтересовалась, купила шесть билетов, заплатив десять рублей, и обещала непременно быть.
Варя стояла в комнате с картинами, растерянная и испуганная. Чёрное траурное платье делало её ещё тоньше и стройней. В рыжих волосах, уложенных в гладкую причёску, прыгали искры света от зажжённых ламп. В пальцах она машинально теребила тряпку, которой недавно протирала пыль в комнате. Нерестов, поправлявший на стене «Рассвет на Москве-реке близ Новоспасского монастыря», внимательно и слегка сочувственно поглядывал на неё, но молодая художница этого не замечала. Она то и дело глубоко, отрывисто вздыхала. Губы её что-то чуть слышно шептали.
– Варенька… – начал было Нерестов, но в это время сама Варя повернулась к нему:
– Аким Перфильич!..
Оба запнулись, рассмеялись и умолкли.
– Ну, что же, Варя? Что ты хотела сказать?
– Да уж вы говорите…
– Нет, ты первая!
– Извольте… – Варя снова вздохнула, и тряпка выпала из её рук. Она не подняла её. – Аким Перфильич, уж не глупость ли мы задумали? Я уж какой день думаю… Моя б воля – отменила бы вовсе всю эту выставку, только ребят жалко. А вдруг и не придёт ещё никто? Столько беготни, столько беспокойства, расходы такие…
– Варенька, да отчего же? – с улыбкой пожал плечами Нерестов. – Я понимаю твоё волнение, оно естественно… Но все художники когда-то выставлялись впервые. Надо же начинать и тебе!
– Так то художники, Аким Перфильич… Вы тут все про мой талан говорите, а у меня поджилки трясутся… Ну как вы не видите, что никакого талану тут в помине нет! Вот тятенька покойный был – тот талан! Сразу видать было! И в лавках без разговоров брали, и цену стоящую платили…
– И половина из его картин тобою была писана, – спокойно закончил Нерестов.
Варя только отмахнулась. Помолчав, тихо продолжила:
– Разумеется, нашим нравится. Только ведь сегодня большие люди прийти должны, понимающие… Знакомые ваши! Ну как опозоримся мы? Ну какой из меня художник, право? Я с господами и поговорить-то толком не сумею, и поведению не учена, и…
– Художник, Варя, должен уметь рисовать, – с мягкой насмешкой перебил её Нерестов. – А обхожденье и этикет – вещи малозначащие. Я сам – деревенского священника сын. С образов начинал, в иконной лавке продавался. До сих пор покойнику-отцу благодарен, что в семинарию меня не засунул, а отправил в Москву, в училище. Ты по сравнению со мной тогдашним – сущий профессор!
– Скажете тоже… – недоверчиво посмотрела на него Варя. Но смеющиеся карие глаза напротив заставили её улыбнуться.
– Могу в том слово дать! С чего ты взяла, что не умеешь себя вести? У тебя правильная речь, врождённое чувство такта и меры. Ты начитанна. Флёна с матерью мне рассказывают, что все клиентки в мастерской твоим обхождением восхищаются!
– Это всё барыне нашей спасибо! – торопливо вставила Варя. – Они меня своей милостью не оставляли, всему научили…
– Ну, так и слава богу! Я уверен, ты и сегодня не ударишь в грязь лицом! А я вот, в Москву приехавши, нос рукавом вытирал и говорил «намеднись» и «таперича». Весь класс надо мной хохотал!
– Быть не может!
– Истинно! Спасибо преподавателю нашему, Фёдору Васильичу, занялся со мной. Книги давал, читать заставлял, а уж после я и сам приохотился. Ученье, Варенька, в нашем деле главное! И сама подумай – неужели бы я заварил всю эту кашу, если бы не видел у тебя недюжинных способностей? Ребята правы. Тебе нужно любой ценой продолжать учиться в классах. Да и, кроме того…
Договорить Нерестов не успел: в комнату с безумными глазами ворвалась Флёна.
– Аким Перфильич, Варя, – там уж подъехали!
Варя всплеснула руками – и кинулась вон из комнаты.
Беспокоилась хозяйка выставки зря: народу прибыло много. Первыми явились студенты – запорошённые снегом, замёрзшие, весёлые, с бутылками вина, которые были бесцеремонно изъяты бдительной Флёной прямо на пороге: «Да что ж за господа такие, никакого разумения, ведь предупреждали ж!..» В квартире тут же стало шумно, людно, весело. Сначала любовались картинами и хором пророчили смущённой Варе большое будущее. Потом в складчину купили одну из них: «Осенние рябинки» – и тут же начали спорить, у кого в комнате она будет висеть. Поскольку желающих было двенадцать человек, тут же была разыграна лотерея, и «Рябинки» достались Пете Чепурину. Пока радостный обладатель шедевра скакал по комнате с картиной в объятиях, а остальные притворно возмущались несправедливостью фортуны, раздался новый звонок. В тяжёлых шубах и мохнатых шапках, солидно отряхиваясь от снега, в собственную квартиру прибыло семейство Емельяновых: купец с супругою, две дочери и трое сыновей. Зная, что купец любит почёт и уваженье, студенты чинно отвесили поклоны, а девушки присели в низких реверансах. Польщённый Силантий Дормидонтович прогудел что-то вроде поздравления Варе и отправился взглянуть на картины.
Портреты дворника Карпыча и приказчиков из мелочной лавки купцу не понравились: «Оченно надо такое в комнатах вешать, когда и так каждый день эти хари перед глазами!» Но перед «Рассветом на Москве-реке» Емельянов стоял долго и в конце концов решительно полез за бумажником:
– А вот это – так истинно искусствие! Верно ведь, Пелагея Петровна? Как на духу говорю – искусствие! И ведь как удивительно: тоже вроде каждый день на это глядишь… Идёшь с рассвету лабаз открывать, поглядишь, как солнышко над Москвой встаёт, перекрестишься, подумаешь – и-и-их, благодать Господня! Беру, Варвара Трофимовна! За двадцать рублей отдашь?
Варя уже обрадованно кивнула, но тут вмешался с самой серьёзной физиономией Андрей Сметов:
– Позвольте, Силантий Дормидонтыч, – эта картина уже продана мне.
– Тебе?! – сморщился купец. – И сколько отдал?
– Пятьдесят.
– Врёшь! – убеждённо сказал Емельянов. – У тебя таких денег и в заводе не было!
– Разумеется, не было и нет! Но я брал не для себя, а для одного ценителя. И намерен продолжать покупки. Так что если вы собираетесь купить что-то ещё, то поспешите, – и Андрей с важным видом извлёк из кармана потрёпанного сюртука увесистую пачку денег.
Варя, ахнув, собралась было что-то спросить, но рука Пети Чепурина предупредительно сжала её локоть.
– Постой! – нахмурился купец. – Погоди! Ценитель твой ведь этого «Рассвета» не видал ещё? Ну, так даю тебе пятьдесят пять! И Варваре Трофимовне выгодней будет! А я сей пызаж в парадной комнате повешу! Ну – по рукам?
– Единственно из уважения к вам, Силантий Дормидонтыч… – Андрей, казалось, колебался. – Надеюсь, вот этот «Заросший пруд» вы покупать не намерены? Его я тоже приглядел для своего поручителя.
– Ещё как намерен! – тут же вскинулся Емельянов. – Оченно мне по нраву, прямо как у тятеньки в деревне вид-то… Беру и «Пруд»! И вон тех петухов на заборе! Уж больно вид у них бойцовский!
– Бога побойтесь, Силантий Дормидонтыч! – делано возмутился Андрей, кося бешеными чёрными глазами в сторону Флёны, почему-то зажимающей себе рот. – Однако вкус у вас отменный: самые лучшие пейзажи отобрали! Право, мне не с чем будет к своему поручителю прийти!
– А и обойдётся твой поручитель! – отмахнулся счастливый купец. – Купи ему вон те приказчичьи рожи шельмовские! Пущай радуется, что не у него служат! Варвара Трофимовна, потрудись получить за картинки… Да ещё нельзя ль милости попросить – с Параши моей патрет снять? Да чтоб покрасивше! Сваха на днях приходила, для жениха патрет спрашивала! Надобно, чтоб Паранюшка завлекательна казалась… А то там завод сахарный, да два магазина, третий строится, да дом на набережной… Уж как хотелось бы, чтоб дело сладилось! Не откажи! В платье грогрон чтоб Паранька была и с шалею персицкою, за кою двести рублей плачено!
Петя Чепурин, умирая от смеха, скрылся за портьерой. Емельянов, сжимая в руках открытый бумажник, выжидательно глядел на Варю.
– Право, Силантий Дормидонтыч… Прасковья Силантьевна и так хороша отменно, портрет испортить нельзя будет… Извольте, я возьмусь! Вам как скоро надобно?
– Да уж желательно побыстрей! Сколько стоить будет, чтобы прямо завтра начать?
– Нисколько! – поспешила сказать Варя, прежде чем Андрей открыл рот. – Вы наш благодетель, без вас и выставки не было б, так что завтра я приду! Только очень прошу – пораньше утром. Иначе не будет нужного освещения.
Дородная Параша в кисейном платье поморщилась было, но отец сурово сказал:
– Встанешь, квашня, не рассыпешься! Для собственного счастья и недоваляться на перине-то можно! Приходи, Варвара Трофимовна, прямо с утра, покуда в магазин не уйду. Сам отопру тебе.
Купеческое семейство чинно удалилось в залу, где заканчивались последние лихорадочные приготовления к концерту. Петя Чепурин вместе со смеющейся Анной принялись снимать и упаковывать купленные картины, а встревоженная Варя увлекла на кухню Андрея:
– Андрей Петрович, Христа ради, что ж это такое?! Какой ещё покупатель? Откуда у вас такие деньжищи? Что ещё вы придумали? Почему не упредили меня даже?! Господи, да вы, воля ваша, полицейским участком кончите!
– Варвара Трофимовна, не беспокойтесь! – Андрей улыбался ехидно, но радостно. Достав из кармана свою пачку, он протянул её Варе. – Смотрите! Это мы с Петькой и Яшей Стасовым придумали! Чтоб купчину на деньги растрясти! Ну, смотрите, смотрите внимательней!
Варя недоверчиво осмотрела пачку денег – и вдруг прыснула, сморщив нос. Это была обычная резаная газетная бумага. Лишь сверху и снизу были положены настоящие кредитки.
– Бог ты мой… Чисто цыгане с Конного… – пробормотала она. – А ещё студенты!
– Да ведь как всё прошло без сучка-задоринки! – радовался Андрей. – А то выдумал – «Рассвет» за двадцать рублей! А вы ведь и отдали бы!
– Да ведь он больше не стоит!
– Об этом позвольте судить истинным ценителям вашего таланта! – высокомерно заметил студент. – А теперь позвольте предложить вам руку – и пройдёмте в зал! Там, кажется, уже начинается!
В зале действительно уже начался концерт. Анна, стоя у рояля, читала стихи молодого поэта Аполлона Григорьева. Чтица отчаянно волновалась, звонкий голос её то и дело срывался, но зрители поощрительно аплодировали, а под конец даже устроили овацию. Раскрасневшейся девушке пришлось прочесть на бис «Талисман» Пушкина – и лишь после этого её отпустили. Затем они с Флёной исполнили дуэтом под фальшивящий рояль «Вдоль по Питерской». Певицы имели бешеный успех – главным образом потому, что Емельянов, вдохновлённый удачной покупкой, вздумал подпевать. Ни голоса, ни слуха у достойного торговца не было, но сила и страсть исполнения были таковы, что в квартире задребезжали стёкла. Затем высоченный Яша Стасов и маленький Петя Чепурин исполнили кавказский танец, больше смахивающий на «Барыню», а Антон аккомпанировал им на жестяном подносе. Это было до того потешно, что зрители так и покатывались со смеху. А потом вдруг по залу пронёсся восторженный шёпот: «Цыгане, цыгане, цыгане прибыли!!!» – и в зал под угрожающий рокот гитар и бубна вошли три весьма колоритные фигуры.
– Свят господи, чисто лешие… – пробормотала Пелагея Емельянова, глядя на гитаристов – с длиннющими разбойничьими бородами и в красных рубахах навыпуск. – Где они только этаких цыган добыли? Наши-то, с Живодёрки, ангелы рядом с этими… Нешто табор какой согласился?..
Певица выглядела ещё оригинальнее. Высоченная, выше своих музыкантов, широкоплечая особа в мешковатом синем платье, перехваченном шалью с кистями, с буйными кудрями, спадающими на лицо, она неловким реверансом приветствовала всё собрание. Затем величественно кивнула гитаристам и рявкнула таким густым басом, что крякнул от восхищения даже Емельянов:
– Мы на лодочке катались – за-а-а-алатистой-за-а-алатой!!!
«Лодочку» встретили восхищёнными аплодисментами. Цыгане ударили по струнам, запели залихватскую «Камаринскую», и цыганка, опрокинув по дороге стул, ринулась плясать. Из-под её длинной юбки отчётливо видны были солдатские сапоги. От яростной чечётки затрещал паркет и забились язычки свечей. Цыганка носилась от окна к окну, взмахивала шалью, басила: «Эх, раз, ещё раз!», и двигала мускулистыми плечами так усердно, что платье в конце концов поползло с них.
– Охти мне… – пробормотала Флёна, увидев в вырезе певицыного платья волосатую грудь. Но тут грянули последние аккорды, цыганка в экстазе схватила себя обеими руками за волосы, и…
– Ай-й-й, батюшки-святы!!! – в два голоса заголосили Параша и Февронья Емельяновы. Мать их мелко крестилась, глядя на то, как буйно вьющийся цыганский скальп летит под ноги зрителям. А под ним обнаружилась знакомая, ехидная, донельзя разрисованная углём и жжёной пробкой физиономия.
– Отец небесный… – всплеснула руками Варя. – Андрей Петрович! Ну… охти ж мне!!!
Больше она ничего не успела сказать: «цыган» окружила восхищённая, кричащая толпа студентов. Цыганка-Андрей взлетел к емельяновской люстре, подброшенный дюжиной крепких рук; вслед за ним полетели, болтая ногами, и гитаристы. Нерестов хохотал взахлёб, прислонившись к дверному косяку. Дробно заходилась смехом Спиридоновна, хихикали купеческие дочки.
– Ну это же додуматься надо было! – едва смогла выговорить между двумя приступами смеха Варя. – Аким Перфильич, вы-то ведь знали?
– И предположить не мог… – Нерестов тоже с трудом мог говорить. – Ну, Сметов, ну, голова… Цыган, говорит, надо пригласить непременно, успех концерта тогда обеспечен! А какие же цыгане согласятся бесплатно?.. Это ведь он всё ради вас, Варенька, – неожиданно добавил художник с грустной улыбкой, кивая на Андрея, который под хохот зрителей стаскивал синее платье – как брюки, через ноги. Варя залилась румянцем, нахмурилась, хотела было что-то возразить. Но в это время из прихожей примчался Чепурин:
– Варвара Трофимовна… Господин Нерестов… Там, кажись, княгиня обещанная подъехала! Встречать надобно!
– Ну, Варенька… – коротко вздохнув, Нерестов предложил Варе руку. Побледневшая девушка опёрлась на неё и твёрдой походкой хозяйки пошла вместе с художником в прихожую. А там в распахнутые двери уже входила запорошённая снегом молодая женщина в длинной, крытой бархатом шубе. Вместе с ней зашли две совсем молоденькие барышни и господин лет тридцати пяти в пальто с бобровым воротником. Замыкал шествие юноша в форме гимназиста последнего класса.
– Добрый вечер, господа! Мы на выставку картин госпожи…
Княгиня не договорила. Потому что одна из девушек, брюнетка с живыми и ясными чёрными глазами, вдруг уронила на пол муфту и, всплеснув руками, закричала на всю квартиру – звонко и радостно:
– Боже мой! Варя! Варенька! Вот ты где, оказывается!!!
– Барышня, господи! Анна Станиславовна! Аннет! – вскричала и Варя, бросаясь навстречу гостье. – Вера Николаевна, барыня, и вы! И Николай Станиславович! Да выросли-то как, не признать!
Они с барышней крепко обнялись, расцеловались, тут же и расплакались. Затем Варя перешла в объятия княгини, потом её снова перехватила Аннет.
– А я так и думала! Так и знала! – весело говорила Вера Тоневицкая, отнимая у падчерицы Варю. – Как только Марья Спиридоновна мне сказала о художнице Варваре Зосимовой, я сразу и поняла: это наша Варенька из Бобовин!
– Знали! И мне ничего не сказали! – упрекнула Аннет, прижимаясь розовой с мороза щекой к рыжим Вариным кудрям. – Как не совестно, право, маменька!
– А если бы это не она оказалась? Вы бы только расстроились напрасно… Какая же чудесная встреча! Воистину, лишь гора с горой не сходится! Что же вы с батюшкой тогда так скрылись внезапно – и ни письма, ни записки? Мы не знали, что и думать! Как здоровье Трофима Игнатьича?
– Помер тятенька, – коротко вздохнув, сказала Варя. – Сороковины неделю назад отмечали.
– Вот как? И вы уже веселитесь и принимаете гостей? – послышался из-за спины графини резкий голос. – Какой моветон, господин Казарин, вы не находите? Ничем не исправить этого простонародья, никаких чувств…
– Замолчите, Александрин, – чуть слышно сказала княгиня Вера. Лицо её побледнело от гнева. Высокая бледная барышня, закутанная в лисью шубу, брезгливо поджала губы и отвернулась к господину в бобровом пальто, ища сочувствия. Тот, подумав, покивал. Его одутловатая физиономия с куриным, срезанным подбородком приняла такое же высокомерное выражение. Однако княгиня не заметила этого.
– Примите мои соболезнования, Варенька, – со вздохом сказала она. – Трофим Игнатьевич был очень достойным и талантливым человеком. Жаль, что судьба его так не берегла. И знаете… Вы ведь должны были сразу после его смерти написать мне! Вы ведь остались совсем одна, без близких и родных. Я могла бы…
– Я не посмела вас беспокоить, Вера Николаевна, – тихо, но с достоинством ответила Варя. – И напрасно вы говорите, будто я одна. Посмотрите, сколько людей мне помогают! Вы не представляете, как все старались эту выставку устроить!
– Ну, так покажите же нам ваши произведения, Варенька! Мы ведь затем и прибыли! – с улыбкой попросила княгиня.
Андрей Сметов, торопливо стирая с лица следы жжёной пробки, предложил было руку смеющейся Аннет, но та отказалась и пошла рядом с Варей. Следом тронулись Александрин с Казариным, о чём-то тихо и возмущённо переговариваясь по-французски. По сторонам они не смотрели. Николай Тоневицкий с улыбкой пошёл рядом с Анной, не знавшей, куда деться от смущения. К княгине Вере подошёл раздувающийся от солидности купец Емельянов.
– Позвольте, княгиня, отрекомендоваться: второй гильдии купец Емельянов Силантий Дормидонтов. Пашеничка, ржица и жито, партиями торгуем, так что ежели надобность какая будет…
– Я очень рада нашему знакомству, Силантий Дормидонтович, – просто ответила княгиня и, опёршись о неловко предложенную руку купца, пошла с ним в залу.
Обе купеческие дочки восторженно ахнули, дивясь папашиному благородному обхождению. Улыбнулась и супруга.
Княгиня Вера добрые полчаса рассматривала картины Вари. Молча переходила от одной к другой, подолгу всматривалась в полотна, иногда улыбалась или хмурилась. Варя внимательно следила за ней взглядом, то и дело порывалась подойти, но её неотступно тормошила Аннет:
– Варенька, какое же это счастье, что мы встретились! Неисповедимы пути Господни, воистину! Теперь мы часто будем видеться. Мы в Москве на весь сезон, кузина, кажется, собралась замуж, и вот… Если, конечно, всё сложится удачно… – Аннет покосилась на стоящую у окна Александрин, которая отказалась осматривать картины и увлечённо слушала Казарина. Тот, мелко хихикая и тряся подбородком, что-то вполголоса рассказывал ей. – А ты в самом деле могла бы написать нам! Бог тебе судья, а я-то ведь думала, что мы подруги! Мало того, что вы с отцом сбежали внезапно из Бобовин – так ещё и не написали ни строчки, не предупредили нас!
– Но я же писала, право! – изумлённо возразила Варя. – Написала прямо вам, барышня, и…
– Сколько раз я просила говорить мне «ты»!
– Извините, не привыкла я… Писала я вам, Анна Станиславовна…
– Аннет!!!
– Да господи ж!.. Дайте сказать-то! – всплеснула руками Варя. – Говорю – писала я вам! Прямо перед дорогой! И не только вам, а… – она запнулась, разом залившись краской до корней волос. Аннет понимающе улыбнулась, слегка сжала локоть художницы:
– И Серёже тоже, верно?
– Ох… – Варя покачала головой. Помолчав, пожала плечами. – Правда, не решилась сама письмо отнести. Вы бы ещё расспрашивать взялись…
– Ещё бы! Разумеется, взялась бы! И я, и маменька!
– Ну вот, сами видите… А у нас с тятей такие обстоятельства сложились, что срочно ехать надо было… И я… Решилась вам написать и письмо с Гапкой передала… да, видать, не добралось оно до вас. И после ещё прямо из Москвы присылала…
– Да как же такое может быть?.. – недоверчиво сдвинула брови Аннет.
Но в это время её негромко окликнула княгиня.
– Аннет, подойдите… Взгляните!
На стене у окна, освещённые свечами, висели два портрета. С них смотрели девичьи лица, и, взглянув на одно из них, Аннет восхищённо ахнула:
– Это я! Да, Варенька?! Я?!! Боже мой, боже, какая прелесть! Я же тут сущая итальянка!
Это действительно была Аннет – в простом белом платье, с цветами жасмина в чёрных кудрях, с нотами в руках. Художнице удалось удивительно точно передать простую и искреннюю улыбку бобовинской барышни, тёплый, чуть насмешливый взгляд её чёрных глаз, ямочки на загорелых щеках. А рядом с холста без рамы смотрели светлые глаза Александрин. На портрете приёмная дочь княгини выглядела старше своих лет, печальнее и строже. На её некрасивом лице не было привычной маски высокомерности, но сквозь надменную улыбку виделась затаённая боль и глубокая, тяжёлая тоска. И в то же время это была Александрин – её тонкие нервные черты, её привычный поворот головы, очерк узкого подбородка. И даже волосы слегка выбивались слева над виском, как в жизни: все домашние знали, скольких слёз стоила Александрин эта непокорная прядка, портившая любую причёску.
– Боже мой… – тихо сказала Вера, останавливаясь перед портретом. – Боже мой, Варя… Ты… Ты действительно большой художник! Как ты смогла понять, почувствовать… Вы ведь даже подругами не были никогда!
– Сохрани меня Господь от подобной дружбы! – послышался звенящий от презрения голос, и Александрин встала перед собственным изображением. – Позволь тебя спросить, голубушка, когда это ты видела у меня такое лицо? Будто я сейчас зареву как корова! Слава богу, я ещё умею держать себя в руках на людях! Кто тебе дал право так бездарно малевать меня? Да ещё вывешивать свою мазню на продажу?!
Стоящий рядом Николай чуть слышно фыркнул, но сестра сердито сжала его локоть. Вера резко повернулась к приёмной дочери.
– Александрин, умоляю, ведите себя прилично! – послышался её негромкий гневный голос. – Где ваше воспитание? Мы в гостях, и я не позволю вам оскорблять хозяев этого вечера! И смею напомнить, что вы сами пожелали ехать сюда! Хотя мы все отговаривали!
– Вы напрасно, барышня, полагаете, что это для продажи, – тихо, но очень спокойно сказала бледная Варя, прямо глядя в глаза Александрин. – У меня и в мыслях не было это продавать: ни ваш портрет, ни Анны Станиславовны. Повесили, чтобы люди смотрели, а продать – я никогда бы не продала! Уж поверьте!
– Дрянь! – сквозь зубы процедила Александрин. – Подлая дрянь! Ты сумела отомстить, нечего сказать! Маменька, позвольте мне уехать из этого… притона! Алексей Порфирьевич, проводите меня к саням!
– Александрин, возьмите себя в руки! – княгиня Вера не повысила тона, но голос её стал таким железным, что вздрогнул даже Казарин, уже предложивший было Александрин свою руку в гороховой перчатке. – У меня нет возможности отправить вас домой, никого не оскорбив этим! Вы останетесь до конца вечера! И будете вести себя как подобает барышне из семьи Тоневицких! Только что вы хвалились, что умеете держаться на людях, – и где же это? Взгляните, все на вас смотрят!
Княгиня Вера была права. Гости поглядывали на них с недоумением. Александрин наконец тоже заметила всеобщее внимание и, вздёрнув подбородок, отошла от портрета. Казарин засеменил за ней. А к расстроенной Варе подошла княгиня Вера.
– Варя, милая, прошу вас не обижаться, – спокойно и твёрдо сказала она. – Вы давно знаете Александрин и… Вы умнее её. Надеюсь, вы понимаете…
Та молча кивнула.
– Ну, и слава богу. А что, вы и впрямь не продаёте эти портреты? А я было уже обрадовалась… Неужто невозможно купить?
– Помилуйте, Вера Николаевна! – всплеснула руками Варя. – ВАМ я их даром отдам! Нет уж, не спорьте, никаких денег не приму!
Но княгиня уже расстёгивала бисерный ридикюль.
– Варя, не желаю слышать. У вас, насколько я понимаю, не обычная выставка, а сбор в поддержку художника? Хороша бы я была, взяв здесь что-то даром! Тем более большая работа всегда стоила больших денег! Варя, умоляю вас, забудьте о белошвейной мастерской! Вы – огромный талант! Портрет Александрин – самое проникновенное, что я видела в жизни! А вы – мастер! И будущее вам это ещё докажет, а пока что – примите!
В глазах Вари стояли слёзы. Сжав дрожащие пальцы у горла, она качала головой, не сводя взгляда с княгини Веры, и не могла взять ассигнации из рук княгини. В конце концов их принял Андрей Сметов.
– Благодарю вас, княгиня, – серьёзно, без привычного ёрничанья сказал он. – Ваши слова, как алмазы. Варваре Трофимовне очень нужно слышать такое.
Варя внимательно посмотрела в смуглое, взволнованное лицо студента. Слегка улыбнулась. Сметов ответил коротким поклоном. И в этот миг из соседней залы послышался негодующий голос Аннет:
– Коля, да что же это ты выдумал, право! С какой стати?! Нет, и не проси, ни за какие блага!
Но Николай Тоневицкий уже вытащил сестру за руку к гостям:
– Маменька, я подумал, что коль уж здесь концерт в пользу нашей Вари, так, может быть, Аннет споёт что-нибудь для всех? Я видел здесь очень хороший рояль!
– А как же, рояль стоящая, больших денег стоила! – важно начал было Емельянов, но его голос утонул в буре восторженных просьб:
– Пожалуйста, княжна! Извольте! Мы все вас просим!
– Но, господа… Уже поздно, и я не в голосе… – растерянно начала было Аннет.
– Дорогая, ради Вари вы обязаны, – совершенно серьёзно, пряча улыбку, сказала Вера. – Коля подал прекрасную мысль.
– Ну… если ради Вари…
К княгине и княжне пробился сквозь толпу гостей Емельянов. Он потрясал серой кредиткой.
– Вот! Двадцать пять! Пусть только княжна не откажет!
– Вера Николаевна, это же пассаж… Это неприлично! – в ужасе прошептала Александрин, но Вера рассмеялась:
– Что ж, хорошее начало! – звонко и почти озорно сказала она. Лукавая улыбка осветила её лицо, и всем в зале сразу стало заметно, что княгиня Тоневицкая всего лишь на десяток лет старше своих падчериц. – Итак, княжна Аннет споёт романс! Кто готов заплатить за это?
Поднялся страшный шум. Первыми к роялю пробились военные, и на полированной чёрной крышке немедленно выросла кучка кредиток. Емельянов, стоя рядом, ревниво следил за ней взглядом, но больше него никто не положил, и купец заметно успокоился. Следом кинулись студенты («Со своими грошами…» – язвительно откомментировала Флёна, наспех собиравшая со стола чайные чашки), затем – ценители искусства.
– Аннет, вы просто не имеете права ударить в грязь лицом! – с напускной строгостью заметила княгиня.
– И не подумаю! – беззаботно отозвалась Аннет. – Но уж чур аккомпанируете вы! Коля непременно собьётся и собьёт меня! И держитесь, маменька: рояль чудовищно расстроен!
– Буду иметь в виду. – Вера храбро села за инструмент. Гости плотным, шумно гомонящим кольцом окружили певицу и аккомпаниаторшу. Никто не хотел садиться в приготовленные кресла. Андрей Сметов – тот и вовсе встал прямо перед Аннет, глядя прямо на неё сощуренными глазами. Николай Тоневицкий нахмурился и уже шагнул было к нему, но Аннет опередила брата.
– Прошу вас, господин Сметов, слегка отойти, мне так будет удобнее. Не обижайтесь, – мягко и весело попросила она, чуть коснувшись рукава студента. Андрей, заметно смутившись, шагнул в сторону. Один из друзей шутливо ткнул его кулаком в бок, что-то прошептал. Сметов яростно огрызнулся… Но в это время с клавиш сорвалось негромкое, рассыпчатое адажио, и всё смолкло.
Гляжу, как безумный, на чёрную шаль, И хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, Младую гречанку я страстно любил…Что и говорить, у Аннет Тоневицкой действительно был великолепный голос. Природная красота тембра была огранена регулярными занятиями вокалом, и знакомый многим романс звучал теперь в немом от восхищения зале. Голос Аннет то взлетал в потолок, то падал на низкие бархатные регистры, и ни малейшего усилия не было заметно в этих сложных переходах. Мягкая россыпь рояля осторожно следовала за голосом, не затеняя его. В зале уже никто не улыбался. Фёкла, застыв у стола с чашкой в руках, машинально тёрла полотенцем её фарфоровый бок. Глаза Анны восхищённо блестели. Даже Николай, сотню раз слышавший этот романс, с восторгом смотрел на сестру. Мадам Емельянова шумно вздыхала и вытирала глаза кончиком шали. Супруг её восторженно разглядывал певицу и что-то нащупывал в кармане жилета. А Варя, стоя у окна спиной к гостям, молча глотала бегущие по лицу слёзы. И, словно стремясь утешить её, в замёрзшее стекло летели и бились снежные хлопья. К счастью, гости не сводили глаз с певицы, и смятение хозяйки вечера заметил один Андрей.
Расходились за полночь. Вечер в пользу начинающей художницы удался на славу: никто из устроителей и не предполагал такого оглушительного успеха. Все картины были раскуплены. Варе с трудом удалось отстоять лишь те, которые не были предназначены для продажи. Удалось выручить около шестисот рублей – огромную сумму, которую Варе никогда не приходилось даже держать в руках. Кроме того, почти сто рублей собрал концерт, который ближе к ночи превратился в сольное выступление мадемуазель Аннет. Её наперебой упрашивали спеть ещё и ещё. Александрин сидела в углу зала, позеленевшая от ненависти, но компанию ей составлял только всё тот же Казарин. Прочие мужчины толпились вокруг юной певицы.
Когда же за рояль уселся Николай, начались танцы. Открыла бал сама княгиня Тоневицкая в паре с Андреем Сметовым: единственным, кто более-менее умел танцевать полонез. Затем последовали вальсы, польки, котильоны и даже «барыня», которую мастерски «отхватили» пыхтящий Емельянов в паре с хохочущей Аннет Тоневицкой. Шум стоял такой, что жильцы снизу, пожилой акцизный чиновник с супругой, явились выяснить, что за дикий табун носится по верхнему этажу. Их попытались оставить веселиться. Но почтенная пара не поддалась на уговоры и решительно пообещала вызвать околоточного. Лишь после этого гости и хозяева спохватились, что пора и честь знать.
– Варенька, ты непременно, непременно должна быть завтра у нас! – весело говорила Аннет, стоя на крыльце и кутаясь в шубу. Снег летел ей в лицо, из саней девушку уже нетерпеливо звали, но она отмахивалась и, держа за руку Варю, продолжала: – Ведь сегодня мы и поговорить толком не успели! А три года не виделись, я соскучилась – страсть!
– И я, барышня, по вас скучала…
– Ну, вот видишь, видишь! Обязательно приезжай завтра, мы с маменькой целый день дома, никаких визитов… Да у меня и классы с утра! Пробудешь у нас до вечера, наговоримся всласть. Можем вместе поехать в театр или в гости… Ах, как же хорошо, что ты здесь!
– Право, барышня, не знаю… Утро-то занято у меня… Да и заказ из мастерской лежит, дошить надобно…
Аннет перестала улыбаться. Взяла холодную Варину руку в свои тёплые пальчики без перчатки. Варя ответила ей несмелым пожатием.
– А Серёже-то можно сказать, что ты нашлась? – вдруг тихо и лукаво спросила Аннет. – Он не поехал нынче с нами, и…
– Как это? – Варя вдруг побледнела так, что это стало заметно даже в тусклом свете единственного на всю улицу фонаря. – Как же… Серёжа… Сергей Станиславович… Разве он здесь?! Я-то думала, он в Петербурге, в полку… В гусарах служит…
– Так и есть, но сейчас он в отпуску. Всё Рождество проведёт здесь, с нами, и… Варенька, да что с тобой? На тебе лица нет!
– Устала я нынче, барышня… Простите великодушно… – одними губами прошептала Варя.
Аннет внимательно смотрела на неё.
– Ну, что ж… Разумеется, тебе надо отдохнуть. Я так рада за тебя, так счастлива, что у тебя всё получилось! И ты ведь придёшь к нам, правда?
– Непременно… С богом, Анна Станиславовна, бегите в сани! Вас уж Вера Николаевна час дозваться не может…
Аннет кивнула и сбежала с крыльца. Через минуту до Вари донёсся крик: «Так мы ждём тебя завтра! Столешников переулок, дом Иверзневых, не забудь!» – и сани, подняв вихрь снега, сорвались с места.
Вернувшись в опустевшую залу, Варя застала там Флёну и Анну. Они героически пытались навести порядок в квартире. Но горы немытой посуды и завалы мусора на полу повергли усталых девушек в уныние.
– Завтра надо! – решила Флёна. – На свежую голову! Сейчас мы только посуду дорогую с устатку переколотим! А сейчас спать ложиться – и всё! Утречком встанем и ещё до света всё приберём. Госпожа Емельянова не в обиде будет! И то слава богу, что никто чаем обои не залил и чашки не побил – я просто глаз не сводила! Эко знатно всё вышло-то, Варюша, а? Мы и не чаяли такого прибытку дождаться! И господа эти важные из Академии весьма довольны остались! А княгиня-то, княгиня! Ведь проста как! С нашим Андреем полонез отплясывала, будто с вельможным паном каким! И барышня Аннет просто душка! И, оказывается, знакома ты им! А та, вторая барышня со своим женихом – ровно на булавках весь вечер сидела! И с таким лицом, будто уксусу хлебнула, а выплюнуть жаль! Уж казалось бы, ежели в гости ехать не желаешь – так сиди дома, людям настроенья не порти! Коли мы ей не ровня, зачем же стул в гостях протирать, как будто…
Тут Флёна умолкла, не закончив сентенции, потому что из соседней комнаты вдруг отчётливо послышалось рычание. Через мгновение оно повторилось снова – ещё раскатистее и грознее. Девушки, бледнея, переглянулись.
– Богородица, дева пречистая! – ахнула Флёна. – Д-домовой!
– Домовые не рычат, а стучат да охают, – поправила её Варя. Но и она выглядела испуганной. – Может, собака с улицы пробралась? Аня, ты не видела?
– Да как бы она пробралась-то? – Флёна нервно озиралась по сторонам. – Свят господи, и палки-то никакой нету… И ухваты, и метла – на кухне всё, далеко бечь… Варька, подай вон хоть кочергу! И куда это маменька запропастилась? Как нужды в ней нет – так сидит, зудит, душу вынает… А в кои-то веки понадобилась – и нет её!
Варя молча сунула в руки подруги кочергу, а сама подняла с дивана тяжёлый кожаный валик. Анна, оглядевшись, схватила метёлочку для пыли. Вооружившись таким образом, доблестные девицы пересекли на цыпочках залу, осторожно приоткрыли дверь, вошли в тёмную комнату и…
– Господь-вседержитель со всеми угодниками! – Флёна с размаху бросила на пол своё оружие. – Вот проклятики, страху-то нагнали! Варя, Аннинька, да вы гляньте на них!
В комнате, на огромной кровати, разметавшись, дружно храпели Андрей Сметов и Петя Чепурин. Грохот упавшей кочерги не заставил их даже шевельнуться. Подозрительно принюхавшись, Флёна схватилась за голову:
– Вот ведь дьяволы! Сговаривались же, чтоб без вина, а они?!. В лоскута! Оба! Бесстыжие! А вон и бутылка! И вторая! Батюшки, и третья! То-то они раз за разом в эту комнатку бегали, черти!
– Да не поминай ты чертей к ночи, Флёна… – Анна расстроенно вытаскивала из-под кровати пустые бутылки. – Что же теперь делать… Надо будить!
Однако попытки растолкать студентов никакого результата не дали. Рассерженная Флёна предложила было треснуть Сметова кочергой («Потому, как бог свят, это он винище принёс, у Петьки совести б не хватило!»), но Варя решительно пресекла эту попытку:
– Удумала тоже… Ещё убьёшь человека!
– Так надо же их, леших, подымать как-то! – вскинулась Флёна. – Может, воды ведро от дворника принесть да окатить?
– И куда потом – окаченных? – Варя кивнула на завьюженное окно. – На дворе мороз, разом простынут до печёнок, а грех на нас будет!
– Ништо, господь простит за разбойников этаких! – сурово заметила Флёна. – А что ж прикажешь делать?
– Да ничего не поделаешь. – Варя вздохнула. – Давайте уж запрём их тут да тоже спать пойдём. Всё едино до утра не проснутся. А завтра придём убраться и выпустим.
– Твоя правда, – подумав, согласилась Флёна. – Пущай дрыхнут. А завтра, как проспятся, я им покажу, где раки-то зимуют! Ишь что вздумали – в порядочное общество вино принесть да нарезаться! И уклюкались-то до риз положенья, так что не распинаешь! А всё Андрей Петрович! Никакого сладу с им нету, одно слово – выпороть некому! Куда только начальство ихнее в ниверситете глядит! Пойдёмте, ну их к богу!
Бурча, Флёна проследовала к выходу из квартиры. Варя с Анной поспешили следом.
– Может, к нам ночевать пойдёшь, Варвара? – уже на пороге, накидывая салоп, пригласила Флёна. – У тебя, поди, и не топлено с утра, комната выстужена. Место-то найдётся, сама знаешь!
– Спасибо, Флёнушка, только я к себе, – слабо улыбнувшись, отказалась Варя. – Я ведь завтра собралась Прасковьи Силантьевны портрет писать, так подготовить кое-что надобно. А то буду потом с утра носиться, как кура без головы – то одно, то другое искать… А день-то короткий, свет быстро уходит!
– Ну, тебе видней… Свечи-то есть али принести?
– Найдутся.
Оставшись наконец одна в своей комнате, Варя вздохнула с облегчением. Она торопливо зажгла огарок в позеленевшем подсвечнике и, ёжась от холода, присела перед печуркой. Вскоре по стенам весело взметнулись оранжевые отсветы. Поправив дрова кочергой, Варя отошла от печи. Подумав, достала со старого шкафа небольшой лист бумаги. Установила его на столе, села напротив.
Это был потёртый от времени карандашный портрет совсем молодого человека лет восемнадцати. Жёсткое, слегка надменное, но привлекательное лицо. Волна густых волос. Резко очерченный подбородок. Чуть нахмуренные широкие брови… С минуту Варя разглядывала портрет. Затем медленно перевернула его. На обратной стороне косым мужским почерком были написаны строки пушкинского стихотворения «Что в имени тебе моём?..».
– Но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя… – прошептала Варя. И беззвучно разрыдалась, уронив лицо в ладони. Свеча уронила несколько капель воска, по портрету метнулся сполох света, и лицо молодого человека, казалось, дрогнуло. Но Варя этого не заметила: она плакала навзрыд, шепча сквозь слёзы:
– Вот и встретились, Сергей Станиславович… Вот и встретились мы…
… – Степан, поди вон, я сам!
– Да как же, ба-а-арин… Сапожки-то снять…
– Сниму без тебя, убирайся! Сил нет смотреть, как ты зеваешь! Иди-иди, досыпай, старина, я управлюсь!
– Спаси бог, Николай Станиславович… Ежели чего, покличьте…
Старый слуга ушёл, зевая и крестя рот, и Николай Тоневицкий остался в своей комнате один. Шёл уже второй час ночи. Метель за окном старого дома Иверзневых понемногу унималась, слабела, лениво кружа в палисаднике мягкие хлопья. Свет оставленной Степаном свечи мигал и искрился в морозных узорах на стекле. Под полом чуть слышно возилась мышь. Услышав это поскрёбывание, Николай сонно улыбнулся, подошёл к столу, на котором под салфеткой был оставлен холодный ужин, взял кусок хлеба и, раскрошив его, посыпал у стены. Из мышиной дырки почти сразу показался чёрный нос и два блестящих глаза. Вскоре мышонок выбрался и осторожно подобрался к хлебу. На Николая, сидящего на постели, он не обратил никакого внимания и деловито занялся своей трапезой. Молодой человек улыбнулся и начал осторожно, чтобы не спугнуть грызуна, стягивать сапоги.
В коридоре послышались шаги. Мышонок тревожно шевельнул носиком – и прыснул в свою дыру. Дверь комнаты открылась. Николай обернулся, досадливо поморщился.
– Серж, ну что ж ты, в самом деле, как битюг?.. Сколько раз просил – тише! Опять всех перепугал!
– Колька, ты, право, с ума сошёл! – в комнату, потягиваясь, вошёл старший брат. – Ещё не хватало заботиться о нервах твоих мышей! Мало будто Александрин! Развёл зверинец, Аннет уже боится вставать с постели…
– Аннет?! В жизни не поверю! Это, верно, кузина визжала утром?.. А ты разве дома? Мы думали, ты ещё у Щербининых…
– Поехал было, но скука была смертная. – Сергей Тоневицкий с размаху повалился на постель брата, закинул руки за голову. – Никого из наших не было. Барышни уродливы, пристают со своими альбомами, да ещё эта Надин Гагарина… Вот объясни, с чего все взяли, что я за ней ухлёстываю?! В мыслях не держал отродясь! И блондинки мне никогда не нравились!
– Верно, ты всегда предпочитал рыжих, – невинно заметил Николай.
Сергей приподнял голову, нахмурился.
– Колька, я тебе сейчас по старой памяти морду набью!
– Ну, рискни, – спокойно улыбнулся тот.
Старший брат поднялся. Младший шагнул ему навстречу. Через мгновение братья Тоневицкие, сцепившись, катались по огромной, немилосердно скрипящей кровати. Оба молчали, сосредоточенно пыхтя и скаля зубы. Так же молча они свалились с кровати на пол, Николай уселся было верхом на брата, но Сергей тут же сбросил его, замахнулся… В это время в коридоре зашаркало.
– Барин! Николай Станиславыч! Это у вас чем-то бухнуло?
Братья тут же вскочили на ноги.
– Иди спать, Степан, вот наказание! – с трудом переведя дыхание, велел Николай. – Стул у меня упал! Ступай, ступай!
Когда в коридоре стало тихо, Николай усмехнулся и оправил рубаху.
– Что ж – продолжим?
– Обойдёшься, – буркнул Сергей. – Того гляди, разбудим маменьку, и влетит обоим. А ты, однако, заматерел! Этому сейчас в гимназиях учат?
– Этому учит жизнь со старшим братом – тираном и деспотом, – притворно вздохнул юноша. – Ты меня всё детство бил – и я, разумеется, всегда мечтал навалять тебе в ответ! Вот и сбылось наконец.
– Всё ты, Колька, врёшь… – зевнул Сергей, снова падая на постель. – Я тебя молотил – а ты потом бегал к папеньке умолять, чтоб меня за это не выпороли. Тюфяк и мямля!
– Ага, а ты из-за этого так злился, что наподдавал мне ещё… – хмыкнул Николай.
– …и уж после ничьё заступничество не помогало, – закончил Сергей. – И ты всё таким же мямлей и остался. Одна радость – читать по ночам Шиллера… Да раскармливать мышей. Скоро он у тебя перестанет пролезать в дыру!
– Шиллер?..
– Колька! Не зли меня! И так не сплю полночи, тебя дожидаясь! Ну – рассказывай, что там, на этой глупой выставке? Там и впрямь наша Варя из Бобовин?
Тон Сергея был небрежным, полуприкрытые глаза бездумно следили за бьющимся светом свечи на стене. Но Николай, взглянув на брата, чуть заметно улыбнулся. Затем серьёзно сказал, глядя в морозное стекло:
– Знаешь, я и сам чуть было не влюбился. Варя так выросла, стала такой красавицей! Она и прежде была хороша, а уж теперь!.. Совсем взрослая барышня, затянута в корсет, платье, причёска… И волосы эти венецианские – просто червонное золото! Я весь вечер хотел потрогать, но не смел, разумеется. Словом, сказка! И, послушай, картины-то у неё, картины какие! Я ходил от одной к другой и рот забывал закрывать! Действительно, редкий талант, права маменька! Она там чуть ли не всё скупила! Завтра поглядишь, получишь удовольствие…
– Да что мне до её картин, право! – вспылил вдруг Сергей, и мышонок, высунувшийся было из норки, испуганно шмыгнул обратно. – Я ничего не смыслю в живописи и нужды в том не вижу! Скажи лучше, откуда у неё эта квартира на Полянке?
Наступило молчание. Николай, озадаченно взглянув на брата, потёр кулаком лоб.
– Вот этого и не знаю. И не подумал спросить… Вряд ли её собственная: чересчур богата, комнат пять или шесть… И обставлена хорошо. Серёжа! Но ты же не думаешь?..
Сергей в ответ только криво усмехнулся. Встал с кровати, медленно прошёлся по комнате, ероша руками густые пепельные волосы.
– Папенька её, говоришь, скончался недавно? – спросил он сквозь зубы, не глядя на брата. – А у мадемуазель Зосимовой уже большущая квартира на Полянке, полна гостей-мужчин, устроена выставка… Колька, тебя, несмотря на дурость, не тянет сложить два и два?
– Мне кажется, ты напрасно это всё… – неуверенно начал было младший брат… Но его перебил удар бешено запущенного в стену сапога.
– Серж! Да ты с ума сошёл, что ли?! – вскочил Николай. – Сейчас перебудишь весь дом! Уймись, душа моя! Коли нужда пошвыряться – возьми подушку, шуму меньше будет! Право, не вижу повода, чтобы беситься! Ведёшь себя так, будто вы с Варей были обручены!
– Да я ей, видишь ли, делал предложение, был грех… – всё с той же странной, кривой улыбкой сказал Сергей. – Которого она не приняла.
– Ты?! Предложение – Варе?! – Николай пристально всмотрелся в лицо брата и уверенно сказал: – Серж, я, кажется, всё понял. Ты пьян?
– Идиот! – Старший брат сел верхом на стул. Помолчав, тихо рассмеялся, и этот смех напугал Николая больше, чем полёт сапога минуту назад.
– Господи, как же просто всё… Как же всё просто и тривиально… Молодая девица оказывается в городе – и все принципы, вся девическая честь незамедлительно отправлены к чертям! Трёх лет не прошло – а она уже обзавелась квартирой и покровителями, устраивает себе выставки и приглашает на них князей Тоневицких! Недурно, правда?
– Про покровителя, по-моему, ты зря, – упрямо перебил Николай.
– Колька, ты, бесспорно, дурак, – серьёзно сказал Сергей. Он больше не смеялся и выглядел совершенно спокойным, но его синие холодные глаза болезненно блестели. – Неопытный сопливый щенок, который ничего в жизни не нюхал, кроме глупых стишков в гимназии о розах и козах. А я, слава богу, два года отслужил в гусарском полку. И, знаешь, у нас чуть не у каждого ротмистра имелась вот такая Варенька… С квартиркой в переулке близ казарм.
– И у тебя? – без улыбки поинтересовался Николай. Старший брат жёстко усмехнулся:
– Нет, брат… Но это, поверь, не из-за излишней принципиальности. Доходу было мало, камелия – вещь недешёвая. Вот когда приму папенькино наследство – тогда, возможно… А впрочем, провались они все, эти… – он коротко, грязно выругался, отвернулся к стене.
Некоторое время в комнате стояла тишина. Мышонок опять выглянул из норки, но на этот раз Николай не обратил на него внимания.
– Серж, я, возможно, и дурак, как ты говоришь… Но мне Варя таковой не показалась, – решительно объявил он. – И вела она себя прилично, и держалась с достоинством… И гости её так же… Воля твоя, но, по-моему, ты заблуждаешься.
– Хотел бы, брат. Видит бог, хотел бы, – медленно выговорил Сергей. – Но не могу закрыть глаза на очевидное. У тебя всегда с арифметикой было худо… Но прикинь хоть примерно, сколько стоит в месяц такая квартира в Замоскворечье? И сколько Варя может выручать за свои картинки? И много ли художников могут позволить себе подобные апартаменты?
Николай открыл было рот… Но так ничего и не сказал. Лишь спустя минуту осторожно сказал:
– Может быть, тебе лучше расспросить маменьку? Ручаюсь, она никогда не поехала бы сама и не повезла бы сестёр в гости к… чьей-то камелии. Или ты и маменьку считаешь неопытной, наивной особой?
С минуту Сергей с интересом смотрел на брата. Затем пожал плечами:
– Кто их разберёт, этих женщин…
Но всё же он был явно сбит с толку. Некоторое время напряжённо думал о чём-то, хмуря широкие тёмные брови. А затем вдруг ударил кулаком по спинке стула так, что тот затрещал.
– Нет, не понимаю! Хоть убей, не пойму! Ещё тогда перестал понимать, когда Варя с батюшкой внезапно из Бобовин исчезли! Ведь речи не было об отъезде, даже разговор не заводился! И вдруг – в три дня собрались и уехали! И – ни ответа, ни привета! Ни слова не написала ни Аннет, ни мне!
– Но как Варя могла тебе писать? – резонно спросил Николай. – Наверное, сочла это неприличным – писать в полк молодому человеку… К тому же она не нашего круга, могла попросту испугаться…
– Положим! Хотя, видит бог, я чуть не на коленях умолял её писать мне! Но Аннет-то она могла прислать пару строк? Или маменьке? Они же были в чудных отношениях, Варя их всегда благодетельницами звала! Что за спешка, что за тайны, что за исчезновения внезапные? Нет, брат, там, право слово, что-то нечисто…
– Поговори с маменькой, – снова посоветовал Николай. – Я уверен, она всё знает.
– Ещё не хватало мне обсуждать с кем-то свои сердечные дела, – холодно заметил Сергей. Младший брат изумлённо взглянул на него.
– Давно ли маменька для тебя – «кто-то»?
Сергей мрачно молчал, глядя в пол.
Метель прекратилась лишь к утру. В палисаднике дома Емельянова до самых окон выросли мягкие сугробы. Однако серое набрякшее небо грозило вот-вот вновь посыпать снегом. В голых ветвях кустов чирикали взъерошенные воробьи. Красногрудый снегирь сидел на ветке рябины, время от времени важно поклёвывая схваченные морозом ягоды.
– Нет, вы взгляньте на него – сущий енарал! – восхитилась Флёна, глядя на снегиря в окно. – Рябину клюёт – и прямо одолженье всему обществу делает! И до чего ж эта птица о себе воображает – сил нет!
– Ты лучше сор выгребай! – посоветовала запыхавшаяся Анна, бросая в лохань измятые, перепачканные скатерти и салфетки. – Вон – одной стирки на полдня набралось, а ещё и посуда не домыта! А обещали вернуть в трактир до обеда! И комнаты вычистить надо до блеска, а то в другой раз господин Емельянов ещё и не пустит!
Хлопнула дверь в прихожей, вошла Варя, на ходу снимая бурнус. Её розовое с мороза лицо было усталым, но радостным.
– Ох, а вы начали уже? Что ж без меня-то?
– Да будем мы дожидаться! – отмахнулась Флёна. – Ну, что там Прасковья Силантьевна, хорошо ль позицировала? В холст поместилась ли целиком-то, аль только главными частями?
– Да ну тебя… «Позицировала»… – с улыбкой отмахнулась Варя. – Слава богу, я свет схватить успела! А то покуда добудились модель-то мою, да нарядили, да усадили, да велели личность кислую не строить… Беда с этим купечеством! Портрет хотят красивый, чтоб не хуже фрейлины дворцовой – а сами сидят на стуле да бублик кушают или голову чешут… Сейчас я вам помогу! Флёнушка, тебе ведь давно пора в мастерской-то быть! Марья Спиридоновна рассердится!
– Да знает она, сама сюда послала… – Флёна с новыми силами схватилась за метлу.
Варя, пристроив на столе свой саквояжик, взяла ведро с грязной водой и поволокла его вон из квартиры. Работа закипела. Девушки азартно наводили порядок – и ни одна из них не заметила подкатившего к дому извозчика и не обратила внимания на выскочившую из саней фигуру в длинной кавалерийской шинели. Вскоре на лестнице застучали быстрые шаги, хлопнула дверь.
– Здравствуйте! Извините, что без доклада, но ведь здесь всё нараспашку! – раздался из прихожей молодой мужской голос. Услышав его, Варя тихо ахнула. Грязная тряпка, выпав из её рук, шлёпнулась в ведро. Флёна с изумлением взглянула на подругу, открыла было рот, – но в это время в комнату, держа в руках шинель, вошёл Сергей Тоневицкий. Флёна и Анна, переглянувшись, поклонились, но гость лишь мельком взглянул на них.
– Варенька… – негромко сказал он, стоя у порога.
– Здравствуйте, Сергей Станиславович, – тихо отозвалась та. – Что ж вы… что ж вы спозаранок-то?
– Ты меня не ждала? Я думал, право, что обрадуешься!
– Я… Господь с вами, я рада…
– Не похоже. Впрочем, я на минуту. Хотел лишь повидать тебя, но… ты, кажется, занята, и я некстати? – отрывисто спросил Тоневицкий.
– Флёна, идём отсюда, живо… – чуть слышно скомандовала Анна, и обе девушки юркнули в прихожую. Испуганно проводив их глазами, Варя повернулась к нежданному гостю. Но Тоневицкий больше не смотрел на неё. Он с напускным интересом осматривал большую залу: тяжёлые бархатные занавеси, штофные обои с тиснёным рисунком, стол из полированного красного дерева.
– Недурно… Право, недурно, не врал Колька! Отчего же ты убираешь здесь сама? Или так уж дорога в Москве прислуга?
– Какая же у меня прислуга, Сергей Станиславович? – растерянно спросила Варя. Тоневицкий обернулся к ней с усмешкой:
– Помилуй, к таким квартирам просто полагается горничная! Неужто твой… друг тебе этого не объяснил? И тебе, бедняжке, приходится самой выносить помои за своими гостями? Однако, по-ло-же-ни-е!
– Сергей Станиславович, да о чём вы? Какой друг? Вы… что вы говорите-то такое? – растерянность от неожиданной встречи понемногу начала проходить, и Варя нахмурилась. – Отчего вы так со мной говорите? Я вам и повода никакого…
– Никакого повода?! – взорвался Тоневицкий, резко обернувшись к ней, и Варя невольно отпрянула. – Никакого повода?! А я, дурак, ещё не хотел верить…
Закончить фразу молодой князь не успел. В соседней спальне что-то заскрипело, ухнуло, ударилось о стену. Скрипнула дверь, – и взглядам Вари и Тоневицкого предстали два встрёпанных субъекта с помятыми и небритыми физиономиями.
– До-оброе утро… тьфу… Варенька… Варвара Трофимовна… Чёр-р-рт, да вы не одни?!.
– Не одна, как видите, Андрей Петрович. – Варя отвернулась к окну. В её голосе прозвучала резкая горечь – такая непривычная для её друзей, что едва проснувшиеся студенты озадаченно переглянулись.
– Так мы пойдём, пожалуй?.. – осторожно спросил Петя Чепурин, поглядывая на Тоневицкого. Но тот, не слыша его, в упор смотрел на Варю.
– Который же из этих… м-м… господ – твой предмет? Не оба же сразу?
Лицо Вари застыло. Некоторое время она стояла молча, с трудом переводя дыхание, словно от приступа острой боли. Затем негромко сказала:
– Напрасно вы пришли, Сергей Станиславович. Позвольте, мне здесь уборку кончить надо. А вы ступайте с богом.
– Признаться, с удовольствием, – с неприкрытой брезгливостью в голосе выговорил Сергей и, повернувшись, вышел вон. Сквозняк дёрнул занавеску, шевельнул рыжие завитки у висков Вари. Девушка коротко вздохнула. Как заколдованная, вытащила из ведра тряпку, отжала её и принялась тереть стол. С полированной столешницы на пол побежали грязные капли, но Варя не замечала их.
В комнату вбежали подруги.
– Варька! Что стряслось-то? – всплеснула руками Флёна. – Кто этот господин тебе будет? Богородица всеблагая, да на тебе лица нету! Да зачем же ты, дура, полированный стол мокрой тряпкой портишь? А вы тут с какого боку встали?! – накинулась она на растерянных студентов. – Ну-ка, живо, извольте объясниться, что тут без нас сделалось? Почему Варвара плачет? Чего натворили с похмелья-то?!
– Неправда, Флёнушка, я не плачу, – с усилием сглотнув, выговорила Варя. Лицо её по-прежнему было бледным, на нём застыла гримаса боли, но она силилась улыбнуться друзьям дрожащими губами. – И в мыслях не было… Что ж… Коли он так про меня думает… коли ничего другого даже в голову ему не пришло… Значит, так тому и быть.
– Кто вам этот человек, Варвара Трофимовна? – вдруг резко, почти грубо спросил Андрей, делая шаг к Варе и решительно отстраняя опешившую Флёну. – Он что-то значит в вашей судьбе? Отчего он так говорил с вами и в чём вас заподозрил? Кто бы он ни был, он не имел права…
– Ничего, Андрей Петрович, ничего… В голову не берите, – шёпотом сказала Варя. – Коли проснулись – так и ступайте себе, нам ещё уборку заканчивать…
– Да уж какая тебе уборка теперь! – сурово заметила Флёна. – Иди-ка ты, голуба, к себе да отдыхай, а мы уж потихоньку сами дошкрябаем полы-то. Анна, проводи-ка ты её, а то, не ровён час, в омморок шлёпнется на лестнице.
– Я провожу! – объявил Андрей. – Петька, а ты давай помоги тут! Воду вон, что ли, вынеси да выплесни! И новой принеси! Давай, брат, постарайся… Тут из-за нас с тобой и так бог весть что получилось! Угораздило же заснуть этак… неудачно! Варвара Трофимовна, позвольте предложить вам руку.
У Вари не было сил даже спорить: она смогла лишь через силу улыбнуться в ответ. Тоненькая, прямая, она медленно вышла из залы, держась за локоть Сметова и неестественно высоко держа голову.
– Чисто мазурку танцевать собрались… – пробормотала Флёна. – Вот так приехала кума неведомо куда… Что же это у Варвары нашей за знакомства? Господин-то непростой… Два слова только сказал, а вон как расстроил! И где ж это я его допрежь видала-то? Анна, не упомнишь?
– Брось, показалось тебе, – неуверенно сказала подруга.
Флёна покачала головой, задумалась.
В Вариной комнатке было темно и холодно: с утра, торопясь к Емельяновым, хозяйка не успела затопить печь.
– Вы не разувайтесь, Андрей Петрович, всё равно нынче мыть полы буду, – устало сказала Варя, проходя внутрь. – Спасибо, что проводили… А теперь сделайте милость, ступайте! Я немного, совсем немного посижу и опять за дела примусь. Мне ещё много чего надо…
Она не договорила, заметив, что Андрей, стоя возле стола, разглядывает стоящий на нём карандашный портрет. Покраснев, Варя метнулась к столу, схватила истрёпанный лист бумаги и, смешавшись, неловко сунула его в ящик.
– Однако, исполнено мастерски, – тихо сказал Сметов. И, подойдя к растерянной, смущённой девушке, вдруг решительно взял её за обе руки. – Варвара Трофимовна… Варенька… Я знаю, что не имею права ни на какие расспросы и… и вообще ни на что не имею права! Но, если бы вы рассказали мне, кто этот человек… – он мельком кивнул в сторону ящика, куда отправился портрет. – Ведь, если он позволил себе взять такой тон с вами, значит…
Варя медленно покачала головой. Она не освобождала своих рук из ладоней Сметова, но по лицу её медленно ползли слёзы.
– Кто бы он ни был, он оскорбил вас, – глухо сказал Андрей. – Оскорбил тяжело и незаслуженно. Даже того немногого, что я успел услышать, достаточно, чтобы… Вы позволите мне объясниться с ним?
– Боже упаси! – испугалась Варя. – С какой же стати?
– На правах вашего друга и… – Андрей запнулся, и даже в сумраке комнаты стало заметно, как он покраснел. – Варвара Трофимовна, если более некому заступиться за вас, то… я всегда к вашим услугам!
Варя подняла на него полные слёз глаза, слабо улыбнулась.
– Спасибо вам, Андрей Петрович… Только я и сама за себя заступлюсь. Вы не думайте, я ведь не барышня, чтоб от каждого худого слова в обмороки падать. Наше дело крестьянское… Дух перевёл да дальше пошёл. Мне себя упрекнуть не в чем. Я батюшкиного имени не позорила и себя не роняла никогда. А коли кто-то тому не верит… Что ж, право имеет. И вы в голову не берите. Ещё не хватало, чтобы вы из-за меня… Нет, и думать забудьте!
– Но вы хотя бы не плачьте больше! – с горечью попросил Андрей. – Я не могу видеть, как вы… Из-за какого-то сукина сына!
– Неправда, вы не смеете! – запальчиво закричала Варя. – Вы же ничего не знаете!
– Так скажите, и я буду знать! – забывшись, заорал Андрей так, что Варя попятилась от него. Глядя на её испуганное лицо, Сметов опомнился:
– Простите… Варенька, простите меня. Вы и так расстроены, а я, болван…
– Ничего… Право, ничего, – прошептала Варя. Помедлив, она протянула студенту руку, и тот виновато сжал в ладони тоненькие пальцы.
– Не сердитесь на меня, Варенька. Конечно же, я ни на что не имею права. Но вы мне дороги, а с вами поступили несправедливо, и я…
– Да где же это вы на свете справедливость видели, Андрей Петрович? – с горькой улыбкой спросила его Варя. – Тятенька жизнь прожил – не увидал, так и умер, справедливости не встретивши. Вот и я теперь…
– Варенька, верить в такое нельзя, – уверенно заявил Андрей. – Справедливость в том, что вы сейчас – не в крепости, не в глухой деревне под началом невежественных господ, а здесь, среди друзей! Справедливость в том, что ваш талант растёт и крепнет! Что скоро, совсем скоро о вас заговорят! И мы все почтём за честь помогать вам! Что же касается меня лично, то я… Хотите, чёрт возьми, я вызову его на дуэль?! Этого вашего…
– Да угомонитесь вы уже! – с вымученной улыбкой отмахнулась Варя. – Сказано вам – пустое, не стоит…
– А коли пустое, так и не плачьте больше! – сквозь зубы велел Андрей.
– А я и не плачу. – Варя вытерла слёзы. – Ну? Видите? Сейчас посижу немного… ежели, конечно, вы меня в покое оставите… И делом займусь. А вы глупости из головы выкиньте. Подождите, там вас внизу ещё Фёкла ждёт не дождётся – внушение сделать!
– Это за что же?.. – опешил Сметов.
– Да за выпивку! Про которую обещано было, что – ни капли весь вечер! А на деле что вышло?! Вместе с господином Чепуриным так урезались, что мы втроём вас растолкать не смогли!
– Действительно, нехорошо вышло, – покаянно признал Андрей. – Варенька, мне, право, очень стыдно…
– Ничуть вам не стыдно! – со вздохом сказала девушка. – Баловник вы и есть, ветер в голове играет! Ступайте, Андрей Петрович… За слова ваши спасибо, я не забуду… А сейчас ступайте.
Некоторое время студент молчал, глядя в измученное лицо девушки. Затем бережно поднёс к губам её руку, повернулся и вышел. Как только за ним закрылась дверь, Варя бросилась на аккуратно застеленную кровать, отвернулась к стене, судорожно стянула на плечах платок и больше не шевелилась.
К досаде Сметова, во дворе его в самом деле дожидалась укутанная полушалком по самые глаза Флёна. Андрей сделал попытку незаметно пробраться к калитке, но решительная белошвейка бросилась ему наперерез.
– Андрей Петрович! Да стойте, за-ради господа! Ну? Что там Варенька наша?
– Уже не рыдает, но очень расстроена, – хмуро ответил тот. – Я бы не советовал тебе сейчас к ней соваться.
– Уж как-нибудь без ваших советов управимся! – фыркнула Флёна, но тут же её лицо стало серьёзным. – Андрей Петрович, тут дело-то такое… Вспомнила я этого господина-то! Который с утра приходил и Вареньку расстроил!
– Ты с ним знакома?! – изумился Сметов.
– Не с ним, а с матушкой его и с сестрой! Они же вчера у нас на вечере были! Княгиня Тоневицкая с дочерьми! И младший сынок княгинин был, а сегодня утром, стало быть, и старший явился! Я его всего раз у них в доме, в Столешниковом, и видела, когда заказанные кружева туда относила! Оттого и не сразу признала! Вот ведь штука-то какая!
– Тоневицкий… Тоневицкий… – медленно, глядя через плечо Флёны на скачущих по кустам воробьёв, повторил Андрей. – Так где, говоришь, они живут? В Столешниковом переулке?
– Ну да! Сразу за церковью, дом Иверзневых! Большой такой, зелёный, и на воротах…
– …жестяной петух прибит, – закончил за Флёну Сметов. И, не глядя больше в её удивлённое лицо, быстро, не оборачиваясь, пошёл со двора.
… – И я не понимаю, не понимаю, чем заслужила такое отношение к себе! Да, я ем ваш хлеб! Живу здесь из милости! Вы никогда не любили меня, не хотели моего счастья и… и… и… ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
– Александрин, вы несносны, – устало сказала княгиня Вера, опускаясь в кресло напротив кровати, на которой самозабвенно рыдала её старшая падчерица. В ответ раздались ещё более отчаянные всхлипы, переходящие в судороги.
В дверь просунулось озабоченное лицо Аннет:
– Маменька, ну что? Воды принести или солей?
– Ничего не надо, ступайте. Скоро кончится само. Как всегда.
Аннет исчезла. Княгиня Вера встала, сделала несколько шагов по комнате и, остановившись у окна, за которым валил снег, негромко сказала:
– Александрин, выбирайте. Или я сейчас оставляю вас здесь, еду с Аннет и Nicolas к Гагариным, а оттуда – в театр, и вы можете закатывать концерты хоть до самого утра в пустом доме… Или вы берёте наконец себя в руки.
– Вы меня н-н-ненавидите!..
– Как вам угодно. Но не могли бы вы обвинять меня более спокойным тоном? Это ваш четвёртый скандал на этой неделе, а ведь ещё всего только пятница! Всё это, наконец, становится утомительно. Пожалуй, правы были те соседи, которые говорили мне, что вы из-за слабого здоровья не выдержите сезона в Москве. Следовало оставить вас в Бобовинах и…
– Да! Да, да, да! Запереть в этих ваших Бобовинах навечно! Превратить в сушёное яблоко, сгноить, как в тюрьме! Сделать приживалкой-ключницей! Что, ну что вам мешает выдать меня замуж?! Вы раз и навсегда избавились бы от моего присутствия, которое вас так раздражает!
– Александрин, всему есть предел. Вы совершенно перестали держать себя в руках, и это замечают уже не только ваши домашние. Я ещё раз повторяю вам. Пока не придёт ответ на моё письмо в Калугу, я не дам согласия на ваш брак с господином Казариным!
– Да для чего же, для чего ж нужно это письмо?! Алексей Порфирьевич – порядочный человек, дворянин, близко знаком с графом Ганицким! У него семьсот душ в Малоярославецком уезде, и…
– …и обо всём этом мы знаем только с его слов. Не скрою, манеры господина Казарина производят впечатление, и он, возможно, искренне увлечён вами, но…
– «Возможно»! Как будто вы можете иметь понятие об искренности, о настоящих чувствах! Как будто вы способны на…
– …но всего этого недостаточно, чтобы устроить вашу жизнь, – словно не слыша выпада падчерицы, ровным голосом продолжала княгиня Вера. Она чувствовала, что терпение её на исходе, и из последних сил старалась не повышать тона. – Я дала клятву своему покойному супругу. А тот в своё время дал её вашему умирающему отцу. Я отвечаю за ваше счастье и не могу позволить вам выйти замуж за человека, которого и вы, и я знаем лишь несколько недель. Более того, спешка господина Казарина мне странна…
– Разумеется! Разумеется! Вам всё странно, что дышит любовью! Вам дико настоящее чувство! Вам подозрительны порывы души! Вы никогда в жизни не испытывали ничего подобного, и я, попав к вам в рабство…
Бешено хлопнула входная дверь. Через комнату, грохоча мёрзлыми сапогами, не сняв шинели, с которой на паркет осыпались комья снега, пролетел Сергей Тоневицкий. Прежде чем княгиня успела остановить его, он легко, как тряпку, сдёрнул с кровати пискнувшую Александрин и несколько раз с силой тряхнул её. Мгновенно наступила тишина. Перепуганная воспитанница княгини обвисла в руках сводного брата, открывая и закрывая рот, как вытащенный из воды карась.
– Très bien, – тихо сказал Сергей, приблизив бледное от бешенства лицо к испуганной мордочке Александрин. – Вот, оказывается, лучший способ заставить вас замолчать! Ваши вопли слышны на улице, и дворник Яким с восторгом слушает их! Даже о метле своей забыл! Но более я ему не доставлю такого удовольствия, кузина! Если вы ещё раз позволите себе говорить с матушкой в таких выражениях, я разобью вам голову о стену! И голова расколется тут же, ибо совершенно пуста! И все в этом доме наконец вздохнут спокойно! Вам понятен смысл моих слов? Или для убедительности повторить по-французски?!
– Серж, Серж, ради бога, Серёжа!!! – опомнилась наконец княгиня Вера. – Как вы себя ведёте, что за разбойничьи выходки! Отпустите Александрин немедленно! Извинитесь!
– Как вам будет угодно. – Сергей разжал руки, и Александрин мешком плюхнулась на постель. – Но извиняться перед этой тварью, при всём моём уважении к вам, я не стану.
– Серж!!! Да что же это, право! Вы, ей-богу, друг друга стоите – и вы, и Александрин! Каких манер вы набрались в полку?!
– Маменька, я не позволю этой дря… этой особе оскорблять вас, – жёстко сказал Сергей, краем глаза следя за Александрин, резво отползшей от него на другой край кровати. – Она потеряла всякое чувство меры, и пора уже положить конец её выступлениям. И видимо, это придётся сделать мне – как старшему мужчине в доме.
– Хочу вам напомнить, что старшая в этом доме всё же я, – холодно заметила княгиня Вера. – И за ваше поведение я пока ещё отвечаю в той же мере, что и за Александрин. Через полгода вы становитесь совершеннолетним, вступаете в наследство – и на здоровье! Можете вытворять что угодно в пределах собственной совести. А пока – извольте слушаться! Извинитесь перед кузиной!
– Не стоит, право, – синие глаза Сергея похолодели. Он в упор, не отводя взгляда, смотрел на мачеху. – Я ни в чём не виноват перед ней. И только из любви к вам не придушил эту… это мучение для всей семьи раз и навсегда! Надеюсь, вместо меня это быстро исполнит её возможный муж! Мне неприятен Казарин, но его, право же, можно и до́лжно пожалеть! Никакое приданое не поможет, когда он окажется один на один с этим милейшим существом!
– Серёжа, вы невозможны, – с горечью сказала княгиня Вера. – Вынуждена признать своё поражение как мать и как бывшая гувернантка. Мне ничего не удалось сделать с вашим характером. Пребывание в полку только испортило вас… Но здесь уж я бессильна. Ступайте к себе. Оставьте в покое и меня, и Александрин. И напрасно вы причисляете себя к мужчинам. Так вести себя с женщиной может только последний…
Договорить Вера не успела: в комнату вбежала горничная.
– Сергей Станиславович, к вам господин какой-то пришёл!
– Что за господин? – сердито спросил Сергей. – Я никого не жду, гони его прочь!
– Да что же это такое, наконец! – вышла из себя княгиня. – Вспомните, что вы дворянин, что вы князь Тоневицкий! Где ваше воспитание? Коли вы не намерены встретить вашего гостя, то я сама его приму! Домна, он представился?
– А как же-с! Андрей Петрович Сметов! Говорит, что они с Сергей Станиславычем только нынче утром встречались и что он по важному делу!
Княгиня повернулась к приёмному сыну и успела заметить тень смятения, метнувшуюся по лицу Сергея.
– Что ж, проси в гостиную! – после лёгкой заминки велел он.
Горничная ушла. Александрин, всхлипывая и дрожа, спрыгнула с кровати и бросилась прочь. Вместо неё прибежала встревоженная Аннет.
– Маменька, что это тут было?! Серёжа, ты рычал, как… Как Трезор цепной у нас в Бобовинах! Я чуть не умерла с перепугу! На Александрин лица нет! Что стряслось, Казарин отказывается на ней жениться?!
– Слава богу, пока что нет, – сквозь зубы, избегая смотреть на мачеху, сказал Сергей. – Я пытался её унять хотя бы немного – и вот, как видишь, получаю распеканцию. И, ей-богу, не могу понять за что.
Аннет повернулась к княгине, но та лишь безнадёжно махнула рукой, сняла со спинки кровати вязаную шаль и, зябко закутавшись в неё, вышла из спальни. Брат и сестра остались одни.
– Зачем, Серёжа? – помолчав, спросила Аннет. – Ты ведь знаешь, это бесполезно… Я имею в виду Александрин… А маменька только расстроилась ещё больше. Она и так едва держится во время этих истерик, я же вижу!
– И сколько, по-твоему, эта мерзавка ещё будет мучить её?!
– Ну, ведь недолго же осталось! Скоро она выйдет замуж, уедет…
– Боюсь, что Казарин не окажется таким идиотом и сбежит из-под венца так же, как все прежние, – мрачно предрёк Сергей. – Как, скажи на милость, можно иметь в жёнах такую гусеницу?!
– А ведь она в тебя была страшно влюблена, помнишь? – лукаво спросила Аннет.
Брат не ответил, но его передёрнуло. Он сделал несколько шагов по комнате, остановился у стены. Долго молчал, разглядывая рисунок старых обоев.
– Серёжа, ну что же ты в самом деле? – обеспокоенно окликнула сестра. – Пойдёшь после к маменьке, попросишь прощения… Велико ли дело! Ты же знаешь, она тебя любит. Поругает, как всегда, и простит. А нет, так я схожу за тебя попрошу.
– Ну, не хватало мне ещё прятаться за твоей юбкой, – сурово сказал брат. – Что ж… Надо идти, однако, взглянуть, что там за господин… Сметов явился. Хоть убей, не припомню, где мы с ним могли видеться! Денег, что ли, занять хочет?
Аннет хихикнула и первая выбежала из комнаты. Сергей пошёл следом.
Когда брат и сестра Тоневицкие вошли в гостиную, нежданный гость уже разговаривал с княгиней Верой. Та, держа его за руку, весело говорила:
– Но отчего же вы, Андрей Петрович, пришли к сыну, а не прямо ко мне? Я ведь просила вчера заходить к нам запросто! Это замечательно, что вы здесь! А Варя не смогла прийти?
– Нет, к сожалению, Варвара Трофимовна слишком устала после вчерашнего вечера, – на физиономии Андрея не было ни тени привычной насмешливости. Он с почтительным уважением склонился над рукой княгини. – Простите мою наглость, ваше сиятельство, что я вот так явился к вам в дом… Если бы не крайняя необходимость поговорить с князем…
– И вы знакомы с Сержем? – удивилась княгиня Вера. – Кто бы мог подумать… Воистину, в Москве все друг друга знают! Из каких же вы Сметовых? Из подольских?
– Из волжских. У папеньки имение было под Ярославлем. А с князем я имел честь познакомиться лишь сегодня утром… В доме Варвары Трофимовны.
– Серж, так вы были у Вари? – удивлённо спросила княгиня Вера, повернувшись к сыну. Лицо Сергея окаменело. Андрей быстро, внимательно взглянул на него. Кашлянув, спросил:
– Ваше сиятельство, я не посмел поинтересоваться у вас вчера… Побоялся показаться слишком настырным… Но вы ведь урождённая Иверзнева, не так ли?
– Именно так, – с лёгким удивлением подтвердила княгиня. – А вы разве…
Она не договорила, поражённая мгновенной переменой в госте. С загорелого, резкого лица Андрея слетела вся светская церемонность, он улыбнулся Вере сердечно и тепло, как родному человеку. И, прямо глядя в изумлённые глаза молодой женщины, сказал:
– Я был товарищем по университету вашего брата, Михаила Николаевича Иверзнева. Позвольте мне выразить своё восхищение… Все мы преклонялись перед ним! И это страшная несправедливость – то, как с ним обошлось наше драгоценное правительство!
– Боже, отчего вы не сказали мне этого вчера! – ахнула Вера, протягивая студенту обе руки и улыбаясь. – Для друзей моего брата этот дом открыт и днём и ночью! Идёмте же, какое счастье, что вы пришли! Домна! Федосья! Немедленно ужинать! О, как жаль, что ни Саши, ни Пети нет! Они были бы так рады! И позовите Колю, хватит ему там рыться в книжках!
И, не замечая ошарашенных взглядов Сергея и Аннет, она повлекла гостя в гостиную.
Снег прекратился в сумерках. За окном сгустился синий вечер. Ледяные узоры на стекле искрились, отражая свет старой зелёной лампы, помнившей ещё родителей Веры. Горничная убирала со стола остатки ужина, кухарка внесла самовар. Аннет с ногами забралась в глубокое кресло и смотрела задумчивыми тёмными глазами то на мачеху, то на гостя, не принимая участия в разговоре. Николай, сидящий рядом, не сводил с Андрея полного восхищения взгляда, но вмешаться в беседу тоже не решался. Сергей расположился на диване у дальней стены, целиком пропадая в темноте, и лица его не было видно.
– …ну а в имении с папенькой существовать никакой возможности не было, – не спеша рассказывал Сметов. Было заметно, что он слегка смущён бурным и радостным приёмом Тоневицких. Его привычная развязность испарилась без следа под радостным, тёплым взглядом княгини Веры, которая сидела напротив и внимательно слушала каждое его слово. – Вы ведь, княгиня…
– Вера Николаевна! Ну, сколько же ещё просить!
– Простите, я позже, ей-богу, привыкну… Вы ведь, Вера Николаевна, знаете, как наш брат помещик по своим медвежьим углам живёт! Ни книг, ни мыслей, ни пользы от него никакой! Имеет пару-тройку крепостных и трясёт из них душу. С соседями судится без конца из-за потравы какой-нибудь. Бранится с женой, детям то и дело грозит проклятиями… Другого ведь развлеченья нет и взяться неоткуда!
– Однако вы резки к своему отцу, – заметила княгиня.
– Возможно, – нехотя согласился Андрей. – Это, верно, неприлично звучит, но воспитание у меня самое дикое… Верней, его и вовсе нет. Я отцу благодарен, разумеется, за то, что он не дал мне умереть с голоду в мои детские годы… Ну а более мне его благодарить не за что. Всю жизнь пил горькую, ни о ком не думал. Матушку вогнал в могилу своим свинством… Сестра, слава богу, умудрилась сделать хорошую партию и забрала меня к себе, в Пензу. Муж её отдал меня в гимназию, а после отправил сюда, в университет. И вот этому человеку я действительно благодарен! Не окажись его, я бы до сих пор в имении по двору гусей гонял. Вы простите, княг… Вера Николаевна, что я так прямо выражаюсь, но… так уж я привык, я в светских гостиных редко бываю. Ежели не гожусь ко двору, так и скажите, я вас более своим обществом не отягощу.
– А вот обижаете вы меня напрасно, – спокойно парировала княгиня Вера. – В этом доме прямотой никого не напугаешь. И если вы близко знали Мишу, то должны это помнить.
– Простите, – искренне покаялся Андрей. – Вперёд, право, не буду.
– Но как же вы жили здесь? – участливо спросила Вера. – Совсем один в чужом городе, без знакомых, без помощи…
– Ну, помощь по первости была, сестра деньги слала… Да, признаться, я и голода не замечал почти… Семнадцать лет, руки-ноги целы, здоровье лошадиное! От папеньки избавился, в университет поступил, а там ещё и книг полная библиотека… О чём ещё мечтать было? Да и много нас там было таких… До сих пор помню, как с голодухи в купеческих садах незрелые яблоки воровали и наедались до поно… До желудочных колик. А как стали уроки появляться, да переводы изредка, так я и от сестриных денег отказался. Всё же неловко было, что меня, жеребца здорового, чужой человек содержит. – Андрей жёстко, недобро усмехнулся. – После этого-то папенька меня и проклял. Когда узнал, что я уроки даю в столице. Крепостных у него было четверо и земли – курице дважды шагнуть, а гонору дворянского столько, что в неделю не объехать! Говорят, что месяц ездил по всем соседям и кричал, что сына, который учит арифметике купеческих остолопов, у него, столбового дворянина Сметова, нет и быть не может! Кричал-кричал… Докричался до родимчика. Впрочем, тут не столько мои уроки, сколько «ерофеич» ключницын виноват. Имение, однако, успел переписать на какого-то семиюродного племянника… Да, может, оно и к лучшему. Я всё равно бы никогда туда не вернулся.
– Я понимаю вас, Андрей Петрович, – медленно сказала Вера. Поймав недоверчивый взгляд студента, задумчиво улыбнулась. – Знаю, в наших кругах много рассуждают о родительской безграничной воле над детьми… Но, на мой взгляд, лучше бы эту волю хоть что-то сдерживало. К сожалению, очень многие люди, получив беспредельную власть над кем-то: над детьми, над крестьянами, над подчинёнными – теряют человеческий облик.
Андрей долго, изумлённо смотрел на неё. Княгиня вопросительно улыбнулась ему. Он с запинкой выговорил:
– Право, Вера Николаевна… Я думал, такие крамольные мысли у меня одного имеются.
– Как видите, нет. А с Мишей вы по университету знакомы?
– Да… Хотя он уже кончал курс, а я только начинал. Впрочем, в нашей компании все были разномастны. И медики попадались, и философы… Военные даже были! А встречались мы, как правило, в вашем доме. Мне всё знакомо тут. Под этой самой лампой и ругались, как жизнь в России-матушке наладить. Вот и наладили… Видит бог, я никогда смертными грехами не баловался, но одного человека убил бы с удовольствием! Ничего бы не случилось, если бы все, кто был под следствием, вели себя так, как ваш брат!
– Как, и вы тоже?!.
– А как же. Почти месяц в крепости просидел! – мрачно буркнул Андрей. – И ещё восьмерых наших тогда взяли! И, признаться, все молодцы были… Один иуда нашёлся, Федька Семирский… И кто бы подумать мог! Ведь громче всех на собраниях про крестьянское счастье орал и про нашу святую обязанность его устроить! А как до дела и до следствия дошло – сдал всех с потрохами на первом же допросе! И ведь врал ещё, что он из бедноты и сам землю пахал со своими крепостными! А выяснилось, что у него отец – генерал Семирский! Тот самый – помните восстание польское?.. Разумеется, папеньке тут же сообщили… Видать, его-то Федька и испугался! Тьфу, мерзавец, паскудное племя… Простите, Вера Николаевна! И вы, княжна…
Аннет, с горящими глазами глядевшая на гостя, только всплеснула руками.
– А вы сами, Андрей Петрович? – не вытерпев, вмешался Николай. – Неужто не боялись ничего? Ведь это… каторга!
– Ещё как боялся, – с кривой усмешкой ответил Андрей. – Трудно, знаете ли, не бояться, сидя в каменной коробке с крысами… Да, признаться, я и уверен был, что каторгой для всех нас кончится. И кончилось бы, если б не Михаил Николаевич. Он всё тогда взял на себя и никого из нас не оговорил. На очной ставке с Семирским всё подтвердил… Да там и отказаться нельзя было. В вашем доме все бумаги и нашли…
– А у вас ничего не было?
– Было, да не отыскали. У соседей лежало, – невесело усмехнулся Андрей. – Побились-побились с нами впустую да и выбросили. А Михаил Николаевич… Чёрт, какое свинство, несправедливость какая! И поделать ничего нельзя… Боже мой, Вера Николаевна, я последний болван, простите меня!
Последняя фраза была сказана после того, как Вера беззвучно расплакалась, уронив лицо в ладони. Тут же к ней бросилась Аннет, обняла, зашептала на ухо. Поднялся и Николай. Андрей, сконфуженно сопя, наблюдал за семейной сценой.
– Это вы меня простите, Андрей Петрович, – Вера поспешно вытерла глаза. – Я совсем распустилась, от малейшего пустяка в слёзы ударяюсь, как институтка… Поверьте, мне дорого каждое ваше слово. Я так мечтала познакомиться с кем-нибудь из друзей брата, ведь мы с ним были очень близки! Это просто счастье, что вы здесь и я могу с вами говорить о Мише! Пообещайте немедленно, что будете часто бывать у нас!
– Да-да, обещайте! – накинулись на Андрея с двух сторон Николай и Аннет. – Мы будем рады, будем ждать! Это так интересно – всё, что вы рассказываете! И маменька просто ожила рядом с вами!
Изрядно смущённый студент вынужден был дать обещание, и Аннет, сияя от радости, стиснула его широкую шершавую ладонь своими тонкими пальцами.
– Какой вы душка, Андрей Петрович, спасибо, спасибо!
Смуглое лицо студента залилось краской:
– Я, право, не заслуживаю, княжна…
– Просто Анна Станиславовна! – Аннет улыбнулась, блеснув зубами. – А как же вы с нашей Варей познакомились? Расскажите, смерть как интересно! А я вам пока свежего чайку налью! Вы любите коржики с маком? У нас их Федосья дивно делает, в самом лучшем трактире такого не найдёте… Ой, Колька, ты почти всё слопал?! Вот положенье, да когда успел-то?
– Это я от волнения… Я сейчас ещё принесу! – Николай унёсся на кухню.
– И в самом деле! – Вера спрятала платок, с улыбкой повернулась к гостю: – Как же вы с нашей Варенькой встретились?
– Так ведь Варвара Трофимовна с батюшкой меня тогда и спасли! – усмехнулся Андрей. – Когда они в Москву приехали и поселились по соседству, я и познакомиться не смог. Вечно носился по городу с уроками, дома бывал лишь к ночи. Видел, конечно, что какой-то старик с дочкой въехал, но разговоров меж нами не случалось. А в этот емельяновский дом народу разного понапихано, как сельдей в бочке, и перегородки между комнатами тонкие, в досточку… В моей комнате, прямо над печью, эти доски проломлены были, и дырка… В полвершка, не более! И вот, когда ко мне с обыском пришли… А я ведь и не ждал, и в мыслях не было! Счастье, что все списки с той несчастной рукописи у меня одним свёртком лежали. И вот – дворник ко мне стучится среди ночи, а с ним, слышу – и другие люди… Как я только сообразить сумел! Свёрток из стола выхватил, на печь взлетел, да к соседям его и протолкнул! Всё равно, думаю, терять нечего, коли выдадут – так, стало быть, судьба. Открываю, впускаю пристава, жандармов… Натурально, в комнате – обыск, меня – в участок!
– И не нашли ничего?! – восторженно прошептала Аннет.
– Разумеется, нет! Через месяц выпускают меня, возвращаюсь домой – и прямо на лестнице меня девица соседская останавливает: «Извольте зайти к нам, своё добро забрать!» Спасибо, говорю. А вы сами бумаги-то не смотрели? «Нет у нас с тятенькой такой привычки: в чужие вещи глядеть». Вхожу к ним – батюшки! Все стены в картинах! И большие, и маленькие, и маслом писанные, и акварель, и уголь… До ночи просидел, чай пил и любовался… Так и познакомились. Я после своих друзей к Трофиму Игнатьичу приводил, а у него всегда много студентов из художественного толклось, Варвара Трофимовна классы посещала… Мы ведь, Вера Николаевна, эту вчерашнюю выставку для того и задумали, чтобы Варя дальше учиться могла! Это ведь денег стоит, а…
– Во сколько же обошлось снять под выставку такую огромную квартиру? – изумилась княгиня Вера. Николай при этом многозначительно посмотрел через комнату на старшего брата. Но Сергей не поднял головы и не заметил этого взгляда.
– Коли бы снимали, так, верно, никаких наших денег не хватило б, – засмеявшись, признал Андрей. – Это благодетель наш, Силантий Дормидонтыч, на вечер квартиру свою нам оставил – с тем, однако, чтобы в ней после ещё жить можно было. Да вы же с ним вчера сами познакомились! Ещё и вальс танцевали!
Аннет, запрокинув голову и тряся кудряшками, расхохоталась на всю гостиную при одном воспоминании об этом вальсе. Засмеялись и остальные.
– Надо сказать, что выставка удалась! Всё продали, да и с барышом каким! Квартиру, конечно, их степенству испачкали преизрядно, но там с утра Варвара Трофимовна с подругами полы и стены скоблят… Можно надеяться, что в прежний вид всё удастся привести.
О Варе и её отце говорили ещё долго – и о том, что пора бы и честь знать, Андрей спохватился только к полуночи. Провожать гостя в прихожую высыпало всё семейство Тоневицких за исключением Александрин – об отсутствии которой, впрочем, никто и не жалел.
– Право, оставались бы ночевать, Андрей Петрович! – уговаривала княгиня Вера. – На дворе холод и ночь, а вам добираться на Полянку совсем неблизко! А комната свободная найдётся. У покойной маменьки всегда гости подолгу жили…
– Не могу так злоупотребить вашим расположением, княгиня, – твёрдо говорил Андрей, влезая в потрёпанное суконное пальто с вылезшим воротником. – Я обещал у вас бывать и слово сдержу… Но остаться ночевать в первый же день – это крайний моветон! До такого ещё не докатились! Моё почтение, Анна Станиславовна… Николай Станиславович…
– Я, пожалуй, провожу вас немного, господин Сметов, – вдруг сказал Сергей, решительно дёргая с вешалки свою шинель. – Хотелось бы напомнить, что визит ваш был адресован прежде всего мне.
В прихожей воцарилась неловкая тишина.
– А ведь и в самом деле, – изумлённо выговорила княгиня Вера. – Вы ведь пришли к Серёже… А я, услышав про ваше знакомство с братом, вцепилась в вас как репей! Извините меня, пожалуйста, Андрей Петрович. Если вы желаете поговорить с сыном, вы можете вернуться в кабинет отца или в библиотеку…
– Не стоит, – отказался Андрей. – Разговор наш будет короток, и обременять вас своим гостеванием я более не стану. Благодарю, Сергей Станиславович, что вы решили меня проводить… Идёмте же!
На дворе стояла синяя, звенящая от мороза ночь. За забором недвижным привидением застыла седая от инея липа. Над маковкой церкви взошёл тонкий молодой месяц, и снежные сугробы мягко искрились в его сиянии. Кое-где ещё горели окна. По перекладине калитки, роняя вниз мягкие комья снега, прыгала озябшая ворона. Лохматый пёс, услышав скрип снега под шагами Сметова и Тоневицкого, выбрался из будки, лениво гавкнул и залез обратно. Ворона, снявшись с калитки, бесшумно полетела над пустым переулком, похожая на призрачную сову.
По переулку молодые люди шли молча. Оказавшись на залитой лунным светом Тверской, Сергей сквозь зубы спросил:
– О чём же вы желали говорить со мной, сударь?
– Да, собственно, уже и ни о чём, – не сразу ответил Андрей. – Надо думать, вы и сами поняли, что эта бабья истерика, которую вы учинили утром в чужой квартире…
– Что я учинил?! – вскинулся Тоневицкий. – Выбирайте слова, любезнейший!
– Так ведь других слов для этого не подобрать! – на губах Сметова уже была привычная ехидная улыбка. – К сожалению, Варвара Трофимовна приняла ваши вопли близко к сердцу… А мне небезразличен её покой.
– Что из того, что вы рассказывали нынче маменьке, можно считать правдой? – с напускным пренебрежением поинтересовался Сергей.
– Да всё можно считать, – скучным голосом отозвался Сметов. – Я врать не привык. И напрасно вы пытаетесь меня оскорбить. Я мог бы, между прочим, и на поединок вас вызвать за оскорбление моего дворянского достоинства… Но, честно сказать, никогда не любил заниматься пустяками.
– Неужто умеете стрелять? – саркастически осведомился Тоневицкий.
– Ну… – пожал плечами Андрей. – Уток в своё время неплохо бил на папенькином болоте. Надо думать, и из этой вашей пукалки лепаржевой как-нибудь выпалю. Но, повторяю, тратить на это время мне жаль. И потом – вдруг, не дай бог, попаду? Я же после этого навек утрачу расположение княгини!
– Скорее всего, попаду-то я! – съязвил Сергей.
– Тем более, зачем мне это надобно? – хмыкнул студент. – Хорошо, если насмерть, а ну как раните и в больничку отправите? Загибайся там… Нет уж, благодарю покорно!
– Трусите, стало быть?
– Князь, я в холерные бараки входить не боялся, – с усмешкой отозвался Сметов. – А уж перед пистолетиком-то вашим постоять… Тоже мне, пугало нашли!
Тоневицкий не нашёлся с ответом.
– И насчёт той квартиры на Полянке – тоже правда? – помолчав, спросил он.
– Ну, уж это вам кто угодно подтвердит. Хотите – справьтесь у хозяина. Он обычно за полночь сидит в магазине за счётами, так что мы сейчас ещё можем его застать. Дворника Пахома, опять же, можно разбудить… Хотя, скотина, пьян наверняка!
– Не вам его судить, – мрачно заявил Тоневицкий. – Вы и сами были вчера не лучше этого вашего Пахома… Судя по тому, что я с утра лицезрел.
– Есть такой грех. – Андрей с сердцем пнул смёрзшийся комок навоза, и тот полетел вдоль по улице, подскакивая на ухабах. – Вы ведь из-за этого и взяли себе в голову, что Варя… Варвара Трофимовна… Действительно, мы с Петькой, как последние свиньи, заснули вчера спьяну в чужой квартире – и утром в самый неподходящий миг себя явили! И вы немедленно решили, что Варвара Трофимовна содержит не менее чем притон! Что ж… Хотите, зайдём сейчас в церковь, и я забожусь вам на образе, что ни я к Варваре Трофимовне, ни она ко мне не имеем никакого отношения? Вы совершенно напрасно оскорбили порядочную девушку, князь. Впрочем, каждый судит по себе.
– Но что же, по-вашему, я должен был думать?! – взорвался Сергей. – Я не видел Варю почти три года! Они с отцом сбежали из Бобовин внезапно, в два дня, никто не знал почему! Даже землю и дом продавали какие-то родственники! И – ни одного письма всё это время, хотя, видит бог, я ждал днём и ночью!
– В самом деле? – невинно переспросил Сметов. – И, узнав, что ваша семья отправляется на выставку молодой художницы и, возможно, эта художница и есть ваша утраченная любовь…
– Сударь, оставьте этот тон!!!
– …нипочём не соглашаетесь идти вместе с ними!
– У меня были другие важные дела в этот вечер!
– Разуме-ет-ся! – саркастически протянул Андрей. – И наутро вы несётесь сломя голову по известному адресу, видите свет очей своих с грязной тряпкой в руках – первый признак камелии и содержанки, безусловно! – и вываливаете на неё всё, чем мучилась ваша душа целых три года!
– Но почему, чёрт возьми, по-вашему, она не писала мне?!
– Вот уж не знаю. Возможно, на расстоянии от вас ей удалось узнать вашу подлинную цену и…
Андрей едва успел отстраниться: кулак Сергея свистнул в полувершке от его головы. Они сцепились прямо посреди пустынной Тверской, упали на снег, покатились к чьим-то воротам – и через мгновение Сметов уже сидел верхом на вырывающемся Тоневицком.
– Неудачный выбор оружия для поединка, князь, – тяжело дыша, сообщил он. – Я вас старше и сильнее. Н-ну, успокойтесь, вставайте! И прошу меня простить: я, кажется, действительно перестал выбирать слова. Хватит, вам говорят, никакой драки не будет! Ради вашей матушки я в это не ввяжусь! Извините меня, я сказал!!!
Тоневицкий зло и недоверчиво взглянул на него, вскочил на ноги, отряхнулся от снега. Сметов подал ему упавшую фуражку, и они пошли дальше. Сергей молчал, глядя себе под ноги. До Андрея доносилось его тяжёлое, прерывистое дыхание. В безмолвии они дошли до пустынной Театральной площади.
– Если всё так, как вы говорите… Если я ошибался… Если вы не имеете к Варе никакого отношения… Для чего же вы тогда пришли ко мне? – наконец хрипло спросил Сергей.
В голосе его слышалось неподдельное смятение, и Андрей впервые за всю дорогу внимательно посмотрел на молодого человека. Затем просто сказал:
– Затем, что видеть спокойно Варины слёзы я не в состоянии. Да и вовсе не люблю я несправедливости. Особенно её чрезмерного скопления в судьбе одного человека. Ничем этого, между прочим, не заслужившего. Только поэтому я пришёл довести до вашего сведения, что вы идиот. И не вскидывайтесь, ваше сиятельство, никакое другое слово здесь не годится! Да и я не лучше вас… – Сметов тяжело вздохнул, и Тоневицкий с сомнением покосился на него. – Поверьте, вот иду сейчас и думаю: какого чёрта я веду все эти проповеди? И глупо ведь, и бесполезно. А ведь вот поди ж ты…
Снова молчание, скрип снега под быстрыми шагами, голубое лунное сияние на сугробах. Впереди уже показалась освещённая Иверская часовня, перед которой, несмотря на ночной час, суетились какие-то фигуры. Сметов замедлил шаг.
– Засим простимся, князь? Я сказал вам всё, что хотел, совесть моя теперь спокойна. Далее действуйте, как сочтёте нужным. Если вам хоть немного дорога эта девушка… Которой вы, кстати, вульгарно говорите «ты», а она вам благовоспитанно «выкает»…
– Да идите вы к дьяволу с вашими советами! Как-нибудь разберусь и сам! – взорвался Сергей. – Не хватало ещё, чтоб вы мне давали уроки манер! Как, по-вашему, я ещё должен был обратиться к своей бывшей крепостной?!
Сметов резко остановился, обернулся. Из-под заиндевелых бровей на Тоневицкого в упор взглянули сощуренные чёрные глаза. В них больше не было ни насмешки, ни ехидства – лишь неприкрытые горечь и отвращение.
– Фу ты, пропасть… И когда я только научусь в людях разбираться? – словно про себя пробормотал Андрей. – Стоило бисер метать… Простите, князь, что напрасно отнял у вас время. Прощайте.
– Постойте! Подождите, Сметов, вы неверно меня поняли! Да остановитесь же! – заорал ему вслед Сергей. Но студент уже уходил – лёгким пружинистым шагом, глубоко засунув руки в карманы облезлого пальто с облепленной снегом спиной. Сергей смотрел ему вслед, сжимая кулаки и чувствуя, как поднимается к горлу горький комок. Затем он отрывисто выругался, развернулся и быстро зашагал, почти побежал вниз через площадь.
– Как это всё… необычно, правда, Nicolas? – тихо спросила Аннет. Она стояла у замёрзшего окна в гостиной и смотрела на морозную роспись на стекле. – Прежде среди наших знакомых не было таких людей.
Николай, сидевший на стуле возле старых клавикордов, не ответив, с интересом взглянул на сестру. Но Аннет не заметила этого взгляда.
– Как мне хотелось расспросить его подробнее! О, что же это за несправедливость, что барышня должна сидеть смирно, слушать внимательно и, не дай бог, не показать чрезмерного интереса к мужчине! А мне столько всего хотелось от него узнать!
– Чего же, например? – добродушно улыбнувшись, спросил Николай.
– Ох, да я даже бы не знала, с чего начать! Какой же он всё-таки… не такой, как мы, как все наши знакомые… У меня теперь все чувства перепутаны! Вот ты, например, смог бы в пятнадцать лет вырваться из отцовской воли? Смог бы остаться один в чужом городе, без денег и знакомых? И яблоки воровать в чужих садах?!
– Яблоки, пожалуй, смог бы, – глубокомысленно заметил Николай.
Аннет сердито повернулась к нему:
– Ты это смешным находишь?! А мне просто плакать хотелось весь вечер, так мне было его жаль!
– Его, вероятно, позабавила бы твоя жалость.
– Наверное… – грустно вздохнула Аннет. – Я вот даже представить себе не могу такого положения… Вообрази, встаёшь утром – и завтрака нет! И обеда тоже нет! И неизвестно, будет ли ужин! Комната не топлена, потому что дрова вчера закончились! В сенях вода в ведре замёрзла! И всё равно вскакиваешь, бежишь в университет, потом – эти уроки… А если, не дай бог, заболеешь, свалишься с ног? И – никого, совсем никого, кто мог бы помочь! Бр-р-р… Как так можно жить?!
– Ты же видишь, что господин Сметов жив-здоров.
– Да… Потому и восхищаюсь, – глубоко вздохнула Аннет. И, не замечая улыбки брата, задумчиво принялась водить пальцем по полированной, местами потрескавшейся крышке клавикордов. – А помнишь, как мы в детстве боялись папеньки? Я и сейчас представить себе не могу, что я осмелилась бы хоть раз возразить ему, ослушаться… Сделать что-то по-своему…
– Отец был достойным человеком, – помолчав, напомнил Николай. – Нам не было нужды вступать с ним в конфронтации. Особенно, сестрёнка, тебе. Уж тебя он обожал!
– Не знаю, право, – пожала плечами Аннет. И снова задумалась. Не поднимая взгляда, села за клавикорды, взяла несколько нот. – Я иногда думаю, что если бы не маменька, не её влияние на отца… Он просто не позволил бы мне учиться музыке! Выдал бы замуж, только и всего!
– И что в этом дурного?
– Перестань, ей-богу! Дурного, возможно, ничего, но интересного тоже! Уж не знаю, какой страстью надо пылать к человеку, чтобы иметь его изо дня в день перед глазами и не вешаться с тоски! Ну чему ты опять улыбаешься?!
– Да ведь тоскуют-то, сестрёнка, как раз девицы! А у замужних обычно хлопот полон рот, да дети, да болеют, да прислуга нерадива, да провизия скисла, да бельё немыто, да полы неметены, да…
– Вот-вот, и всего этого ты мне желаешь? – притворно вздохнула Аннет. – Ну уж нет! Вовек буду благодарна маменьке, что она не отдала меня в институт, выучила всему сама, позволила музыкой заниматься всерьёз и в Италию поехать… О, как бы я хотела быть мужчиной! Или хотя бы такой, как наша Варя! Я вчера смотрела на неё и так завидовала! Ведь, взгляни, – она схоронила отца, осталась сиротой на всём белом свете! Что бы сделала такая, как я? Пошла бы в приживалки к дальней родне – и что в этом хорошего? Всю жизнь есть чужой горький кусок, попрёки слушать, капризы терпеть… Ну, вспомни тётушку нашу, Леокадию Аполлинарьевну! При ней целый штат этих приживалок да компаньонок, и как она с ними обращается? Чуть ли не по щекам бьёт, как девок дворовых! А они терпят, потому что деваться некуда, а сами себя прокормить не обучены! Взгляни на нашу Александрин! Пять лет училась в институте, а выучилась только прекрасному французскому! Ну, разве что чувств лишается превосходно и всегда кстати… Мне этой науки вовек не постичь!
– Дорогая сестрица, ты меня пугаешь, – с притворной серьёзностью объявил Николай. – С такими убеждениями тебя, пожалуй, и в самом деле трудновато будет пристроить! Одна надежда на приданое…
– Глупости, – отмахнулась сестра. – Отец ведь женился на маменьке! А она всегда говорила, что труда стыдиться не до́лжно и что только работа делает человека человеком. И всей своей жизнью это подтверждает! А ведь тоже могла бы говорить, что труд унижает дворянина! И в приживалках бы наверняка не оказалась, у неё ведь три брата… Никогда не устану ею восхищаться… Если бы мне хоть вполовину быть как маменька! А я ведь даже в гувернантки пойти не сумею, потому что не кончила курса ни в пансионе, ни в институте!
– Что за нужда? Сдай экзамен! – улыбнулся Николай. Свет свечи мягко отразился в его карих глазах. – Ты знаешь больше, чем все институтские наставницы и даже директриса! Только для чего тебе в гувернантки? Ты ведь в певицы готовишься! Странные мысли тебя посещают, право… А девицам много думать вредно для цвета лица! Давно ли это с тобой? Или нынешний гость этому виной? – Николай подошёл к окну, вгляделся в темноту. – Давно что-то нет Сержа…
– Как жаль, что актрис не принимают в обществе… – не слыша слов брата, глубоко вздохнула Аннет. Сев за инструмент, она медленно опустила руки на клавиши и повернулась к брату: – Послушай-ка, Коля… Какой уж день этими стихами мучаюсь, и вот только сейчас мелодия в голову пришла. Только не смейся и не перебивай! Просто – послушай… Если уж вовсе никуда не годно, скажешь после… И, пожалуйста, придвинь ближе свечи.
Из-под пальцев Аннет неровно, то тихо, то громче, то вовсе умолкая, поплыли грустные звуки. Вскоре к ним присоединился голос. Пела Аннет тоже неверно, отрывисто, на ощупь находя нужные ноты и сразу же подбирая аккорды. Но мало-помалу из этих столкновений нот и звуков связалась мелодия:
У ног других не забывал Я взор твоих очей, Любя других, я лишь страдал Любовью прежних дней. Так память, демон-властелин, Всё будит старину, И я твержу один, один: Люблю, люблю одну!С первых же нот Николай перестал улыбаться. Отвернувшись от окна, он внимательно, удивлённо и даже слегка испуганно смотрел на сестру. А та, не замечая его взгляда, мучительно морщила лоб, отыскивала на клавишах нужные ноты, брала дыхание и пела, пела… Оба они не заметили, как на пороге комнаты появился старший брат. Прислонившись к дверному косяку, Сергей слушал пение сестры. В темноте лица его почти не было видно. Он стоял неподвижно, с силой сжимая в кулаке мокрую от снега фуражку, и его плотно сжатые губы чуть заметно вздрагивали, словно от сдерживаемой боли. Но Аннет и Николай не видели его.
Второй куплет певица повела уже гораздо уверенней, и чистые, полные светлой печали ноты заполнили полутёмную залу.
И не узнает шумный свет, Кто нежно так любим, Как я страдал и сколько лет Я памятью томим; И где бы я ни стал искать Былую тишину, Всё сердце будет мне шептать: Люблю, люблю одну!Вместе с последним аккордом Сергей бесшумно отошёл назад в сени. Скрипнула дверь. Николай, вздрогнув, повернул голову, но в этот миг сестра взяла мягкий финальный аккорд и обратила к брату взволнованное лицо:
– Ну… что?
– Аннет, ты… бесподобна, – медленно выговорил он. – Не будь я твоим братом, я был бы у твоих ног.
– У, глупый! – сердито, чуть не со слезами перебила она. – Разве я об этом?! Скажи – как мелодия, как ритм? Ведь это же Лермонтов! Ведь экая наглость с моей стороны класть его стихи на музыку! Но ведь поди ж ты, уже вторую неделю не могу избавиться, и вот сегодня… Ну что ты молчишь, мучитель? Скажи что-нибудь!
– Скажу, что это превосходно, – серьёзно сказал Николай. Подойдя, он взял холодные от волнения руки сестры в свои ладони и с восхищением поцеловал сначала одну, потом другую. – Ты действительно… действительно… Ох, я даже говорить не могу: в зобу дыханье спёрло! Послушай, я сейчас позову маменьку! Ей непременно надо это услышать, она…
– По-моему, ей немного не до нас теперь, – слабо улыбнувшись, возразила Аннет. Глаза её блестели от радостных слёз, дыхание было неровным, словно она не пела, а бежала. – Оставь её, Коля, она после визита Андрея Петровича сама не своя…
– Тогда спой ещё раз, и я послушаю внимательнее! – потребовал брат.
Аннет кивнула, вытерла глаза и вернулась к клавикордам.
Стоя у окна в своей комнате, Вера слушала пение падчерицы. Оно доносилось через стену невнятно, слов романса было почти не разобрать, но мягкие, нежные звуки дёргали сердце, и ещё сильней хотелось плакать. Против воли Веры глаза стали горячими, а потом и вовсе мокрыми, и синие искры в морозном окне задрожали, поплыли.
«Да что же это такое!» – Вера с силой, гневно тряхнула головой, и слёзы покатились по щекам. Она сердито вытерла влажные дорожки, обхватила себя за плечи, сделала несколько шагов по тёмной комнате.
«Совсем распустилась… Учишь эту несчастную дурочку Александрин держать себя в руках, а сама не способна уже сдержаться ни при детях, ни при госте! Как можно было так разнюниться? Не для тебя это удовольствие – ударяться в слёзы по пустякам! Хватит и одной Александрин в семье… А ну хватит, перестань, вытри эту водичку! Ты же Иверзнева! Видел бы отец, видел бы Миша! А если бы Никита!..»
Но при этом воспоминании стало ещё хуже. Слёзы хлынули градом, и Вера, неловко опустившись на край дивана, обхватила голову руками. За окном серебрилась в лунном свете ледяная ночь, за стеной тосковал о несбывшейся любви юный звонкий голос, а Вера плакала, плакала навзрыд, не успевая вытирать слёз.
«Как он мог жениться, как он мог? Зачем?!. Что его вынудило?! Никогда не поверю, что там было что-то грязное, что он был обязан… Он не таков… Но что же, какие могли быть причины? Так внезапно, так неожиданно, никому ничего не сказав, без помолвки… Ведь не спросишь, никак не узнаешь! Если бы Миша был здесь! О, Миша отговорил бы его от этой бессмысленной женитьбы на первой встречной, он бы… Боже мой, Никита, Никита, зачем?! И когда я наконец смирюсь с этим?! Как нелепа, как безжалостна судьба…» – слёзы лились безудержно, перед глазами Веры стояло знакомое с детства лицо – твёрдое, замкнутое, перечёркнутое шрамами, такое некрасивое и такое родное…
«Ты не смеешь, ты не смеешь его упрекать… Ты знать не знаешь, что такое одиночество! Только сейчас и начала понимать – когда осталась без Миши! И даже без него у тебя есть Саша, Петя… Они никогда не оставят, ты всегда будешь чувствовать за спиной защиту… А он всю жизнь, с младенчества, был один! И никто ему не помогал, никто не спрашивал, что у него на сердце… Да он бы и не сказал никому! А ты, ты сама?! Он ведь любил тебя, любил всегда, и ты, несчастная сушёная груша, это знала!»
Представив себя самоё в образе сушёной груши, Вера невольно улыбнулась. Перевела дыхание, вытерла слёзы. Встав, подошла к окну, приложила мокрые ладони к замёрзшему стеклу. Затем прижала их к лицу, ещё раз и ещё – и это помогло.
«Что ж… Всё к лучшему, верно. В конце концов, самым главным для тебя должно быть его счастье. Ты не знаешь этой девочки, его жены… Но, вероятно, у неё есть много достоинств. Он не выглядел несчастным тогда, в октябре…» Вера тяжело вздохнула. Подумала о том, что по лицу Никиты Закатова никогда нельзя было понять – счастлив ли он или, напротив, находится в самой глубине отчаяния.
«Тем не менее сделанного не воротишь… да это и ни к чему. Вспомни, ты сама несвободна до тех пор, пока не вырастут дети. Ты дала слово. Ты – Иверзнева и обязана сдержать клятву. А стало быть – прочь все мысли! И отчего это все люди так уверены, что непременно должны быть счастливы? Вспомни о Мише, дура! Вот кому сейчас плохо! Вот кто совсем один, в далёкой холодной стороне, осуждён безвинно, без друзей, без близких! И ведь даже поехать я к нему не смогу: на кого оставишь детей? Казалось бы – взрослые уже, а делают глупость за глупостью, и удержу никакого не найти! То Серж, то Александрин, то оба вместе! Ругаются без конца, а ведь два сапога пара! Впрочем, я грешу на Серёжу, у него это просто от молодости и вспыльчивости характера… Но тут уж ничего не поделаешь, наследственность… Почему, кстати, его нет до сих пор, время за полночь? Как его, однако, испортили эти два года службы… Я чувствовала, знала, что нельзя его отпускать в гусары… А что можно было сделать? Желание покойного отца… Все Тоневицкие всегда служили в этом полку… Как я могла противиться? А ведь вся эта военная молодёжь сейчас пуста, заносчива, цинична, ничего не читает и знать не хочет ничего, кроме карт… Способны только кутить и играть в штосс на деньги, которых отродясь не умели зарабатывать! Прежде всё было по-другому… Как мне, однако, мешает моя молодость! Я ведь всего на восемь лет его старше. Скоро Серж и вовсе перестанет обращать внимание на мои слова! Если бы мне было хотя бы сорок… Или пусть тридцать семь…» – Вера грустно улыбнулась, подумав, что рассуждает сейчас как брюзгливая старуха.
В сенях скрипнула половица, чуть слышно стукнула дверь. Вера вздохнула с облегчением, поняв, что это наконец-то вернулся старший пасынок. Она в последний раз приложила ледяные ладони к лицу, мельком взглянула в висящее на стене зеркало, поправила причёску и, потушив свечу, вышла из залы.
Добудиться храпящего в сенях Степана оказалось невозможно. Сергей, сердито ругаясь, сам стянул сапоги, швырнул в угол комнаты куртку и, не утруждая себя полным разоблачением, бросился на кровать. И почти сразу же за дверью послышались шаги, а затем и негромкий стук.
– Серж, вы ещё не спите?
– И не думал! Прошу вас, маменька! – Сергей поспешно вскочил и метнулся за брошенной курткой.
Вера вошла, тихо прикрыла за собой дверь.
– Как долго вас не было, однако! Я уже начала волноваться.
– Напрасно, – как можно беззаботней улыбнулся он. – Согласитесь, я уже не мальчик, которому нужны дядька или гувернантка.
– Да ведь и со взрослым человеком что угодно может стрястись ночью на улице! – заметила Вера.
Сергей неопределённо усмехнулся, втайне боясь, что мачеха начнёт расспрашивать его о цели визита Сметова и об их разговоре. Но, к его огромному изумлению, та заговорила совсем о другом:
– Серж, я пришла говорить с вами как со взрослым человеком и со старшим мужчиной в семье. Думаю, вы поймёте меня и сможете помочь.
– Разумеется, маменька. Всё, что будет в моих силах!
– Это касается Александрин.
Лицо Сергея на глазах сделалось кислым.
– Опять Александри-ин… Просто проклятье какое-то на род Тоневицких! Маменька, если вы опять намерены ругать меня за то, что я слегка встряхнул её сегодня, то…
– Не намерена… Хотя вы полностью заслуживаете. То, что ваш характер ничуть не лучше, чем у Александрин, я усвоила давно. Но она-то по крайней мере в этом не виновата. В институте из человека вытравляют всё лучшее и искреннее, что в нём есть… А вот вы-то почему таковы? Грустно осознавать, что все мои усилия пропали даром… Но плетью обуха не перешибёшь. Так что и говорить об этом более незачем.
– Маменька, вы сами смогли бы спокойно стоять и смотреть, как оскорбляют близкого вам человека? – серьёзно спросил Сергей.
Вера изумлённо посмотрела на него. Помолчав, задумчиво сказала:
– Пожалуй, не смогла бы, вы правы. Но и набрасываться вот так на существо, которое много слабее вас и не способно дать достойный отпор…
– Какой же способ, по-вашему, здесь возможен? Никаких разумных слов Александрин не понимает, я шестой год кряду в этом убеждаюсь! Так как же быть?
«Если бы я только знала…» – подумала Вера. Вслух же спросила:
– Что вы думаете о господине Казарине?
– Не смею высказать при вас своё мнение, – мрачно ответил Сергей. – Оно не для женских ушей. Однако, если он избавит нас от Александрин, я готов признать, что он достойнейший из достойных!
Вера только тяжело вздохнула.
С Алексеем Порфирьевичем Казариным Тоневицкие познакомились в этом сезоне в гостиной княгини Гараниной. Это был статский советник в отставке: с Владимиром на шее, со странной привычкой тихо хихикать после каждой сказанной фразы и манерой танцевать вальс вприпрыжку. К крайнему удивлению Веры, Казарин сразу же начал оказывать знаки внимания не Аннет, а Александрин. Обычно всё бывало наоборот, и каждый бал был для Веры тяжёлым испытанием. После него неизбежно следовала истерика старшей падчерицы, которая стонала, что она уродлива, неуклюжа, что её никто не любит, никто никогда не возьмёт замуж и что лучше бы ей на свет не родиться. Однако в этот вечер Казарин не отходил от Александрин. Он танцевал с ней столько раз, сколько это укладывалось в рамки приличий. Потом долго распространялся о своём давнем знакомстве с покойным князем Тоневицким – и в конце концов Вера вынуждена была пригласить этого смешного человечка бывать у них в доме.
Впору было подумать, что Казарин серьёзно влюблён в Александрин. Он покорно держал расставленными руки, когда Александрин перематывала шерсть, читал ей наизусть Пушкина и Баратынского (нещадно перевирая обоих) и давал Вере многословные советы по хозяйству – из которых она поняла, что господин Казарин отродясь хозяйством не занимался. Это очень насторожило Веру. Гость говорил, что у него большое доходное имение под Калугой. Она попыталась навести справки у княгини Гараниной, но выяснилось, что княгиня ничего об этом человеке не знает. Его привёл к ней на вечер один из знакомых супруга. Поняв, что дело может окончиться предложением, Гаранина воодушевилась, азартно принялась наводить справки – но за целую неделю никаких сведений о калужском помещике Казарине собрать не удалось. В Москве его тоже никто не знал.
Александрин между тем увлекалась всё более. Требовала денег на новые платья, которые должны были ослепить господина Казарина. Ходила с томным выражением лица и могла говорить только о том, что сказал, сделал и как повёл себя вчера душка Алексей Порфирьевич. Братья Тоневицкие, обычно насмешливые и острые на язык, в этот раз сдерживались как могли. Обоим не терпелось избавиться от Александрин, за эти годы измотавшей нервы всей семье. Аннет, которой Казарин ужасно не нравился, отвечала на его любезности сквозь зубы и наедине с мачехой удивлялась:
– Боже, как Александрин может с ним просиживать целые вечера, он же несносен! Глуп, как пробка, без конца говорит одно и то же. Выучил у Пушкина две строчки и у Веневитинова – три и тычет ими к месту и не к месту! К тому же у него ужасные духи – не то резеда, не то скислое молоко! Неужто он ей в самом деле нравится?!
Вера молчала, понимая, что впервые Александрин уделено столько мужского внимания и неопытная девочка вполне могла потерять от этого голову. Дело стремительно катилось к предложению руки и сердца. Видя это, Вера написала одной из своих бывших институтских подруг в Калужскую губернию. В письме она расспрашивала о господине Казарине. Но время шло, а ответа всё не было.
– …и я теперь просто не знаю, что делать! Мы с госпожой Лизницкой не виделись с самого выпуска. Она могла уехать, продать своё имение, наконец, не дай бог, захворать… А выдать Александрин за человека, о котором никто ничего не знает… К тому же он мне крайне не нравится… Это было бы безнравственно.
– Ясно же, что этому Казарину нужно приданое Александрин, – важно пожал плечами Сергей, польщённый тем, что мачеха впервые обратилась к нему за поддержкой. – Может, сказать ему по секрету, что покойный родитель ничего Александрин не оставил?
– Поздно. Она уже обо всём ему разболтала. И о деньгах, и о деревне в приданом. Я вот о чём хотела просить вас… Помнится, вы мне говорили, что ваш приятель Стасов родом из Малоярославецкого уезда? У вас ведь, кажется, отпуск до самого февраля? Не могли бы вы съездить в Малоярославец и разузнать поболее об этом Казарине? Он что-то говорил о тамошнем имении. А там ведь и до Калуги рукой подать…
– Выезжать прямо завтра, маменька? – нерешительно спросил Сергей.
– Я не настаиваю! Если у вас другие дела…
– Ни в коем случае! Еду утром! У Стасовых меня знают по Ванькиным письмам и примут с радостью. Там, кажется, маменька, две тётушки и пять сестёр. Сверх того, по взводу приживалок у каждой – так что вызнаю всё, что нужно!
– Ну, на такую удачу я и рассчитывать не могла! – с облегчением сказала Вера. – С богом, поезжайте завтра же! И если выяснится, что господин Казарин – порядочный человек, я даю согласие на брак.
– Просто не верю грядущему счастью, – серьёзно заметил Сергей, и Вера против воли улыбнулась. Она протянула пасынку руку для прощального поцелуя и уже поднялась, чтобы уйти, когда Сергей спросил:
– Маменька, что бы вы сказали, если б я сделал предложение Варе?
– Я бы сказала, что решать это должны только вы сами. – Вера сразу же вернулась, села на край кровати, внимательно посмотрела в лицо Сергея. – Я ни о чём не стану вас расспрашивать… хотя догадываюсь о многом. Но вы взрослый человек и уже не обязаны мне отчётом.
– Маменька, вы имеете право… – даже в сумраке комнаты было заметно, как он смутился. – Я никогда не утаил бы от вас…
– Тем не менее. Et bien, если вы захотите жениться на Варе – я отвечу, что это ваше право, и благословлю ваш союз. Я люблю и уважаю Варю, давно её знаю – это редкая девушка. Думаю, другой такой вы более не встретите. Но вы должны осознавать, чем станет ваша жизнь после этого брака.
– Не понимаю!
– Думаю, хорошо понимаете. У Вари огромный талант, замечательная душа. Она, так же, как её покойный батюшка, глубоко порядочна. Я уверена, что вы были бы счастливы с нею всю жизнь. Даже ваш норов бешеный она смогла бы сдержать… Но надо помнить, что она бывшая крепостная вашего отца. Вас с ней не примут в обществе. Вы не сможете показаться ни в одной знакомой семье.
– Велика честь! – вспылил Сергей. – Мне совершенно не нужны эти соседи-индюки с их курами-жёнами! Счастлив буду никогда не слышать их разговоров о сенокосе и навозе! Между прочим, они сами через одного имеют… Уж право, совестно говорить при вас, но…
– Я знаю, что вы имеете в виду. Но одно дело – крепостные… привязанности, и совсем другое – законный брак. Общество будет для вас закрыто. Думаю, что и карьеру в полку вы не сможете сделать.
– Так выйду в отставку и займусь Бобовинами! Пора уже снять с ваших плеч этот камень.
– Буду, право, рада, но… Неизменно пойдут сплетни, разговоры… Серьёзного вреда вам, разумеется, нанести не смогут, мы слишком богаты и знатны для этого… Но неприятностей будет много. Как бы вы через полгода не прокляли свой брак и меня – за то, что позволила его.
– Этого никогда не будет!
– Не люблю я слова «никогда», – грустно улыбнулась Вера. – И посему советую вам – не спешите. Кстати, Варя знает о ваших намерениях? Вы уже виделись с ней?
Яростное сопение было ей ответом. Избегая взгляда мачехи, Сергей мрачно смотрел в стену.
– Вижу, Серёжа, вы опять наделали глупостей, – не дождавшись ответа, медленно сказала Вера. – Что ж… Не буду расспрашивать. Полагаю, что бессмысленно. Вы уже не мальчик. Скажу лишь, что, если вам будет нужна моя помощь – я всегда к вашим услугам. А насчёт союза с Варей… Не помню, говорила ли я вам, что мой брат Михаил чуть было не женился на беглой крепостной крестьянке своего друга?
– Отчего ж не женился? – сквозь зубы спросил Сергей.
– Да вот незадача, она любила другого и не согласилась.
– Кто же был тот другой? Тот самый его друг?
– Нет. Обычный парень из тех же крепостных. Между прочим, она сейчас идёт на каторгу… – Вера вздохнула и некоторое время сидела молча, не замечая взволнованного взгляда пасынка.
– Так что на вашем месте, Серж, я прежде всего подумала бы – пойдёт ли Варя за вас. Ведь она художница. Вряд ли её прельстит мысль сидеть безвылазно в Бобовинах, бегать с ключами на поясе и следить за работами. Я видела её картины. Скоро о них заговорят. Поразмыслите об этом, мой милый.
Сергей вспыхнул, хотел было возразить, но дверь уже закрылась за мачехой. Язычок свечи забился от сквозняка, и по стенам, тревожные, запрыгали тени. Страшно выругавшись сквозь зубы, Тоневицкий ударил кулаком по столу и навзничь повалился на постель.
Две недели Москву заваливало снегом. Сугробы поднялись выше окон низеньких домов в Замоскворечье, улицы покрылись ухабами. Днём и ночью с низкого неба валились и валились пушистые хлопья. Только к Крещению тучи убрались и ударил мороз.
Варя проснулась ранним утром от холода. За ночь её маленькую комнату совсем выстудило. Сквозь затянутые ледяным узором стёкла едва пробивался блёклый рассвет. Вся дрожа и бормоча сквозь зубы: «Матерь господня, сейчас-сейчас…», Варя спрыгнула с постели и принялась растапливать печурку. Дрова, к счастью, сразу же схватились и затрещали. Вскоре по маленькой комнате поплыло тепло, заворчал маленький чайник. Вспомнив, что чай накануне вышел, Варя нырнула за печь и извлекла оттуда полотняный мешочек с травками, собранными летом в Бутырской слободе. Вздохнув, она вспомнила пустынную московскую окраину, так похожую на её родное Тришкино. Косогор, усеянный цветами, заросли иван-да-марьи, розовое озерцо иван-чая возле крошечного прудика, над которым в июльском зное дрожали стрекозы, высокое синее небо… «Скоро опять всё будет! – утешила она себя, поглядывая в окно на сугробы. – Году уж поворот был… День прибавился, и Крещение минуло. Совсем весна близко!»
Травки были залиты кипятком, и в комнате запахло летним полуднем, земляникой и мятой. Пока чай настаивался, Варя воздвигла под окном почти завершённый портрет Прасковьи Емельяновой. Свет падал косо, художница подошла к окну, чтобы отдёрнуть занавеску, – и задумалась, глядя на белый, заснеженный дворик. Мысли были печальными, тягостными. За две недели не прошла, не утихла боль. Перед глазами по-прежнему стояло окаменевшее лицо Сергея, его презрительно сжатые губы, холодный, чужой взгляд. И несправедливые слова его всё так же били по сердцу – словно были сказаны лишь минуту назад.
«Ну, что, Варька, дура проклятая, – ревёшь опять? – с горечью упрекнула себя она. – Не притомилась ещё выть-то? Было б о чём… Тоже ещё, горе – барин бывший характер показали… И с чего он взял только, экий глупый… Вишь, не писала я ему… И поди докажь, что писала! А ему сразу худое в голову! Всегда таким был… Нет бы рассудить, подумать… Разве ж я такова, как он сказал? Барин и есть барин… где ему о нас хорошо-то думать, когда он в Бобовинах над всеми девками хозяин, как петух в курятнике… А девки-то нешто виноваты?»
Но и сердитые мысли не уняли слёз, и тогда Варя со всей силы ударила кулаком по бревенчатой стене. От боли она охнула, руку свело судорогой до самого плеча. «Дура!!! Больно-то как! Хоть бы левой рукой-то била, правая – она ж для работы… Барина ругаешь, а сама – индюшка безмозглая…» Варя спрыгнула с кровати и, как была босая, вылетела из комнаты через сени – на крыльцо, во двор. Там она, не чувствуя жгучего мороза, сунула руку в огромный сугроб у перил и долго стояла так, пока не почувствовала, что боль унялась.
– Варенька! – весело окликнули её из-за калитки.
Вздрогнув, Варя повернулась и увидела прыгавших за забором Флёну, Анну и Андрея Сметова.
– Говорил я вам, что уже встала давно? – весело провозгласил Андрей. – Варвара Трофимовна, мы пришли вас звать с горы кататься! Чудную гору Пахом залил, прямо вниз по берегу к самой проруби! Уж народу там тьма!
– Да какая же гора… – растерялась Варя. – А работа-то стоит… Портрет не кончен, в мастерскую надо… Флёнка, а ты почему не работаешь?
– Вон до чего дошло! Дням счёт потеряла! – протрубила Флёна, пытаясь отворить занесённую снегом калитку. – Воскресенье божье нынче, милая! Никакой работы нет. Маменька с утра в церковь ушла, а сейчас у Емельяновых чаи дует! И у Анниньки уроков нету! Ейные ученики как раз с горы и катаются вовсю!
Анна весёлым кивком подтвердила это сообщение. Затем вся троица, дружно нажав на калитку, протиснулась во двор и под гневные вопли Флёны («С ума сошла, мать моя, босиком на снег выскакивать! Воистину, ум у девки курий!») увлекла Варю в дом.
– Варвара Трофимовна, у вас пахнет, как в лесу! – с восторгом сказал Андрей, потянув носом. – Как вы это делаете?
– Ничего особенного, просто чай такой… Милости прошу. – Варя юркнула за печь и торопливо протёрла лицо мокрым полотенцем, уничтожая следы слёз. – А вот сахару-то у меня и нет, уж извините…
– Принесли мы сахару! И саек купили, и рожков маковых! – радостно возвестила Анна – вся розовая от мороза и очень хорошенькая. – Мне за три урока отдали, да Андрей Петрович за перевод получил…
– И сейчас на ветер бросать! – покачала головой Варя. – Вы бы, Андрей Петрович, прежде за комнату заплатили да дров купили!
– За эту комнату платить – много чести будет! – беззаботно отмахнулся Андрей. – Нынче просыпаюсь – а входная дверь настежь, угол весь заиндевел и на пороге сугроб! Ну и, разумеется, у меня зуб на зуб не попадает! Дрова все Петька, мерзавец, сжёг, сидел вчера до полуночи над лекциями своими… Да пусть бы дрова – всю свечу извёл! Надо бы новую купить… О, я вижу, портрет нашей Венеры Охотнорядской почти готов?
Услышав этот возглас, девушки немедленно бросили раскладывать на столе пирожки и кинулись к окну. Тут же раздались восхищённые охи.
– Недурно… Право слово, недурно, – важно заметил Андрей, складывая руки на груди и в сей наполеоновской позе становясь перед холстом. – Вот что значит подлинный талант! Все желания клиента воплощены!
С холста на зрителей смотрело полное достоинства круглое лицо купеческой дочки под розовой шляпкой. Черты были намечены лишь мельком, зато кружева на платье, дорогая персидская шаль и золотые с изумрудами серьги были выписаны тщательно.
– Прасковья Силантьевна уж очень настаивали, чтоб и серёжки, и шаль, и валансьен безупречны были, – с чуть заметной улыбкой пояснила Варя. – Чуть ли не вперёд себя самой велели обозначить.
– Что ж, задача решена мастерски, – согласился Андрей. И, оглядевшись по сторонам, с хитрым прищуром уставился на художницу. – А второй-то портрет где?
– И полно вам! – отмахнулась Варя. – Было ль у меня время-то? Нету никакого второго, и не оглядывайтесь! Опосля, может…
– Вот уж не поверю ни за что! – Андрей решительным шагом двинулся к зелёному сундуку в углу. – Обычно всё пасётся именно в том углу. Верно, и сейчас…
– Вот ведь бессовестный, в чужом дому командует! Андрей Петрович, бога побойтесь! – забурчала было Флёна, но Варя, опередив студента, нырнула за сундук.
– От вас и не скроешься, чисто квартальный… Ладно уж, смотрите. Только, боюсь, худо пока. Времени и впрямь не было. И не портрет это ещё, эскиз только. Кое-как угольком по памяти набрасывала, когда Прасковья Силантьевна чай пить уходили.
Гости с интересом воззрились на эскиз – и рассмеялись. С листа бумаги смотрела весело улыбающаяся, простоволосая Паранюшка с оттопыренной щекой. Было очевидно, что она только откусила от яблока, которое держала в руке. Ни следа надутой чопорности не было в этом лукавом, усыпанном веснушками лице. Сразу стало видно, что невесте на выданье едва-едва минуло шестнадцать лет.
– И ведь окажется как всегда! – отсмеявшись, пообещала Анна. – Емельянов увидит два портрета – и купит оба! Хоть бы раз по-другому случилось! Варя, объясни мне, к чему ты тратишь силы на второй портрет, если клиент его не просит?
– Я сама хочу, – пожала плечами Варя. – Покупатель своё требует, и право имеет, коли платит… А на своём портрете я что вижу, то и пишу. Для продажи его не готовлю. Но коль человек купить сам захочет – продаю. Мне оно интересно – характер схватить, понимаешь? Тятенька покойный всегда говорил, что для портрета главное – не сходство, а характер словить. А покупатель иногда и не позволяет… Ему надобно, чтоб красиво было, да представительно, да богато… Что ж. У него своя правда, а у меня – своя.
– И сие истинно! – поднял к потолку палец Андрей. – Варвара Трофимовна, помяните моё слово – вам покорятся Москва и Петербург! Но сегодня работать уже поздно, свет ушёл… И вовсе мы намерены веселиться до вечера! После гор пойдём в трактир обедать! Потом мы званы в гости к Кузнецовым, обещают дивный мясной пирог! А вечером – в театр!
– Господи, в трубу вылетим… – пробормотала Варя.
– Ничего, как наша замечательная Марья Спиридоновна говорит, – на что и жизнь, как не погулять вволю!
– Вот уж врёте! Отродясь маменька такого не говорила! – оскорбилась Флёна.
– Ещё как говорила, да только по молодости, а после – позабыла! – парировал Андрей. – Давайте пить чай – и побежим! Девицы, несите кружки!
– И зачем вы, Андрей Петрович, в ниверситет пошли? – ехидно осведомилась Флёна. – Вам в военном самое место было! Уж куда какой енарал, только успевай во фрунт вставать!
Чай был разлит по разномастным кружкам, и Варя наливала последнюю – для себя, когда послышался стук в дверь. Вся компания обменялась недоумёнными взглядами. Флёна, поднявшись, пошла открывать. Из сеней послышался знакомый голос Нерестова. Затем его перебил чужой, густой и неторопливый бас. Варя взволнованно привстала из-за стола – и тут же в комнату ворвалась Флёна:
– Варька! К тебе это! Из-за выставки той твоей! Вместе с нашим Акимом Перфильичем! Художницу, госпожу Зосимову спрашивают! Уж куда какой важный господин! И с ним ещё такая дама, что… Ой, таким у маменьки в мастерской разве что простыни подрубать, а одеваются только на Кузнецком! Господи, я чуть на пол с перепугу не села! Андрей Петрович, что делать-то?!
Варя, всплеснув руками, тоже обернулась к Андрею. Тот слегка побледнел, пожал плечами и улыбнулся:
– Что ж, Варвара Трофимовна, – это, я думаю, судьба! Встречайте!
* * *
– Подавай… Подавай шибче! Ослабнет, подавай!
– Да даю… Идол… Крикни им там, чтоб ещё подвезли! На три швыра осталось, а они не мычат, не телятся!
– Живо углю в четвёртую! – рявкнул Ефим Силин, высунувшись из двери в подвальный коридор, по которому бешено грохотал пустой тачкой цыган Яшка. – Примёрз, что ли, там, головёшка?! – и, не дожидаясь ответа, метнулся назад, к огромной печи, где ревело, билось в кирпичной клетке белое пламя.
Таких печей в топливном полуподвале завода было двенадцать. Их жаром нагревались огромные перегонные котлы в верхнем этаже, и кочегары, сменявшиеся каждые пять часов, бесперебойно должны были подавать уголь в печные жерла. Ефим и Антип Силины работали вместе. Оба были без рубах. Немыслимо было стоять одетыми в этой адской жаре и духоте: воздух поступал лишь в крохотные оконца под самым потолком. Отблески рыжего огня блестели на потных плечах и спинах. Всклокоченные головы и закопчённые физиономии со сверкающими белками глаз делали парней похожими на обитателей преисподней.
– Дай покидаю, передыхни. – Ефим взял лопату и принялся забрасывать в топку уголь. Краем глаза он видел, как цыган подкатывает гружённую доверху тачку и, оскалившись от натуги, переворачивает её у самой печи.
– Фу-у-у!.. Зараза… – Яшка постоял некоторое время, уперевшись руками в колени и переводя дух. Затем выпрямился и, помолчав, вполголоса запел: – Ай, мои кони да пасутся в чистом по-оле…
Голос у цыгана был сорванный, но верный, и Антип Силин, тянувший у порога тёплую воду из ковша, невольно улыбнулся. И сразу же нахмурился, когда Ефим, повернувшись от печи, погрозил цыгану лопатой:
– Изыди! Заняться нечем, что ль? Вон, из третьей тебя не докричатся!
– Ты чего, Ефимка? – без всякого испуга удивлённо спросил цыган. – Башку, что ль, обнесло?
– Да сгинь ты!!! – заорал Ефим, уже всерьёз замахиваясь, и Яшку сдуло.
Загрохотала, удаляясь, тачка. Вскоре песня слышалась уже из другого конца огромного подвала, где кто-то решительно и фальшиво взялся подпевать.
Антип с сожалением посмотрел вслед Яшке. Допил воду, аккуратно повесил ковш на место, на край разбухшей бадьи, взял свою лопату и подошёл к печи. Долго смотрел на мечущееся пламя, отчего-то недовольно покачивая головой и хмурясь. Затем укоризненно спросил:
– Пошто цыгана-то прогнал? С ним веселей. Поёт вон цельный день…
– Надоел… – процедил сквозь зубы Ефим. – Мельтешит тут, хуже мухи летом…
– Так, может, и мне уйти? – спокойно поинтересовался Антип. – Кидай один, покуда пузо не треснет…
Ефим мрачно блеснул из полутьмы глазами, не ответил. Чуть погодя буркнул:
– А тебе ж приспичило с немчурой собачиться? Вертелись бы сейчас наверху, у котлов, горя бы не знали… Нет, взбрело в голову спорить! Нашёл с кем! И где! Это тебе не у тятьки в овине…
– С тятькой бы я отродясь спорить не стал, – заметил Антип. – А Рыба в Шубе в своём деле ни рожна не смыслит!
– Ну да. Тебя спросить позабыли! Он-то – мастер заводской, а ты кто? Хоть бы мозги встряхнул, которы господь отпустил!
Антип промолчал, но на его лбу появилась упрямая складка. Оперевшись на лопату, он в который раз оглядел печь и снова сокрушённо вздохнул:
– Погорим, как бог свят…
Ефим только пожал плечами и снова остервенело принялся кидать уголь в топку.
Братья Силины со своей партией прибыли на винокуренный завод в самом начале зимы. Оба были совершенно счастливы своим положением, потому что за два года пути по этапу почти свыклись с мыслью о том, что их отправят в серебряные рудники. Но почти всю их партию разобрали по заводам: винным, соляным и поташным. На последнем этапе в Иркутске Ефим и Устинья обвенчались в острожной церкви, и на завод их отправили вместе. Из всей партии с ними отправились цыгане Яшка и Катька, а также атаман Берёза. С последним всё вышло именно так, как предсказывал конвойный унтер. Прибыв на винокуренный, Берёза преспокойно назвался «родства не помнящим», и, поскольку таковых у Брагина числилось чуть не ползавода, никто шума из этого делать не стал. Назывался атаман по-прежнему Иваном Трофимовым, как покойный Кремень. Лишь немногие знали подлинное прозванье этого огромного невозмутимого человека с бугристым, как картофелина, лицом и холодным взглядом. Знали – и молчали.
Устю с другими бабами нарядили таскать в упряжке воду от реки. Парней сначала отправили в верхний этаж завода на обслуживание огромных котлов с брагой. Работа была до того лёгкая, что парни по первости усомнились: нет ли тут чего недоброго и не заболевают ли люди, к примеру, неизлечимой хворью после такого занятия? Но старые каторжане обнадёжили: никакого подвоха, просто подфартило.
К страшному изумлению Силиных, работники на заводе ходили без ручных кандалов, что значительно облегчало жизнь.
– Думаешь, паря, везде так? Как же! – поведал опытный бродяга Петька Кочерга. – На других-то заводах, как миленькие, прямо в железах работают. Начальству дела никакого. Лишь бы по бумагам всё путём было. Что народу мученье и работа худо выполняется, никому не надобно. А у Брагина по-другому. Про него вся Сибирь знает. Бывалые люди на этапе свечки Богу ставят, чтоб к нему попасть! Никого не боится, делает как ему надо – и побегов почитай что вовсе нет!
– Отчего ж не бегут-то? – не мог взять в толк Ефим.
– А чего бежать? – усмехался Кочерга. – Железками не мучают, харч хороший, в остроге топлено. Кто семейный – тем вместе селиться дозволяют. И кнутом понапрасну народ не дерут, не то что у других-то… Коль уж вовсе провинишься, так Брагин сам тебе кулаком рыло начистит, тем и кончится. До полицмейстера доводить не любит – только, говорит, времени трата. Вот народ и не бежит, совесть имеет. По весне, конечно, много кто стронется…
– Мы с Катькой – так непременно! – влез в разговор цыган Яшка. – Нам бы только кукушечки дождаться – и…
– А совесть как же? – не утерпев, поддел Ефим. – Аль цыганская совесть от русской на отличку?
– А то нет? – ничуть не смутился Яшка. – Нам так Бог разрешил! Начальство, которое понимающее, знает! К тому ж дети у нас в таборе-то. Так что перезимуем с Катькой – и пора! Может, и вы с нами?
– Не… – отмахивался Ефим. – Вам-то в табор к детям, а нам куда? Домой с каторги ходу нет…
Устинья и Ефим зажили вместе. Для семейных при заводе имелось две длинных, как кишки, избы, в которые набивалось по три десятка пар, обитавших каждая на своих нарах за занавесочками. Была также возможность со временем переселиться «на своё хозяйство» – в хибарку рядом с заводом, при которых у многих поселенцев имелись даже огороды. Сам Ефим считал такую жизнь, после двухлетнего тягостного ожидания рудников, несказанной удачей. Про Устинью и говорить было нечего: редкий вечер обходился теперь без того, чтобы она со счастливой улыбкой не принималась перечислять свои радости. Тяжёлый путь по этапу закончился, начальство попалось доброе. С любимым мужем её не разлучили, позволили жить вместе. Каждый день давали хорошую еду. А уж таскание воды в упряжке казалось Усте не работой, а сплошным прохлажденьем.
«До рая добрались, Ефим Прокопьич! – весело говорила она, сияя синими от счастья глазами. – Да ведала ли я, да могла ли знать!.. Господи… Каторга, Сибирь – а во сто разов лучше нашего мученья на селе-то…»
И муж не мог не согласиться с ней.
Как и прежде, Устя бралась лечить каждого встречного и поперечного и не брала за это ни копейки, хотя Ефим пытался ворчать. Особенно она носилась с заводскими детьми: худыми, золотушными, с раздутыми животами и кривыми от рахита ножками, в вечных болячках и коросте. В первые же месяцы Устинья перевела на «дитятник» чуть не половину своего летнего запаса травы и кореньев. Благодарные матери в ноги кланялись «Устюшке Даниловне» и обещали, если что, горы для неё свернуть.
«Дуры! – сердилась Устинья. – На что мне ваши горы! Лучше б полы скребли почаще! Бабушка сказывала, что почти все болести – от грязи да мышей с тараканами! У нас в Болотееве хата хоть нищая была, а соринки махонькой на полу не валялось! Если бы бабка хоть одну углядела – было б нам с сестрёнками на орехи! Языками бы полы вылизывали! Потому и всякое снадобье грязи не терпит! Вы не ленитесь, потрите, помойте, вынесите лишний раз – и дети здоровее будут!» Некоторые слушались, некоторые – нет, но стараниями Усти в бараках, где жили дети, стало значительно чище.
По вечерам отдыхали от работы, сидя на разбитом острожном крыльце или сваленных у стены брёвнах, разговаривали, иногда пели или плясали. А ночью Устинья задыхалась от счастья в нетерпеливых, сильных руках мужа. И слёзы бежали по лицу, и по спине скакали горячие мурашки, и горячий шёпот обжигал ухо:
– Устька… Устька моя… Игоша разноглазая, одна ты у меня такая, других нет…
– Тихо, тихо, Ефим, люди ведь кругом… Да уймись ты, анафема, осторожнее, весь завод побудишь! Из-за этой тряпочки-то всё слыхать! – сердитым шёпотом унимала его Устя, а от радости замирала душа.
Неприятности пришли в начале февраля. Как раз в это время заканчивался срочный ремонт одной из заводских печей, которым занимался заводской мастер Генрих Карлович Рибенштуббе. Выговорить мудрёную немецкую фамилию удавалось не каждому, и рабочие непринуждённо называли мастера «Рыба в Шубе». Кличка удивительно подходила толстому и низенькому немцу с обширной лысиной и выпуклыми глазами навыкате, который важно плавал по заводу, как карп по проточному пруду. Рабочие немца терпеть не могли. Входя в помещения, Рибенштуббе требовал, чтобы каторжане немедленно положили инструменты на пол и вытянулись у стены, не шевеля ни рукой, ни ногой. Мужики слушались, хотя между собой посмеивались: «Сторожится немец, что по башке его лопатой вытянут! А зачем? Ложись из-за него, пузатого, под кнут… Вон, Брагин ходит – ничего не боится!»
Когда Рибенштуббе впервые подошёл к Силиным, которые очищали после смены перегонный котёл, братья, уже наученные опытными людьми, положили на пол свои шкворни и встали у стены. Антип спокойно разглядывал потолок, но Ефим удержаться от каверзы не сумел. И в упор, нагло уставился на немца своими зелёными, мёрзлыми, как осенняя вода, глазами. Этот знаменитый силинский взгляд, известный всему Болотееву и окрестным сёлам, пугал даже очень смелых людей. Немец, очевидно, к таковым не принадлежал и занервничал сразу же.
– Что ты так глядишь? – сердито крикнул он Ефиму, отступая к двери.
– Как умею, барин, – деревянным голосом, но не отводя взгляда, отозвался тот.
– Убери глаза, нахаль! Убери прочь! Совсем!
– Куда же прикажете припрятать, ваша милость? – Ефим был серьёзен и озадачен, преданно сверлил глазами начальство. – Ежели в карман, так работать несподручно. Темно там, изволите видеть… А с гвоздика на стенке и упасть могут, потому – сквозняк… Из-за пазухи, опять же, выпадут… А на полу их ещё и затопчут ненароком, вон сколько народу носится… Новых-то, поди, начальство не отпустит? Сами извольте понимать, кроме как на морде, и носить негде!
Ефим растолковывал это всё спокойно, обстоятельно и ужасно вежливо. Но стоящий рядом Антип чуть заметно покачал головой, а немец на глазах принялся багроветь, раздуваться и в конце концов разразился визгливыми криками:
– Мольчать! Как смеешь так говорить с начальством? Не возражать! Не рассуждать! Расп-п-пойник!
– Да смеем ли мы, ваша милость?.. – скромно заметил Ефим, по-прежнему не опуская глаз. Рибенштуббе в последний раз пронзительно выругался и выкатился за дверь. На мгновение в цеху зависла тишина – а затем грохнул хохот. Каторжане стояли согнувшись пополам и, мотая кудлатыми головами, закатывались смехом.
– Ну, Ефимка! Лихо немца отморозил! Православные, вы рожу-то его видали? Видали аль нет?! Чистый херувим с образа, а глазюки – бр-р-р! Не к ночи будет вспомнить! А говорил-то как?! «С гвоздика сквозняком сдует, барин, несподручно…» Ох, не могу, помираю…
– Ну, кто тебя за язык тянул? – укоризненно сказал Антип, который один не смеялся. – Оно тебе надо – с начальством заедаться? Гляди, припомнит ещё!
Ефим с ухмылкой отмахнулся и, прикрикнув на хохочущих мужиков: «Ну, заржали, мерины!», снова взялся за шкворень. Однако через неделю «заелся» с немцем уже сам Антип.
Когда после Крещения одна из огромных заводских печей пошла трещинами, Рибенштуббе распорядился разобрать её и сложить новую. Работами немец руководил сам, и под его начало попали братья Силины и цыган Яшка.
Первую неделю работы Антип героически молчал. Молча таскал кирпичи, молча месил глину на раствор, молча укладывал под отрывистые указания немца печной под. Но когда огромный кирпичный квадрат начал подниматься из полуподвального этажа наверх и время было возводить кружало, Антип неожиданно для всех открыл рот:
– Завалится. Погорим.
Цыган, весь до бровей перемазанный рыжей глиной и похожий на болотного чёрта, изумлённо посмотрел на Силина. Затем скосил глаза на немца, который сосредоточенно отмерял что-то на стенке печи свинцовой гирькой на нитке, и отчаянно замотал головой. Но Антип будто не заметил.
– Завалится, барин! Неправильно это!
– Что ты сказаль? – Рибенштуббе неохотно отвлёкся от своего занятия и повернул к Силину надменное лицо. – Что есть неправильно?
– Кружало неправильно выводим, барин, – озабоченно пояснил Антип, не обращая внимания на бешеные Яшкины гримасы. – Кто ж этак кладёт? После первого же жара снова треснет, и глина не сдержит. Дуга-то неправильно проведена! Вон влево скос какой! Всё вниз посыпется. Этак нас Господь посетит через неделю!
– Господь посетить? – не понял немец.
– Завод спалим, ваша милость, – подоходчивей объяснил Антип. – Он же как есть деревянный, да ещё котлы от жара рвануть могут… Народу поляжет много.
– Как ты можешь рассуждать! – До немца, наконец, дошло, что огромный и наглый каторжанин непринуждённо учит главного заводского мастера его ремеслу. – Это есть нахальство! Это есть неуважение, ты не знать своё место! Наглец и вор, уп-пийца!
– Барин, я ж дело говорю… – попытался было мирно продолжить Антип, но в это время цыган с такой силой ткнул его в спину, что он был вынужден умолкнуть. Однако распалившийся немец так быстро успокоиться не смог:
– Вы вовсе распуститься! Вы потеряли страх! В Пруссия ты бы не разговариваль так много! Никакого уважения к начальству! Это есть п-пунт! Мятеж!
– Ну-у, понеслась квашня по кочкам… – безнадёжно протянул Яшка. – Антип Прокопьич, да замолчи ж ты, ради бога!
– Барин, пожар же будет! – в последний раз решился Антип.
Цыган уже чуть ли не висел у него на плечах, словно удерживая от драки. Немец в запале замахнулся на Антипа кочергой. Но тут из-за плеча старшего Силина на него в упор уставились ещё более нахальные и абсолютно бесстрашные глаза Силина-младшего. И Рибенштуббе отчётливо понял, что смертельная опасность – рядом. Он швырнул кочергу в угол, выругался по-немецки отрывистым карканьем и вылетел из цеха.
На другой день обоих Силиных перевели вниз, в «кочегарку», к пылающим печам, а ещё через неделю Рибенштуббе закончил новую печь. Никто не удивился, когда Антипа с Ефимом приставили как раз к ней.
– Злопамятный, гад! – качал лохматой головой цыган. – Ещё, слава богу, под лозы не подвёл… Видать, Брагин его не послушал. Антипка, на что ты с ним связался-то? Здоровья не жаль?
– Дедка у нас был печник, – сокрушённо поведал Антип. – Всю жизнь печи клал. Я за ним струмент таскал да пособлял по мелочам. Сам я новые печи не робил, врать не буду. Починить разве что возьмусь… Но когда худо сделано – враз вижу! Спалит завод Рыба наша, как бог свят…
– Сходи до Брагина! – деловито предложил цыган. – Он послушает…
Антип вытаращил глаза:
– Ты в своём уме, Яшка?! Ещё огребём с Ефимкой…
– Сходи! – настаивал тот. – Брагин – понимающий! Мужики говорили – он и сам велит завсегда, ежели что – прямо к нему идтить, а не к десятникам… Хочешь, я с тобой схожу?
– Не пойду, – упёрся Антип. – Когда это начальство человеческий язык понимало? Отродясь такого не было! Мне моя шкура дорога! Однова сказал – и будет с меня… И так вон в саму преисподнюю загремели…
– А ну как впрямь развалится печь-то немецкая? – упорствовал цыган.
– Значит, на роду ей написано! – отрезал Антип, и Яшка отстал.
…Допив воду, Антип взял свою лопату и подошёл к печи. Ефим тем временем продолжал бросать уголь – без перерыва, яростно, оскалив зубы. Некоторое время брат хмурясь наблюдал за ним. Затем сердито спросил:
– Да что ты кидаешь без ума? Хватит покуда, не то забьёшь…
Ефим, словно не слыша, продолжал швырять лопату за лопатой. В конце концов Антип подошёл и крепко взялся за черенок.
– Будет! Хватит, говорю, Ефим! Уймись, не то… Да хватит!!! – потеряв терпение, он с силой вырвал из рук брата лопату. Ефим зло сверкнул глазами, но промолчал. И, отойдя к бадье, долго тянул из ковша воду, пока Антип задумчиво говорил:
– Угомон-то есть на тебя? Другой бы радовался, что бабу на лёгкую работу призвали… Вон, цыган, как услыхал, что его Катьку в больничку взяли, так уж неделю поёт, не смолкает! Нешто лучше, коли бы Устька пузо себе рвала в упряжке-то? Теперь хорошо ей станет… Другой бы начальнику до земли в ноги поклонился за такое счастье!
Ефим отбросил ковш, отдышался. Медленно выговорил:
– Ты мне, между прочим, обещал, что, как на место прибудем, так доктора этого чёртова боле не увидим! Что он – в одно место, а мы – в другое! А вышло что?!
– Я-то тут при чём? – резонно спросил Антип. – Кто ж угадать мог?
– Я мог! – объявил Ефим. – С самого начала чуял, что добром не кончится! Голову положу, что он нарочно к нам в больничку попросился! И первым делом Устьку к себе выписал, сукин сын! И что ты от меня хочешь? Чтоб я тут сидел и спокойно ждал, покуда моя баба к другому под бок ляжет?!
– Ну, уж это ты врёшь, – спокойно заметил Антип, поднимая лопату. – Не бывать тому.
– Да ну?! – издевательски оскалился Ефим. – Где это тебе в том бумагу с печатью выдали?!
– Тьфу, дурак… – с сожалением сказал Антип. – Ефимка, да кабы Устьке барин был нужен, преспокойно бы она бы с ним в Москве осталась. И на каторгу с ним, а не с тобой пошла… Дурогонишь попусту, моё тебе слово! Ну-ка, возьми лопату, покидай малость. Да не очертя башку, а осторожно!
Ефим ничего не сказал. Поднял лопату, потянулся за углём. Антип продолжал:
– И в больничке ей самое место. Михайла Николаич – доктор, учёный, и её учит, нужные вещи советует! Что я тебе этакой пустяк втолковывать должен? Глядишь, Устя с барином теперь и впрямь больничку-то наладят! Всё меньше народец помирать будет! А ты себе глупость в башку забил, на стену лезешь… Жена ведь она тебе!
– Жена-а… – насмешливо протянул Ефим. – Я ей уж велел – не ходи к барину! Отчего не послушалась, коли жена?!
– Так ведь мы не у тятьки в дому в Болотееве, – без улыбки напомнил Антип. – Воли своей у нас тут нету. Сам начальник завода приказал – куда ж ей кочевряжиться? Он ей тут указ, а не ты. Тут разговор короткий, чуть чего не так – враз отхлещут… Да ты кидай, чего встал?! Погаснет ведь! – Антип, не дожидаясь брата, перехватил лопату, торопливо принялся забрасывать уголь. Ефим, не шевелясь, наблюдал за его работой. Затем, уставившись неподвижными злыми глазами в стену, спросил:
– А ты видал, коль разумный самый, как этот доктор на Устьку глядит?! Скажешь – тоже пустяк?
Антип не ответил, продолжая забрасывать уголь в топку. Когда огонь обрадованно взревел, он приставил лопату к стене и подошёл к печи. Осмотрел её сверху донизу, снова вздохнул и, не поворачиваясь к брату, сказал:
– Ну, видал… И что с того? По мне, пусть хоть все глаза до дыр сотрёт, лишь бы Устьке полегше было. Ты об этом думай. До серьёзного баловства Устя Даниловна не допустит. Не такова. Сам знаешь ведь.
– Может, и знаю. Только ты сам говорил – я ей тут не начальство. Коли доктор кой-чего от неё захочет да прикажет – куда ей будет деться? Он-то, хоть и на каторге, а барин! А она да мы с тобой кто?
– Тогда другое дело будет. Тогда и мозговать станем, – помедлив, ответил Антип. – Тогда барину каменюкой в башку и прилетит… А то и сама Устя Даниловна чем ни есть приложит. Она на руку-то скорая у тебя! И бьёт, ровно мужик, не жалеет! Сам небось помнишь!
Ефим недоверчиво посмотрел на грязное, совершенно серьёзное лицо брата. Криво усмехнулся. Улыбнулся и Антип:
– Ну что – полегшало?
– Да ну тебя… На том свету полегшает. Бери, варнак, лопату, ещё часа два вожжаться тут!
Антип, согласно кивнув, потянулся за лопатой. Ефим уже кидал уголь в топку. Его лицо было угрюмым, сумрачным. В сощуренных глазах билось рыжее печное пламя.
Ночью Устинья сидела на нарах, привалившись спиной к стене. Муж лежал рядом, закинув руки за голову. Весь «семейный» спал мёртвым сном. Глядя в темноту, Устя сказала:
– Коли так, то я тебя и тревожить боле не стану. Здесь – Сибирь, страна вольная. К ответу тебя никто не потянет. Ежели ты мне вот тут, прямо сейчас скажешь, что напрасно закон со мной принял и я тебе не жена, – ей-богу, не подойду к тебе боле. Слова не скажу, не взгляну. Живи как знаешь.
– Да ну? Нешто вправду?! – издевательски переспросил Ефим. – А сама-то куда пойдёшь тогда? К доктору своему? Он тебе, поди, и угол при больничке выхлопочет? У себя под боком, чтоб далече не бегать?
– Тьфу, дурачина! – с сердцем выругалась она. – Ну, как толковать-то с тобой?!
Ефим не ответил. Устинья тоже молчала. Молчала так долго, что Ефим в конце концов испугался:
– Устька! Ну, чего ты, ей-богу? Разобиделась, что ли?
– Ой, уж надо больно! Да пойми ты, Ефимка… – Жена вдруг быстро легла, потянула за плечо и его, обняла, крепко приникла к груди горячей щекой. – Хоть раз в жизни пойми… Я ведь всегда людей лечила! Всегда мы с бабкой народу облегченье сотворить старались… Мало получалось, плохо… Но уж как выходило. На большее ни разума не хватало, ни учёности. Ну, вспомни, как у меня дети малые на руках мёрли! Как криком кричали, бедные, ангелы безвинные, – а я им ни хворь, ни боль снять не могла! Потому – дура неграмотная, только и умела – за травой кверху задом по лесу ползать! Просто в петлю влезть хотелось опосля…
– По мне – так лучше тебя никто во всей округе не лечил, – буркнул Ефим. Близость жены, её запах кружили ему голову, и он почти не слышал того, что говорит Устинья. Едва дыша от накатившего сладкого жара, неловко отыскивал в темноте под грубой рубахой её шею, грудь, тёплые плечи… А Устинья, с досадой отталкивая нетерпеливые руки мужа, упрямо продолжала:
– Пойми, барин-то этот, Михайла Николаич… Да пожди ты, нечистая сила, доспеешь! Послушай!.. Смотрит он там на меня, не смотрит – чепуха это! Важно то, что в больничке было народу – до потолка напихано! А грязи, вони, а на полу-то что творится! А клопов!.. Михайла Николаевич разом баб нагнал, и я с ними за день всё отмыла! Людям – радость! А как мы с рубахами остатними наладили? Раньше-то их просто выкидывали аль сжигать велели, потому – ветошь ветошью. А Михайла Николаевич сказал, что незачем перевязочные средства…
– Чего-чего?.. Да повернись ты, не дотянешься… Устька, как пахнет-то от тебя… Вроде полынью, а сладко…
– Пе-ре-вя-зочные средства! Переводить впустую! Отстань, Ефим, да погоди ты!.. Эко дорвался, как голодный до корки… И велел нам с Катькой перебирать то тряпьё, да отстирывать, да в чугуне откипячивать… Куда какие хорошие тряпки получились! Уже полный угол, да ещё будет! А ещё у меня таволги четыре пука просохли – любо-дорого глядеть! Ежели её с «медвежьими ушками» перетереть да настоять в потёмках дня четыре, то… Ефим, да сколько ж можно!!! Обалдуй! Я ему про важное, а он!..
– Ладно. Чёрт с тобой. – Ефим, потеряв терпение, оттолкнул жену и сел. – Я с тебя воли не снимаю, твори что хочешь. Лечи всю каторгу. Отмывай у них под портками, клопов мори. Может статься, тут твоё счастье и будет. А мне чего… Моё дело – уголь в кочегарке до надсаду кидать. Работёнка каторжная, глядишь – и подохну вскорости. Ослободишься тогда вовсе, Устинья Даниловна. Я тебя-то знаю, ты без закона с барином не ляжешь. Так будет тебе закон, когда меня не станет!
Устинья схватилась за голову. Согнулась, словно от нестерпимой боли, уткнулась лбом в колени. Ефим молча, с окаменевшим лицом смотрел в потёмки.
Наконец Устинья подняла голову.
– Ну, вот что, Ефим Прокопьич… – Голос её был глухим, незнакомым. – Коли ты ТАК заговорил… То будь по-твоему. Я тебе жена. Как велишь, так будет. Завтра я к Михайле Николаевичу приду и скажу, что… скажу, что… что не хочу боле. Что пущай меня обратно воду таскать отправят.
– А начальник? – недоверчиво спросил Ефим. Он никак не ожидал такой лёгкой победы, и теперь в словах жены ему чудился подвох. – Начальник-то что тебе запоёт? Мы – люди подневольные…
– А начальнику барин скажет, что ошибся, что я вовсе к лекарскому делу не годна… Ништо, найдётся что сказать. Кабы я, наоборот, с тяжкой работы на лёгкую просилась, тогда б и не верить можно было.
– А ну как доктор твой не согласится?
– Согласится, – погасшим голосом заверила Устинья. – Коли я лбом упрусь, так куда ему деться будет? Останется с одной Катькой, она тоже…
Устя не договорила: муж мощным движением сгрёб её в охапку, прижал к себе.
– Устька… Взаправду говоришь, не врёшь? Не морочишь меня?! Устька, счастье моё…
– Да ну тебя… Сдурел! Удушишь, идол! – Устинья упёрлась обеими руками в его грудь, пытаясь отстраниться. Но Ефим стиснул её, как куклу, обжёг лицо и шею горячим дыханием, нашёл наконец губами грудь и хрипло застонал на весь острог:
– Устька-а-а…
– Господи, Ефим!.. Да пусти ж… Люди… услышат… Перебудишь всех… беда мне с тобой, разбойником… Будь по-твоему, уймись только… – Устинья наконец разрыдалась. – Горе ты моё, беда… Не могу я без тебя, душа не может… Всё сердце исплакалось… Пущай будет, как ты велишь, я жена тебе… Не хочешь – не надо… Пусть… Не пойду больше в больничку, пусть…
– Устька! Да не реви ты, что реветь? – Ефим взял в ладони мокрое от слёз лицо жены, начал торопливо, жадно целовать. – Глупая, для тебя же лучше хочу… И смотри, обещала ты! Чтоб завтра же духу твоего там не было! Не то, гляди, зарежу барина! Однова грех на душу взял, и ещё возьму!
– Вот посмей только! – Устинья, вдруг с силой вырвавшись из рук мужа, резко шлёпнула его ладонью по губам, и Ефим от неожиданности умолк. – Вот попробуй только, лешак! У-у, ведь и язык повернулся у проклятого… Забожись мне сей минут, что николи… Что ни за что… Клянись на кресте, чёртово отродье!!! Не то, видит бог, сама тебя придушу! Силы достанет!
– Ну-ну… Нашему теляти да волка поймати… – ухмыльнулся Ефим. Но всё же он был смущён и, стараясь скрыть это от жены, снова неловко привлёк её к себе. – Да не трясись ты, дура… Жив будет барин твой. Чёрт его знает, может, впрямь человек хороший… Только не крутись около него, Устька! Не могу я такого терпеть!
– Ирод ты и есть… – всхлипнула Устинья, прижимаясь щекой к его плечу. – Чую, всю жизнь мне из-за тебя плакать… Поклянись мне, что дурить не будешь! Знаю я башку-то твою шальную – сперва наворотишь, опосля подумаешь… А то и вовсе думать не станешь, потому – неприбыльно!
– Да не буду, не буду… Ну, вот тебе крест, успокойся… Ну? Не ревёшь? Ну и слава богу… Устька, жизнь ты моя, игоша проклятая, что хочешь сделаю, не мучай только…
Кто-то совсем рядом, за соседней занавеской, зашевелился, заворчал во сне, и Ефим умолк. Крепко прижал к себе жену и, не обращая внимания на протестующий шёпот, уронил лицо в тёплые, рассыпавшиеся волосы. И больше не слышал ничего.
– Устя, как это возможно? – Михаил перестал рассматривать на свет пыльный пузырёк с камфарой и изумлённо посмотрел на Устинью. – Прошу, повтори ещё раз… Я плохо спал этой ночью и, наверное, не так тебя понял…
– Незачем повторять. – Устинья опустила взгляд, но её лицо осталось решительным и замкнутым. – И всё вы поняли. Отпустите меня, Михайла Николаевич, назад на завод. Нельзя мне тут боле.
Михаил поставил пузырёк на дощатый стол – вернее, мимо стола. Стеклянная колбочка упала, покатилась по выщербленному полу к ногам Устиньи. Та ловко подняла её, поставила на стол. Михаил попытался заглянуть Усте в лицо – она отвернулась.
– Отпустите меня, Михайла Николаевич. Христом-богом прошу.
– Да что же это за положение! – Михаил сделал несколько шагов по комнате, резко крутнулся на каблуках. – Устя, я ничего не понимаю! Как ты можешь уйти, когда мы только начали? И у нас только стало получаться! Взгляни, как сделалось чисто в лазарете! Твою настойку я всю ночь варил, как ты велела, глаз не сводил! Можешь проверить, всё ли верно!
– Смотрела уж. Всё правильно, молодец вы. Процедить осталось и на три дня в холод…
– Вот сама и сделаешь! – отрезал Иверзнев. – А то я боюсь только испортить всё! Мне до сих пор не доводилось заниматься таким делом.
– Не могу, Михайла Николаевич. Простите.
– Но отчего?! – взорвался он. – Отчего, чёрт возьми, ты взялась упрямиться?! Тебе что-то здесь не нравится? Кто-то из наших пациентов тебя обидел? Или, может быть, я?..
– Сохрани Господь! И как вам в голову только пришло?! – Устинья вдруг, устав крепиться, прислонилась к дверному косяку и тихо расплакалась. – Простите меня, Михайла Николаевич… Мой грех, что бросаю вас тут одного… Но не могу я, видит Бог! Коль останусь, так хужей может быть!
– Кому – «хужей»? Тебе?
– И мне… И вам, не пошли Господь… Отпустите меня, Михайла Николаевич… Я Катьку научу, она тоже баба в травках толковая, пособит вам не хуже…
– Та-ак… Кажется, я понимаю, в чём дело. – Михаил толкнул ни в чём не повинный пузырёк так, что тот перелетел через весь стол, снова упал на пол и наконец разбился. По комнате пополз резкий запах камфары. Устинья, глотая слёзы, упорно смотрела на расползающуюся по половицам тёмную лужицу.
– Я понимаю. Твой муж…
– Ну что я с ним, с еретиком, поделаю, Михайла Николаич?! – простонала сквозь слёзы Устинья. – Вбил себе в голову ересь про меня да про вас… И не отступается нипочём!
– Ефим не еретик, и это не ересь, – медленно выговорил Михаил, стоя у окна спиной к Устинье и мучительно ероша рукой и без того встрёпанные чёрные волосы. – Мы с тобой оба это знаем. Глупо делать вид, что… Но ты – мужняя жена. И я… Я с уважением отношусь к твоему выбору. Когда-то я давал тебе слово, что без твоего позволения я никогда не рискну… Ты помнишь это?
– Как не помнить…
– Слова своего я не нарушу. Ты мне слишком дорога. И я выхлопотал тебе перевод сюда вовсе не затем, чтоб иметь возможность… чтобы воспользоваться… Тьфу, какая мерзость! Устинья! Но ты-то, я надеюсь…
– Я знаю, Михайла Николаевич. И слову вашему завсегда верила, – твёрдо выговорила Устинья. – Кабы не верила – ноги б моей тут не было, хоть бы и засечь приказали до смерти. Но Ефим мне муж. И коли он велит – как мне противиться-то?
– Ну что же это за чёр-р-рт?!. – прорычал сквозь зубы Михаил, ударяя кулаком по подоконнику. – Ведь только-только дело начало налаживаться! Устя! Ну, что же нам делать?! Может быть, я сам поговорю с твоим Ефимом?
– Ой, не дай бог! – всполошилась она. – Не в обиду будь сказано, Михайла Николаевич, только он про вас и помянуть спокойно не может, враз его перекашивает! Как бы греха смертного не стряслось! Башка-то у него шалёная! Это я сама, дура, виновата, много беседовать с вами себе дозволяла… Вот он, разбойник, и удумал…
– Ты ни в чём не виновата! Возможно, лишь в том, что поторопилась выйти замуж! – с сердцем сказал Михаил. Устя подняла на него измученные, полные слёз глаза.
– Так что ж я могу, барин… Воля Божья такова.
– Теперь уж, верно, ничего, – хмуро отозвался Иверзнев. – И Бог тут вовсе ни при чём. И что это, право, за мода – любой бред объяснять волей Божьей? Что за…
Он не договорил. За окном дробно застучали, приближаясь, конские копыта. Встрёпанный казак без шапки карьером влетел на двор больницы и истошно заорал:
– Пожар на заводе! Печь в виннице завалилась!!! Народу погорело – страсть!!!
– Господи… – меняясь в лице, пробормотал Михаил. – Устя… Это же…
Но Устинья уже не слушала его. Всплеснув руками, она кинулась вон. Иверзнев понёсся следом.
Всё произошло так быстро, что никто и опомниться не успел. Антип только-только заметил тонкую струйку дыма, поползшую из чуть заметной трещины в печи у самого потолка, только-только нахмурился, повернувшись к брату, – а трещина уже поехала вширь и вдоль. Крошечная дымовая струйка мгновенно превратилась в волну густого дыма, заполнившего всю кочегарку. Ефим опомнился первым, кинулся к дверям, по пути дёрнув за плечо брата. Закашлявшись, Антип метнулся за ним – и тут же услышал за спиной тяжкий грохот. Всё тело опалило нестерпимым жаром. Обернувшись, парень успел увидеть, как огромная печь медленно, словно нехотя оседает вниз. Покатились спёкшиеся кирпичи. Белое пламя вырвалось наружу, набросилось на сваленную у стены кучу угля. А из-за двери Ефим уже орал на весь завод:
– Караул, крещёные, гори-и-и-им!!!
Откашливаясь и отплёвываясь, Антип вылетел в подвальный проход. Там уже было не продохнуть от дыма. В сизых клубах носились, натыкаясь на стены, перепуганные люди. Стараясь не дышать, Антип вслед за братом побежал к лестнице. Сзади тяжело топотало ещё несколько человек.
Когда выбрались, оказалось, что наверху не лучше. Там тоже было полно дыма, по деревянным перекрытиям весело разбегались огненные дорожки. Отчаянно кашляя, Антип прислонился к стене. Ефим тем временем, стоя у лестницы, деловито считал тех, кто выскакивал из подвала:
– Осяня – шесть… Торбыч – семь… Кидым да Кочерга – восемь-девять… Все, что ли, успели?!
– Берёзы да цыгана нет, – сипло отозвался кто-то.
– Ах ты, мать твою… – выругался Ефим. – А я думал, цыган-то вперёд всех выскочит, блоха лошадиная! Антип, Яшки не видал?
Брат, не переставая кашлять, лишь помотал головой. Отдышавшись, шагнул к отчаянно дымящему спуску в подвал, заглянул туда. Ефим напряжённо наблюдал за ним. И ничуть не удивился, когда Антип спокойно спросил:
– Крещёные, кому рубахи не жаль? И полейте меня из бадьи, что ль…
– И меня, – подошёл Ефим.
– А ты не лезь! У тебя жёнка есть!
– Ты мне не тятька, не указывай! – огрызнулся Ефим. – Пущу я тебя одного, как же…
– Не дури! – повысил голос и Антип. – Добром прошу, поди вон!
– Без тебя разумею, куда ходить. – Ефим смотрел прямо в лицо брата, бьющийся огонь отражался в его шалых глазах. – Спущаемся, что ли, братка? Времени мало…
– А Устьку на кого, коль нас обоих враз?.. – тихо, чтоб не слышали насторожённо примолкшие рабочие, спросил Антип. Ефим криво усмехнулся, блеснув зубами с чёрного от копоти лица. Чуть слышно ответил:
– Барин Михайла Николаевич примет.
– Тьфу, паскудник… – выругался Антип. – Так бы в рыло и закатал… Ну, идём, раз ума нет! Кандалы-то сбросим? Мешать станут…
– Некогда уж.
Кто-то протянул ему скомканную грязную рубашку. Антип разорвал её надвое, один лоскут сунул брату, другим сам завязал нос и рот. И, поочерёдно окатившись водой из бадьи, братья Силины спустились в пылающую преисподнюю.
Едва оказавшись внизу, Ефим сразу понял, что они с Антипкой затеяли это зря. Воздух был раскалённым, дым ел глаза. Лоскут на лице почти не спасал от угара. Отыскать кого-то в этом вонючем, хватающем за горло, стреляющем искрами аду было немыслимо. Ефим осмотрелся, пытаясь найти брата, но не мог ничего разглядеть уже в шаге от себя. Повсюду валялись раскалённые кирпичи. Коты на ногах уже дымились. Отчаянно кружилась голова. Ефим побежал наугад в конец коридора, куда обычно сгружали уголь. За спиной раздался страшный треск. Обернувшись, парень увидел, как падает, рассыпаясь искрами, пылающая балка.
«Ох ты, нечистая, как же теперь назад-то?.. – мелькнуло в голове. От жара, казалось, уже горят волосы на голове. В глазах неумолимо темнело. – Да где ж этот сукин сын?! Без толку, обратно надо… Не помочь уж, видать». Он в последний раз растерянно огляделся… и в это время услышал слабый хрип.
– Яшка, ты?!
– Я это… Берёза… – просипело из дымной завесы. – Кирпичи… И цыган тут… Придавило нас…
Ефим, шатаясь, пошёл на голос. Он ничего уже не видел, молясь лишь об одном: не даться удушливому дыму, не вздохнуть ненароком полной грудью, не упасть прямо тут, на раскалённые кирпичи… В плотном тумане гари он наткнулся на груду камней, которые, казалось, слабо ворочались. Собравшись с силами, Ефим отшвырнул одну спёкшуюся глыбу, другую, третью… Руки, казалось, прожигало до костей, грудь разрывалась от боли. Но Ефим, уже понимая, что назад не вернуться, всё бросал и бросал проклятые камни. Вскоре он услышал рядом мерное сопение и понял, что брат тоже здесь.
– Антипка… – прохрипел он, не слыша собственного голоса. – Без толку… Назад надо…
– Давай, чёрт! Выдеру! – вдруг жёстко раздалось из дыма. Ефим невольно вздрогнул: так этот голос напомнил ему отца. Он беспомощно огляделся. Голову немедленно повело. Парень, пошатнувшись, опёрся кулаками об пол… И наткнулся на что-то шевелящееся, мягкое. Не помня себя, он схватил тело поперёк груди, дёрнул во всю мочь и поволок к выходу. В этот миг прямо перед носом рухнула ещё одна балка. Ефима с ног до головы обдало искрами. От жара и нестерпимой боли померкло в глазах. Перебираясь через пылающий барьер, он чуть не упал: проклятые кандалы, как назло, спутались. Ефим больше не видел брата и не знал, сумел ли тот выбраться. Впереди мутно белел выход из подвала. «Ещё бы подняться… Лестница… Авось вытянет кто… Тяжёлый-то, дьявол… Без пользы… Отгулялся цыган… и атаман тож… И сами теперь сдохнем здесь… Немца бы вот, гада, придушить напоследок… Устька!..» – бились в висках бестолковые обрывки мыслей. Ефим отчаянно рванулся к выходу… И на него навалилась тьма.
Он очнулся от солнечных пятен, прыгающих по лицу. Всё тело нещадно саднило. Горела грудь, и первый же проблеск сознания отозвался страшной болью. Застонав сквозь зубы, Ефим попробовал открыть глаза – но они словно были склеены. «Кто ж меня отделал-то так? – смутно подумал он. – На кулачках с кем-то дрался?.. От тяти опять будет на орехи…»
– Потерпи, Ефим… Потерпи, сейчас… – послышался знакомый, севший от слёз голос. Что-то мягкое, мокрое проехалось по лицу раз, другой, третий… Он привычно терпел, понимая: стирают кровь. И тут горячей волной поднялась память, и Ефим понял, что это была не кулачная драка и он давно уже не в Болотееве. И резко сел, открыв глаза.
– Где Антип?!!
Боль немедленно скрутила всё тело, резанула лёгкие. Яростно ругаясь, Ефим, повалился наземь.
– Лежи… Лежи… Здесь Антип, живой он… И другие живы… – несколько тёплых капель упали ему на лицо, и он узнал наконец жену.
– Устька?.. Ты откуда здесь?
– Сразу прибежала… как сказали, что в заводе пожар… – улыбаясь и плача, Устя смотрела на него, и Ефим видел, как по чумазому лицу жены бегут слёзы. – Господи, Ефим… Сердце моё… Дошла до Богородицы моя молитва!
– А за меня тоже, что ль, молилась, Устя Даниловна? – добродушно спросили рядом, и Ефим, повернувшись, увидел брата. Тот сидел рядом на истоптанном, смешанном с гарью снегу, привалившись спиной к куче горелых брёвен. Лохматая, мокрая голова Антипа была обвязана тряпкой, из-под которой сочилась струйка крови, половина волос топорщилась палёной щетиной, но вид у него был вполне довольный.
– Цел, что ль, ирод копчёный? – удивлённо спросил Ефим.
– Выходит, цел, – не менее удивлённо подтвердил Антип. – По башке вот стукнуло… но это уж когда нас наверх волочили. Вот ведь, дьявол, – живого места нет! Весь обжарился, как блин в масле… Ты-то как?
– Не знаю… Устька, цел я аль нет?
Та, не ответив, расплакалась навзрыд. Мокрая тряпка выпала из её рук. Ефим через плечо жены встревоженно взглянул на брата.
– Целый, целый, – успокоил тот. – Я тебя сам из подвала тащил, ты уже наверху сомлел… Ну, побило кирпичами, конечно, как без этого… Подгорел малость… Но руки-ноги целы. Не вышел, получается, наш час, братка! Покидаем ещё уголёк-то.
Рядом послышался негромкий смех. Ефим, недоумевая, поднял глаза – и увидел, что вокруг них стоит толпа народу. Чуть не весь завод сгрудился здесь. Ефим видел всклокоченные бороды, худые, перепачканные сажей физиономии. За их спинами вяло дымился главный заводской корпус.
– Никак, потушили? – не поверил Ефим.
– Нутро всё сгорело, два котла рванули – а крыша не провалилась! – усмехнулся Антип. – Повезло: как раз бабы четыре бочки воды подволокли наверх, в винницу-то. Кой-как залить успели. Только народу всё едино полегло…
– А цыган? А Берёза?! – встрепенулся Ефим, только сейчас вспомнив о тех, кого они с Антипом волокли через задымлённый подвал. – Что… зря, что ль, мы…
Он не договорил, увидев сидящего в двух шагах Берёзу – почти голого, в одних изодранных подштанниках. Атаман был весь чёрный от копоти, с перевязанной головой. Из-под повязки на Ефима взглянул холодный голубой глаз.
– Должок за мной, паря, – спокойно сказал Берёза. – Без тебя бы подох. Кирпичами с ног сбило, подняться вовсе не мог. Кабы не ты…
– На том свете угольками разочтёмся, – буркнул на это Ефим. – Цыган-то жив?
– Дышит покуда… – Берёза чуть подвинулся, и Ефим заметил за его спиной лежащего на снегу Яшку. Цыган не шевелился, лежал камнем, запрокинув к солнцу чёрное, осунувшееся лицо. Устинья, проследив за взглядом мужа, закусила губы, давя рыдание.
– Всё с ним, что ль? – тихо спросил Ефим. Ответить жена не успела: над заводом разнёсся истошный, отчаянный вопль:
– А-а-ай-й-й-й-й!!!!!
Каторжане расступились – и Катька, растрёпанная, зарёванная, дрожащая, с разбегу кинулась на колени перед мужем:
– Яшка! Яшка!!! Дэвлалэ-э-э, со туса, дэвла?! Ай, мэ мэрав, ай, дэвла, хасиём, Яшка, Яшенька, ило миро, Яшка-а-а!!! На уджа мандыр, дэвла, на уджа мандыр!!![6]
– Не голоси, он живой! – бросила Устинья, и цыганка, разом затихнув, повернула к ней искажённое отчаянием лицо. – Ноги ему камнями раздавило… Опалило здорово… А нутро целое, мы с Михайлой Николаевичем уж смотрели.
Только тут Ефим увидел Иверзнева. Тот, стоя на коленях поодаль, склонился над распростёртым на снегу телом. Рядом лежало, не шевелясь, ещё несколько. С первого взгляда было понятно, что они уже не жильцы.
– Много народу задохлось? – хмуро спросил Ефим.
– Да уж немало, – не меняя ровного тона, ответил Берёза. – Этих-то выволокли только что… Да без толку. Когда наверху котёл рванул, народ даже в калидор выскочить не успел. И мы бы сейчас так же лежали… Кабы не ваша силушка. – Берёза смерил Ефима взглядом, в котором читалось что-то, похожее на изумление. – Вы зачем доставать нас взялись, Силины? Ведь, считай, пустое дело-то было! Это ж чудо божье, что вы в дыму не сомлели!
– Стало быть, не пустое, – сдержанно ответил Антип. – Тебя же вон вытащили, да цыгана тож.
– А коли б нет? – пожал плечами Берёза. – Ведь сгинули бы без толку вместе с нами… Ефим, на кой чёрт?..
– Сам не разумею, – в тон ему ответил тот. – Антипка вон пригрозил, что вожжами отхлещет, коль не послушаюсь. Я так перепужался, что враз каменюки горелые хватать начал…
Вокруг грохнуло хохотом. Ржали мокрые, грязные, покалеченные каторжане. Смеялся, откинувшись на груду обгорелых брёвен, Антип. Улыбалась, вытирая слёзы, Устинья, ухмылялся краем узких губ Берёза. Даже цыганка Катька заливалась смехом, запрокинув голову со сползшим платком. И неожиданно Ефим обнаружил, что сам гогочет как полоумный, уронив голову на колени, и не может остановиться. «С перепугу, что ль? А эти-то пошто? Будто что весёлое сказал… Ох, господи… Вот так, верно, и с ума-то сходят…»
Хохотали так, что не услышали приближающегося конского топота и не заметили, как к заводу верхом подлетел на своём огромном аргамаке Брагин в сопровождении Хасбулата.
– Что это тут за потеха? – спешиваясь, удивлённо спросил начальник завода. – Господин Иверзнев, что происходит? Я был в угольных, примчался вестовой, кричит – пожар…
– Пожар уже потушили, – спокойно ответил Иверзнев, продолжая перевязывать стонущего от боли и смеха Петьку Кочергу. – А это, изволите видеть, общая истерика. Вполне заурядный случай после длительного нервного напряжения. На войне часто можно было наблюдать. Подождите, сейчас люди успокоятся.
Иверзнев был прав: появление начальника завода слегка отрезвило каторжан, и хохот мало-помалу начал стихать. Вот кое-кто уже догадался встать и поклониться, кто-то даже снял чудом уцелевшую шапку…
– Кого-нибудь удалось спасти? – не отвечая на поклоны, отрывисто спросил Брагин.
– Очень немногих. Из верхней винницы, где лопнули котлы, – вовсе никого, – сдержанно ответил Михаил. – А началось с того, что в подвале обрушилась печь и…
– Печь? Новая?
– Она самая. Двоих сразу же завалило кирпичами, и, если бы не братья Силины…
– Ну, Трофимов, тебя ничто не берёт, я вижу, – без особой радости заметил Брагин.
Ватажный атаман только пожал могучими плечами:
– Стало быть, на роду пока не написано.
– Что этот? – кивнул Брагин на неподвижного цыгана.
– Не знаю, – нехотя ответил Иверзнев, и Катька, стиснув руками голову, снова зашлась придушенным воплем. – Он покуда жив, но ноги… Надо везти в больницу, там у меня будет полная картина… Катерина, прекрати выть, говорят тебе! Посмотрим, что можно сделать! Могло бы быть ещё хуже!
– Стало быть, живы, братья-разбойники, – спросил Брагин, когда рыдающую Катьку с уговорами отвела в сторону Устинья.
– Мы, ваша милость, не разбойники, – слегка обиженно ответил Антип.
А Ефим, глядя в лицо начальника зелёными опасными глазами, заявил:
– Немец ваш, Рыба в Шубе, – вот это истинно разбойник! Ему ещё когда Антипка говорил, что печь неверно сложена, от жару развалится… Какое! «Как смель с мастером спорить, это п-пунт!!!» – до того похоже передразнил Ефим немца, что каторжане вновь расхохотались.
– Придержи язык, – заметил ему Брагин.
– Не от моего языка людям погибель пришла! – не унимался Ефим. – И казне, опять же, убыток! Вольно же вам этакого вурдалака держать! Погодите, он вам ещё парочку винниц загубит с народом вместе! Будет тогда…
Но тут Антип без всякой нежности, с размаху треснул брата локтем по затылку, и Ефим умолк. Брагин смотрел на все эти действия без всякого выражения на лице.
– Правду он говорит, барин, – спокойно сказал Антип, потирая локоть.
Сзади загудели остальные:
– Как есть истина, ваше благородие! Давно ещё Антип Силин говорил! А мастер и слушать не желали!
– Ты смыслишь в печном деле? – слегка заинтересованно спросил Брагин. Антип пожал плечами:
– Есть немного. Дедка покойный учил.
– И ты понимал, что печь негодна? Отчего не пришёл сразу ко мне?
Антип усмехнулся краем потрескавшихся, опалённых губ:
– Нешто слушать бы стали?
– Стал бы, – коротко ответил Брагин. – И, глядишь, люди бы живы были.
– Так это мы, стало быть, виноваты? – нагло, в упор спросил Ефим. – Слыхал, Антипка? Из-за нас с тобой пожар-то получился!
– Помолчи, – уронил Брагин и, отойдя к Иверзневу, негромко заговорил с ним. С дороги послышался скрип колёс: подкатили присланные за погибшими и ранеными телеги.
Вскоре невесёлый караван тронулся к лазарету. Одна из телег была заполнена трупами. В двух других поместились увечные. Братья Силины шли сами. Ефим шагал рядом с телегой, которой правила Устинья. Ефим не сводил с неё глаз, но жена, глядя поверх лошадиной головы куда-то в небо, не замечала его взгляда, и Ефим с каждым шагом хмурился всё больше.
– Устька!.. – окликнул он, когда телеги подкатили к лазарету. – Нынче-то ночью, видать, не придёшь? В больничке останешься?
– Да уж, видно, так, – отрывисто, не глядя на него, сказала Устинья, и Ефим понял: жена думает сейчас о другом. Она смотрела на обожжённых и покалеченных, которых сгружали с телеги, чуть заметно морщилась, слыша стоны и ругань. – Сам видишь, некогда сегодня может быть. Ночь наверняка спать не будем… Господи всемилостивый, только б не помер у нас больше никто! Вам с Антипом Прокопьичем я мазь одну дам, сами справитесь…
– Послушай, Устька, – помедлив, сказал Ефим. – Я тебя сегодня теребить не буду, сам вижу, что делается… Но ты ведь мне слово дала. Обещалась, что уйдёшь отсюда! Говорила или нет?
– Да… как же я уйду теперь, Ефим? – почти с испугом спросила она, повернувшись наконец к мужу и глядя на него безмерно изумлёнными глазами. – Куда же я уйду отсюда? Как же без меня-то тут? Смотри, сколько людей свезли! Тут ведь не на один день и не на неделю даже… И Яшку отхаживать надо, не то Катерина, не ровён час, в петлю сунется… Ефим, да что ж ты не поймёшь никак, иродина?!
– Отчего ж не понять? Ясно всё. – Чёрное от сажи и ожогов, перепачканное засохшей кровью лицо Ефима окаменело. В глазах появился холодный, чужой блеск. Устинья тихо ахнула:
– Ефим! Да что ж ты, дух нечистый… Пожди, послушай!..
– Прощай, жёнка, – коротко сказал он. – Живи одна.
Повернулся и пошёл прочь с больничного двора – туда, где у ворот дожидался казачий конвой.
– Ефим! Да постой же, бессовестный! – рванулась было вслед за ним Устинья.
Но в это время из барака раздался встревоженный голос Иверзнева:
– Устя! Где ты там пропадаешь?! Живее, тут надо подержать…
– Господи… Богородица всеблагая, помоги ты мне… Вразуми… – простонала Устинья, хватаясь за голову. Но из больнички послышались дикие отчаянные крики, и она опрометью кинулась туда. Ефим не видел этого, не обернулся.
В воротах он столкнулся с Брагиным. Тот отрывисто говорил запыхавшемуся, истово кивающему на каждое слово молодому казаку:
– …и немедленно найти Рибенштуббе! Пусть ждёт в конторе! Немедленно, где бы ни был! И смотри у меня ещё, чтобы… – тут он заметил стоящего рядом Ефима и, хмурясь, спросил:
– Ты зачем здесь? Тебе нужно в лазарет!
– Просьба до вас, барин.
– Что-то хочешь за своё геройство?
– Не много хочу. – Ефим помолчал, глядя через плечо начальника в блёкнущее зимнее небо. – Дозвольте в острог, к мужикам вернуться.
Брагин молчал. Ефим чувствовал его внимательный взгляд, но не отвечал на него, по-прежнему, до рези в глазах глядя в небо.
– Что ж, как знаешь. Поди к караульному, скажи – я разрешил. – Брагин снова помолчал. – Дурак ты, Силин, право слово…
– Какой уродился, – сквозь зубы ответил Ефим. Повернулся и, сутулясь, зашагал прочь.
Ночью он сидел на нарах в остроге, не спал. Страшно саднили ожоги, хотя мазь, которую Антип принёс из лазарета и молча поделился с братом, изрядно помогла. Под полом скреблась мышь. Что-то беспокойное шуршало за печью, пробиваясь сквозь мерный храп трёх десятков человек. Иногда лязгали цепи, когда кто-то поворачивался во сне. В дальнем углу ругался, не просыпаясь, питерский грабитель Осяня: «Полезай, Манька… Полезай, лахудра… Полезай, рыло разобью…» Из сеней слышались мерные шаги караульного. В окне светила одинокая звезда. Ефим смотрел на неё уже второй час, чувствуя, что не может заснуть. Стоило закрыть глаза – и сразу же вздёргивался в памяти весь сегодняшний день: сыплющиеся с потолка искры, жар, удушливая боль в груди, сизый страшный дым, крики, хрипы, рыдания… «Вот она – каторга… Правильно Яшка говорил – подорвать бы отсюда… А куда рвать? Цыганам хорошо, они к себе в табор придут, и кто их там искать будет? А нам с Антипкой деться некуда… Да ведь и не пойдёт он!» Ефим осторожно покосился туда, где лежал брат. С нар доносилось ровное сопение.
Разумеется, в этот день на заводе больше не работали. Сам Брагин распорядился, чтобы пострадавших осмотрели в больничке, перевязали, если нужно – уложили. Для всех сварили особо вкусную «крутовку», которая прежде подавалась лишь по большим церковным праздникам. Рыбы в Шубе весь день не было видно. «Опасается, видать, что кирпич в башку прилетит», – как всегда спокойно предположил атаман Берёза, и все с ним согласились.
Антип за весь день не сказал брату ни слова. Вечером, намазав ожоги мазью, молча улёгся на нары и повернулся лицом к стене. «Прикидывается, чёрт… – с досадой думал Ефим. – Из-за Устьки злится… Слыхал ведь, как мы с ней собачились… Ну, и пусть хоть лопнет! Кто она ему?!»
В глубине души он понимал, что сгоряча свалял дурака. Не надо было говорить так с Устькой. Не надо было приставать к ней с ножом к горлу, чтобы она немедля уходила из больнички… Да и кто бы её отпустил, когда такая прорва народу покалечилась и каждые руки на счету? Катька – и та носилась как угорелая, не подходя к собственному мужику… «Ещё и впрямь ноги у цыгана отсохнут теперь… Был конокрад – да вышел весь… А они ведь в побег этой весной собирались! Отбегались, видать…» Ефим в который раз попробовал лечь, но найти удобное положение для обожжённого тела так и не удалось. Пришлось снова сесть. В коридоре по-прежнему мерно топал часовой. Ефим машинально прислушивался к его шагам.
В углу кто-то зашевелился на нарах, приподнялся, затем встал во весь рост, и Ефим узнал высокую фигуру Берёзы. Ватажный атаман наотрез отказался остаться в больничном бараке – несмотря на серьёзные ожоги и отбитую ногу: «Что я там валяться буду? Нога и в остроге заживёт, а на помирающих глядеть тошнотно…» Прихрамывая, Берёза вышел в проход между нарами, подошёл к оконцу, за которым мерцала звезда. Тусклый свет упал на его бугристое, похожее на картофелину, неподвижное лицо.
– Что, паря, не спишь? – не поворачиваясь к Ефиму, спросил он.
– Ты, чёрт, чуешь, что ль?
– А как же? – пожал плечами Берёза. – По дыху всегда понятно, спит человек аль нет. Что, душа никак не уймётся? Оно и понятно, тебе впервой. А нас с товарищами однажды на Каре в руднике этак-то завалило. Шестеро суток впотьмах просидели, чуть разума не лишились. Думали – не отроют, так и подохнем под горой… Откопали, слава богу. Давно это было, лет уж двадцать тому… А по сей день иногда снится.
Ефим осторожно молчал. Впервые за три месяца сдержанный, скупой на слова атаман завёл с ним разговор, и парень не мог понять: к добру это или к худу.
– А ты второй раз на каторге-то, дядя Берёза? – наконец решился спросить он.
– Шестой, – невозмутимо отозвался тот. – Да и не последний. Я тут до весны…
– Как же? У тебя ведь пять лет…
Из темноты послышался тихий смех.
– Дурак ты, паря… Чего ж мне здесь столько сидеть? Другие дела есть.
– А ежели поймают? Ловят же…
– Дураков ловят. Которые вокруг острога по лесу побегают, упьются в кабаке, нажрутся от пуза… С бабой, может, позабавятся… А потом не знают, куда и деться! Назад на завод приходят и в ворота стучатся – примите, мол, душу на покаяние!
– И что, принимают?
– А отчего нет? Спину лозами взгреют, в железа обратно сунут, годов донавесят – и в работу опять… Только серьёзные люди так не бегают. Наверняка надо. Через тайгу, через Байкал-батюшку – назад в Расею.
– Ты… наверняка побежишь?
Берёза молчал, и Ефим не осмелился переспросить. В остроге было тихо. Осяня наконец устал ругаться со своей Манькой и уснул. Перестала скрестись даже мышь под полом. У Ефима уже начали слипаться глаза, когда негромкий голос атамана раздался вновь:
– Ты-то, паря, на весь срок здесь, али подорвёшься?
Сна как не бывало: Ефим торчком сел на нарах. Глядя в тёмный угол, сквозь зубы спросил:
– Шутишь, дядя Берёза? Куда мне – с бабой-то?
– Ну, баба с воза – кобыле легче… К тому ж скоро она и сама с твоей шеи слезет, ослобонишься.
Ефим встал, резко повернулся к нему. Впился глазами в комковатое лицо, ловя в нём хоть тень насмешки. Но Берёза казался спокойным, как всегда, и равнодушная уверенность его голоса напугала Ефима всерьёз.
– А ты что, может, слышал чего? – с напускной небрежностью спросил он. – Про Устьку мою? Ты говори… всё едино узнаю!
– Не слыхал, – зевнув, отмахнулся Берёза. – И слыхал бы – не сказал, не люблю я лясов про баб… Просто ты, щеня, на свете два десятка лет живёшь – а я уж пятый дотягиваю. И бабья поболе твоего и видел, и щупал… И резал. Паскуды они все до одной. И в том не повинны, просто сроблены так. Кто поманит, за тем и пойдут. И сладенькое любят, и житьё красивое. И матерю родную за всё это продадут. Я по молодости-то, как ты, из-за баб бесился – а потом перестал. Ну, что с них взять? Из кошки коня не сделаешь, из бабы человека не скроишь. Только и годны, что детей рожать… И в том спасибо.
– Врёшь. – Ефим отвернулся. – Устька моя не такова.
– Ну, дай бог, – безразлично отозвался Берёза. – Может, и я чего не знаю на старости лет. Спать давай, паря. Ох ты, господи, вот бы неделю на работу не гоняли… Шкура бы хоть заросла!
Атаман и в самом деле вскоре заснул, уткнувшись лицом в огромный кулак и оглашая острог раскатистым храпом. Ефим же до рассвета не сомкнул глаз, то растягиваясь на нарах, то садясь и с тоской глядя на то, как в окне бледнеет и понемногу закатывается звезда. То и дело он посматривал на соседние нары, надеясь, что проснётся брат. Но Антип спал – хмурясь и что-то сердито бормоча во сне.
– Господи, Катька, ложилась бы ты спать! – сиплым от усталости голосом сказала Устинья, бухая у дверей ведро воды. – Ну, что ты мечешься, толку-то… Всё мы сделали, что можно. Теперь только на Бога надеяться… Поспи-ка!
Катька, сидевшая на полу у стены, не отозвалась. Стояла безлунная ночь. Холодная звезда, повисшая в окне, странно мигала и двоилась в глазах Устиньи. «С устатку, верно…» – подумала она, оглядывая спящий лазарет.
Из тех десятерых, кого вчера приволокли с пожара, двое умерли почти сразу. Третий, сплошь обожжённый, всю ночь страшно кричал, а к утру умер тоже: едва успели позвать священника причастить и соборовать. Прочие погорельцы чувствовали себя вполне сносно и даже втихомолку радовались, что можно немного отдохнуть от тяжёлой работы. Но вот цыгану было на самом деле плохо. Ноги, к счастью, отнимать не пришлось: доктор Иверзнев, осмотрев Яшку, сказал, что пока нужды в ампутации нет и нужно ждать.
– Покуда сам помрёт?.. – жалобно уточнила Катька, на которой не было лица. Иверзнев не сумел даже выругаться в ответ.
– О чём ты… У него к ночи непременно поднимется жар. Организм сильный, борется. Будем надеяться, что всё окажется хорошо. Не ты ли сама мне говорила, что как конокрада ни бей, а через три дня встанет?
Катька улыбнулась, но улыбка эта была такой вымученной, что, казалось, цыганка вот-вот разрыдается. Стоящая рядом Устинья обняла её за плечи:
– Будя… Раз Михайла Николаич говорит – надо ждать, стало быть, пождём.
Иверзнев не ошибся: к ночи Яшка весь горел. Ни жену, ни Устю он уже не узнавал, метался по соломенному пропревшему тюфяку, хрипел сквозь оскаленные зубы, звал то Катьку, то какого-то дядю Сыво, ругался, что разбежались кони… Не помогала ни холодная вода, ни тряпка, положенная на лоб, ни даже водка, которой Катька обтёрла мужа с головы до ног под неодобрительное бурчание всего лазарета: водку, по мнению каторжан, следовало употреблять исключительно внутрь.
– Яша, миленько, да что ж ты… Да это же я, Катька я, твоя Катька… – всхлипывая, звала цыганка. – Ну что же ты… Ну, попей же хоть, легче будет!
Она раз за разом подносила к губам мужа кружку с водой, но Яшка не разжимал зубов, вода не попадала в рот, холодные капли бежали по его лицу, и Катька, уронив кружку на колени, вновь заходилась рыданиями.
– Да не вой ты, дура! – наконец в сердцах вскричала Устя. – Что толку?! Не слышит ведь он тебя, только народ полошишь без нужды! Помоги мне лучше, я уж с ног сбилась! Воды вот наносить надо и из-под лежачих вынести, вторы сутки лежат, не до них! А вонища-то стоит!
Катька вздрогнула от резкого окрика, как от удара. Поспешно вскочила на ноги и кинулась вон. Устя вздохнула, на миг привалилась к дверному косяку и зажмурилась. И вздрогнула не хуже Катьки, когда тяжёлая тёплая рука легла на её плечо.
– Не мучайся, ты правильно на неё крикнула, – негромко сказал стоящий рядом Иверзнев. – Именно так и приводят в чувство… Когда другой возможности нет. Когда ждёшь чего-то, голова и руки должны быть заняты. Пусть лучше работает, чем попусту сидит возле него…
– Что скажете – выцарапается Яшка-то? – хрипло, не открывая глаз, спросила Устинья.
– Надежды мало, – не сразу ответил Иверзнев. – Длительный кровоотток… Пережатые конечности… Право, не хочу напрасно обнадёживать. Рассчитывать можно только на силу организма и… И на чудо.
Устинья вдруг тихо ахнула и повернулась к Иверзневу. И тот, изумлённый, увидел, как мгновенно оживают, наполняются синевой её глаза:
– Бог ты мой! Михайла Николаевич!!! Вот ведь дура я набитая! Забыла вовсе! Давно ведь хотела вам показать… Ох, обождите, сей минут! – и Устинью вихрем вынесло из комнаты. Михаил не успел даже подумать, что всё это значит, а она уже вернулась – взволнованная, сжимая в руках тряпичный свёрток.
– Михайла Николаич, взгляньте – он? Ещё на этапе в тайге нашла… И всё, что вы говорили, было: и рос в кедрах, в папоротнике, и листья пучком по пять… И ручки с ножками есть, даже потешно… Взгляньте – он?!
– Господи, Устинья… – от волнения у Иверзнева сел голос. Он почти со страхом взял в руки желтоватый сморщенный корешок. – Тут мало света, но… Послушай, кажется, в самом деле он! Он!!! Экий у тебя счастливый глаз! А много у тебя таких?
– Ой-й-й… Михайла Николаи-ич! – Устинья схватилась за щёки. – Четыре! Цельных четыре, я там всё вокруг на карачках обползала и нашла… Все у меня под подушкой лежат! Господи, вы ведь знаете, как его сготовить? Я-то не умею, не видала отродясь… Может быть, вытащим Яшку-то нашего?!
– Вот что, Устя, ты не голоси. – Михаил сказал это строгим и тихим голосом, и Устинья немедленно умолкла. – Видишь ли, женьшень этот не имеет цены, и если начальство каким-то образом узнает – у тебя его тут же отберут. Вряд ли кто-то здесь захочет использовать такую драгоценность для исцеления каторжан… Ты меня поняла?
– А как же… А то как же… – забормотала она, стремительно уворачивая смешной корешок в передник. – Нешто мы не понимаем… Небось всякое начальство видали… А вы поспеете приготовить, Михайла Николаич? Покуда Яшка-то у нас не того…
– Постараюсь успеть. По-хорошему, его надо бы настаивать несколько дней, но, поскольку дело спешное… Я начну прямо сейчас. И… Знаешь что? Не говори покуда ничего Катерине. Лучше не обнадёживать её до срока.
Устинья с тяжёлым вздохом кивнула, из-под передника сунула Иверзневу корешок, и тот поспешно ушёл. А с улицы уже ворвалась, стуча босыми ногами, Катька с ведром воды, и Устинья едва успела сделать равнодушное лицо.
Ночные часы шли долго. Уже была выполнена вся работа, которую Устя сумела найти для себя и Катьки: наколоты дрова, натаскана вода, вынесены пропитанные нечистотами тюфяки, постелена новая солома, перестирано тряпьё, сменены повязки. Больничный барак спал мёртвым сном. Холодные звёзды светили в окно. Скрипел за стеной сверчок. Катька, скорчившись, сидела возле мужа. Прижималась к его плечу встрёпанной головой, что-то вполголоса не то говорила, не то напевала. Устинья прислушалась, но в потоке невнятных цыганских слов не поняла ничего.
– Ляжешь ты спать или нет? – уже безнадёжно спросила она. – Ну, поди поешь хоть, дурная… Не слышит ведь он тебя всё равно…
– Доктор-то что говорит? – глухо, не оборачиваясь, выговорила Катька. – Устенька, серебряная, он же мне не скажет, а тебе скажет… Что говорит-то?
– Ничего не говорит, ждать велит, – как можно убедительнее ответила Устя. – Поспи, завтра вовсе на ногах держаться не будешь, а робить-то надо! Всё тут на нас!
Катька не отозвалась. Устинья подошла, села рядом на щелястый неструганый пол.
– А мы с ним по весне домой собирались… – хрипло, не глядя на подругу, заговорила Катька. Голос её казался спокойным, но по смуглым впалым щекам ползли слёзы. – Домой, к детям… Ждут в таборе, исстрадалась я по ним… А теперь вот – не бывать, не вернуться…
– Дура, что говоришь-то? Типун тебе на язык, бога побойся! Ничего ещё не…
– Сама ты дура. Знаю, что говорю. Это мне… Не Яшке, а мне… За мой грех… Знала я, что придёт когда-нибудь… Вот и пришло. И деться некуда. Я-то думала – каторгой от Бога откуплюсь… А вот нет… Вот чем платить-то придётся… Времечко пришло…
– Катька, милая, ты с ума сошла, да? – испуганно спросила Устя. На миг ей показалось, что цыганка от отчаяния повредилась рассудком. Катька повернула к ней искажённое лицо.
– Нет, а хорошо бы… Ничем бы не мучилась тогда, ни о чём бы не думала. Душа бы не дёргалась… Дэвлалэ-э-э, Устя, серебряная, сил моих уже нет… Лучше бы сама умерла, не могу я Яшку хорони-ить… Вот ведь наказал Бог… И не отмолить… Не отпросить… Смертный грех-то…
– Да ты что, дура, убила, что ль, кого-то?! – потеряв терпение, шёпотом заголосила Устинья.
– Не убила… а считай, что убила. – Катька горестно всхлипнула. – Человек был один… Мальчик… Не цыган… Любил меня… Так любил, что… Давно это было, я девчонкой была, а он и того меньше. Потом меня за Яшку отдали, дети у меня родились… Я и думать позабыла про Никитку-то… И вот лет шесть назад Яшку в тюрьму в Серпухове забрали, а у меня – денег ни гроша! И – совсем для меня свет погас. Я тогда в хор пошла. Думала хоть деньги какие заработать. И вот в один вечер сижу в хоре, подвываю что-то весёлое, а у самой такая тоска, что хоть в петлю залезай! И вдруг подходит половой и говорит: «Катерина Степановна, вас знакомый давний дожидается… Никита Владимирович Закатов…»
– Как?!. – шёпотом вскрикнула Устинья. Но Катька не повернула к ней головы, продолжая смотреть в одну точку чёрными, широко открытыми глазами.
– Вышла я к нему… В гостиницу за ним пошла… Вижу – рад, вижу – не забыл меня… И слово за слово – вытянула я из него, что казённые деньги при нём. И всё, Устька… Боле я уж ни о чём не думала! Как он заснул – я деньги те нашла, за пазуху сунула – и бегом! И тем же вечером мы с Яшкой уже прочь из города рванули! Десять тысяч я начальнику в тюрьме отдала за разбойника своего… – Катька схватилась за голову. – Понимаешь, Никитка-то мой… верно, застрелился опосля. Али в арестантские роты за растрату попал. Невинную душу я тогда сгубила, вот… Вот за это сейчас и…
– Село-то его как звалось? – вдруг перебила её Устинья. – Не Болотеево ли? Село Болотеево Бельского уезда… Так? И рядом ещё деревеньки две, Рассохино да Тришкино – так?!
Цыганка умолкла на полуслове. На Устинью уставились совершенно сумасшедшие, мокрые от слёз, остановившиеся глаза.
– Катька, ты только от радости мне тут не свихнись… Но нет на тебе греха! Жив он, барин наш, Никита Владимирыч! Жив и здоров! И не в арестантах! Перед самым этапом я его видела, а тому всего два года будет!
– Господи… врёшь… – трясущимися губами пробормотала Катька. На ней не было лица, кровь совсем отлила от щёк. – Брешешь… Как цыганка последняя, брешешь…
– Чего – брешу?! Коль не веришь, спроси завтра у Ефима с Антипом! Они тоже Закатовых крепостные! Всё как есть подтвердят! А тебе я, коли хочешь, прямо сейчас на кресте забожусь! Ой… Катька… Катя… Катя, господь с тобой, что ты?!. Катя!!!
Устинья кинулась к подруге – но было поздно. Цыганка медленно завалилась на бок, запрокинула голову. Красный вылинявший платок пополз на пол. Из-под опустившихся век мутно блеснула полоса белка. Ахнув, Устинья кинулась вон:
– Михайла Николаевич! Миленький, подите, с Катькой родимчик!
… – Ничего особенного, обморок. Обычная усталость и слишком много переживаний, – говорил десять минут спустя Иверзнев, ополаскивая ладони под рукомойником. – Катька, чтоб не смела больше носиться, как курица без головы, по лазарету! Понятно тебе? И от конокрада своего отойди, я только что дал ему лекарство! Полежи покойно хоть до утра, завтра вы с Устиньей обе будете мне нужны! Цыганское ли это дело – в обмороки падать?! Устя, вот настойка, сам не знаю, что получилось… У меня это тоже впервые… Но будем надеяться на лучшее. Часа через два дашь ему ещё четыре ложки, тут как раз столько примерно и будет. Если не придёт в себя, разожмёшь зубы ножом, ты умеешь. Да что вы обе сияете, как блины на Масленицу?!
– Разговорчик был хороший, барин… – сорванным, тихим голосом отозвалась Катька. Она лежала на половике у печи, закинув руки за голову, и ещё была бледна, но зубы её светились в слабой улыбке. – Разговорчик счастливый… Не извольте беспокоиться…
Иверзнев недоверчиво повернулся к Устинье. Та с широкой улыбкой пожала плечами. Из её глаз била синева, и у Михаила в который раз сжалось сердце. Он насильно заставил себя отвести взгляд. Зачем-то нахмурился и, проворчав себе под нос: «Светает уже, а тут извольте видеть – обмороки…» – быстро вышел.
Устинья, стоя у стола, недоверчиво рассматривала гранёный стакан, в который до половины была нацежена тёмная, остро и свежо пахнущая жидкость.
– Богородица всеблагая… Только б вышло! Катька, это средство куда какое хорошее, должно…
Но Катька уже спала, улыбаясь во сне. Устинья вздохнула. Пробормотав: «Вот ведь как на свете-то бывает…» – медленно перекрестилась, подошла к окну. Там уже гасли, растворялись в меркнущей темноте звёзды. Рассудив, что ложиться спать на два часа незачем, она присела на пол у стены, прикрыла глаза. Подумала: «Минутку посижу только…» – и провалилась как в колодец.
– Ай, дэвла-дэвла-дэвла-а-а-а!!!
Пронзительный Катькин визг словно подбросил Устинью. Она торчком села на полу, открыла глаза и сразу же подумала: пока она тут бессовестно дрыхла, умер Яшка…
– Катька! Господи! Что…
Устя не договорила: с нар на неё взглянули чёрные, блестящие, чуть сощуренные конокрадские глаза. Яшка лежал на спине, подсунув под голову руку, и улыбался, показывая белые зубы. Катька стояла на коленях возле него, обхватив обеими руками простоволосую голову. Её трясло, как в ознобе. Растерянная Устинья переводила глаза с одного на другую, не зная, к кому кидаться первому. Затем взгляд её упал на окно, в которое сияющим снопом било зимнее солнце.
«Проспала! Вот ведь дурища, проспала лекарство дать!» Застонав сквозь зубы, Устя метнулась к табуретке возле нар, где вчера оставила стакан с настойкой. Стакан был на месте, но снадобья, к ужасу Устиньи, в нём не оказалось.
– Устька, не полошись! Не ори только! – быстро сказал Яшка, увидев, как краска сбегает с лица девушки. – Оно там, в стакане… шибко нужное было, что ли?
– Опрокинул?!. – одними губами спросила Устинья.
– Выпил, – виновато сознался цыган. – Понимаешь, проснулся утром… Только-только рассвело, ещё тёмно было… Пить хочется – страсть, всё тело ломит, встать – никак… Смотрю – ты спишь, Катька спит, мужики спят… А стакан на тубаретке стоит… Я решил – с водой, аль с чаем, ну и хлопнул его… Не рассмотремши…
– Горько же, дурак! Нешто не выплюнул?!
– Не! – торопливо и уже испуганно перекрестился Яшка. – Вот тебе крест, чтоб мне всю родню похоронить, – не плюнул! Всё внутрь ушло! А что – отрава была?! Устька, ты мне не ври, ты правду скажи! Чего я хватанул-то не того?!
Но Устинья, не слушая его, тщательно осмотрела нары и пол вокруг них, чтобы убедиться, что цыган не врёт. Затем вытерла пот со лба и с облегчением выговорила:
– Воистину, бог дураков любит! Да не пугайся, глупый, это лекарство было. Доброе, верное… Даст бог, поставим тебя на ноги. Ещё побежите по весне за кукушкой… Катька, дура, да что ты воешь-то, вставай!
Катька резко повернулась к подруге, вскочила – и тут же снова упала на колени.
– Устенька! Милая! Бесценная ты моя! Господь с угодниками мне тебя послали!!!
– Совсем ополоумела?! – завопила и Устинья, отпрыгивая в сторону. – Подымись, блажная, а то вот как двину по башке!!!
– Всё, что велишь, – сделаю! – не слушая, продолжала голосить цыганка. – Чтоб меня разорвало на этом самом месте – сделаю! Хочешь – побегу сейчас к твоему Ефиму и на верёвке его к тебе притащу?! Хочешь – скажу, что он чурбан чурбаном и пятки твоей не стоит, варнак бесстыжий?! Хочешь – морду ему набью за все слёзы твои?!!
– Дура ты, дура… – Глаза Устиньи сразу потухли. Она с грустной усмешкой прислонилась к дверному косяку. – Ты ему морду хочешь бить, а кто твоего конокрада на себе из огня вытащил? Что бы с Яшкой сталось, коли б не мой Ефим? То-то и оно… Ишь ты – морду… Да ты б до него и дотронуться не успела – а уж поперёк ворот половичком висела бы! Не верещи, весь лазарет вон уж перебудила! Пойду, что ли, воды принесу.
И, подхватив стоящее у печи пустое ведро, вышла за порог. Яшка проводил её взглядом, переглянулся с женой и озадаченно покачал лохматой головой.
* * *
Сергей Тоневицкий вернулся из Малоярославца в последний день своего отпуска, синим снежным вечером. Его ждали целую неделю и уже успели встревожиться. Соскучившиеся брат и сестра то и дело выбегали на крыльцо – без шуб, без валенок, под негодующие вопли горничной. И всё же пропустили тот миг, когда к воротам подлетела тройка и старший брат прямо из саней, весь засыпанный снегом, вбежал на двор и взлетел по крыльцу.
– Эй вы, сонные тетери, отворяйте брату двери! Бр-р, промёрз насквозь, как льдышка! Аннет, не прикасайся ко мне, ты простудишься насмерть! Аннет!!! Колька, сними её с меня немедленно, я весь ледяной! Да куда ж ты, дурак, сам на меня прыгаешь? Домна! И ты туда же?! Ну, только маменьки сверху недоставало!
Но Вера уже спешила из комнат с улыбкой и разведёнными руками.
– Серёжа, ну наконец-то! Мы уже не знали, что и думать! Ведь отпуск ваш кончается, а вас всё нет и нет! Право, сто раз подумаешь, прежде чем отправлять вас с комиссией…
– Вот, ей-богу, маменька, в кои-то веки ни в чём не виноват! – смеясь, оправдывался Сергей. – Такие метели, такие бураны – по двое суток приходилось на почтовых сидеть! Всю Калужскую губернию замело! Да ещё Стасовы не хотели меня отпускать! «Да зачем же вам, Сергей Станиславович, в Москву, когда вы прекрасно можете прямо от нас ехать в Петербург на наших лошадях!» Ох уж мне это провинциальное гостеприимство… Насилу я вырвался от мадам Стасовой и всего этого бабьего эскадрона!
– Серж!
– Прошу прощения – от очаровательных дам… Пахнущих нафталином и грибами! Ничего смешного, Аннет! Я теперь год не смогу в рот взять никаких грибных солений! А мне ещё пытались навязать пару жбанчиков с собой! Но зато время прошло недаром, и теперь… Александрин! Кузина, здравствуйте!
– Бонжур, Серж, – протяжно, в нос, произнесла Александрин, выходя из залы, – прямая как палка и с высоко задранным подбородком. Сергей прикоснулся губами к её холодным пальцам и почувствовал, что они чуть заметно вздрогнули.
– Как ваше здоровье, кузина? Не успели ещё простудиться? – спросил он таким неожиданно участливым тоном, что к нему изумлённо обернулись все – от Домны до княгини Веры. Удивилась и Александрин.
– Я… Нет, не простужалась… Благодарю вас, – с лёгкой запинкой, впервые не найдя подходящей светской фразы, отозвалась она. – Напротив, это вы вполне могли… Ну, слава богу, что всё благополучно. Вера Николаевна, мне распорядиться насчёт обеда?
– Да, прошу вас. – Вера не сводила внимательного взгляда с лица пасынка. – Серж, мне хотелось бы, пока у Федосьи всё готовится…
– Мне тоже нужно как можно скорее с вами поговорить, – нетерпеливо перебил её Сергей, проводив взглядом Александрин.
– Что ж, тогда прошу в кабинет.
– Маменька, надеюсь, за это время вы не просватали кузину? – спросил Сергей сразу же, как только дверь кабинета закрылась за его спиной.
– Разумеется, нет. – Вера в упор смотрела на него, забыв зажечь свечи. Крошечный огарок в её руке трещал и отбрасывал на обои прыгающие тени. – Как я могла это сделать, не дождавшись вас?
– Да мало ли… Я, признаться, боялся, что она совсем замучила вас своими припадками, и вы, утратив терпение… Фу-у-у, слава богу! – Сергей с облегчением бросился в скрипучее вольтеровское кресло. – Стало быть, не зря спешил. Но ведь Казарин этот по-прежнему у нас бывает?
– Каждый день! И они уже объяснились! – Вера взволнованно ходила по кабинету. – И он просил у меня руки Александрин три дня назад!
– И что же вы?..
– Попросила время на размышление, не зная, что отвечать! Александрин совершенно счастлива, даже рыдать перестала! Заставляет Домну каждый вечер гадать себе на картах, и всё ей короли марьяжные выпадают! А я уже сама на грани истерики…
– В жизни не поверю, – без улыбки сказал Сергей. – Но вижу, что вы совсем измучились. Жаль, право… Нас ждёт нервический припадок, какого эти стены ещё не видели.
– Боже, Серёжа, не пугайте меня! – Вера остановилась прямо перед ним. – Что вы такое узнали под Малоярославцем? Там хотя бы знают этого господина Казарина или это всё враньё – про два имения в Калужской губернии?
– Про имения – нисколько, они действительно имеются. Правда, как меня заверили, совершенно запущены и разорены: половина душ в бегах, остальные нищие. Если бы не приданое покойной жены…
– Так Казарин был женат?
– И овдоветь успел четыре года назад! Там ещё двое детей! Но не это самое худое! Уж право, и не знаю, как рассказать вам, чтоб прилично звучало…
– Серёжа, ради бога, говорите как есть, мне не пятнадцать лет!
– Извольте… Хотя история гнусная. Но, по-моему, чистая правда – мне несколько человек слово в слово повторили. Собственно говоря, обычное дело… Крепостная девка. Как мне рассказали, необыкновенной красоты была и хитрющая, как лиса. Казарин наш с ней несколько лет жил… И, похоже, тайно обвенчался.
– Та-а-ак… – Вера глубоко вздохнула. – Но как же этот господин в таком случае осмелился просить руки Александрин?!
– В том-то и дело, что насчёт женитьбы – ничего доподлинно не известно! Все говорят одно: Казарин дал этой Дашке или Глашке вольную – и на другой день она исчезла вместе с дворовым кучером! Шуму было много, искали – да не нашли. Казарин, говорят, пил горькую месяца два – и пьяным рыдал, что законную супругу навек утратил. Трезвым, правда, всё отрицал, но ведь пол-уезда эти завывания слышало! А разузнать наверное никак невозможно, потому что венчание, если оно и было, прошло тайно… И, скорее всего, в другом уезде. Вот такие, маменька, новости.
– Господи, какая гадость… Мерзость какая! – с отвращением сказала Вера. – Слава богу, что я не согласилась! Не хватало только, чтобы Александрин обручилась с женатым человеком и…
– Маменька, а вдруг всё-таки враньё – про женитьбу-то? – почти жалобно спросил Сергей, вставая и сам наконец зажигая свечи в большом шандале на столе. – Ведь как мы все надеялись избавиться от кузины хотя бы к весне… И снова разочарование?
– Серж, вы несносны! – взорвалась Вера, сжимая пальцами виски. – Право, нельзя же помышлять только о своём благополучии! Боже, надо же было такому случиться… именно сейчас, когда Александрин так счастлива… Я ведь вынуждена теперь отказать от дома господину Казарину… О-о-о, мерзавец, как он смел, как набрался наглости, чтобы вскружить голову девочке?!.
– Ему необходимо приданое Александрин, только и всего, – слегка обиженно сказал Сергей. – Растолкуйте это кузине. Убеждён, что вы найдёте правильный тон. Ведь, согласитесь, хуже будет, если Александрин выйдет замуж – а через месяц объявится законная казаринская супруга, брошенная кучером на произвол судьбы. И что тогда?
– Господи… – Вера упала в кресло и некоторое время молчала. – Что ж… Наверное, это и к лучшему. Благодарю вас, Серёжа, и простите мою резкость. Я, признаться, и не ждала от вашей поездки ничего хорошего, но услышать такое!.. Хорошо, что всё выяснилось, и теперь я с чистой душой откажу этому проходимцу. – Она вздрогнула. – Представить страшно, что могло бы случиться!
– Маменька… – робко начал Сергей. – Знаю, что я чудовищный эгоист и помышляю… Как вы выразились? Лишь о своём благополучии… Но нельзя ли объявить обо всём этом кузине после моего отъезда? Ей-богу, я не вынесу того, что здесь начнётся!
– К сожалению, медлить нельзя. Придётся… – Вера не закончила: в дверь просунулась голова Домны.
– Барин, обедать пожалуйте!
– С удовольствием! – Сергей поднялся.
Встала и Вера.
– Что ж, а я пойду к Александрин.
Беседа с приёмной дочерью прошла очень спокойно – к страшному изумлению Веры. Александрин выслушала всё молча, вытянувшись в струнку на стуле и стиснув руки на коленях. Вид у неё был совершенно отсутствующий, и растерянная Вера несколько раз даже приходила в сомнение: слышит ли её падчерица.
– …и вы, я уверена, сами понимаете, что я должна отказать от дома господину Казарину, – закончила она, не сводя взгляда с бледного, безмятежного лица Александрин.
– Разумеется, Вера Николаевна, – ровным голосом отозвалась та. – Вы вправе так поступить.
– Мне, право, очень жаль, – осторожно сказала Вера, которой это безразличие нравилось с каждой минутой всё меньше. – И я искренне сочувствую вам. Утешение может быть одно – вы так молоды и так хороши собой, что в скором времени сделаете блестящую партию.
– Я надеюсь на это, княгиня, – всё так же замороженно отозвалась Александрин, не поднимая ресниц. – Только прошу вас об одолжении. Разрешите мне самой отказать господину Казарину? И сделать это наедине?
– Что ж… Извольте. – Вера почувствовала, что не вправе помешать в этом падчерице. Она молча пронаблюдала за тем, как прямая, тоненькая Александрин идёт к двери, выходит и осторожно прикрывает её за собой. Дождавшись, пока приёмная дочь скроется в своей комнате, Вера вышла в кухню, где её дожидались взволнованные домочадцы, и тихо сказала:
– Думаю, лучше не спускать с неё глаз. Александрин очень спокойна. Это плохо.
– Господи, и то правда! – всплеснула руками Домна. – Вот у нас в Редькине случай был: Нюшку-дворовую барин распорядился за вдовца отдать, а у Нюшки-то жених имелся! Когда ей объявили, она уж такая тихая да смирная была: «Как барин прикажет, мы из господской воли не выходим…», а за день перед венчаньем возьми и в реку кинься! Вытащить-то вытащили, да не откачали!
– Господь с тобою, Домна, что ты говоришь! – ужаснулась Вера. – Аннет, у меня вся надежда на вас! Не давайте Александрин покоя, будьте при ней, тормошите, развлекайте… Если начнёт плакать или браниться – это даже к лучшему…
– Сделаю всё, что в моих силах, – заверила Аннет. – Как жаль, что я не могу доводить людей до слёз… Серёжа, ты же великолепно умеешь выводить Александрин из себя! Пойди постарайся!
– Право, не смогу, язык не повернётся, – тяжело отозвался Сергей. – На кузину взглянуть страшно. Я почти готов её пожалеть. Да и себя самого жаль безумно… – покосившись на Веру, он не решился продолжать, но та, не слыша слов пасынка, встревоженно говорила Домне:
– …и как только появится Казарин – сразу проводи его в гостиную и доложи Александрин! Она имеет право объясниться с ним с глазу на глаз!
– Как прикажете, Вера Николавна! – сердито согласилась горничная. – Только, по мне бы – помоями его с крыльца облить, чтоб девиц из порядочного дому с толку не сбивал! Экой ламеланс на нашу голову объявился!
– Ловелас, Домна, сколько раз повторять…
– Да помню, помню… Только по мне – ламеланс красивше! Так не велите помоями-то?..
– Домна!!!
– Слушаюсь, барыня…
Казарин приехал после обеда, и они с Александрин говорили в гостиной ровно три минуты. Затем несостоявшегося жениха сдуло с такой скоростью, что Домна даже не успела высказать ему в спину всё надлежащее. Дом притих, ожидая грома и молний. Но Александрин преспокойно уселась в своей комнате вышивать шёлком, и на её глазах Аннет не высмотрела ни слезинки.
– Боже мой, ничего-то я, оказывается, в людях не смыслю! – пожимала она плечами в обществе братьев, тщательно прячущих улыбки. – Она спокойна, как индюшка в леднике! Сидит, намётывает узор, даже не бледна! Спрашивает, что нынче вечером в театре и не можем ли мы поехать на балет! Может, и впрямь стоит вывезти её, маменька? Может быть, на людях ей будет легче держаться?
Вера колебалась. Поведение падчерицы казалось ей странным и неестественным. Она готова была вслед за Аннет расписаться в своём незнании людей и даже признать, что Александрин наконец повзрослела и выучилась держать себя в руках. «Но почему? Что причиной? Не могла же девочка так измениться за две недели? Может быть, она и не любила никогда этого Казарина? Но тогда к чему были все эти слёзы, истерики, требования скорейшей свадьбы? Господи, что же делать… В самом деле, что ли, в театр её везти? Немыслимо… А под каким предлогом отказать? Боже мой, ну отчего мне не сорок пять лет и я не вижу каждого человека «наскрозь до подмёток», как Домна выражается?!»
В конце концов действительно собрались в театр. Вызвался ехать даже Сергей, который комедиантов терпеть не мог и балета не выносил. Александрин спустилась вниз в роскошном розовом туалете, подаренном ей на Рождество, спокойная и даже весёлая. Сергей растерянно отвесил ей комплимент, Александрин ответила короткой французской фразой, улыбнулась и стала почти хорошенькой. Все были окончательно сбиты с толку и, излишне громко обсуждая вьюжистую погоду, отправились грузиться в сани. Интуиция Веры вопила не своим голосом. Но что предпринять и как изменить эту ненормальную ситуацию, она, хоть убей, не могла представить.
В театре она ни разу не посмотрела на сцену, не спуская глаз с Александрин, но падчерица была безмятежна, как парковая статуя. Лишь к концу первого действия она начала усиленно обмахиваться веером, шумно вздыхать, прикасаться к вискам – и в конце концов объявила, что дурно себя чувствует.
– Так поедемте же домой! К чему мучиться? Спектакль длинный, до конца ещё долго, вы не выдержите…
– Не стоит, Вера Николаевна. Оставайтесь, я доберусь одна, с Сидором.
– Я поеду с Александрин, маменька! – обрадованно отозвался Сергей, уже изучивший все трещины в потолочной лепнине. – Уже поздно, а от Сидора опять подозрительно пахнет… Всякое может случиться.
– Что ж, езжайте, – неуверенно согласилась Вера. – Серж, я могу надеяться, что…
– Ни о чём не беспокойтесь, слушайте свою музыку! Александрин, обопритесь о мою руку… Кружится голова? Ничего, сейчас на морозе сразу станет легче! Прошу вас, идёмте. А Сидора, маменька, я пришлю за вами обратно.
Уже через минуту после их отъезда Вера пожалела, что приняла такое решение. Ей казалось, что всё это неспроста, что не стоило отпускать Александрин, что как бы она не выкинула чего, оказавшись одна в доме… Нет, не одна, но ведь Серёжа не в счёт… Он мужчина, слишком молод, ничего не поймёт, не почувствует… Несколько раз Вера уже готова была вскочить и мчаться домой, но Аннет и Коля с таким восторгом глядели на сцену и так искренне не замечали ничего вокруг, что она не решалась оторвать их от волшебного зрелища. «Боже мой, ну какая из меня мать этим детям?! – мучилась Вера, не в силах смотреть на фей и сильфид, порхающих по сцене. – Всё время делаю что-то не так… ошибаюсь, горожу глупость на глупость… Ведь уж какой раз не удаётся пристроить Александрин, просто руки опускаются! И это её спокойствие совсем не к добру… Вдруг сейчас дома с ней случится припадок, а Серёжа что сможет сделать? Домна – и та не умеет… Нет, надо возвращаться!»
– Аннет, право же, нам лучше ехать…
– Ах, маменька, сейчас, сейчас… Позвольте ещё хоть несколько минут! – умоляюще говорила Аннет, не отводя взгляда от сцены, и Вера снова огорчённо умолкала. В мыслях творился ералаш. Преступно хотелось оказаться у себя в спальне, закрыть глаза и провалиться в сон – а наутро чтоб не было ничего этого…
Дома оказались лишь за полночь: поднялась такая метель, что посланный за господами Сидор заблудился в переулках и подкатил к театру, когда разъезд был почти закончен. У промёрзших насквозь Веры, Коли и Аннет не было сил даже браниться. Дома, к счастью, всё оказалось спокойно: заспанная Домна доложила, что молодой барин и барышня прибыли «без ругательства», поужинали, разошлись по комнатам и сейчас, верно, досматривают седьмой сон.
– Спят? – Вера уже готова была облегчённо вздохнуть. – И Александрин? Домна, ты уверена? Заходила ли ты к ней?
– Никак нет, – пожала плечами Домна. – Вы ведь не изволили распорядиться, и Сергей Станиславыч тоже. А барышня сказали, что у них голова болит, закрылись и велели не тревожить.
Ни в словах, ни в тоне Домны не было ничего странного. Но сердце у Веры вдруг бухнуло так, что отдалось в висках. Видимо, она изменилась в лице, потому что Аннет, только что весело щебетавшая о балете, осеклась и взволнованно посмотрела на неё.
– Маменька, что с вами? Вам дурно?
– Ничего… Право, ничего. Аннет, зайдите, пожалуйста, к Александрин, посмотрите – всё ли спокойно.
Аннет, пожав плечами, ушла в глубь дома. Коля, помогая приёмной матери избавиться от шубы, внимательно следил за ней, и Вере стало совестно. «Господи… я уже и детей измучила своим вечным беспокойством! Чуть не утащила их из театра, а ведь для них это такое удовольствие! Скоро стану нервна, как классная дама, и начну нюхать соли по каждому поводу! Но как же прикажете ещё…»
Мысли Веры прервал истошный крик Аннет.
– Маменька!!! Александрин нет у себя!!!
Началось столпотворение. Горничная и поднятая с постели кухарка обшарили все комнаты, добрались до чердака и доложили барыне, что старшей барышни нет нигде – ни живой, ни висящей в петле. Последнее несколько обнадёжило Веру, которая была уверена, что Александрин сотворила с собой нечто непоправимое. Разбуженный Сергей сначала ничего не понимал спросонья. Затем, увидев заплаканные лица сестры и мачехи, сел на постели, начал усиленно вспоминать – и наконец твёрдо сказал, что Александрин, уходя к себе, была абсолютно спокойна. Кинулись во флигель, растолкали дворника. Тот лишь мотал головой и клялся, что никого не видел, не слышал и ворот никому не отпирал, да в них и не стучал никто. Помчались во двор – и не нашли никаких следов. И немудрено: на улице бесилась такая метель, что в минуту замело бы отпечатки ног даже роты солдат. Однако Коля, пролетев к крошечной калитке, ведущей из сада в проулок, обнаружил её незапертой.
– Боже мой, но куда же она пошла?.. – сквозь слёзы спрашивала Вера. – Одна, в такую пургу… Домна, ради бога, проверь – все ли вещи на месте? Подожди, я пойду с тобой! Господи, ведь я так и знала… Я этого ждала… С самого начала можно было предположить…
В комнате Александрин было чисто и прибрано. Все вещи остались на своих местах: это установила Аннет, в мгновение ока перерывшая сверху донизу и шкаф, и шифоньер, и небольшой секретер. Вера не помогала ей: навалилось странное, тяжёлое оцепенение, мешавшее не только делать что-либо, но и просто думать. Она даже не удивилась, когда Николай молча подал ей сложенный листок голубой бумаги. Его нашли под кроватью: видимо, туда бумажку снесло сквозняком. Словно в тумане, Вера развернула записку и прочла вслух торопливые, написанные по-французски строки:
«Мадам Тоневицкая, если вы читаете эти строки, значит, я уже стою пред алтарём с самым дорогим для меня человеком. Не пытайтесь разыскивать меня, я уже замужняя женщина. Наконец-то вы избавились от несносной, капризной, ужасной Александрин, ваша пытка закончена. Вы были вынуждены принять меня в семью из чувства долга. Я благодарна вам за то, что мне не пришлось умереть с голоду. Но позволить вам разрушить моё счастье я не могу. Вам неприятен господин Казарин, и вы всеми силами старались разлучить меня с ним. Сама мысль о моём счастье претила вам. Вы решились даже на отвратительные выдумки, которые я была вынуждена выслушивать от вас сегодня утром. Но, к счастью, я не настолько глупа, чтобы поверить вам. Алексей Порфирьевич любит меня, и я люблю его, и с этого часа мы вместе до самой смерти. Вы никогда не понимали меня и не испытывали ко мне ничего, кроме раздражения. Никому в вашей семье я не была дорога и всем только мешала: мне ежеминутно давали понять это. Полагаю, вы недолго будете горевать обо мне. А я буду счастлива рядом с любимым супругом, который обожает меня. Прощайте. Теперь уже не ваша Александрин».
– Боже, какая глупость… – медленно выговорила Вера, опуская руку с листком и глядя в растерянные, испуганные лица вокруг. – Какую невероятную глупость она сделала… Как он заморочил ей голову… Боже, что же теперь делать?!
– Боюсь, маменька, что делать что-то уже поздно, – негромким, злым голосом сказал Сергей. – И семья наша уже опозорена этой неблагодарной тварью. Чёр-р-рт, всего можно было ожидать от «уже не нашей Александрин», но такого!..
– Боже, но что же с ней будет?! – прошептала Вера, из последних сил удерживаясь от того, чтобы не разрыдаться на глазах у детей. – Бедная девочка… Глупышка… Он наговорил ей с три короба, дал все возможные клятвы… И она поверила… И всё это было нынче днём, почти у меня на глазах! Господи, как я могла оставить их наедине?! Надо найти её, вернуть любой ценой…
– Вернуть её теперь можно, полагаю, только одним способом: сделав вдовой, – хмуро заявил Сергей. – Я готов вызвать господина Казарина и с удовольствием его застрелить.
– Перестаньте, Серж!!! – взорвалась Вера. – До ёрничанья ли теперь! Боже, как я могла допустить… За пять лет мы так и не стали с ней близки… Девочка видела во мне лишь врага… И, верно, поэтому…
Голос её потонул в дружных, гневных воплях молодых Тоневицких.
– Маменька, как вы можете! – кричал Сергей. – Александрин испорчена насквозь, её характер ещё хуже моего! С ней никто и никогда не смог бы стать близким! Погодите, этот Казарин ещё будет предлагать вам немалые деньги, лишь бы вы приняли его жёнушку обратно!
– Маменька, Александрин всегда винила в своих бедах кого угодно, только не себя! – вторила ему Аннет. Её чёрные глаза метали яростные искры. – Кто и когда, скажите мне, давал ей понять, что она неугодна в нашей семье?! Вы носились с ней больше, чем со всеми нами, вместе взятыми! Вы не спали ночей, когда она была больна! Вы требовали и от нас жалеть её – несчастную сироту! Я выучилась наконец спокойно переносить её бесконечные истерики! А в ответ?!.
– Возможно, это и к лучшему – то, что она сбежала с этим аферистом! – обиженно заявил Николай. – Подумайте только – все кругом виноваты, все её не любили, не понимали! А сама-то она хоть кого-нибудь любила, кроме своей трепетной особы? Лицемерная кривляка!
– Браво, Колька! – поддержал его старший брат. – Наконец-то слышу от тебя здравое суждение! Маменька, эта мерзавка не стоит ни единой вашей слезы, не плачьте!
– Серж, Аннет, замолчите, вы глупы, – устало сказала Вера, бросая письмо Александрин на стол. Ей удалось наконец взять себя в руки, и глаза, которые она подняла на детей, были уже сухими. – Сейчас я возьму Домну и поеду на Воздвиженку – ведь там, кажется, живёт Казарин? Постараюсь найти его… Или узнать хоть что-то…
– Я поеду с вами, маменька! – сразу же вызвался Сергей.
Вера остановила его нетерпеливым жестом:
– Серёжа, для чего вы мне там? Останьтесь лучше с братом и сестрой, мало ли что может произойти? Вдруг Александрин одумается, вернётся? Должен же оставаться дома кто-то взрослый…
– …чтобы придушить эту поганку, если она осмелится ступить на порог, – согласился Сергей, и у Веры уже не нашлось сил, чтобы одёрнуть его. Безнадёжно махнув рукой, она пошла к дверям. С порога обернувшись, попросила:
– Аннет, прошу вас ещё раз пересмотреть вещи Александрин. Особенно бумаги, если таковые найдутся. Теперь уж не до нравственности… Возможно, у неё остались записки от этого господина, это может пролить свет… Впрочем, какая теперь разница…
– Не беспокойтесь, маменька, я всё сделаю, – Аннет метнулась обратно в комнату кузины. Братья устремились за ней.
Связка бумаг нашлась в дальнем углу секретера, перевязанная линялой розовой лентой. Аннет, распотрошив её и строго велев братьям отойти подальше («Это личная переписка, незачем смотреть на неё нам всем!»), быстро проглядела бумаги. Это были несколько писем от институтских подруг, переписанные от руки ноты модных романсов, узоры для вышивок, альбом с поблёкшими виньетками на обложке, исписанный стихами и пожеланиями, и потрёпанный сонник мадам Матиссо без начала и конца. Аннет отложила это всё в сторону и взяла в руки распечатанный конверт, лежавший в самом низу. Поднесла его к свече – и тут же удивлённо воскликнула:
– Ой… Это же мне!
Сергей и Николай непонимающе переглянулись. Аннет смотрела на них растерянными глазами.
– Посмотрите… адрес-то! Смоленская губерния, Гжатский уезд, Бобовины, Тоневицкой Анне Станиславовне! Почему это письмо у Александрин? И распечатано! И почерк незнакомый…
– А вот мне он весьма знаком, – медленно сказал Сергей, поднимаясь и глядя на пожелтевший конверт такими глазами, что Аннет испугалась.
– Серёжа, что с тобой? Отчего ты так смотришь? Чьё, по-твоему, это письмо?
– Это Варина рука, – всё тем же странным, отстранённым голосом выговорил он. – Поверь, я знаю. Я мильон раз перечитывал и пересматривал её письма ко мне. Сестрёнка, доставай скорей!
Аннет неловко вынула письмо из надорванного конверта. И сразу же на пол выпала ещё одна бумага. Сергей быстро нагнулся и поднял её.
– Это мне, – сказал он. Отошёл в дальний угол комнаты, захватив с собой свечу, сел в глубокое кресло и погрузился в чтение. Аннет, переглянувшись с Колей, развернула собственное письмо и начала читать вслух.
Письмо было писано Варей княжне Аннет почти два года назад. Варя посылала поклоны из Москвы, куда только что прибыла с отцом, описывала здешние храмы и дома, радовалась тому, что быстро удалось снять дешёвую комнату, а у тятеньки уже приняли несколько работ в местную лавку. В конце шли бесконечные поклоны и благодарности и барышне, и барыне Вере Николаевне, извинения за то, что уехала не простившись, и обещания писать непременно. Закончив читать, Аннет подняла изумлённые глаза на младшего брата.
– Так вот почему… – шёпотом сказала она. – Вот почему Варя была так удивлена тогда… Помнишь? Мы её наперебой упрекали, что она не писала… А вот же письмо! Разумеется, она, не получив ответа, не решилась написать ещё раз… Это на неё похоже. Я ведь до сих пор для неё «барышня», а уж сколько раз прошено было запросто называть… Но почему это письмо у Александрин?! И распечатано – стало быть, она его читала! Что за корысть ей была прятать Варины письма? Ничего не понимаю… Право, ничего! Может быть, распечатала нечаянно, а потом просто позабыла отдать? Как оно вообще у неё оказалось? Почту всегда передают в руки маменьке!
– Вовсе не всегда, – подумав, возразил Коля. – Сколько раз случалось, что соседи привозили! Были в уезде и по доброте душевной получали почту разом на всех соседей на двадцать вёрст вокруг, а потом верховые развозили! Встретил такой посланник нашу Александрин на прогулке в чистом поле – и отдал письма, радуясь, что не скакать лишних три версты!
– Ты прав, верно… Но всё равно ничего не понятно.
– А вот мне понятно всё, – послышался сдавленный от гнева голос из угла, и Сергей, сжимая в кулаке своё письмо, сорвался с места. Едва увидев его лицо, Аннет встала тоже.
– Серёжа, на тебя взглянуть страшно! Что там, в твоём письме?!
– Ничего особенного, – сквозь зубы выговорил он. – Ничего… Боже, КАКАЯ ТВАРЬ!
– Кто?! Варя?!
– Ваша драгоценная Александрин!!! – заорал Сергей так, что свечные язычки судорожно забились, грозя погаснуть. – И не смотри на меня так, это самое подходящее слово! Всегда ждал от этой гусеницы подлости, но такой!!! Я два года ждал этого письма! Изо дня в день сходил с ума, не понимая, отчего Варя мне не пишет! Не знал куда кидаться и где искать! Да ведь и искать ехать не мог, потому что уже служил! Чёртова… – тут он выругался так, что Аннет, пискнув, зажала руками уши, а Коля вскочил:
– Серж, здесь сестра, успокойся!!!
– Прости… Аннет, прости, – через силу выговорил Сергей, обеими руками взъерошивая волосы и принимаясь ходить по комнате большими порывистыми шагами. – Я не должен был… Но какова мерзавка! Её счастье, что она сбежала со своим обожаемым женишком, не то… Я, пожалуй, готов ему руку пожать! Ведь, не уволоки он её нынче под венец, я бы этого письма Варенькиного и в руках не держал! Чёр-р-т, что же делать теперь?! Я должен немедленно… – не договорив, он вылетел из комнаты и метнулся в прихожую.
– Серёжа, ты с ума сошёл?! – Аннет наконец опомнилась и кинулась за братом. – Куда ты?! Посмотри на часы! Полночь давно минула! Не хватало ещё Варю поднять среди ночи и напугать до смерти! И маменька расстроится, узнав, что ты умчался куда-то в метель! Она ведь вот-вот вернётся, может быть, с новостями! Возможно, ты будешь ей нужен! Серёжа, ради бога, приди в себя! Наутро ты сходишь к Варе и объяснишься с ней спокойно! Я уверена, она поймёт! Ведь виноват здесь не ты, а Александрин, и…
– Да нет, сестрёнка, – со странной усмешкой выговорил Сергей, глядя мимо испуганной Аннет на младшего брата. – Я виноват так, что… Впрочем, ты права. Час уже поздний. Вот что, пойду-ка я спать. Здесь всё равно больше нечего делать.
Он подхватил со стола письмо Вари и вылетел из комнаты. Оставшись одни, Коля и Аннет переглянулись.
– На нём просто лица нет… – пробормотала Аннет. – Не хватало ещё, чтобы и Серёжа наделал глупостей, как он это умеет. Nicolas! Ты, я уверена, знаешь, что произошло у них с Варей! Не смей отворачиваться, знаешь! Варя ведь любит его по-прежнему! У неё даже голос по-другому звучал, когда речь зашла о Серёже – там, на этой её выставке! И с тех пор она так ни разу к нам и не зашла, хотя мы с маменькой приглашали наперебой! Я даже обиделась, признаться, немного! Ты расскажешь мне или нет, что там стряслось, изверг?!
– Аннет, я, право слово, не знаю ничего! – прижал руку к груди Николай. – Когда это Серж со мной откровенничал? Ты бы спросила его сама… Тебе он, по крайней мере, леща не отвесит.
– Боже мой, как же глупы и грубы все мужчины! – всплеснула Аннет руками. – И как это только замуж выходят по доброй воле?! Будто нет занятий интереснее… Вот и думай теперь что хочешь! И помочь ничем нельзя! Скорее бы вернулась маменька! Надо будет всё ей рассказать, и…
– Думаю, не стоит, Аннет, – медленно сказал Николай. – Серж, если сочтёт нужным, сам обсудит это с маменькой. А если нет… Нас с тобой это в любом случае не касается.
– Но как же?.. – беспомощно начала было Аннет. И умолкла, схватившись за голову. – Боже, ну и день сегодня… Ну и денёк… Брависсимо, Александрин!!!
Обычно Андрей Сметов просыпался в своей комнатушке под самым чердаком от пронзительного холода. Но сегодня его разбудили сильные удары кулаком в дверь и зычный голос:
– Господин Сметов! Вы дома? Сделайте милость, откройте!
– Кого там черти принесли? – весьма невежливо пробурчал Андрей, глянув в заметённое оконце. Там едва-едва пробивался блёклый свет, из чего студент заключил, что час ещё ранний. Ночью он почти не спал: одолевал кашель. К тому же ещё поднялся жар, что было совсем некстати. Андрей просто не мог позволить себе расхвораться: с самого утра нужно было бежать по урокам. Денег в кармане потрёпанной шинели оставалось ровно восемь копеек.
– Откройте, чёрт возьми, сколько можно стучать?!
– Вот ведь нелёгкая… Подождите, сударь, сейчас отопру! – Андрей, превозмогая озноб, через силу выбрался из-под шинели, которую обычно использовал вместо одеяла. Комната за ночь выстудилась так, что зуб на зуб не попадал. Наспех попрыгав и помахав руками, чтобы согреться, Андрей замотался в шинель и пошёл к двери.
На пороге, весь засыпанный снегом, стоял князь Сергей Тоневицкий.
– Вы меня не узнаёте, господин Сметов? – не здороваясь, спросил он.
– Отчего же… У меня хорошая память на лица, – помедлив, отозвался Андрей. – Чему обязан?.. Впрочем, входите. У меня, правда, ненамного теплее, чем снаружи, но, кажется, где-то были два полена… И том Гегеля для особого случая.
Поленья и Гегель нашлись под кроватью и немедленно отправились в печурку. Через четверть часа хозяин и гость перестали стучать зубами, и Андрей, кое-как справившись к приступом кашля, предложил кипятку.
– Спасибо. Не хотелось бы злоупотреблять вашим гостеприимством. Хватит того, что я вас с постели поднял, – отказался Сергей. Лицо его было бледным, под глазами легли тени, и Андрей смотрел на нежданного гостя с настороженным любопытством.
– Итак, князь… Вы же не просто так пришли отдать мне визит? Что произошло?
– Я не могу найти Варю, – коротко сказал Сергей. – Я только что был на Полянке, в доме этого купца Емельянова. Боюсь, что переполошил всех спозаранку… Там, кроме главы семейства, никто в такой час, похоже, не встаёт. Насилу добился, что Варвара Трофимовна там более не живёт и съехала неделю назад, а куда – не сказала. Тогда я вспомнил о вас… Оказалось, что и вы тоже съехали, причём не заплатив за два месяца. На вас там очень сердиты. Куда вы отправились, разумеется, никто не знал. К счастью, меня уже на улице догнала какая-то девица и поведала, что господин Сметов перебрались на Дмитровку. И вот я здесь. Всю улицу обошёл, прежде чем мне указали на ваш чердак.
– Похвальное усердие, – без тени улыбки заметил Сметов. – Так вы ищете Варвару Трофимовну? Жаль, однако, что вы так поздно вняли моему совету.
Лицо Сергея окаменело. Казалось, он вот-вот выругается, встанет и уйдёт прочь. Но он сдержался и сквозь стиснутые зубы выговорил:
– Я никак не мог быть здесь раньше. На другой день после нашего с вами знакомства я был вынужден отбыть в Калужскую губернию по делам семьи. Поверьте, это нельзя было отложить: я выполнял поручение матери. Вернулся лишь вчера. И сразу же, как вы можете видеть… Андрей Петрович, куда уехала Варя? И что стряслось такого, что она среди зимы неожиданно отбыла из Москвы? Куда и от кого она снова бежит?
– А я, признаться, не замечал в Варваре Трофимовне склонности к бегству, – невинным голосом заметил Андрей.
– Не могли бы вы оставить этот тон?! – взорвался Сергей. – Поверьте, если бы у меня был другой выход, я не искал бы вашей помощи и… – он умолк на полуслове, потому что Андрей захлебнулся кашлем, и на этот раз ему не удалось подавить приступ.
– Вы совсем больны, зачем вы живёте здесь? – с досадой спросил Сергей, когда его собеседник отдышался и извиняющимся жестом прижал руку к груди. – Здесь же спать невозможно, в холодище таком!
– Право? А англичане вот рекомендуют! – усмехнулся Андрей. – Существует йоркширская система, согласно которой холодный климат весьма укрепляет здоровье и лёгкие!
– Вам угодно разыгрывать из себя шута? – холодно поинтересовался Тоневицкий.
– Отвечая на глупый вопрос, поневоле становишься шутом, – парировал Андрей – и тут же снова закашлялся. Встав, долго пил воду из остывшего чайника.
Сергей ждал, угрюмо глядя в заиндевевший угол у двери. Чуть погодя Сметов превёл дыхание и сказал:
– Думаю, что помочь вам в ваших поисках я вряд ли смогу. Дело в том, что Варвара Трофимовна уехала в Петербург. Это всё, что я знаю, ибо писем от неё ни мне, ни её подругам ещё не было.
– В Петербург? Но, чёрт возьми, зачем?!
– Затем, что её выставка имела большой успех. Через две недели после неё у Варвары Трофимовны были господа из художественной Академии и княгиня Беловзорова. Её вы, надеюсь, знаете?
– Евдокию Павловну? Разумеется! – Сергей изумлённо смотрел в безмятежное лицо Сметова. – Но, позвольте… Какое же дело у княгини может быть к Варе?
– Ну вот, а говорите, что знаете Беловзорову! Княгиня, насколько даже мне известно, записная меценатка. Отыскивает таланты и всячески им покровительствует… В том числе, как это ни странно, и деньгами снабжает. Картины Варвары Трофимовны произвели на неё такое впечатление, что княгиня немедленно скупила всё, что уцелело после выставки, и рекомендовала художнице ехать в Италию… Для чего и предложила стипендию. Так что, думаю, Варвара Трофимовна сейчас уже на пути в Рим.
Сергей молча, пристально смотрел на него.
– Вы не разыгрываете меня, Андрей Петрович? – серьёзно спросил он.
– Ничуть, – так же серьёзно ответил Андрей. – И, поверьте, мне было очень жаль с ней расставаться. Что-то мне подсказывает, что вряд ли Варвара Трофимовна появится ещё в моей жизни.
Сергей, сдвинув брови, смотрел в заснеженное окно. Андрей долго ждал, не сводя с него взгляда, но Тоневицкий молчал.
В печи треснуло полено, и Сергей, вздрогнув, повернулся к хозяину.
– Что ж… Прошу меня извинить за нежданный визит. Я вам очень благодарен. – Он встал, не глядя взял со стола фуражку.
– Думаю, вы сможете отыскать Варвару Трофимовну через княгиню Беловзорову. – Андрей поднялся вслед за гостем. – Коль скоро вы хорошо знакомы…
– К сожалению, у меня нет более времени, – отрывисто сказал Сергей. – Через два дня я обязан быть в полку, мой отпуск окончен.
Андрей пожал плечами. Помолчав, медленно, почти нехотя сказал:
– Может статься, что Варвара Трофимовна напишет мне или своим подругам. В таком случае я готов известить вас, князь. Разумеется, если вы потрудитесь оставить адрес…
– Потружусь. – Сергей вытащил из кармана маленькую записную книжку. У Сметова нашёлся огрызок карандаша. Тоневицкий быстрым косым почерком набросал несколько строк, вырвал страницу и протянул Андрею.
– Весьма вам благодарен, – повторил он. Взял с подоконника шинель и шагнул к двери.
Уже с порога Тоневицкий обернулся. Посмотрел синими холодными глазами в тёмное, осунувшееся, заросшее щетиной лицо студента.
– И всё же я не могу понять, господин Сметов… Ведь помогать мне – совсем не в ваших интересах. Я, признаться, ни на что не рассчитывал… Нанёс вам визит единственно от отчаяния. Зачем же вы?..
– Да всё затем же, князь, – скучным голосом отозвался Андрей, топая ногой на мышь, высунувшуюся из норки в углу. – Кыш, проклятая! Уже и днём житья от них нет… И не мёрзнут ведь! Мне дорого счастье Варвары Трофимовны, только и всего. А любит она вас. Почему-то. Вот это, на мой взгляд, гораздо менее доступно для понимания. Впрочем, кто их, женщин, разберёт… Прощайте.
– Честь имею, – отрывисто произнёс Тоневицкий. Повернулся и исчез в темноте ледяного коридора.
Вечером следующего дня, когда разошедшаяся метель вновь заваливала снегом улицы Москвы, в спальню княгини Веры осторожно постучали.
– Кто это? Входите, пожалуйста!
Дверь открылась, вошёл Сергей – в полной форме своего гусарского полка.
– Через час я еду, маменька. Зашёл проститься. Право, стыдно оставлять вас одну во всём этом, но что ж поделать… До сих пор в голове не укладывается! Ну и отколола номер кузина, нечего сказать!
– Не забивайте себе голову, Серёжа, – устало сказала Вера, протягивая руку и приглашая пасынка сесть рядом. – Это полностью моя вина. И не спорьте, вы слишком молоды, чтобы понимать такие вещи. А я… Что ж, я, видимо, действительно слишком мало любила Александрин. У меня не хватило ни ума, ни такта, ни опыта, чтобы помочь ей, удержать от глупостей… Впрочем, что уж теперь говорить… Снявши голову, по волосам не плачут.
Сергей молчал, едва сдерживая негодование. Утешить приёмную мать он не мог, чувствовал, что не найдёт ни нужных слов, ни доводов, – и именно это бессилие мучило сильней всего. Ночной визит княгини Веры на квартиру Казарина ничего не дал: заспанный дворник лишь подтвердил, что «барин второго дня съехамши с концами и со всеми расплатимшись». Ни вестей, ни писем от Александрин больше не было.
– Возможно, маменька, это всё и к лучшему? – осторожно предположил Сергей. – Как знать, может, господин Казарин и впрямь составит счастье кузины. Они с ней так трогательно похожи в своей глупости! Я знаю, вам он не нравился… Да и кому в здравом уме он мог понравиться? Но можете ведь и вы ошибаться?
– Боюсь, что всю свою жизнь я только это и делаю, – без улыбки отозвалась княгиня Вера. Помолчав, вполголоса спросила: – Может быть, вы мне всё-таки расскажете, что у вас стряслось сегодня утром?
– О чём вы, маменька? – растерянно спросил Сергей, решительно не ожидавший никаких расспросов.
– О том, что весь день вы сам не свой, Серёжа. И это никак не может быть объяснимо побегом Александрин. Я понимаю, что времени крайне мало, вам пора ехать… Но, может быть, я ещё успею чем-то помочь вам?
Сергей молчал, упорно глядя в окно, за которым плясала метель. Рука его машинально сжимала и разжимала медную шишку на спинке старого стула. Вера какое-то время внимательно наблюдала за его действиями. Затем сказала:
– Насколько я помню, эта шишка всегда держалась на одном штыре и… ну вот! Нет-нет, дайте сюда, я знаю, как с ней нужно! Её ещё мои братья время от времени отламывали, так что… – Ловко прикрутив шишку на место, Вера погладила её глянцевитую поверхность и обернулась к пасынку: – Итак, Серёжа?
– Маменька, я, право… Не смею добавлять вам беспокойства. Неужели вам мало Александрин?
– Так вы опять что-то натворили? – ахнула она. – Серёжа, господи… Когда вы только время находите?!.
Сергей не улыбнулся. По-прежнему глядя в окно, спросил:
– Маменька, скажите правду, – я и впрямь непроходимый болван?
– Вы вовсе не глупы, – помолчав, ответила Вера. – И поверьте, это правда. Я вас знаю с детских лет и имею право это сказать. Но вы вспыльчивы и часто поспешно судите о людях. Поэтому и с Александрин вы никогда не могли найти общего языка.
– Да кто с ней мог найти общий язык, скажите на милость?! – взорвался Сергей. И тут же, осёкшись, смущённо усмехнулся: – Ну вот… вы и правы. Но не волнуйтесь: я никому не назначил дуэли и не проиграл в вист приданое Аннет.
– Это уже немало, – с улыбкой заметила Вера. – Всё прочее, я надеюсь, поправимо. Говорите же, Серёжа, я слушаю вас.
Четверть часа спустя княгиня Вера взволнованно ходила по кабинету, а Сергей сидел, глядя в пол, и вертел в пальцах вновь отломанную от стула шишку. Он услышал, как вскоре перестало шуршать платье: мачеха остановилась рядом с ним. На него пахнуло привычным запахом вербены. Сергей ещё ниже опустил голову… И вздрогнул от неожиданности, когда тёплая ладонь легла ему на затылок.
– И всего-то, маменька? – невесело усмехнувшись, спросил он. – Я настолько безнадёжен, что вы и бранить меня уже не хотите?
– Да ведь вы и так наказаны, Серёжа, – вздохнула княгиня Вера, гладя склоненную голову пасынка. – Куда уж тут ещё с выговорами… Тем более что и пользы всё равно никакой. Боже, и ведь как глупо, как по-детски… Отчего же вы не рассказали мне обо всём сразу? Сразу после выставки, когда вам пришла в голову такая пошлейшая нелепость на Варин счёт?
– Признаться, не видел нужды это обсуждать…
– Не видели? А ведь это всё могло выясниться очень легко! Если бы вы согласились тогда поехать с нами на выставку! Но вы предпочли замкнуться дома в гордом молчании – а наутро, ни с кем не поговорив, кинуться туда и сгоряча оскорбить Варю! Варю, которую вы любите до смерти! Господи, Серж, как это на вас похоже! Когда же вы переменитесь наконец, когда повзрослеете?.. Бедная Варя, она ведь ничем не заслужила… Впрочем… Надеюсь, что судьба её сложится счастливо. Насколько я знаю Долли Беловзорову, она не забавляется своим покровительством, а всерьёз поддерживает талантливых людей. Такие меценаты – редкость.
– Так вы полагаете… Что мне надеяться более не на что? – медленно спросил Сергей.
– Право, не знаю, – честно ответила Вера. – Вы не виделись с Варей несколько лет. И возникли в её жизни вновь… не лучшим способом. Ваше положение теперь незавидно.
– Если бы я мог просить вас… Маменька, вы ведь могли бы написать Беловзоровой, вы же близко знакомы?
– Разумеется. Шесть лет бок о бок в Екатерининском институте.
– Ну вот! Нельзя ли узнать хотя бы адрес Вари? Я написал бы… Да, чёрт возьми, подал бы в отставку и поехал туда! И уж тогда!..
– Вы опять намерены идти напролом?
– В любви только так и можно! – убеждённо сказал Сергей, впервые подняв на мачеху глаза.
Вера только головой покачала.
– Ничему-то вас не учат ваши истории! Хотя… Возможно, вы и правы в чём-то. Возможно… – она, не договорив, задумалась, глядя в заснеженное окно и не замечая удивлённого взгляда пасынка.
Зычный голос Сидора, раздавшийся со двора, вывел Веру из оцепенения.
– Барин, лошади готовы!
– Вам пора. – Вера обняла Сергея, поцеловала в голову. – Напишите мне сразу же по приезде. Я обещаю, что сделаю всё возможное и сразу же извещу вас. И, если позволите, сама также напишу Варе.
– Ни за что на свете! – вскинулся Сергей. – Не хватало только, чтобы вы просили за меня прощения!
– Ну, это вы, смею надеяться, сделаете сами. – Вера с улыбкой протянула ему руку. – Подите проститесь с братом и сестрой – и поезжайте с Богом. И помните – я вам мать и я люблю вас. И буду любить всегда, что бы ни случилось.
Сергей молча склонился над её рукой, выпрямился и пошёл было к порогу, но, вспомнив о чём-то, вернулся.
– Маменька, последняя просьба. Простите, знаю, что уж замучил вас, но… Утром я был у того господина Сметова, друга вашего брата. Помните, он наносил вам визит не так давно?
– Прекрасно помню. Как здоровье Андрея Петровича?
– Отвратительно, – прямо сказал Сергей. – Живёт на каком-то чердаке с замёрзшими мышами, пьёт кипяток и кашляет… Ужасно кашляет! По-моему, всерьёз болен. Я подумал было оставить ему денег, но…
– …но он не принял бы их от вас, – закончила Вера.
Сергей молча кивнул.
– Хорошо, что вы сказали мне об этом, Серёжа. Где это?
– Дмитровка, дом Галанина.
– Завтра же с утра поеду туда и постараюсь сделать всё, что в моих силах. Надеюсь, господин Сметов не откажется принять помощь от сестры Михаила Иверзнева. Только бы не оказалось слишком поздно… – Вера горько улыбнулась. – Почему-то всё в моей жизни оказывается слишком поздно!
– Маменька?!.
– Ничего, Серёжа. Это пустое. Поезжайте, мой мальчик. Храни вас Господь.
* * *
Через завод медленно катились последние зимние дни. Они были морозные, лютые. От холода стыло дыхание, стоило лишь выскочить за порог. Больничный барак был переполнен обмороженными. Сиделки сбились с ног, оттирая страдальцев гусиным жиром и Устиным снадобьем, настоянным на бодяге. Устя поначалу переживала, что средство, испытанное в России – при куда более мягких морозах, – не сработает в матушке-Сибири. Однако бабкина травка не подвела: до серьёзных увечий от мороза так и не дошло. А иногда выползала из-за медвежьих хребтов гор огромная, тяжкая, иссиза-чёрная туча, и несколько дней над заводом бесилась такая метель, что, казалось, посёлок вот-вот сдёрнет сумасшедшим ветром с места и помчит, кувыркая, прочь… В окна было не видать ни зги, только колыхалась и металась белая завеса. В трубе визжало так, что Устинья, вздрагивая, крестилась:
– Тьфу, нечисть… Ровно бесу хвост придавило!
– Не пужайся, Устя Даниловна! – уговаривали, скалясь со своих нар, обмороженные и покалеченные каторжане. – Дело такое – Сибирь! По-другому не зимуем! Тебе не помочь ли? А то мы мигом…
– Лежите уж, болящие! – отмахивалась Устинья. – Помощнички нашлись! Коли сильно здоровы – так ужо на работу Михайла Николаич отпустит!
– А то ж ведь к вечеру вусмерть уваляешься, Устя Даниловна…
– Вам-то что за печаль? Устану – бухнусь спать… Да и что тут за работа, чтоб уставать-то?
Устя долго недоумевала по поводу такой заботы со стороны больных, пока её со смехом не просветила Катька:
– Дурная, они ж боятся, что ты умаешься через край да всамделе спать повалишься!
– Знамо дело! А что ж мне – «Барыню» плясать на ночь глядя-то?
– Да не плясать, а сказки свои говорить! Ты этим варнакам раз сказала, другой сказала… Ну, вспомни! Когда Торбыча с надорванным пузом приволокли да он от боли волком выл… Ты же возле него всю ночь напролёт тогда просидела, зубы ему заговаривала!
– Ну а что ж делать-то было, коли крещёный человек мучится?!
– Так ты говорила, а прочие-то тоже слушали! Вся больничка не спала! Я и сама глаз не сомкнула! Николи таких сказок не слыхала, даже от прабабки – а она-то знатно рассказывать могла! И про лешего-то с лешачихой, и про то, как шишиги болото кроили, и про водяного с дочерьми… Отколь ты это берёшь-то только? Вот им теперь и неймётся! Так что не мучь общество, не умаивайся до смерти!
– Тьфу, нашли потеху… – бурчала Устинья, отмахиваясь от буйно хохочущей цыганки. – Этого мне только недоставало – кажин вечер этих кромешников забавлять!
Однако просьбе «общества» пришлось внять. Теперь поздним вечером, избавившись от работы, Устинья сидела посреди лазарета и, стараясь не клевать носом, рассказывала свои сказки. Стояла мёртвая тишина, которую нарушали лишь вой метели за окном да изредка – тихий «плюх» прогоревшего уголька, упавшего с лучины в кадку с водой. Тусклый свет метался по лицам каторжан. То и дело у кого-то срывался восхищённый или испуганный вздох. Несколько раз Устинья сама не замечала, как засыпала, а наутро, проснувшись в каморке рядом с Катькой, недоумевала:
– Да как же это я дошла-то?! И не вспомню…
– Куда, изумрудная моя, «дошла»?! – хохотала цыганка. – Тебя дядя Репка с Сёмкой Хвостиком на руках отнесли! Как царицу! Да ещё и на цыпочках, чтоб не потревожить! «Устя наша Даниловна умаялась, спит! Мы её осторожненько, чтоб не вздрогнула, до постели доставим. А вы, дьяволы, чтоб тихо тут!..»
– Тьфу, вот ведь срам! – хваталась за голову Устя.
Катька только смеялась:
– Ха, милая моя! Ты им теперь только моргни – на край света донесут, не поморщатся! Тоска ведь смертная здесь по вечерам… Одна забава – карты да песни, так ведь мало кто умеет-то! А уж сказки по-настоящему сказывать – это и вовсе не повстречать! Так что мы им тут с тобой – главная забавуха!
Цыган Яшка уже был здоров, вновь закован, ходил хромая – и был отправлен начальством на завод. Изредка Катька передавала Устинье весть о том, что братья Силины живы и здоровы, работают, и начальство ими вполне довольно. Устинья спокойно выслушивала, кивала, молчала. Катька недовольно сопела. Несколько раз пыталась от души высказаться, но прохладный взгляд подруги останавливал её на полуслове.
Ефим не появлялся, не передавал ни приветов, ни поклонов. Устинья не ходила в мужской острог. Однажды в лазарет заглянул Антип Силин, и они с Устей долго, тихо и грустно говорили о чём-то, пока Катька в сенях забалтывала Антипова конвоира: «А будет тебе, вскорости, родненький, большая от начальства награда и в чину повышенье, да ещё какая-то краля ждёт… Не жена, нет… А только счастливый будешь, и всё шито-крыто окажется! Ты мне верь, я-то знаю!» О чём говорили Антип и Устинья, она после так и не дозналась: оба молчали.
А потом появилась Жанетка, прибывшая на завод с новой партией. Это была московская девица «из заведения», попавшая на каторгу из-за того, что в бордельной драке хватила бутылкой по голове важного государственного чиновника. Голова оказалась некрепкой. Слуга отечества отправился на тот свет, а Жанетка – по Владимирке. Это была красивая, наглая и шумная девка лет двадцати с роскошной грудью, которую не мог спрятать даже грубый сарафан, с вьющимися от природы каштановыми кудрями, с нахальными, всегда презрительно прищуренными глазами и коротким ножевым шрамом на щеке: след давней драки по ревнивому делу. В женском остроге её побаивались. Жанетка не задумываясь бросалась в свару по самому ничтожному поводу, била сильно и не жалея, а когда её оттаскивали, вопила и ругалась так, что было слышно, по уверениям очевидцев, даже в карских рудниках. Не боялась её только Катька, которая сама была способна разбить в кровь чью угодно физиономию. Жанетка, видимо, чувствовала это и не рисковала связываться с лихой цыганкой: обе смутьянки держали вежливый вооружённый нейтралитет.
Пакт о ненападении первой нарушила Катерина – в тот день, когда стало известно, что Жанетка по ночам бегает к Ефиму Силину. Тайны из этого никто не делал. Жанетка сама хвасталась тем, что прибрала к рукам «этакого кавалера видного». Сидя по утрам на нарах в женском остроге, она потягивалась в нарочитой истоме:
– Ох, девки, хорошо-о-о… Я такого и в городе не пробовала, не довелось! Хлипковаты тамошние аманты-то! Стоило из-за этого в Сибирь прогуляться! Дура ты, Устька… Пошто ломалась-то? – с почти искренним сочувствием поинтересовалась она у Устиньи, которая, не меняясь в лице, снимала с верёвки у печи пучки сухих трав. – Свято место пусто не бывает, гожий мужик на дороге долго не проваляется! Кого строила-то из себя? Он, бедный, без бабы вовсе изголодался, а мне нешто хорошему человеку жалко? Приголубила по доброте сердечной… Ну и сама плезир получила такой, что и не ждала не ведала! А ты, засуха, фершалом утешайся! На безрыбье и рак годится! Что Ефимушке с тебя-то?.. Ой, девки, каково худо, когда баба – дура и счастья своего не понимает! Вовсе тогда…
Договорить Жанетка не успела: мимо пронёсся короткий ураган, и утробно рычащая Катька залепила счастливой любовнице кулаком в переносье. Поднялся вой, визг, крики. Катька с Жанеткой, сцепившись, покатились по полу. Когда через минуту в барак вбежали солдаты, цыганка уже сидела верхом на поверженной противнице и, зверски оскалившись, молотила её кулаками. Женщин растащили. Катька отделалась синяком и вырванным клоком волос. Жанетка же была вся в крови и лишилась двух зубов. Катьку уволокли в «секретку», и в женский острог цыганка вернулась лишь четыре дня спустя. Устиньи ещё не было: она задерживалась в лазарете.
Войдя, Катька первым делом нашла глазами Жанетку и сквозь зубы холодно предупредила:
– Ещё хоть раз, изумрудная моя, язык свой змеячий при Устьке распустишь – убью! Не шутя говорю, пусть люди слышат. Ножом до сердца достану враз. Мне не впервой.
– Да что тебе опосля этого будет-то, родная? – подбоченилась Жанетка, оскаливаясь чёрной дыркой на месте передних зубов.
Катька в ответ улыбнулась так, что каторжанкам сделалось нехорошо.
– Худо будет. Да только ты-то этого, ласковая моя, не увидишь! Вовсе ничего уже не увидишь, кроме крышки гробовой да червей могильных. – Она подошла вплотную к Жанетке всё с той же недоброй улыбкой на лице, и та невольно отшатнулась. – Я, девочка, сказала, а ты меня услышала. И люди вокруг слышали. Подолом тряси сколь хошь, за это не тебя бить надо… Но упаси тебя Христос хоть слово Устьке сказать! Порешу.
– Дура бешеная… – процедила Жанетка, но было видно, что она испугалась.
В мёртвой тишине Катька переоделась, бухнула кулаком в дверь, призывая своего конвоира, и отправилась на работу в лазарет.
– Дура ты, и боле ничего, – грустно сказала Устинья, увидев подругу. – Ну зачем, Катька? Только зря столько дён на цепи промучилась. И мне тут без тебя тяжко было. И Михайла Николаич сердился… Что толку? Разве ж у этой Жанетки совесть есть? Разве же у Ефима стыд когда был? Только и…
Она не договорила. Тяжело осела на лавку, замотала головой, давя рыдания. Катька живо подсела к ней, обняла, крепко прижала к себе:
– Вот так, всё легче будет… Ты плачь, миленькая, как не плакать по жизни такой… Что ж ты, всамделе, сама-то молчала, а? Я ведь не сразу вмешалась! Поначалу ждала, что ты эту лахудру городскую за косу схватишь. Ты ведь её сильнее вдесятеро! Сама же мне сказывала, что в деревне мужика пьяного шутя заломать могла! Эта курвища только наглостью берёт, а в доброй драке гроша ломаного не стоит! Чего ж ты молчала, как нипричёмошная?
– Много чести будет – косы ей рвать… – сквозь слёзы прошептала Устя. – Да и, видать, права она. Сама я дура. Говорил Ефим – уходи с лазарету, а я…
– Чего-о?! – загремела, вскочив на ноги, Катька. – Защищаешь его ещё?! О-о-о, да это не вы дуры, а я! Не того побила! С Ефима твоего начинать надо было, вот что!
– Воевал телятя с мишкой… – хмыкнула сквозь слёзы Устя. – И пошто Ефима ругаешь, когда у тебя свой такой же?
– Мой – цыган, ему можно! – преспокойно заявила Катька. – А вашим – нельзя! Вот как будешь-то теперь? Жена ведь ты ему!
– Была жена, да вся, видать, вышла. – Устинья с силой вытерла слёзы.
– Да поди хоть крик подыми! Неужто с рук спустишь?!
– Не хочу на людях срамиться, – отрезала Устя. – Да и не возьмёшь его криком никаким. Тем боле – бабьим. – Она снова тихо заплакала. – Катька, миленькая, да ведь он всю жизнь таким был… Делал что хотел… Тятька об него и вожжи и кнуты мочалил, всё в разум вгонял, а толку нет! Вгонять-то не во что! В голове пусто! Встряхнётся – и за старое… И с чего я взяла, что переменится? Всё тот же Ефим Прокопьич… Пусть его. Другим не будет.
Катька растерянно посмотрела на неё. Вздохнула, прошлась по комнате. Почесала голову под платком. Подумав, вновь села рядом с подругой и решительно обняла её за плечи.
– Ну, вот что… Убиваться тоже не след! Мужик есть мужик, все они одним миром мазаны. Погуляет – бросит. Что ему с той Жанетки, окромя титек? Ни ума, ни понимания. Да титьки и у тебя не хужей, просто ты их на заборе не развешиваешь!
– Сдурела, что говоришь-то… – невольно улыбнулась, представив себе такую картину, Устя.
– Знаю, что говорю! Погоди, схлынет с него дурь эта! Ещё придёт к тебе, в ноги повалится! – убеждённо пообещала Катька. – Ты мне верь, я знаю! Я всю жизнь бабам об их кобелях гадаю! И, главное – из головы выкинь, чтоб из больнички уходить! Что я тут без тебя делать буду, яхонтовая?! Сама подумай – сколько мы людей с тобой да с Михайлой Николаичем подняли! Кажин день – то обмороженные, то побитые, то порежут друг друга, недоумки, то на заводе что стрясётся… А Яшку моего кто бы на ноги поставил, кабы не ты?! Ворот-то крутить аль воду таскать любая дура здоровенная может, а людей-то подымать?!. На тебя весь завод молится! А она вон что вздумала – бросать всё да под мужнину дудку плясать!
– Положено ведь так…
– На селе у вас, может, и положено! А здесь Сибирь! Другая жизнь. Тут страшно, да иногда более по-человечьи, чем в деревнях-то ваших… Погоди – опамятуется твой Ефим, снова твой будет, куда денется! Где он ещё такую найдёт? Ты же лучше всех у нас! – Катька с улыбкой встряхнула подругу за плечи.
Но Устя отмахнулась, встала, вытерла остатки слёз и ушла в каморку. Там, оставшись одна, она тяжело привалилась к тёплому боку печи. С минуту стояла неподвижно, превозмогая подкатившую тошноту.
«Оно это… Как есть, оно! И мутит, и по утрам подняться невмочь… И голова кружится… Всё, как у других баб! И больше месяца уже… Господи, сказать бы ему! Знать должен, а там уж как сам решит… Господи, Богородица пречистая, помоги!»
Несколько дней спустя, поздним вечером, Устинья подошла к мужскому острогу. Караульный, попрыгивающий с ноги на ногу у входа, изумлённо воззрился на неё:
– Тебе куда на ночь глядя, девка?.. Ох ты… Устя Даниловна, никак? Твоего вызвать?
– Сделай милость, дядя Егоров, – шёпотом, не поднимая взгляда, сказала Устинья. – Вот, возьми, не побрезгуй…
Ей было нестерпимо совестно за то, что она должна, как последняя каторжная шалава, переминаться у мужского острога и совать пятаки караульному за то, чтобы повидаться с законным мужем! Но, пересиливая себя, Устя подошла ближе и протянула солдату нагретую в кулаке монету.
– И-и, убери от греха! – отмахнулся тот. – Что я – не помню, кто мне спину-то вылечил?
– Сейчас-то как? Не скрипит по новой? Не то зайди, вдругорядь натру!
– Слава богу – как у молодого, спасибо, дочка! Ты не стой тут на холоду, в сенцы запрыгни. А Ефимку я тебе сейчас выведу!
Однако спустя довольно долгое время Егоров вернулся один.
– Извиняй, Устька, – смущённо сказал он. – Не вышло ничего. Там твоего мужика всем острогом добудиться не могут. Почитай что полчаса старались! И трясли, и свистели над ним – никакого проку! У Антипа – и то ничего не вышло! На работе, что ль, умаялся всмерть?
– Всяко может быть, – глухо сказала Устинья, которая уже всё поняла. От горькой обиды ком встал в горле, и она едва сумела выговорить: – Спасибо, дядя Егоров. Пойду я…
– Может, передать что Ефиму-то?
Устинья обернулась. Прямо глядя на караульного полными слёз глазами, сказала:
– Передай, коль не в тягость, что боле не приду. Коли нужда будет – пущай сам в гости заглядывает.
Она повернулась и, старательно глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться на обледенелой дороге, пошла прочь. Солдат долго смотрел ей вслед, сокрушённо качая головой. А в остроге мужики наперебой удивлялись:
– Это как же крепко парень дрыхнет! Хоть колокольней его бей – не пошевелится! И вроде не сильней прежнего сегодня робили… Антипка, как думаешь – не захворал он?
– Может, и захворал, – сурово сказал Антип, поворачиваясь к лежащему ничком брату. – Годи храпеть-то, ушла Устька давно! Тьфу… Отхлестать бы тебя, аспид, да некому! Хоть завтра сходи до неё сам, совесть поимей!
Ефим не отозвался, не поднял головы.
За весь следующий день братья Силины не сказали друг другу ни слова. В лазарет к жене Ефим так и не пошёл. А вечером к нему явилась Жанетка, привычно сунув охраннику гривенник. Однако первым её увидел Антип. Не тратя лишних слов, он сгрёб испуганно завизжавшую девицу в охапку и аккуратно вынес из острога. Поставив Жанетку перед опешившим караульным, Антип велел:
– Ты, Фёдорыч, эту девку сюда не пущай. Коли она тебе гривенник давала, так я пятиалтынный дам. А хочешь – и полтинник. Только постарайся, чтоб и духу её здесь боле не было!
– Не будет, коль так… А брат-то твой знает? – растерянно спросил Фёдорыч, косясь на обиженную Жанетку.
– Узнает, – пообещал Антип, возвращаясь в острог. Прикрыл за собой дверь – и едва успел увернуться от летящего в лицо кулака. И сразу же ударил в ответ.
Дрались всерьёз, без слов, без жалости, без огляда. На окаменелое лицо Ефима с ледяными от ярости глазами страшно было смотреть. Задыхаясь от бешенства, он бил так, что оцепеневшие зрители каждый миг ждали смертного греха. Но Антип умело отклонялся и – молча бил в ответ. Трещали старые доски нар. Сыпалась труха из бревенчатых стен, уже забрызганных кровью, летел на пол сброшенный каторжанский скарб.
Первым опомнился цыган:
– Эй, Ефим! Антип! Рехнулись?! Да чтоб мне лопнуть, поубиваете друг друга! – Он кинулся было между братьями, но очередной удар Ефима отправил его к стене. Вскочив, Яшка бросился снова – и снова полетел в сторону. На этот раз он сильно ударился головой об угол и, сморщившись, схватился за вздувшуюся шишку. Больше вмешаться никто не рискнул. Из угла, где спал атаман Берёза, доносился ровный густой храп.
Наконец Ефим прицельно ударил кулаком в голову брату, но Антип успел отпрянуть в сторону. Чудовищной силы удар пришёлся на угол печи. Раздался страшный треск. Полетели кирпичи, глиняная крошка – и повалил густой чёрный дым.
– Ой, крещёные, посетил нас Господь! – заголосил кто-то. – Ой, гори-и-им!!!
Дым мгновенно заполнил всю комнату, по полу заскакали красные угольки – и в этот миг с нар сорвался Берёза. Первым делом он затоптал угли. Потом пинком распахнул дверь в сени, рявкнул караульным: «Отворите двери, черти, задохнёмся!!!», и, схватив в охапку бешено выдирающегося Ефима, поволок его вон. Опомнившиеся каторжане повисли было на Антипе, но в этом не оказалось нужды. Старший Силин и не думал сопротивляться. Он вежливо поснимал с себя тех, кто схватил его за плечи и руки, и принялся тушить занявшиеся в углу брёвна, бурча при этом:
– Это ж надо… Казённую вещь разнесли… Вот будет теперь от начальства-то! Да воды, воды тащите! Залить на всякий случай надо!
– Мы начальству скажем, Антип Прокопьич, мы всё видели… – робко сказал кто-то. – Не ты свару начал, и печь не ты спортил. По справедливости должно быть!
– А коль по справедливости, то помолчите лучше! – хмуро бросил Антип. – С начальством, коли нужда будет, сам потолкую. Да что там Берёза-то телится, нешто справиться не может?! Атаман волжанский ещё… – грохоча кандалами, он быстро вышел на тёмный двор.
Там рычал и рвался из рук Берёзы Ефим. Антип молча пришёл на помощь атаману, и им вдвоём удалось кое-как скрутить Силина-младшего и воткнуть его головой в призаборный сугроб.
– Да охолонь ты!!! Дьявол, разошёлся, не унять! Фу-у-у, холера… – Берёза вытер вспотевший лоб, прислонился к забору. – Ну и силища у парня! Жаль, дурню досталась! Сколько живу, такого не видал!
– Спасибо, дядя Берёза, – коротко, почти нехотя сказал Антип.
– Не на чем, – атаман с досадой покосился на острог, из распахнутой двери которого ещё валил дым. – Кабы я пораньше проснулся – глядишь, печь цела была б… Вы чего взбесились-то оба?
Антип не ответил: на двор уже бежали солдаты. Берёза, проваливаясь в снег, торопливо пошёл к ним навстречу:
– Живы, живы все, служивые! Тихо у нас! И драка уж покончилась! Сами разобрались!
– Сами? А пожар? – недоверчиво огляделись те.
– И пожара нет! У печи угол проломился, незадача вышла…
– Это как «проломился»? Да как вы печь-то разнести умудрились, черти?! – опешили солдаты. – Ну, дела-а… Ефимка! Силин, твоя работа, что ль? Охти, да на кого ты похож-то…
Ефим не ответил. Он уже пришёл в себя и сидел в сугробе, низко опустив встрёпанную голову. По его лицу бежала, капая в снег, чёрная в лунном свете кровь. Ефим не вытирал её. До Антипа доносилось его хриплое, тяжёлое дыхание.
Когда к бараку подскакал на своём аргамаке Брагин, пожар уже был потушен, спёкшиеся кирпичи выкинуты во двор, а барак выметен. Дым больше не шёл: Антип Силин выплеснул в чадящую печь одно за другим три ведра воды, тщательно выгреб прогорелые угли и деревяшки и теперь озабоченно ходил вокруг снесённого угла.
– Бунтовать взялись? – коротко спросил Брагин, спешиваясь и проходя сквозь ряд солдат.
– Никакого бунта, ваша милость! – Берёза неторопливо поднялся с заиндевелого крыльца. – Так… Мужики пошумели малость. Печь вот покорёжили… Так Антип божится, что нынче же поправит!
– Как есть поправлю, – раздалось из сеней, и Антип, весь в саже и запёкшейся крови, вышел на крыльцо. – Вы простите, Афанасий Егорьич, не особо хорошо вышло… Так починить можно! Кирпичи-то почти все целы, а глины гожей на заводе можно взять. Коли дозволите, так прямо сейчас и сделаю на живульку – хоть чтоб ночь переспать. А завтра уж починю как положено.
– Это ты кулаком расколотил печь? – с невольным уважением спросил Брагин. Антип смущённо пожал плечами.
– Стало быть, так.
– Брешет он, это я разбил, – сквозь зубы отозвался Ефим, который по-прежнему сидел в сугробе у ворот. Рядом вытянулись двое солдат, глядевших на него с опаской.
– Чем же тебе печь не угодила, Силин? – серьёзно спросил начальник завода.
– Не по ней метил. – Ефим встал, качнулся к Брагину. На его разбитых губах была странная усмешка. Конвоиры встревоженно шагнули было за ним, но Ефим с досадой отмахнулся.
– Да не сделаю я ничего, дурни… Всё уж. – Он тяжело взглянул на Брагина. – Пороть прикажете, ваша милость?
– Не мешало бы, – помолчав, сказал тот. – Только, по-моему, с тебя уже хватит. Но в следующий раз, если вновь учинишь драку с порчей имущества, – видит бог, велю отстегать. Куда вот тебе теперь работать? Хоть кости целы?
– Руку выбил. Ничего… Завтра на работу выйду.
– Покажи.
Ефим молча поднял кулак. Даже в тусклом лунном свете было заметно, как распухла и посинела кисть. Костяшки пальцев были разбиты в кровь.
– Шевелить можешь?
– Навроде…
– Умывайся и марш в лазарет. Там ещё не спят, Михаил Николаевич посмотрит. – Брагин повернулся и, тяжело переваливаясь, зашагал к лошади. На полпути обернулся: – Астапов! Антипа Силина проводи до завода. Пусть найдёт глину и приведёт печь в порядок. Егоров, этого Анику-воина – в больничку.
– Не пойду никуда!!! – взвился Ефим.
Но Брагин, будто не слыша, вскочил в седло и неспешно поехал прочь со двора.
– Не дури, парень, – негромко сказал кто-то за спиной Ефима. Он резко обернулся, готовый ударить любого, – и увидел Берёзу. – Не зли начальство, оно у нас подходящее! И так дёшево отделался! На Зерентуе аль на Каре тебя бы сейчас растянули да два ста горячих всыпали. А то и полтыщи. Не дури, уважение имей! Не то всем острогом отметелим, долго помнить будешь!
С минуту Ефим и атаман мерили друг друга взглядами. Затем Силин отвернулся. Глухо сказал:
– Чёрт с вами…
Ни на кого не глядя, он медленно пошёл к воротам. За ним, с опаской перехватывая ружьё, засеменил караульный. Каторжане молча глядели им вслед.
Оказавшись на протоптанной тропинке, ведущей к лазарету, Ефим обернулся к конвойному и попросил:
– Дядя Егоров, шёл бы ты досыпать! Я и сам доберусь, дорога известная. А опосля назад приду.
– Не положено! – заспорил Егоров. – А ну как сбегишь по дороге, чёрт бешеной?
– Куда? – без улыбки поинтересовался Ефим. – По сугробам через всю Сибирь в Расею-матушку?.. А и захочу сбежать – ты, что ль, меня удержишь, инвалидная рота?
– И то правда, – поразмыслив, согласился Егоров. – Только смотри у меня, без глупостей каких!
– Не боись. Спасибо. Ступай.
Оставшись на тропинке один, Ефим поднял голову. Кровь на лице уже запеклась, не заливала глаза, и какое-то время парень смотрел на белую ледяную луну, повисшую над заводом. Далеко, в тайге, выли волки, пронзительно и тоскливо. Им отвечала испуганным брёхом заводская собака. Ефим мотнул головой. Поморщился и зашагал к лазарету, в душе отчаянно надеясь, что там уже все спят.
Но Брагин оказался прав: в больничке горела свеча. Проваливаясь в сугробы, Ефим подошёл к окну, заглянул сквозь решётку. И неутолённое бешенство вновь подкатилось к горлу. Там за широким некрашеным столом сидели и толковали о чём-то Устинья и Иверзнев. Перед ними на расстеленном полотенце лежали сухие корешки. Мельком скользнув по ним взглядом, Ефим впился глазами в лицо жены. Устя казалась усталой и измученной. Она то и дело роняла голову на руку и на слова Иверзнева отвечала коротко, словно через силу. «Это она с ним вдвоём сидит на ночь глядя?! Глядишь, сейчас и спать вместе лягут…» – задохнулся Ефим. Но в это время зашевелилось цветное тряпьё на лавке возле печи, и он увидел сонную Катьку. Цыганка сидела, привалившись спиной к белёному печному боку, и что-то усердно протирала сквозь сито.
При виде Катьки Ефим немного успокоился. Глубоко вдохнул ледяной воздух – и ударил здоровым кулаком в ставень. Все трое обернулись. Катька живо спрыгнула с лавки и исчезла в сенях.
Вскоре цыганка, бухнув мёрзлой дверью, возникла на пороге.
– Кто тут, не видать? Выйди на свет! Бог ты мо-о-ой!.. – ахнула она, увидев разбитую физиономию Ефима. – Ты чего опять натворил, леший?!
– Это пустяк, – хмуро сказал Ефим, проводя ладонью по лицу. – Руку вот выбил. Начальник велел, чтоб Устька посмотрела.
– Устька? – хмыкнула Катька. – Ну, на твоё счастье, Михайла Николаич не спит ещё. Он и поглядит, и что нужно справит.
– Не нужон он мне! Устьку позови!
– А ты ей не нужон! – отрезала Катька. Но Ефим зарычал, и она махнула на него рукой. – Сейчас скажу! А ты пройди пока, сядь там… Да не опрокинь, смотри, чего! И обожди, покуда у Устиньи твоей с доктором разговор важный!
– Ты смотри, какая вовсе барыня стала… – проворчал Ефим, поднимаясь по обледенелым ступеням.
Но Катька уже скрылась в сенях и не слышала его.
Ему и впрямь пришлось довольно долго ждать в маленькой комнатке с длинным столом и пучками сухих трав, развешанными по стенам. После грязи и вони мужского острога всё здесь казалось удивительно чистым. От печи шло ровное тепло. Сладковато пахло, как летом, цветущим лугом и мёдом. Ефим распахнул кожух. Прислонился спиной к нагретым брёвнам стены, закрыл глаза. Страшно болела выбитая кисть, он, морщась, потёр её. Посмотрел на дверь. Жена всё не шла.
«Да где ж она там? Не наговорилась за день с доктором своим?» – вновь заводился Ефим, одновременно пытаясь прикинуть, как будет оправдываться. Ведь придётся про драку рассказывать, глупо будет врать, Устька заметит сразу… Да он ей и врать не мог никогда… Вдобавок, будто назло, сразу вспомнилось, как вчера Устинья приходила к нему и ушла, не дождавшись. В лицо ударило жаркой волной. Ефим с тоской выругался сквозь зубы, зажмурился.
Он страшно растерялся вчера и не знал, что делать, услыхав от караульного, что жена стоит у острога. Понимал только, что со стыда умрёт, оказавшись перед Устькиными глазами после всей этой бестолковщины с Жанеткой. Ничего умнее, чем повалиться лицом вниз на нары и проворчать сквозь зубы: «Да пропадите вы все, дайте спать…», ему не пришло в голову. Антипку, конечно, не обмануть было, да и прочие не больно-то поверили, а уж Устька!..
И как вот теперь выворачиваться?! Будто нужна ему была эта Жанетка! Ну да… Интересно казалось поначалу-то. Городских девок у него сроду не было, а эта сама на шею вешалась… И кто ж знал, что проклятая потаскуха сразу же заметёт языком направо и налево? И что в тот же день до Устьки всё дойдёт?..
«Кто знал, кто знал… Смекать надо было! – сердито думал Ефим, морщась от боли в ноющей кисти. – Не Жанетка, так другой кто рассказал бы ей! Здесь не деревня, бабы гулящие концов не хоронят! Солдатня знает, мужики из острога знают… Бабьё – так те и вовсе всё как заранее проведали… Тьфу!»
Он знал, что жена не станет ни кричать, ни браниться. Норов Устькин не таков, да и люди рядом. Но при мысли о том, что она сейчас может просто выправить ему, как чужому, руку и молча уйти прочь, Ефим чуть не завыл и с ненавистью уставился на закрытую дверь. Пнуть бы её, проклятую, да заорать на весь лазарет: «Устька!!!» Сразу бы, верно, тогда прибежала… Вошла бы в своём коричневом сарафане, в сбившемся платке, уставшая… Небось и сил не осталось ни ругать, ни стыдить мужика непутёвого. Вот тут-то бы и обнять её, не дав опомниться. Притянуть к себе, как прежде, ткнуться в плечо… Повиниться во всём. Сказать, что остолоп, что бес попутал, что даром ему не нужна никакая Жанетка и никто не нужен, кроме неё, Устьки… И дождаться, когда жена ласково, привычно потреплет его за ухо, положит на затылок тёплую ладонь. И вновь услышать сто раз слышанное, грустное: «Ой, Ефимка, душа разбойничья… Где совесть-то у тебя?» Нешто не простит? Венчаны ведь, закон приняли… Куда ей деться-то?
Скрипнула дверь, и Силин, вздрогнув, поднял голову. В горницу вошёл Иверзнев. Ефим медленно поднялся.
– Доброго вечера, барин.
– Здравствуй. Что случилось? Драка? – коротко спросил Иверзнев. Ефим так же коротко кивнул. Все покаянные мысли разом вылетели из головы – словно их в помине не было.
– Где Устька моя? – мрачно спросил он.
– Покажи руку. – Ефим не пошевелился, продолжая в упор, враждебно рассматривать Михаила, и тот пожал плечами. – Устинья уснула. Я решил не будить её и, смею надеяться, сам всё сделаю не хуже. Но если ты настаиваешь…
Ефим, не отвечая, шагнул мимо Иверзнева в соседнюю комнату.
Устинья и в самом деле спала. Спала, уронив голову на стол, прямо на свои корешки, и бессильно свесив вниз руку. Стоящая рядом Катька осторожно прикрывала её плечи платком. Обернувшись на шорох у двери, она яростно оскалилась и махнула рукой: сгинь, мол. Ефим послушно отошёл назад. Вернулся к столу, на котором Иверзнев уже раскатывал полотняную ленту, и положил на столешницу руку.
– Что ж, вывиха нет, – сказал Иверзнев, закончив осмотр. – Похоже, просто растянуты связки… Ну и ушиб сильный. Вот так больно? А так? Да ты не терпи, а отвечай, мне же надо знать!
– А вы не кричите! – глухо, с угрозой попросил Ефим.
– Я и не кричу, – спокойно отозвался Иверзнев. – Между прочим, это ты на меня орёшь. Потерпи немного, скоро всё. Устинья делает великолепную мазь для таких случаев, у меня уже почти целая банка вышла… И когда только ты перестанешь трепать ей душу? Не могу, хоть убей, понять, какой тебе в этом профит.
Он сказал это спокойно, между делом, продолжая растирать запястье Ефима резко пахнущей мазью. Но Ефим сразу ощетинился, вскочил, чудом не опрокинув баночку со снадобьем:
– Вам что до того?! Она мне жена! Я в ней волен! Как скажу, так будет!
Иверзнев только пожал плечами и, убрав в шкафчик мазь, сказал:
– Потерпи ещё немного. Да сядь же, наконец, на место! Или мне бегать за тобой вокруг стола?
– Без нужды… – процедил Ефим, нехотя усаживаясь и угрюмо глядя на то, как ловкие руки доктора перетягивают ему запястье полотняным бинтом.
Боль утихла ещё до конца перевязки. Ефим осторожно пошевелил кистью, встряхнул. Удивлённо покачал головой.
– Полегче? Тогда ступай. Завтра вечером придёшь снова, всё повторим.
– Завтра уж само заживёт. – Ефим поднялся. Глядя через плечо Иверзнева в завешанную травами стену, негромко спросил: – Скажи, Михайла Николаич… Не боишься, что я тебя вот прямо сейчас по башке кулаком приложу? А потом хоть в батоги, хоть в бессрочную – наплевать будет!
Иверзнев не спеша обернулся к нему и, казалось, задумался.
– Да ты знаешь… Пожалуй, не боюсь, – наконец серьёзно ответил он. – Видишь ли, я войну прошёл с медицинским корпусом и пулям ни разу не кланялся. Так что, думаю, и тебя не испугаюсь… Хотя кулак у тебя знатный, нечего сказать.
– Не дай бог, барин, я чего узнаю, – прямо в лицо Иверзнева смотрели пустые, стылые от бешенства глаза, и против воли Михаил почувствовал холод на спине. «Боже правый, ну и сатана… Как она только любит его?!»
– Не дай бог, мне скажут… Хоть слово передадут про тебя и про Устьку мою… Ты знаешь, за что я здесь. Повторить не побоюсь. И терять мне нечего. Дальше Сибири не пошлют, а Сибирь – вот она.
– Ты бы пожалел её, – ровным голосом, скатывая остатки бинта, заметил Иверзнев. – Она вся исплакалась из-за твоих похождений. Право, не знаю, как у тебя хватает совести после этого являться к ней на глаза. Да ещё говорить такие вещи. Ты ведь не мне, а ей собирался всё это сказать, не так ли? Благодари Бога, что твоя Устинья не знает себе цены.
Ефим скрипнул зубами. Отвернулся, шагнул к порогу и, не прощаясь, вышел в темноту.
На крыльце его обдало холодом. Ефим спустился с крыльца, медленно пошёл по пустой поселковой улице. За околицей по-прежнему выли волки. Сверху, равнодушные, холодно мигали зелёные звёзды. От тоски и нестерпимой горечи саднило сердце. Несколько раз Ефим останавливался, всерьёз собираясь вернуться и любой ценой вытребовать к себе Устьку, а там уж помогай Господь… Но вместо этого тихо, страшно ругался и продолжал путь.
Постепенно он успокоился. И даже с удивлением заметил, что выбитая кисть уже совсем не болит. Да и вовсе не болит ничего, лишь ноют ссадины на физиономии. И те образовались, когда он проехался по шершавым доскам пола. Сообразив это, Ефим вдруг понял, что во время страшного побоища в остроге, когда по сторонам разлетались кирпичи и доски, Антип его почти не бил. Не подпускал себя бить – и только… Это он, Ефим, бросался, как цепной пёс, глаза застило… А с какой вот стати? Из-за этой дуры Жанетки, пропади она пропадом?! Ефим сжал кулаки, хрипло, со стоном выматерился.
И на кой леший было пугать народ, разносить барак… и главное – печь ломать?! А если бы не промазал? Если бы и впрямь кулаком не по печи пришлось, а… Ефим передёрнул плечами, сглотнул. Остановившись, закрыл глаза, медленно перекрестился.
И куда бы вот он тогда без Антипки? И как жил бы дальше? И как самого себя терпел бы? «Тьфу, уберёг Господь дурня… Опять уберёг…» – пробормотал Ефим. Голова горела. Остановившись у самого забора, он сгрёб в пригоршни снег и долго тёр ледяным крошевом лицо. Понемногу это помогло. Ефим перевёл дух, помотал головой. Постоял ещё немного, справляясь с дыханием, и шагнул на обледенелое крыльцо острога.
* * *
– Устя, у меня к тебе просьба, – отрывисто сказал Иверзнев, в третий раз ополаскивая окровавленные руки под рукомойником.
Устинья молча повернула к нему осунувшееся от усталости лицо. День выдался тяжёлый: утром на завод прибыл новый полицмейстер на тройке гнедых. Он как раз въезжал на заводскую улицу, когда за околицей вздумалось завыть какому-то оголодалому волку. Гнедые, в отличие от привычных заводских лошадей, перепугались до смерти, вскинулись на дыбы, путая постромки, и – понесли. Напрасно возница силился отчаянным криком и кнутом образумить их. И, как назло, навстречу вышла партия каторжан, отправлявшихся на работу. Тройка врезалась прямо в толпу людей. Над заводом поднялись дикие вопли, восемь человек сволокли в лазарет с перебитыми руками и ногами. Иверзнев со своими помощницами и двумя фельдшерами сбились с ног.
– У меня ещё Антонов не осмотрен… Ногу раздробило просто в осколки, как бы не пришлось отнимать. И что за мода у господина полицейского носиться по заводу на тройках? Кому здесь интересно это фанфаронство?! Одни беды людям… А уже совсем поздно… Не могла бы ты отнести вот это в дом Брагина? Это для его сына, я готовлю каждый вечер.
– Но ведь барин-то на заводе? – робко сказала Устя. – А ну как не допустят меня?
– Скажи, что по распоряжению доктора! Какая разница, кто даст ребёнку лекарство? А я сейчас здесь нужнее. Ступай, ради бога, уже скоро ночь. Настойка в шкафу, бутылка зелёного стекла. Четыре ложки и кусок сахару. – Голос Михаила звучал непривычно резко, он даже не смотрел на Устю, и та почувствовала, что лучше будет не спорить. Тщательно вымыв руки и сняв перепачканный кровью передник, она разыскала в шкафу нужную бутылочку, оделась и вышла из лазарета.
– Силина, куда? – лениво окликнул караульный у ворот.
– Барчуку лекарство снесть, дядя Астапов, – отозвалась Устя. – Доктор велел. Поведёшь ли?
– Давай уж сама, – зевнул солдат. – Да недолго, гляди…
Благодарно кивнув, Устинья побежала по протоптанной в снегу тропке. Она была даже рада нечаянному заданию: от запаха крови, истошных криков и бесконечной беготни у неё уже темнело в глазах. А всю минувшую ночь ещё и не удалось, хоть убей, заснуть ни на миг.
О драке братьев Силиных ей рассказала всеведущая Катька.
– Молотили друг друга как бешеные! Пол-острога разнесли, печь по кирпичикам рассыпалась… И бог знает почему! Ведь братья родные! И чего не поделили – разбей бог, не пойму! – таращила чёрные глаза цыганка.
Устинья посмотрела на неё с грустной насмешкой.
– Да ладно тебе… «Не пойму»… Мне уж всё конвойные доложили не хужей тебя. Из-за Жанетки дело вышло. Скажешь – нет?
Катька, которая надеялась скрыть от подруги причину драки, растерянно умолкла. Помолчав с минуту, неуверенно сказала:
– Да, может, брешут служивые-то? В жизни не поверю, что из-за этакой лубнищи[7] такие мужики сцепятся! Кабы хоть из-за тебя…
Устинья только отмахнулась. Глаза её были сухи, но губы – сжаты до белизны, а руки, скатывающие на столе бинты, чуть заметно дрожали. Катька сердито посмотрела на неё – и решилась:
– Да был он тут ночью, был – Ефимка твой! Михайла Николаич ему руку вправлял! Живой и целый! А Антипка и вовсе не пришёл – стало быть, ещё целее! Так что тебя и будить не стали…
– Да пошто ж не растолкали, господи?!. – всплеснула руками Устя. И умолкла, закрыв лицо руками. Катька беспомощно смотрела на то, как сквозь пальцы подруги текут слёзы. Она уже открыла было рот, готовясь уговаривать и утешать, но Устинья вдруг успокоилась сама. Быстро, с сердцем, вытерла глаза, вправила в косу выбившуюся пепельную прядь. Не глядя на цыганку, глухо сказала:
– А может, и хорошо, что спала… Глаза бы мои его не видели. С Жанеткой той вместе. Вон уж до чего дошло: с братом родным из-за гулящей девки сражается!
– Устька, Устька, ты подожди серчать-то… – Катька почуяла, что всё опять уходит куда-то не туда. – Я ж его рожу-то, Ефимкину, видала вчера! Как бог свят, прощенья у тебя просить шёл…
– Не бреши. Он и слов-то таких не знает, – отмахнулась Устинья. Встала и решительно начала собирать бинты. – Ладно, Катерина. Будет об этом. Работа-то стоит, а мы языками метём. Ещё Михайла Николаевич рассердится!
Катерине оставалось только вздохнуть и послушаться.
«А весной уже пахнет здорово!» – подумала Устинья, поднимаясь на высокое крыльцо и запрокидывая голову. В тёмно-голубом небе над заводом поблёскивали первые робкие звёзды. Вокруг ещё стояли огромные, выше роста, сугробы, с крыш свешивались многоярусные грозди сосулек, но пахло уже по-другому: островато, свежо. Работа на заводе была давно кончена. Машинально Устинья повернулась к мужскому острогу: чёрная длинная крыша была хорошо видна с крыльца. И тут же, словно рассердившись на себя, отвернулась.
«Что ж я извожусь-то? Чего мучаюсь? Нешто я виновата? Ну, как без меня лазарету-то? Вот нынче не было б меня – что бы Михайла Николаич один делал? А кто из мышьей травки настой варил? А кто бы мазь на таволге готовил? А кто бы Семёнова держал да уговаривал, когда ему перелом правили да лубки клали? Нет, нельзя мне уходить, никак нельзя… Ведь людям польза и облегченье, нешто можно таковым бросаться? – в который уже раз мучительно размышляла Устинья – словно муж стоял напротив и мог слышать её оправдания. – А Ефим не смыслит ничего, понимать не хочет… Брата и того не слушает, а кто его, кроме Антипа, вразумит? Ох, беда, и что поделать-то? Сходить, что ли, к нему, ещё раз, усовестить?» Но при воспоминании о том, как она бегала к мужскому острогу, а Ефим так и не вышел к ней, Устинья вновь почувствовала жгучую обиду. «Будто я гулящая какая! Как Жанетка эта его! Будто виноватая чем! Не могу я этак на людях срамиться, не могу, и всё! Ох, да что же делать мне с тобой, Ефим Прокопьич, что?..»
– Ты чего, милая, здесь стоишь?
Скрип входной двери и старушечий голос заставили Устю вздрогнуть и отвлечься от горестных мыслей. Из дверного проёма на неё смотрела закутанная в платок кухарка Брагина.
– Добрый вечер, Степанида Захаровна, – низко, по-деревенски поклонилась Устинья. – Меня господин Иверзнев послал… С лекарством для Алексея Афанасьича. Сам прощенья просит, никак не может вырваться: несчастье нынче на заводе-то…
– Да уж знаем, слышали, – вздохнула старуха. – Эка оказья нехорошая вышла… Ты заходь. Давать-то лекарствие умеешь?
– Невелика наука, – улыбнулась Устинья, старательно обметая коты потрёпанным гусиным крылом.
Захаровна посмотрела недоверчиво, но промолчала. Подождала, пока Устя снимет кожух и платок, аккуратно уложит их на лавку в сенях и размотает тряпицу с бутылочкой.
– Идём, милая. Молодой барин уж в постеле. Они подолгу не спят, маются… И с чего только? Бессонь – болезнь стариковская, а они у нас махоньки…
Идя вслед за кухаркой по тёмным сеням, Устя невольно оробела: в господских комнатах ей приходилось бывать лишь один раз: в Москве, у Иверзневых. Дома, в Болотееве, деревенских не пускали дальше барского двора. «Слава богу, в чистое одета…» – испуганно подумала она, когда Захаровна отворила низенькую дверь и возвестила:
– Алёшенька, это от доктора нашего, с лекарством. Изволь, голубь, выпить! – Захаровна подтолкнула Устинью вперёд и неуверенно взглянула на неё. – Управишься сама-то? У меня в кухне тесто ставлено, и как есть сейчас через край сбежит! Как назад пойдёшь, кликни меня с кухни, провожу!
Войдя, Устинья робко осмотрела комнату с разобранной постелью. Сероглазый мальчик в расстёгнутой на груди рубахе сидел под одеялом, засыпанным книгами, и удивлённо улыбался нежданной гостье. Та несмело улыбнулась в ответ, поклонилась:
– Доброго вам вечера, барин! Уж простите, что Михайла Николаевич не сам пришёл, а меня прислал. Куда как заняты они нынче!
– Добрый вечер. А как тебя зовут? – спокойно спросил мальчик.
– Устиньей, ваша милость.
– Я не милость, я Алёша. Меня так все зовут, и ты тоже так говори.
– Как прикажете. Извольте сесть ровненько, сейчас в ложечку вам налью… – Устинья вытащила из бутыли пробку.
Мальчик с плохо скрываемым отвращением наблюдал за тем, как жидкость льётся в ложку, но рот покорно открыл.
– Вот… Вот… Вот… и сахарочку извольте! – Устинья шлёпнула прямо на розовый язык Алёши кусочек сахара. – Вот и молодец вы! Теперь и почивать можно, помолившись!
– Я всё равно не засну, – грустно вздохнул мальчик, откидываясь на подушки. – Папы нет, он на заводе… Захаровна занята… И неловко её отрывать, она весь день на ногах. А читать уже темно. Папа не позволяет, говорит, что не хватало мне ещё испортить глаза.
– Родителя слушаться надо, – подтвердила Устя, уматывая бутыль в тряпицу. – Да и ночь на дворе, спать положено крещёным людям!
– Я крещёный, но всё равно не усну, – без улыбки сказал Алёша. – Почему-то не могу. Ночью особенно скучно бывает. Лежишь, лежишь, думаешь… Все истории из книг вспомнишь… Маму… А если засыпаю, то хожу во сне! Я этого, вообрази, даже не помню, а Захаровна говорит…
– Во сне бродите, барин? – Устинья отставила бутылочку, подошла ближе к кровати. – И часто так с вами? Вы Михайле Николаичу говорили ли?
– Нет. А разве нужно? – пожал плечами мальчик. – У меня ведь болезнь сердца, при чём тут… Почему ты рассердилась?
– И Господь с вами, барин, смеем ли мы… – машинально пробормотала Устинья, сдвинув брови и напряжённо думая о чём-то.
Алёша смотрел на неё с растущим интересом.
– А во сне-то круглым годом ходите? – вдруг спросила Устинья. – Аль только летом или зимой?
– Зимой! – неожиданно звонко рассмеялся мальчик. – Всегда только зимой! Летом, не поверишь, сплю как убитый – и никакой бессонницы! Да кто же болеет летом?! Летом можно и на рыбалку, и на покосы, и купаться, и скакать верхом…
– Обучены? И часто скачете?
– Да всегда! Ты бы видела моего мышастого, быстрее его в свете нет! Мы с Хасбулатом, это папенькин черкес, носимся до реки и обратно, а потом…
– Воля ваша, барин, правду ль говорите? – Устинья в упор посмотрела на него. – Как это можно, коли в сердце больно? Как и папаша вам дозволяет?
– Но ведь у меня ничего не болит! И я совсем не устаю! – мальчик растерянно посмотрел на неё. – Почему ты мне не веришь?
– Я… Верю. – Устинья снова задумалась. – Стало быть, летом как бешеный носитесь… И спите покойно… И во сне не прохаживаетесь… И головка не кружится… А зимой?
– А зимой прохаживаюсь, – со вздохом подтвердил Алёшка. – И чуть что – голова кругом, и падаю на пол как дурак… Совестно даже. Столько всякий раз переполоху, будто я барышня! Как с тобой забавно, однако, разговаривать! Ты можешь посидеть ещё немного? Пожалуйста! Если Михаил Николаевич на тебя рассердится, свали всё на меня! Я завтра попрошу у него прощения, что задержал тебя!
– Вот что, барин. – Устинья решительно уселась на табурет у стола. – Останусь, только уговор. Вы мне сейчас расскажете, что вы летом более всего есть любите. Только не сласти какие, а настоящий харч, коим люди сыты бывают. А опосля я вам такую побасёнку расскажу, что скучать не будете!
– В самом деле?! – оживился Алёша. – Ты очень мила! Ну, изволь, я постараюсь всё припомнить. Во-первых, я очень люблю черемшу, это лесной чеснок… И голубику… И яблоки, но их мало… А укроп!!! Вот, не поверишь, однажды целую грядку сжевал за час, как козёл! Вместе с семенами! Захаровна очень сердилась, он ей нужен для солений…
Устинья слушала, серьёзно кивала, иногда хмурилась, стараясь запомнить. Несколько раз на её губах появлялась осторожная улыбка. Когда же Алёша выдохся и умолк, она серьёзно сказала:
– Благодарствую, барин.
– А зачем тебе это? – поинтересовался Алёша. И, не дождавшись ответа, дёрнул глубоко задумавшуюся Устю за рукав. – Ну… Ты ведь обещала! Сказку-то!
– Извольте. Вот слушайте. Жил, стало быть, в брянском лесу под корягой старый леший, и было у него три дочери. Красавицы, каких ни в одном лесу более не было! И вот, как весна, болото зацветёт, так дочери и воют, и ревут, и криком кричат – женихов себе требуют. А где ж их взять-то, коли других леших на триста вёрст в округе нету?! Старый леший со всеми соседями в молодости перессорился, всех повыгнал. А теперь впору самому себе бороду вырвать: каждый день в дому голосянка! Вот где дочерям счастье взять? И надумал он тогда…
Когда наконец Захаровна спохватилась, что с барчуком больше часа находится чужая баба, и помчалась в спальню, мальчик уже спал. Устинья поправляла на нём пуховое одеяло. Заметив в дверях встревоженное лицо кухарки, она прижала палец к губам, тихо взяла со стола свёрток со своей бутылью и на цыпочках пошла к порогу. Захаровна изумлённо посторонилась, пропуская её.
– Ты как это, милая, Алёшеньку-то усыпила? – шёпотом спросила она, глядя на то, как Устя торопливо накидывает кожух и обматывает голову платком. – Кажин день мучится дитё, почти до света без сна крутится! Может, лекарствие какое новое Михайла Николаич сотворил?
– Прости, Степанида Захаровна… Поспешать мне надо, – не ответив, Устинья бросилась за порог.
Захаровна выскочила было следом, но серый платок гостьи уже мелькал в конце расчищенной от снега тропинки. Кухарке оставалось только покачать головой и вернуться в дом.
Когда Устя ворвалась в лазарет, была уже почти полночь. Все спали, только в «приёмной» молчаливая от усталости Катька домывала полы. Устинья, едва успев сбросить промёрзшие коты, вихрем промчалась мимо неё. Цыганка удивлённо выпрямилась.
– Дэвлалэ… Нешто Ефимка опять выкинул чего?.. – пробормотала она, глядя вслед подруге.
Но та, хлопнув дверью, скрылась в «операционной».
Там было пусто, тихо. Серый от недосыпа Иверзнев убирал в деревянный ящик инструменты. Увидев Устинью, он устало улыбнулся:
– Устя? Отчего так долго, я уж Астапова посылал! Сказали – у молодого барина сидишь… Что ты там делала столько времени? Да ты бежала, что ли, всю дорогу, зачем?!
– Сказку сказывала. – Устинья, ухватившись за дверной косяк, с трудом переводила дыхание. – Михайла Николаич… Разговор у меня к вам…
– Прости, но о том, чтобы ты ушла из лазарета, и слышать не хочу! – отворачиваясь, отрывисто сказал Михаил. – Мне, не поверишь, уже по ночам снится твой уход, а без тебя тут просто…
– Не то. – Устинья через силу улыбнулась. – Михайла Николаич, вы меня простите уж, что я, дура неучёная, рот тут распахиваю, но…
– Садись. – Михаил, не сводя взгляда с разрумянившегося от мороза и бега Устиного лица, ногой подвинул ей табурет. – И распахивай рот хоть до утра, я слушаю тебя.
Через десять минут Иверзнев ходил взад и вперёд вдоль стены с незажжённой папиросой во рту, а Устинья, вся подавшись к нему, быстро говорила:
– …и такое сомненье меня взяло! Как это зимою сердце болит – а летом дитё как сумасшедшее верхами носится с черкесом и в реку с обрыва сигает?! Не бывает так! Сердце – это ж не кости, которы к погоде ноют! Оно аль болит, аль здоровое, по-другому никак! Стала я его спрашивать, чем он летом кормится. Барчук мне всё как есть рассказал… А уж как про укроп помянул, так я и уверилась почти!
– В чём уверилась, Устя? – тихо спросил Михаил, не сводя с неё взгляда. «Боже мой… Как же она хороша, когда вот так увлечена чем-то! Как чудно меняют цвет её глаза!» – против воли думал он, глядя на бьющие отчаянной синевой, ставшие огромными глаза молодой женщины, на горящие румянцем щёки, на пепельную прядь волос, то и дело падающую на высокий чистый лоб…
– Да вот, изволите видеть, у нас в Рассохине целая семья таких была! – торопилась Устинья. – Прохоровы! Большая, четверо сыновей, да дочери, да снохи с зятьями… И вся округа дивилась! Как лето, так сильнее их в поле нет, как волы пашут… А зимою – так за дровами в лес зятья с невестками едут! А сами Прохоровы на печи лежат, охают – ни руки, ни ноги не поднять! А огород у них сплошь укропом да петрухой засеян был! Ели её, как коровы, без продыху, говорили – нутро требует! Вся деревня смеялась! И вот бабка моя первой дозналась! Коли, говорит, это у них семейное, стало быть, чего-то в нутре им недостаёт! А это «что-то» как раз в укропе-то и есть! Ну, вот, как, к примеру, бабам брюхатым то глины невесть с чего хочется пожевать, то гвоздя железного пососать, то клюквы подай мочёной прямо среди ночи… И вот бабка тем Прохоровым – и матке с тятькой, и сыновьям, и дочерям – стала заместо укропа зимой стебли овса давать! Прорастит их на окне и эту зелень-то даёт! И ещё много чего пробовала, но лучше всего орехи лесные были и эта самая овсовая зелень. И, вот вам крест – в первую же зиму вся семья поднялась!
– То есть ты думаешь… – медленно начал Михаил.
– Я думаю, что у барина молодого недодача какая-то, – твёрдо закончила Устинья. Видя, что Иверзнев не намерен над ней смеяться, она слегка успокоилась и даже оправила сползший на затылок платок. – Летом-то он укропом да черемшою своё возьмёт, а зимою – никак! Вот и совсем худо ему делается, бедному…
– Погоди… Но как же аритмия? – Иверзнев крепко потёр обеими руками лицо. – Я же слушал его сердце, там действительно перебои… Это никак не объяснишь недостачей каких-то пищевых веществ…
– Тоска это, – убеждённо заявила Устинья. – Сами ведь знаете, мать у него померла. Оттого и бессонь, и бродит по ночам… Не всегда, а бывает так. Просто одно на другое легло. Ему надо бы валерьянова корня да дурмана… Только по чутке, дитё всё-таки. А там и само пройдёт, потому сердечко молодое, надолго в тоске не укрепится. Да ещё хорошо бы знаете чего?.. Того корешка волосатенького. Коим мы с вами Яшку поднимали.
– Я сам хотел просить тебя об этом, – помедлив, негромко сказал Иверзнев. – Но не смел.
– Не смели?.. – всплеснула руками Устя. – Да пошто же не смели-то?!
– Я тебе говорил. Женьшень – очень ценная вещь. И тот, который ты нашла, – целиком твоя собственность. Как я мог просить его у тебя для барского ребёнка, если женский барак полон каторжанскими детьми, такими же больными – если не хуже?
– Не хуже, Михайла Николаич, – подумав, медленно сказала Устинья. – Эти-то дети больше от грязи болеют, да от харча худого, да от коросты. Я же всё время там лечу, знаю. Ни разу ещё мне тот золотой корешок не понадобился. А дитё – оно и есть дитё. Какая разница – барское аль простое… Всё едино – душа невинная. Так что дозвольте мне настой изготовить да овёс прорастить на окне-то. Даст бог, поставите Алексея Афанасьича на ноги, вам начальник спасибо скажет.
– Не мне, а тебе, – сердито заметил Иверзнев. – Я, как ты видишь, не сумел даже правильно поставить диагноз и назначить лечение. Знающим врачом оказалась ты, а вовсе не я.
– И Господь с вами, что говорите-то! – отмахнулась, покраснев, Устинья. – Что я знаю, что я видела? Какие-такие книжки прочла?! Только и пользы, что с бабкой всю жизнь по лесам за травой ползала! Это ж ведь случай, что у наших Прохоровых такая же болесть была, а так…
– Не спорь со мной! – Иверзнев вдруг перестал ходить из угла в угол, выбросил в ведро так и не зажжённую папиросу и глубоко вздохнул. – Боже, какая страшная, чудовищная несправедливость… Как это отвратительно!
– Охти, да о чём вы?.. – снова испугалась Устинья.
– То, что ты здесь. Здесь, на каторжном заводе, ни в чём не повинная… И не только ты… Устя, если бы ты могла учиться! Если бы ты не убивалась с малолетства в поле, не рвала жилы для барских прихотей… Ты бы сейчас уже профессором медицины была!
– Спать вам надо ложиться поскорей, Михайла Николаевич, вот что, – слабо улыбнулась Устинья. – Если бы да кабы, проросли б во рту грибы…
– Тебе надо учиться грамоте, – решительно перебил её Иверзнев. – Ещё не поздно дать тебе необходимые знания. Ты молодая, умная, схватишь сразу, и я убеждён…
– Да когда же мне?! – взмолилась Устинья. – Тут с утра до ночи носишься, присесть некогда! На сон времени не остаётся… Да и кто мне дозволит?
– Чьё же дозволение нам с тобой нужно? – пожал плечами Михаил. – Мы можем хотя бы полчаса каждый вечер тратить на… Устя, что с тобой? Что я такого сказал?
Лицо Усти потухло на глазах. Взгляд уткнулся в пол, черты окаменели. Иверзнев молча, удивлённо смотрел на свою помощницу, не понимая, чем вызвана такая перемена. Наконец Устинья медленно, запинаясь, выговорила:
– Сами подумайте, Михайла Николаевич… На что же это похоже будет, коли мы с вами… Каждый вечер… Не подумайте, что у меня дурное что-то в мыслях, борони бог… Только не годится это. Люди кругом. Про меня и так бог знает что болтают, а ещё и…
Она не договорила: Иверзнев в сердцах ударил кулаком по стене.
– Что за глупости, Устя! Никто ничего не болтает! Поскольку и болтать нечего! Да и попробовал бы кто рот открыть! Эти варнаки, которых ты здесь лечишь, в лоскута порвут любого, кто про тебя скажет мерзость! Ты же ночами сидишь возле них! Снимаешь боли, сказки им свои рассказываешь! Ни один не посмеет!
– Может, оно и так… – Устя, слегка испуганная его взрывом, всё же упрямо свела брови. – Только…
– Замолчи, ради бога! Я знаю, что ты имеешь в виду! Этот твой Ефим! Который ноги твоей не стоит! Который, между прочим…
– А теперь вы замолчите! – взвилась Устинья, и Михаил невольно осёкся. – Ефим – муж мне! Коль дурить взялся – суди его Бог, а ругать не дам! Всяко с людьми бывает, и доброе, и худое, а только Ефим…
– Воля твоя, но он не должен так обращаться с тобой, – уже спокойнее возразил Михаил.
– Как умеет, так и обращается. Мы с ним не господа, другому обращенью не обучены, – отрезала Устинья и решительно поднялась. – Дозвольте идти, спать давно пора.
– Устя! Подожди, прошу тебя. – Иверзнев загородил ей дорогу. – Прости меня. Не сердись, я, верно, не прав… Бог с ним, с этим твоим разбойником. Верно, в нём есть что-то хорошее, коли ты его любишь, но…
– То-то и оно. И вы меня простите, – грустно улыбнулась Устя. – Вы ведь человек добрый, только – барин, и вам не понять. Уж не обессудьте, никак я не могу с вами грамоте учиться.
– Сможешь, – упрямо сказал Иверзнев. – Да зачем же в долгий ящик откладывать? Вот, смотри! – шагнув к печи, он поднял с пола холодный уголёк. Устинья с недоверчивой улыбкой наблюдала за тем, как Михаил углём выводит на белёном боку печи странные палочки и колечки.
– На самом деле всё легко! Я вообще всегда считал, что детей у нас учат очень бестолково и не так, как нужно… Чем проще, тем лучше, верно ведь? Стало быть, и начинать надо с гласных звуков… И без всяких «азов» и «буков», только голову младенцам забивают зря… Да не крестись ты, ничего учёного я пока не говорю! Вот смотри: это «А», это «О», это «И», а это – «У»! У-у-устинья! Первая буква твоего имени! Запомнишь?
– Не знаю, барин… – растерянная Устя не сводила глаз с чёрных кривоватых букв на белом боку печи.
– Запомнишь, никакой мудрёности тут нет, – как можно беспечнее сказал Михаил. – Мимо этой печи ты бегаешь сто раз на день. Каждый раз будешь останавливаться и вспоминать. Если забудешь – спросишь меня. Понятно?
– Как прикажете…
– Не «как прикажете», а «ура!», – усмехнулся Михаил, и Устя против воли улыбнулась тоже. – И не пугайся – вон как побледнела! Ничего мудрёного, говорю тебе! И букв этих всего-навсего неполных четыре десятка. Даже если в день запоминать по три – через полторы недели уже будешь знать.
– Ни в жизнь мне не одолеть… – пробормотала Устинья. Но глаза её смотрели не отрываясь на чёрные чёрточки. Михаил покачал головой, отвернулся. Увидел стоящую на пороге Катьку. Цыганка подмигнула… И улыбнулась вдруг Иверзневу широкой, сияющей и одобрительной улыбкой.
* * *
Понемногу, незаметно, день за днём к заводу подбиралась весна. В тайге, в глубоких оврагах, ещё был виден снег, слежавшийся и чёрный, а на пригорках уже вовсю лезла трава. В небе целыми днями кричали птицы – гуси, журавли, дикие лебеди и цапли, клиньями слетавшиеся на таёжные реки и озёра. Распускались листья. Дальние лесистые горы сплошь затянулись зелёной нежной дымкой. Дни стали длиннее, теплее. Солнце подолгу висело над почернелыми заводскими домишками. По ясному небу, раздавшемуся вширь, словно наполненный ветром парус, плыли ленивые перистые облака. Заводские бабы с первым же теплом сбросили осточертевшие коты и шлёпали по непросохшей грязи босиком.
Каторжане теперь часами сидели после работы на крыльце острога. Пели и слушали песни, иногда пускались в пляс. Кто не умел – те просто тянули носом терпкий, уже пахнущий цветеньем воздух, вздыхали и грустно улыбались.
– Скоро побегут, – уверенно говорили бывалые сидельцы. – Весна подошла, генерал Кукушка команду дал. Нашему брату уже и не сидится в железах-то… Воля всю душу извела!
Цыганка Катька, слыша такие разговоры, только свирепо сопела. Её конокрад всё ещё хромал и по временам заходился таким кашлем, что после долго не мог перевести дыхание и, отплёвываясь, проклинал всё на свете. Было очевидно, что этой весной цыганам не бежать. Однако в первые же дни страстной недели исчезли сразу четверо. Двоих поймали через неделю за тридцать вёрст от завода, в деревенском кабаке. Третий вернулся сам, отощалый и несчастный. Четвёртый, старый бродяга Кидым, сгинул бесследно.
– Вот Кидымка молодец, – одобрительно говорил атаман Берёза. – Не очертя голову помчался, всю зимушку готовился. У него и деньга, и харч на первое время имелся. И люди верные в деревнях у Байкала есть – вывезут! А эти голяки, прости Господи, куда сдёрнулись? Одна радость – в кабаке последние гроши оставить, а потом что? Лапти – они лапти и есть…
– Сам-то не собираешься? – спросил его Ефим.
Они сидели на острожном крыльце, поглядывали через тын на садящееся солнце. Никто не обращал на них внимания: толпа каторжан восторженно голосила, окружив пляшущую Катьку.
– Как не собираться? – усмехнулся Берёза. – Со дня на день пора. Сейчас вот ещё малость растеплеет…
– Меня бы взял с собой, что ли… – тоскливо протянул Ефим.
Атаман коротко блеснул на него холодными голубыми глазами, ничего не сказал. Ефим, не замечая этого взгляда, продолжал смотреть на красный шар солнца.
Со дня знаменитой драки, когда ударом силинского кулака была разнесена печь, прошло больше двух месяцев. Драку эту каторжане вспоминали до сих пор. Но ещё памятней оказался визит Катьки, которая явилась в мужской острог на другой же день.
Увидев на пороге цыганку, Ефим уселся на нарах с самым независимым видом. Но Катьку наглое выражение его физиономии не смутило ни на миг. Сложив на груди руки и небрежно прислонившись спиной к дверному косяку, она громко и с выражением начала объяснять Ефиму, что есть такое французская болезнь. После первых же слов цыганки заржал весь острог. Силин изменился в лице и зашарил вокруг себя руками в поисках чего-нибудь потяжелей. Но запущенный в сторону двери растоптанный кот даже не сбил Катьку с тона.
– Да ты слушай, душа пропащая, тебя жалеючи говорю! Ты в своей дыре медвежьей, поди, и слыхом не слыхал о пакости такой? А мы не первый день на свете живём и поболе твоего в городских болестях разбираемся! Эта твоя Жанетка помнишь каким ремеслом в Москве-то занималась? И сколько народу на ней в постеле опрастывалось? Это ж подумать смерть, что там водиться может у шалавищи этакой! Ты что, парень, три жизни себе наладил, что не боишься связываться? Ты хоть знаешь, что с тобой после той французки будет? Не знаешь? А я вот знаю! Слушай, покуда добрая! Перво-наперво…
И Катька пустилась перечислять – ответственно, подробно и на весь острог. Каторжане гоготали. Цыган Яшка, как мог, притворялся спящим, закрыв кудлатую голову соломенной подушкой, но плечи его подозрительно вздрагивали. Ефим давно бы задушил проклятую ворожиху, кабы не Берёза. Атаман один из всех слушал Катькин монолог без улыбки и даже покачивал головой: верно, мол.
– …а потом и весь нос целиком отвалится к чёртовой матери! – триумфально воздев палец к потолку, закончила Катька. – И чтоб мне околеть вот прямо здесь на месте, ежели вру! Да что я – у знающих людей поспрошай! Вон тут тебе и дядя Берёза скажет, и Торбыч, и Кочерга, и Осяня… Так что, коли ума в тебе нет и жисти молодой не жалко – продолжай, брильянтовый! Хорошая, чистая баба тебе без надобности, вот и ходи без носа! Видать, тоже не нужен! Через задницу дышать станешь!
И под хохот всего барака вредоносная баба величественно выплыла за дверь. Ефим догнал её уже на крыльце.
– Катька, брехала ведь!
– О чём, яхонтовый? – невинно подняла брови цыганка.
– Да что у Жанетки… вот это вот… от французов…
– Ну, отколь мне знать?! – закатила Катька бедовые глаза. – Только ты то в уме держи, что в Москве-то она в весёлом доме служила. Там-то их доктор раз в неделю смотрел насчёт этой французки. А по этапу она два года шла, подола не придерживала, а доктор, конечно, никакой и не заглядывал… Так что всё быть может!
Ефим растерянно молчал. Наконец с запинкой спросил:
– А как бы это… Узнать-то доподлинно?
– Сам узнаешь, – обнадёжила Катька. – Ежели словил уже – не ошибёшься. В три дня всё поймёшь. А коль хочешь увериться – лучше к доктору в больничку сходи, покажи своё хозяйство! Михайла Николаевич тебе враз скажет, офранцузился ты уже аль православный покуда!
Вообразив предлагаемую Катькой ситуацию, Ефим покраснел и выругался так, что восхищённо крякнул солдат у дверей. Катька же залилась звонким хохотом и, уже спрыгивая с крыльца, крикнула:
– Дурак ты, Ефимка, какого свет не родил! Кто же, миллион имея, грошикам медным кланяется? Смотри, упустишь свой миллион-то, счастье на дороге не валяется!
– Дура!!! – рявкнул вслед Ефим, но цыганки уже и след простыл.
– Врала, поди? – вернувшись, спросил он у Берёзы.
Тот пожал плечами:
– Про французку-то? Отчего ж, есть такое… Ты бы, парень, и впрямь поосторожней. Она, французка, правда, не всегда прилипает. Бывает, что обходится. Но уж коль вцепится – спасенья нет.
Несколько дней Ефим ходил как в воду опущенный: мужики боялись даже заговорить с ним. К Жанетке он больше и близко не подходил. Да и та не совалась в мужской острог, не желая снова быть вынесенной оттуда на могучем плече старшего Силина. Через две недели Ефиму сказали, что Жанетка сошлась с молодым вором, пришедшим с последней партией, и он даже вздохнул с облегчением: «Бог миловал… А то кто ж знал, что таковая французка на свете имеется?»
К Устинье он так и не пошёл – и жена не приходила тоже. Узнавать о ней Ефим теперь мог лишь стороной – от каторжан, вернувшихся из лазарета в родимый острог. И, как назло, каждый из них с восторгом вещал:
– Ну, братцы, сроду такого не слыхивал, что Устя наша Даниловна сказывает! И отколь только знает, отколь берёт! Такого ведь и в книжках, поди, не пропишут! Доктор Михайла Николаич – и тот в дверях стоит, как на часах, слушает, когда Устя Даниловна сказку говорит. А она и час, и два говорить может. И до того завлекательно! Давеча Петрову-третьему нарыв вскрывали, так он нипочём доктору не давался! Орал небогоугодное и ногами во все стороны брыкал! А Устя Даниловна пришла, села с ним, заговорила-заговорила – он и попритих. Подпустил доктора-то! Сам опосля божился, что и не заметил, как в дулю ножиком тыкали, – до того интересно слушать было! Ох, родит же свет баб умнеющих! Одну на тыщу! – выдавал наконец последнюю сентенцию очередной Устин поклонник – и осторожно косился на Ефима Силина. Тот сидел туча тучей, смотрел в стену, молчал. Примолкал и восторженный рассказчик, хорошо помня разбитый в кирпичное крошево угол печи.
Про себя Ефим понимал: конечно, нужно связаться в узел и идти к Устьке на поклон. Сама она не явится. Коли посулила, что не придёт больше, – значит, и не придёт. Стало быть, придётся самому… А вот зачем? Всё едино из больнички её теперь уж никак не забрать. И от доктора этого проклятого Устька шагу не сделает, интерес у ней там… Тьфу, и что было на простой девке не жениться?!
Помириться с братом не вышло тоже – хотя попытку Ефим сделал на другой же день после драки. Всё же эта стычка была у них не первой. Обычно Антип, добродушный и отходчивый, подолгу не держал сердца.
– Братка, ты того… Не серчай уж. Не со зла… Просто дух занялся, – заговорил Ефим.
– Ну, дух-то твой знаю я. – Антип посмотрел в смущённое лицо брата спокойными серыми глазами. – Ефимка, я тебе так скажу. Я тебе не родитель, указывать не вправе. Да и без толку. Но покуда Устьке не повинишься – со мной и не заговаривай.
Ефим опешил. До такого у них с братом ещё не доходило.
– Устьке-то твоей доктор понужней, чем я, – наконец сквозь зубы сказал он. – Весь завод уже болтает…
– Да ну? Может, мы с тобой на разных заводах робим? – невозмутимо поинтересовался Антип. – Я вот не слыхал ничего. Мужики, которы в больничке лежали, одно хорошее говорят. Бабьё – и то молчит… Стало быть, пустое. Сам себе выдумываешь, сам веришь, сам на стенку лезешь. Вот про тебя ей всё как есть рассказали…
– И плевать! – огрызнулся, скрывая горечь, Ефим.
– Дуришь! – резко сказал Антип. – Ну и ляд с тобой, надоел ты мне! Дождёшься, что она и впрямь…
– А ничего, что я ей муж законный?!
– Не муж ты, а псина на соломе! Ни себе, ни людям!
– Это ты, что ль, «люди»? – Ефим, меняясь в лице, медленно начал подниматься с нар. – Или доктор твой?!
– Видать, вчерашнего-то мало тебе, – спокойно сказал Антип. Взял нож, которым стругал ложку из чурбачка, аккуратно смахнул стружки в ладонь и пошёл в сени.
– Да иди к ней, иди! Поперёк дороги не встану! – заорал ему в спину Ефим. В глазах было темно от бешенства, и уже было не остановиться, не опамятоваться. – Я ж знаю, ты только и ждёшь, когда я с дороги уйду! И никакой закон не удержит! И ей с тобой куда как хорошо станет! Хоть со всем заводом валяйся – Антипу Прокопьичу наплевать будет! У него, дурня, один свет в глазах – Устька! Да пропади ты пропадом вместе с ней! Хоть любитесь, хоть женитесь! Мешать не буду! Нешто мало других баб-то?!
Дверь за Антипом закрылась, и Ефим наконец опомнился. Со всех сторон на него испуганно глядели каторжане. Тяжело дыша, он выругался, лёг ничком и зарылся лицом в солому.
С того дня Антип замолчал намертво. Ефим не пытался больше исправить дело, хотя в душе мучился страшно: никогда в жизни они с братом не ссорились надолго. А уж о том, чтобы молчать, как каменные истуканы, неделю за неделей, и в страшном сне не увидать было! Понимая, что кругом виноват он один, Ефим не мог заставить себя заговорить с Антипом снова. Что говорить-то? Слушать, как он Устьку до небес возносит? Зубами скрипеть, зная, что старший брат ещё на селе по Устьке с ума сходил, что они даже сосватаны были и что не ровён час… Прежде-то Антипка, понятное дело, не совался. А сейчас сунется, как бог свят! Да ещё и доктор этот… Тьфу, будь они неладны все!
– Ты, парень, не мучайся, смирись, – сказал однажды Берёза, когда сырым и тёплым вечером они вдвоём сидели на острожном крыльце.
Ефим каждый вечер выходил сюда в надежде на то, что вместе с другими бабами придёт и Устинья. Надежда, впрочем, была крошечной. Он помнил, что жена и в девках не любила посиделок, скучала на них. Ещё в Болотееве для того, чтобы затащить сказочницу на вечёрку, нужно было всем обществом скидываться орехами и горохом для её сестричек. Теперь же Устю и вовсе было не выманить из больнички. Ефим напрасно просиживал на крыльце вечер за вечером. Рядом с ним обычно оказывался Берёза. Ефиму льстило, что грозный волжский атаман не гонит от себя деревенского парня и беседует с ним как с равным. А теперь, когда Антип третий месяц не открывал рта, говорить Ефиму и вовсе было больше не с кем.
– Зря с ума сходишь. – Берёза выплюнул зелёную веточку, которую не спеша жевал уже полчаса, потянулся. – Тут уж ничего не поделать. Скрути кишки да откажись.
– Это от жены-то законной? – сквозь зубы спросил Ефим.
Берёза не ответил, чуть заметно дёрнул краем губ. Ефим пристально смотрел на него. Но на бугристом, неподвижном лице атамана не выражалось ничего.
– Здесь, парень, не деревня твоя, а Сибирь, – наконец медленно, словно раздумывая, выговорил Берёза. – Всё с ног на голову встаёт. Сам разумей. Коли б она за тебя в деревне вышла – всю жизнь под свёкром со свекровью ходила бы, пикнуть не смела. К тому ж ты сам говорил: вы самые богатеющие на селе были, а она – голота рваная. Так ведь?
– Ну, так… – осторожно подтвердил Ефим.
– А здесь-то, глянь, наоборот всё. Устя Даниловна в почёт вошла. Доктор без неё и обойтись не может. Всё начальство к ней лечиться ходит. Давеча господину полицмейстеру почечуй зашёптывала, а он ведь давно мучается! Сына брагинского отходила! Того гляди вовсе на ноги поставит! А ты здесь кто есть? Варнак варнаком! Вон нас тут таких сколько железами брякает! Ну и понимай теперь: где ты и где она… На каторге баб и так мало. И бросовые бабёнки на части рвутся, а уж таких, как Устинья твоя…
– Она мне слово давала! Венчаны мы!
Берёза только свистнул: без насмешки, скорее с сожалением.
– Эх ты, парень… Да здесь таких венчаных да развенчанных полон завод! Говорил я тебе: баба всегда где лучше сыщет. Кабы вы в селе остались – она б от тебя никуда. А здесь – вовсе другой разговор. Ещё понимай, что срок у ней меньше, чем у тебя. На поселение раньше выйдет. И заживёт как знает, про тебя думать забудет. Потому и говорю: привыкай да смирись. Не ты один тут таков.
– Тебя послушать, так правды вовсе на свете нет, – сдерживаясь из последних сил, сказал Ефим. На скулах его прыгали желваки.
– Вестимо, нет! – даже усмехнулся Берёза. – Вот ты двадцать три года на свете живёшь – хоть раз эту правду видал? Хотя, пожалуй, ты-то видал. Когда барыню резал с кобелём её. Вот это самое правда и есть!
Ефим промолчал, передёрнул плечами. Даже сейчас, три года спустя, он не мог спокойно вспоминать тот страшный рассветный час. Ещё тёмную комнату, чуть заметную полосу света на пыльном полу, искажённое, синеющее лицо Упырихи, её вывалившийся изо рта язык… И сразу же – перекошенная от страха, толстая рожа Афоньки, и глухой удар топора, и кровь, хлестнувшая на обои, и густая волна тошноты, подкатившая к горлу… Ефим закрыл глаза, незаметно сглотнул.
– По-другому нельзя тогда было, – почти шёпотом, больше для себя, чем для Берёзы, сказал он. – Кабы не я, она Устьку убила б, Упыриха-то…
– А я разве что? Я и говорю: молодец. С барами только так Бог и велел. Я своего барина тридцать лет назад уходил. Так же, как и ты, топором по темечку вдарил – поминай как звали. И – на Волгу! Сперва у атамана Саврасого в есаулах ходил. Потом и свою ватагу собрал. И я тебе, парень, так скажу: только там, в ватаге, справедливость и есть.
– В чём же справедливость-то, когда вы народ обижаете? – недоверчиво спросил Ефим. Берёза изумлённо повернулся к нему… И вдруг рассмеялся, искренне и весело.
– Мы? Народ?! Скажешь тоже, парень… Да как тот народ обидишь, коли у него в кармане вша на аркане? Что с него взять, с народа твоего?! Да мы как крикнем: «Сарынь на кичку!» – бурлаки тотчас носами в песок падают! И лежат недвижно, покуда мы расшиву аль баржу очищаем! И приказные, какие на барже, тоже лежат не шевелятся! Потому у меня на Волге закон такой: кто мне не мешает, того и я не трону. Вот хозяина можем под волну спустить – ну так о нём и не пожалеет никто. Скажешь – несправедливие?
Ефим, не зная, что ответить, пожал плечами. Впрочем, Берёза на него уже не смотрел. Холодные голубые глаза атамана провожали солнце, уже наполовину завалившееся за горы.
– Вот сейчас ещё чутку пригреет – и пойду я. Перезимовал, хватит. Пора и домой, на Волгу-матушку. Стосковался уж…
– Взял бы меня с собой… – невесело попросил Ефим.
– Да пошли, – легко согласился Берёза.
Парень резко повернулся к нему:
– Что – взаправду?!
– Отчего ж нет? – атаман помолчал. – Другого кого не позвал бы, а ты – товарищем верным будешь. Крови чужой, в случае чего, не забоишься, видал уж. Силу твою знаю я. Тайгу пройдёшь – не умаешься… Коль не шутишь – пошли. А ежели просто сболтнул – то помалкивай впредь. Поразмысли сперва: баба у тебя здесь, брат…
– Сам говорил: не нужон я ей, – буркнул Ефим.
– Ну, я человек сторонний… Могу чего и не знать. Решай, как лучше тебе.
Ефим молчал. Берёза тоже не сказал больше ни слова и, дождавшись, пока солнце сядет, убрался в барак.
Ночью Ефим лежал без сна. Смотрел на кривую луну в окне, слушал скрипенье сверчка за печью. Мысли были шалые, злые, мечущиеся, как острые льдины на весенней реке.
Уйти бы… Впрямь уйти. Что ему тут делать? Ждать вечер за вечером, не придёт ли Устька к острогу? Да она, поди, и думать о нём уж забыла. Крутится в своей больничке, почёт ей там со всех сторон, вся каторга на неё молится… Знатно устроилась! Прав Берёза: на селе она бы место своё знала! Слово бы поперёк сказать боялась, работала бы да молчала. Ещё и спасибо говорила б, что в достатнюю семью попала, рванина голоногая… А тут что?! За три месяца не появилась ни разу к мужу законному. Ну, и не больно, стало быть, надобен. Был надобен, когда из-за неё грех на душу брал. Когда лесами на Москву пробирались, когда по этапу с ней шёл. А теперь ей и без мужа неплохо. Может, там уж и доктор у ней под боком по ночам ворочается, кто знает… И чёрт с ней. Здесь и впрямь не село, бабы волю взяли. Верно говорит атаман: если он, Ефим, уйдёт, Устька вздохнёт спокойнее. Через год забудет, как его и звали. Коль третий месяц за Жанетку простить не может, стало быть, без нужды ей. Ефим закрыл глаза, и перед глазами встала Устя – такая, какой он нашёл её в Москве, – синеглазая, весёлая, сияющая от счастья… Любила она его тогда. Тогда ему только слово бы сказать – и шагу б она не сделала ни к больничке, ни к доктору этому. А теперь – что ж… Теперь – всё. И от этой мысли к горлу подступила такая лютая тоска, что Ефим чуть было не вскочил с нар, чтобы немедленно помчаться в лазарет, кинуться к Устьке, схватить её и трясти, или целовать взахлёб, или бить смертным боем, или в ногах у неё валяться… До тех пор, пока не добьётся от неё – любит ещё, ведьма чёртова, или нет?!
Ефим сел на нарах. Шумно вздохнул. Осмотрелся. Острог спал. Рядом ровно, глубоко храпел Антип. Луна, глядящая в окно, освещала его запрокинутое лицо с резкой морщиной между бровей. Ефим с тоскливой ненавистью посмотрел на брата, чуть слышно выругался. Дрыхнет, сукин сын, хоть бы что ему… Распинай сейчас и позови с собой в побег – не пойдёт ведь! Ему и здесь неплохо: работа не тяжёлая, от начальства ущерба нет, опять же – Устька… Всю жизнь за ней, как нитка за иглой, таскается, и плевать, что она за его же братом замужем… Два месяца рта не раскрывает… Осерчал, вишь, за свою Устю Даниловну… «Ну и молчи до морковкина заговенья!» – с сердцем пожелал Ефим. Лёг на нары, зарылся лицом в солому и закрыл глаза.
На другой день, шагая рядом с Берёзой на работу, Ефим вполголоса сказал:
– Иду с тобой когда скажешь.
Атаман неторопливо, совсем не удивившись, кивнул.
– Что надо делать-то?
– Ничего не делай. Слова моего жди. Да смотри – молчи. И со мной про то боле не заговаривай.
– Да сам знаю, – слегка разочарованно сказал Ефим. Почему-то ему казалось, что, получив его согласие, атаман немедленно начнёт обсуждать с ним план бегства. Невольно он покосился на брата, идущего чуть поодаль. Но Антип топал вперёд, насвистывал в такт брякающим кандалам какую-то песню и на брата не смотрел. «И чёрт с тобой, сулема!» – в сердцах подумал Ефим. Бешено пнул подвернувшийся под ногу камень и ускорил шаг.
* * *
– Господи, Дунька… Просто глазам своим не верю! Зачем же её туда понесло? А если увидят, не дай бог, застанут?!.
– Не могу, барыня, знать! А только теперь сами видеть изволите! Я вам ещё когда говорила, что эта Васёна себе на уме, только вы же и слушать ничего не желали! Где это видано, чтобы дворовая без спросу и хозяйского дозволения невесть где по полдня болталась?
– Но она же говорила, что ходит за цветами…
– К хозяевам своим прежним?! Да через забор?!. Сами же видите! Истинно говорю вам – нечисто тут! Хорошо ещё, что я вчера проследить догадалась… Ну – ничего! Сейчас мы её на чистую воду-то выведем, окаянку! – Дунька упёрла кулаки в бока и победоносно взглянула на сидящую в дрожках Настю. Та покачала головой и, приподнявшись, старательно всмотрелась в заросли цветущей черёмухи, где минуту назад скрылась Василиса. Сразу за черёмухой, в купах садовых деревьев, виднелась зелёная крыша агаринского дома.
Зиму Василиса провела в доме Закатовых без приключений. Наряду с другими девками пряла и шила в девичьей, разговаривала мало. Подолгу думала о чём-то, и, чтобы отвлечь её от размышлений, требовалось несколько сердитых окриков. Впрочем, она была старательна, уроки исполняла не хуже других, ни с кем не ссорилась – но и не подружилась ни с кем. К барыне Васёна оставалась неизменно почтительна. На вопросы Насти, довольна ли она новым житьём, сдержанно отвечала: «Премного благодарна, всем как есть довольна». Иногда Настя, приходя в девичью, останавливалась перед Василисой. Глядя в её прекрасное, словно выточенное античным резцом лицо, склонённое над пяльцами или кроснами, с восхищением говорила:
– И откуда только такая краса берётся?! Васёна, почему ты не выходишь замуж?
– Прикажете выйти?..
– Боже упаси, я не принуждаю! Но неужто тебе никто не нравится? У меня уже Ванька-конюх тебя выпрашивал! И Федька со скотного в ногах валялся, чтоб тебя ему отдали! Даже из деревни сваты приходили! Вот уж не пойму, как они смогли тебя разглядеть, если ты из усадьбы-то не выходишь! Я уж, право, устала всем им отказывать!
– Воля ваша, отдавайте, если вздумали, – говорила, чуть бледнея, Василиса. Настя с досадой отмахивалась:
– Вот же дура! Говорят тебе, я своих людей насильно не выдаю и не женю! Но, право, странно… С твоей красотой… Впрочем, как сама знаешь. Не передумала с огородом-то?
Об огороде посреди зимы и думать было незачем. Настя задавала свой вопрос лишь для того, чтобы посмотреть, как освещается мягкой, мечтательной улыбкой лицо девушки.
– Николи не передумаю, барыня! Сами увидите, сколь добро получится! И цветы посадим, где вы распорядиться изволили – под окном! Пусть только весна придёт, ужо увидите!
Слово своё Василиса сдержала и с наступлением апрельского тепла страстно взялась за дело. И прялка, и игла были забыты. За несколько дней Васёна сама, не подпуская никого из дворовых, очистила, вскопала и перебрала от сорной травы землю под окнами усадьбы. Всю следующую неделю она спозаранку исчезала из имения с корзиной в руках – и возвращалась к полудню, а то и к вечеру, уставшая, но счастливая, с полной корзиной разнообразной цветочной рассады.
– Да где ты только берёшь это всё?! – ужасалась Настя, глядя на то, как Васёна рассаживает на клумбе хрупкие кустики бархатцев, люпины, росточки астр, сильные, крепкие побеги мальв. – Неужто просишь по соседям? Что там обо мне подумают?!
– По старым знакомствам хожу, барыня, – туманно отвечала Василиса, бережно, как больного щенка, держа в руках росточек пармской фиалки и что-то ласково нашёптывая ему. – Не беспокойтесь, никакого греха нет. И господам убытков тоже. На будущий год уж и свои семена будут! И, если дозволите, в Смоленск съезжу, мы с дедушкой там знали, у кого брать…
Настя только махала рукой, не желая признавать, что новое дело захватило и её. Теперь, проснувшись утром, она первым делом спускалась вниз, к новорождённой клумбе, чтобы посмотреть, что поднялось и распустилось за ночь. Возле клумбы она неизменно заставала Васёну – босую, с подоткнутым подолом. Та что-то продёргивала, поливала или выкапывала.
– Доброго утречка, барыня! Видали – маргаритки-то как поднялись! А я уж как боялась, что здесь им темно будет…
– И то правда, какие чудные! – Настя с интересом смотрела на розовые головки маргариток. – Но послушай, если им темно, – может быть, липу спилим?
– И-и, не думайте! Липа – дерево хорошее! Оно любой сад бережёт, и цветы без ней затоскуют… Ну – ладно! Далее вы и без меня справитесь, а мне в огород пора! – Васёна одёргивала перепачканный подол, с явным сожалением выбиралась из клумбы и решительным шагом двигалась через всю усадьбу в огород. Вслед ей летели восхищённые мужские взгляды.
– Вот ведь дура так дура! – сердито говорила Дунька, приходя к барыне. – Все парни через эту Василису уже с ума посходили, а ей хоть бы что! Одни эти цветы на уме! А что это такое, цветы-то, – трава и есть пустая! Давеча Васёнка опять с утра из дома смылась, к полудню вертается – аж сияет вся тазом медным! А за нею Ванька-конюх идёт и корзину несёт с какими-то луковицами грязными – ма-а-ахонькими, как фасоль! А рожа-то глупая-глупая, аж противно!
– У луковок?
– Да у Ваньки же! – не замечала насмешки Дунька. – А эта ведьмища даже и не чует ничего! «Спасибо, Иван, поставь на землю – да в тенёк, не под солнце!» Тьфу, завелась на наши души, землеройка! И какой с неё, спрашивается, в хозяйстве прок?!
Бурчала, впрочем, Дунька зря: прок от «землеройки» определённо был. Едва осмотревшись в обширном хозяйском огороде, Васёна объявила, что половина овощей сажалась прежде неправильно, и если сего прискорбного факта не изменить, то к осени вырастет одна мелочь. «Огородные» девки взвыли. Настя схватилась за голову. Дунька завопила, что проклятая ведьма всё врёт и только набивает себе цену. Но Василиса быстро погасила все страсти, поклявшись, что наведёт порядок и здесь.
За дело она взялась не сходя с места и сама целый день, на солнцепёке, вскапывала, как одержимая, длинные гряды. Девки, ворча, вынужденно следовали её примеру. Василиса не давала покоя никому. Стоило уморившейся работнице потихоньку отползти к краю огорода, в благословенную тень черёмухи, как вслед ей летело негромкое:
– Это куда ты, Фроська? Полгряды не кончено!
– Да чтоб тебя разорвало! – вскидывалась Фроська, вылезая из кустов. – Явилась на наши души, хужей урядника! Да что ты за начальство такое, а?! Ишь, взялась распоряжаться, зараза! Ну, что ты мне сделаешь? Барыне побежишь жаловаться?!
– Вот ещё. – Василиса не спеша выпрямлялась и смотрела прямо в лицо опешившей Фроськи синими гибельными глазами. – Мне жалиться никому не надо. Я тайную силу знаю.
– Это какую же, Похвальба Хвастуевна?!
– А вот попробуй гряды не закончить – сейчас и узнаешь! – спокойно отвечала Васёна и, не глядя более на Фроську, склонялась к земле. Фроська независимо фыркала… И возвращалась к работе.
– Кто её, нечистую, знает… – плевалась она вечером в людской. – Может, и впрямь тайное что ведает… Гляньте на неё, краса такая, что барам впору, – а замуж не хочет! Цельными днями только в грязи роется – да рада при этом так, будто жемчуга перебирает! Парней в упор не видит! Вечером в людскую прибежит, штей нахлебается – и спать повалится, ни на какие игрища не идёт! Как бабка старая! Наши-то говорят: «Васёна, сходи с нами, хоровод поведёшь! Парней-то пожалей, измучились по тебе!» А она только рукой машет. Ведьма как есть! И за что только таким дурындам Бог красу даёт, когда они с ней и обращаться не умеют?! Ещё и огород барыне перепортит! Где вот это видано, чтобы огурцы покрывать?! Отродясь этого не было! Родились и крестились, а такого не видали!
Однако Василиса явно знала, что делала. По её совету грядки с огурцами на ночь стали укрывать полотном и рогожей. Когда на Васильев день в середине мая неожиданно ударил заморозок, во всей округе только у Закатовых не побило чернотой огуречные ростки. Как бешеные, принялись тянуться из земли свёкла и репа. Картофель топорщился сильной, сочной, ничем не повреждённой ботвой (Василиса лично опрыскала все гряды разведённым в воде табаком). Морковь, которую Васёна под протестующие вопли других огородниц сама проредила «до чёрных заплат», неожиданно попёрла из земли так, что на неё сбегалась посмотреть вся дворня. Видя такой успех, Настя отдала под начало Василисы пятерых девок и Евдокима: неразговорчивого, хромого, но сильного мужика, исполнявшего в имении всю грязную работу. Этот небольшой отряд слушался Васёнку беспрекословно, и работа в огороде закипела.
– Прекрасное приобретение вы сделали, друг мой! – обрадованно говорила Настя мужу. – Воистину, не знаешь, где найдёшь, где потеряешь! В этом году и солений, и сушений втрое будет из-за этой девки! И ведь ей только шестнадцать – а столько всего знает, что опытному садовнику впору! Как хотите, но эти Агарины полные дураки! Впрочем, они всегда таковы были…
Вероятно, всё так и катилось бы дальше, кабы не бдительная Дунька. Именно она заметила регулярные отлучки Васёны из имения. Та пропадала раз в три-четыре дня, исчезая куда-то бесследно на несколько часов – и не говоря никому ни слова. Выявив эту закономерность, Дунька однажды потихоньку пошла за Василисой – и в тот же вечер, встревоженная, стояла перед своей барыней.
– К Агариным ходит! Истинный крест! – забожилась она Насте. – Я за ней до самой усадьбы шла, по кусточкам пряталась! Дошла, ведьмища, до черёмухи и – нырь в неё! А назад уж за полдень вышла! И – домой, как ни в чём не бывало!
– Но что ей у них делать? – изумилась Настя. – С ней ведь там дурно обращались… С какой же стати ей тайком бегать к прежним господам?
– Вот уж не знаю! Воля ваша, сами и проследите! Как она вдругорядь соберётся – так я за вами сбегаю!
«Вдругорядь» Василиса шмыгнула за ворота дома уже на следующий вечер. Дунька кинулась за барыней, и они вдвоём, взгромоздившись в дрожки, покатили в сторону села Агарькова. Разумеется, Василисы уже было не видать. И сейчас, стоя рядом с верной Дунькой на задворках агаринской усадьбы и стягивая на плечах шаль, Настя раздумывала, что будет, если они простоят тут до ночи, а Василиса так и не появится.
От размышлений Настю отвлёк громкий шёпот Дуньки:
– Барыня, барыня! Кажись, бежит Васёнка-то наша!
Настя вздрогнула, обернулась. Чуть поодаль, на лугу, уже затянутом туманом, действительно появился тёмный силуэт. Васёна не бежала, а медленно шла, согнувшись и удерживая в подоткнутом подоле нечто лохматое и бесформенное.
– Батюшки… – пробормотала Дунька. – Никак, спёрла чего у Агариных-то? Барыня, да вы погодите! Пущай поближе подойдёт, не то как раз в кусты порскнет…
Но Настя, не слушая её, нахмурилась и шагнула вперёд.
– Василиса! – разнёсся на всё поле её звонкий, сердитый голос. – Что это ещё за новости? Где ты была?!
Васёна вздрогнула, замерла. Растерянно прошептала:
– Барыня?
– Она самая! – подбоченилась Настя. – Изволь отвечать, что ты делала у Агариных? И почему ушла без спросу?
– Георгины воровала, барыня, – помолчав, странным, низким голосом ответила Василиса. – Те, что мы с дедушком прошлым годом сажали. Они у Агариных всё едино не нужны никому… В эту весну их как попало в землю повтыкали… А их ведь делить надо, а делёнки проращивать загодя…
– А почему ты ревёшь? – недоверчиво перебила Настя, вглядываясь в лицо девки. – Что стряслось, отвечай немедленно! Тебя что – кто-то увидел, обидел там? И ведь ты не первый раз сбегаешь из имения! Не спорь, я знаю! Отвечай сию же минуту, не то…
Василиса жалко улыбнулась, неловким движением провела рукой по мокрому лицу. Покачала было головой – но тут силы и выдержка оставили её. Она рухнула на траву прямо там, где стояла. Драгоценные клубни георгин, выпав из её подола, покатились по дороге.
– Господи… Господи, царица небесная! Барыня! Миленькая!!! Господи-и-и, сил моих не-е-ет… Нету больше сил моих, для ча ж я не помру-то…
– Васёна!!! – перепуганная Настя с размаху села на землю рядом с девкой, обхватила её за плечи, одновременно отмахиваясь от налетевшей с квохтаньем Дуньки. – Отвечай сейчас же, что с тобой?!
– Де-душ-ка… – едва смогла выговорить, содрогаясь от рыданий, Василиса. – По-ми-ра-ет… В сарае… У господ… Без меня, без меня, господи!!!
Кое-как, путём долгих уговоров и утешений, удалось выяснить следующее. Старик Евсеич, после того как внучку продали Закатовым, слёг и больше не вставал. Всю зиму Васёне удавалось лишь отрывками узнавать сведения о дедушке. Ей передавали, что Евсеич болеет, не поднимается с лежанки. Самым ужасным был день, когда Васёна узнала о том, что садовые работы у Агариных производились силами дворовых девок: старик не смог подняться даже к своим любимым розам.
– Коли такое… Коли даже розы черенковать не встал… Стало быть, вовсе дело худо! – заикаясь и всхлипывая, рассказывала Василиса. – И у меня всё сердце изорвалось… Ночами спать не могла, всё думала, думала… Как он там, без меня-то, родненький мой… И ведь знает, что мне у вас хорошо… И что барину молодому меня не взять… И что господа добрые, пошли вам Бог… Видать, не помогло, раз помирает!
– Так вот в чём дело… – задумчиво сказала Настя, глядя через согнутую спину девки на алую, гаснущую полосу заката. – Вот зачем тебя к Агариным на двор носило. Ты хотела повидаться с дедом?
– Простите, барыня, меня, грешную… Прикажите наказать, виновата… Только сил не было совсем… У меня ведь во всём свете никого, кроме дедушки! Он меня вырастил, научил всему, обижать не давал… Если бы не молодой барин… Простите меня, барыня…
– Ну, так ты увиделась нынче с дедом?
– Какое… Побоялась… Вчера только и смогла что к сарайке подобраться, к окошку… Там мальвы растут, меня не видать было… – Василиса с новыми силами залилась слезами. – Барыня, он там лежит… На лежаночке, где завсегда спал… Исхудал, родимый, в чём только душа осталась… Я шепчу, зову: «Дедушка, родной!» А он и не слышит… Так и ушла, не докричавшись… И сегодня то же самое… Ой, барыня, миленькая, смерть моя пришла!
– Дура! – свирепо объявила Дунька, которая ползала вокруг на четвереньках и тщательно собирала рассыпавшиеся клубни георгин. – Могла бы и не хорониться по кустам! А как есть сказать, что с дедом повидаться хочешь! Мы с барыней чего получше придумали бы!
– И то правда. – Настя по-прежнему смотрела в темнеющее небо, сдвинув брови и о чём-то напряжённо размышляя. Её лицо стало напряжённым и почти жестоким. Василиса, всмотревшись в него, невольно подалась в сторону. Но Дунька, найдя в мокрой от росы траве её руку, ободряюще пожала её и шепнула:
– Идём-ка, дурёха, в дрожки… Пора и домой. Барыня, извольте подняться, от травы застудитесь! Поздно уж, поедем!
Ехали молча, в сгустившихся сумерках. Василиса чуть слышно всхлипывала. Дунька, обняв её за плечи, шептала что-то утешительное. Вожжи держала Настя, которая всё так же хмурилась и о чём-то серьёзно думала.
Впереди, в затуманенном поле, показались огни: день назад в полуверсте от Болотеева раскинул свои палатки цыганский табор. Вслушавшись в гомон и смех, несущийся от драных шатров, Настя вдруг решительно крикнула: «Тпру-у!» – и старый Рыжка послушно встал посреди дороги.
– Что такое, Настасья Дмитриевна? – испугалась Дунька.
– Скажи-ка мне, душа моя… Барин вечером в табор уехал?
– Как есть уехал! Потому лошадей ихних смотреть собрался! – с готовностью подтвердила Дунька. – Я ж вам говорила, нешто позабыли?
– Помню, помню… Так, стало быть, он и сейчас там?
– Велели до ночи не беспокоиться.
– Та-ак… Вот что. Езжайте-ка вы обе домой, а я пойду барина отыщу. Мне нужно с ним немедленно поговорить.
– Барыня, миленькая, не продавайте меня!!! – завопила Василиса так, что Дунька зажмурилась, а от цыганских костров к ним обернулись тени.
Настя поморщилась и резко махнула рукой:
– Замолчи, дура! Я не собираюсь тебя продавать! Ну вот тебе крест святой, не реви только! Поезжайте домой, а я вернусь с барином! Дунька, слушайся, тебе говорят!
Дунька собралась было заспорить, но Настя нахмурилась так, что верная девка только махнула рукой, схватила вожжи и рявкнула:
– Пошёл, дохлятина, чтоб тебя волки сожрали!
Рыжка мотнул головой и спокойно тронулся с места. А Настя, не оборачиваясь, зашагала по седой от росы траве к цыганским кострам.
– Васька, отстань. Мне не нужен твой запальный мерин.
– Какой «мерин», барин?! Какой запальный?! – невысокий, лохматый, похожий на рассерженного домового цыган даже подпрыгнул на месте и в праведном гневе хлопнул себя кнутовищем по сапогу. – Ты, видать, не в обиду будь сказано, и в конях не смыслишь ничего! И добрых жеребцов не видал никогда! Ишь, чего выдумал, – запальный! Да он десять вёрст пробежит – дыха не перебьёт, а ты…
Стоящие вокруг цыгане согласно загудели. Закатов смерил их насмешливым взглядом. Снова подошёл к предмету спора, невозмутимо хрупающему травой. Это был высокий, тонконогий каурый жеребец лет пяти от роду. Закатов, слегка сощурившись, долго смотрел на него. Затем, не оборачиваясь, попросил:
– Сними-ка, друг, с него путы.
– Это зачем, барин? – настороженно спросил цыган.
– Сними, а то и покупать не стану!
Васька сердито пожал плечами, но путы с каурого всё же снял и, бросив их в траву, насмешливо повернулся к Закатову:
– Ну? Чего теперь углядишь, золотой мой?
Тот, не обращая на цыгана внимания, подошёл вплотную к жеребцу. Ласково огладил его, похлопал по спине и долго вслушивался в лошадиное сопение. Затем внезапно приказал:
– А ну, в стороны, черти! – и под испуганные, удивлённые возгласы цыган взлетел жеребцу на спину. Тот недовольно всхрапнул, сделал было свечку, но Закатов удержал его, шлёпнул по крупу, прикрикнул – и каурый с места взял в карьер.
Через несколько минут нарастающий топот копыт возвестил о том, что каурый с седоком возвращаются. Цыгане расступились, и жеребец ворвался в освещённый круг света у костра, тяжело, со свистом дыша и прядая ушами. Даже в неверном свете огня было видно, как он взмылен. Закатов спрыгнул на землю. Покачнулся, неловко наступив на больную ногу, удержался за холку каурого. С усмешкой взглянул на Ваську.
– Ну, взгляни на чудо своё! Хоть отжимай его! А ведь полверсты всего проскакали! Я подозревал, что он запальный, но что до такой степени…
– На что, барин, коня умучил, ей-богу… – смущённо проворчал цыган, обтирая рукавом вздымающиеся бока каурого. – Не нравится – ну так и не купляй, а мучить зачем?
– Мучить? Полуверстою галопа? – поднял брови Закатов. – Может, прикажешь носить его на руках за экипажем?
Васька сердито огрызнулся, но слова его потонули в хохоте цыган. Закатов смеялся вместе с ними и не сразу заметил голопузого мальчишку, который нёсся к костру и на бегу орал во всё горло:
– Э, раё, раё, кэ ту тыри раны явья! Джял адарик![8]
– Что за вздор? – Закатов резко повернулся – и сразу же увидел жену. Она шагала к костру в окружении цыганок, которые дружелюбно улыбались ей. Выражение лица у Насти было самое решительное, но было видно, что ей сильно не по себе в обществе этих загорелых, оборванных и шумных тёток.
– Что стряслось, Настя? – испугался он. – Почему ты здесь? Что-то случилось в имении?
– Не волнуйтесь, всё хорошо. – При виде мужа Настя заметно успокоилась. – Извините меня, Никита Владимирович, что я вот так… Надеюсь, я вам тут ничего не испортила?
– Нет, разумеется. Но… в чём же дело?
– Мне надо с вами поговорить. – Узкие чёрные глаза ногайской княжны смотрели на него в упор, и Закатов отчего-то почувствовал себя неуютно.
– Что ж… изволь, я к твоим услугам.
– Садись, барин, к костру! – радушно предложила старая цыганка в рваной красной шали. – И барыню свою сади, мэк[9] погреется!
– Спасибо, тётка Гаша, мы лучше пройдёмся. И не ждите меня ужинать, ешьте! Васька, а с тобой я ещё не договорил!
– Мэк бэнга туса ракирна![10] – свирепо раздалось из темноты.
Закатов усмехнулся, предложил жене руку, и они вдвоём пошли по мутно белеющей сквозь туман дороге.
Когда Настя закончила свой рассказ, в поле стало темным-темно. Опрокинутое над цыганским табором небо было сплошь закидано звёздами. Над дальним лесом, то и дело продираясь сквозь поднявшийся туман, плыл месяц. В таборе запели, но ветер сносил к реке голоса. Остановившись посреди дороги, Никита молча смотрел в едва различимое в темноте лицо жены.
– Никита Владимирович, я понимаю, что вам это не ко времени и без надобности. Да и вовсе ненужный убыток… – Настя, по-своему поняв его молчание, заговорила быстрее и сбивчивей. – Но вы, между прочим, сами виноваты! Купить… То есть выиграть эту девицу и даже не поинтересоваться, что она за птица! Мало того, что она – сердечный предмет местного разбойника… Так ещё и дед этот, по которому она уже полгода втихомолку рыдает! И что это за манера приобретать людей без их родственников! Даже папенька мой, царствие ему небесное, не додумывался семьи разбивать, а тут…
Закатов улыбнулся, подумав, что Настиному папеньке навряд ли вообще приходилось «покупать людей». Но Настя его улыбки не заметила.
– Разумеется, решать вам. От старика этого всё равно не будет никакого толку: Васёнка говорит, что он при смерти. Деньги окажутся выброшены на ветер. Но вот что я вам хотела предложить… У меня есть, как вы знаете, бриллиантовый браслет, маменькина память. Красивая вещь, а надеть всё равно некуда. Да и смешно выглядеть будет с нашими провинциальными тряпками… Так нельзя ли мне его заложить в уезде? Возможно, этого хватит, чтобы выкупить деда, и если вы не против…
– Ну, только этого не хватало! – возмущённо перебил её Закатов. – У тебя это единственная красивая вещь… А я, болван, ни разу не подумал о том, чтобы купить тебе ещё что-то…
– И думать забудьте! – замахала руками Настя. – Вот уж совсем будут никчёмные траты! Нам хозяйство поднимать надо! И так с этой Василисой сплошные убытки, а мне…
– Настя, перестань говорить об убытках. – Закатов, помедлив и удивляясь тому, что для него это по сей день непривычно, взял жену за руку. Она тоже вздрогнула. Холодные пальцы напряглись в руке Никиты так, что он в конце концов выпустил их. – Думаю, что один дед – невелики расходы. Меня более беспокоит, как объяснить это всё Агариным. Я и так слыву в уезде опасным мечтателем, как Чацкий…
– Кто-кто? – заинтересовалась Настя. – Нашего уезда господин?
– Нет, это мой знакомый москвич, – серьёзно пояснил Никита. – Видишь ли, если я явлюсь к Агарину и объявлю, что намерен купить его умирающего садовника лишь для того, чтобы его внучка не убивалась… Боюсь, он поедет к предводителю и потребует, чтобы у меня имение приняли в опеку. Как у сумасшедшего.
– Он сам сумасшедший, этот ваш Агарин! – взвилась Настя. – Хуже, чем у него, нигде во всём уезде с людьми не обходятся! Посмотрите на эту Васёну! И на её жениха несостоявшегося, из-за которого теперь на версту от дома отъехать страшно! И на…
– Ещё два года назад в моём имении творились вещи пострашнее, – глядя в сторону, напомнил Закатов.
– Но в этом не было никакой вашей вины! – горячо заявила Настя. – Не спорьте, я знаю! Вы не допустили бы никогда! И что это за радость – выставлять себя извергом! Ещё скажите, что вы такой же, как этот живодёр Агарин!
Закатов невольно усмехнулся: так страстно Настя защищала его от себя самого.
– И потом, можно же придумать что-то! – не замечая его улыбки, Настя увлечённо продолжала рассуждать вслух. – Ну, скажите ему, что беременная жена сошла с ума и вздумала разводить у себя роскошные сады, а никто в имении ничего в этом не смыслит. А приглашать садовника за деньги – накладно, и не будет ли в таком случае Мефодий Аполлонович любезен… Что с вами, Никита Владимирович?
– Настя, ты… боже мой, ты ждёшь ребёнка?!
Она сразу умолкла, закусив губу. Узкие глаза её вспыхнули в свете месяца и метнулись в сторону. Никита, взяв жену за плечи, тщетно пытался снова поймать её взгляд.
– Настя, отчего ты молчишь? Это так? В самом деле так? Господи… Почему ж ты мне не сказала?
– Не хотела беспокоить попусту, – по-прежнему глядя мимо него, пожала она плечами. – Да и времени ещё мало прошло…
– Что значит «мало»? Когда же ты поняла… почувствовала?..
– Уже пятый месяц, – помедлив, созналась она. – Вы, ради бога, простите меня, что я вам так некстати… Но уж теперь ничего не поделаешь, и…
– Настя, но почему… – Закатов был так растерян и сбит с толку, что не мог найти слов. – Почему же… Отчего ты не говорила мне? Зачем молчала столько времени? Чёрт, и ведь ещё ездила по работам, возилась с этими девками… Настя! Ну как же так можно?!
– Всё можно, государь мой, – со странной улыбкой заметила Настя. – Бабы вон до последнего мига в поле жнут, а я чем их хуже? Такая же баба и есть.
– Но зачем же намеренно вгонять себя в положение холопки?! И почему я оказался недостоин знать, что ты в тягости? Я ведь, кажется, твой муж! И ребёнок этот в некотором роде и мой тоже! Ты могла бы обрадовать меня…
– Ничуть бы вы не обрадовались, – спокойно сказала она. – И сейчас не рады. А впрочем, какая разница. Теперь вы знаете, и что с того? Таковы уж последствия супружеской жизни.
– Настя, отчего ты такая? – взволнованно спросил он, насильно разворачивая к себе жену и глядя в её застывшее лицо. – Что случилось? Я в чём-то провинился перед тобой и не знаю об этом?
– Господь с вами, Никита Владимирович! Ни в чём вы не виноваты! – без насмешки, даже слегка испуганно сказала она, впервые прямо взглянув ему в глаза. – И сами знаете, что, женившись на мне, вы меня спасли. И я это буду помнить до самой смерти. Это я ошиблась… Если вы желаете, чтобы я вас уведомляла всякий раз, как почувствую себя брюхатой, – извольте. Я не могла знать, что для вас это имеет такое значение. Власьевна посоветовала мне молчать, сколько будет можно, чтобы не сглазили… И я подумала, что она, может быть, права…
Он молчал, чувствуя себя полным дураком. Настя некоторое время внимательно смотрела на него. Затем осторожно сказала:
– Никита Владимирович, уж поздно… Мне, пожалуй, надо ехать домой. Так как же решим с агаринским садовником?
– Я поеду туда завтра, – поспешно сказал он. – И постараюсь сделать всё возможное. Поверь мне, Настя, я…
– Благодарю вас, – перебила она. – Возвращайтесь домой, как управитесь, а я… Мне уже пора.
Никита не успел оглянуться – а жены уже не было рядом: она исчезла в тумане, как привидение. Он стоял один на пустой дороге. Сверху насмешливо косился месяц. Где-то совсем рядом фыркали цыганские кони, слышался поддразнивающий мужской голос, ему со смехом отвечал девичий. Потом захохотали оба. Раздался плеск, и Закатов понял, что каким-то образом добрёл в тумане до берега реки.
«Так ведь и в воду свалиться недолго… Что за туман нынче, не видать ничего!» – Закатов медленно повернулся, пошёл назад, на мутно светящиеся огоньки табора. Весенняя ночь была тёплой, но Никита чувствовал озноб. На душе было тягостно.
Только сейчас он сообразил, что Настя ушла одна – сквозь ночь и туман, мимо цыган, которых она, кажется, боялась. А ему, законному супругу, и в голову не пришло задержать, проводить, лично отконвоировать до дому, махнув рукой на все свои дела в таборе… Коих, к слову сказать, у него и не было вовсе. Просто поддался старой привычке приходить к цыганам, слушать их голоса и песни, видеть эти чёрные разбойничьи рожи – только и всего. А единственная женщина, которая согласилась жить с ним до конца своих дней, теперь едет домой одна, в темноте… В округе орудует этот Стриж, а с Настей – никого.
«И, спрашивается, кто ты, брат Закатов, после всего этого?!» – совершенно Мишкиными словами подумал про себя Никита. Остановился, усмехнулся в темноте. Вполголоса ответил: так, словно друг был рядом и мог его слышать:
– Сущая скотина и свинья. Ты прав. И всегда был прав.
Рядом было тихо: голоса у реки умолкли. Постояв немного, Никита пошёл дальше. Из-под ног с тихим писком выскочила полёвка. Совсем рядом, чуть не задев его щёку мягким крылом, бесшумно пронеслась охотящаяся сова. Собачий лай со стороны деревни стих, и отчётливей раздалась в тёмном свежем воздухе цыганская песня. Никита машинально прислушался. Криво усмехнулся, подумав о том, что за минувшие три года так и не решился написать Мишке о том, что теперь женат.
«Да, скотина и свинья. И трус вдобавок. Потому что прекрасно знаешь, ЧТО Мишка напишет тебе в ответ. Но… Что же ещё можно было сделать? Ведь для Насти всё же лучше, я надеюсь, жить со мной, чем в приживалках у тётки под Витебском! Она сама сколько раз говорила об этом, а лгать она совершенно не умеет. Да и нужды нет! И я никогда не лгал ей, она знает, почему я женился… Ни о какой любви и речи не было… Но разве я первый, разве последний?..» Но тут, словно в ответ на эти мысли, Никита так отчётливо представил себе лицо своего друга, что по спине пробежали мурашки.
«Мишка, ей-богу, шёл бы ты к чёрту! – с тоской подумал он. – Сам бы вот посидел в одиночестве целую зиму! В глухой деревне, без книг, без развлечений, с одним вечно пьяным Кузьмой в сенях и дурой-кухаркой… Поглядел бы я на тебя тогда! И моя Настя жила так же. С пьяницей-отцом, который часа в своей жизни о ней не думал! Без приданого, без малейшей возможности устроить свою судьбу… На этаком безрыбье и я оказался жирным карасём – так кому же от этого плохо? Жизни ты не нюхал, брат, у маменьки да старших братьев под мышкой, так что заткнись!»
Но тут же Никита вспомнил, что Мишка на войне наглотался этой самой жизни по горло. И его теперешнее сибирское житьё навряд ли веселее, чем болотеевские вечера. Душу окатило жаркой волной стыда. Шёпотом выругавшись, он нагнулся, опустил ладонь в сочащуюся росой холодную траву, с силой провёл по лицу – и это помогло. Решительно приказав себе не сходить с ума, Закатов зашагал к табору.
«Ты женился на этой девочке… Без обмана, без любви, без долгих размышлений… Но дело сделано, и вам вместе теперь жить до смерти. Что ж, любовь хороша в романах, а в жизни мало кому эта роскошь доступна. Обычно приходится обходиться чем есть. Твои собственные мужики женят сыновей потому, что им надобна молодая баба в хозяйство. И ты сам женился примерно по той же причине. Вероятно, это свинство, недостойное образованного человека. Мишка тебе именно это бы и сказал… И ещё много чего, потому ты и боишься ему писать… Но дело сделано, – снова повторил он себе с намеренной жёсткостью. – Третий год Настя носится по твоему Болотееву и по усадьбе, приводя их в порядок. Без неё всё давно бы развалилось! А так – девичья занята делом, мужики боятся пьяными на глаза барыне показаться. В доме чистота, на кухне Власьевна генеральствует. Холстов на пятьсот рублей продали в этом году… И, слава богу, никакого дранья на конюшне, даже девок за косы не таскает! И без этого вся дворня стоит навытяжку и исполняет всё, что велено… Так что ж тебе ещё надобно? Где ты ещё, дурак, сыщешь такую супругу? И кто бы за тебя пошёл с твоей полусотней нищих душ и с расстроенными делами? Не она тебе, а ты ей должен быть благодарен до смертного часа, – а что на деле, Закатов? А на деле – пшик и пустое место. О том, что жена пятый месяц беременна, узнал по недоразумению! Хорош, нечего сказать… Ох, Мишки на тебя нету! Женат почти три года, и – какая радость ей от тебя? Ни одного подарка, ни одной тряпки… в гости ни разу не вывез! Но она же и не просила… Чёрт их разберёт, этих женщин, чего им надобно? Она сказала: «Вы не рады…» Разумеется, я настолько ошалел, что где же тут радоваться… Но, вероятно, надо было изобразить хоть какой-то восторг… А как же это делать, если актёрских способностей – ни капли? Даже в живых картинах не участвовал никогда… Вот ведь дьявол, и что поделать-то теперь?»
Внезапно Закатов понял, что делать ему, скорее всего, ничего не придётся. Что, когда он час спустя вернётся домой, жена уже будет спать. А наутро окажется такой же, как всегда – спокойной, ровной, слегка насмешливой. И напоминать ей об этом неловком ночном разговоре в тумане посреди дороги будет просто смешно.
«Так, может, всё оставить как есть? – малодушно подумал он. – Глупо искать на свою голову неприятностей. Пускаться в долгие разговоры, в выяснения отношений… Бр-р! К чему? И что нам с Настей выяснять? Мы – муж и жена, более-менее довольны друг другом… И деда этого агаринского я ей, разумеется, куплю. Да, кажется, беременным и не принято отказывать в просьбах… Чёрт, хоть бы спросить у кого! – беспомощно думал Закатов, шагая сквозь мокрые, отяжелевшие от росы заросли иван-чая к табору. – И как это другие мужчины справляются? Где этому учат? Хоть бы курс какой-то в корпусе вводили, ей-богу…»
Внезапно он вспомнил о Вере, и в сердце ударило такой тяжкой, мучительной болью, что Никита остановился. Перед глазами отчётливо, словно это было вчера, встал тот страшный, вьюжный вечер в Москве, когда они одни, оставшись в тёмном доме, ждали решения Мишкиной судьбы. Измученное лицо Веры, руки, намертво схлестнувшиеся на его шее, горячее, сорванное дыхание, слова, слова – сбивчивые, торопливые, бестолковые… Что он говорил ей тогда? Не вспомнить, хоть убей… Голова была как чужая, все мысли рванулись из неё прочь потому, что впервые за много лет Вера была у него в объятиях. И такого острого, ни с чем не сравнимого, заливающего сердце счастья Никита не испытал ни разу за все свои неполные тридцать лет.
«Что ж… Стало быть, столько тебе назначено на роду, – с горькой усмешкой подумал он. – Две минуты полновесного, беспримесного счастья… У многих нет и этого. И ведь не нужно было искать слов, подбирать выражений, думать, что хорошо, что дурно… О приличиях – и то забыл тогда напрочь! Стало быть – можешь? Можешь, скотина этакая?! И учить ничему не надо? Так чего же ты сейчас строишь из себя глубокомысленную особь и не знаешь, на какой козе подъехать к женщине, которая уж какой год твоя жена? Ведь если бы Вера… Если бы вообразить такое, что вы с ней – женаты… И она сказала бы, что ждёт ребёнка… Чёрт, что за бред в твоей голове, Закатов?!! Давно пора оставить эти мечтания. Ты женат на другой, и баста! Выкручивайся теперь как знаешь… Остолопина!»
Он был уже возле самого табора. Костры догорали, песня смолкла. Стояла глубокая ночь, и цыгане расползлись по палаткам. Закатов отыскал своего серого, бродившего среди цыганских коней, взобрался в седло и тронулся неспешным шагом по чуть заметной дороге к Болотееву. И до самого дома преступно думал о ледяном зимнем вечере в Москве. О горячих женских руках, обхвативших его плечи. О запрокинутом, залитом слезами, самом прекрасном на свете лице… О том, чего никогда не забыть и не вырезать из сердца. Он был один посреди тёмного, затуманенного поля, под насмешливым месяцем, и никто не мог ни подслушать, ни подсмотреть этих мыслей.
В доме Никиту встретила заспанная Дунька.
– Ужинать изволите, барин?
– Не буду. Дай свечу и иди спать. Барыня легла?
– Давно уж… Порядочные-то люди до полночи по полю не болтаются, ночевать домой едут! Да давайте подам ужинать-то, Никита Владимирыч! Разве эти ваши черти прокопчённые накормят по-людски?
– Не беспокойся. Я очень хочу спать.
Говоря это, Никита не врал: глаза закрывались сами собой. Взяв у Дуньки свечу (та чуть не погасила её своим мощным зевком), он осторожно прошёл через сени в спальню. Раздевшись, прислушался к ровному дыханию с кровати.
– Настя… Ты спишь? – тихо позвал он, сам не зная, что скажет, если жена отзовётся. Тишина. Никита осторожно лёг в постель, потянул на себя одеяло и задул свечу.
На другой день Закатов уехал из имения утром и вернулся только в сумерках. День был жарким, душным. Из-за дальнего леса уже поднималась и росла сизая полоса, обещавшая первую в этом году грозу. В тяжёлом воздухе сильно, до одури пахло Васёниными цветами, над которыми уже перестали виться и жужжать насекомые. Только ласточки бесшумно стригли воздух, проносясь над самой землёй. Сама Васёна, стоя с подоткнутым выше колен сарафаном и засученными рукавами, яростно продёргивала сорняки в зарослях маргариток. Её загорелое лицо было хмурым, и она то и дело вытирала с него не то пот, не то слёзы.
Настя с крыльца веранды наблюдала за своей садовницей. Целый день она ждала мужа. Духота давила на грудь, дышать было тяжело, и Настя страшно завидовала собственным девкам. Те копошились в огородных грядах и таскали воду из пруда в рубахах с закатанными рукавами и подоткнутых юбках. Ей самой страшно хотелось стащить с себя платье и остаться в рубашке, а ещё лучше – спуститься к пруду и выкупаться. Но об этом и подумать было нельзя. Свирепая Дунька стояла насмерть, божась, что она лучше умрёт, чем отпустит барыню в пруд, где под корягами водится всяческая нечисть, с которой беременным встречаться незачем. Спорить Насте не хотелось, да и сил на это не было.
«Да куда же он пропал? Целый день сидит у Агариных? Что там делать? – мучилась она, расхаживая по залитой вечерним светом веранде, через которую то и дело проносились с тревожным щебетом ласточки. – Вот-вот гроза начнётся… А ещё этот Стриж, будь он неладен! Четвёртого дня у Истратиных кого-то топором зарубили, вся округа гудит… И у Трентицкого ригу сожгли. Воистину, ничего этот Стриж не боится… И не попался ведь, разбойник, до сих пор! Это, правда, в десяти верстах от нас, но всё же… Ведь солнце скоро сядет!»
Мысли Насти были прерваны нарастающим топотом, и на веранду влетела Дунька:
– Барыня! Никита Владимирыч, кажись, едут!
– Ну, слава богу! – облегчённо перекрестилась Настя и, подобрав юбки, торопливо спустилась по ступенькам в сад.
В двух шагах, в клумбе, по-прежнему виднелся коричневый сарафан Василисы. Настя ничего не рассказывала ей о своих планах насчёт агаринского садовника, опасаясь понапрасну расстроить девку, если дело не выгорит, и сейчас волновалась так, что сердце, казалось, вот-вот лопнет. Удалось ли?..
Дрожки, запряжённые двумя преклонных лет сивками, медленно вкатились в ворота. Ещё не подойдя к ним, Настя почувствовала, как ударила в сердце радость. В экипаже, рядом с фуражкой мужа, белела седая голова. Всплеснув руками, Настя кинулась было бегом к воротам, но Дунька немедленно ухватила её за подол:
– Барыня!!! Да что ж это за наказание! Нешто можно вам в вашем-то положенье?!.
– Господи, да я опять забыла! – Настя с неохотой перешла на шаг и подошла к дрожкам очень чинно. – Добрый вечер, Никита Владимирович! Ну, так что же у Агариных?
Закатов выпрыгнул на дорожку, улыбнулся.
– Что ж… Вот тот, кто был тебе нужен. Евсеич, дай-ка я тебя, борода, осторожненько выну…
– Барин, господь с вами, сами мы смогём… – послышалось слабое старческое дребезжание, и через край дрожек испуганно выглянул крошечный старичок со сморщенным, как печёное яблоко, лицом. Его редкая бородёнка и седые волосы, венчиком стоявшие вокруг обширной лысины, казались розовыми в закатном свете. Он растерянно осматривался, мигая слезящимися, выцветшими глазами. Выбравшись из дрожек, он потоптался на месте, суетливо поклонился Насте, слабо улыбнулся дворовым, сгрудившимся в нескольких шагах… И тут раздался пронзительный крик:
– Дедушка!!! Родненький! Царица небесная, Господи-и-и!!! Да откуда же, откуда?!. Как это?!
Василиса, не одёрнув подола, мелькая голыми ногами, со всех ног летела к дрожкам. Она обхватила старичка, чуть не подняв его на руки, и тот слабо затрепыхался в её судорожных объятиях.
– Васёнка… Девонька… Вот и привёл Господь… И кто б подумать мог… Ручку барину целуй скорей…
Целовать руку Васёна не стала. Она распласталась по траве и приникла к рыжему, пыльному сапогу Закатова:
– Вечная я раба ваша, барин… До смерти, до могилы…
– Встань, дура, с ума ты, что ли, сошла?! – рявкнул Никита, рывком поднимая рыдающую девку на ноги, – но та снова рухнула наземь. – Воистину, рехнулась… Настя, да приведи ты её в чувство! Смотри, у неё же истерика!
Это было правдой. Василиса силилась подняться с земли – и не могла, дрожа с головы до ног и давясь сухими рыданиями. Настя, осторожно обняв девку за плечи, повела её вглубь сада. Следом Дунька так же бережно вела Евсеича. Закатов проводил всю группу глазами. С облегчением перекрестился, шумно вздохнул и, сняв фуражку, провёл ладонью по мокрым от пота волосам. Сердито глянул на сбежавшуюся дворню и, отвернувшись, быстро пошёл в дом.
– Власьевна-а-а! Щи остались?
Сидя за столом, Никита приканчивал уже вторую миску щей, когда в столовую своей обычной порывистой походкой вошла Настя. Её чёрные глаза сияли.
– Боже мой, как же я вам благодарна, Никита Владимирович!
– Васёна пришла в себя? – Закатову было неловко, и он старался скрыть это за напускной ворчливостью. – Я всё боялся, что она придушит от восторга собственного деда!
– Слава богу, отпоили водой. – Настя тяжело вздохнула. – Право, это я виновата. Надо было её предупредить заранее. Но, с другой стороны, – что, если бы у вас ничего не вышло?.. Пожалуй, она ещё повесилась бы в сарае… Страшно любит деда, кто бы мог подумать?..
– И крестьянки любить умеют, – с усмешкой пожал плечами Закатов, который терпеть не мог Карамзина.
Но Настя не читала «Бедной Лизы» и серьёзно кивнула. И тут же снова широко улыбнулась:
– Но как же вы Агарина-то уломали? Поди, не хотел продавать? Вы всё ему сказали, как я просила?
– Слово в слово, не сомневайся. И ты совершенно права оказалась – нипочём продавать не хотел, каналья! «Бог с вами, Никита Владимирович! Мой Евсеич вовсе плох, ещё помрёт со дня на день, как же я с вас деньги взять за него посмею?» Насилу я его убедил, что с паршивой овцы хоть шерсти клок. И что в случае Евсеичевой кончины он останется в убытке, а так – хоть пятьсот рублей…
– Вы пятьсот рублей за него отдали?!
– Если бы… Все восемьсот. Агарины своего не упустят, уж будь покойна, – саркастически заметил Закатов. – Но, думаю…
– Ничего, дед того стоит, – твёрдо сказала Настя. – Надеюсь, вдвоём они приведут сад в порядок.
– Уверен, – Закатов улыбнулся. – Знаешь, я до этого никогда цветами-то не увлекался. Казалось – бесполезно, только зря отвлекать людей от дела… Но, гляжу, у вас с Василисой отменно получается! Двор просто узнать нельзя! А если ещё и Евсеич пособит… У Агариных-то лучший сад в округе его стараниями! Если бы старик при смерти не был, Агарин бы и не продал ни за что, выжига.
– Как мне вас благодарить, Никита Владимирович? – без улыбки спросила Настя. – Это ведь был мой каприз. Простой каприз брюхатой бабы. Если бы вы хотя бы меня любили…
– Я люблю тебя, – ровно сказал Закатов.
– Бросьте, – так же ровно отозвалась она. – Не нам с вами о любви толковать… Но из-за этого ваш поступок вдвойне ценен. Вы сделали приятное мне – и осчастливили двух других людей. Это дорогого стоит, спасибо вам.
– Стало быть, я прощён? – невесело улыбнулся Закатов.
Настя удивлённо подняла брови.
– О чём вы?
– Мне показалось, что вчера ты была обижена на меня. Там, ночью, у цыган…
– Глупости. Я, видно, слишком вчера устала. Может, сказала вам что-то лишнее… Ну да Дунька уверяет, что в моём положении это даже деревенским бабам позволительно. Лучше вы меня простите. – Настя улыбнулась, протянула мужу руку. Никита бережно поцеловал её. Чувствуя, что надо бы сказать что-то ещё, нахмурился, подбирая слова, но Настя не стала ждать. Осторожно освободила пальцы и быстрым шагом вышла из столовой.
За окном смерклось: туча обложила всю усадьбу. Ветер рванул полотняную занавеску, стукнул ставнем, и в столовой стало совсем темно. Бледный сполох молнии с глухим ворчанием озарил сад. Тревожно зашумели кусты сирени, мелко затрепетал плющ на стене. В задумчивости Никита доел остывшие щи, отложил ложку, подошёл к окну. Там уже ударили в пыль первые тяжкие капли. Порыв ветра сорвал с забора половик, швырнул его в крапиву. Придерживая ставень, Закатов наблюдал за тем, как бесстрашная Дунька, перекрикивая ругательствами ветер, лезет за половиком в жгучие заросли.
У Никиты сильно болела голова от жары и усталости, а целый день, проведённый у Агариных, только вконец испортил настроение. Никакой радости от сделанного он не чувствовал. На душе по-прежнему было тяжело.
«Прежде ты ей не лгал… А сейчас зачем понадобилось? Что это вдруг пришло в голову? «Я люблю тебя»… Можно ли шутить такими словами? И правильно Настя тебя осадила! Когда человек говорит такие вещи и врёт – противно вдвойне, а она ведь вовсе не глупа… Но ведь… Что ещё-то можно было сказать?! Нужно же говорить беременным женщинам приятные вещи… Деда вот ей этого купил, Настя довольна… чего ж ещё?»
Мысли были торопливые, мелкие, трусоватые и бессмысленные. В конце концов Закатов выругался по-солдатски, захлопнул ставень и под нарастающий стук капель по крыше отправился спать.
– Дедушка, родненький, счастье-то какое… – бормотала Василиса, суетливо смахивая слёзы. – Посмотри, у меня тут, в сараюшке, и чисто, и сухо, и не сквозит ниоткуда… Как в раю будем жить! А захолодает – в людскую переберёмся… Там печь большая, тёплая, с полатями… Господи, глазам своим не верю, что ты здесь, со мною! И навсегда теперь! Благослови Бог барыню! Святая она, воистину святая, ей за это воздастся…
Евсеич ничего не говорил. Он смирно сидел на застеленном половиками топчане, смотрел на плачущую внучку, улыбался беззубым ртом. По крыше сарая шуршал дождь. Внутри сильно пахло сушёным донником, пучками развешанным по стенам. В углу монотонно жужжала залетевшая со двора пчела. Василиса рывком распахнула дверь, выпустила пчелу – и застыла на пороге, глядя на мечущийся под грозой сад. Несколько капель ударило в её лицо, на котором застыла растерянная, недоверчивая улыбка.
– Как же мы заживём-то теперь хорошо, дедушка… – шептала она. – Я за тобой ходить буду, обихаживать… Вместе садом займёмся! Барыня дозволяет, сущий ангел Настасья Дмитриевна… Без тебя-то, родной, у меня всё не так выходит… Вот и георгины, боюсь, неправильно присадила – ну как скукожатся?
– А золы-то под клубни всыпала? – неожиданно звонким голоском спросил Евсеич.
Василиса резко обернулась – и кинулась к деду, упала на колени, обняла его с силой, порывисто.
– Всыпала, родной… Всё по твоей науке делала… Царица небесная, и за что мне счастье-то такое?! Ведь и помыслить не смела, и во снах смотреть боялась… Дедушка! Родненький! Вместе мы теперь!
Евсеич улыбался, гладил потрескавшейся ладонью встрёпанные внучкины косы. Раскаты грома сотрясали сад. Сильнее пахло мёдом от сохнущего донника, копошились в углу, в решете, котята. В неприкрытую дверь вошла мокрая Дунька с горшком и ковригой хлеба под мышкой.
– Годи выть-то, Васёна, аж в девичьей тебя слыхать! – ворчливо сказала она, бухая горшок на стол. – Корми-ка вот деда с дороги! Одними слезьми сыт не будешь! На здоровье, Охрим Евсеич! Тут тебе шти, тут тебе хлебушек, а луку Васёнка сама в огороде надёргает, а то…
– Дунюшка! – Василиса, вскочив, с размаху кинулась ей на шею.
– Одурела, заполошная?! – завопила Дунька. – Я мокрая наскрозь! Вовсе свихнулась от радости девка… Бежи, бежи в огород-то, покуда хлеще не припустило! Эка возрадовалась… Ну, пошли вам Господь, благодарите барыню!
* * *
День шёл за днём, и сибирская весна всё больше входила в силу. Пологие предгорья вокруг завода покрылись оранжево-красными и жёлтыми полосами цветущих саранок. В оврагах цвела черемша. Дни стали долгими, жаркими, близилось лето – а Берёза и не заговаривал о побеге. «Передумал, что ли, дьявол?» – мучился Ефим, стараясь поймать взгляд атамана. Но тот, казалось, нарочно не обращал на парня никакого внимания. Прекратились даже их разговоры на острожном крыльце. Однако, внимательно наблюдая за Берёзой, Ефим заметил, что тот перестал есть хлеб за обедом и всякий раз прячет краюху в карман армяка.
– Сухари сушишь? – рискнул спросить он.
– Сгодятся, – Берёза полоснул холодным взглядом. – Скоро на глину нас погонят… Там и готов будь.
Винокуренный сезон на заводе кончился. Как обычно, больше половины из «винниц» – огромных печей – требовали ремонта, а некоторые и полной переделки. Имевшегося в наличии кирпича никогда не хватало даже для половины ремонтных работ, и на заводе привыкли делать кирпич сами. Белую огнеупорную глину добывали в пятнадцати верстах от завода, в карьере. Формовка кирпича производилась уже на заводе. В карьеры традиционно отправлялись каторжане поздоровее и посильнее, и поэтому не было сомнения, что и атаман Берёза, и братья Силины окажутся в «кирпичной партии». Однако накануне отправки выяснилось, что Антипа Силина начальник оставляет на заводе. Новый мастер, прибывший вместо Рибенштуббе, попросил отдать ему старшего Силина в помощники: «Уж очень хорошо этот парень смыслит в деле».
Услышав о том, что брат остаётся, Ефим даже почувствовал облегчение. Он представить себе не мог, что скажет Антипу, когда придёт время бежать и тот спросит: «Куда подхватился?» Ефим до последнего колебался: не позвать ли его с собой. Но он понимал: ватажничать на Волгу брат не пойдёт, хоть его за ноги подвесь. И молчал.
Неожиданно перед самой отправкой партии Антип подошёл к нему сам.
– Стало быть, на всё лето? – спокойно, словно не было этого трёхмесячного каменного молчания между ними, спросил он.
Ефим растерялся:
– Стало быть, так.
– Хм… До Устиньи проститься не дойдёшь?
– К чему? – с вызовом спросил Ефим. – Помешаю, поди… Занятая она у меня баба.
– Она-то занятая… А ты дурак.
– Ништо. Ты зато умный за двоих. – Ефим снова начал злиться. – Ты зачем рот открыл? Учить меня опять взялся? Так не стоило и труд принимать! Молчи дальше, оно мне спокойнее!
– Лучше бы тебе Берёза молчал, – невозмутимо заметил на это брат. – Ты его там, на карьере-то, поменьше слушай. А то, я смотрю, прямо в рот ему глядишь.
Ефим даже не сразу нашёлся что ответить. Ему и в голову не приходило, что брат знает о его осторожных разговорах с атаманом.
– Тебя спросить позабыл, тетеря! – тем не менее огрызнулся он.
Антип молча взглянул в лицо брата спокойными серыми глазами. Коротко сказал: «Ну, добро…» – и отошёл. Ефиму смертельно хотелось окликнуть его, но он сдержался. Больше они не разговаривали. А наутро партия каторжан под солдатским конвоем вышла с завода в тайгу.
Шли целый день и только к вечеру добрались до изломанного края глиняного обрыва, поросшего молодым сосняком. Большая, почернелая от дождей и времени изба была цела. Но внутри оказалось сыро и промозгло, поэтому первым делом набрали смольняка и затопили. Старая печь сразу отчаянно зачадила, наполнив всю избу вонючим дымом. «В трубе кирпичи обвалились…» – приуныли мужики. Но Ефим забрался на крышу и под общий смех вытащил из трубы прошлогоднее сорочье гнездо. Дым сразу же потянулся куда надо, избу проветрили, нарезали молодого лапника для постелей. Со смехом и шутками принялись варить кашу на костерке у крыльца. Вечер был сыроватый, но тёплый. Тайга, начинавшаяся в двух шагах от порога, уже стояла сплошь зелёная, в ней вовсю перекликались птицы. Когда стемнело, со стороны недалёкого болота послышался страшный утробный рёв.
– Крещёные, кто это?.. – испугался Осяня, никогда в жизни не бывавший в лесу. – Что за зверюга такая бродит? Не медведь ли?
– Выпь это, птица, – нехотя отозвался Ефим, который уже залёг на охапку лапника в дальнем углу. – Завсегда так кричит.
– Нешто птица так орать может? – не поверил Осяня.
Убеждать его Ефим не стал и молча отвернулся к чёрной от сырости, изъеденной жучками и плесенью стене. Разговаривать не хотелось, на душе было муторно. Если бы можно было забрать назад слово, данное Берёзе, он не задумываясь отказался бы от побега. И плевать, что бессовестный Антипка молчит с самой зимы, а Устинья… Устинья нипочём не шла из головы. Там, на заводе, когда она была рядом, в двух шагах, руку только протяни, – Ефим думал о жене меньше. И знал в глубине души – приди он к ней, повинись во всём – и всё стало бы как прежде. И жили бы снова вместе, и она ни словом не упрекнула бы, и Жанетку эту чёртову не помянула б… Вот только из больнички всё равно бы не ушла… Игоша упрямая. От барина своего проклятого не ушла бы… Ну и бог с ней! Ефим старался распалить в себе злость на жену, чтобы легче было исполнить задуманное… Но злости не было, хоть убей. Только тоска, тяжёлая, страшная, давила всё сильнее.
Снова день шёл за днём. Рано утром вставали на работу, рыли глину в ямах у обрыва, таскали её на телеги. Работа была, по меркам Ефима, не тяжёлая. Руки привычно, сами собой кидали лопату за лопатой вязкую массу, а голова была свободна. И в голове той, кроме Устьки, не было ничего. «Скорей бы уж бежать-то…» – изводился Ефим, чувствуя, что ещё неделя-другая – и он плюнет на всё, откажется от побега и, вернувшись на завод, упадёт Устьке в ноги, потому что сил уже нет никаких… Но Берёза молчал. Спокойно работал вместе со всеми, по вечерам сидел на разваливающейся поленнице возле избы, слушал песни и на Ефима даже не смотрел. В конце концов тот с облегчением решил, что атаман и сам передумал бежать. Спросить напрямую он не решался. Но сам почти уже уверился, что через месяц они попросту вернутся, как ни в чём не бывало, на завод. И уже совсем ничего не ждал, когда однажды вечером Берёза вполголоса, глядя в сторону, сказал:
– Завтра побежим, парень.
– А… как? – хрипло спросил Ефим, чувствуя, как шлёпается куда-то в низ живота сердце.
– Я с тобой в дальнюю яму рыть пойду. Оттуда и рванём.
– Со мной Осяня робит.
– Скажется хворым завтра. А мы ночью железа сплюснем. Не спи.
Берёза мог бы и не предупреждать. Ночью Ефим не мог сомкнуть глаз. Он лежал на лапнике, глядя в звенящую комарами темноту, слушал мерный храп товарищей, и в груди было холодно и пусто. Страха не было, мучило лишь тоскливое ожидание: скорее бы… Скорей бы случилось – и не ждать больше ничего, не изводиться, знать, что всё за спиной отрезано напрочь и не вернётся – ни винный завод, ни Антип, ни Устька…
– Парень…
Шёпот был почти беззвучным: комары, казалось, зудели громче, – но Ефим тут же поднял голову. Рядом стоял Берёза. Без слова он поманил его за собой и, повернувшись, тронулся к двери. Ефим, осторожно поднявшись, пошёл следом. Вся изба спала. Пока оба по очереди плющили кандальные браслеты на ногах, никто даже не пошевелился. «Жаль, двери заперты… – подумал Ефим, возвращаясь на место. – Прямо сейчас бы сорваться – и только утром схватились бы… А то бог знает, что завтра-то ещё будет!»
Впрочем, беспокоился Ефим зря. Прокрутившись всю ночь без сна, он забылся только под утро – и сразу же проснулся от старательных воплей Осяни:
– Ой, смерть пришла! Ой, моченьки нету! Ой-й-й, ребята, живот страдает – спасу не-ет… Вчерась в яме надсадился, видать… С глиной этой вашей, чтоб ей пропасть… Ой, отошлите на завод к фершалу-у… Помираю, как Бог свят…
– Ещё лошадь из-за тебя за пятнадцать вёрст гонять, фармазон! – сердито сказал старый солдат Федотыч, склонившись над «умирающим» и трогая его лоб. – Ништо… Жара-то у тебя нету. Стало быть, к обеду, мало к ночи, оклемаешься.
– А коли нет?..
– Ну, тады помрёшь с божьей помощью… Тоже кому плохо?.. Вставайте, золотая рота, лопайте, да на работу! Трофимов, пойдёшь с Силиным в дальнюю?
– Отчего ж не пойти, – буднично отозвался атаман.
У Ефима сердце бухало так, что он удивлялся, – отчего этого не слышит вся артель. Не верилось, что вот сейчас, через несколько часов, всё закончится, и жизнь его повернётся с ног на голову. Вот насилу все наелись… Вот выстроились во дворе для никому не нужной проверки… Вот побрели по местам… День стоял серый, туманный. Блёклое небо, казалось, лежит на макушках сосен и кедров, трава была серой от мороси. Ефим шагал рядом с Берёзой и не понимал, почему топающий вслед за ними Федотыч не замечает, что кандалы на их ногах уже «сплюснуты». Но Федотыч кряхтел, по привычке разговаривал сам с собой, дымил солдатской носогрейкой и видеть ничего не видел.
Когда подошли к «дальней», тусклый шар солнца уже повис над лесом, слабо заиграв искрами в мокрой траве. Ефим то и дело поглядывал на Берёзу, но тот привычно спрыгнул в яму и, как всегда молча, принялся кидать на большие носилки влажную глину. Ефиму оставалось только начать делать то же самое. Однако он не копнул и пяти раз, когда Берёза вдруг решительно воткнул лопату в землю, коротко мотнул головой – мол, делай, как я, – и полез наверх.
– Вы чего, мужики? – удивился инвалид, мирно дымящий своей трубкой в двух шагах, на большом валуне.
– Уходим, Федотыч, – коротко пояснил Берёза, встряхивая от налипших комков глины зипун. – Не поминай лихом.
– Эй, Трофимов, ты что, рехнулся? – Федотыч решительно наставил на него ружьё. – Вот сейчас стрелю, варнак этакой!
– Ну, вот ещё, выдумал… – зевнул Берёза. И, шагнув к солдату, даже не вырвал, а просто взял из его рук оружие. – Ну что ты, ей-богу, усердствуешь? В твои годы здоровье беречь надобно. Меня, допустим, застрелишь, так нешто перезарядиться успеешь? Вот он, – атаман ткнул через плечо на Ефима, – тебя кулаком уложит враз. К чему тебе это?
– Трофимов, да не дури ты, ради Христа! – почти жалобно попросил Федотыч. – Ну, куда тебя, ирода, несёт? Ведь не на Зерентуе, не на Каре, не в рудниках… Начальство понимающее! Хорошо ведь здесь!
– Кто ж спорит… – задумчиво согласился атаман, поглядывая на лесистые горы вдали. – Только мне, Федотыч, на Волгу надо. И так позадержался. Год назад обещал быть. Молодцы мои заждались, кабы не разбежались. Прощевай. Дуру твою, уж прости, с собой заберу. Через полверсты где-нибудь на кусту приметном оставлю. А то ещё правда пальнёшь, не ровён час…
– Силин, ну а ты куда? – горестно спросил Федотыч, с укоризной взглянув на Ефима. – Этого-то могила исправит… Бродяга с ветром под хвостом! А тебе на што? У тебя же баба в заводе… Брат родной!
– Кланяйся им от меня, – хрипло сказал Ефим. Отвернулся и вслед за Берёзой нырнул в зеленеющий подлесок. Последнее, что он услышал, был удаляющийся топот: Федотыч помчался поднимать тревогу.
Первым делом сняли сапоги и размотали портянки. После этого овальные браслеты, хоть и с натугой, были сдёрнуты через пятку. Сделав несколько шагов без привычной четырёхфунтовой тяжести, Ефим чуть не потерял равновесие. Ноги сами собой вылетали вперёд, нелепо пиная воздух.
– Привыкай, паря! – скупо усмехнулся Берёза. – Поначалу непривычно будет… А ты наблюдай, наблюдай это дело, окорачивай себя! Потому в людных местах нашего брата беглого первым делом по такой ходочке узнают! Ну да ничего… Покуда лесом будем пробираться, обвыкнешься. Поспешай. Отойдём подале – там и с рук железа посбиваем.
Ефим молча кинул осточертевшую цепь в овраг и вслед за Берёзой зашагал сквозь чащу. Сердце продолжало стучать отбойным молотом. Парень изо всех сил вслушивался в звенящую птицами и мошкарой тишину вокруг, с минуты на минуту ожидая погони, – хотя и знал, что её не будет. Пока не будет. Не эта же инвалидная команда за ними побежит! Вот доберутся до завода, всполошат начальство, казаков… Они с Берёзой к тому времени уже вовсе далеко уйдут! Приободрившись, Ефим осмотрелся. В лесу он не был давным-давно. И сейчас, глядя на молодую зелень вокруг, на траву и курчавый мох, на сырой и чёрный бурелом, по которому прыгали не боящиеся людей птицы, на небо, голубеющее высоко, в разрыве ветвей, он чувствовал, как поднимается настроение.
«На Волгу придём, на вольную жизнь… На стругах будем ходить, купцов пужать толстопузых… Буду вон у Берёзы есаулом, а чего? Сам говорил – ему могутные нужны… Там воля, правда там, чёрный народ не притесняют… Авось и вернусь ещё когда за Устькой-то!»
Солнце уже стояло высоко над тайгой, когда они вышли к берегу небольшой речонки с коричневой, как густой чай, водой. Речка тихо бежала между большими валунами. Найдя подходящий, Берёза достал из-за пазухи припасённое зубило и в два счёта сбил ручные кандалы с товарища. Затем зубило перешло к Ефиму, и тот, в свою очередь, освободил атамана.
– Ну, здравствуй, волюшка! – усмехнулся Берёза, с наслаждением встряхивая освобождёнными кистями. – Не устал ещё топать-то, паря?
– Шутишь? – хмыкнул и Ефим. – В деревне-то подоле ходили. Привычные мы…
Он хотел спросить, сколько времени им придётся шагать по тайге, но после вопроса атамана постеснялся это сделать. Они напились из речушки, перебрались по торчащим из воды валунам на другой берег, перелезли через огромный, поваленный ветром ствол кедра. Там, на поляне среди низеньких сосенок, Берёза нашёл поросль жёлто-оранжевых цветов с закрученными лепестками. Цветы были красивыми, но Берёза, не дав Ефиму насмотреться, быстро повыдёргивал их из влажной, болотистой почвы.
Корешки у цветов оказались круглыми, белыми и волосатыми.
– Лук такой?! – изумился Ефим.
– Навроде того, – без улыбки отозвался атаман, открутив один из корешков от стебля и протягивая его товарищу. Парень взял его с опаской, но, видя, с какой охотой сам Берёза впился зубами в другой корешок, осторожно попробовал. Корень оказался и впрямь похожим на лук, но более сладким и с каким-то мучным привкусом.
– Сарань, – объяснил Берёза. – Первое дело для нашего брата – варнака. Сейчас для ягод ещё рано, и черемши мало. Так хотя бы саранками пробавляться станем.
– И долго так-то? – осмелился спросить Ефим. – Я хотел с собой запасу сделать, да ты не велел.
– И правильно не велел. Запас умеючи надо делать, чтоб не приметили. Держи вот покуда. – Берёза распахнул зипун и вынул из-за пазухи довольно большой чёрный сухарь. Ефим было разломил его, но атаман знаком показал, что парень может съесть сухарь целиком, и сразу достал для себя такой же. Следом за сухарём появилась пригоршня табаку, которым Берёза велел натереться: «Не то мошка зажрёт».
– Дня четыре придётся так-то – на сухарях с корешками, – пояснил он. – Потом выйдем к заимке. Человечек у меня там есть верный. Должок за ним имеется. Долг приму, харчами и деньгой разживёмся – и прямо на Байкал. А там уж вовсе Расея рядышком! Четыре дня-то сдюжишь без харча доброго?
– И поболе приходилось, – процедил сквозь зубы Ефим, чувствуя в голосе атамана скрытую насмешку.
Но Берёза кивнул и, запахнув зипун, молча устремился в чащу.
– Устя! Усти-и-инья! Устя-а-а! Посмотри на меня!
Ликующий мальчишеский крик раздался со двора больницы, и Устинья от неожиданности чуть не выпустила из рук горячий горшок с отваром девясила. Катька, которая, пыхтя от усердия, скоблила у порога полы, бросила нож и кинулась в двери.
Вскоре она с хохотом вернулась:
– Устька, выйди! Да брось ты горшок свой! Я укутаю как надо! Бежи на крыльцо, поглянь!
– Смотри, как следует умотай, в четыре тряпицы! – строго велела Устинья, шагая к дверям. – И что там Алексей Афанасьич вздумали?.. Им вредно носиться так-то да кричать без пути! Как это его Захаровна из горницы выпустила? Барин ещё заругают… Господи! Богородица пресвятая! Алексей Афанасьич! Миленький!!!
На больничном дворе, у распахнутых ворот, перебирали ногами две лошади. На одной восседал, сверкая зубами, черкес Хасбулат, которого Устинья за глаза величала «сатаной некрещёной» и слегка опасалась. Невысокий сухой кавказец был в своём обычном грязном бешмете и мохнатой шапке и сидел на лошади небрежно, чуть откинувшись назад. За плечом его торчало неизменное ружьё. А рядом, на высокой и стройной каурке, гарцевал Алёша Брагин – в белой рубахе нараспашку, взъерошенный и счастливый. Серые глаза его сияли. Увидев Устинью, он привстал в седле и отчаянно замахал ей.
Устинья сбежала с крыльца, и мальчик, спрыгнув с лошади, бросился ей на шею.
– Смотри! Я три версты проскакал с Хасбулатом! Новая лошадь, посмотри какая замечательная! Мы слетали на старые ямы и обратно, и я…
– Совести в вас нету, барин! – ахнула Устя, лихорадочно ощупывая лоб мальчика. – Да нешто можно так?! И без спросу? А Хасбулатку вашего повесить мало! Ишь, нехристь, что вздумал! – через плечо Алёши она грозно замахнулась кулаком на скалящего зубы черкеса. – Аль ополоумел вовсе, басурман?! Куда барину верхи скакать, когда они ещё не…
Она осеклась на полуслове, не обнаружив привычной испарины на лбу мальчика. Забыв про «басурмана», Устя пристально осмотрела Алёшу, который хохотал и силился освободиться, с ног до головы. Затем приникла ухом к его груди, слушая сердце. Стук был учащённым после скачки, но – ровным и спокойным. Рубашка под мышками лишь слегка вспотела.
– Господь-вседержитель… – пробормотала Устинья. – Да как же это?
– А я всем говорил, что ты меня вылечишь! – Алёша наконец вырвался из её рук и понёсся по двору в каком-то диком танце, подпрыгивая и размахивая руками. – Всем говорил – и папеньке, и Захаровне, и Хасбулату! Я им говорил, что Устинья – колдунья из сказки и меня своим волшебным корнем вылечит! Устя! Милая! Я прошлой весной даже подняться не мог! Меня кормили с ложки в постели! Даже читать не получалось, уставал через две страницы, а теперь! А теперь!!! – Он перестал прыгать и снова с размаху обнял Устинью. – Устенька! Милая моя колдунья, какое же счастье! Какая ты умница!
– И господь с вами, барин, уймитесь скакать-то… Как бы хуже не вышло… – пробормотала Устинья, чувствуя, как давят горло подкатившие слёзы. – Нельзя вам сразу так-то…
– Урус баба маладэц! – одобрительно заметил со своей лошади Хасбулат.
– Без тебя, нечисть, знаю! Ты куда барина верхи посадил?! Без спросу, без дозволенья…
– Не ругай его, это папа разрешил! Он видел, что я… Что мне уже можно и что я хочу! Ты ведь занята эти дни, вторую неделю не приходишь! А я уже давно не лежу! И да, я пью твоё лекарство! И весь овёс с подоконника сжевал! Не хуже жеребёнка! И – видишь, видишь! Видишь!!!
– Однако, Устя, ты была во всём права, – негромко заметил вышедший на крыльцо Иверзнев. – И я снимаю перед тобой шапку. Впервые вижу, чтобы так точно был поставлен диагноз и так верно назначено лечение. Ты со своим овсом, который надо жевать среди зимы, попала в самую точку, и… Хасбулат, куда же ты, дьявол, глядишь?! Догоняй!
А Алёша, вскочив на спину каурки, уже выносился со двора. Радостный крик: «Мы на завод, к папеньке!» – донёсся до Устиньи уже через забор. Черкес, гортанно, по-орлиному клекотнув, пустил свою лошадь вдогонку, и вскоре о всадниках напоминал только столб пыли в конце улицы.
– Глупости, Михайла Николаич… – Устинья, прислонившись к столбу крыльца и слабо улыбаясь, вытирала краем передника слёзы. – Кабы у нас таковых Прохоровых на селе не было – ни в жизнь бы я не додумалась, что с дитём делается! Да ещё кабы у меня того корешка не оказалось… Ведь и впрямь – золотой оказался! Только я одного боюсь – как бы всё назад не вернулось, когда корешок-то у меня кончится! И так меньше половины осталось! Да ещё самый большой-то на Яшку извела!
– Думаю, рецидива не будет, – подумав, медленно сказал Иверзнев. – Ты оказалась, опять же, права – у болезни мальчика были нервные корни. Я, дурак, даже не подумал об этом. Да ещё эти твои сказки по вечерам… Вообще, я думаю, стоит ввести такую методику – вылечивание нервной системы путём рассказывания интересных историй! Действует и на старых каторжан, и на маленьких мальчиков! Ты обратила внимание, какая тишина теперь по вечерам в лазарете? Всего две драки и одна поножовщина за целый месяц! Да здесь такого со времён Акинфия Демидова, верно, не было!
– Вот вам смехи всё!
– Я и не думаю смеяться, Устя. Ты чудо, – просто сказал Михаил, и, как всегда, Устинья смешалась под взглядом этих чёрных внимательных глаз. Пробормотав: «Горшок-то, вот ведь дура, без пригляду бросила…» – она шагнула было в сени, но Михаил удержал её.
– Ещё минуточку, Устя. Скажи, Ефим… Вы так и не…
– Ефим Прокопьич глину добывать ушли, – улыбка тут же сошла с лица Устиньи. – С артелью ушли вторую неделю как.
– Но он так и не поговорил с тобой?
– Для ча слова зря тратить? – пожала плечами Устинья, но губы её болезненно сжались, образовав две морщинки по углам рта. Эти морщинки страшно старили её, и Михаил с острой горечью смотрел на них. «Господи, какой же сукин сын… И как нечестно, несправедливо это всё!»
– Устя! Устька! Дэвлалэ, Устька!
– Катька! – Михаил вздрогнул, очнувшись от своих мыслей, и с неприязнью посмотрел на цыганку, которая ворвалась на больничный двор с вытаращенными глазами и сбившимся на шею платком. – Что ты носишься как ошпаренная? Ты же только что полы скоблила? Куда уже успела слетать? Что ещё стряслось?
– Дэвла… Устька… Ты только, ради бога, не волнуйся… – пролепетала, задыхаясь от бега, Катька. На Иверзнева она даже не взглянула. Её огромные, испуганные глазищи в упор смотрели на подругу. – Ты только, пожалуйста, не беспокойся…
– Богородица пречистая! – Устя сбежала с крыльца и схватила цыганку за руки. – Что? Что, Катька? Ефим? Жив он?!
– Да что ему сделается, варнаку! – с ненавистью выпалила Катька. – В бега ушёл! Нынче утром! От ям казак прискакал! Двое утекли – Берёза и Ефим твой! Да ещё говорят…
Закончить Катька не смогла: Устинья вдруг, ухватившись за перила крыльца, покачнулась. И, сморщившись от внезапной резкой боли, согнулась пополам. Иверзнев едва успел подхватить её.
– Господи, Устя! Что с тобой?..
– Не знаю… Ой… Михайла Николаевич, пустите меня… Катьку… Катька, ой… Ой, да поди сюда! А вы, Михайла Николаевич, уйдите, за-ради Христа…
– Устя, ради бога, я врач!
– Не мужское это… – Устинья из последних сил держалась на ногах, цепляясь за перила. – Ка-атька-а-а…
Но цыганка уже поняла, в чём дело. Взлетев по ступенькам крыльца, она подхватила подругу и стремительно увлекла в лазарет, на ходу бросив Иверзневу:
– Барин, не ходите, обождите! Убью, если влезете!
– Ч-чёрт знает что! – выругался Иверзнев, неловко опускаясь на крыльцо и доставая папиросы. Пальцы у него дрожали, и, когда четвёртая папироса, нераскуренная, искрошилась в труху ему под ноги, Михаил оставил попытку закурить. Глубоко вздохнул, переводя дыхание, и вполголоса, яростно пробормотал: – Господи, ну что же он за скотина!..
– Так ты что ж, не знала ничего? – недоверчиво спросила Катька час спустя, отмывая под рукомойником красные от крови руки. Устинья, лежавшая на лавке, молча покачала головой. Она не плакала больше, но мокрые дорожки на её щеках ещё не просохли. – Тьфу, дура! – выругалась цыганка. – А ещё мужняя жена!
– И что с того, что мужняя? Это у тебя четверо, ты всё знаешь… А я-то – впервой… И… Вот что вышло…
– Да разве ты не чуяла ничего?! Голова не кружилась? Не мутило, по утрам особливо? Соли полизать середь ночи не тянуло?
– Было… Всяко было… Только… Я ж думала, с устатку это всё да с беготни…
– У-у-у, ду-у-ура! – тихо завыла Катька, хватаясь за голову. – А ещё знахарка! Три месяца тяжёлой проходить – и самой не дознаться! Устька, вот ей-богу, не врёшь ли ты, а?
Устинья, не отвечая, снова тихо заплакала. Катька, наморщив смуглый лоб, с горечью смотрела на неё.
– Ну да ничего. Не вой, – с нарочитой бодростью сказала она, садясь рядом с подругой. – По первости всякое бывает. Какие твои годы! Вы со своим Ефимом ещё полные углы накидаете… – тут цыганка осеклась, но поздно: Устинья разрыдалась так, что в дверь встревоженно заглянул Иверзнев.
– Катька, ну можно мне, наконец? Что тут такое?
– Скинула она, барин, – хмуро сказала Катька, наспех подхватывая с пола окровавленные тряпки и выливая в ведро розовую воду из лохани. – Дело обычное. Бабье, житейское.
– Да… Да что же здесь обычного?! – вскипел Иверзнев, кидаясь к Устинье. – Что тут житейского?! Право, твоего Ефима повесить мало!
– Да что вы кричите, он и не знал ничего, – тяжёлым от слёз голосом сказала Устинья, утыкаясь в угол подушки. – Господи… Да что же он, идол, сделал… Да на что?!. Катька, милая, побежи ещё! Узнай, что говорят! Ты умеешь, ты из человека душу вытрясешь, ежели надо! Может, врут, может, другой кто?! Не Ефим?! Перепутало, может, начальство что-то, господи…
– Сейчас сбегаю! Сейчас, золотенькая! А ты лежи, не вставай! Доктор, миленький, последите за ней! – Катьку снесло за порог.
Устинья снова спрятала лицо в подушку. Иверзнев, стоя рядом, с беспокойством наблюдал за ней. Прошла минута, другая.
– Вот ведь дура я… Вот ведь безголовая… – наконец с трудом глухо выговорила она. – Ведь знала… Знала, что он с дури да со злости такое может выкинуть, что Бог на небе ахнет! Всю жизнь, всегда таким был! И вот вам… Господи, да что ж это, да за что же… И что же я за ду-у-у-ура, угодники святые…
– Ради бога, Устя, при чём тут ты? – тихо спросил Иверзнев.
– Да как же?.. Да нешто нет?! Кабы я тогда послушалась… Да ушла с вашей больницы-то… Как он хотел… – рыдания мешали Устинье говорить. После каждой фразы ей приходилось делать глубокий вздох. – Ефим ведь – муж, слушаться надо было… а я… Господи, да нешто ему поперёк можно было?! Он тятьку родного не слушал, а тут – я… баба… жёнка… Ой, да что же это вышло, что ж я сделала…
– Устинья, не смей! – вдруг жёстко приказал Иверзнев. – Ты сама не понимаешь, что говоришь!
От неожиданности Устинья оторвала лицо от подушки и умолкла, глядя на Михаила мокрыми испуганными глазами.
– Да не понимаешь! Не смыслишь! А твой дурак Ефим не понимает тем более! Ну, подумай, вообрази, что бы стало, если б ты его послушала! Кто бы лечил Алёшу Брагина? Я?! Мальчик умер бы от остановки сердца, и я не смог бы помочь! И иркутские врачи тоже! А пожар?! Вспомни пожар! Яшку, других! Вспомни эту мазь от ожогов, которую ты варила здесь! Вспомни женьшень! Скольких людей ты спасла за эту зиму?! Что с ними бы сталось без тебя?! Неужели блажь твоего разбойника важнее всего этого?! Ты же умная, ты должна понять!
– Не кричите, Михайла Николаевич, люди услышат… – тихо, устало сказала Устинья, вновь опускаясь на лавку. – Правы вы, верно. Только вот… Беда-то вышла. И не поправить.
– Может, и к лучшему! – отрезал Михаил, отворачиваясь к стене. – Он не стоил пальца на твоей ноге. И я это говорю не потому, что… Любой, кто знает тебя и его, подтвердит мои слова!
– Не надо, Михайла Николаевич, – помолчав, вздохнула Устинья. – Неправда это. И никто лучше меня про то не знает.
– Ты просто любишь его!
– Люблю. И в чём тут грех-то? – грустно улыбнулась она. – И всегда любила. А он… Вы ведь вот не знаете, а Ефим меня дважды от верной погибели спас. Один раз – когда бабы наши болотеевские меня чуть не разорвали… Ведьмой, вишь, я у них оказалась. Вы-то хоть раз бабью драку видали? Да ещё когда пятнадцать на одну? От меня бы только лоскутки кровяные остались, кабы не Ефим с братом тогда… А другой раз – когда Упыриха насмерть засечь велела. И опять, ежели б не Ефим… Он ведь из-за меня смертный грех на душу принял, Михайла Николаич! Кабы не я – жил бы спокойно при тятьке, землю пахал да хлеб сеял. Женился бы на девке справной, взял бы хозяйку в дом, работницу… Сам работал бы и счастлив был. А он… С игошей болотной связался, которая его до каторги довела. И где он теперь? И что с ним станется, Господи?!.
– Устя, давно хотел узнать… Кто такая игоша? – глядя в сторону, спросил Иверзнев.
– Кикиморино дитё. Разноглазое, – не сразу ответила Устинья. – Ефим завсегда дивился, как вот это у меня глаза иногда разного цвета делаются… А я и сама не знаю. Теперь и спрашивать некому… – Она снова заплакала. – Михайла Николаевич… А ну как споймают их? Тогда-то что?!
– Ничего хорошего, ты это и сама знаешь, – хмуро отозвался Иверзнев. – Выдерут, прибавят срок.
Устинья резко села. Тут же сморщилась от боли, но, превозмогая себя, начала тяжело подниматься на ноги.
– Господи! Михайла Николаевич! Так ведь это… Мне бежать надо! Я… – она не договорила.
Открылась дверь, и в горницу шагнул, брякнув цепью на ногах, Антип Силин.
– Антип Прокопьич! – простонала Устинья, снова падая на лавку. – Антип Прокопьи-и-ич… Господи, пришла беда-а…
– Прости меня, Устя Даниловна, – хрипло сказал Антип, опускаясь на колени рядом с лавкой и обнимая Устинью за плечи. – Прости. Не доследил. Должен был – а вот не сумел. С тобой-то, свят господи… С тобой-то что тут?! Пошто лежишь? Ваша милость! – он резко повернулся к доктору. – Что с Устькой нашей?!
– Выкидыш, благоволите получить, – глядя в стену, сказал Иверзнев. – На четвёртом месяце.
Антип изменился в лице так, что Устинья ахнула и вцепилась в его плечо:
– Антип Прокопьич! Господь с тобой! Ефимка и знать ничего не знал, спасением души клянусь! Вот хоть на образе забожусь тебе! – Она несколько раз перекрестилась, испуганно глядя в окаменевшее, незнакомое лицо Антипа. – Ну что ты, право слово?! Кто ж повинен-то?!
– Кто повинен, спрашиваешь? – спокойным, тихим голосом спросил Антип. – Ну, Ефим… Ну, морда варнацкая… Пусть только явится назад! Право слово, возьму грех на душу! А то пошто ж, в самом деле, задаром-то на каторге гнить?! Теперь хоть за стоящее дело окажется… У-у, пусть только, сукин сын, назад воротится!
– Антип Прокопьич, ты что говоришь-то? – Устинья схватилась за голову. – Отколь он воротится, когда он в бега ушёл!
– А куда он денется-то? Воротится! – сквозь зубы заверил Антип. – Ещё как назад придёт, как только дурь из башки высвистится! Устя Даниловна, ты ведь за ним третий год всего замужем! А я его всю жизнь наблюдаю, с самой люльки! Далеко не уйдёт. И плевать я хотел, знал он там аль не знал… Прости меня, Устя Даниловна, грешен… Раньше надо было его в разум вгонять. Глядишь, и беды б не случилось.
Устинья упала головой на его плечо и зарыдала в голос, как по мёртвому. Иверзнев, бледный, стиснув зубы до желваков на скулах, стоял, отвернувшись к стене. За дверью маячила фигура караульного солдата, сочувственно качающего головой. Из-под руки у него выглядывала Катька. Она строила отчаянные гримасы Антипу, но тот, не глядя на цыганку, продолжал осторожно прижимать к себе Устинью.
В сумерках в кабинет Брагина постучали.
– Кто там? – недовольно просил начальник завода. – Ты, Хасбулат? Чего тебе?
Черкес вошёл, как всегда неслышно, прикрыл за собой дверь.
– Урус баба просытся, который Алёшу лечил. И ещё два с ним.
– Устинья? И с ней двое? Что это за делегация на ночь глядя?
– Доктор, – с готовностью пояснил Хасбулат. – И Устинья брат.
– Чего?.. Какой ещё брат? Впрочем, зови.
Черкес ушёл. Через минуту он вернулся снова, конвоируя Иверзнева, Устинью и Антипа Силина.
– Афанасий Егорович, прошу нас извинить, – не поздоровавшись, начал Иверзнев. – Но дело не терпит отлагательства, поскольку…
Закончить ему не дали: Устинья повалилась Брагину в ноги и завыла. Антип, подумав, тоже спокойно и не спеша опустился на колени рядом с ней.
– Вот я так и знал… – пробормотал Иверзнев, пожимая плечами.
– Устинья, это что ещё такое? – сердито спросил Брагин, поднимаясь из-за стола. – Силин, встань сейчас же, тебя ещё не хватало! Что это за кувырканья? Извольте подняться и объяснитесь, в чём дело!
– В чём дело, вы и сами знаете. – Антип поднялся с облегчённым вздохом, словно выполнив неприятный, но нужный ритуал. – Ефим-то наш штуку отколол… Устя Даниловна, будет голосить-то, обещала ведь!
Брагин молчал, продолжая вопросительно смотреть на Антипа.
– Устинья, вставай! Барин велит! – Антип протянул руку, и Устя, цепляясь за неё, поднялась. Наспех вытерев слёзы, заговорила:
– Барин, вы простите смелость мою… Я всё, как есть, понимаю… Вы – начальство, а Ефимка виноват… Только ради Христа… Бумага-то на него уже писана?
– Какая бумага? – недоумевающе переспросил Брагин, через голову Устиньи глядя на Иверзнева.
– Я объяснял им, что вы обязаны отметить в документах Ефима Силина как беглого и объявить розыск, – сумрачно пояснил тот.
При этих словах Устинья снова заплакала. Брагин, нахмурившись, вышел из-за стола и начал ходить по кабинету.
– Послушай, Устинья… – наконец, медленно подбирая слова, начал он. – Господин Иверзнев прав. Твой муж бежал, и существует определённый порядок в отношении беглых каторжан… Не в моих силах его изменить, и надо мной тоже есть начальство. Я понимаю, что Ефим тебе муж, но… Есть закон.
– Я всё, как есть, понимаю, барин, – повторила Устинья. Было видно, что она изо всех сил старается справиться со слезами. Последняя капля сбежала по её щеке, и Устя торопливо смахнула её рукавом. – Боже упаси меня вас просить… Вы здесь людям такое облегченье даёте, весь завод на вас молится, нешто я смогу… Чтоб у вас неприятности были… Николи, вот вам крест святой!
– Чего же ты хочешь в таком случае? – немного растерявшись, спросил Брагин.
– Христом-богом прошу… Ежель можно… Не пишите его беглым, воротится он!
Брагин даже не сразу нашёлся, что сказать, и не сумел справиться с невольной улыбкой. К счастью, Устинья не заметила этого: силы оставили её, и она, зажав рукой рот, чтобы не разрыдаться вновь, почти повисла на Антипе. Тот подхватил её, прижав к себе. Через плечо всхлипывающей женщины спокойно обратился к Брагину:
– Барин, дозвольте и мне сказать. Ефимка – брат мне, я его лучше всех знаю. Истинно вам говорю – у него дальше дури дело не идёт! Вот чтоб мне света божьего не увидеть, ежели он уже не пожалел, что с Берёзой связался! Атаман этот, будь он проклят…
– Так вы знали, кто он? – с интересом спросил Брагин.
Антип молча кивнул.
– Вот как… Но тогда ты должен понимать, что я не могу оставить это дело без внимания. Вы, оказывается, знали, а я вот узнал лишь два дня назад. Атаман Берёза – очень опасный человек. Убийство для него – пустяк, и у него за плечами их немало. Прошлым летом он бежал с зерентуйского рудника, зарезав двух солдат. А после, уже в деревне, прикончил целую семью, когда его отказались впустить в хату на ночлег. И с этого винокуренного завода он бегал лет десять назад, ещё не при мне.
– О-о-ох… – простонала Устинья.
Антип покачал головой, нахмурился. Вздохнул.
– Барин, я ж ему говорил… Ефимке-то… Да, видать, плохо говорил, моя вина.
– С завода Берёза бежал потому, что на него уже пришли бумаги с Зерентуя, – медленно выговорил Брагин. – Со дня на день я должен был отправить его обратно на рудник, где ему пришлось бы очень тяжело. Наш атаман об этом, видимо, узнал и предпочёл вовремя исчезнуть. Так что Берёзу можно понять… А вот Силина я, хоть убейте, не понимаю.
– Да на кой же мой Ефим ему сдался… Берёзе-то?!. – почти вскричала, вскидываясь в руках Антипа, Устинья. – Коль этот атаман изверг такой, убивец… На что ему Ефим понадобился?!
– Устинья, не мне тебе напоминать, почему Ефим здесь, – помолчав, почти нехотя заметил Брагин. – Ты же знаешь, однажды он уже сделал это…
– Так ведь и про меня в бумагах то же самое написано, – сквозь слёзы криво усмехнулась Устинья. – И про Антипа Прокопьича. А нешто это правда?
– Ты хочешь сказать, что Ефим невиновен?..
– Не хочу. Всё так и есть, убивал он. Только он меня спасал… И подружку мою… И других людей, которые уже в петлю лезть готовы были. Мой Ефим святое дело сделал, за то и пострадал… И мы с ним вместе, потому я ему жена, а Антип Прокопьич – брат… И не знаю я, не пойму, зачем он… Для чего… Не разбойник он, Ефим, не кромешник! Он опамятуется, вот вам крест, воротится! Поверьте, барин, на образе поклянусь, коли нужно!
– Права Устя Даниловна, – подтвердил и Антип. – И я голову положу, что вернётся. На нём боле трёх дён дурь не держится. Вот самое большое – пять!
Брагин молча барабанил пальцами по краю стола, хмурился. Устинья, в очередной раз вытерев слёзы, умоляюще смотрела на него. За окном уже было темным-темно.
– Послушайте… Я готов вам поверить. И, кроме того, Устинья, я очень благодарен тебе за Алёшку. Право, и предположить нельзя было такого результата. И господин Иверзнев говорит, что это полностью твоя заслуга и он не имеет к лечению Алёши никакого отношения.
– Это чистая правда, Афанасий Егорович, – подтвердил Михаил.
Устинья бросила на него быстрый взгляд и снова обернулась к начальнику завода.
– Но пойми… И ты, Силин, пойми тоже… Я мог бы ещё не давать делу хода, если бы ваш Ефим бежал один. Но всё меняет его товарищество с Берёзой. Повторяю, это очень опасный человек! Я обязан предупредить поселения и все окрестные деревни. Он может появиться там, и мало ли что взбредёт ему в голову? Если случится несчастье, виноват в этом окажусь я. И меня в лучшем случае снимут с должности. Чем это поможет Ефиму?
Устинья молча закрыла лицо руками. Иверзнев и Антип переглянулись.
– Господин Брагин, вы совершенно правы во всём, – наконец осторожно начал Михаил. – И, разумеется, как начальник обязаны… Мы всё прекрасно понимаем, но…
– Барин, Афанасий Егорьич, миленький! – Устинья вдруг вырвалась из рук Антипа и, вновь рухнув на колени перед Брагиным, схватила его за руку. – Не пишите Ефима беглым! За-ради Христа, не пишите! Хоть неделю ещё не пишите, сделайте милость, а там уж…
– Устинья!!! – загремел Брагин, рывком поднимая плачущую женщину с пола и ставя её на ноги. – Прекрати валяться, сказано тебе! И не реви, я сделаю что смогу! Хорошо… Хорошо, я повременю. Верней, нет… право, совершенно невозможно! Если бы хоть не Берёза… – нахмурившись, как туча, начальник завода вновь принялся ходить по комнате.
Бледная Устинья следила за ним полными слёз глазами. Антип с силой сжимал её плечи. Он казался спокойным, но губы его беззвучно шевелились, словно старший Силин не то молился, не то ругался про себя.
– Хорошо, сделаем так. – Брагин, казалось, решился. – Я оформляю бумаги только на розыск Берёзы. Но если в течение десяти дней ваш Ефим, как вы тут божитесь, не явится обратно на завод – подаю документы и на него тоже. Устинья, не вой, более ждать я не смогу! И так любая проверка будет иметь возможность обвинить меня. Да ещё неизвестно, что этим двум молодцам вздумается натворить!
– Спаси вас Христос, Афанасий Егорьич… – прошептала Устинья, порываясь вновь упасть на колени. Но Брагин сделал отчаянный знак Антипу, и тот держал свою невестку крепко. – Спаси Бог, по гроб жизни благодарность помнить буду… Спасибо, барин, не забуду…
– Глупости. Теперь главное – чтобы вы не ошиблись, – сердито ответил Брагин. – На этом всё, надеюсь? Ну, и идите с Богом спать. Михаил Николаевич, а вы, если возможно, задержитесь на несколько минут. У меня небольшой разговор к вам.
– Я к вашим услугам.
Брагин показал Иверзневу на стул у стены. Дождавшись, пока дверь за Антипом и Устиньей закроется, несколько раз прошёлся по кабинету.
– Скажите, Михаил Николаевич… Вы ведь эту троицу ещё с Москвы знаете? Вы сами упоминали как-то…
– Так точно, – по-военному ответил Михаил. – Устинью знаю лучше, чем Силиных. Она – крепостная девушка моего лучшего друга, и мы довольно долго были с ней знакомы.
– Она осуждена за убийство управляющей имением. Вы хотите сказать… Не подумайте только, что это что-то меняет в моём отношении к ней. У меня тут ползавода девок, которые удавили своих барынь. И, надо сказать, не без повода. Так что…
– У Устиньи этот повод тоже был, – без улыбки сказал Иверзнев. – Но готов присягнуть в том, что она никого не убивала. Ей нужно было отправиться на каторгу вслед за мужем – только и всего. Если бы на ней не было обвинения, её попросту вернули бы в имение к барину.
– А эти двое? Силины?
– Антип никого не трогал. Всё, насколько мне известно, тогда сделал Ефим.
– Вот как… Тем не менее вы просите за него?
Иверзнев долго молчал, глядя в тёмное окно и не замечая, что начальник завода с интересом разглядывает его. Казалось, молодой доктор с трудом подбирает слова. Наконец он негромко сказал:
– Афанасий Егорович, вы ведь очень любили свою покойную супругу? Извините, что касаюсь такого деликатного вопроса. Но Алёша часто об этом рассказывал, и я поневоле знаю… Вообразите себе, что вашу жену должны будут убить. И не просто убить, а – терзать мучительно, долго, минуту за минутой, час за часом… И никакое заступничество не поможет, и у палачей нет ни жалости, ни совести. Как бы вы поступили в таком случае? За себя я готов сказать, что сделал бы то же самое, что и Ефим.
Брагин неопределённо усмехнулся. Помолчав, спросил:
– Если Силин так влюблён в собственную жёнку… Куда ж его понесло от неё?
– Осмелюсь предположить, что он действительно свалял дурака, – помедлив, сказал Иверзнев. – За ним это водится. Но мне дорога Устинья, и, если вы выполните её просьбу, я буду вам очень благодарен. Тем более что вы здесь царь и бог…
– …до первой ревизии или доноса, – мрачно, однако без особого страха, закончил Брагин. – Сказал же, что выполню! Я ей благодарен не меньше вашего. Видали Алёшку-то? Экий лихой наездник! Джигитовке у Хасбулата учится!
– Ему это только на пользу, – улыбнулся Михаил.
– Дай бог, дай бог. Впрочем, простите, что задержал вас, час уже поздний. Доброй ночи, Михаил Николаевич.
Иверзнев поднялся и молча поклонился.
Антип и Устинья вышли от начальника завода вместе, и Силин попросил своего конвоира:
– Ступай, дядя Авдонин, до острога. Я Устю Даниловну в больничку доставлю и вернусь.
– Смотри, живо только, Силин!
– Не беспокойся… Устя Даниловна, ну что с тобою-то?
– Ничего, Антип Прокопьич… Ничего. От рёву, видать, голова кружится. Навылась всмерть, аж грудь болит… – Устинья хрипло, тяжело дышала, останавливаясь через каждые несколько шагов. – Господи… Антип Прокопьич, как бы не зря мы это всё устроили-то.
– Ты что ж думаешь?..
– Не воротится ведь он. Не воротится… – Устинья больше не плакала, но её голос – чуть слышный, погасший, – пугал Антипа ещё больше слёз. – Ты ж его знаешь… Коли он на всё махнул да волю искать подался… С чего ему ворочаться-то? Ко мне-то, видать, перегорело у него всё. Не жена я ему больше…
– Пустяки не говори, Устька, – с напускной суровостью перебил её Антип. – Да он за тебя удавится! И кого угодно удавит! Даже и в сомненье не входи! Обождать надо, только и всего. Вот не будь я Антип Прокопов Силин, ежели через десять дён наш Ефимка назад не будет! А может, и раньше! Ты только…
Устинья, не дослушав, снова заплакала: тихо, горько.
– Господи… Господи всеблагой… И пошто мы, бабы, дуры-то такие? Пошто сердцу волю даём? Упреждала ведь меня матерь… И сама я всё знаю, разумею… А вот – не могу… Кабы только можно было, Антип Прокопьич… Кабы можно было сердце связать да заткнуть – нешто бы я за Ефима пошла? Полюбила вот, связалась… И всем теперь худо оказалось. И мне, и Ефимке… И тебе.
Антип ничего не ответил, неспешно идя рядом с ней и поглядывая на чёрное небо с мигающими искрами звёзд. И повернулся лишь тогда, когда Устинья низким, чужим голосом сказала:
– Охти… Тёмно как… – и тяжело осела на землю к ногам Антипа.
Тот неловко подхватил её:
– Устька! Господь с тобой! Что ты?!
Ответа не было. Тогда Антип, как сноп сена, взвалил бесчувственную женщину на плечо и бегом, гремя кандалами, понёсся в сторону лазарета.
* * *
Четыре дня товарищи шли сквозь тайгу. К изумлению Ефима, погони не было.
– Да что ж они – вовсе дурни, в лесу нас искать? – развеял его сомнения Берёза. – Нас по деревням вокруг завода, по заимкам выглядывать станут… Людей упредят… Да и мы не дураки – в кабак небось не потащимся. Надо знать, куда заходить, тогда и не сыщут… В лесу-то первое дело – на бурятов не нарваться! Самый пакостный народ! Им за беглых варнаков награда положена. Это ещё дай бог, если по начальству доставят, а не прямо на месте порешат, черти некрещёные…
– Зачем? – недоумевал Ефим. – В чём корысть-то им?
– А одёжа-то наша? А казна, если у кого есть? А оружье? Да сверх того, от начальства им деньга идёт… У них беглые – как отхожий промысел! Потому бежать надо не очертя башку, а тропы верные знать, варнацкие.
Берёза, судя по всему, знал такую тропу: он шагал через тайгу не спеша, уверенно. Иногда спускался в овраг и шёл по его дну, прыгая с камня на камень. Иногда находил чуть заметную, заросшую мхом зарубку на стволе высоченного кедра. Иногда одобрительно кивал, приметив раздвоенную сосну или огромный валун, похожий на перевёрнутый котелок. Вопросов Ефим не задавал, уже уразумев, что Берёза их не любит и отвечает через раз. Сам он на всякий случай запоминал атамановы приметы – хотя и сам не знал зачем, – и поглядывал на солнце – тоже без всякой цели, как всегда делал, даже бродя по знакомому лесу в родном Болотееве. «Мало ль что… Леший закружит. Я – не Устька, у меня с лесными дружбы нету». Но при воспоминании об Устинье сердце дёрнуло такой острой болью, что Ефим покосился на своего спутника: не заметил ли он. Но атаман был погружён в собственные думы.
К счастью, дни стояли тёплые, сухие. Один раз товарищи ночевали в могучем еловом выворотне, под нависшими мохнатыми корнями которого свободно могла разместиться целая артель. Второй раз их приняла старая медвежья берлога под обгорелой лиственницей. Заснуть там Ефим, как ни старался, не смог. Медвежья вонь живо вздёрнула в памяти осенний день три года назад, когда им с братом пришлось сражаться со спущенным с цепи зверем. Наутро Берёза заметил, кажется, что товарищ не выспался, но так ничего и не сказал.
К концу третьего дня они подошли к неприметной, сплошь заросшей мхом и заваленной прошлогодней хвоей избёнке. Она была выстроена на склоне глубокого оврага так, что чужой глаз ни за что не приметил бы её. Однако Берёза вошёл в избёнку уверенно, порылся в потёмках под сырыми замшелыми нарами и извлёк свёрток с медным котелком и окаменелой солью в тряпице. Ефим же сходил на ближнее озерцо, все берега которого были полны прилетевшими дикими гусями. Птицы были непугаными. Они с удивлением смотрели на подошедшего вплотную парня, не пытаясь улететь. Вся стая с истерическим гагаканьем снялась с места лишь тогда, когда Ефим метко запустил камнем в одного из них. Подбитый гусь заполошно хлопал крыльями в камыше, пытаясь взлететь, но Ефим свернул ему шею и с триумфом возвратился в избёнку, где Берёза уже раскочегарил печурку. В этот вечер они впервые наелись досыта, и Ефим заснул мёртвым сном, наспех накидав на влажные от сырости нары наломанных веток. А перед самым рассветом его сдёрнул с нар приглушённый шёпот:
– Вставай, парень… Уходим…
Вскочив на ноги (сон словно ледяной водой смыло), Ефим молча выметнулся вслед за Берёзой в низкое оконце избёнки, ведущее прямо в овраг. Берёза двигался по-волчьи легко, быстро и уверенно. Ефим до сих пор дивился, как этому огромному и уже немолодому мужику удаётся так стремительно и бесшумно перемещаться. Они тенями скользнули по тёмному, мокрому дну оврага, миновали густые заросли можжевельника. Не хрустнув ни веткой, выбрались на другой склон, и лишь тогда атаман показал Ефиму на видневшиеся уже около самой избёнки силуэты конников.
– Буряты? – одними губами спросил Ефим.
– Не вижу… Может, казаки… Сиди не дыши.
Они превратились в изваяния. С другого склона оврага доносились невнятные голоса, лошадиное всхрапывание. Фигуры топтались около избёнки, входя и выходя. Ефим до боли вжимался спиной в мокрый от росы ствол толстенной ели. Думал о том, что опытному человеку сразу станет ясно: в избушке только что были люди. И что тогда? Пойдут искать? Их там пять или шесть, все оружные… Сдюжить ли им с Берёзой? Лица товарища Ефим не видел и лишь по чуть слышному дыханию догадывался, что тот рядом.
Прямо перед его лицом на ветку села пёстрая сойка. Тряхнула хохолком, уставилась на Ефима чёрным сердитым глазом. «Помолчи, родимая! Не выдай!» – мысленно упрашивал её парень, хорошо зная, какой адский стрёкот может поднять эта небольшая птичка. Сойка словно поняла его: взмахнула крыльями и молча перелетела на соседнее дерево, а там и вовсе пропала в чаще. Ефим медленно перевёл дух, чувствуя, как насквозь вспотела рубаха на спине. Поднял глаза – и увидел, что около избёнки уже никого нет. Он обернулся к Берёзе, но тот знаком велел не шевелиться.
Несколько часов они просидели под елью, не двигаясь и стараясь даже не дышать. Солнце уже давно поднялось над тайгой, забилось искрами в росе, в каждой капле на еловых лапах, на молодой траве. Над головой запрыгали серые, не успевшие облинять белки, из чащи донёсся деловитый стук дятла – а они всё сидели и сидели, прилипнув к смолистому, влажному стволу. И только когда мимо избёнки неторопливо прошествовал, ломая сухостой и хрумкая на ходу ветками, огромный лось, Берёза глубоко вздохнул. И беззвучно, как змея, вытек из-под еловых ветвей, знаком велев Ефиму подождать. «Ежели лось туда идёт и человека не чует, стало быть, засады нет», – догадался Ефим. И даже решился осторожно потянуться и выпрямить страшно затёкшие ноги.
Он не ошибся: Берёза вскоре вернулся.
– Вылазь, парень! Нет никого по наши души, ушли.
– Кто это был-то? – сиплым от долгого молчания голосом спросил Ефим, вылезая из-под спасительницы-ели.
– Солдаты, видать. Не буряты, это уж верно. Те – люди таёжные, нюхом бы нас учуяли. Считай, что повезло. Да вперёд осторожней надо быть: ищут нас уже. Возьми… И не срони ненароком. – Берёза нагнулся и, вытащив из сапога, подал парню нож.
Ефим машинально принял его. Нож был крепким, длинным, с выглаженной деревянной рукояткой. С оружием Ефим почувствовал себя уверенней, хотя и привык больше полагаться на кулаки. Пряча нож за пояс, он услышал, как Берёза неторопливо говорит:
– А ты молодец, не перетрухал. Вижу, сгодишься в ватаге. Что ж, уже недолго осталось. К ночи к моему верному человечку выйдем – а там уж, считай, полная воля.
Ефим молча кивнул. И сам не мог понять, почему его совсем не радует похвала обычно скупого на слова атамана. Впрочем, размышлять над этим ему было некогда: широкая спина Берёзы уже мелькала на другой стороне оврага, и парень поспешил вдогонку.
Они шли через тайгу целый день, не останавливаясь и почти не сбавляя хода. Ефим едва успевал замечать положение солнца и приметы: обожжённую сосну, расколотый молнией, почерневший валун… Есть было нечего: на ходу пожевали, надёргав из земли, сарани, да Берёза разломил пополам последний сухарь. Про себя Ефим уже не раз порадовался, что навстречу им до сих пор не попалось никакого серьёзного зверя. Время от времени мимо стремительно, ломая кусты, проносились олени, топали горбатые лоси, летали с ветки на ветку бесстрашные белки, скакали полосатые бурундуки. Один раз Ефим заметил почти слившуюся с разлапистой кедровой ветвью рысь. Дикая кошка лежала не шевелясь и холодными глазами следила за идущими внизу людьми. Ефим взмахнул рукой, желая спугнуть её. Рысь смерила его презрительным, почти человечьим взглядом, не тронулась с места.
– Без толку. Эта животина умная, – заметив его жест, пояснил Берёза. – Без пути на человека не кинется, но и не боится его. Вот росомаха – та во сто раз пакостней! Трусливая, как крыса, и с перепугу напасть может. Зимой, когда в снегу глубоком, может и лося взрослого завалить. Да ещё, тварь такая, измором берёт. По три дня может следом идти, когда чует, что зверь слабый аль ранетый. Ну, да пустяк… Нам лишь бы медведя не принесло. Почитай, что уж вышли.
На медведя, к счастью, не нарвались, а росомаху Ефим мельком увидел в чаще. Небольшой, похожий не то на собаку, не то на куницу зверь замер в двух шагах от них – и тут же метнулся в кусты. «Маленькая, – успокоился Ефим. – Человеку не повредит».
На закате, когда стволы кедров и елей пламенели от гаснущих лучей, лес впереди начал редеть. Бурелома стало меньше, вокруг замелькали низкие чёрные берёзки и папоротник. И наконец до Ефима донёсся отдалённый собачий лай. Он замедлил шаг, посмотрел на Берёзу.
– Ну, навроде выбрались, – подтвердил тот, останавливаясь посреди заросшей белым мхом опушки и неспешно оглядываясь. – Как стемнеет, тогда и пойдём.
– Куда?
– А видишь крышу там? Там мой человечек и живёт. Зайдём, долг заберём. Может статься, и заночуем. Это уж как выйдет.
И голос, и тон атамана были ровными, привычными, но Ефиму отчего-то стало не по себе. Он попытался поймать взгляд Берёзы, но тот, сощурившись, разглядывал закат. «С устатку, верно, блазнится», – успокоил себя Ефим и уселся, готовясь ждать.
Красное солнце опустилось за дальние лесистые горы, и вокруг тут же потемнело. Смолкли птицы. Деревья слились в одну чёрную мохнатую массу. Из тайги потянуло резкой сыростью, и разом похолодало. Но ко всему этому Ефим уже привык и сейчас, сидя на поваленном стволе и поёживаясь, недоумевал: чего дожидается атаман? Понятное дело, что посветлу незачем к дому идти, всяк заметить может. Но ведь уже тьма кромешная… Чего ещё ждать? Того гляди, луна взойдёт…
Стоило Ефиму подумать о луне – и ущербный, словно ухмыляющийся лик выбрался из-за гор и медленно поплыл по тёмному небу. И лес, и край поля со стоящим на нём домиком залились мертвенно-голубым светом. Ефим с тревогой посмотрел на атамана.
– Никого здесь нет, – тот словно прочёл его мысли. – Деревня в четырёх верстах только. Здесь, в этом дому, один знакомец мой с семейством.
– Чего же сторожимся тогда? – не вытерпел Ефим. – Полночь скоро, а всё сидим!
– Пущай уснут, – медленно выговорил Берёза, не сводя взгляда с луны. И снова Ефима царапнуло что-то. «Ждёт, чтоб уснули? На что ему? Будить, беспокоить попусту…» Но расспрашивать он не рискнул.
Через час Берёза поднялся на ноги.
– А вот теперь и можно. Ступай за мной. И смотри… – он вдруг остановился и повернулся к Ефиму так резко, что парень чудом не налетел на него. – Мы товарищи. Я тебе атаман, а ты – мой ватажник. Стало быть, слово моё исполняй и не спорь, – как на Волге положено. Ясно ли?
– Знамо дело, – пожал плечами Ефим.
– Ну, тогда с богом.
Они вышли из подлеска. Быстро пересекли открытое место, подобрались к высокому, в человеческий рост, забору – и сразу же окрестности огласились заливистым собачьим брёхом. Судя по тому, как дрожали колья забора, на которые изнутри бросался кобель, псина была огромная и злющая.
– Кликни хозяина-то, пусть отзовёт! – прошептал Ефим.
Но Берёза, не взглянув на него, ухватился за колья и, по-молодому ловко подтянувшись, уселся на заборе. Кобель зашёлся бешеным лаем и кинулся на забор так, что тот затрясся.
– Ну, разошёлся… – послышалось ворчание, и Берёза спрыгнул вниз. Больше Ефим ничего не видел. Бешеный рык собаки – короткий удар – захлёбывающийся визг, поскуливание… И тишина. Затем из-за забора послышался шёпот:
– Долго тебя дожидаться?
Ефим взвился на забор.
Первое, что он увидел, спрыгнув вниз, – неподвижно лежавшего кобеля с длинными мосластыми лапами и оскаленной пастью. Из груди пса торчала деревянная рукоятка атаманова ножа.
– Когда на тебя вот такая зверина бросается – перво-наперво кулак ей в пасть суй, – как ни в чём не бывало, пояснил Берёза, нагибаясь и выдёргивая нож. Обтерев лезвие о шерсть собаки, он сунул его за пояс и продолжил: – Когда ей кулак сунешь да за язык схватишь – она уже ничего не может. Тут уж иль души, иль режь, что сподручней. Теперь идём, да помни – слушайся меня.
Ефим молча смотрел на мёртвого кобеля. По спине бежали мурашки. Он уже ничего не понимал. Убивать собаку того, кто тебе товарищ и в чьём доме ты собрался ночевать?.. Он готов был, нарушив данное слово, задать вопрос, но Берёза уже скрылся в тени у дома, и Ефим побежал за ним.
Дверь была заперта. Какое-то время они ждали у крыльца. Внутри дома сначала ничего не было слышно. Затем послышался скрип половиц, сонные шаги. Сиплый голос проворчал:
– Серый… холера… На кого ты там, кабыздох?..
Берёза застыл как каменный: Ефиму видны были лишь белки глаз, мутно блестящие в лунном свете. Сам он тоже замер, не шевелясь. Наконец дверь медленно приоткрылась.
– Серый! Где ты, проклятый? Серый! Сер…
Берёза метнулся вперёд, словно отпущенная пружина, – и через мгновение хозяин дома уже хрипел в могучих руках атамана.
– Вечер добрый, Трифон… Узнаёшь ли? – буднично спросил Берёза. – Уж прости, Серка твоего покончить пришлось. Злой кобелина, нечего сказать. Только против знающих людей – пустяк…
Трифон молча сипел, задрав к ночному небу всклокоченную бороду. Это был кряжистый и, видимо, тоже сильный мужик, но в объятиях Берёзы он не мог даже пошевелиться. Его босые ноги (видимо, слез с лавки или с печи) судорожно скребли доски крыльца.
– Ну, давай, в дом гостей зови, – так же мирно предложил Берёза и, мельком кивнув Ефиму, поволок хозяина в избу. Ефим, как заколдованный, тронулся следом.
Впотьмах не было видно ни зги. Но Берёза со своей ношей уверенно миновал сени, пнул тяжёлую дверь и шагнул в хату, слабо освещённую лучиной. Мгновение было тихо – а затем запищали дети, заголосили женщины… Со страху Ефиму показалось, что в хате полным-полно бабья. Однако, когда глаза немного привыкли к свету, он увидел, что женщина всего одна – простоволосая, в широкой рубашке. Она забилась в угол, прижимая к себе двоих отчаянно орущих детей. В другом углу скорчилась девчонка-подросток с младенцем на руках, которого она зачем-то выдернула из люльки: та ещё качалась. На печи кто-то по-стариковски надрывно кашлял. Застыв на пороге, Ефим недоумевающе смотрел на перепуганные лица.
– Ну, что ж… Ночь короткая, а времени мало. – Берёза, одной рукой продолжая удерживать Трифона, другой очень ловко добыл из-за пояса нож. Между делом почти сочувственно спросил: – Ты что ж, Тришка, всамделе думал, что я к тебе боле не загляну? Спокойно жить думал? Опосля того, как меня и трёх моих ребят солдатам сдал? Говорил я тебе – вернусь? Говорил, что ты мне все долги выплатишь? Вот он я, здесь. Слово держу. А ребята уж не вернутся. На Зерентуе сгинули. В рудниках. А всё из-за тебя, паскудина.
Он объяснял всё это спокойно и неторопливо, словно беседуя со старым другом, но Трифон всё сильней хрипел и бился в его руках. Было видно, что даже Берёзе уже тяжело удерживать его, и атаман повернулся к Ефиму:
– Пора дело заканчивать. Режь бабу и деда на печи, а опосля и отродье решим.
В первый миг Ефиму показалось, что он ослышался. Не веря своим ушам, парень решился переспросить:
– Что делать-то?..
– Оглох? Бабу вон кончай! Да живо, тут дела ещё много…
Ефима словно обдало колодезной водой. В голове стало пусто и холодно. И – словно оборвался, пропал куда-то саднящий ком под сердцем, не дающий покоя все эти дни. И свой голос, хриплый и тяжёлый, Ефим услышал словно со стороны:
– Ополоумел ты? Ещё чего!
– Парень, ты что? – Берёза взглянул на него в упор. – Я ведь этого кабана тоже долго держать не смогу! Делай дело, говорят тебе!
– Я на такие дела слова не давал.
– Чего-чего?.. – недоверчиво переспросил Берёза. – Не ты ли божился, что теперь ватажник мой? И что любого моего слова послушаешься?
– На такое не согласен, – глухо сказал Ефим, избегая смотреть на сжавшуюся в углу женщину. – Баб-детей резать – не по-божески.
– Да ну?! – ухмыльнулся Берёза. – Никак, Бога вспомнил? И давно ли ты святой стал? Кровь-то вроде пробовал? Или брехали про тебя, что ты в своей деревне двоих за́раз уходил?
– Не брехали. Пробовал. Только тебя то не касаемо, – сквозь зубы сказал Ефим. – У тебя с этим Трифоном расчёты – вот и разберись сам как знаешь. А я тебе тут не товарищ. Загодя упреждать надо было. Кабы я знал – я б с тобой и не пошёл никуда. Баб с мелюзгой резать – тьфу…
– Эх ты, вата-ажник… – почти без зла, с неприкрытой издёвкой свистнул Берёза. – Гусей тебе на болоте пасти, а не на стругах с молодцами ходить… Лапоть! Ну и леший с тобой, сам всё сделаю. Отойди.
– Да сейчас тебе! – хмыкнул Ефим, и Берёза снова уставился на него. Казалось, теперь уже он не верит своим ушам. Чуть погодя он медленно, с тяжёлой угрозой повторил:
– Парень, не зли меня. Пошёл вон, коль у самого кишка тонка! Без тебя управлюсь. Да чтоб тебя, пёсий катыш!.. – выругался он, когда Трифон, неожиданно извернувшись в его руках, укусил Берёзу за руку. Тускло мелькнуло лезвие ножа. Трифон коротко всхлипнул и мешком повалился на пол. Дико, по-звериному вскрикнула женщина.
– Ну? Как теперь? – перешагивая через убитого и не сводя с Ефима немигающего холодного взгляда, спросил Берёза. Лезвие в его руке светилось под лучиной. – Что, лапоть драный, справишься с атаманом Берёзой?
– Однова уж справился, было дело, – в тон ему ответил Ефим. Он не стал доставать нож, зная, что обращаться с ним всё равно не умеет. То ли дело собственные кулаки! Звенящий холод в голове лишь усилился, когда Ефим привычно подобрался для драки. Он не боялся. Теперь всё было понятно, просто и не страшно.
– Парень, давай не дури! – Берёза, казалось, лишь сейчас понял, что Ефим не шутит. – Чёрт с тобой, уходи отсюда, а мне не мешай! Мои это дела! По-хорошему прошу, не то…
– Уходи сам, – посоветовал Ефим. – А здесь не трогай никого. Не по чести это вовсе.
Не видя, он чувствовал, что женщина с детьми и девчонка с младенцем уже заползли ему за спину. Оглянуться Ефим боялся, понимая, что Берёза тут же бросится на него. Никакой уверенности в том, что он справится с атаманом, у него не было: тот был слишком опытен и силён. Однако Берёза, видимо, тоже сомневался в успехе и не трогался с места. С минуту они молча мерили друг друга взглядами. В полутёмной избе повисла тишина. Примолкли даже дети, и старик на печи перестал кашлять и захлёбываться. До Ефима доносилось тяжёлое, прерывистое дыхание Берёзы. Светлые страшные глаза атамана смотрели из потёмок в упор, и парень изо всех сил старался не отвести взгляда. И всё равно пропустил миг, когда Берёза стремительно, как животное, метнулся вперёд. Тело, закалённое с детства кулачными боями, всё сделало само. Ефим успел отпрянуть, и удар лезвия пришёлся не в грудь, а в плечо. Не успев почувствовать боли, Ефим ударил сам. Ударил кулаком в сердце – так, как всю жизнь запрещал ему бить отец, как грешно считалось бить всем кулачникам, выходя на бой. Берёза отлетел к стене. Нож, выпав из его руки, покатился под ноги Ефиму, и тот поспешно схватил его.
– Ну – живой, паскуда?! Аль добавить?!
К его изумлению, спустя минуту Берёза встал. Держась за стену, медленно поднял голову, и Ефима даже передёрнуло: на него смотрели сощуренные, лютые от ненависти глаза зверя.
– Ну, добро, парень… Попомнишь ещё меня, – невнятно, словно во рту у него был ком, выговорил Берёза. Повернулся и, шатаясь, вышел вон. Хлопнула дверь. Чуть погодя скрипнул забор на дворе. Тишина.
«Ушёл, никак?.. – ошеломлённо подумал Ефим. – Вот силён, анафема…» Он осторожно перевёл дыхание, выпрямился. Обернулся. Встретился взглядом с выкаченными от страха, безумными глазами женщины. Собрался с силами, сглотнул и, стараясь, чтобы голос звучал ровно, посоветовал:
– Тётка, двери запри покрепче. Он воротиться может. До утра пересидите, а там уж… – что им делать потом, Ефим не знал и посему умолк. Повернулся и вышел в незакрытую дверь, чудом не споткнувшись о покойника.
Луна спряталась в тучу, и двор был пустым и тёмным. Ефим пересёк его, каждый миг ожидая нападения: он уверен был, что Берёза далеко не ушёл. Из дома не слышалось ни криков, ни воплей. Зато вскоре раздался тяжёлый звук задвинутой щеколды. «Заперлись, слава богу», – подумал Ефим, взбираясь на забор и морщась от боли в раненом плече. Спрыгнув по ту сторону, он снова огляделся. Темнота. Никого. Совсем рядом чернела мохнатой опушкой тайга. Ефим уже дошёл до низенького подлеска, когда со стороны дома его догнал пронзительный вой. «Вернулся, ирод!» Ефим дёрнулся было обратно, но вой вдруг превратился в заполошные причитания: «И на кого ты на-а-ас…» Он понял: баба опомнилась и завыла по мёртвому. Не оглядываясь больше, Ефим поспешно скрылся в лесу.
Он шёл, как ему казалось, очень долго – не глядя по сторонам, не отводя мокрых, хлещущих по лицу колючих лап. Какая-то птица с тихим писком вырвалась из-под ног. Заверещав, кинулся в сторону разбуженный заяц. Ефим не видел ничего. Страшно болело плечо. Рукав был уже мокрым от крови, но ему и в голову не пришло остановиться и перевязать рану. Перед глазами ещё стояла освещённая лучиной изба. Безумные глаза бабы в задравшейся рубахе, искажённое ужасом лицо девчонки с младенцем в охапке, тяжело рухнувшее у порога тело… Сейчас, когда страшное напряжение начало отпускать, к горлу подкатила волна тошноты. С каждым шагом делалось всё хуже, и в конце концов Ефиму пришлось остановиться. Он ухватился за морщинистый, влажный ствол сосны. Лунные пятна сразу же закачались перед глазами. «Да что ж это, Господи…» Зажмурившись, парень опустился на колени в траву. Дрожали руки. Сердце колотилось как бешеное, отдаваясь в ушах и пятках. Дурнота не отпускала.
«Сукин сын… На что сманивал, паскуда… Должок, видите ль, получить собрался… И ведь ни слова загодя не сказал! Чуял, что не стану? Или… Иль наоборот?!. Ему ж ведь и в башку даже не пришло, что откажусь! – вдруг с горечью и стыдом понял Ефим. – Уверен, гад, был! Думал, что раз я там, у себя, в Болотееве-то… Так теперь и бабу смогу… И дитё в люльке… Как выродок последний… Как он сам! – Ефим стиснул зубы, едва справляясь с накатившим отчаянием. – Господи, если б знать… Если б с самого начала понимать… Атаман Берёза, глядите вы! Ватага у него, вишь, на Волге вольная! Убивец, и ничего боле… А ещё врал, что простого люда не трогает, что справедливость у них! Вурдалак чёртов, и надо ж было так… Надо ж было послушать-то его… Тьфу, прав был тятька, и Антипка тоже! Ума нет, считай – калека…»
Ефим не знал, сколько времени просидел в обнимку со стволом, вжимаясь лицом в мокрую, шершавую кору. Медленно текла ночь. Насмешливая луна то на миг освещала деревья вокруг, то пряталась в облака. Из оврага седыми страшными клубами поднимался туман. С близкого болотца несло сырой гнилью. Глухо ухал из чащобы филин. Словно отзываясь, слабо, тоскующе кричал в камышах козодой. И мало-помалу Ефим начал приходить в себя. Дыхание стало ровнее, провалился горький ком в горле. Ушла отвратительная липкая дрожь. Отлепившись от ствола, он сел было – но голова сразу закружилась опять. Ефим поспешно вытянулся на траве. «Сейчас вот засну… А завтра прямо здесь, под сосной, и заберут… Назад отправят… Может, оно и лучше… Самому-то ещё и невесть как добираться… Завтра… Чёрт, дождя ночью не случилось бы… И так мокреть…» На мысли о дожде он и заснул – глубоко и крепко.
Ефим проснулся перед самым рассветом от озноба. Солнце ещё не встало и висело мутным розовым шаром между стволами вековых елей. Вся трава была сплошь затянута росой. Серебристые капли поблёскивали на коре, на низко склонившихся еловых лапах. Дрожа от холода, Ефим поднялся, передёрнул плечами – и чуть не взвыл от пронзившей всё тело боли под ключицей. «Вот сатана… Сильно-то саданул как! А вчера показалось – пустяк…» По тёмным пятнам вокруг было ясно, что крови вытекло за ночь порядочно. «Слава богу, что ночью холод ударил, кровь схватилась! Не то б все волки окрестные уж тут были! – невесело порадовался Ефим, отдирая подол от рубахи и перетягивая рану. – Вот Устьку б сюда с её мышьей травкой…»
При воспоминании о жене сразу сжалось сердце. Ефим подумал, что, если даже он и доберётся благополучно обратно на завод, увидеться с Устькой ему не дадут. Сразу же возьмут в кандалы и – в «секретку»… И, скорей всего, сдадут в рудники как беглого. Тут же вспомнился убитый Берёзой Трифон, и мороз продрал по спине. Ведь и это тоже наверняка вылезет… И баба Трифонова покажет, что варнаков двое было! А после кто там будет разбираться, кто резал, а кто нет… будто начальству дело есть… им убивец будет нужен хоть один… Ох, попал ты, парень, как кур во щип… Не выкрутиться никак… Теперь уж дело гиблое!»
Ефим тоскливо оглядел стеной стоящий вокруг лес. Мелькнула шальная мысль: всё же бежать. Идти на закат, как шли они с Берёзой. Рано или поздно куда-нибудь да выйдет… «Куда ты выйдешь, лапоть?! – тут же с горечью подумал он. – Выйдет он… Будто дороги варнацкие знаешь! Будто люди у тебя по деревням есть, как у атамана! Харча – и то с собой ни крошки! Ну, вспомни, вспомни, как на Москву шли с Антипом да с Устькой! На одних грибах цельную осень, тьфу… А тут ни грибов, ни орехов ещё в помине нет, одни корешки! И то ведь не всякий корешок есть можно… Да тебя в первом же поселении скрутят, как курёнка, и становому сдадут! А коль сам в завод вернёшься, глядишь, послабленье какое выйдет… Ведь и допрежь люди бегали! И возвертались… И что? Спину обдерут, годов довесят – и опять на работу! Ништо, авось кривая вывезет!»
Кое-как подбодрив себя таким образом, Ефим задрал голову. Солнце уже поднялось над макушками елей, зазолотилось, разбрасывая по сумрачной тайге снопы искр. Из глубины леса доносился гомон птиц. Сощурившись на солнце и определяя свой обратный путь, Ефим почувствовал, как в тон весёлому птичьему щебету уныло поскрипывает желудок. Однако помочь собственному брюху было нечем, и Ефим, благоразумно стараясь не думать о еде, пошёл на восток.
Сначала он двигался довольно бодро, время от времени поглядывая на солнце, сползая по склонам оврагов, перебираясь через поваленные, заросшие мхом коряги и с чертыханием вылезая из скрытых молодой травой ям. Ефиму казалось, что идёт он правильно. Тайги вокруг он пока не узнавал, но заблудиться в лесу, пусть даже и сибирском, считал невозможным. «Не город небось… Вон, в той Москве и впрямь плутать неделями можно было. И солнце со звездой не помогли б. А народу, а шуму, а грохоту всякого! Не заблудишься, так с ума рехнёшься навовсе. А в лесу что… Днём – солнце светит, ночью «ковш» поднимется… По-всякому выберусь! Не впервой теляти по лесу плутати».
Гораздо больше его волновала нараставшая боль под ключицей. От долгой ходьбы рана разошлась, и на перевязи проступили пятна крови. Когда же каждый шаг начал отзываться острой болью во всём теле, Ефим понял, что надо хоть ненадолго остановиться. Он присел на поваленный мшистый ствол – и почти сразу понял, что сделал это зря. Тело немедленно налилось чугуном. Перед глазами, как вчера, заплясали пятна, и Ефим слегка испугался. Если уже в первый день такое – то как же дальше-то? Впервые он пожалел, что никогда не обращал внимания на Устиньины травки.
«Ведь как она ловко делала… Шмыгнёт по полянке туда-сюда, вырвет корешок… В ладонях разотрёт, сжевать даст – и, глядишь, через полчаса всё как рукой сымет! Что стоило посмотреть… Теперь вот дозарезу надо – а не вспомнить ничего. Да, может, тут такое и не растёт вовсе! Тайга – это тебе не ёлки болотеевские! Ох ты, чёрт, да что ж поделать-то? Что поделать… Идти! Как хочешь, идти! Коли ляжешь да помирать начнёшь – как раз зверьё явится! Кровищей, опять же, пахнет… Одной рукой волка не задушить!» Превозмогая боль, Ефим встал, огляделся. С досадой вспомнил, что где-то выронил нож. Здоровой рукой отодрал сук от поваленного ствола, одобрительно потрогал острый, как лезвие, отлом. И пошёл дальше, следя за тем, чтобы солнце за спиной светило точно в левое плечо.
День уже клонился к закату, когда Ефим вошёл в густой сосняк, растущий по обоим склонам длинного оврага. Он страшно устал, повязка вся набрякла кровью. Однако места вокруг были по-прежнему незнакомыми. «Сторона-то по солнцу нужная… А ну как вправо аль влево забрал? Так мимо завода и прошагаешь до самого Зерентуя…» Ефим осмотрелся. Выбрал огромную старую сосну с низко растущими ветвями и начал взбираться по сучьям, как по лестнице, – морщась от боли и стараясь не думать о том, что будет, ежели он с этой сосны, к примеру, навернётся.
Умудрился не упасть. До смерти напугал по дороге семейство белок, чудом не потревожил пчелиный рой в дупле, согнал с гнезда возмущённо цокающую сойку. И добрался чуть не до самого верха, откуда кроны елей и кедров казались зелёным морем, разлившимся на многие вёрсты вокруг. Устроившись в развилке и помотав головой, чтобы отогнать пляшущие пятна в глазах, Ефим осмотрелся. И – почти сразу же увидел в полуверсте знакомую обгорелую верхушку лиственницы, возле которой они с Берёзой ночевали в последний раз. «Она иль нет?! Это что же – я один быстрей, чем с атаманом, добрался? В один день вместо двух?!» Посоображав, Ефим убедился, что так оно и есть. Полдня у них с Берёзой ушло на отсиживание в овраге возле избёнки, и полночи – на выжидание возле дома Трифона. «Я-то ничего не ждал, не прятался! Шёл себе да шёл! Ой, Бог дураков-то любит!» Ефим скатился с дерева, от радости не чувствуя даже боли.
Через полчаса, когда солнце уже завалилось за горы, он вышел к знакомой лиственнице и – рухнул навзничь в сырую от росы траву. «Слава богу… Верно иду, правильно… И быстро! Послезавтра к вечеру на заводе буду! Только бы бурятов черти не принесли…» Последним страшным усилием Ефим заставил себя скатиться под могучие корни дерева. Напоследок подумалось ещё, что надо бы сменить повязку, незачем манить зверьё. Но на это уже не хватило сил.
Он проснулся от прикосновения чего-то мохнатого к ноге. И сразу, ещё не придя в себя, вскочил. Рука сама схватила лежавший рядом острый сук. Ничего не видя в кромешной темноте, Ефим ударил наугад – раз, другой, третий. Упал, стукнулся головой о торчащий из земли корень, выругался от боли. Рядом – шипение и тихое рычание, тень, метнувшаяся в сторону, – и тишина.
Какое-то время Ефим ещё стоял на коленях, дико осматриваясь по сторонам и до боли сжимая в руке сук. Но вокруг было тихо. Напавший на него зверь больше не появлялся. «Кто ж это такой? – гадал Ефим, чувствуя, как бежит по спине холодный пот. – Медведь так не нападёт… Да и больше он, медведь-то. И разит от него по-другому… Волк бы просто так не убежал… Я ведь его, кажись, и не зацепил даже… Шипел как-то… Лисица, может? Так не нападает она… Чёрт знает что! И ведь не заснёшь теперь!»
Спать в самом деле было опасно: неведомая зверюга могла вернуться. Осторожно присев на ворох палой хвои, каждый миг готовый защищаться, Ефим долго слушал ночную тишину. До него доносились невнятные шорохи, иногда – попискивание разбуженной птицы. Но ночной гость или затаился, или ушёл. Понемногу Ефим успокоился. До рассвета было недалеко, небо в просветах между ветвями уже начинало сереть. Смертельно хотелось есть. Ефим понадеялся, что завтра сможет отыскать саранку – единственное растение, которое он не боялся есть в тайге. «Этак и впрямь до места не дойдёшь, с голодухи посреди леса свалишься…» Но про себя Ефим знал: дойдёт, куда денется. Хуже-то после окажется… Уж на заводе. Ещё невесть что Антипка скажет… Ежели вовсе скажет. Молчал же до сих пор три месяца… Может и до самой смерти теперь ни слова брату не вымолвить.
«Лучше б морду набил, ей-богу! И быстрей, и легче… А ведь, чёрт упёртый, ещё и побрезгует! Кабы за другое что, а тут – Устька! Всю жизнь до неё больной был… Три года в каторге, куча бабья вокруг, уж сто раз мог себе найти… Так ведь нет! Ни на одну не глядит, дурак! Так бобылём и живёт! Один свет в глазах – Устя Даниловна… За неё он не то что замолчать навек – убить может… И надо ж было вляпаться так!» – угрюмо размышлял Ефим, ощупывая саднящее плечо и поглядывая на небо. Повязка, которую он не сменил, ссохлась и теперь давила на рану твёрдой коркой. Парень попробовал было осторожно отодрать её, но плечо отозвалось такой болью, что пришлось оставить его в покое. Подумав, Ефим вспомнил, что неподалёку, по оврагу, должен бежать ручей. Наутро можно будет напиться вдоволь и отмочить повязку. Заодно поискать саранки и хоть как-то набить пузо. А сейчас лучше не думать ни о чём. А об Устьке – тем более. Только хуже делается, с тоской подумал он. Чего зря душу рвать?.. И – до самого рассвета вспоминал о том, как они с Устиньей играли свою свадьбу. Ночью, на болоте, в чужом лесу, в ста верстах от дома, не зная, что с ними будет завтра… И сам удивлялся тому, что помнит всё до капли: и как она обнимала его, и как прижималась всем телом, словно боясь чего-то, – горячая, ласковая… И сам он, ошалев вконец от этой лесной игоши, целовал её взахлёб, катал по сырой, засыпанной прелым листом земле. Три года уж тому, а словно вчера всё было. И Бог теперь знает – повторится ли…
Наконец в лесу посветлело. Ефим спустился в овраг. Долго, жадно пил из ручья, заглатывая вместе с водой хвоинки и кусочки коры. Затем промочил насквозь повязку и принялся, ругаясь страшными словами, отдирать от раны присохшую ткань. Оторвал, конечно, неумело: кровь полилась снова. Матерясь, Ефим выдрал пук первой попавшейся травы, показавшейся ему похожей на Устиньину «мышью травку», зажал ею рану. Кровь, казалось, остановилась, но через несколько минут рана начала страшно гореть. Парень поспешно выбросил смятый травяной ком. «Вот ведь нечистая… Не та травка оказалась! Или мне это леший за Устьку мстит? Родня ведь он ей, сама сказывала!» – хмуро усмехнулся он. От рубахи уже остались одни лоскуты, и Ефим без сожаления пустил их на повязку. Посидел немного, ожидая, пока отпустит боль, и пошёл искать саранку.
Росомаху Ефим увидел сразу же, как выбрался из оврага. Она сидела, не прячась, среди валунов и внимательно смотрела на него. Ефим тут же понял, что именно эта гадина напала на него ночью. Она оказалась значительно больше той, которая встретилась им с Берёзой. Эта была почти в аршин длиной, покрытая густой чёрной шерстью. Её морда напоминала медвежью. Острые зубы слегка приоткрылись в небрежном оскале. Ефим прикрикнул – росомаха не тронулась с места. Он взмахнул рукой. Зверюга поднялась и лениво скользнула в щель между камнями. «Вот пакость… что ж делать-то теперь?» – растерянно подумал Ефим. Он не боялся небольшой на вид росомахи… но ведь напала же она на него, спящего, не испугалась! С ненавистью глядя на пустую щель между валунами, Ефим вспоминал то, что мимоходом рассказал о росомахе Берёза. «Трусливая, сволочь. Всё на кого послабже нападает, аль на подранков. Зимой, в снегу, может и лося взрослого завалить. Да ещё, тварь такая, измором берёт. По три дня может следом идти, когда чует, что зверь слабый аль ранетый».
«На кровь пришла, зараза… – лихорадочно соображал Ефим. – Унюхала и напала! Сразу не вышло, так вот сидит теперь, дожидает… Ещё, не дай бог, следом потащится!» При мысли о том, что ему теперь постоянно придётся опасаться, – вот-вот на плечи прыгнет зубастый зверь! – Ефиму стало нехорошо. На всякий случай он подождал у валунов ещё немного. Но росомаха больше не появлялась. «Ушла, может?» – осторожно порадовался парень. Взобрался на камни, осмотрелся. Вокруг было пусто. С толстого кедра на него смотрел, изумлённо склонив головку, пёстрый дятел. Слегка успокоившись, Ефим спустился с валунов и пошёл прямо на жёлтые заросли саранки вдали.
Сладковатые луковицы успокоили бунтующее нутро и подняли настроение. Нажевавшись всласть, Ефим сунул ещё с десяток луковок за пазуху и сощурился на солнце, определяя путь. Сегодня, по его расчётам, солнце должно было светить точно в спину. «Нынче день да завтра – и всё! – успокаивал он себя, стараясь не думать о жгучей боли под ключицей. – Главное – не думать ни о чём, а идти себе да идти! Если всё верно, то скоро и валун, который как котелок… В полдень на дерево б залезть, посмотреть…»
Вскоре Ефим убедился, что росомаха идёт за ним. Сперва он думал, что ему просто мерещится со страху тёмный мохнатый силуэт то справа, то слева. Но после полудня хищница вообще перестала таиться. Ефим увидел, как она выскочила из кустов прямо перед ним, посмотрела внимательным холодным взглядом – и снова юркнула в заросли. «Да чтоб тебя через задницу да посуху!..» – выругался он, понимая, что проклятая тварь теперь не отвяжется нипочём. Днём, может, и побоится напасть, но ведь ночью, хочешь не хочешь, спать надо… Хитрая нечисть, чует, что он подбитый… Собрав всю волю, Ефим попытался идти быстрее, чтобы росомаха не воображала, что он совсем ослаб. Попробовал даже запеть похабную заводскую песню, но от собственного голоса – срывающегося, хриплого – сделалось совсем худо. Пришлось умолкнуть. Голова кружилась с каждым шагом всё сильней. Ефим уже несколько раз ловил себя на том, что слишком часто останавливается и переводит дыхание. Теперь он понимал, что переоценил свои силы и, взбудораженный ночным боем с атаманом, по-глупому не придал значения полученной ране. «Вовремя перетянуть надо было, вот что! – ругал себя Ефим, прислоняясь к очередному дереву и пережидая, пока посветлеет в глазах. – Тогда бы зажило, как на кабыздохе, не впервой… А кровищи-то тьма вышла! А эта паскуда чует, ждёт, пока свалюсь! А вот хрен тебе! Всё едино дойду!»
В сумерках силы оставили его. Солнце свалилось за горы так неожиданно, что Ефим даже не успел осмотреться и прикинуть, где находится. До выворотня, где ночевали они с Берёзой, было, по его расчётам, ещё далеко, хотя огромный «котелок» на берегу чёрного озерца он уже миновал. Росомаха была рядом. Она давно не пряталась, поняв, что усталому путнику тяжело даже замахиваться на неё суком. «Сожрёт ночью, ведьма, – уже без страха, обречённо подумал Ефим, валясь на холодную землю. – Вот сейчас дождётся, пока закемарю, – и сразу же… Ох ты, угодники святые, как бы это не заснуть-то?» Он отчётливо понимал, что через минуту всё равно провалится в сон. Слишком мучительным был день, слишком болело плечо, слишком тяжёлой, словно налитой свинцом, была голова. В полном отчаянии Ефим дёрнул за повязку, опять успевшую присохнуть к ране, – и от резкой боли чуть не потерял сознание. Рассчитал он, впрочем, правильно: сон как сбросило. Но кровь хлынула горячим ручьём, и Ефим понял, что сделал очередную глупость: от запаха свежей крови росомаха совсем осатанеет.
«Ну и что… Зато не сплю! Прикинуться, что ли, что задрых, пусть поближе подойдёт… А там уж будь что будет! Или она, или я!» Мысль была совершенно безумной. Но Ефим ясно понимал: ещё одной бессонной ночи, ещё одного дня с крадущейся зубастой тварью за спиной он не выдержит.
Над лесом взошла луна – круглая, жёлтая, страшная. Блёклый свет залил стволы деревьев, облизал холодными языками дальние камни. Вокруг было тихо – ни шороха, ни движения. Ефим лежал неподвижно, весь подобравшись в напряжённый комок, изо всех сил вслушиваясь в ночную тишину. И всё равно не заметил, когда росомаха кинулась на него. Прямо в лицо беззвучно метнулась мохнатая тень. Блеснули оскаленные зубы – и тут же жёсткие челюсти сомкнулись на его руке, которая непроизвольно вскинулась к лицу. Рукав плотного суконного армяка росомаха прокусила как бумажный, и он тут же наполнился горячей влагой. От боли почернело в глазах. Ефим, яростно зарычав, отшвырнул зверя здоровой рукой. Но хищница была сильна. Она рвала его зубами и когтями, бешено ворча и визжа. В какой-то миг Ефиму показалось, что – всё… Ругаясь самыми страшными словами, которых постыдился бы даже в компании каторжан, он чудом вывернулся из-под смрадного тяжёлого тела. Ударил, стиснул руки на горле дёргающейся твари, чувствуя, что ещё мгновение – и лишится сознания… Но росомаха, в последний раз деранув его когтями, вдруг обвисла. Тяжело дыша, Ефим отбросил неподвижное тело. С трудом поднялся на колени. Подполз, преодолевая дрожь, к мохнатому кому, убедился: сдохла, паскуда… И лишь тогда повалился навзничь в мокрую траву, понимая гаснущим сознанием, что – нельзя… Кровища идёт, хотя бы перевязаться чем-то надо, другого зверья полон лес… И сразу же не то заснул, не то сомлел под холодной, ехидно кривящейся луной.
Два дня спустя, уже в сумерках, Ефим Силин подошёл к воротам винного завода. Его шатало от голода и страшной усталости. Рубахи на нём давно уже не было, лохмотья армяка были натянуты прямо на голое тело. Ножевая рана под ключицей слегка поджила, но глубокие царапины на груди, оставленные росомахой, сильно воспалились. Они сочились сукровицей и гноем, прилипая к ткани одежды, и Ефим прикладывал к ним сорванные листья чёрной берёзы. Он не знал, помогают ли они при ранах, но здраво рассудил, что коли берёзовыми вениками парятся в банях, то и для царапин от них вреда не будет. Пользы, впрочем, тоже не вышло никакой. Ещё больше мучил укус страшных росомашьих зубов. Толстый рукав армяка значительно смягчил его, но зубы хищницы всё равно разорвали руку до кости, и рана воспалилась сразу же. На другой день рука побагровела и вспухла так, что не помещалась в рукав, и Ефим без всякого сожаления оторвал его. Проходя мимо ручьёв или болот, он совал руку в холодную воду, и это немного помогало. Ефим страшно боялся, что у него теперь отнимется рука. Он поневоле старался идти быстрей: там, на заводе, Устька, она посмотрит, поможет… Может, и не простит его теперь ни в жизнь, но руке-то отвалиться наверняка не даст. Он шёл и шёл, следя, чтобы солнце било в спину. Отмечал свои приметы. Иногда жевал мучнистые луковицы саранок. Кое-как боролся с дурнотой и жаром, которые крепчали к ночи. Молился о том, чтоб не встретилась ещё одна росомаха или, ещё хуже, волки. И от тех и от других бог миловал. Но, выбравшись на берег широкого ручья, Ефим нос к носу столкнулся с облезлым и худым медведем, ловившим на камнях рыбу. Увидев опешившего путника, который не знал, то ли бежать, то ли лучше, наоборот, не шевелиться, медведь сердито рявкнул. Бросил выловленную рыбину с отъеденной головой и, мотая облинялыми боками, убежал в чащу. Ефим вытер холодный пот со лба, перебрался по камням на другой берег, начал было доедать за медведем рыбу – но его тут же стошнило. Отплевавшись, парень выбросил остатки рыбы в ручей и, проклиная всё зверьё на свете, тронулся дальше.
Ещё больше хищников он боялся бурятов, которыми стращал его Берёза. Ни оружия, чтобы отбиться, ни сил, чтобы убежать, у Ефима не было. Но тут ему несказанно повезло: за шесть дней пути в лесу ему не встретилось ни одного человека. Он старался быть осторожным. Если до слуха доносился незнакомый треск или шум, останавливался и пережидал, забившись под разлапистую ель или в щель между валунами. Ночью спал вполглаза – с ноющими и саднящими ранами это было довольно просто. Вслушивался в лесные шорохи. Сжимал здоровой рукой свой сук. А наутро вставал, превозмогая боль и тошноту, и шёл дальше.
Когда впереди замаячили облитые закатом знакомые ворота из толстых тёсаных кольев, Ефим даже не обрадовался. Последние вёрсты он шёл не останавливаясь, отчаянно не желая проводить в лесу лишнюю ночь. Ворота были уже заперты. Подойдя, Ефим уткнулся лбом прямо в занозистые колья и какое-то время стоял неподвижно, ещё не веря: дошагал, добрался, не сожрали по пути… Затем бухнул кулаком в ворота. Ещё раз и ещё.
– Да отопрёте вы иль нет?! Не достучишься… Околевать тут из-за вас?
– Кто там долбит на ночь глядя? – сипло спросили из-за ворот. – Чего надо-то?
– Да ваш я, Ефим Силин! Открывай, нагулялся я…
– Тьфу, холера… Ефим?! Впрямь ты? Счас, пожди… Игна-а-тьич! Поди сюда, отворяй! Тут вон какое явленье!
За воротами – возня, шум, удивлённые возгласы. Ефим терпеливо ждал, прислонившись плечом к толстому столбу. Про себя усмехался: с каторги как птица улетал, никто не держал, а обратно и не попадёшь… Наконец скрипучая створка калитки качнулась, поехала в сторону.
– Мат-терь божья! – испуганно сказал старый солдат-инвалид, пропуская Ефима внутрь. – Да тебя узнать нельзя! Где шлялся-то, обормот?
Ефим не ответил.
– И куды тебя теперь? В лазарет аль прямо к начальству? Трофимова-то где потерял?
– Давай к начальству, ежели не спит, – угрюмо буркнул Ефим. – Объявиться мне надо. Да пусти прежде умыться – не то барин меня не признает. Скажет ещё – не его завода беглый, пусть идёт себе с богом… И ни драть, ни кормить не станет! А у меня уж брюхо с хребтом срослось!
– Шутит ещё! – поразился Игнатьич. Но всё же пропустил Ефима к кадке с водой и подождал, пока тот вдоволь напьётся и слегка ототрёт физиономию.
Фыркнув напоследок, Ефим выпрямился и ухмыльнулся:
– Ну вот… Теперь и под батоги можно укладываться! Пошли, инвалидная рота, не отставай.
У Брагина ещё не ложились. В кабинете начальника горела знакомая всему заводу зелёная лампа. У входа, поджав под себя ноги, сидел неизменный Хасбулат и наглаживал своё ружьё. При виде Ефима с конвоиром он легко вскочил на ноги.
– Хасбулат, скажи Афанасий Егорычу – Ефимка Силин пришёл, набегамшись. Куды девать распорядятся?
– Жды, – черкес исчез. Через минуту дверь открылась снова.
– Заходы.
Брагин сидел за столом перед стопкой бумаг. Когда Ефим вошёл и молча поклонился, начальник завода взглянул на него без особого удивления и, казалось, неприязненно:
– Явился, смотри ты… Спасибо, Авдонин, ступай.
– Слушаю, ваше благородие, – дверь закрылась.
Некоторое время начальник завода и беглый каторжанин смотрели друг на друга. Затем Брагин пригласил:
– Ну, садись, зелёные ноги.
Ефим молча уселся на пол у стены.
– Тебя рысь, что ли, порвала?
– Росомаха.
– Знатно, нечего сказать… Голодный? Эй, Хасбулат! Принеси ему щей… И хлеба, коли Захаровна отжалеет.
При слове «щи» у Ефима так повело голову, что он, не выдержав, закрыл глаза и прислонился затылком к тёплой бревенчатой стене. «Всё… Помру сейчас… Не дождусь… Господи, пожрать по-людски!!! А потом пущай хоть дерут, хоть вешают…»
Дождался. И ел, сидя на полу, тёплые, густые солёные щи с мясом, стараясь глотать поаккуратней. Не спеша откусывал от горбушки и едва удерживался от зверского желания вылить в рот всю миску разом. Но щи всё равно кончились мгновенно, и бесстрастный Хасбулат тут же забрал миску. Ефим проводил её тоскливым взглядом.
– Позже дам ещё, но не сразу, – пообещал Брагин. – А пока потерпи, иначе живот перекрутит. Сколько дней у тебя там саранки аукаются?
– Десятый, барин, – хрипло, не открывая глаз, сказал Ефим. – Благодарствую.
– А рассчитали-то они весьма точно, – произнёс Брагин непонятную фразу. Затем негромко сказал что-то черкесу, и тот исчез.
– Сейчас придёт доктор Иверзнев, посмотрит твои ранения. Угораздило тебя, однако…
Ефим тут же открыл глаза. Тревожно посмотрел на Брагина.
– К чему доктора-то волновать посредь ночи, барин? Пущай Устька моя придёт…
– Устинья нездорова, – коротко сказал, не поднимая взгляда от своих бумаг, начальник, и у Ефима дёрнулось сердце.
– Воля ваша, барин… Не может того быть, – сглотнув вставший в горле ком, выговорил он. – Сроду она не болела… С чего это?
Брагин не ответил, а Ефим не решился спросить снова. И ждал, сидя на полу, с закрытыми глазами, пока не скрипнула дверь и знакомый голос не спросил:
– Вы меня приглашали, Афанасий Егорович? Ваш черкес велел взять саквояж. Что тут стряслось?
– Простите, Михаил Николаевич, что так поздно. Но как бы ему за ночь вовсе худо не сделалось. Говорит – росомаха напала в лесу.
– Что значит «росомаха в лесу»? Кто это? Можно ли свечу мне сюда?
Пятно света приблизилось, и Ефим был вынужден поднять голову. На него изумлёнными глазами смотрел Михаил Иверзнев.
– Ты?!
– Так что здрасьте, барин…
Иверзнев отвернулся. Вполголоса выругался. Затем, не глядя на Ефима, открыл саквояж и попросил стоящего в дверях черкеса:
– Принеси свежей воды, пожалуйста. А тёплая есть? Очень хорошо, перелей в миску… А ты ложись на лавку. Подожди, я помогу. Вот так, осторожней… Давай руку. М-да… Действительно, сильно. Твоё счастье, что артерии оказались не задеты. А вот это, под ключицей, откуда? Не похоже на укус. Скорее, штыковое или ножевое…
Ефим не ответил. И не заметил, как пристально посмотрел на него Брагин. Стиснув зубы, посоветовал Иверзневу, который бережно мочил тёплой водой ссохшуюся повязку:
– Да не отмачивайте вы, барин, рвите так! Время только терять…
– Сделай одолжение, не учи меня, – сдержанно заметил Иверзнев. – «Рвите так»… У тебя и без того кровопотеря! И чего ты в рану насовал, скажи на милость? Что это за… сено?! Фу-у… Ты как умудрился с ЭТИМ вообще добраться до завода?!
– Да вот так, единственно вашей милости назло, – процедил Ефим. – Что, Михайла Николаич, думал – избавился от меня навек?!
– Скотина, – коротко заметил на это Иверзнев, и разговор прекратился.
Ефим полжизни отдал бы за то, чтобы и осмотр, и перевязка поскорей закончились. Но проклятые тряпки присохли к ранам намертво и не отставали. В конце концов ему надоело. Он решительно отстранил руку доктора, сел и оторвал всё сам. Хлынула кровь. Страшно выматерившись, Ефим повалился обратно на лавку, оскалился от боли.
– Да что ж ты за отродье!!! – лопнуло терпение у Иверзнева. – Какого чёрта не слушаешься?! Больно же, сукин сын… И полило вон опять! Потерпи уж теперь… Да не дёргайся, всё, всё… Я стараюсь осторожно… Господи, тут ещё и воспалено страшно! Лежи и не шевелись, говорят тебе! Дёрнешься – лекарство прольётся, а новое сейчас готовить некому!
От последней фразы у Ефима глухо бухнуло в висках.
– Что там с Устькой моей, барин? – спросил он, не открывая глаз.
Иверзнев ответил не сразу, придерживая зубами край полотняного бинта. Затем завязал последний узел, выпрямился и, складывая склянки и скатки бинтов в саквояж, негромко ответил:
– У неё был выкидыш. Знаешь, на четвёртом месяце это очень болезненно… И опасно. Мы тут изрядно всполошились все.
– То есть, что ж… Помирает?! – едва смог выговорить он. И, не стерпев, заорал в голос: – Барин, отвечай! Не молчи! Убью!!!
– Не ори, дурак. Не помирает, – устало сказал Иверзнев. – Теперь я наверное знаю, что – нет. Но неделю назад не поручился бы.
– Барин! Да пожди ж!.. Откуда выкидыш-то, мы же с ней… – Ефим приподнялся на локте, уткнувшись бешеными глазами в лицо Иверзнева.
– Ты умеешь считать по месяцам? До трёх? – холодно спросил тот.
– Умею…
– Вот и займись этим, болван, – и, не глядя больше на Ефима, Иверзнев закрыл свой саквояж и обратился к Брагину:
– Афанасий Егорьич, теперь ему только спать и есть. И присылайте его в лазарет, когда закончите. У него вскоре может подняться жар. Вот тут, в бутылке, лекарство… Пусть выпьет через полчаса. Я могу, с вашего позволения, откланяться?
– Разумеется. Благодарю вас. Извините, что обеспокоил.
– Доброй ночи, – коротко сказал Иверзнев и ушёл.
Ефим полулежал на лавке, уронив голову на кулак, и хрипло, тяжело дышал. Боль в растревоженных ранах ещё не унялась, по спине бежал холодный пот. В висках жарко стучала кровь. Кто-то тронул его за плечо. Ефим, вздрогнув, поднял взгляд. Перед ним стоял Хасбулат с жестяной кружкой.
– Воды пей, – коротко приказал он.
Препираться с абреком Ефим не решился и вытянул всю кружку до дна. Брагин за столом по-прежнему не говорил ни слова. В его сощуренных глазах под тяжёлыми веками не было, казалось, никакого выражения.
– Однако, Силин, нахальства своего ты по тайге не растерял, – заметил он, когда Хасбулат принял пустую кружку и тенью исчез за дверью.
Ефим, глядя в пол, пожал плечами. Глухо спросил:
– Куда теперь прикажете?
– Тебе надо в лазарет, ступай. Хасбулат доведёт.
– Не пойду, хоть режьте, – сумрачно отказался Ефим. – Дозвольте хоть в «секретку», хоть в острог до утра. Толку-то в лазарете шкуру заживлять, коли всё едино пороть ещё будете. Нехай уж потом всё разом заживает…
– С какой стати мне тебя пороть? – равнодушно спросил Брагин, потянувшись за стопкой расходных книг на полке.
– Шутите, барин? – недоверчиво усмехнулся Ефим. – Аль у нас на заводе медали за побег дают?
– Силин, заткнись, дождёшься, право, – зевнув, пообещал Брагин. – И отстань от меня со своим геройским побегом… Его не было.
В кабинете повисла тишина. Ефим поднял голову. Уже не притворяясь, с испугом уставился на начальника завода.
– Ваша милость… как это?!
– Да очень просто. – Брагин вдруг бросил свои бумаги, всем телом откинулся на спинку стула и потянулся крепко, до хруста. – Чёр-рт, Силин… Принесла ж тебя нелёгкая, когда я уже спать собирался… в кои веки… У меня в бумагах беглым ты пока не числишься. А раз явился назад, то и ни к чему тебя туда писать, чернила переводить. Отлежишься в лазарете и пойдёшь на работу. Всё? Ну и пошёл вон отсюда… Хасбула-ат!
– Подождите, барин… Отчего ж так? Я пойду, коль вы велите… Но скажите ж, ради Христа!.. – тихо попросил Ефим. Он ничего не понимал и в глубине души уже почти поверил, что в тайге сошёл с ума от голода.
Брагин внимательно посмотрел в растерянное лицо парня. Жестом отослал возникшего было в дверях черкеса. Медленно выговорил, разглядывая затупившееся перо:
– За тебя поручились твой брат, жена и Михаил Николаевич. Они были здесь в тот же вечер, как ты сбежал. И хором меня уверяли, что ты вернёшься назад, не пройдёт и десяти дней. Забавно, кстати, что именно так и вышло. Я, признаться, не ожидал от Антипа такой верности в расчётах.
– Так это Антипка сказал… Про десять дней-то?..
– Именно он. Он мне побожился, что дурь на тебе подолгу не держится. На пятый день, как правило, скатывается. Ну, и столько же на обратную дорогу, если повезёт… – невозмутимо пояснил Брагин.
Ефим что-то пробормотал сквозь зубы, глядя себе под ноги. Чуть погодя хрипло спросил:
– А Устька-то что ж?
– А Устинье мне и вовсе нельзя было отказать, – без улыбки сказал Брагин. – К тому же она так выла тут, валяясь у меня в ногах, что…
– Устька?! – Ефим рывком поднял голову. – В ногах?!. Да николи такого не было! Воля ваша, барин!..
– Представь себе. Кстати, сразу после этого она и свалилась. И, знаешь, дня три в самом деле была между жизнью и смертью. Тут Михайла Николаевич не преувеличивает. Они с Катькой просто сбились с ног. Погоди, эта цыганка ещё до тебя доберётся! Боюсь, что после неё росомаха тебе счастьем покажется.
Ефим молчал, уткнувшись взглядом в тёмный щелястый пол. Голову волнами обдавало жаром, нечем было дышать, и он даже не сразу услышал вопрос Брагина.
– Ты меня слышишь или нет?
– Что, барин?..
– Спрашиваю – кто тебя ножом ткнул?
– Никто. Росомаха это, говорил же…
– Силин, ты давай не ври, – ровным голосом посоветовал начальник завода. – Я ведь тебе уже сказал: пойдёшь в лазарет, а потом – на работу. И ничего тебе не будет… Хотя морду набить, безусловно, следовало бы. Ну, да это уж пусть Антип трудится. Так что отвечай как есть. Нарвался на кого-то в тайге? И куда, кстати, ты дел Берёзу?
– Разошлись мы с ним. Не поладили.
– Угу… Ножом-то он тебя достал?
Ефим молчал. Молчал и Брагин. Затем, в упор глядя на парня, негромко сказал:
– Берёзу твоего нашли на дороге в полуверсте от хутора Раздельного.
– Повязали?
– Нет. Мёртвым нашли. Между прочим, без единой царапины. Вдова Трифона Дронова его опознала: с её мужем когда-то у Берёзы были дела. Тебе ведь знаком Трифон Дронов?
– Ведать не ведаю…
– Право?.. Ну, уж не познакомитесь, он пять дней как покойник. Его баба нам сказала, что Берёза с подельником ворвался к ней в дом среди ночи и убил её мужа. И вырезал бы всю семью, если бы не его товарищ. Второго варнака, кстати, вдова не признала. Говорит – в жизни не видела, а с перепугу и впотьмах не запомнила. Узнать, говорит, не сумеет ни за что. Только по голосу поняла, что ещё молодой. Божится, что если бы не этот мужик, – страшной силищи, между прочим, – Берёза порешил бы их всех вместе с малыми детьми… Как ты не побоялся с ним сцепиться, Силин? Это ведь зверь настоящий, не росомаха твоя…
Ефим упрямо молчал, опустив голову к коленям и молясь лишь об одном: чтобы начальник не заметил, что его трясёт с головы до ног. Брагин как ни в чём не бывало продолжил:
– Вдова сказала, что у тебя никакого ножа не было, ты бил просто кулаком. Это так?
– Ей лучше знать…
– Думаю, что от этого твоего удара Берёза и умер. Хотя и успел на полверсты отойти от хутора. Да-а, Силин… – Брагин покачал головой. – Воистину – сила есть, ума не надо!
– Может, то не я был, барин? – осторожно предположил Ефим.
– Может, и не ты, – безмятежно согласился тот. – Узнавать тебя некому. А по Берёзе никто не заплачет, пропащий был человек и сволочь страшная. Куда тебя только с ним понесло? И за каким чёртом?
Ефим молчал. Молчал и Брагин. Тихо тикали часы на стене, поскрипывал за печью сверчок. Огонёк оплывшей свечи в лампе бился и мигал, грозя погаснуть. Наконец начальник завода встал.
– Вот что, Силин, пора и честь знать. Ночь-полночь, а у меня и кроме тебя дела есть. В лазарет идти, верно, уж поздно, ложись вон в сенях. Хасбулат за тобой приглядит. А утром доставим тебя к Иверзневу.
Ефим встал. Покачнувшись, удержался рукой за стену. Хрипло, не поднимая взгляда, сказал:
– Спасибо, Афанасий Егорьич.
– Благодарить ты должен не меня, – с досадой отозвался Брагин. Подойдя вплотную к Ефиму, ещё раз осмотрел парня с ног до головы, поморщился. Коснулся ладонью его лба.
– Да ты горишь, как печка. Что тебе тут доктор велел выпить? Давай, хлопни одним духом! И поди ложись. Если будет худо, буди Хасбулата.
– Не беспокойтесь. Мне бы лечь только…
Падая на пол в тёмных сенях (черкес, сердито ворча, едва успел подсунуть ему подушку), Ефим успел подумать только о том, что нипочём теперь не заснёт. И – провалился мгновенно, как умер.
Наутро Ефима Силина нашли в сенях без сознания, в страшном жару, и Хасбулат на себе отволок его в лазарет. Два дня Ефим прометался в горячке, вспоминая то Устинью, то атамана Берёзу, то мать, то Антипа, страшными словами ругал росомаху, искал выворотень на болоте под горелой сосной… На третий день жар упал, и Ефим заснул – весь в поту, бледный до синевы, осунувшийся, но спокойный.
Он очнулся утром четвёртого дня от рассветного луча, упавшего на лицо. Осторожно приподнял голову. Огляделся, ещё не понимая, где находится. Вокруг – бревенчатые стены, нары, серые казённые одеяла, храпящие горки под ними. В открытое окно сквозь решётку лезли лапы можжевельника в молодых зелёных «хвостиках». Рядом белела печь – вся исчерканная какими-то чёрными узорами. Ефим присмотрелся – и с удивлением увидел, что это буквы и слова, криво написанные углём. «Баба… воду… несла… Корова сено ест… Устинья – игоша болотная…» За печью что-то чуть слышно копошилось.
«Больничка… – подумал Ефим, блаженно поворачиваясь на жёсткой подушке и закрывая глаза. Осторожно шевельнул плечом. Оно тут же отозвалось болью – но это была уже не та раскалённая стрела, что пронизывала всё тело насквозь. – Подживает, зараза… Опять всё, как на кобеле, заросло…»
Тихо скрипнула дверь. Вошла с ведром воды высокая баба в белом платке. Она аккуратно поставила ведро у печи, повернулась. На Ефима с чудовищно исхудалого лица взглянули серые глаза – и он вздрогнул, оттого что не сразу узнал жену.
– Устя… – шёпотом позвал он.
Она кивнула. Оглядевшись по сторонам, подошла на цыпочках и села на край нар у него в изголовье. Протянула было руку – и не коснулась.
– Устька… Ну, что ты?.. – испугался Ефим. – Устька… Ну… Вот он я…
Она не ответила. Заплакала – тихо, зажав ладонью рот, низко опустив голову. Ни звука не было слышно в спящем лазарете, только плечи Устиньи тряслись всё сильней. Ефим молчал, не зная, куда деться от этих всхлипов, каждый из которых словно кусок кожи сдирал с сердца.
– Устька, не вой…
– За… мол… чи, не… христь… Лю… ди… спят…
– Что ж ты не говорила мне ничего? Кабы я знал, что ты брюхатая была… Пошто молчала-то, дура? Я бы шагу с завода не…
– А что… тебе… говорить… Всё едино… совести… нет… Что было говорить, когда ты как раз… с той Жанеткой… Много чести было – за собственным мужем бегать… Ну, вспомни, вспомни, как я к тебе в острог пришла! Как потаскуха распоследняя… Пятак караульному совала, чтоб допустил! А ты что? А ты, идолище, что?!
– Устька, спал, ей-богу… – зажмурившись, пробормотал Ефим. – Вот тебе крест святой – спал…
– Божится ещё, аспид! – всплеснула руками Устинья. – Под крестом – врёт! Христа-то побойся, и не стыдно тебе?!
Ефиму было так стыдно, что до смерти хотелось ухнуться сквозь щелястый пол вместе с нарами. Хоть в подвал, хоть в преисподнюю – куда угодно от этих Устькиных слёз… Но нары стояли крепко, и деваться было некуда. Неловко повернувшись, Ефим уткнулся в горячую, мокрую руку жены.
– Устька, не реви… Спасу нет слушать…
– Ох, замолчи… Людей побудишь… Ну вот что мне с тобой делать, ирод, скажи – что?!
– Да что хочешь делай… Возьми вон, вдарь чем-нибудь потяжельше…
– Да куда тебя ещё бить-то?! И так живого места нет! Барина благодари, что кнута не огрёб! Аль мало драли тебя… Ой!!! – Устинья вдруг задохнулась от возмущения. – Да что ж это ты делаешь, сила нечистая?! Вздумал ишь чего! Что же ты, бессовестный, творишь, люди же кругом! Кыш немедля!
Какое там… Лохматая, грязная голова мужа уже лежала на её коленях. Устинья растерянно осмотрелась. Вокруг все по-прежнему спали мёртвым сном.
– У-у-устька… Ну вот провалиться мне, не буду больше… Ей-богу, не буду… Прости, Христа ради… Я тебе что – не муж, что ли?
– Батюшки, – вспомнил наконец! Снизошло ему откровенье небесное! Хуже дитяти малого… Не будет он… Да будешь ведь!!! – снова взвилась Устинья, не замечая того, что уже гладит мужа по голове и он блаженно замирает под её рукой. – Ещё как будешь! Ещё сколько будешь! До гробовой доски мне продыху не дашь, ирод! Потому все люди как люди, а у меня – кромешник с большака… Ой, Ефим, господи, Ефим, тоска моя… – всхлипнув, она умолкла. И не говорила больше ни слова. Вокруг царила сонная тишина. За окном бестолково орал петух, пылинки плясали в полосе света, а по полу скакали солнечные зайцы. Сквозь слёзы глядя на их пляску, Устинья шёпотом сказала:
– Будет уж, леший… Ну, всё, всё, Ефим, пусти… Идти мне надо.
– Усть, не могу я так, – он упрямо не поднимал головы с колен жены и не давал ей встать. – Ну, хоть за ухо-то выдери… по старой памяти. Помнишь, как на этапе-то?..
– Эко чего вспомнил! – усмехнулась она сквозь слёзы. – Мы и венчаны тогда ещё не были! А сейчас куда ж – мужа-то?..
– Так не видит же никто! Ну, Устька! Ну, нешто жалко?
– Вот ведь припекло ему… Ну, коль так – получай тогда, варнак, за всё сразу! – Устинья решительно взяла его за ухо.
Ефим закрыл глаза в ожидании заслуженной трёпки… Но жена вдруг охнула и неловко встала, отстраняя его. Сообразив, что нелёгкая принесла какое-то начальство, Ефим приподнялся на локте… И увидел вылезающую на четвереньках из-за печки цыганку Катьку.
– Во! Очуялся всё-таки, чёртушка наш! – весело сказала она, поднимаясь на ноги. – И нечего, Ефимка, меня глазюками палить! Щепу собирала, вот и всё… Устька, ну говорила ж я тебе, что такие просто так не дохнут! Да твоё сокровище ни в ад, ни в рай не примут! Жить-то спокойно и Господу, и сатане небось хочется!
– Катька, окажи милость, закрой рот, – сердечно попросил Ефим.
Цыганка скорчила ему рожу и так же сердечно обратилась к Усте:
– Устьинья, уважила бы мужика да врезала б ему – коль сам просил! Глядишь, и польза будет!
– Своему врежь, – ворчливо отозвалась Устя, вытирая лицо фартуком. – Тоже, поди, есть за что!
– Ой, и не то слово, милая, не то слово… Жаль, нельзя у нас, закон не велит, – притворно огорчилась цыганка. – А тебе-то можно! Да ещё с мужнина полного дозволенья! Вон, и полено хорошее у печки дожидается…
– Сейчас я его сам возьму, – задумчиво пообещал, глядя в потолок, Ефим. – Уж по морде чьей-то чёрной не промахнусь небось…
Цыганка расхохоталась. Устинья испуганно замахала на Катьку руками, поднесла палец к губам, оглядывая нары. Но подруга вдруг улыбнулась во весь рот и громко скомандовала:
– Эй, мужики! Хватит прикидываться, подымайтесь! Четвёртый десяток на свете живу, а такого храпа отродясь не слыхала!
С нар немедленно одна за другой начали подниматься лохматые головы. На растерянную Устинью со всех сторон уставились улыбающиеся рожи.
– Ну, и слава богу! – объявил Петька Кочерга, почёсывая затылок. – А то уж и впрямь осипли храпеть! Ты, Ефимка, вот что… В другой раз надумаешь с завода тикать – уходи навовсе, а не просто погулять. Потому – нечестно это! Об обчестве думать надо!
– Вам-то какое дело, дьяволы? – мрачно спросил Ефим.
– Как «какое»?! – возмутился Кочерга. – Мы с робятами уж и жеребьёвку кидали, кому на Усте Даниловне жениться! Нешто даром доброй бабе пропадать?
– Господи, и не совестно тебе?.. – простонала Устинья.
– …так ведь нет, назад тебя черти принесли, незадача экая! – гнул своё Петька. – Могла бы та росомаха и догрызть тебя! Видать, невкусным показался…
– Ты ей в другой раз приплати, – посоветовал Ефим. И тут же забыл про всё на свете, потому что Устинья снова расплакалась, бессильно прислонившись к стене.
Антип пришёл в лазарет неделю спустя. Ефим давно был на ногах и вовсю просился на работу: «Осточертели уже стены эти! Чего валяться попусту?» Однако Иверзнев и слушать ничего не хотел:
– Рано тебе ещё, болван! Что толку будет, если откроются раны и ты опять загремишь сюда? Заняться нечем? Вон, печь побели! Устинье уже места нет для записей!
– Скажите, какой дьячок выискался… Пишет она… – пробурчал Ефим, но послушался. Развёл в ведре известь с белой глиной, нашёл мочало, намотал на палку. Старая побелка в одном месте пошла трещинами. Ефим решил, что сначала хорошо бы её отбить. За этим занятием и застал его солдат-караульный.
– Силин! Годи печку колотить, там до тебя брат пришёл!
– Антип?.. – Ефим выпрямился. Медленно смахнул с волос известковую пыль. – Ну, добро. Выйду сейчас.
– Только ты смотри у меня! – обеспокоенно предупредил солдат. – Коли метелить друг дружку вздумаете, так я враз начальство кликну! Потому не положено!
– С чего метелить-то? – усмехнулся Ефим. – Не боись. Не будет ничего.
Солдат посмотрел недоверчиво, но промолчал. Ефим вытер руки о мочало и вышел из лазарета.
Антип сидел у стены на сваленных брёвнах, что-то вертел в руках. Когда брат подошёл и сел рядом, он не поднял головы. Ефим присмотрелся. В пальцах Антипа был забавный козёл, сплетённый из липового лыка, – с высунутым языком и рожками на лбу.
– Для кого мастачишь?
– Да так… Дитям брошу в бабьем остроге. Рады будут.
– Угу… Где был-то до сих пор?
– Глину ходил смотрел с мастером новым. При тебе ж ещё он прибыл. Наш, русский. Инженер Лазарев, Василь Петрович.
– И что, смыслит в деле-то? – солидно спросил Ефим.
– На мой погляд, понимающий человек. Мы с ним неделю по округе шастали, глины смотрели. Старая-то, Василь Петрович говорит, стощилась, держит вовсе худо. Только вчера и воротились. Насилу нашли нужное-то аж за Судинкой. Мне мужики первым делом про тебя рассказали. Что ж… Живой, и слава богу.
Ефим кивнул. Некоторое время братья сидели молча. Антип сосредоточенно доделывал козла, Ефим поглядывал на садящееся солнце, вертел в губах былинку. Чуть погодя он вполголоса сказал:
– Слушай, я служивому обещал, что драки тут у нас не будет. Так что ты не тяни кота-то за хвост. Бей сколько сам знаешь, и покончим дело это.
Антип отложил козла и задумался. Ефим с минуту смотрел на него в упор. Затем сердито спросил:
– Ну – долго рожать будешь, нечисть? Бей, тебе говорят! Время-то идёт!
– Кабы прок ещё был… – вздохнул Антип. Повернувшись, впервые посмотрел в лицо брата и с сожалением сказал: – Не обессудь уж, Ефимка, – не стану. Запала боле нет. Кабы ты мне тогда, под горячую руку, попался – живым бы не встал. А сейчас-то чего ж?..
– Пентюх ты, Антипка, – заметил ему на это Ефим. – Всю жизнь был, таким и помрёшь.
Тот пожал плечами. Поинтересовался:
– Это правда, что тебя росомаха в тайге порвала?
– Было дело. – Ефим встал, задрал рубаху, показывая страшные, едва затянувшиеся шрамы.
Антип поморщился.
– Вот любит тя зверьё всякое! То медведь голодной, – помнишь, у барина-то? – то росомаха… Мне вот Василь Петрович сказывал, что сюда, бывает, и тигери с Амура заходят. Это такая зверюга вся полосатая, кот котом. Только в полста раз больше и зубищи с вершок. Другой раз побежишь – и тигеря словишь на свою голову?
– Не побегу. Я Устьке забожился.
– Ты знал иль нет? – вдруг прямо спросил Антип. Ефим, не сразу поняв, о чём речь, недоумевающе вскинул на брата глаза. – Про Устю Даниловну знал? Что в тягости она была?! Не бреши мне тут только!
– Не знал, – глухо отозвался Ефим, отворачиваясь. – Вот ей-богу – понятья не имел. Она мне ни слова не говорила…
– Тьфу… Тятьки нашего с вожжами на тебя нету, дурогон! – с сердцем сплюнул Антип. – И что только она в тебе сыскала-то…
Ефим не ответил. Из дверей лазарета в который раз высунулась встревоженная физиономия караульного. Но Антип сердито махнул на него рукой, и солдат, выскочив из дверей, споро захромал куда-то за ограду.
Чуть погодя Антип поднялся.
– Ладно… Пора мне. На пять минут у Василья Петровича отпросился, а уже больше прошло. Ты, как доктор отпустит, тоже к нему под начальство пойдёшь. Я уж договорился. Будем новую печь ладить в заводе.
Ефим тоже встал. Криво усмехнувшись и глядя через плечо брата на пламенеющее солнце, спросил:
– Ну что, братка… Простишь аль нет? Нам ведь с тобой тут ещё долго на пару железами греметь. Не то в ноги тебе падать при всём народе?
– Сдурел?! – рассердился наконец всерьёз Антип. – Да ляд с тобой, анафема! Было б о чём говорить-то…
Они обнялись посреди двора. С силой стискивая плечи брата, Антип негромко спросил:
– Ну на кой чёрт ты мне не сказал, что утечь вздумал?! Завсегда ж с тобой вместе были… Берёза ещё этот, душегуб… А ну как не справился бы ты с ним там один?!
– Справился же… А ты бы нешто со мной побежал?
– И нипочём бы! – согласился Антип. – И тебя бы не пустил! Повис бы, как Жучка – и никуда б ты у меня не вырвался, обалдуй…
Они наконец оторвались друг от друга. Ефим поморщился, растирая потревоженный шрам под ключицей, а Антип сурово предупредил:
– Ещё раз таку штуку выкинешь – пожалеешь, что на свет сродился!
– Охти, глянь – уж портки у меня мокрые! – привычно огрызнулся Ефим.
Оба рассмеялись. И – разом вздрогнули, услышав истошный крик:
– Свят Господи! Ефим! Антип Прокопьич! Да что удумали-то?!
Братья дружно повернулись – и увидели Устинью, которая, придерживая на затылке платок, со всех ног бежала к ним через двор.
– Устька, Устька, что ты… – начал было Ефим, но жена, не слушая его, кинулась к Антипу:
– Антип Прокопьич, обещал ведь ты мне!!!
– Так ты с него слово взяла? – усмехнулся Ефим. – То-то, я гляжу, он добрый такой… Не боись, Устька, зря всполошилась. Не было ничего. Ну, смотри, видишь – целы оба? Никак, служивый тебя настращал?
– А как же! – Устинья никак не могла отдышаться, недоверчиво переводила взгляд с мужа на Антипа. – Мы с Катькой на речке бельё полощем… Гляжу – Кузьмич бежит… Поспешай, кричит, Даниловна, там твои вовсю уж бьются! Господи-и… Я бельё бросила – и во всю мочь назад… А вы тут что?!. Антип Прокопьич! Ты ж его на три головы умнее, а сам?!.
– Вот завсегда ты у неё умней оказываешься! – пробурчал Ефим.
– А то нет! – в один голос возмущённо ответили Устинья и Антип.
Потом Устинья тихо засмеялась, а Антип успокаивающе сказал ей:
– Да ты не беспокойся, Устя Даниловна. Поговорили, и всего делов. Я уж уходить собирался… – он взглянул через забор и ухмыльнулся. – Ой, а вон и Катька сюда летит! И с дрыном-то каким знатным!
– Убью-у-у-у-у!!! – пронзительно донеслось из-за забора, и на больничный двор вихрем ворвалась цыганка с суковатым поленом наперевес. – Устька, я сейчас… Я помогу… Я их!.. Они у меня!!! Ой, люди добрые… А что это тут делается?!
– А ничего! – вздохнул Ефим, оглядывая двор, в который уже набилось с десяток встревоженных солдат, и окна лазарета, откуда сквозь решётки торчали встрёпанные головы и бороды. – Кузьмич, где ты там хоронишься? Глянь, переполоху сколь наделал! Говорили ж тебе, служба, русским языком – не будет непорядка! Эх вы, зелёные ноги… С братом родным потолковать не дадут! Всё, валите по нарам, шелупонь, – кончился балаган!
– И-и-эх! – с сожалением присвистнул старый бродяга Ванька Перемёт и, отвернувшись от окна, выругал кого-то внутри лазарета: – А ты, холера, божился: «В кровь Силины сшибутся»! Гораздый брехать-то оказался! Робя, кто ещё-то на Ефимку ставил?
Тут уж рассмеялся и Антип. Погрозил кулаком в сторону разочарованных зрителей, подобрал с брёвен своего козла и пошёл со двора. Ефим осторожно посмотрел на Устинью:
– Устька, ну ей-богу ж, не дрались! И в мыслях даже не было! Я вон тебе печь белить взялся… Снова порть теперь углём-то, грамотейка… Пошто только доктор дозволяет казённую вещь уродовать? Да ты что ревёшь-то сызнова, дура?! Катька, да скажи хоть ты ей! Вот и поди тут с бабьём этим… Тьфу!
Эпилог
Июньский полдень в Бельском уезде исходил духотой и зноем. Над выгоревшим полем колыхалось золотистое облако пыльцы. Огромная липа у дороги тоже цвела, и её сладковатый, медовый запах разносился на вёрсты вокруг. Солнце палило нещадно. Но за дальним лесом уже густели, наливались сизой тьмой облака: там собиралась гроза. Василиса то и дело оглядывалась, с тревогой посматривая на тучу, и прибавляла шагу. Её босые ноги утопали в горячей дорожной пыли. Полотняная рубаха прилипла к спине, к потному лицу приставали мошки, но Василиса, отмахиваясь, шагала всё быстрей и быстрей.
В сквозной, просвеченный солнцем березняк она вошла уже почти бегом. Не обращая внимания на весёлую россыпь земляники под ногами, устремилась дальше, в сумрачный ельник. Перебралась через сырой овраг и побежала, перепрыгивая через бугры корней, в самую глушь леса.
Остановилась она лишь полчаса спустя, оказавшись в густой дубраве. Под ногами, в траве, валялись полусгнившие прошлогодние жёлуди. Василиса прислонилась спиной к стволу огромного кряжистого дуба, силясь перевести дыхание. Над её головой угрожающе заворчал первый гром. Слабый ветер потянул по макушкам деревьев, встрепенул листву.
– Спаси Христос… – пробормотала Василиса, открывая глаза и крестясь. И тут же с испуганным криком отпрянула в сторону: с дуба спрыгнул прямо ей под ноги смуглый взлохмаченный парень лет двадцати. – Господи! Гришка!!! Сколь разов просить тебя – не пугай! Чуть сердце не выскочило! – с сердцем выругала его Василиса. – Вот ей-богу не приду боле!
– А что ж ты пугаешься, Васёнка? – слегка виновато усмехнулся он, выпрямляясь и шагая к ней. – Кажин раз одно и то же: стоит прямо подо мной и в упор не видит…
– Увидишь тебя, коли ты как леший! Да пожди ты, я взмокревши вся!
– А мне какое дело? – Гришка легко отвёл тонкие руки девушки, притянул её к себе, поцеловал раз, другой, третий…
Василиса, вздохнув, обняла его, прижалась крепко, всем телом. Парень увлёк её за собой в дубовую чащу, уложил на примятую траву, повалился рядом сам.
– Васёнка… Господи… Сил нет терпеть…
– А у меня-то будто есть?.. Да ты хоть одёжу мне не порти, висельник… Вернусь, барыня заметит – что скажу?
– А ты не ворочайся… Оставайся… Ни в жисть не найдут! Запишут в беглые – да и всё!
– Сколько говорить – не могу?! Гриша, сердце моё, потерпеть бы нам… Ещё хоть малость потерпеть…
… – И сколь ещё терпеть велишь, Василиса Мелентьевна? – сердито говорил Стриж полчаса спустя, лёжа рядом с девушкой в примятой траве. – Ты мне почитай что жена, а поврозь уж полгода как…
– А куда я к тебе пойду? В лес хорониться? – Василиса старалась говорить сердито, но на губах её то и дело мелькала улыбка. – Сидеть под кустом да дрожать, покуда ты всех господ в округе изведёшь? Ты мне что говорил, змей? Агариных спалишь, и – прочь отсюда, до самой Сибири, со мной вместе!
– Мало мне одних Агариных-то, Васёнка, – медленно выговорил Стриж, садясь в траве и глядя мимо девушки в сумрачные заросли папоротника. В его чёрных глазах мелькнула шалая жестокая искра. – Мало, сам чую. Они ж тут не одни такие. Да и с ними пользы не вышло. Два раза мы с ребятами им петуха красного пущали – два раза их тушили! Только и доходу, что сенник сгорел! Да и барина я на тот свет обещался спровадить! Тебе же и слово в том давал!
– Доиграешься, – горестно пообещала Василиса. – Просила я будто с тебя то слово… Ну, сколько тебе народу покончить надо, чтоб успокоиться?
– Сотню я себе назначил, – без улыбки сказал Стриж. – Как думаешь, в нашем уезде наберётся?
– Не знаю. – Василиса тяжело вздохнула. – А не боишься, что вперёд тебя с твоими ребятами споймают? Слухи уж ходят, что скоро войско по твою душу пошлют!
– Вон как? – без всякого страха удивился Гришка. – Стало быть, затряслись баре-то?
– Дурень…
– Чего «дурень»? В жисть никакое войско меня в болотах не сыщет! И тебя со мной – ежели соберёшься наконец. Али мне до твоего нового барина в гости наведаться?
– А вот этого и думать не смей! – Василиса вскочила на колени так стремительно, что Гришка опешил. – И из головы выкинь, ирод! Я тебе сказывала аль нет, что барыня молодая – ангел сущий? У них того порядка нет, чтоб над людьми изгаляться! Дворовые как у Христа за пазухой живут! И на деревне мужики рады! Почитай, одни такие на весь уезд! И только насмелься со своей ватагой к ним заявиться!
– Васёнка, я ж тебя не спрошу, коль нужда будет, – спокойно, почти ласково возразил Стриж. И снова недобрая искра блеснула в его глазах.
Василиса, однако, не испугалась, а в тон Гришке заявила:
– Ну, и женишься тогда на другой какой. С которой вольготней разбойничать будет.
Гришка усмехнулся было, но, взглянув в потемневшее лицо девушки, счёл за нужное промолчать. Некоторое время они сидели не разговаривая. Стриж жевал травинку, слушал, как посвистывает в кустах лещины пеночка, искоса поглядывал на Василису. Дождавшись, пока у той между бровей исчезнет сердитая морщинка, спросил:
– Верно ли, что твой барин тебе Евсеича купил?
– Не мне, а барыне! – отрезала Василиса. Но, не выдержав, широко улыбнулась, и её глаза сразу потеплели. – Господи, Гришка… Ведь как есть золотые господа! Ну, что ты зубы скалишь, истинную правду говорю! Ну, кто другой бы старика немощного купил в хозяйство?! Почитай, что деньги на ветер выкинули!
– А зачем он им сдался?
– Да барыня сказали, что грех родных разлучать! По гроб жизни я за неё молиться стану!
Стриж недоверчиво усмехнулся. Чуть погодя с нарочитым безразличием спросил:
– Так, может, ты ко мне теперь вовсе не пойдёшь? Коль уж барыня святая оказалась?
– Не пойду, покуда дедушка живой, – тихо, но решительно сказала Василиса.
Стриж повернулся к ней всем телом. Сильно, не жалея, схватил за плечи, встряхнул.
– Вон куда?! А божилась? А слово мне давала?! Давала, аль почудилось мне спьяну?!
– Пусти, дурак! – тихо, без угрозы попросила Василиса, глядя ему в лицо, и парень сразу опомнился. Разжал руки, отвернулся, выругавшись сквозь зубы. Василиса со вздохом сказала ему в спину:
– Ну, что ты серчаешь попусту? Знаешь ведь, я тебе верная. От барина отбивалась, сперва от старого, опосля от молодого… В колодец кинулась бы, коли б судьба не вынесла! Здесь, у новых господ, никого к себе не подпущаю! Но и ты подожди! На кого я теперь дедушка брошу? Кто у него, кроме меня, есть? Что с ним станется, коли я к тебе удеру?
– Васёнка, а мне-то как? – тоскливо спросил Стриж, не поворачиваясь к ней. – Уж извёлся весь… Ты ведь теперь и прибегать вовсе редко стала.
– Так как же мне?! Нельзя ж без спросу из именья уходить! Однова уж выследили меня! Слава богу, что я тогда не к тебе, а к дедушке ходила! А если б нет?! Как же мне бегать-то сюда каждый день? Ты уж потерпи… Куда я от тебя денусь?
Стриж невесело усмехнулся, ничего не сказал. Василиса, подобравшись сзади, обняла его за плечи, прижалась щекой к плечу.
– Потерпи, Гришка… Дедушку жалко, недолго ему осталось. Пущай хоть последние денёчки в радости поживёт. А к тебе я, как сумею, сразу же вырвусь!
– Спалю я к чертям твоих Закатовых, вот что! – угрюмо, глядя в землю, пообещал Стриж. – И заступа твоя не поможет!
– Что ж, тогда вместе со мной и спалишь, – помолчав, спокойно сказала Василиса. – Потому вот хоть на кресте тебе забожусь – не позволю я барыне худое сделать. Ни тебе, ни другому кому. Так что выбирай, как лучше тебе, а моё слово сказано.
И тут же, не дав Гришке открыть рта, она вскочила на ноги и, как зверёк, метнулась в чащу.
– Васёна! – заорал Стриж, вскочив. – Да пожди, куда кинулась-то? Времени ж мало ещё прошло! Васёнка, останься! Да шутил же я! Ну, прости дурня, коль не то сказал! Воротись, Васёна!
Но девушки уже и след простыл – лишь качались, потревоженные, кусты лещины и испуганно замолкла в их ветвях пеночка.
Сноски
1
Споём с тобой? (цыганск.)
(обратно)2
Ой, я умираю, боже мой… Я сейчас умру, клянусь! (цыганск.)
(обратно)3
Господи… Миленький, миленький мой… (цыганск.)
(обратно)4
Медведь? (цыганск.)
(обратно)5
Хорошая. (цыганск.)
(обратно)6
Боже мой, что с тобой, господи? Ай, я умру, ай, боже, пропала я, Яшка, Яшенька, сердце моё, Яшка… Не уходи от меня, господи, не уходи от меня!!! (цыганск.)
(обратно)7
От слова «лубны» – проститутка (цыганск.).
(обратно)8
Барин, барин, к тебе твоя барыня пришла! Сюда идёт! (цыганск.)
(обратно)9
Пусть (цыганск.)
(обратно)10
Пусть черти с тобой разговаривают! (цыганск.)
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



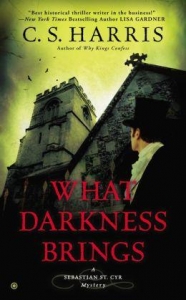


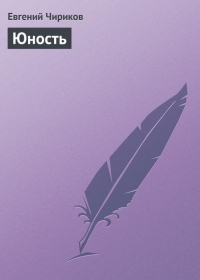
Комментарии к книге «Прощаю – отпускаю», Анастасия Вячеславовна Дробина
Всего 0 комментариев