Юлия Крён Дитя огня
Kröhn J.
Kinder des Feuers
© Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln, 2012
© DepositРhotos.com / Demian, обложка, 2014
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2014
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2014
* * *
От палат на восток вижу я пламя – то весть о войне, знак это вещий; войско сюда скоро приблизится, князя палаты пламя охватит[1].
ЭддаНачиная с девятого века земли на севере Западно-Франкского королевства подвергаются набегам датских и норвежских викингов. Желая устранить постоянную угрозу с их стороны, в 911 году франкский король уступает предводителю викингов Роллону область, которую впоследствии стали называть Нормандией. Взамен Роллон приносит ему ленную присягу и принимает крещение.
В соседней Бретани все больше бесчинствуют норманны, которые, в отличие от людей Роллона, отвергают христианскую культуру франков и продолжают исповедовать язычество.
В 936 году Нормандия практически не зависит от короля и находится во владении сына Роллона – графа Вильгельма, чье могущество признают правители других территорий.
Потомок королей Бретани, принявших христианскую веру, Ален Кривая Борода сумел отвоевать у норманнов значительную часть этой области.
Суждено ли Нормандии остаться «землей северных людей»? И сможет ли Ален Кривая Борода надолго избавить Бретань от такой участи?
Бретонское побережье 936 год
Ее мир не отличался изобилием красок: в нем были только молочно-голубое небо, туманно-серое море, красновато-коричневые скалы и грязно-белая пена. Оборонный вал с прогнившими за много лет бревнами, который высокой стеной опоясывал это глухое место, едва ли мог обеспечить хоть какую-нибудь защиту, его боевой ход не выдержал бы и нескольких ударов, но все же этот вал хранил следы человеческих рук.
Воины были заняты укреплением стены. Отложив оружие, они таскали бревна и камни, в который раз доказывая, что норманны не боятся тяжелой работы. Трудились они самоотверженно, хотя и знали: все, что они здесь соорудят, вскоре будет разрушено ветром и морскими волнами.
Авуазе нравилось наблюдать за работой мужчин. Каждое движение их рук, каким бы бессмысленным оно ни было, подтверждало: в мире выживает лишь тот, кто стремится его изменить, а не тот, кто застыл в ожидании.
Двое мужчин, которые к ней приближались, не работали вместе со всеми: этого они не делали никогда. Их помощь заключалась только в словах ободрения, призывах стойко переносить превратности судьбы и не отступать от своих целей, но сегодня даже это не входило в их планы. Вместо этого они рассказывали о возвращении Аскульфа и о том, что он принес новости – новости не слишком хорошие.
Авуаза едва заметно напряглась.
– Захвачены еще два наших города. – Ее худшие опасения подтвердились. – Люди встают на сторону Алена Кривая Борода, встречая его радостными возгласами.
– Это не люди, – процедила Авуаза, – а всего лишь блеющие овцы.
– Как бы там ни было, скоро здесь станет небезопасно.
Мужчина, сказавший эти слова, был незрячим. На языке северных народов его имя должно было звучать как Блиндур, то есть «слепец», но он настаивал на обращении Деккур – «темный».
Ему подходило это имя, и не только потому, что в его мире царила вечная тьма, – весь его облик внушал окружающим страх, и казалось, будто силой воли этот человек может заставить солнце исчезнуть с небес. Он был очень высокий и сухопарый, его черные спутанные волосы ниспадали на спину и плечи, длинная борода была неухоженной. На лице Деккура выделялись тонкие губы и острый нос. Мужчина не был слепым от рождения, глаза ему выкололи несколько лет назад после поражения в битве. Шрамы, похожие на глубокие темные впадины, он прикрывал повязкой, которую иногда снимал, чтобы напомнить людям о том, как в одночасье может измениться их судьба. Еще совсем недавно он, мужественный воин из знатного рода, собирался унаследовать имущество своего умершего брата, а теперь уже не мог ни сражаться на поле боя, ни вести за собой людей.
Облик этого мужчины действовал на всех устрашающе, однако, хотя Авуазу он тоже пугал, в ней он прежде всего вызывал протест. Она ни за что не хотела пасть так же низко, как он.
– Здесь я чувствую себя в безопасности, – заявила она.
– И тем не менее нам надо бежать.
– Я никуда не уйду. Нам нельзя терять надежду.
Ей удалось подавить дрожь в голосе. Днем Авуаза старалась держаться уверенно, но ночью не могла сомкнуть глаз от страха. Боялась она вовсе не смерти, а того, что не успеет достичь поставленных целей, что ее жизнь потеряет всякий смысл и что ее запомнят как женщину, которая могла бы завоевать, объединить и укрепить королевство, но так и не сумела этого сделать. Уже год ее преследовал этот страх. Уже год в Бретани гремела война.
– Надежду? Ты говоришь о надежде? – Деккур произнес это слово с презрением. Его зубы скрипели так, будто он хотел стереть их в порошок.
«Вот что с нами стало, – подумала Авуаза. – Если бы я сказала им, что завтра захлебнусь в своей крови, они взвалили бы эту новость на плечи, подобно тому как мужчины у вала поднимают деревья: усердно, безропотно, с привычным смирением. Когда же я хочу подарить им надежду, они слышат в моем голосе издевку».
– Да, я знаю… Бретань все больше уступает натиску.
– А сегодня Ален захватил и Нант.
Авуаза закрыла глаза. Нант. Этот город должен был стать ее столицей, а не столицей ее врага.
В разговор вступил мужчина, который пришел вместе с Деккуром и до сих пор молча слушал с лукавой улыбкой на губах.
Бывший монах, он несколько лет назад стал слугой Авуазы, однако вел себя с чувством собственного достоинства и постоянно пускал в ход язвительность. «Вы можете отнять у меня свободу, – читалось в каждом его слове и жесте, – но не разум».
– Ален призывает бретонцев – графов, виконтов и знатных представителей общин – взяться за оружие и поддержать его в этом бою. Говорят, что, когда Ален окончательно захватил Нант, путь к собору он расчистил себе мечом. Сейчас Ален расположился в башне.
У брата Даниэля был гнусавый голос, как будто в горле у бывшего монаха застрял какой-то острый предмет, который затруднял дыхание и не позволял разговаривать громко. Мужчина всегда держал голову опущенной, но производил впечатление не слабого или трусливого, а наоборот, злобного человека.
Отвернувшись, Авуаза бросила взгляд на море и высокие скалы: падение с них означало бы верную смерть. Камни были настолько гладкими, что казалось, будто их обработала рука человека. На скалы с криком опустилась стая чаек: этих птиц не страшили ветра.
«В этом сила природы, – подумала Авуаза. – В непроходимой глуши она возводит прочные каменные крепости, которые не разрушатся и через сотни лет, а наш вал, возможно, снесут и сожгут уже завтра».
– Как нам не потерять надежду, зная все это? – спросил Деккур.
Вместо ответа Авуаза взглянула на Аскульфа – воина, который принес плохие вести и сейчас приближался к ней. Его лицо не выглядело ни мрачным, как у Деккура, ни злобным, как у брата Даниэля, – оно не выражало совершенно ничего.
– У меня есть новости не только об Алене Кривая Борода, – сообщил Аскульф, – но и… о ней. – Он выдержал торжественную паузу. – Мы нашли Матильду.
Авуаза отреагировала сдержанно, как всегда. Она не вздрогнула от радости, не возликовала и не залилась слезами, которые могли бы поведать о страданиях, терзавших ее душу много лет. И только легкая улыбка расцвела на ее губах, когда Аскульф стал рассказывать о монастыре, в котором жила Матильда.
– Эта обитель носит имя Святого Амвросия, – завершил воин свое повествование. – Она расположена в глухом месте в окружении лесов.
– Вот видите! – Авуаза не могла больше сдерживать восторг. Она повернулась к Деккуру и брату Даниэлю. Один потерял зрение, другой свободу, но она – она не потеряет ничего. – Теперь, когда мы нашли Матильду, все изменится к лучшему. Дни ее спокойной жизни в монастыре сочтены.
Глава 1
Монастырь Святого Амвросия
Матильда полной грудью вдохнула соленый морской воздух, разбавленный упоительно сладким ароматом ярких цветов. «Как они выросли здесь, – подумала она, – на песке и скалах, открытые холодным, пронзительным ветрам? Неужели действительно существует место, которое может быть одновременно соленым и сладким, суровым и нежным, простым и полным красок?»
Ослепленная миллионами солнечных бликов на морской глади, она закрыла глаза и побежала по усыпанному цветами лугу. Там, на краю скалы, стоял высокий мужчина со светлыми волосами и обветренной кожей. Он ждал ее, чтобы поймать и поднять на руки, а потом, когда она будет визжать от восторга, прижать к своей сильной груди. Его руки нежно проведут по ее щекам, – руки, которые могут быть грубыми, но в то же время таят в себе любовь и нежность.
На полпути Матильда вдруг поняла: что-то изменилось. Она больше не слышала запаха моря и цветов. Матильда испуганно открыла глаза, и в тот же миг улыбка исчезла с ее лица. Когда вместо светловолосого мужчины она увидела незнакомую женскую фигуру, с губ девушки сорвался глухой крик. Она вскрикнула еще раз, почувствовав, как чьи-то руки касаются ее, хватают и трясут за плечи.
– Матильда! Что с тобой? Тебе приснился страшный сон?
«Нет, – подумала она, – сон был не страшный, просто слишком короткий. Меня разбудили в самый неподходящий момент, и я не смогла укрыться в объятиях светловолосого мужчины…»
Вдруг Матильда поняла, что смотрит в глаза не незнакомой женщине, а сестре Мауре. В дормитории они спали рядом на тюфяках, набитых соломой, и каждый день много часов проводили вместе. Мауру Матильда считала близким человеком, ее имя было ей известно. Имени мужчины со светлыми волосами, который во сне казался ей не менее близким, девушка не знала, равно как и не могла сказать, как называется место, где среди морских скал растут цветы. И почему ее охватила такая тоска, что на глаза навернулись слезы?
Сквозь ставни в комнату пробивался слабый, тусклый свет. Почувствовав на себе задумчивый взгляд Мауры, Матильда поспешно отвернулась. Сквозь толстые стены дормитория до нее доносился колокольный звон: в колокол здесь звонили часто, семь раз в день.
– Ты проспала, – пробормотала Маура.
Матильда уже не ощущала тоски по таинственному месту, и чем больше она приходила в себя после сна, тем более чужим и незнакомым оно ей казалось. Девушку захлестнула волна стыда: она не любила давать себе поблажки.
– Почему ты меня не разбудила?
– Но ведь я тебя бужу!
– Да, но уже слишком поздно!
Маура пожала плечами. Она не так серьезно относилась к уставу монастыря, часто вставала позже, чем следовало, и никогда не испытывала раскаяния, которое сейчас охватило Матильду.
– Не переживай, – утешала она девушку. – Аббатиса сказала, что после недавних волнений тебе нужно отдохнуть. Она сама запретила мне тебя будить.
Матильда вздохнула. И в самом деле, за последние несколько дней она пережила больше, чем за все свои шестнадцать лет. Шестнадцать лет, которые девушка почти полностью провела в монастыре, посвятив жизнь служению Богу. Ее принесли сюда маленьким ребенком, а кто и почему – эти вопросы всегда казались ей не важными. По крайней мере до тех пор, пока она не начала видеть сны о цветочном луге и о светловолосом мужчине и пока не начала спрашивать себя, были они плодом ее фантазии или все же воспоминаниями.
– Хорошо, что все уже закончилось, – сказала Матильда.
Она поднялась, но отдохнувшей себя не чувствовала: голова была тяжелая, во рту пересохло. Когда она проходила мимо Мауры, та ее остановила.
– Кстати, во сне ты говорила на непонятном языке, – заметила монахиня.
Молодая послушница застыла в недоумении:
– На каком языке?
– Разве я сказала бы «на непонятном», если бы знала на каком?
Матильда пожала плечами и убрала руку Мауры.
– Я владею только французским и латынью, – отрезала она, – это все. Я ведь научилась говорить в этом монастыре.
Горький привкус во рту больше не ощущался, но смятение не покидало Матильду весь день. Здесь, в монастыре, ее ничто не могло отвлечь. Обычно именно это однообразие она ценила больше всего, но сегодня ее взбудораженную душу не успокоило даже чтение – ни совместное, ни индивидуальное. Сегодня ей даже было неинтересно, по какой книге или тексту из Библии ей поручат сделать доклад.
Буквы расплывались у нее перед глазами, хотя чтение она любила даже больше, чем письмо, и лишь изредка жаловалась на боль в спине. Сама Матильда никогда не стала бы развивать свои таланты именно в скриптории, но когда ее наставница приняла такое решение, безропотно согласилась. Девушка была благодарна, но не гордилась этим, ведь гордость – это грех, а ее талант – Божий дар, пусть и редкий. Господь нечасто награждает женщин острым умом. Если же такое случается, то – как писал святой Иероним своей ученице Лаэте – следует обучать женщин не только прядению, ткачеству и шитью, но также письму и чтению. Конечно, не ради развлечения, а для того, чтобы они могли изучать и понимать Святое Писание.
Сегодня Матильда ничего не выучила и не поняла, прочитанные тексты не затронули ее душу. Когда она села за столик, ее руки были словно чужие. Еще совсем недавно девушка радовалась, что ей разрешили использовать для письма не восковые таблички, а пергамент. Матильда благоговейно проводила по нему ладонью, представляя, что не только напишет тексты на этих страницах, но и украсит их искусными иллюстрациями, как монахини из знаменитого Шельского монастыря, которые славились своими книгами на всю страну. Архиепископ Йоркский даже заказал у них Четвероевангелие, написанное золотыми чернилами на пурпурном пергаменте. Монастырь Святого Амвросия был слишком бедным, здесь монахини не использовали золото и пурпур, но Матильда часто представляла, как могла бы выглядеть такая рукопись.
Скользя невидящим взглядом по стенам скриптория, она старалась забыть вопросы, которые прочно укоренились в ее сознании, но это ей так и не удалось.
«Кто я? Откуда? Кто мои родители?»
Для труда в скриптории сестер избирали не только благодаря их таланту, но и из-за высокого происхождения. Чем богаче были родители, тем больше значения они придавали тому, чтобы в монастыре их дочерям поручали не черную работу, а более приятные занятия. Но она, Матильда, даже не знала, кто ее родители. Несомненно, она происходила из знатной семьи, как и все монахини в монастыре Святого Амвросия, но ни имени, ни адреса своих родных ей выяснить не удалось. Раньше девушка время от времени спрашивала об этом, но в ответ каждый раз слышала, что, уходя в монастырь, человек отрекается от прежней жизни и связей, что она попала в обитель маленьким ребенком, не умеющим говорить, а свое первое слово произнесла именно здесь.
«Возможно, мне лгали, – промелькнула у нее мысль, – возможно, я уже умела говорить – на том непонятном языке из сна…»
– Матильда, где ты витаешь?
Девушка виновато подняла глаза – перед ней стояла наставница, ответственная за воспитание и образование сестер. Она помогала им запоминать псалмы, преподавала языки и грамматику, обучала чтению и письму.
– Прошу прощения, – выпалила Матильда, – просто из-за недавних событий…
Девушке тут же стало стыдно за то, что она прибегла к такому оправданию, даже несмотря на то что оно оказалось весьма действенным: наставница поспешно кивнула, пытаясь скрыть волнение, и удалилась. За последние дни в монастыре и в самом деле произошла череда страшных событий. Стоило Матильде о них подумать, как ее снова охватывала дрожь, но сегодня ее смятение было вызвано не воспоминаниями, а сном. «А может быть, – вдруг промелькнуло у нее в голове, – эти сновидения приходят ко мне только потому, что я пережила сильное потрясение?» Вздохнув, девушка решила: чтобы выбросить из головы прошлые дни, и прежде всего свой сон, ей нужно поговорить с аббатисой.
После скудного обеда Матильда подошла к ней и попросила о коротком разговоре, однако в тот же миг поняла, что может совершить ошибку. После случившегося аббатиса словно стала другим человеком. Тот раненый молодой мужчина, который несколько недель назад попал в монастырь и уже полностью излечился, нарушил ее привычное умиротворение, а когда вскоре после его появления на обитель напали, аббатиса окончательно потеряла покой, обвинила во всем себя и решила покинуть свой пост. Воинам не удалось захватить монастырь, и они погибли от рук врага – или же их настигла Божья кара, об этом Матильда не могла бы сказать с уверенностью, – а аббатиса осталась на прежней должности. Однако таинственный человек, из-за которого произошли эти события, все еще находился здесь, и настоятельница по-прежнему казалась обеспокоенной.
Посомневавшись, Матильда все-таки решилась задать вопрос, который камнем лежал у нее на душе.
– Как вы думаете, почтенная матушка, – быстро произнесла она, – моя воля достаточно сильна?
Аббатиса отвела взгляд.
– Почему ты спрашиваешь?
– Я ведь скоро приму постриг!
Не все монахини приносили обет целомудрия и бедности публично, положив руку на устав святого Бенедикта. Многие просто жили в монастыре, соблюдали его правила, в знак воздержания и смирения облачались в черные одежды, и через некоторое время весь мир воспринимал их как монахинь. Матильда, напротив, всегда хотела принять постриг в торжественной обстановке и в последние месяцы усердно к этому готовилась. Она не знала другой жизни и не могла представить себе ничего лучше, чем монашество. День, когда она сможет открыто признать это перед всеми сестрами, станет для нее настоящим праздником.
Теперь аббатиса смерила ее непонимающим взглядом:
– Твой постриг…
– Ведь нельзя исключить, – поделилась своей тревогой Матильда, – что, пока я еще не приняла обет, дьявол попытается завладеть моей душой? Многие благочестивые люди рассказывали, что подвергались искушению перед уходом в монастырь.
– Ты уже так давно живешь в обители, Матильда, – немного рассеянно произнесла аббатиса. – Хотя ты еще не приняла обет, каждый день ты доказываешь, что обладаешь добродетелью монахини бенедиктинского ордена. Почему дьявол должен искать в тебе слабость именно сейчас?
– Не знаю, – пролепетала Матильда. – Я знаю только… – Закусив губу, она немного помедлила. – Сегодня ночью мне приснился странный сон.
– Что ты видела? Часто во сне человек получает послания от Бога, вспомни об Иосифе в Египте.
– Но я читала, что дьявол использует сны человека, чтобы искалечить его душу. Сон ослабляет волю и способность противостоять искушениям. Я не хочу этого! – горячо заверила аббатису Матильда. – Я не хочу знать, существует ли тот цветочный луг на берегу моря! И не хочу знать, на каком языке я говорила во сне!
Если эти слова и привели аббатису в замешательство, она ничем себя не выдала.
– Сейчас тебе хочется, чтобы после всего случившегося твоя жизнь снова вошла в привычную колею, чтобы весь мир со своими злодеяниями остался за стенами нашей обители и чтобы снова воцарился покой – в монастыре и в твоем сердце, не так ли?
На лице аббатисы отразилось понимание, но вместе с тем и легкое пренебрежение.
– Я просто хочу быть хорошей монахиней, – пробормотала Матильда, – хочу оставить прежнюю жизнь, как сбрасывают старые одежды. Возможно… возможно, сон больше не повторится, если вы меня накажете. Велите мне соблюдать пост и питаться только грушевым соком! Запретите работать в скриптории, вместо этого отправьте мыть уборные! Прикажите стоять на коленях в часовне, до тех пор пока у меня не онемеют ноги и…
Она с упоением перечисляла возможные наказания, пока аббатиса не остановила ее резким движением руки.
– Успокойся сейчас же! – воскликнула она. – Ты не заслужила никакого наказания! В последнее время ты так часто мне помогала. Особенно после того как… в обитель попал он…
Она замолчала, и Матильда проследила за ее взглядом. Во дворе прогуливался молодой мужчина, и, глядя на него, нельзя было предположить, что он был тяжело ранен. Вместе с другими сестрами Матильда ухаживала за ним и сразу же догадалась, что между этим мужчиной и непогрешимой аббатисой существует некая связь. По сравнению с прошлым аббатисы ее собственный бессвязный сон, должно быть, казался сущим пустяком. Неудивительно, что та не захотела ее наказывать.
– Сколько времени он здесь пробудет? – поинтересовалась Матильда.
– Он еще слишком слаб, чтобы уйти, – ответила аббатиса.
Или она была слишком слаба, чтобы его отпустить.
Женщина отвернулась.
– Принеси ему поесть, – коротко велела она.
Матильда нахмурилась и хотела отказаться. Молодых мужчин она в своей жизни видела не много, а этот человек за несколько дней сумел внести смятение в ее душу, и после его выздоровления она надеялась с ним больше не встречаться. Распоряжение аббатисы казалось ей невыполнимым требованием.
Тем не менее возражать девушка не стала. Возможно, этот приказ стоило рассматривать не как невыполнимое требование, а как наказание, о котором она сама просила и которое было более суровым, чем строгий пост, многочасовое стояние на коленях и мытье уборных, ведь на одну запретную секунду оно вызывало совсем не неприятные ощущения.
У сестры-келаря Матильда взяла хлеб и сыр, но выполнить поручение решилась не сразу. Когда она наконец заставила себя выйти во двор, мужчины там уже не было. Обрадовавшись тому, что теперь она избавлена от своей обязанности, послушница вдруг увидела Арвида в трапезной – помещении возле ворот, в котором принимали и потчевали гостей. Он сидел на корточках и делал руками странные пассы вокруг головы – так, по крайней мере, это выглядело издалека. Может быть, ему больно? Но ведь его ранили в грудь, а не в голову.
Только войдя в помещение, Матильда поняла, что Арвид выстригает себе тонзуру. Именно по ней сестры узнали в молодом мужчине, который, обессилев от ран, потерял сознание у монастырских ворот, монаха или послушника. За это время тонзура покрылась темными редкими волосами, и то, что он их состригал, свидетельствовало о его намерении в скором времени вернуться в свою обитель.
Когда Матильда подошла ближе, Арвид поднял глаза, и девушка залилась краской от смущения. «Да, он мужчина, но он человек Божий», – напомнила она себе. Таких мужчин она уже встречала: из соседнего монастыря иногда приходили монахи, чтобы отслужить мессу, выслушать исповедь или дать последние напутствия умирающим.
С напускным спокойствием Матильда протянула Арвиду поднос:
– Я принесла тебе поесть.
Проходить в комнату и ставить поднос на стол девушка не собиралась.
Тонзура получилась кривой, как и улыбка, которую мужчина попытался выдавить из себя. Казалось, что Арвид смущался не меньше, чем Матильда, но, в отличие от нее, у него хватало смелости открыто признаться в этом.
– Потерпите еще немного, скоро я избавлю вас от своего присутствия, – пообещал он, – и в эти стены снова придет покой.
Втайне Матильда на это надеялась, но слышать от него такие слова ей было нелегко. Внезапно девушка стала воспринимать свою робость как проявление слабости. Монахинь с сильной верой, усмиривших свою плоть, не должно смущать присутствие мужчины.
– Кто стучит, тому откроют, – быстро произнесла она, – а надолго ли останется гость, решать не нам. – В подтверждение своих слов послушница добавила: – Два года назад аббатиса пригласила в монастырь нищих, чтобы в чистый четверг мы омыли им ноги, как Иисус своим апостолам.
Вспомнив об этом, девушка едва заметно вздрогнула. Ноги нищих, покрытые язвами, вызывали у нее отвращение, но больше всего ей были противны запахи, голоса и безобразные лица в морщинах или шрамах – следах непрерывной борьбы за существование, совершенно чуждой обитателям монастыря. Конечно, Матильда покорилась воле аббатисы и смогла преодолеть отвращение.
Внезапно поднос с хлебом и сыром, который она все еще держала в руках, словно стал тяжелее. Чтобы добраться до стола, Матильде пришлось бы слишком близко подойти к Арвиду, и она поставила поднос на глинобитный пол:
– Сестра-келарь просила передать, что за ужином ты можешь выпить вина.
Арвид опустил глаза:
– Благодарю, вы все очень добры ко мне.
Не было никаких причин оставаться здесь дольше, но покидать это место Матильда не спешила. Она думала о слухах, которые в последнее время ходили в монастыре. Почти все монахини высказывали предположения о том, кем был этот мужчина, а Маура поделилась с Матильдой самой страшной и загадочной версией, которую обсуждала вся обитель: Арвид не кто иной, как сын аббатисы. Вскоре после его рождения она ушла в монастырь, чтобы впредь вести благочестивую жизнь, однако ее прошлое нельзя назвать безгрешным, даже если грех был совершен лишь однажды. Аббатиса скрывала правду не только о своем сыне, но и о том, чьей дочерью являлась она сама. Ее отцом был не простой франк, а…
Нет, Матильде не хотелось даже думать об этом. Изо всех сил пытаясь стереть из памяти таинственный сон и не задаваться вопросом о своем происхождении, она также запретила себе интересоваться тайной рождения Арвида. Но когда девушка направилась к выходу, мужчина, вместо того чтобы приняться за еду, внезапно заговорил:
– Я знаю, что обо мне ходят слухи. И еще я знаю, что всех вас, должно быть, очень смутила моя история. Я и сам только здесь узнал, что… – Он замялся, подыскивая слова. – Это тяжело, – наконец выдохнул Арвид. – Тяжело не знать, на чьей ты стороне…
Матильда застыла: что-то не давало ей уйти, но она не могла понять, что именно. Может быть, любопытство? Безусловно, это порок, но далеко не самый тяжкий. А может, всему виной неловкость? С этим было бы легче справиться, если бы она понимала, на что он намекает. Или же это было нечто более страшное?
– Я знаю, что монахиням запрещено празднословие, – пробормотал Арвид, – но вы, несомненно, говорили обо мне. О том, кем я прихожусь аббатисе. Действительно ли она моя мать. И правда ли, что мой отец – норманн.
Он больше не мог об этом молчать, она больше не могла это слушать.
«Меня это не касается!» – хотела крикнуть девушка, но вслух сказала другое:
– Все мы дети Господни. Только это имеет значение.
Арвид до сих пор не притронулся к еде. Взглянув на поднос, Матильда вдруг почувствовала острое желание съесть кусочек сыра. Она не была голодна, ей просто хотелось проглотить комок, подступивший к горлу при мысли о том, что она тоже может прийти в ужас, узнав, чьей дочерью является.
Почувствовав на себе пристальный взгляд, Матильда подняла глаза, но так и не поняла, что этот взгляд значил. Она поспешно отвернулась.
– Скоро я вернусь в Жюмьежский монастырь, в котором живу, – произнес Арвид.
Она кивнула:
– Я знаю. Говорят, это самый большой монастырь в Нормандии.
– И после моего ухода здесь снова воцарится мир.
– Непременно, – согласилась она.
Девушке хотелось в это верить, и ненадолго ей это удалось, ненадолго к ней вернулось то умиротворение, которое приносят покой, простота и размеренность.
Это чувство быстро исчезло: Матильда успела сделать лишь три шага в сторону двери, когда снаружи раздался грохот. Это произошло именно в тот момент, когда Арвид наклонился и поднял с пола поднос с хлебом и сыром. Испугавшись, мужчина выронил поднос из рук, и продукты оказались на глиняном полу.
«Жаль, что еда пропала», – промелькнуло в голове у Матильды. Но когда они вместе с Арвидом бросились на улицу и увидели всадников, размахивающих мечами, она уже ни о чем не думала.
Матильда слышала, что, совершая нападения на монастыри, язычники с севера воют, словно волки, устраивают пожары и сносят стены, но сейчас все звуки заглушало биение ее сердца. Она слышала, что существуют знамения, предупреждающие о биче Божьем, – языки пламени в виде драконов, огни в море, кометы и разрушительные ураганы, – но эти воины появились совершенно неожиданно. Она слышала, что они одеваются в звериные шкуры, но на первый взгляд всадники в кольчугах, которые оставляли неприкрытыми только предплечья, в остроконечных шлемах с наносниками и капюшонах из металлических колец казались отлитыми из железа. Металлическим было и их оружие: копья, секиры, мечи и булавы.
Матильда смотрела на мужчин, не понимая, почему они выглядят не так, как она себе представляла, и каким образом им удалось попасть в обитель. Для франкских воинов, которые в поисках Арвида совершили нападение на монастырь несколько дней назад, ворота стали непреодолимой преградой. Потом девушку осенило: вероятно, сегодня ворота были закрыты, но не заперты на засов.
Эта мысль принесла ей облегчение. В мире, погруженном в хаос, кое-что по-прежнему подчинялось строгой логике.
Сквозь громкие возгласы мужчин и ржание лошадей девушка услышала далекий голос Арвида.
– Сюда! – кричал он ей.
Матильда не двинулась с места. В громком гуле она четко различала не только голос Арвида, но и голос одного из воинов. Мужчина говорил не на франкском языке, не на древнегреческом и не на латыни, но она поняла его слова.
– Найдите ее!
Этот язык был чужим, но казался таким знакомым. Знакомым, как луг посреди скал на берегу моря и как светловолосый мужчина, который хотел заключить ее в объятия.
Но когда Арвид схватил Матильду и потащил ее прочь, в мире вдруг не осталось ничего знакомого. Казалось, что земля разверзлась у нее под ногами, чтобы поглотить все, к чему Матильда привыкла. Она видела, как сестры выбегают во двор, как их убивают чужестранные воины, и это кровавое зрелище казалось таким нереальным, что девушка перестала доверять своим чувствам. Это был уже не тот монастырь, в котором она выросла.
Арвид увлек молодую послушницу обратно в трапезную, но не стал там долго задерживаться и потянул ее к маленькому окошку в другом конце комнаты. Девушка не помнила, чтобы когда-либо в него смотрела. Не успела она увидеть, куда выходит это окно, как Арвид уже распахнул его и толкнул ее вниз. Матильда ударилась левым плечом и почувствовала сильную боль, но не поверила своим ощущениям: боль была ненастоящей, она просто не могла быть настоящей. В мире больше не осталось ничего настоящего.
Арвид помог ей встать. «Какие сильные у него руки!» – подумала Матильда.
– Скорее! – крикнул он.
«Нельзя допускать, чтобы ко мне прикасался мужчина, – промелькнуло у нее в голове, но, прежде чем девушка успела воспротивиться, ее посетила другая мысль: – Я не хочу умирать».
Матильда обернулась. Теперь монастырь уже не казался ей чужим. Совсем рядом был расположен домик аббатисы, напротив него находилась часовня, а чуть дальше – амбары и погреб. Матильда не понимала, почему воины еще не ворвались в эти здания и почему они убивали монахинь, вместо того чтобы забирать из часовни дароносицы, распятия и золотые кубки, а также опустошать запасы мяса, муки и вина из кладовых.
– Бежим! – скомандовал Арвид и притянул девушку к себе.
Своего сердцебиения Матильда уже не замечала, зато все отчетливее слышала, как бьется его сердце, ощущала его тяжелое дыхание и влажные ладони.
Он был жив. И она тоже.
Вместе они добрались до амбара. Здесь хранились товары, полученные в уплату за пользование монастырскими угодьями: мешки с мукой и зерном и соломенные снопы. Арвид быстро огляделся и подтолкнул к ним Матильду. Не удержав равновесия, девушка упала, и он тут же бросил на нее несколько снопов. Соломинки кололи лицо, дышать было трудно.
– Не двигайся, – приказал Арвид, когда она попыталась высвободиться. – Может быть, здесь нас не найдут.
Матильда застыла в оцепенении. «Может быть… Он сказал: “Может быть…” Может быть, здесь мы в безопасности, а может, и нет… Может, они нас обнаружат, надругаются надо мной, убьют или отдадут в рабство, может, они…»
– Тихо! – прошипел Арвид.
Неужели она сказала это вслух?
– Да тихо же!
Нет, он имел в виду другое: от страха у нее стучали зубы.
Матильда изо всех сил сжала челюсти и попыталась сосредоточиться на своем дыхании. Под соломой было душно, но девушка еще могла ясно мыслить.
«Ведь в Нормандии живут христиане», – подумала она. Язычники, когда-то захватившие эти земли, приняли крещение, а их правитель, граф Вильгельм, тоже христианин, защищает область от разорительных набегов. Почему же эти чудовища напали на монастырь? И почему один из них приказал: «Найдите ее!»?
Вдруг раздался треск, и, услышав стон Арвида, Матильда поняла, что происходит. Воины не ограничились убийством монахинь – они подожгли обитель. Если пламя перекинется на солому, они с Арвидом сгорят заживо. Если же они станут спасаться от огня, то попадут в руки врагов, где их также ожидает неминуемая гибель.
Арвид задержал дыхание, на секунду вообразив, будто таким образом сможет остановить ход времени. Тогда пламя не станет распространяться дальше, а воины больше не будут убивать монахинь. Однако лязг оружия, треск огня и женские крики не стихали. Они просто не становились громче.
Думая, что сейчас умрет от удушья, Арвид сделал выдох и глубокий вдох. Матильда, молодая послушница, дрожала всем телом. Она больше не стучала зубами, и ей удалось подавить в себе желание убежать. А раз это смогла она, то и он тоже сможет.
Арвид слегка повернул голову к побледневшей Матильде и взглянул в ее темные, широко открытые глаза. Не осознавая до конца, что делает и почему, он крепко сжал ее руку. Ни слова не слетело с ее губ, она совершенно не сопротивлялась. Вероятно, девушка чувствовала то же, что и он: она готова была вынести любую боль и любой стыд от недозволенного прикосновения, только бы не оставаться в одиночестве.
«Она такая юная, – подумал Арвид, любуясь ее лицом в форме сердца, светлой кожей и большими бездонными глазами, – такая нежная и красивая. Интересно, какого цвета у нее волосы?»
Он никогда бы не задался этим вопросом, если бы они с Матильдой не лежали под грудой соломенных снопов, и никогда бы не подумал о красоте девушки, если бы их с ней не объединял смертельный страх. Однако сейчас эта мысль вызывала у Арвида приятные ощущения и не казалась ему уловкой дьявола. Размышления о цвете волос Матильды отвлекали его от треска пламени и стонов умирающих монахинь.
Они лежали рядом, плечом к плечу. Держались за руки. Дышали в унисон. В какой-то момент все звуки исчезли, и только их тяжелое дыхание нарушало тишину. Больше не было треска, криков, звона оружия. Врата ада закрылись так же неожиданно, как и отворились.
Арвид немного подождал, опасаясь, что воины применили хитрость, но в конце концов тишина стала давить на него не меньше, чем снопы. Он отбросил один из них и так жадно вдохнул свежий воздух, будто все это время провел не под слоем соломы, а глубоко под водой.
Когда Арвид поднялся на ноги, у него закружилась голова. Только сейчас он осознал, что пролежал здесь с Матильдой не пару секунд, а несколько часов. Да, он несколько часов судорожно сжимал ее руку, а когда наконец разжал пальцы, девушка принялась разминать кисть с таким видом, будто она вдруг перестала быть частью ее тела.
Его тело тоже было словно чужое. Арвид сумел подняться, чувствуя, как кровь приливает к ногам. Он мог ходить и смотреть по сторонам, но в то же время испытывал странное ощущение, будто одна часть его самого осталась лежать под соломой, а другая осторожно подкралась к двери амбара и выглядывала на улицу. Огонь уже погас, но в небо поднимались клубы дыма; земля была усеяна телами, но ни одного живого человека видно не было. Эта картина внушала ужас и вместе с тем приносила облегчение: никто не сможет пронзить его мечом, снова устроить пожар, наброситься на него с кулаками.
Матильда последовала за ним и вскрикнула – это был душераздирающий звук, больше похожий на кошачье мяуканье. Арвид застыл в оцепенении. Девушка бросилась к телам монахинь:
– Сестра-наставница, сестра-привратница, сестра-келарь!
Она кричала все громче, но мертвые были глухи к ее мольбам. Их было так много – старых и молодых, спокойных и взбалмошных, приветливых и строгих, разговорчивых и скрытных. Такие разные при жизни, умирая, они обагрились одинаковой кровью.
– Маура… – выдавила из себя Матильда. – Мауры здесь нет. Возможно, ей удалось спастись.
– Кто такая Маура? – спросил Арвид.
– В дормитории она всегда спала рядом со мной, она моя… подруга.
Матильда помедлила, прежде чем произнести это слово. В монастыре, как часто внушали девушкам их старшие сестры, не следует заводить друзей и относиться к кому-либо лучше, чем к остальным. Все они – братья и сестры во Христе, а значит, равны между собой.
Пройдя через трапезную, Матильда и Арвид вышли во двор, где также обнаружили тела.
– Я не могу найти Мауру. Должно быть, ей действительно удалось…
Он больше не слышал ее слов. Одна из сестер, лежащих на земле, пошевелилась. Покрывало сползло у нее с головы, открыв редкие седые волосы. Секунду назад Арвид с трудом передвигался, будто его разум больше не повелевал телом, но сейчас он стрелой бросился к монахине, опустился на колени и стиснул ее руку так же крепко, как совсем недавно сжимал руку Матильды. Он обрадовался, почувствовав тепло, но потом ему показалось, что рука остывает с каждым вдохом монахини.
– Мама, – произнес он, – мама…
Он бы никогда ее так не назвал, если бы был уверен, что она выживет. Но поскольку она была при смерти, это слово легко слетело с его губ. Арвид знал, что смерть скоро придет за ней, он видел это по желтизне ее кожи, по губам, искривившимся от боли, по впалым щекам. Монахиня открыла глаза и посмотрела на него взглядом, полным любви.
– Ты жив, – с облегчением пробормотала аббатиса монастыря Святого Амвросия. – О Арвид, тебе нужно бежать! Эти мужчины, они ведь приходили за тобой, не так ли? – Она вдруг заговорила на удивление отчетливо, хотя с каждым словом ее голос становился все тише.
– Это были не франки, они выглядели как норманны, – ответил Арвид. – Почему они хотели убить меня? Кто мог их послать?
– Беги! – повторила она.
– Я не понимаю. Я этого просто не понимаю…
Арвид не понимал многого из того, что случилось с ним за последние несколько недель. Он жил в Жюмьежском монастыре так же спокойно, как Матильда в своей обители, когда вдруг на их монастырь напали, а его самого попытались убить. Арвиду удалось спастись, но он был ранен и с трудом добрался сюда. Здесь он выздоровел и узнал страшную правду: аббатиса Гизела была не только его матерью, но и дочкой короля Карла из династии Каролингов. И, что еще страшнее, его отец – норманн, однажды изнасиловавший его мать.
– Возможно, этих воинов тоже прислал Людовик… – произнесла аббатиса, тяжело дыша.
Людовик был сыном короля Карла, сводным братом Гизелы и с недавних пор правил франками. Кроме того, он был дядей Арвида и видел в нем угрозу для себя. Хотя можно было не бояться, что будущего монаха охватит жажда власти, все же Арвид, сын норманна и франкской принцессы, мог претендовать на то, чтобы править Нормандией – графством, которое Людовик и сам хотел завоевать, ведь оно отошло норманнам всего несколько десятилетий назад.
– Уходи же наконец!
Арвид не мог заставить себя отпустить ее руку.
– Я не хочу, чтобы ты умирала в одиночестве.
– В своей жизни я часто оставалась одна. А Матильда… Позаботься о ней.
Арвид поднял глаза. Матильда обессиленно опустилась на землю посреди двора и заплакала. Ему на глаза тоже наворачивались слезы, однако, прежде чем его взгляд затуманился, Арвид заметил меч, который, должно быть, принадлежал одному из воинов. Арвид никогда не держал в руках оружия и никогда не мечтал об этом. Но теперь, охваченный яростью, он готов был поднять этот меч, сражаться, наносить кровавые раны и убивать. Охотнее всего он замахнулся бы на саму смерть, темную и холодную, жаждущую забрать с собой его мать. О, как бы он хотел изрубить смерть на части! Он бы не успокоился, пока пламя его гнева не уничтожило бы тьму, а лед не раскалился от ударов. Гнев, который обуял его, был кроваво-красным и испепеляющим. Скорее всего, именно такой гнев кипел в жилах его отца-язычника. От кого же еще он мог его унаследовать? Уж точно не от кроткой Гизелы, которую медленно покидала жизнь. Этот гнев был диким, языческим, грешным. И пугал Арвида до глубины души.
– Беги же наконец!
Аббатиса подняла руку и осенила Арвида крестным знамением. Потом она закрыла глаза – может, от слабости, а может, потому, что знала: он не отпустит ее руку и не уйдет, пока она будет на него смотреть.
Арвид поднялся, подошел к Матильде и помог ей встать.
– Нам нужно уходить отсюда.
Черные птицы кружили над ними, когда они, не видя ничего перед собой, брели к воротам, чтобы отправиться в путь.
Арвид и Матильда все больше углублялись в чащу, и осенние листья шелестели у них под ногами. Редкий лес, окружавший монастырь, постепенно превращался в дремучие заросли. Поблекшие листья не беспокоили Арвида: сейчас он счел бы мир, утопающий в ярких красках, насмешкой природы. Для такого дня, как этот, тусклые тона подходили гораздо больше.
Красный и багровый цвета вызывали у Арвида воспоминания о лужах крови. Кровавые пятна виднелись также на руках и одежде Матильды. Только сейчас, остановившись, чтобы немного отдохнуть, она их заметила и с отвращением стала срывать с себя рясу.
– Стой! – крикнул Арвид. – Мы не взяли другой одежды, кроме той, что на нас. Нельзя ее выбрасывать.
Девушка застыла, но в ее глазах отражалась паника.
Утешая Матильду, Арвид успокаивался и сам:
– Не думай больше о крови, не думай о мертвых!
Он глубоко задышал, и в конце концов Матильда последовала его примеру.
– Они приходили за мной, – помолчав, произнес он, – но нам удалось убежать. Мы остались в живых.
– Язык… – запинаясь, произнесла девушка. – На каком языке они говорили?
– Думаю, на бретонском.
– Но это же невозможно! – вырвалось у нее.
Арвид не понял, что она имела в виду, но в том, что вместо отчаянного крика с ее губ слетели четкие слова, он увидел хороший знак. Знак, убедивший его в том, что Матильда сможет взять себя в руки. Знак, после которого он позволил себе присесть на корточки и вытереть руки влажными листьями.
– Я поняла их, – выдохнула Матильда, когда они с Арвидом поднялись на ноги и ее паника сменилась растерянностью. – Я поняла, что они кричали. «Найдите ее!» Да, они кричали именно это. Почему я понимаю бретонский язык?
– Нет, – Арвид покачал головой, – то, что ты якобы поняла, ты истолковала неверно. Они должны были кричать: «Найдите его!» Речь шла обо мне.
Слушая его, Матильда беспокойно металась из стороны в сторону, но Арвид встал на ее пути, и девушка невольно посмотрела ему в глаза.
– Это правда, – спросила она, – что отцом твоей матери был не простой франк, а король Карл?
Эта тайна, открывшаяся совсем недавно, очень беспокоила Арвида в последнее время, но сейчас эти слова не затронули его душу. Сейчас не существовало ничего более страшного, чем воспоминания об убитых монахинях.
– Да, это так, – коротко подтвердил Арвид. – Очевидно, нынешний король Людовик, мой родной дядя, видит во мне угрозу. Сначала он послал франков, чтобы убить меня, а теперь… поручил это бретонцам.
– А с каких пор бретонцы подчиняются королю Людовику?
Действительно, это было странно. Однако в последнее время Арвид так часто оказывался на грани безумия из-за происшедших событий, что теперь его уже не удивляли события, казалось бы, невозможные. Все возможно. Ни в чем нельзя быть уверенным до конца.
– Понятия не имею, – пробормотал он.
Кровь на рясе Матильды высохла и потемнела. Не зная, что произошло, можно было подумать, будто девушка упала и испачкалась землей.
– Куда мы пойдем? – спросила послушница. – Недалеко отсюда находится еще один монастырь.
Арвид замер, услышав треск, а затем шорох. Люди?
Он покачал головой:
– Кто знает, может быть, бретонские воины напали также и на эту обитель. Нам нужно остаться в лесу. Здесь мы сможем укрыться, если они будут нас преследовать.
Арвид взглянул на деревья, неприветливые, похожие на темную стену, которая скорее преграждала путь, чем защищала от врагов.
– Пойдем, – решительно позвал он.
Арвид повел девушку дальше в чащу, и, вопреки ожиданиям, деревья не пытались зацепить их ветками. Лес был не враждебным, а равнодушным и оказался лабиринтом, а не тюрьмой.
– Кто бы и с какой целью ни прислал этих воинов, это были не христиане, а язычники, иначе они не стали бы так жестоко убивать монахинь, – произнесла Матильда.
Арвид уже не был в этом так уверен. За последнее время он узнал не только о своем происхождении, но и том, что даже благочестивые христиане могут убивать… Дело не в том, христиане это были или язычники. Почему на монастырь напали бретонцы?
– Может быть, часть бретонцев заключила союз с Людовиком? – робко предположил он.
– Мне ничего не известно о Бретани. Почему же я понимаю язык, на котором там говорят?
Арвид пожал плечами. Не важно, на каком языке, – говорить было приятно. Приятно было убеждаться в том, что после всего случившегося они остались людьми и не потеряли способность думать, делиться знаниями, принимать решения.
– Раньше Бретань была могущественным герцогством, но после смерти последнего правителя пришла в упадок. Влиятельные семьи долго боролись друг с другом за наследство, пока не ослабли настолько, что не смогли ничего противопоставить норманнам, желающим захватить эти земли, и покинули свою родину. Говорят, что монастыри в Бретани заброшены, потому что монахи собрали свои реликвии и сбежали на восток.
Внезапно Матильда всхлипнула. Конечно, она была расстроена не участью бретонских монахов, а собственной судьбой. У них с Арвидом не было времени на то, чтобы собрать реликвии, и они не знали, в каком направлении идут. Они не знали, где находится восток: солнце в это время года висело низко над землей и было скрыто от них густым лесом. Они не знали, что делать дальше.
Несмотря на это, Арвид продолжал идти уверенным шагом. Когда он шел, ему казалось, что он контролирует ситуацию. Когда он говорил, ему казалось, что он не бессилен перед обстоятельствами.
– Норманны не смогли укрепиться в Бретани, поскольку…
Он замолчал, услышав шум, не похожий на шелест и треск. Это был… стук копыт.
Матильда побледнела и вскрикнула, но Арвид тут же закрыл ей рот рукой, чтобы заглушить звук. Ее кожа была такой холодной, а губы – такими мягкими…
Стук копыт приближался. Только когда земля задрожала под ногами, Арвид вышел из оцепенения и потащил Матильду в заросли. Листья били беглецов по лицу, покрытые шипами ветви цеплялись за грубую ткань рясы, но ковер из мха заглушал звук их шагов, а густые кусты окутывали тьмой так, что казалось, будто наступил вечер. Скоро они не могли ничего видеть на расстоянии вытянутой руки.
А это внушало надежду на то, что их тоже никто не увидит.
Аскульф похолодел от злости. Он злился на своих людей, но и на себя тоже. Убийства ослепили воинов, они поддались жажде кровопролития и уничтожения всего живого. И Аскульф их понимал. Он тоже обрадовался тому, что больше не обязан ждать, спрятавшись за валом на морском побережье, и постоянно решать, какой шаг следует сделать, а какой нет. Наконец он мог действовать, даже если это значило разрушать. Потому и случилось так, что его рассудок помутился от красной пелены из пота и крови, и он вместе со своими воинами поддался ритму жуткой музыки из стонов, криков и лязга оружия, ощущая, как от возбуждения по телу разливается приятное тепло.
Но сейчас пролитая кровь остыла, мир по-прежнему стоял на месте, рассудок прояснился, и уже невозможно было отрицать тот факт, что одними лишь убийствами его цель не ограничивалась.
– Почти все монахини мертвы, – негодовал Аскульф, – но где… она, мы не знаем! Вы не должны были позволить ей сбежать!
– Возможно, она вовсе не сбежала. Возможно, она спряталась в монастыре, а ты просто недостаточно тщательно его обыскал.
Аскульф плотно сжал губы. Должно быть, его люди заметили, что ему стыдно за эту слабость, иначе они бы его не критиковали. Они никогда бы не осмелились упрекнуть его, если бы он сам не сомневался в себе. Действительно ли он заглянул во все уголки монастыря? А может, он слишком рано погнал свою лошадь и воинов в лес, решив искать девушку там?
Он уже подумывал о том, чтобы приказать своим людям возвращаться в монастырь, но пока Аскульф колебался, его взгляд упал на землю. От увиденного он тут же воспрянул духом.
– Что там? – поинтересовался один из воинов.
Аскульф улыбнулся:
– Следы. И оставил их не зверь.
– Значит, Матильда все-таки сбежала в лес?
– Не только Матильда, с ней был кто-то еще. И, судя по размеру обуви, этот кто-то – мужчина.
Когда он поднял голову, на лицах воинов сияли улыбки: победить одного-единственного противника для них не составит труда, а юная неопытная девушка не сможет долго скрываться в лесу.
Аскульф больше не злился.
Арвид знал: чтобы выжить в лесу, нельзя смотреть вдаль, вместо этого нужно думать только о следующем шаге. Он отбросил мысль о том, что когда-нибудь в монастыре снова ощутит размеренное течение жизни, и решил ставить перед собой маленькие цели.
Первой целью было избавиться от преследователей, а значит, углубиться дальше в лесную чащу. Вскоре они с Матильдой устали, их лица и руки покрылись царапинами, но стука лошадиных копыт уже не было слышно. Вторая цель заключалась в том, чтобы пережить холодную ночь: они ужасно замерзли.
Арвид внезапно остановился, и Матильда, которую он вел за руку, натолкнулась на него. Он почувствовал, как она на мгновение прижалась к его спине и тут же отпрянула.
– Нам нужно подумать, как раздобыть еду, – сказал Арвид.
Девушка недоверчиво огляделась:
– Здесь?
– Моя приемная мать… Ее звали Руна… Она была родом с севера и знала, как выживать в лесу.
В последние дни он часто думал о приемной матери, которой Гизела отдала своего младенца. Когда-то женщины были хорошими подругами, и Арвид рассказал своей родной матери о последних годах жизни Руны. О том, что она с необычайной ловкостью и выдержкой старалась обеспечить свое существование и существование приемного сына, охотясь и выполняя для крестьян тяжелую мужскую работу. О том, что она всегда помнила о трудностях повседневной жизни, но была уверена, что сможет преодолеть все преграды. И о том, что, даже изнуренная болезнью, она улыбалась, стоило ему на нее посмотреть. Когда у нее началась лихорадка, которая повлекла за собой смерть и повергла сострадательных людей в отчаяние, Руна равнодушно пожимала плечами и твердила, что прожила счастливую жизнь.
– Я оставила на севере родину, но здесь обрела новую, – говорила она, – у меня нет своих детей, но я любила тебя как родного. Я убивала людей, но мне позволили умереть мирно в своей постели. Я знаю, что такое голод и холод, но сейчас… сейчас мне тепло. Не смей плакать и порадуйся, что я дожила до такого возраста. Несмотря ни на что я прожила хорошую жизнь.
Да, приемом «несмотря ни на что» она владела в совершенстве. Арвид немного успокаивался, когда представлял себе ее лицо, чувствовал ее решимость и вспоминал все то, чему она его научила, задолго до того как Таурин, его приемный отец и бывший монах, занялся его воспитанием и сделал из него истинного христианина. Арвид всегда думал, что знания, которые передал ему Таурин, – чтение, письмо, творение молитвы и перевод текстов с латыни, – были более ценными и что он мог с легкостью отказаться от навыков, которые привила ему Руна, но сейчас именно эти навыки принесли ему намного больше пользы.
Руна научила его готовить сыр, жарить мясо на вертеле и делать из козьего молока скир – блюдо, похожее на простоквашу. А еще – печь тонкие блины на раскаленном камне, коптить рыбу и замешивать тесто для хлеба из березовой коры.
В лесу не было ни молока, ни муки, ни коз, ни рыб, и березы здесь не росли. Но благодаря Руне Арвид знал, что и в густой тени деревьев можно найти еду, особенно осенью: шиповник, чернику, бруснику, грибы, орехи и даже мед с яблоками – все то, что зимой, помимо засоленного мяса, употребляют в пищу.
Арвид и Матильда продирались сквозь густые заросли, пока не вышли на крошечную поляну, на которой едва можно было выпрямиться в полный рост.
– Я поищу что-нибудь поесть, а ты разведи костер, – велел Арвид.
Девушка бросила на него испуганный взгляд:
– Как? У нас же нет кремня!
Арвид тяжело вздохнул, как на его месте, наверное, вздохнула бы Руна. Он молча сложил в кучу камни, сухие листья и ветки и показал девушке, как нужно тереть деревянные палочки о камень, чтобы высечь искру. Матильда слушала, не столько надеясь согреться, сколько потому, что у нее не было сил задавать вопросы. Пока она тщетно пыталась развести огонь, а желанный дым все не хотел подниматься, Арвид отрывал узкие лоскутки от своей рясы, вытягивал из нее нитки и искал новые камни.
– Что ты делаешь?
– Пращу. Для охоты на зверей.
Матильда удивленно уставилась на него. Скорее всего, она видела диких животных, которых приносили в монастырь в уплату за пользование угодьями, но никогда не задумывалась о том, как их убивали. Не теряя времени на объяснения, Арвид показал девушке, как можно работать быстрее, и исчез за деревьями. Сосредоточившись на своей задаче, Матильда забыла попросить его не оставлять ее одну.
С каждым шагом на душе у Арвида становилось все тяжелее. Он не был уверен в том, что сможет найти Матильду, и еще больше сомневался в том, что когда-нибудь выберется из этого леса. Однако чтобы выжить, следовало не только думать исключительно о следующем шаге, но иногда и отключать логику, полностью полагаясь на чутье, что он сейчас и сделал: Арвид отогнал от себя все мысли.
Прошло немало времени, прежде чем он вернулся на поляну. Развести огонь Матильде так и не удалось. С волдырями на ладонях она, отчаявшись, сидела на корточках перед кучей камней и веток.
– Боже мой, почему тебе ничего нельзя доверить?! – с негодованием воскликнул Арвид.
Выплеснув свою ярость, он легче перенес собственную неудачу. Ничего съедобного он не обнаружил, зайцы разбежались, и его единственной добычей стала маленькая белка. В тот момент, когда камень достиг цели, Арвида захлестнула теплая волна радости. Он тоже может быть охотником, а не только убегать от своих преследователей, как загнанный зверь. Он тоже может убивать, а не быть всего лишь жертвой своих врагов. Однако этот восторг быстро прошел: то, что он убил животное, совершенно не значило, что они с Матильдой уйдут от опасности; это даже не значило, что они избавятся от голода. Мяса на маленькой белке почти не было, а без ножа они не смогут снять с нее шкуру. Грубые слова Арвида испугали девушку. Он присел возле нее и попытался добыть огонь сам, но ему это также не удалось: дерево было слишком сырым.
– Если мы не разведем костер, то не сможем съесть… это. – Матильда с отвращением указала на белку. Казалось, она почти рада этому обстоятельству, хотя в животе у нее тоже урчало.
– Боже правый, как ты избалована! – упрекнул ее Арвид. – Мясо можно есть и в сыром виде!
Ему тоже была противна эта мысль, но Матильде он в этом не признался.
Глаза девушки наполнились слезами, но ни одна из них не покатилась по щеке. Матильда больше не дрожала, а сидела так прямо, как будто уже окоченела. Если он ее не согреет, до наступления завтрашнего дня она умрет от холода.
Арвид подавил в себе злость и смущение, бросил белку на землю и притянул Матильду к себе. Вскоре она заговорила:
– Значит, это правда, что твой отец – норманн?
В другой ситуации Арвид стал бы это отрицать. Но по сравнению с бессилием перед голодом и холодом тот ужас, который вызвал в нем рассказ Гизелы, теперь казался до смешного ничтожным.
– Его звали Тур, – сказал Арвид. – Он изнасиловал мою мать. Почти сразу же после моего рождения она ушла в монастырь и никому не рассказывала о своем прошлом.
Гизела долго не решалась назвать ему это имя и только намекала на то, каким злым, каким безумным был Тур. В монастыре мысль о нем казалась Арвиду невыносимой, а здесь – нет. Здесь злоба и безумие представлялись ему не самыми серьезными опасностями для бессмертной души и ясного рассудка, чего он не мог сказать о всепоглощающем страхе смерти, избавиться от которого злым и безумным людям было, вероятно, легче.
– По крайней мере, тебе известно, кто ты, – пробормотала Матильда. – Я же не знаю имен своих родителей. Мне даже неизвестно, где я появилась на свет. Раньше я думала, что это не важно, ведь, приняв Христа, мы рождаемся заново и оставляем прежнюю жизнь, подобно тому как сбрасываем с себя старые одежды. Но теперь…
«Так радуйся этому! – чуть не вырвалось у Арвида. – Как много бы я отдал за возможность все забыть!»
Но вдруг он засомневался, так ли это на самом деле. Задолго до того как Гизела все ему объяснила, он стал испытывать внутреннее противоречие, а иногда даже думал, что у него две души, и одна из них принадлежит не Богу, а демону, которого радуют необузданность, разрушение и хаос.
– Нам нужно поспать, – коротко сказал Арвид.
Держась за руки, они сели и прислонились к стволу дерева. Девушка застыла, не решаясь прижаться к его телу, но и не отодвинулась. Арвид закрыл глаза. Он больше не чувствовал ни усталости, ни голода, ни страха. Он не мог окунуться в мир приятных снов, но в темном забытьи, в которое он погружался, все звуки становились приглушенными, а воспоминания не имели значения.
Когда Арвид открыл глаза, было раннее утро. Есть хотелось еще больше, холод усилился, а Матильда исчезла.
Арвид громко позвал девушку, хотя еще вчера сам велел ей вести себя тихо.
– Я здесь! Здесь! – откликнулась Матильда.
Поднимаясь, Арвид почувствовал, как затекло его тело. Он не мог поверить, что они пережили эту ночь, но еще больше его удивляло то, что Матильда не побоялась отойти от него. Потом он понял, что ее привлекло журчание ручья – ручья, которого они не замечали раньше. Вода в нем была немного мутноватая, но все же ею можно было утолить жажду. Матильда жадно пила, и Арвид тут же последовал ее примеру.
Девушка умыла лицо, вымыла руки, а потом приподняла рясу, обагренную кровью монахинь, и опустила ноги в воду, насколько это было возможно. Арвид глядел на ее изящные руки, пытаясь вспомнить, когда в последний раз видел неприкрытую женскую плоть. Затем Матильда стала мыть ноги, и Арвид смотрел на ее голени, а потом, когда она немного приспустила рясу, чтобы вымыть шею, его взгляд скользнул по ее слегка обнажившейся груди.
Матильда так увлеклась, что совершенно не замечала его любопытных взглядов. Арвид же просто не мог не представлять себе, что еще скрывает ее одежда. Интересно, кожа на ее бедрах такая же белоснежная? Такая ли упругая у нее грудь, как предвещало то, что он увидел? А живот мягкий, каким он должен быть у девушки? Еще никогда Арвид – не считая Руны, своей приемной матери, – не прикасался к женщине и до сих пор не испытывал подобного желания.
Внезапно к этому желанию добавились другие: сорвать с Матильды одежду, провести руками по ее коже и, упиваясь мягкостью и теплом, увидеть ее испуганный взгляд, ведь, несмотря на страшные события, она осталась невинной. Его же невинность, казалось, покидала его, чем дольше он смотрел на юную послушницу и чем сильнее в нем кипела страсть, пылкая и разрушительная. Арвид смущенно отвернулся.
– Сегодня нам нужно найти еду, – поспешно сказал он. – И сухие ветки.
– А что потом?
Арвид поправил на себе рясу. Увидев кожу Матильды, он забыл о том, что нужно думать только о следующем шаге.
– Я хочу вернуться в Жюмьеж. Не думаю, что, преследуя меня, бретонские воины осмелятся зайти так далеко во владения норманнов.
– А я? Что будет со мной?
До этого момента Арвид испытывал облегчение от того, что был не один, и только сейчас почувствовал на себе груз ответственности за судьбу девушки.
– Недалеко от Жюмьежа находится Фекан, это большой город на берегу моря. Я жил там, пока не ушел в монастырь. Если нам удастся туда добраться…
Он замолчал, Матильда тоже больше ни о чем не спрашивала. Да, если им это удастся, там о ней кто-нибудь позаботится. Он сможет избавиться от нее. Ему больше никогда не придется убивать белку и тщетно пытаться разжечь огонь. Ему никогда не придется наблюдать за умыванием девушки и спрашивать себя, какая на ощупь ее кожа. И он больше никогда не задумается о том, откуда в его душе сладострастная жестокость, которую он ощутил, увидев, как умирает Гизела, его мать. Тогда, вместо того чтобы молиться о спасении ее души, он жаждал кровавой мести.
Арвид машинально протянул Матильде руку и помог ей подняться. Сейчас он ощущал уже не сладострастие и жестокость, а прилив нежности. Арвид поспешно отпустил девушку, потому что в этом непривычном чувстве таилась серьезная угроза его душевному покою.
Им удалось найти немного ягод и яблок. Ягоды были сухие, яблоки сгнили, но все же кое-как наполнили пустой желудок. Кроме того, Арвид и Матильда обнаружили пещеру: хотя в ней едва можно было выпрямиться в полный рост, она служила неплохим укрытием от преследователей и защищала от холода и ветра. Внутри лежали ветки, и довольно сухие, и Арвид смог развести огонь. Пламя поднималось невысоко, давало много дыма и вскоре превратилось в раскаленные угли, излучающие лишь слабое тепло. Тем не менее его оказалось достаточно, чтобы зажарить мясо убитой белки. В воздухе стоял неприятный запах паленой шерсти, разлетались брызги жира, а резать мясо, не имея ничего, кроме острого камня, было трудно. Жевать его было еще труднее: Матильда и Арвид с трудом глотали жесткие куски. Через некоторое время боль в желудке прошла, а вечером, едва закрыв глаза, беглецы погрузились в глубокий сон без сновидений.
На следующий день Матильда почувствовала в себе силы идти дальше. Голод и холод по-прежнему не отступали, но самым страшным мучением для нее стала боль в ногах. Прежде Матильда никогда не ходила по такой земле – изрытой корнями деревьев и усыпанной камнями, которые впивались в ее ступни, оставляя кровавые раны. В монастыре девушка привыкла ступать по гладкому камню и теперь думала, что прежде всегда парила над землей. Ей казалось, что тогда ее тело было очень легким, а не отягощенным усталостью и переживаниями. Боль была уделом старых и немощных и не имела к ней никакого отношения. Она еще молода, она ни разу не болела. Во время постыдных женских кровотечений Матильда иногда испытывала неприятные тянущие ощущения, но так долго не обращала на это внимания, что забыла о способности своего тела дарить новую жизнь. Плоть не имела никакого значения там, где заботились о спасении бессмертной души. И даже здесь, где казалось, что душа погибает, тело Матильды не выглядело цветущим. Оно стало ее врагом и то и дело угрожало подчинить себе ее волю – волю к продвижению вперед, волю к жизни.
Однажды ноги Матильды свело судорогой, и девушка заплакала от жуткой боли. Заметно смутившись, Арвид жестом предложил ей сесть и принялся осторожно разминать ее ступни у себя на коленях. Боль сменилась наслаждением. Таких ощущений Матильда в монастыре не испытывала, и сначала ей было неловко. Однако она смущалась не настолько сильно, чтобы убрать ноги и отказаться от помощи. А поскольку удовольствие от прикосновений Арвида было сильнее, чем стыд, девушка отважилась нарушить молчание, которое часто воцарялось между ними за два дня, прошедшие с момента их побега.
– Расскажи мне о Жюмьежском монастыре. Говорят, он очень большой.
– Уже нет, – коротко ответил Арвид. – Много лет назад его разрушили норманны. С тех пор он так и не был восстановлен, хотя монахи над этим работают. Я и сам перетаскал много камней.
Поэтому у него такие сильные руки – руки, которые теперь, разминая ее ступни, казались очень мягкими и нежными. В нем было много противоречий: тонкие черты лица, отличающие людей знатного происхождения, и способность жестоко и хладнокровно убивать животных, присущая охотникам и крестьянам; грусть, которая часто затуманивала его взгляд, и внезапная ярость, которая порой его охватывала. Арвид так боялся, что никогда не выберется из этого леса, и так настойчиво стремился найти дорогу, несмотря на опасность. Казалось, что воспоминание о монастыре скорее мучило его, чем придавало ему сил, и Матильда быстро сменила тему.
– Расскажи мне о Нормандии, – попросила она, – расскажи о графе Вильгельме.
В монастыре то, что происходило вне его стен, не имело значения. И хотя здесь, в лесу, Матильда была так же отрезана от мира, если будет на то воля Божья, когда-нибудь они выйдут из леса, и тогда ей придется осваиваться в новом окружении. Чем больше она будет о нем знать, тем легче ей будет справиться с этой задачей.
– Граф Вильгельм – сын Роллона.
Матильда вздрогнула: о Роллоне – разбойнике с севера, который совершал набеги на Францию, принося с собой смерть и ужас, – говорили даже в отдаленных монастырях. В свое время король Карл смог остановить его – но не мечом, а словом. После переговоров Роллон получил земли, которые и без того уже захватил, в качестве феода, а взамен принял христианство и стал строить церкви, вместо того чтобы разрушать их. Роллон поднял край из руин и установил в нем порядок и дисциплину – несомненно, это было его заслугой. Однако ходили упорные слухи о том, что в глубине души он оставался язычником и, даже лежа на смертном одре, отдавал приказы о человеческих жертвоприношениях.
– В отличие от Роллона, его сын Вильгельм с рождения воспитывался в христианском духе, – продолжил Арвид, – и в данном случае семена упали на благодатную почву. Вильгельм очень кроткий и набожный не только по сравнению со своим отцом, но и с франкскими правителями соседних земель. Из-за этого у него есть враги – и к их числу принадлежат северяне, которые считают его сильную веру признаком слабости и чьи восстания ему пришлось жестоко подавить ради укрепления своей власти.
Он замолчал, и Матильда не стала расспрашивать дальше. Она не хотела слышать о битвах, в которых одни убивали, а другие умирали.
– А Нормандия большая? – спросила она вместо этого.
Матильда мало знала о стране, в которой жила; она слышала только названия важнейших епархий: Руан, Авранш, Лизье, Эвре, Байе.
– Сначала Роллон получил земли между реками Брель, Эпт, Авр и Див. Затем ему отошел Бессен – область, где расположены города Байе и Ман, – и, наконец, Котантен. В одних районах поселились преимущественно норвежцы, в других – датчане. И те и другие женились на франкских женщинах или выдали своих дочерей замуж за франков. Сейчас на языке севера почти никто не говорит и только внешность людей выдает их происхождение. Норвежцы высокие и темноволосые, а датчане – белокурые люди среднего роста. Возле Фекана живут в основном датчане.
Матильда вспомнила, что когда-то в монастыре ходила молва о датских священниках, которые, хотя были крещены и возведены в сан, не смогли воспротивиться зову крови и отказаться от увлечения оружием и конкубината. Конечно, некоторые франкские священники также предавались и тому и другому, но у них это было признаком слабости духа, а не языческой крови, текущей по венам. Во всяком случае, так утверждали монахини. Когда датских священников призвали избавиться от одного из этих пороков, они предпочли сложить оружие, но не отказались от женщин.
Матильда хотела спросить Арвида, правдива ли эта история, но сочла неловким говорить с мужчиной о конкубинах – безбожных грешницах.
– В Фекане ведь есть монастыри, не так ли? – поинтересовалась девушка. – И женская обитель, где я смогу найти пристанище?
Арвид пожал плечами:
– Посмотрим. Для начала нужно выйти из леса.
Он опустил ее ноги на землю и помог ей подняться. Вскоре боль вернулась, и, чтобы отвлечься, Матильда начала петь псалмы. Арвид присоединился к пению. Он все еще держал ее за руку.
Лес был союзником Аскульфа и в то же время его врагом. Проходимых путей, ведущих сквозь заросли, было немного, и определить, какой из них выбрали эти двое, не составляло труда, однако шум ветра, вой диких зверей и треск сухих веток то и дело уводили преследователей в сторону. Ил и сырой мох скрывали все следы, а иногда деревья росли так густо, что с лошадьми пройти дальше было невозможно, и не оставалось ничего иного, кроме как идти в обход.
В конце концов Аскульф решил, что им нужно разделиться. В лучшем случае его люди окружат беглецов, в худшем – заблудятся в лесной чаще.
Мужчины, которые остались с ним, не говорили ни слова. Только храп лошадей и стук копыт нарушали тишину. Вдруг с губ предводителя сорвался крик. За несколько часов они не заметили ни одного человеческого следа, но впереди, на поляне, он увидел кострище.
Аскульф спешился, присел на корточки и поворошил золу. Она уже остыла, однако, в отличие от листьев и веток, еще не успела покрыться изморозью.
– Они не могли далеко уйти, – определил он.
Люди Аскульфа по-прежнему сидели верхом, и только один из них, самый младший, подошел к нему. На вид ему было лет шестнадцать-семнадцать. Когда бретонцы еще слыли героями, он был слишком мал, чтобы держать меч. Искусству ведения боя он научился значительно позже, когда, как и остальные, подвергся преследованиям – их хотели выгнать с захваченных земель. Но хотя этот юноша и не застал времен былой славы, на его лице отражался искренний детский задор и наивная вера в то, что пережитые невзгоды обязательно превратят его в сильного воина, любимца богов. Он еще не знал, что боги используют людей, но не очень-то их любят – независимо от того, какие жертвы те им приносят.
– Почему… почему нам так нужно найти эту Матильду? – спросил юноша.
Несмотря на долгие дни, проведенные в дремучем лесу, его душа не зачерствела. Он не только сохранил доверчивость, но и остался таким же любознательным.
На скулах Аскульфа заходили желваки. В самом начале, когда Авуаза впервые заговорила об этой девушке, он тоже задавал себе этот вопрос, но сейчас больше не сомневался в важности своей миссии.
– Ты же знаешь, кто она на самом деле, – проворчал он.
– Да, но…
– Тогда ты должен знать, что от этого зависит ни много ни мало – будущее Бретани.
«И мое собственное будущее», – мысленно добавил Аскульф.
Если он выполнит свою задачу, ему больше не нужно будет носиться по глухим темным лесам, выслеживая юную девушку. Тогда наконец вернется время героических подвигов.
Аскульф поднялся. Чем дольше они скакали по лесу, тем сильнее у него затекало тело. Казалось, что оно покрылось корочкой льда, которая лишала кожу чувствительности, а самого воина – надежды когда-нибудь отогреться. Тем не менее Аскульф не падал духом. Когда они найдут Матильду и покинут этот лес, он сбросит с себя ледяную оболочку.
Посмотрев на сырую землю, Аскульф немного подумал и внимательно огляделся по сторонам. Потом он указал куда-то рукой:
– Взгляните! Там, на ветке, остался кусочек ткани. Они прошли здесь. И скоро мы их догоним.
Говорят, что жизнь – река. Она не стоит на месте, и ее течение каждый день приносит что-то новое.
В юности Авуаза согласилась бы с этим. Но сейчас, когда она старела, ее лицо покрывалось морщинами, тело все больше теряло подвижность, а взгляд уже не пронизывал насквозь, жизнь казалась ей болотом. Люди погрязли в трясине и барахтались, чтобы не пойти ко дну. Они кричали, с каждым словом рискуя наглотаться мутной воды.
Поэтому, когда ей передали вести от Аскульфа, она не вскрикнула.
Итак, Матильде удалось сбежать.
Авуазе показалось, что внутри у нее образовался черный комок, вбирающий в себя ее свежую алую кровь.
– Где Аскульф?! – взревела она. – Почему он боится показаться мне на глаза? – В ее голосе чувствовался такой холод, будто болото ее жизни состояло не из ила и грязи, а изо льда.
– Он пытается догнать ее. Матильда сбежала в лес.
– Одна она там долго не протянет.
– А она и не одна. Наверное, с ней Арвид.
О существовании и происхождении этого мужчины с необычным именем Авуаза узнала совсем недавно. Чем больше она думала об этой новости, тем быстрее отступал ледяной холод, а вместе с ним уходили и ощущение черной смерти, заполнившее ее изнутри, и страх задохнуться в остатках своей надежды.
Она расслабилась:
– Хорошо, очень хорошо. Тогда у нас в руках будут оба.
Ее радости не разделял никто. Деккур, мужчина с выколотыми глазами, который тоже слышал новость и так же яростно на нее отреагировал, в ответ только засопел.
Монах, раб Авуазы, решился открыто высказать сомнение:
– Ты уверена, что твои сведения об этом Арвиде соответствуют действительности?
– Да, конечно! Чем именно он может быть нам полезен, я еще не знаю. Но Аскульф не упустит ни его, ни Матильду.
– Сын норманна и христианки… – пробормотал брат Даниэль.
Он улыбнулся, как обычно. Авуаза никогда не могла с уверенностью сказать, что выражала его улыбка: радость или огорчение. Во всяком случае, его слова прозвучали так, словно такие дети были выродками и скорее животными, нежели людьми, хотя сам он, стоя перед ней с опущенной головой, совершенно не казался воплощением силы, здоровья и человечности.
Авуаза никогда не спрашивала прямо, но догадывалась, что в монастырь Даниэля привела не набожность, а отец, рано осознавший, что его сын никогда не сможет взяться за меч и убивать людей.
Она хорошо помнила тот день, когда этот человек попал в ее руки. Тогда Авуаза была сильной, ее не преследовали, а она не скрывалась. Тогда Доль-де-Бретань принадлежал им.
Даниэль был не просто монахом, а затворником. Он жил в глухих лесах, которые простирались к северу и югу от большой реки, разделяющей Бретань на две части. Почва там была болотистой, дороги утопали в трясине, трава на полянах доходила человеку до пояса. Полей, виноградников, замков, сел и лесничеств вокруг не было. Эти места, будто созданные для отшельников, называли вторым Египтом. О Египте Авуаза знала не много – только то, что там есть большая пустыня, а в пустыне сухо. Тем не менее, когда женщина, направляясь со своими людьми на запад, обнаружила Даниэля, шел дождь.
Монах искренне верил, что они не смогут причинить ему зло. Он возомнил, будто находится под такой же защитой, как Маглорий – великий святой, которого он почитал и к которому теперь обращал свои молитвы. Этот святой основал на острове Сарк монастырь, а когда язычники совершили на него нападение, легко поднял исполинский камень и с силой бросил его в их сторону. После смерти Маглория язычники хотели разграбить реликвии, но его гроб, инкрустированный драгоценными камнями, оказался таким тяжелым, что его не смогли поднять семь человек. Когда усталость взяла верх над жадностью и язычники наконец сдались, их рассудок помутился настолько, что они лишили друг друга жизни.
К этому чуду святого Маглория брат Даниэль и взывал перед лицом своих врагов, но тщетно. Никто – ни святой Маглорий, ни сам Господь Бог – не заступился за него, когда люди Авуазы подвергли его пыткам. Они делали это просто ради забавы, и Авуаза с отвращением наблюдала за происходящим. Она не понимала, зачем заставлять кого-либо кричать от боли нечеловеческим голосом. Желания причинять страдания другим людям, чтобы забыть о собственных ранах, боли и промокшей одежде, она не испытывала никогда. Сначала Авуаза не препятствовала развлечению своих людей, но потом вмешалась и приказала оставить монаха в живых. Вероятно, годы одиночества и перенесенные муки свели его с ума, но ведь он умел читать, писать, знал много языков, а потому мог оказаться полезным.
С тех пор монах, ставший рабом, больше не верил в силу святого Маглория. Возможно, он потерял даже веру в Бога. Набожные люди так не улыбаются…
Погруженная в воспоминания, Авуаза не замечала, что гонец Аскульфа вопросительно смотрит на нее.
– Если я встречу Аскульфа, что мне ему передать? Может, я…
Чайки кричали все громче, и его слова потонули в шуме. Надежды Авуазы на то, что она быстро достигнет своей цели, рухнули, а скалы остались прежними. Казалось, они снова насмехаются над ней. Они были не только величественнее и прочнее любого дома, построенного руками человека, – они смеялись над бесконечной суетой жизни, над вечным круговоротом отчаянья и радости, надежд и разочарований, уныния и терпения.
– Арвид долго жил в Фекане, – сказала Авуаза. – Скорее всего, он захочет отвести ее туда, но они ни в коем случае не должны добраться до Фекана. Аскульф знает, что делать.
Глава 2
В последующие дни тело Матильды привыкло к боли, однако желание выжить опустошило ее душу, избавив от надежд и печалей, страха и скорби. Исчезла даже тоска по самому близкому ей человеку – Мауре. Но даже если ничто в жизни Матильды не предвещало того, что однажды ей, беззащитной, придется блуждать по лесу в сопровождении мужчины, кое-чему жизнь в монастыре ее все же научила: ради высшего блага следует обуздывать свои желания, а также усмирять и порабощать свое тело, соблюдая пост, лежа на твердом полу и проводя ночи за молитвой во славу Божию и ради спасения своей души. Матильда гордилась тем, что была еще жива, дышала, могла ходить и уже не плакала от боли, голода и мыслей об убитых сестрах.
Кроме того, в монастыре она узнала, что Бог вознаграждает человека за добрые дела, пусть даже на небесах. Хотя желание выжить едва ли можно было назвать заслугой, вознаграждение свое она уже получила, причем еще на земле, холодной и мрачной.
Матильда и Арвид провели в пути почти неделю, когда посреди леса наткнулись на хижину лесника – маленькую, кривую, с прогнившей дерновой крышей и обветшалым забором. Несмотря ни на что это был дом, и он доказывал, что, кроме них, на свете еще остались люди.
– Слава Богу! – вырвалось у Матильды.
Арвид тоже заметно воспрянул духом.
Они в тот же миг забыли об осторожности. Арвид и Матильда не затаились, не стали наблюдать за тем, кто здесь живет, а помчались к дому и постучали в дверь, так отчаянно моля о помощи, будто их преследовал страшный зверь.
Мужчина, появившийся в дверном проеме, был высоким, крепким и таким же неухоженным, как и его дом: лохматая борода ниспадала на грудь, на лице засохла грязь, во рту осталось только два зуба. Он глядел на Матильду и Арвида, хватая губами воздух, но не приглашал их войти. Правда, он и не запрещал этого. Мужчина немного посторонился, пропуская незнакомцев в дом.
В очаге не горел приветливый огонь, в доме было почти так же холодно, как и на улице, но, когда Арвид и Матильда попросили чего-нибудь поесть, мужчина поставил на стол миску с тягучей массой, которую, постаравшись, можно было принять за густой свекольный суп. Он тоже был холодным, а на вкус напоминал ил, однако беглецы жадно набросились на еду.
Опустошив миску, Арвид обратился к леснику:
– Не мог бы ты объяснить нам дорогу до Фекана?
Мужчина по-прежнему молчал, но указал рукой направление.
– Спасибо тебе, – поблагодарила Матильда.
Они переночевали в хижине. Лесник и не думал разводить в очаге спасительный огонь, поэтому, чтобы не замерзнуть, Матильда и Арвид спали, прижимаясь друг к другу, как и в лесу под деревьями.
На следующий день мужчина снова поставил на стол миску со свекольным супом и протянул Матильде грязную тунику, а Арвиду – накидку из кротовых шкурок, которую тот набросил на плечи. Хотя туника была слишком велика и пропахла по́том, девушка торопливо надела ее поверх рясы.
Когда Матильда и Арвид продолжили путь, их шаги стали легче и быстрее. Чувство сытости, ночь, проведенная под крышей, и осознание того, что Всевышний их не оставил – иначе зачем было подавать этот знак? – придавали новых сил. Девушка то и дело твердила: «Все будет хорошо». И теперь это были не пустые слова – теперь она в это верила.
– Как ты думаешь, до Фекана еще далеко? – спросила Матильда, когда слабые лучи полуденного солнца пробились сквозь редеющие кроны деревьев.
Арвид пожал плечами.
– От Жюмьежа до Фекана два дня пути, а от Жюмьежа до монастыря Святого Амвросия я добирался несколько дней. Но это еще ничего не значит, ведь я уходил от погони и был ранен.
Арвид нахмурился. Его шаги потеряли легкость: казалось, его что-то тревожит. Он боялся заблудиться по дороге в Фекан? Опасался услышать позади погоню? Или же его пугала неизвестность, которая ожидала их в Фекане?
Матильда не хотела касаться ни одного из этих страхов, чтобы не заразиться ими самой, поэтому держалась от своего спутника дальше, чем обычно. Даже вечером, устраиваясь на ночлег, она не расположилась рядом с Арвидом, а отошла в сторону. Мох здесь был мягкий, но холод, идущий от земли, пронизывал тело, и девушка дрожала как осиновый лист. Арвид, однако, не позвал ее к себе, а молча улегся и вскоре уснул, оставив Матильду наедине с ее мыслями. Как она будет жить в Фекане?
Слышалось уханье совы, в кустах рыскала лиса, на ветру шелестели листья. Матильда подтянула колени к подбородку и наконец перестала дрожать: усталость взяла свое.
Девушке снился цветочный луг на берегу моря. В воздухе чувствовался соленый запах, было тепло, а там, на краю скалы, стоял мужчина, высокий и светловолосый. Матильда бросилась к нему, и он поймал ее, прижал к груди, поднял на руки. И она знала, она точно знала: пока она в его сильных руках, весь этот луг принадлежит ей, ее жизни ничто не угрожает, а будущее сулит исполнение желаний. Но если мужчина выпустит ее из объятий и уйдет, она станет беззащитной, и тогда с ней случится что-то страшное.
Матильда резко открыла глаза и застыла. Как и во сне, перед ней стояла какая-то фигура, но казалось, будто она, облаченная в черные одежды, принадлежит не человеку, а демону, который питается людскими грехами. Тем не менее взметнувшаяся рука была из плоти и крови, а нож, который она сжимала, блестел серебром в лунном свете, и этот человек-демон собирался вонзить его в тело Матильды.
На короткое мгновение мир, казалось, замер. Нож завис в воздухе, и Матильда смотрела на него, не двигаясь. Но потом все произошло молниеносно: нож устремился вниз, и девушка откатилась в сторону.
Она ударилась лицом о корень дерева, но эта адская боль свидетельствовала о том, что она была еще жива и не хотела умирать. Фигура, закутанная в черный балахон, замахнулась снова, и Матильда догадалась: на этот раз удар окажется более быстрым и сильным, ведь убийство переставало быть легкой задачей, если жертва уже не спала.
Когда проплывающее облако внезапно закрыло серп луны, Матильда задержала дыхание. Во мраке, поглотившем серебряный блеск ножа, ее паника и страх смерти мгновенно рассеялись, оставив в душе лишь сожаление. Если она умрет во тьме, значит, ей всегда будет темно? Ее ждет не рай, сияющий престол Господень и ангелы, а холод и мрак?
Матильда почувствовала горячее дыхание убийцы. Он так крепко держал ее, что вырваться было невозможно. Когда нож коснулся ее тела, девушка, повинуясь инстинкту, стала отчаянно отбиваться ногами. Она попала во что-то мягкое – как странно, что тот, кто покушается на ее жизнь, создан не из камня, а из плоти и крови, как и она сама. Матильда услышала крик боли и была не уверена, слетел он с ее губ или с губ убийцы.
Когда луна снова выглянула из-за тучи, девушка увидела, что незнакомец все еще сжимал нож, но вонзить его в ее тело не мог: его руку удерживал Арвид.
– Беги! – крикнул Арвид. – Беги!
Матильда поднялась, но споткнулась, не успев сделать и шагу. Падая, она заметила, что убийца вырвался из рук Арвида и теперь замахивался на него ножом. Девушка вскочила на ноги, но убежать уже не могла. Словно хищная кошка, она ловко прыгнула на темную фигуру, и хотя враг легко сбросил с себя хрупкую маленькую девушку, от неожиданности он выронил нож. Пока незнакомец нагибался за ним, Арвид схватил Матильду за руку и потащил прочь.
– Беги! – снова крикнул он.
Не видя ни земли, ни деревьев, Матильда побежала, слепо следуя инстинкту, выработавшемуся за много дней в лесу. Ее сердце громко стучало, грудь сжималась от боли, а с лица, расцарапанного жесткой корой дерева, стекала теплая кровь. Матильда не хотела умереть в холоде и тьме, и она не умрет.
На мгновение она почувствовала такую уверенность в этом, что резко остановилась и прислушалась. Ее спутник тоже замедлил шаг. Кроме его дыхания, не было слышно ничего. В бледном лунном свете Матильда едва могла различить лицо Арвида, но ощущала тепло его тела. Она обвила руками его шею, прижалась к нему и наконец отбросила сомнения: она жива, она все еще жива.
Он тоже обнял девушку, провел рукой по ее волосам и внезапно замер. Арвид и Матильда одновременно оглянулись.
Темные деревья… шевелились. Но нет, это были не деревья, а люди, скрывавшиеся за ними. Воины, которые напали на монастырь и выслали вперед убийцу, окружили их со всех сторон. Матильда и Арвид побежали, тяжело дыша, спотыкаясь и хватаясь за что-то. Листья хлестали их по лицу, ветки цеплялись за волосы, звук шагов раздавался все ближе.
Еще никогда Матильда не мыслила так ясно, как во время этого побега, и то же время не была такой отрешенной, как будто одна ее половина не переживала этот кошмар, а равнодушно наблюдала за происходящим, витая над кронами деревьев. Эта половина уже оставила надежду, ведь враги превосходили их числом, были вооружены, и ни Матильда, ни Арвид ничего не могли им противопоставить.
Но у нее была и другая половина, которая продолжала бежать, понимая, что мнимый недостаток может оказаться преимуществом. То, что врагов было много, позволяло надеяться на замешательство в их рядах, ведь они не будут знать, кого выдает треск и шорох: беглецов или их преследователей. А тьму и заросли невозможно сразить даже самым острым оружием.
Когда беглецы наконец остановились и оглянулись, позади никого не было.
– Дерево! – прошипел Арвид. – Лезь на дерево!
Если бы Матильда подумала, то вспомнила бы, что не умеет лазить по деревьям, но думать было некогда. Она ухватилась за ветку, подтянулась, забралась на следующую и, не успев осознать, что делает и откуда у нее такие способности, оказалась уже достаточно высоко. Руки Матильды были расцарапаны жесткой корой и кровоточили, но она и Арвид находились в безопасности: листва скрывала их от глаз преследователей.
Было бы разумнее затаиться, но Матильда не могла молчать:
– Им нужен не ты, а я.
Растерянность Арвида тоже взяла верх над осторожностью.
– Я не понимаю….
– Этот мужчина… Он собирался убить именно меня!
– Возможно, он просто ошибся и на самом деле хотел вонзить нож в мое тело. Матильда, по-другому просто быть не может! Эти люди гонятся за мной.
Арвид говорил с таким пылом, будто защищал свою добычу. Быть жертвой плохо, но еще хуже не знать, почему ты ею являешься.
– А вдруг ты ошибаешься? Что, если… это связано с тем, кто я?
Девушка подразумевала другой вопрос, более страшный: какое у нее может быть происхождение, если из-за него она должна умереть?
– А ты… разве ты совсем ничего не знаешь о своих родителях?
– Нет! – воскликнула Матильда с яростью и отчаянием. – Меня принесли в монастырь маленьким ребенком – так мне всегда рассказывали, сама я этого не помню. А до этого… до этого все как в тумане.
Она лгала. До этого не все было как в тумане. До этого были цветочный луг, скалы и синее море. И мужчина со светлыми волосами, рядом с которым Матильда чувствовала себя защищенной. Однако Арвиду она не хотела об этом рассказывать. Да и как цветочный луг мог объяснить, почему ночью к ней приходила холодная смерть?
Девушка понизила голос:
– Ты слышал, на каком языке они говорили?
Арвид пожал плечами.
– Опять на бретонском… – ответила Матильда сама себе.
На языке, который она понимала. На языке, который позволял предположить, что ее происхождение как-то связано с Бретанью – областью, которую, пользуясь отсутствием сильного правителя, захватили норманны. Может быть, именно из-за этого Матильде пришлось покинуть цветочный луг?
Они замолчали, потому что все догадки не имели смысла, но прежде всего потому, что в их разговор вливались чужие голоса. Они были еще далеко, но постепенно приближались. Голоса принадлежали мужчинам, чьи шаги, несмотря на ковер изо мха, звучали глухо и тяжело.
– Они не могли уйти далеко, – услышала Матильда слова одного из мужчин.
Он стоял прямо под деревом, на котором прятались они с Арвидом.
Девушка больше не удивлялась тому, что понимает чужой язык, и даже не решалась взглянуть на Арвида, чтобы не увидеть на его лице такой же страх. Ее охватила паника. Матильда боялась, что один из мужчин взглянет вверх и обнаружит ее, боялась, что соскользнет и упадет с дерева. К счастью, мужчины смотрели друг на друга. Девушка задержала дыхание и намертво вцепилась в ветки.
– Черт возьми, мы были так близко! Им едва удалось улизнуть!
– Почему мы остановились? Нужно искать дальше!
– Но как? Здесь нет следов. Земля покрыта мхом.
– Значит, нам нужно разделиться и искать во всех направлениях!
– Ты с ума сошел? Мы же заблудимся!
Голоса заглушило ржание лошади: один из мужчин привел ее с собой и призывал остальных воинов идти дальше.
Их шаги отдалились, голоса стихли. Матильда по-прежнему едва дышала от страха, а паника Арвида уже сменилась радостью.
– Мы ушли от них! – торжествующе прошептал он.
Конечно, их преследователи в любой момент могли вернуться, но секунды проходили одна за другой, а человеческих голосов слышно не было. Матильда сделала глубокий вдох, расслабила руки, крепко вцепившиеся в ствол дерева, и снова посмотрела на Арвида.
«Я поняла каждое слово, – хотелось сказать ей, – я действительно знаю их язык». Но когда Арвид потянулся к ней и взял ее за руку, она смогла произнести только:
– Слава Богу… Слава Богу, они нас не нашли!
Беглецы просидели на дереве, пока ночное небо не начало сереть, а их руки не затекли и не закоченели так, что стали похожи на ветки. На секунду Матильде показалось, будто она вросла в дерево и никогда не сможет вырваться из этого леса, будто ее кожа была не гладкой, а шершавой, как кора, и будто ее ноги превратились в корни. Оглядев себя, она убедилась, что осталась прежней – дрожащей хрупкой девушкой.
– Спускайся, – пробормотал Арвид. – Нам… нам нужно идти дальше.
– Но здесь, наверху, мы в безопасности!
– Здесь, наверху, мы умрем от голода и холода.
Все внутри Матильды противилось решению Арвида, но, когда он начал спускаться на землю, ей не оставалось ничего иного, кроме как последовать его примеру. Ее боязнь одиночества была сильнее, чем страх перед преследователями. То, что ночью в панике ей удалось так легко, сейчас вызывало большие трудности. Девушка мгновенно влезла на дерево, но теперь медленно спускалась с ветки на ветку, уверенная в том, что если сделает еще один шаг, то упадет и свернет себе шею.
«Может быть, – подумала она, – так даже будет лучше. Тогда мне не придется умирать от удара ножом».
В конце концов девушка ступила на мягкую лесную почву. Ее ладони и ступни горели, но в душе вдруг воцарился холод, и мысль об одиночестве больше не казалась ей такой невыносимой. Матильда не понимала, почему с ней все это произошло, но точно знала: с Арвидом этого не должно было случиться.
– Если они действительно преследуют меня, ты окажешься в безопасности, как только наши пути разойдутся. – Девушка посмотрела Арвиду в глаза. Его лицо было грязным и измученным. – Если ты оставишь меня здесь, ты сможешь сохранить себе жизнь.
Она произнесла эти слова совершенно спокойно и не была уверена, предлагает это ради спасения его жизни или потому, что слишком устала, чтобы бежать дальше. Она понимала, почему он отказался: из-за чувства ответственности или из-за страха перед одиночеством. Как бы там ни было, Арвид решительно замотал головой:
– Я не оставлю тебя одну!
И снова Матильда была не уверена – на этот раз в том, почему эти слова наполнили ее душу таким счастьем, что жгучая боль в ладонях ненадолго утихла, а в груди разлилось приятное тепло. Но девушке и не хотелось искать причину, достаточно было просто это чувствовать.
Они шли медленнее, чем ночью, но тем не менее вскоре выбились из сил. После долгих часов, проведенных на дереве, им просто необходимо было отдохнуть, несмотря на то что их могли обнаружить.
– Спать будем по очереди, – решил Арвид.
Как бы Матильда ни радовалась тому, что стояла на твердой земле, ложиться на нее она боялась: слишком страшным было воспоминание о ночном убийце, который застал ее в таком беззащитном состоянии. Девушка присела, прислонившись спиной к стволу дерева.
– Так ты не уснешь, – сказал Арвид.
Он взял ее за плечи и уложил на землю, покрытую мхом. Матильде все еще было не по себе, но она не сопротивлялась, и его прикосновения развеяли ее страх перед темнотой. Закрыв глаза, она почувствовала, как расслабляется ее тело. Девушка ощущала дыхание Арвида, слышала, как бьется его сердце и как ее собственное сердце вдруг бешено застучало в груди, как будто она не лежала, а стремительно мчалась куда-то. И Матильда действительно мчалась, но теперь она не убегала от преследователей, а неслась по какой-то пещере, которая сначала была уютной, с низкими сводами. Но постепенно они поднимались все выше. Звук шагов эхом отражался от стен. Матильда бежала не от чего-то, а к чему-то – к узкой полоске света в конце пещеры, – света, который напоминал холодное сияние луны, но становился все ярче и теплее. И она слышала шум моря.
«Как я могу бежать, если я не двигаюсь? Почему в лесу шумит море? Почему среди морских скал растут цветы?»
Теперь свет в конце пещеры падал на эти цветы, но вместо того, чтобы ласкать их, подобно теплым солнечным лучам, он, казалось, обжигал их лепестки. Они тут же опали, а стебельки и листья посерели, будто их посыпали пеплом. Матильда оглядывалась по сторонам. Она больше не слышала, как бьется сердце Арвида, и нигде не могла найти мужчину со светлыми волосами.
Матильда вдруг поняла, что это значит, – она это поняла и услышала.
– Он умер, – повторял чей-то голос, – он умер.
Речь шла о мужчине, который держал ее на руках. О мужчине, который давал ей силу и защиту. О мужчине, который ее любил. Он умер, и она осталась одна. Но нет, не совсем одна. С ней был еще этот женский голос, преисполненный печали и безнадежности.
– Он умер, – говорила женщина снова и снова, а потом добавила: – Нужно увезти ее отсюда.
Матильда оглянулась, но не увидела ни глаз, в которые могла бы посмотреть, ни рук, которые бы ее обняли. Она только слышала голоса.
– Но ты не можешь этого сделать, – сказал кто-то другой. – Как ты будешь жить без нее?
Помолчав, женщина ответила, и теперь в ее голосе не было печали и безнадежности – в нем слышался только холод.
– У меня нет выбора. Здесь ей грозит опасность… от нее.
Теперь Матильда ощущала прикосновения рук, которые сначала несмело гладили ее по голове, а потом обхватили и подняли вверх. Они были такие же холодные, как и голос, совсем не похожие на руки светловолосого мужчины, рядом с которым она чувствовала себя так спокойно. Руки дрожали.
– Нет, – хотела возразить Матильда. – Нет! Не увози меня. Я хочу остаться.
Однако она не могла вымолвить ни слова и к тому же была слишком маленькой. Все, что она могла, – это пронзительно кричать от страха. Матильда кричала, и цветочный луг, море, женщины, пещера удалялись, но руки не отпускали ее.
Когда девушка открыла глаза, ее держали уже не холодные и дрожащие, а сильные и теплые руки – руки Арвида. Он низко наклонился над ней:
– Матильда! Матильда, что с тобой?
Она перестала кричать, но на глазах у нее выступили слезы.
Матильда плакала. Арвид еще никогда не видел, чтобы человек так плакал. Ее слезы текли бурной рекой, уносящей силу, с которой она убегала от преследователей. Девушка не просто дрожала, она билась в судорогах, словно ее терзала боль. Ее зубы не просто стучали от холода, это было похоже на скрежет зубов рыдающих грешников, узнавших, что их ждут вечные муки. Что ж, наверное, она тоже обречена. И ее ад в том, что она не знает, где родилась. По крайней мере, именно эти слова Матильда, запинаясь, повторяла снова и снова.
– Кто я, кто же я такая? Цветочный луг… вдруг стал таким серым. Там я была в безопасности… Только там. Мужчина со светлыми волосами… Я не знаю, кто он. Но мне известно, что он умер и после этого увяли цветы…
Арвид не до конца понимал, о чем она говорит, но знал, какой мучительной может быть мысль о собственном происхождении, даже если сам он страдал не от неизвестности, а напротив, оттого, что был слишком хорошо осведомлен. Что хуже? Блуждать в потемках, как она? Или ослепнуть от слишком яркого света?
В любом случае Арвид сочувствовал ее горю, и эти слезы их сблизили, чего никогда не сделала бы улыбка. Ласковая улыбка не смогла бы разрушить стену, которая разделила двух людей, посвятивших жизнь Богу. Арвиду казалось, будто он ощущает соленый вкус ее слез, а то, что выплескивалось с этими слезами наружу, он чувствовал с такой же силой, как и Матильда, – не только неприятие собственного происхождения, но и желание жить, страх смерти и подозрение, что смерть была не кротким темным ангелом, каким она представлялась ему в монастыре, а жестоким убийцей, который бросается с ножом на невинных девушек. От этой смерти могли спасти не молитва и усмирение плоти, а тепло, которое наполняло Арвида, когда он смотрел на Матильду.
– Тише, – успокаивал он ее, – тише.
Его попытки выглядели жалкими: он не умел утешать женщин. Но Арвид знал, как тяжело будет в одиночестве преодолевать страх перед будущим, блуждать по лесу и чувствовать в себе темную силу – кровь отца, которая обжигала вены и вызывала желание не просто убежать от ночного убийцы, но и лишить его жизни. Желание не просто вонзить меч в его тело, а и наносить удары снова и снова. Но меча у Арвида не было, и обращаться с ним он не умел. У него не было даже плаща, чтобы укутать и согреть Матильду, – он мог только прижимать ее к своему телу. Он мог дать не много, поэтому не жалел ничего.
Арвид гладил дрожащую девушку по спине и терся щекой о ее щеку. У него выросла щетина, а кожа Матильды была шершавой от недавно заживших ран. Возможно, он еще больше царапал ей лицо. Но Арвид не остановился и прижался губами к ее губам. Уста Матильды были не шершавыми, а мягкими и теплыми. Дыхание юноши и девушки слилось воедино, в груди билось одно сердце на двоих, тела переплелись и расслабились. Прошлое уже не имело значения, важно было лишь то, что на миг им удалось скрыться от одиночества и что рядом с Матильдой его жажда разрушения уступала место желанию сострадать и дарить тепло.
Целуя приоткрытые губы девушки, Арвид коснулся языком ее языка. Он никогда не делал ничего подобного, но это ощущение не показалось ему странным – наоборот, он как будто всю жизнь жаждал только этого, а не сидел в скромной серой келье и пел псалмы. На мгновение он счел смешным прославление Бога, которого нельзя коснуться и обнять, поцеловать и согреться его теплом, – смешным и бессмысленным по сравнению с желанием исследовать тело Матильды руками, затем губами, сначала не спеша, а потом торопливо. Целуя девушку, Арвид поглаживал ее по волосам, затылку, спине. Наконец его руки дотронулись до ее груди, обхватили ее и стали осыпать ласками. Матильда застонала, но не от боли, как он сначала испуганно подумал, а от удовольствия. Согнув ногу, она прижала Арвида к своему телу еще крепче и чуть шире открыла рот, чтобы исследовать языком каждый уголок его рта.
Желание сбросить с себя одежду так же решительно, как и воспоминание о своем призвании, оказалось недолговечным. К Арвиду вернулось понимание того, почему он хотел восхвалять Бога, который не может никого поцеловать: Бог не погряз в пороках, а возвышается над миром; Он сильнее, чем люди, плетущие интриги; Он всегда торжествует над злом. Мысль о служении этому Богу по-прежнему привлекала Арвида – больше, чем мысль о поцелуе с Матильдой.
Арвид оборвал поцелуй и в ужасе отпрянул. Когда он выпустил девушку из своих объятий, она почувствовала сожаление, но еще более мучительным был холод. Прижимаясь к Арвиду, Матильда ощущала приятное тепло, а теперь мерзла, как никогда в жизни. Она не просто покрылась гусиной кожей – казалось, что ее сердце, совсем недавно так бешено стучавшее в груди, обледенело, а после того как она увидела ужас в глазах Арвида, оно еще быстрее стало превращаться в льдинку. Девушка ничего не понимала. Она думала: «Мы целовались; мы были близки друг другу, как только могут быть близки два человека; мы вместе, потому что в этом лесу нет никого, кроме нас и наших врагов… И что же?»
Но потом Матильда тоже это почувствовала. Неведомая сила выбила ее жизнь из привычной колеи, а если к тому же ее воля была слабой, она никогда не сможет вернуться к такой желанной размеренности дней.
– Святые небеса, я этого не хотела!
Девушка была не уверена в том, произнесла она эти слова вслух или только мысленно, но она тоже отпрянула от Арвида.
Юноша кивнул, отошел еще дальше и стал беспокойно метаться из стороны в сторону, словно постоянное движение было единственным дозволенным способом согреться.
– Это не должно повториться!
– Конечно же, не должно!
– Мы брат и сестра во Христе, и только.
– Несомненно. Мы ведем целомудренную жизнь, и нам нельзя поддаваться искушению дьявола.
– То, что произошло, было минутной слабостью. Такое случалось даже со святыми, но в конечном счете имеет значение лишь то, что они сумели выстоять перед демонами.
– И не введи нас во искушение…
Еще некоторое время они горячо уверяли друг друга в том, каким ужасным был их поступок, и в том, что это никогда не повторится.
Друг на друга они не смотрели. В конце концов оба замолчали и устроились на ночлег под деревьями. Никто не уснул.
В последующие ночи Арвид и Матильда избегали друг друга. Только днем им иногда приходилось держаться за руки: лес был уже не таким густым, и на широких полянах попадались болота, погрязнув в которых человек был обречен на гибель. Арвид показал Матильде способ справиться с этой опасностью – бросать впереди себя хворост и смотреть, затянет его или нет. Там, где это было возможно, беглецы переходили топь по стволам деревьев, поваленных бурей.
Матильда слушалась указаний Арвида, при необходимости держалась за него, но так же старательно избегала смотреть ему в глаза, как и он пытался не встречаться с ней взглядом.
Наконец илистая почва стала плотнее, а лес закончился. За ним простиралась холмистая местность с бурыми лугами и полями, с которых уже собрали урожай. «Значит, это и есть Нормандия, – подумала Матильда, – край, в котором я прожила почти всю свою жизнь и о котором ничего не знаю». Бесцветная, как серое небо, эта земля была совершенно не похожа на место, которое, как гласит легенда, однажды приснилось Роллону. В этом сне он увидел пчелиный рой, опустившийся на усеянный цветами луг, а после пробуждения приказал воинам поднять паруса на своих кораблях-драконах и отправиться на север франкского королевства.
Наверное, яркие цветы встречаются только во сне – во сне Роллона и в ее собственном.
В те ночи, которые Матильда провела в ямах на голой земле под открытым небом, видения ее не посещали. Просыпаясь утром, девушка чувствовала, что ее тело оцепенело от холода: она мерзла сильнее, чем в лесу, где деревья защищали ее от ветра. Здесь же ветер был более сильным, воздух – соленым, а однажды на горизонте показалась узкая полоска моря.
Арвид нарушил молчание, и его слова прозвучали так сухо, как будто Матильда никогда не плакала у него на груди, а он не утешал ее, не целовал, не сжимал в объятиях.
– Норманны поселились преимущественно у моря и на берегах Сены, а не внутри страны, – рассказывал он. – Они построили дома и принялись выкорчевывать лес.
«Почему тогда норманнов здесь нет? – спрашивала себя Матильда. – Почему мы по-прежнему одни на целом свете?» Вслух она ничего не произнесла.
Море было уже совсем близко, все громче становился рокот волн, соленый запах все сильнее ощущался в воздухе, а небесную гладь рассекали кричащие чайки. Матильда никогда не видела моря, только во сне о цветочном луге. Там оно искрилось и сверкало, а наяву было грязно-зеленым и мрачным.
Теперь и Матильда прервала молчание.
– Далеко еще до Фекана? – спрашивала она снова и снова.
Арвид всегда отвечал одинаково:
– Уже недалеко.
Уже недалеко находился город, в котором она не знала никого, кроме Арвида, но и он вел себя как чужой человек. Глядя на то, как он с каменным выражением лица шагает вдоль побережья по ковру из водорослей, камня и песка, девушка постепенно забывала о том, что почувствовала, когда его губы прикоснулись к ней.
Наконец небо немного посинело, а по волнам запрыгали белые барашки пены. Матильда подняла голову, почувствовала на лице озорные солнечные лучи и закрыла глаза, до остатка впитывая в себя тепло. Вскоре солнце снова спряталось за облаком, но столбы дыма по-прежнему виднелись вдалеке.
– Это Фекан, – сказал Арвид, и, казалось, он был не рад тому, что они достигли цели, а скорее пришел в отчаяние.
Со временем этот любознательный юноша стал докучать Аскульфу. Если раньше он подумывал о том, чтобы спросить, как его зовут, то теперь хотел знать о нем как можно меньше. Достаточно было того, что этот юноша то и дело бередил его рану.
– Их только двое, оружия у них нет. Как им удалось сбежать от нас? Они ведь были почти у нас в руках.
Аскульф тоже спрашивал себя об этом, но, метнув в юношу гневный взгляд, прошипел:
– Здесь, в лесу, сила и оружие нам не помогут. От предательского треска, теней высоких деревьев и мха, заглушающего все звуки, невозможно избавиться ударом меча.
С каким удовольствием он бы это сделал! В ярости он бы собственноручно срубил все деревья и растоптал кусты, превратив лес в голую пустыню.
– Думаю, они давно вышли из леса, – заявил юноша, который признавал неудачи с таким же пылом, с каким стремился доказать свою храбрость. – Скоро они доберутся до Фекана, а туда мы пойти не сможем, нас заметят.
«Замолчи», – подумал Аскульф. Он невольно потянулся к рукоятке меча и обхватил навершие. Это его успокоило, но потом Аскульф вдруг осознал, что слишком долго не убивал, слишком долго не предавался слепой ярости, от которой в голове появлялась такая приятная пустота. Сейчас его голова раскалывалась от удручающих мыслей.
– Я и сам знаю, – проворчал он.
Юноша оценивающе посмотрел на него и скривил губы:
– Авуазе это не понравилось бы.
Аскульф чувствовал на себе взгляды своих людей и подозревал, что им тоже не нравится предводитель, которого смогли перехитрить женщина и монах. Такой позор нельзя оставить без внимания. «Почему, – злился Аскульф, – Матильда так быстро бегает? Разве она не скована ледяной оболочкой, как и я сам? Каким образом ей удалось сохранить подвижность?»
Он чувствовал себя неповоротливым и старым, намного старше, чем этот любопытный юноша, который не боялся открыто смотреть ему в глаза.
Аскульф сжал навершие меча еще крепче. Для убийства он не был ни старым, ни неповоротливым. Аскульф обнажил меч и сначала рассек им воздух, а потом отрубил юноше голову. Это произошло так быстро, что тот даже не успел закричать. Единственным звуком, последовавшим за его смертью, был глухой стук упавшей головы и рухнувшего наземь тела. Юноша не ожидал удара, он его даже не заметил: в его широко распахнутых неподвижных глазах не отражалось ни ужаса, ни страха смерти. В них застыло лишь чрезмерное усердие.
Аскульф посмотрел вниз. Теперь юноша не был младше его, он был просто мертв. Теперь он никогда не узнает его имени.
Аскульф обвел взглядом своих людей, и они быстро опустили глаза.
– Может, кто-нибудь еще хочет что-то сказать?
Кровь стекала с его меча, когда он перешагивал через обезглавленное тело.
– Хорошо, – похвалил Аскульф молчащих воинов. – Тогда возвращаемся в Бретань.
Арвид был уже не тем человеком, который когда-то ушел отсюда в Жюмьеж, чтобы стать монахом. В Фекане он вырос как сын норманнки Руны и франка Таурина, а обратно вернулся со знанием того, что в действительности все было наоборот: его мать была франкской женщиной, даже принцессой, а отец, Тур, – одним из северных варваров, которые несут разрушительный огонь и смерть.
Арвид чувствовал, что стал чужим самому себе, однако этот город все еще казался ему родным, хоть и не был его настоящей родиной. Так или иначе, в этом людном месте юноша избавился от необходимости оставаться с Матильдой наедине, а окружающая их суета заглушала его чувства, взбудораженные сначала поцелуем, а затем длительным молчанием.
Он не знал, какой сегодня день, – наверное, среда или пятница, потому что люди тянулись в сторону рынка.
Матильда и Арвид вошли в этот город на берегу моря через большие ворота, которые днем были открыты, а ночью запирались и замыкали вал, по норманнскому обычаю возведенный вокруг города. Молодой послушник едва успел бросить взгляд на гавань, море и корабли, как они с Матильдой оказались в толпе людей: бродяг в дурно пахнущих лохмотьях и богатых торговцев в лисьих шубах с красными бортами и со сверкающими тяжелыми браслетами на запястьях.
Арвид и Матильда протиснулись мимо деревянных ларьков и прилавков, возле которых громко предлагали свой товар торговцы жемчугом и ремесленники: кузнецы и оружейники, литейщики и гребеночники, гранильщики янтаря, сапожники и судовые плотники. Торговцы расхваливали свои топоры и напильники, ткани и вино из западных стран, а также сундуки из дуба и точильные камни.
От громких звуков у Арвида раскалывалась голова. Неужели мир действительно такой шумный? Неудивительно, что он всю свою жизнь стремился к монастырской тишине! Арвид заметил в глазах Матильды растерянность, почти страх, и, несмотря на то что он решил не прикасаться к ней, ему захотелось успокоить девушку, обняв ее за плечи. Но потом к ее смятению добавилось любопытство. Она остановилась у прилавка, где продавались товары, привлекавшие прежде всего женщин: роговые гребешки и жемчужные нити, янтарные застежки и блестящие пряжки. Хотя Матильда – Арвид видел это по ее плотно сжатым губам – упорно пыталась относиться к этим вещам с глубоким презрением, ведь женщины ее сословия должны быть неподвластны пороку тщеславия, она не могла подавить в себе восторг. Юноша догадывался, что Матильда борется с желанием протянуть руку к украшениям, подобно тому как он призвал на помощь всю свою силу воли, чтобы не притронуться к ней. Оба устояли перед искушением, но когда Арвид посмотрел в ее темные глаза, у него мелькнула предательская мысль: «Как Матильда будет выглядеть в этих украшениях? И как на ее светлой коже будут смотреться тонкие шерстяные ткани из Фризии и бархат из далекой Византии?»
Арвид поспешно отвернулся и сделал вид, будто его заинтересовали точильные камни для ножей, большие сосновые бочки и франкское стекло на другом прилавке. Он прошел дальше и вдруг уловил заманчивый запах: на рынке предлагали не только вещи, но также еду и напитки. При виде свиных ножек и куриных окорочков, которые жарились на костре, у юноши свело желудок. Полноватый мужчина отбивал свежее мясо. Арвид был настолько голоден, что готов был выхватить это мясо у него из рук и проглотить сырым.
– Будьте так добры, – взмолился Арвид, – не откажите в милости! Я много дней провел в пути.
– Пошел вон, паршивец!
Арвид посмотрел на себя и только сейчас заметил, что он весь испачкан грязью. Его рука невольно потянулась к затылку. Волосы на тонзуре хоть и были короткими, но запутались так, что ее почти не было видно.
– Я послушник из Жюмьежского монастыря!
– Говорить так может каждый.
– Но…
Арвид замолчал. Матильда смогла оторваться от прилавка с украшениями и подошла к нему.
– К женщинам ты так же немилосерден? – спросила она.
Лицо мужчины не смягчилось, но другой торговец оказался более добросердечным. Он подозвал их к своему ларьку и протянул девушке рог – один из тех, которые, наполненные вином и сидром, стояли на прилавке.
Сделав несколько глотков, Матильда передала рог Арвиду. Сидра он не пил целую вечность, и сейчас этот сладкий напиток обжигал его горло и пустой желудок. Несмотря на это, юноша не смог оторваться от рога, пока не осушил его до последней капли. Когда Арвид отложил его, у него закружилась голова, и Матильда, должно быть, ощущала то же самое. Поблагодарив торговца, они неуверенным шагом пошли дальше плечом к плечу, уже не пытаясь отстраниться друг от друга.
За прилавками протекал ручей, в котором стирали белье, но это, впрочем, не мешало людям выбрасывать в воду мусор. На берегу лениво растянулось несколько собак, а дети выискивали в мусоре обглоданные кости и состязались в том, кто дальше их бросит. Чуть в стороне от рынка минцмейстер менял деньги франков на монеты, отчеканенные в Руане, на новом монетном дворе графа Вильгельма.
Улицы становились светлее, а шаги Матильды – все медленнее. От выпитого сидра ей стало так жарко, что она сняла тунику, подаренную лесником. Ее ряса порвалась, но была не очень грязной. Когда Матильду обдало порывом ветра, она, казалось, заметила на себе взгляд Арвида.
– Что теперь? – спросила девушка.
Арвид быстро опустил глаза и, оставив ее, прошел чуть дальше.
– Здесь есть женский монастырь?
– Я знаю только мужской монастырь. Сейчас монахи строят там церковь. В ней будет храниться сосуд со святой кровью Христовой, который когда-то в стволе смоковницы чудесным образом прибило к берегу моря. Сам граф Вильгельм приказал возвести эту церковь.
Арвид огляделся по сторонам. Монастырской церкви он не заметил, только вдали виднелся замок, в котором останавливался Вильгельм во время своих визитов в Фекан. Мужчины, таскавшие камни к недостроенной башне, вероятно, были рабами: об этом свидетельствовали их измученные полуголые тела и отрешенные лица. Когда-то норманны подчинили себе франков, а позже франки и норманны, принявшие крещение, поработили язычников с севера, которые иногда нападали на эти земли и отказывались принимать истинную веру.
– Куда я пойду? – беспокоилась Матильда. – Что… что со мной теперь будет?
Арвид отвернулся от башни и принялся оглядываться по сторонам, как будто если он станет делать это достаточно долго, то сможет уйти от постыдного признания собственной растерянности и изменить все к лучшему. К его удивлению, так и произошло. Свершилось чудо, на которое он не смел и надеяться.
Когда Арвид увидел знакомое лицо, он почувствовал, как по его телу прокатилась почти такая же теплая волна, как от выпитого сидра. То, что это лицо было перекошено, не имело никакого значения. Глаза, нос и рот этого монаха были расположены так близко, что казалось, будто его голову кто-то однажды сильно сжал. В Жюмьежском монастыре над ним часто насмехались, но сегодня Арвид не смеялся. Он оставил Матильду и бросился к монаху:
– Слава Иисусу Христу! Брат Дадон!
Хотя Арвид был всего лишь послушником, он никогда не проявлял чрезмерного уважения к старшим братьям: в детстве его не научили этому Руна и Таурин, упрямые и очень уверенные в себе люди. Сейчас он готов был упасть на колени и целовать брату Дадону ноги. Арвида больше не окружали чужие лица, здесь был человек, который его знал и мог доказать всему миру, что он, Арвид, – будущий монах, а не жалкий бродяга.
– Арвид! – Лицо Дадона оставалось перекошенным, но в глазах на миг вспыхнула радость, а может быть, просто удивление от того, что он увидел юношу живым и к тому же в Фекане. – Что ты здесь делаешь?
Арвид пытался подобрать слова. Когда на него напали люди короля Людовика, он в спешке сбежал из Жюмьежского монастыря, не поговорив ни с аббатом, ни с братьями.
– Это долгая история, – быстро ответил юноша. – Мне грозила большая опасность. И сейчас грозит… Я должен немедленно поговорить с аббатом. Я…
Арвид думал о том, что еще может сообщить брату Дадону, но тот не задавал вопросов. Он пользовался славой нелюдимого человека и не раз открыто заявлял, что не желает знать никаких тайн, тем более страшных. Монах остановил Арвида слабым жестом:
– Я хотел бы вернуться в Жюмьеж уже сегодня. Последние несколько дней я провел с нашими братьями, которые здесь, в Фекане, живут по уставу святого Бенедикта, как и мы.
Арвид догадывался, зачем брат Дадон сюда приходил. Жюмьежский монастырь, некогда бывший одним из самых больших и величественных во всем королевстве, теперь почти полностью лежал в руинах, а монахов, в первую очередь молодых, сильных и способных его восстановить, там было слишком мало. Братья из Фекана иногда присылали в Жюмьежский монастырь послушников или выделяли ему деньги.
– Мы можем отправиться прямо сейчас, – добавил брат Дадон.
На мгновение Арвид почувствовал такое облегчение, что готов был в тот же миг пойти с ним, ни разу не оглянувшись: он надеялся, что в присутствии брата сможет забыть события последних дней, как страшный сон. Потом он краем глаза заметил какое-то движение: Матильда хоть и не подходила ближе, но с любопытством на них смотрела. Это не ускользнуло от брата Дадона, и он недоверчиво смерил ее взглядом.
– Это Матильда, послушница из монастыря Святого Амвросия, – прошептал Арвид. – На ее обитель напали, она разрушена, сестры убиты. Я спас эту девушку и заботился о ней.
Арвид надеялся, что брат Дадон не заметил, как его щеки залились краской – доказательством того, что он не только заботился о Матильде, но и обнимал, целовал, желал ее.
– На монастырь Святого Амвросия напали? Кто?
Послушник пожал плечами.
– Отряд норманнов, – ответил он, надеясь, что эта ложь не такой уж большой грех. В конце концов, он и сам не знал, кто напал на монастырь. И независимо от того, пришли эти язычники из Бретани или с севера и послал их Людовик за ним или кто-то другой за Матильдой, это не умаляло их жестокости.
– Ты говоришь, она послушница?
– Да. Выжить удалось только ей. Мы сбежали в лес, и я просто не мог оставить ее одну.
Голос Арвида предательски дрожал, как голос грешника, который пытается скрыть прелюбодеяние. Недоверчивый взгляд брата Дадона смущал и беспокоил юношу, и, чтобы не разжигать подозрение монаха, он горячо прошептал:
– Я достаточно долго заботился о ней, теперь нам нужно как-нибудь от нее… избавиться, прежде чем мы отправимся в Жюмьеж. Жаль, что здесь нет женского монастыря, где мы могли бы ее оставить.
– Так пускай возвращается к своей семье! – отрезал брат Дадон.
– Она не знает, кто ее родные, в монастыре она живет с самого детства. Не могу сказать, какое приданое было у нее тогда, но сейчас у нее нет средств к существованию.
– И больше тебе о ней ничего не известно?
– Аббатиса монастыря Святого Амвросия, очевидно, была о ней высокого мнения.
– Но аббатиса мертва… – задумчиво произнес брат Дадон.
От мысли о Гизеле, его родной матери, у Арвида сжалось сердце, но он заглушил свою боль. Это ничего не значит, это не должно ничего значить. В лесу, истощенный голодом, холодом и страхом смерти, он не мог отделаться от мрачных мыслей, однако рядом с Дадоном он был уже не беглецом, вынужденным бороться за существование. Он снова стал братом Арвидом, который не цеплялся за свою земную жизнь, а дарил ее Богу.
– Возможно, ее родители – бретонцы, – выпалил он.
Утверждая то, о чем Матильда сама только смутно подозревала, Арвид казался себе предателем, и это его удивило. Но, похоже, он правильно сделал, что произнес эти слова.
– Тогда я знаю, как ты сможешь от нее избавиться. – Брат Дадон наклонился и непривычно доверительным тоном добавил: – И я обещаю тебе, что не расскажу о ней аббату.
Арвид нахмурился и хотел было заявить, что безгрешные поступки не нуждаются в сокрытии, но побоялся, что в его голосе снова появится предательская дрожь.
– Куда мы ее отведем? – поинтересовался он.
– Ты знаешь, кто такая Спрота? – ответил Дадон вопросом на вопрос.
То, что он не постеснялся произнести это имя, поразило Арвида. Спрота была не той женщиной, о которой подобало говорить монахам.
– Спрота – это мать Ричарда, внебрачного сына графа Вильгельма, которого он тем не менее признал, – сказал Арвид. – Она вместе с ребенком живет в Фекане. Воины здесь всегда были преданы Вильгельму, и если внезапное восстание поставит под угрозу ее жизнь, она сможет сбежать на корабле в Англию.
– Спрота не только конкубина Вильгельма. – Брат Дадон легко произнес слово, которое, вероятно, нечасто употреблял в своей жизни. – Прежде всего она бретонка.
Он многозначительно посмотрел на молодого послушника, и тот догадался, на что намекает монах. Арвид сомневался в успехе этого замысла. И еще больше он сомневался в том, что стоит оставлять Матильду у женщины, пользующейся дурной славой.
Однако брат Дадон уверенно кивнул, и, что бы ни было тому причиной – усталость, легкое опьянение, глубокий стыд или же просто лень, – Арвид обрадовался, что больше не должен принимать решения и может возложить эту обязанность на монаха, который был намного старше его.
Матильда понятия не имела, куда они идут, но не задавала вопросов. Арвид пообещал ей, что теперь все будет хорошо, и после встречи с братом он казался таким спокойным, что она ему поверила. Незнакомый монах не проявлял доброжелательности и лишь угрюмо смотрел на Матильду, однако несмотря ни на что он был монахом, человеком Божьим, и рядом с ним она чувствовала себя в безопасности.
Вскоре перед ними вырос каменный дом с большими воротами, из которых вышло несколько мужчин – все как один высокие и широкоплечие, большинство – светловолосые, что свидетельствовало об их норманнском происхождении, и к тому же вооруженные мечами, щитами и ножами. У одного воина были даже лук и стрелы. Совсем недавно Матильда видела, как такое оружие лишало жизни ни в чем не повинных женщин.
Узнав брата Дадона, мужчины посторонились, и монах прошел в ворота. Матильда нерешительно остановилась.
– Иди сюда! – нетерпеливо крикнул монах и жестом велел девушке следовать за ним.
Это были первые слова, которые он адресовал непосредственно Матильде. Опустив глаза, она прошла мимо вооруженных воинов и оказалась во внутреннем дворе.
К жилому дому примыкало здание, похожее на кладовую. В другом помещении располагалась мастерская, рядом с ней находились хозяйственные постройки. А еще Матильда заметила часовню. На мгновение девушка поверила, что попала в монастырь, но потом она увидела вооруженных мужчин, которые посреди двора жарили на костре мясо. Когда монах велел Матильде подождать, она принялась искать глазами Арвида, но он остался за воротами.
– Арвид! – позвала она.
Ответа не последовало.
Матильде хотелось еще раз громко выкрикнуть его имя, но, когда воины подняли головы и стали ее разглядывать, она замолчала. Девушка ощущала свою беспомощность так остро, как никогда, однако подавила в себе желание убежать. Монах ведь не просто так привел ее именно сюда, а за последнее время Матильда пережила столько опасностей, что ни одиночество, ни назойливые взгляды мужчин не могли сломить ее дух.
Чтобы отвлечься, девушка внимательно рассматривала здания. В одном из окон она заметила кузнеца за работой, в другом – троих мужчин, толкающих тяжелые дубовые бочки. В воздухе пахло не только жареным мясом, но и свежеиспеченным хлебом. Кроме этого Матильда ощутила неприятный запах конского навоза – признак того, что, помимо мастерских, складов и хозяйственных построек, где-то рядом находилась и конюшня. А в доме, где проживало много мужчин, которые могли позволить себе иметь оружие и лошадей, мясо и свежий хлеб, наверняка был и парадный зал.
– Матильда?
Девушка вдруг услышала свое имя и обернулась. Ее звал не Арвид и не монах, как она сначала предположила, а какая-то женщина, которая, судя по горделивой осанке, чувствовала себя здесь уверенно и не прислуживала хозяевам, а, наоборот, сама привыкла отдавать распоряжения.
– Тебя зовут Матильда?
Девушка окаменела. Эта женщина с живым взглядом не просто знала ее имя – она обратилась к ней на таком чужом и в то же время родном языке. На бретонском.
Матильда невольно скрестила руки на груди. Ее мучили вопросы, бесчисленное множество вопросов: кто эта женщина, что это за место, куда исчез Арвид? Но произнести она смогла совсем другое:
– Я хочу в монастырь.
Этими словами она как будто пыталась отгородиться стеной от незнакомки, хотя от нее, по всей видимости, не исходило никакой угрозы. У женщины был приветливый взгляд, правильные черты лица и опрятная одежда, но она говорила на языке, знать который Матильда не хотела и – вдруг пронеслось у нее в голове – не имела права.
Незнакомка хотела еще что-то сказать, но в это время раздался чей-то смех. Из дома вышла еще одна женщина. Ее взгляд был не доброжелательным, а насмешливым, и смотрела она на Матильду не приветливо, а с назойливым любопытством.
– Это не монастырь, – сказала она по-франкски.
Матильда не смотрела ей в глаза. «Кто эти люди? И куда пропал Арвид?»
– Перестань язвить, Герлок, – одернула ее доброжелательная женщина, которая теперь тоже заговорила на франкском языке, хоть и с сильным акцентом. – Ты же слышала, что ей пришлось пережить.
– Да, но я не понимаю, почему брат Дадон думает, будто ты перед ним в долгу. Он ведь из тех, кто отказывается находиться с тобой в одной комнате, не говоря уже о том, чтобы с тобой поздороваться.
– Помолиться за спасение души Ричарда он не отказался.
– Хотя и считает его бастардом, недостойным того, чтобы унаследовать земли своего отца.
Эти слова не обидели доброжелательную женщину, и, когда она подошла ближе к Матильде, ее взгляд по-прежнему был приветливым.
– Меня зовут Спрота.
Герлок и Спрота.
Матильде ни о чем не говорили эти имена. Спрота осторожно положила руку ей на плечо, и девушка невольно наклонилась, но вскоре любопытство заставило ее поднять голову и лучше рассмотреть обеих женщин. Спрота была одета в простое льняное платье и жилет, который на груди завязывался двумя лентами, закрепленными на овальных металлических застежках.
Герлок выглядела куда более нарядной. Она носила пояс с позолоченной пряжкой, притягивающую взгляд брошку в форме трилистника, блестящие бусы и браслеты. Прежде всего, ее одежда была более откровенной: туника без рукавов оголяла плечи. Однажды Матильда и Маура шептались о том, что за стенами монастыря женщины одеваются ярче и легкомысленнее монахинь, которые довольствуются серыми или черными рясами из грубой ткани. Но Господу не могли быть угодны неприкрытые плечи женщин, даже тех, кто не посвятил свою жизнь служению Ему. То, что раньше поражало их с Маурой воображение, теперь, когда Матильда своими глазами увидела такую женщину, казалось просто отталкивающим.
– Что это за место? – спросила она.
Герлок рассмеялась, во взгляде Спроты появилось сочувствие.
– Должно быть, ты еще не пришла в себя после всего, что пережила, не так ли? Но я обещаю тебе, как пообещала брату Дадону: здесь ты сможешь успокоиться. Конечно, я помогу своей землячке.
– Но я не… – попыталась возразить Матильда, но не договорила.
Она не знала, была она землячкой этой женщины или нет. Она знала только то, что очень замерзла, хотя, в отличие от Герлок, ее плечи были прикрыты одеждой. И еще Матильда была голодна, поэтому ей следовало быть благодарной за любую заботу.
Спрота указала на большой дом за своей спиной:
– Здесь останавливается граф Вильгельм, когда приезжает в Фекан из столицы, Руана. Раньше я тоже там жила, но сейчас нам безопаснее здесь. Я мать его сына Ричарда.
Матильда широко открыла глаза. Из-за своих неприкрытых плеч Герлок походила на грешницу, но девушка не ожидала, что женщина с добрыми глазами тоже окажется таковой. Она представилась как мать его сына, а значит, была конкубиной Вильгельма.
Матильда залилась краской, в то время как Спрота не испытывала ни малейшего стыда. Наоборот, гордость светилась в ее глазах, когда она указывала рукой в том направлении, где раньше девушка видела кузнеца. Там, перед мастерской, играл маленький пухленький мальчик с темными кудряшками. Деревянным мечом он полушутя замахивался на пожилого мужчину, а тот ловко уворачивался от ударов. На поясе у воина висел железный меч, пока еще слишком тяжелый для ребенка.
– Это Ричард, – сказала Спрота, – наш сын.
– А я сестра графа, – представилась Герлок.
В отличие от ее откровенной одежды, такое положение не являлось постыдным, но Матильда вздрогнула от мысли, что сестра Вильгельма в то же время была дочерью Роллона, а он, в противоположность своему сыну, в душе всегда оставался язычником.
Матильда забыла о голоде и холоде, она хотела только одного – уйти прочь от этих женщин, темноволосого мальчика, воинов.
– Я не могу здесь находиться, – решительно заявила она, скрестив руки на груди. – Я хочу в монастырь. И я не совсем бретонка, я всю жизнь провела в окружении франков.
Герлок насмешливо подняла брови:
– А кто я? Мой дедушка, отец моей матери Поппы, был не кто иной, как Беренгер де Байе, товарищ Роберта – брата короля Эда.
Матильда не знала этих имен.
– Я из знатного рода, – продолжила Герлок, – а можешь ли ты сказать о себе то же самое?
Эти слова были произнесены шутливым, а не язвительным тоном, однако Матильда почувствовала себя неловко, ведь и вправду не могла похвастаться таким же высоким происхождением.
– Я монахиня, – упорствовала девушка, – и я готовилась принять постриг, когда…
– Если ты еще не приняла постриг, – перебила ее Герлок, – значит, ты не монахиня!
– Это ничего не значит, – не отступала Матильда. – Я всю жизнь провела в монастыре и не видела ничего другого.
Герлок снова хотела что-то возразить, но Спрота жестом велела ей молчать.
– В Фекане нет женского монастыря, – спокойно сказала она. – А если бы и был, без приданого тебя бы туда не приняли. Его я дать тебе не могу, но, поскольку я должна отблагодарить брата Дадона, здесь ты получишь все необходимое: теплый дом, новую одежду, сытную еду.
Ее слова звучали очень заманчиво, и на мгновение Матильда готова была отдать жизнь за любое из этих благ.
В разговор снова вмешалась Герлок.
– Вот только здесь никто не молится, – съязвила она.
Матильда в тот же момент хотела заявить, что нет ничего важнее спасения души, тем самым стремясь убедить себя в ничтожности борьбы за существование, которую она вела в лесу вместе с Арвидом и из которой вышла победительницей.
Но, прежде чем она успела произнести хоть слово, высказывание Герлок опроверг другой человек.
– Это неправда!
Матильда не заметила, что малыш Ричард уже не играл деревянным мечом, а подошел к ним, внимательно прислушивался к разговору и теперь с серьезным видом заявил:
– Мой отец много молится! Он набожный человек.
У мальчика был такой же живой и теплый взгляд, как у Спроты, а кудри не темные, какими казались издалека, а рыжеватые. Разве норманны не должны быть светловолосыми? С другой стороны, Арвид тоже сын норманна, но у него темные волосы.
– Арвид… Где Арвид? – спросила Матильда резким голосом.
– Монахи не могут заботиться о тебе, – уклончиво ответила Спрота.
– Но…
Герлок не стала смягчать суровую правду:
– Дадон и Арвид уже давно отправились в Жюмьежский монастырь.
Она больше ничего не произнесла, но Матильде, которая в ужасе оглядывалась по сторонам, показалось, что она услышала ее невысказанные слова: «Они ушли и ни разу не обернулись, чтобы рассказать, куда привели тебя, и чтобы с тобой попрощаться. Они были только рады от тебя избавиться».
Матильда никогда бы не подумала, что после холода, голода и утомительного блуждания по лесу что-то может причинить ей такую боль. Она хватала ртом воздух, не в силах объяснить себе такое безразличие, смириться с таким презрением. Арвид ушел… Просто ушел… Оставил ее одну, будто между ними не было того единения, будто они не согревали друг друга столько ночей, будто не было поцелуев… На ее лице застыла боль.
Только теперь во взгляде Герлок появилось сострадание.
– Пойдем. Тебе нужно помыться, немного поесть и переодеться, а потом ты сможешь рассказать нам обо всем, что тебе пришлось пережить. Здесь, в Фекане, почти ничего не происходит, поэтому все мы любим слушать рассказы.
Спрота снова подняла руку, чтобы коснуться плеча Матильды, но на этот раз девушка не отпрянула: она была слишком уставшей, грустной и разочарованной, чтобы этому воспрепятствовать. Какими бы обманчивыми ни были обещания этих женщин, отказавшись от их помощи, она осталась бы наедине со своим новым горем, неожиданно обрушившимся на нее с такой силой.
Арвид не просто ушел – он бросил ее, так же как и светловолосый мужчина на цветочном лугу. И если тот мужчина, по-видимому, трагически погиб, то Арвид совершил не что иное, как предательство.
Вслед за Герлок и Спротой Матильда вошла в дом, и с каждым шагом ее боль перерастала в возмущение, а обида – в ярость. «Если он смог уйти, не оглянувшись, – думала она, – и не посмотрев мне в глаза, то я тоже смогу жить дальше и больше никогда не произнесу его имени».
Арвид страстно мечтал о том, чтобы снова окунуться в привычное течение дней, выстричь тонзуру, ежедневно посещать богослужение, подолгу стоять на коленях в часовне и упорно работать над восстановлением монастыря. Раньше тяжелый труд часто доводил его до полного изнеможения, но теперь, несмотря на едва зажившую рану и долгие дни скитаний, юноша чувствовал себя на удивление сильным. Гордиться этим Арвид тем не менее не мог. Что бы он ни делал, его преследовали воспоминания и не покидало осознание того, что он не может просто продолжить жизнь в Жюмьежском монастыре с того места, где остановился.
Юноша почувствовал облегчение, когда его наконец пригласили к Годуэну, который, как и казначей Бодуэн, пришел из монастыря Камбре и обладал даже большей властью, чем его земляк, поскольку был аббатом. Арвид вместе с братом Дадоном прибыли в обитель несколько дней назад, но за это время ему не представилось возможности поговорить с Годуэном, а когда ошеломленные братья расспрашивали Арвида о том, что случилось, почему он так неожиданно исчез и вернулся именно сейчас, аббат велел им не задавать вопросов. Вероятно, он догадался, что молодому послушнику нужно несколько дней, чтобы прийти в себя, и что сбежал он не из-за неприятия своей судьбы.
– Почтенный отец, – низко поклонился Арвид.
В Жюмьежском монастыре пока еще не было отдельного дома аббата. Годуэн вместе со всеми спал в дормитории, слишком просторном для столь небольшого количества монахов, а гостей и братьев принимал в трапезной.
Годуэн молчал, и в этом не было ничего удивительного. Его речь всегда сопровождалась долгими паузами, и Арвид не мог с уверенностью сказать, был аббат благочестивым или же просто неразговорчивым человеком. Скорее всего, справедливо и то и другое, ведь тот, кто говорит мало, не произносит недостойных, греховных слов. Что же на самом деле пробудило в Годуэне стремление к праведной жизни – отрешенность, провидение или же неприязнь к людям и миру, – оставалось загадкой.
Не нарушая молчания, Годуэн ободряюще кивнул Арвиду, и тот заговорил, но, в отличие от аббата, не подбирал слов – они бурным потоком срывались с его губ. Молодой послушник рассказал все, почти все, и от этого тяжкий груз на его плечах стал немного легче, а на душе посветлело. Арвид не смог признаться аббату только в одном – в своем поцелуе с Матильдой.
«Собственно, почему нет? – с удивлением спрашивал он себя, когда закончил повествование. – Разве можно вообразить себе что-то более ужасное, чем быть сыном свирепого язычника? И если да, то почему более греховным поступком считаются именно прикосновения к привлекательной нежной женщине и поцелуй с ней?»
Годуэн не задавал вопросов. Между ними снова надолго воцарилось молчание, в этот раз порожденное не неразговорчивостью аббата, а, очевидно, его боязнью сказать неправильные слова. По крайней мере, Арвид увидел, как в глазах монаха, которые обычно ничего не выражали, промелькнул страх. Юноша не смог определить, что послужило тому причиной: упоминание о норманнской крови или рассказ о воинах короля Людовика. Даже если в лесу бретонцы преследовали не его, Арвида, а Матильду, это еще не означало, что здесь он был в безопасности.
Судя по всему, Годуэн тоже об этом подумал.
– Тебе нельзя здесь оставаться, – произнес он после мучительно долгой паузы.
– Почему? – встрепенулся Арвид.
– Здесь тебе грозит опасность.
Может быть, аббат и пытался защитить его, но тем не менее это выглядело как предательство. Арвид внимательно посмотрел на собеседника, прочитал в его глазах еще более сильный страх, но не заметил ни тени сочувствия или заботы.
– Вы имеете в виду, пока я здесь, опасность грозит братьям. Пока я здесь, король Людовик может убить их всех.
Помимо разочарования, Арвида охватило недоверие. Даже если Годуэн теперь жил в Нормандии, в душе он оставался франком и следовал приказам короля почти так же неукоснительно, как заповедям Божьим. Но если бы аббат задумал выдать Арвида Людовику, разве он стал бы его прогонять?
– Почтенный отец, – в голосе Арвида прозвучала мольба, которая заглушила ярость, кипевшую в его крови еще сильнее, чем страх перед будущим, – я ведь всего лишь хочу служить Господу. До покушения я готовился принять постриг.
– Может быть, – произнес Годуэн, снова заставив Арвида ожидать ответа целую вечность. – Но сейчас тебе не хватает спокойствия духа, необходимого для принятия столь важных решений.
– Я должен отложить свой монашеский обет, несмотря на то что после всех перенесенных опасностей вернулся сюда?
У Арвида прервался голос. Юноша крепко сжал губы, догадываясь, что вместе с его следующими словами на волю вырвется не просто безудержная ярость, а, что еще хуже, неистовое, страстное желание схватить что-нибудь и разбить или разорвать. Нет, даже не что-нибудь. Кого-нибудь. Лучше всего самого Годуэна. Арвиду хотелось мучить аббата до тех пор, пока тот не разрешит ему принять постриг здесь и сейчас.
Юноша сцепил пальцы в замок и боялся даже дышать, чтобы неосторожным движением еще больше не разжечь в себе полыхающее темное пламя.
– Сначала тебе нужно оправиться от потрясений, которым подверглась твоя душа, – заявил Годуэн. – А я попробую найти решение.
Без единого слова возражения Арвид поспешно удалился. Он был рад тому, что не поднял руку на аббата.
В последующие дни Арвид изнывал от досады и сожаления о том, что доверился аббату и что оставил Матильду в Фекане, даже не попрощавшись с ней. Он с большим трудом привыкал к монастырским будням. Теперь ему было стыдно за попытку искупить тот грех, который он с ней совершил, столь бессердечным поступком. Ведь искупление выглядело иначе, и, чтобы заслужить прощение, нужно проводить время в молитве, посте и отказе от сна, а не бросать юную девушку на произвол судьбы. Теперь Арвид старался искупить свою вину. Он почти не спал, мало ел, много молился и обессилел настолько, что уже не мог участвовать в восстановительных работах.
Однажды эти работы временно прекратились, после того как брат-привратник объявил о прибытии высокого гостя – самого Вильгельма, графа Нормандии. Он уже не в первый раз посещал Жюмьеж: за последние несколько лет Вильгельм часто молился о спасении своей души вместе с монахами. Арвид видел его лишь издалека и сейчас тоже предпочел держаться поодаль. Помимо всего прочего, его искупление заключалось в полном уединении, возвышении духа и мыслях о Боге.
Однако в тишине, к которой Арвид так стремился, ему однажды все же пришла в голову предательская мысль: они с Вильгельмом похожи. Роллон, отец графа, тоже был норманном, а мать Поппа – христианкой. Хотя Вильгельма воспитывали как франка, иногда ему приходилось ощущать внутреннее противоречие, настойчивее, чем всем остальным, бороться за душевный покой и с большей выдержкой, чем его соседи, доказывать, что его стремление к добру и благочестию сильнее зова языческой крови.
Арвид пришел в монастырский сад, откуда открывался вид на руины, которые еще не успели восстановить камень за камнем. Эти стены разрушили норманны, такие как отец Вильгельма и его собственный отец Тур.
Юноша резко нагнулся за одним из тяжелых камней, обдирающих ладони в кровь. Послушник чуть не выпустил его из рук, но, стиснув зубы, все же смог поднять его, сделать несколько шагов и взгромоздить на полуразрушенную стену. После этого Арвид почувствовал боль в спине, но быстро наклонился за следующим камнем.
За этим занятием его и застал Годуэн.
– Что ты здесь делаешь? – изумленно спросил аббат.
– То, что мы делаем уже не первый год, – восстанавливаю монастырь.
«Устраняю следы разрушения, – мысленно добавил Арвид, – цепляюсь за надежду на то, что, если постараться, можно все исправить, полностью уничтожить следы войн и набегов и одержать верх над теми, кто убивает, порабощает и грабит».
– Сам по себе? – с сомнением спросил Годуэн.
Арвид молча опустил камень на землю.
– У меня был долгий разговор с графом Вильгельмом, – сообщил аббат и сразу же продолжил: – Он еще раз пообещал оказать нам поддержку в восстановлении монастыря. Без него обитель окончательно пришла бы в упадок. Глубоко в душе Вильгельм хотел бы стать монахом, но влиятельные люди отговаривают его от этого, ведь такой поступок может погубить Нормандию. Вероятно, он уже осознал, что никогда не сможет уйти в монастырь, что этим он бы предал дело своего отца и весь народ Нормандии. Тем не менее он хочет вести праведную жизнь, угодную Богу.
«Почему Годуэн говорит так много и, прежде всего, почему рассказывает это именно мне?» – спросил себя Арвид.
– Если бы он был таким праведным, то не притронулся бы к Спроте! – вспылил послушник и удивился, что говорит с такой яростью, как будто грех Вильгельма – норманна и христианина, окрещенного сына язычника, – обличает его собственные слабости.
Годуэн пожал плечами:
– Человек грешен. И если ему не всегда удается быть таким, каким он хочет быть, это не означает, что он не борется со злом. Вильгельм не может оставить Спроту, это правда. Но он с удовольствием окружает себя монахами.
Последнее предложение аббат произнес медленно, придавая ему особую значимость. Арвид нагнулся за новым камнем, который выскользнул у него из рук и едва не упал ему на ноги. Внезапно послушник понял, почему Годуэн так много говорит и чего от него ждет.
– Нет! – возмутился Арвид. – Я не хочу! Я хочу остаться здесь! Мой дом здесь!
– У нас, людей Божьих, нет дома в этом мире, – строго сказал Годуэн. – Наша жизнь – это всего лишь длинный и опасный путь паломника. Для нас нигде не найдется тихой гавани.
Арвид растерянно посмотрел на аббата.
– Вы отсылаете меня к графу Вильгельму?! – крикнул он.
– Подумай, там тебя не отыщут воины короля Людовика. Рядом с Вильгельмом ты будешь вести праведную жизнь, будешь поддерживать в нем добродетель, будешь приносить пользу нашей обители и всей Нормандии.
«Какое мне дело до Нормандии? – хотел возразить Арвид. – До той земли, где сначала франки стали норманнами, а потом наоборот. Земли, которую противоречия раздирают так же, как и душу Вильгельма, живущего с конкубиной и в то же время мечтающего о жизни монаха-бенедиктинца. Земли, противоречивой, как и он сам».
Арвид решительно замотал головой.
– Да пойми же, – настаивал Годуэн, – Вильгельм не может уйти в наш монастырь, поэтому я посылаю монастырь к нему. Ты, как и другие братья из нашей обители, будешь духовной опорой графа.
– Но у меня нет духовного сана! Я еще даже не принес вечные обеты.
– Именно поэтому мы и можем тебя отпустить. Ты не зависишь от руанского духовенства. Ты будешь молиться с Вильгельмом, будешь обучать его Святому Писанию, станешь его другом. И ты постоянно будешь напоминать ему, насколько важно для спасения его души поддерживать восстановление Жюмьежского монастыря. Позже тебя ожидает великое будущее здесь, в обители, но сейчас ты должен пожить в миру.
Арвид закрыл глаза, но представил не лицо Вильгельма – его он вблизи никогда и не видел. Нет, перед его внутренним взором появился облик женщины, которую он оставил у Спроты, надеясь, что после этого сможет навсегда вычеркнуть ее из своих мыслей. Спрота жила в Фекане, а Вильгельм проводил там всего несколько месяцев в году, но если он, Арвид, будет входить в близкое окружение графа, он непременно снова увидится с Матильдой.
Бог жесток. Ему было мало того, что Арвид пытался искупить свои грехи. Он станет искушать его снова и снова.
В который раз Арвида обуял неистовый гнев. Если бы сейчас он нагнулся за новым камнем, то не стал бы кряхтеть от тяжести, а смог бы с легкостью поднять и бросить его – в возведенную стену, в Годуэна, в монастырский сад.
– Арвид, – не отступал Годуэн, – брат Арвид! Ты сделаешь то, чего от тебя ожидают?
Камень так и остался лежать на земле, гнев остыл, жажда разрушения снова пугала юношу.
– Я никогда и близко не подойду к Спроте, – упрямо заявил он, на самом деле имея в виду близость к Матильде.
Годуэн улыбнулся:
– Уверен, что граф тебя об этом не попросит.
После неудачи Аскульфа прошло три недели. Злилась Авуаза только первые семь дней: потом у нее не было на это времени. Ее посланники принесли новости не о Матильде, а о приближающихся врагах, которым приказали найти и уничтожить очаги сопротивления, такие как ее отряд.
Она узнала об этом посреди ночи и еще до рассвета вместе со своими людьми оставила убогое поселение, защищенное валом. Когда через несколько часов взошло солнце, бретонцы двигались на запад. Они снова уходили от погони.
Авуаза не замечала солнца. В последнее время в ее душе царила тьма, подобно тому как в жизнь слепого Деккура не пробивалось ничего ясного, светлого, яркого. Авуаза снова увидела окружающий мир, только когда ее отряд нашел место, где можно было соорудить новый вал, хотя бы на первое время защищенный от чужих глаз. Казалось, что все в ее жизни устраивалось только на первое время, а не навсегда. В борьбе за завтрашний день – о послезавтрашнем думать было еще рано – ей даже некогда было сожалеть об упущенных возможностях.
Фундамент нового вала воины построили из остатков старого, стоявшего здесь много лет назад. За этой стеной из красного гранита они на скорую руку оборудовали себе простые жилища из веток и лишайника. От наступающего войска скрывались не только люди Авуазы: к ним присоединились несколько семей, которые решились на этот шаг не столько от страха, сколько из-за голода и горя.
Избежать этого им все же не удалось. Скоро Авуазе стало жаль детей, растиравших свои опухшие тела. Ей хотелось, чтобы они умерли и не вызывали в ней сострадания, однако дети оказались сильнее, чем ее чувства, и в какой-то момент она начала смотреть на них безо всякого сожаления, ей просто было противно. В своей жизни она видела слишком много горя. И слишком много смерти.
Однажды утром, когда Авуаза беспокойно металась из стороны в сторону, к ней подошел брат Даниэль. Он тоже видел много смерти, но если его это превратило в раба, то ее научило бороться до конца. Авуаза никогда не улыбалась, зато разучилась плакать. Ему ни до чего не было дела, но она никогда не откажется от своего… наследства.
– И что ты собираешься делать теперь, когда Матильда от нас сбежала? – поинтересовался брат Даниэль.
Авуаза попыталась скрыть мрачное расположение духа. Достаточно было уже того, что она вышла из себя в присутствии Аскульфа – и громким истеричным голосом осыпала его упреками. На его челюстях ходили желваки, и, глядя на это, можно было догадаться, как неприятно ему было выслушивать такое от женщины. Тем не менее он не произнес ни слова. В конце концов, Авуаза не простая женщина.
– Будут и другие возможности. Я привыкла ждать. Я жду уже очень давно…
– Ты уверена, что Матильда вообще что-то помнит?
– Даже если она не знает, кто она, она должна исполнить свое предназначение! – воскликнула Авуаза. – От судьбы уйти нельзя, ее плетут норны.
Ей нравилось северное предание о норнах, которые ткут, прядут или вырезают на дощечках судьбы людей, сидя у мирового древа и поливая его живительной водой. В этом не было никакого смысла: ствол давно прогнил, а значит, мир стоит уже не на могучем и крепком, а на трухлявом дереве.
И христиане, и норманны были правы в одном: земля – это не прекрасное место, а юдоль печали, вечное поле боя. Только относились они к этому по-разному. Иисус Христос прекратил борьбу и взошел на крест, ожидая спасения от Отца Небесного. Северные боги никогда не сдавались – они сражались до конца. Пусть они не отличались ни красотой, ни добротой, ни нежностью, ни милосердием, но всем им была присуща сила.
Авуаза подняла руку и невольно сжала амулет Тора.
Даниэль впервые не ухмыльнулся, а посмотрел на нее серьезно:
– Поразительно! Ты так увлеклась язычеством, что теперь вместо креста носишь руну.
– Почему тебя это удивляет? Ты ведь и сам давно уже не молишься.
– Но у тебя был выбор, а у меня нет. Я твой пленник, твой раб. Отпусти меня, и завтра я вернусь в монастырь. Ты же сама перешла на эту сторону, вопреки своему происхождению.
Авуаза покачала головой:
– Не вопреки, а именно из-за него.
Она отпустила амулет и сжала пальцы в кулак.
– Она мне нужна. Этот Арвид тоже, но прежде всего она… Матильда.
– Зачем? Неужели только из-за того, что она…
Авуаза не дала ему договорить.
– Разве ты не понимаешь? – резко прервала она монаха. – Я продолжаю не только его дело, но и дело своего отца. Мои методы он бы не одобрил, но цель – вполне. Я хочу, чтобы все бретонцы жили в сильной, единой и свободной стране.
Из далекого детства до Авуазы вдруг донесся голос ее учителя. Хотя ее отец считал, что девочке не обязательно развивать то, чего женщинам не дал Господь – разум и сообразительность, – но все же он хотел, чтобы она научилась уважать историю своей земли. Поэтому учитель рассказывал Авуазе о великих королях, которые создавали облик Бретани и имена которых она должна была неустанно повторять: Номиноэ, Эриспоэ, Саломон…
Вопреки мнению отца, девочка оказалась умной и, слушая учителя, поняла, что великие короли не всегда были великими и даже тот, чье имя спустя столетия произносят только шепотом, мог прожить никчемную жизнь.
Во времена правления Номиноэ Бретань была еще ничтожно мала, Эриспоэ немного расширил свои владения, а Саломон присоединил к Бретани Котантен и Бессен. Но все это ни к чему не привело: северные воины, напавшие на эти земли, оказались сильнее великих королей.
– Разве то, что Саломон не стал сражаться с норманнами, не навлекло на него позор? – спросила маленькая Авуаза у своего учителя. – Почему он не взялся за оружие, а отдал врагам пятьсот коров за то, чтобы они ушли из Бретани?
– Иногда было выгодно заключать такие договоры, – объяснил учитель. – Саломон действовал, как того требовали обстоятельства.
После Саломона пришел другой король, и он действительно оказался великим. Он не стал никому предлагать коров, а поднял меч, в героической битве победил предводителя норманнов Астейна и внушил нападавшим такой страх, что они, а также другие отряды, обратились в бегство. Враги, которые осмелились вернуться, захлебнулись в своей крови, и с тех пор в Бретани царил мир. По крайней мере, до 907 года.
В 907 году этот король Ален умер, ведь даже великим людям не суждено избежать смерти, а его потомки, такие как Авуаза, могли извлечь из истории своей страны только два вывода: можно либо победить врагов с севера, либо безоговорочно им подчиниться.
Авуаза очнулась от воспоминаний и снова обратилась к Даниэлю:
– Я ни на миг не забывала, кто я и откуда. Но, чтобы захватить эти земли, нам необходима поддержка норманнов.
Монах хотел что-то ответить, но промолчал, заметив, что к ним приближается Деккур. Его шаркающие шаги, как всегда, были слышны издалека. Деккур почти не поднимал ног, потому что ненавидел спотыкаться о камни и корни деревьев. Когда же, несмотря на всю его осторожность, такое случалось, он в порыве ярости бил людей, которые подходили к нему слишком близко. Слепой часто промахивался, потому что они уклонялись от ударов, а он ничего не видел. Тогда он бил самого себя.
– Нам нужно прекратить поиски Матильды, – сообщил Деккур. – Сейчас Аскульф нужен нам здесь.
Авуаза кусала губы, пока на них не выступила кровь. Только тогда она смогла твердым голосом спросить:
– Какие земли все еще принадлежат нам?
– Доль мы потеряли окончательно. И у нас больше нет союзников. В Геранде, Морбиане и Корнуае, вероятно, остались преданные нам люди, но они в бегах, как и мы. А что касается Нанта – его захватил Ален Кривая Борода.
– Проклятье! – не сдержалась Авуаза. – Чем больше городов он себе вернет, тем сложнее нам будет достичь поставленных целей.
Деккур выругался, как и она, брат Даниэль снова ухмыльнулся.
Женщина отошла от них, ступила на укрепление вала и окинула взглядом море, на которое обратила внимание впервые за время лихорадочного побега. Оно было не черным, а мутно-зеленым. Солнце словно растворилось высоко в небе. Землю от воды отделяли не скалы, а обширные пляжи с камешками, причудливо обточенными солью и ветром. Казалось, что их поверхность такая же розовая и нежная, как кожа младенца.
Вид открывался чудесный, но Авуазу он не радовал. Камешки лгали. Мир был не таким – не гладким, не нежным, не розовым. А тот, кто надеялся сохранить младенческую невинность, был обречен на гибель.
Глава 3
939 год
Просыпаясь по утрам, Матильда всегда невольно замирала, ожидая услышать привычный шум моря. И каждый раз, когда ей это не удавалось, она вспоминала, что с недавних пор живет не в Фекане, а в Байе. Девушка скучала по рокоту волн и немало удивлялась этому. Собственно говоря, в Фекане она никогда не чувствовала себя уютно и в доме Спроты тоже оставалась чужой. Матильду по-прежнему обеспечивали всем необходимым, но она так и не определила до конца свое положение и свою роль в этих стенах. Девушка научилась орудовать иголкой и ниткой и помогала шить новые платья для Герлок – Спрота, в отличие от нее, годами носила одну и ту же одежду. Способности Матильды к чтению и письму тоже были оценены по достоинству, потому что Спрота не умела ни того, ни другого, а Герлок умела лишь отчасти, и скоро обе женщины настолько привыкли к юной послушнице, что бо́льшую часть времени проводили в ее обществе. Слуги тем не менее бросали на Матильду подозрительные взгляды: ее неразговорчивость воспринимали как горделивость, а стремление к одиночеству – как враждебность, и девушка не делала ничего, чтобы исправить эту ошибку. Она ни с кем не стремилась поддерживать добрые отношения. Ей ведь хотелось вернуться наконец в монастырь, а не жить у Спроты.
Прошло уже два с половиной года, а Матильда ни на шаг не приблизилась к исполнению этого желания, и когда несколько недель назад она уехала из Фекана, путь ее лежал не к священным стенам, а в Байе – город на западе Нормандии, расположенный довольно далеко от моря. Матильда убеждала себя в том, что ей не важно, где жить, поскольку вне монастыря она везде чувствовала себя чужой, но во время поездки (которая Спроту, Герлок и маленького Ричарда вела к цели, а ее, наоборот, все больше отдаляла от нее) девушка испытывала злость, которая становилась все сильнее. Матильда понимала, что должна быть благодарна, ведь здесь ей предоставили защиту от врагов, еду и крышу над головой, но каждый новый день казался ей пыткой, жизнь – пустой тратой времени, а Спрота и Герлок – не подругами (хотя они были вполне готовы ими стать), а чужими людьми, не способными понять ее. Как же она скучала по Мауре, вместе с которой подолгу молилась и трудилась в скриптории! Маура поняла бы ее чувства, разделила бы ее стремление к воздержанию и отчужденность от жестокого мира, укрепила бы в ней веру.
Но Маура была мертва, и Матильде приходилось почти все свободное время проводить с Герлок и Спротой. В это утро они тоже собрались вместе в самом большом зале замка – единственном месте, где можно было согреться. Женщины придвинулись ближе к камину, потому что весна только началась и солнце еще не радовало теплом. Матильда уединилась в уголке, чтобы, стоя на коленях на каменном полу, прочитать утреннюю молитву. Она не могла посещать богослужения так часто, как хотела, но старалась не пропускать молитвенные часы. Однако в этот день девушка никак не могла собраться с мыслями, смотрела на паутину в углу, которую не заметила нерадивая служанка, и не могла произнести ни одного слова, восхваляющего Бога.
Герлок, как всегда в легком платье, первой отошла от камина, не выдержав долгого бездействия, и приблизилась к Матильде. Ее не смутило то, что девушка молилась: Герлок почти никогда не обращала внимания на занятия других людей.
– Ты только взгляни!
Герлок грациозно покружилась, но Матильда не сводила глаз с паутины и лишь боковым зрением заметила новую брошку на накидке, надетой поверх не менее новой туники.
– Как сверкает камешек! А хочешь прикоснуться к этой ткани? Она такая мягкая, такая блестящая!
Девушка встала прямо перед Матильдой, и той не оставалось ничего иного, кроме как посмотреть на нее. Прикоснуться к ткани она все же отказалась.
Раньше Матильда считала, что Герлок безнадежно тщеславна, но потом поняла, что красивой одеждой та пытается доказать всему миру свое высокое происхождение и благородство. Герлок хотела выглядеть как дочь графа, а не кровожадного разбойника, и прежде всего как женщина с франкскими корнями. Не в последнюю очередь ради этого несколько лет назад Герлок стала носить франкские платья. По мнению Матильды, ее наряды все же были слишком яркими, легкомысленными и кричащими.
Послушница сжала губы и отвернулась.
– Боже мой! – воскликнула Герлок и закатила глаза. – Как можно быть равнодушной к красивым вещам? Почему ты всегда носишь ужасную серую или черную одежду? И зачем ты прячешь свои роскошные волосы?
– Черный – это цвет монашества, а к красоте я не стремлюсь, – как всегда, коротко ответила Матильда.
Она не презирала Герлок, нет. Несмотря на всю свою поверхностность, сестра графа Вильгельма была прямым и бесхитростным человеком, и даже если ее шутки часто становились язвительными, она не переступала тонкую грань и никогда не унижала других людей. С ней было интересно, ведь она отличалась наблюдательностью и могла рассказать о многом – от принципов управления государством до простых сплетен. И все же до тех пор, пока Герлок не научится уважать особенности ее характера, Матильда не желала замечать в ней ничего хорошего.
– Оставь ее в покое, – вмешалась Спрота. – Мы знаем, что тебе нравятся красивые платья, а Матильде – молитвы, что ты любишь разговаривать, а Матильда предпочитает молчать. Все люди разные.
Матильда часто слышала эту фразу из ее уст. Спрота относилась к тем людям, которые равнодушно принимали все, что преподносила им жизнь.
Сначала Матильда презирала эту женщину, ведь она была всего лишь конкубиной, а не супругой графа, однако Спроте было совершенно не свойственно презрение, и тот, кто испытывал это чувство по отношению к ней, в конце концов и сам о нем забывал. Матильда не могла с уверенностью сказать, выработался такой трезвый взгляд на мир в течение долгих лет или же был прирожденным качеством, но иногда она завидовала невозмутимости Спроты.
Герлок хотела возразить, но ее прервал чей-то взволнованный голос. В комнату вбежал Ричард – глаза его, как всегда, горели, а щеки стали пунцовыми от воодушевления.
– Я перескочил через забор, а он был вот такой высоты. – Мальчик поднял руку над головой. – Сначала лошадь испугалась, но я пришпорил ее, и она просто не могла не прыгнуть.
Слова лились бурным потоком, как это часто бывало, когда Ричард рассказывал о своих уроках верховой езды. Уже в четыре года он, как и многие из его франкских ровесников, впервые сел на лошадь, а сейчас учился вести бой, сидя верхом на коне, и преодолевать препятствия.
Спрота нежно погладила его по голове:
– Тише, тише, мы не можем разобрать ни слова.
Ричард быстро отстранился. Он считал себя слишком взрослым для таких проявлений материнской любви. Пухлощекий ребенок, которого Матильда однажды встретила в Фекане, превратился в худенького мальчишку.
Он продолжал воодушевленно рассказывать, смешивая франкские и датские слова. Именно для изучения датского языка они оставили Фекан и переехали в Байе. Даже если Вильгельм и Герлок подражали всему, что было свойственно франкской культуре, северных обычаев и традиций придерживались многие нормандцы, и Ричард как будущий граф должен был понимать их речь. В Фекане уже никто не пользовался датским языком – на нем говорили только в западных областях и в окрестностях Байе.
Чтобы мальчик не слишком сильно поддавался влиянию норманнской культуры, епископ Байе, его крестный отец, давал ему уроки. Ричард был достаточно любопытным, чтобы выдерживать эти занятия, но втайне стремился к подвижным играм, наслаждался всем, что позволяло ему проявить силу и храбрость, и не давал оснований предполагать, что он станет таким же набожным, как его отец, с которым мальчик виделся очень редко.
Матильда внимательно слушала, но ее интересовали не уроки верховой езды, а датский язык. К своему удивлению, девушка осознала, что понимает его, так же как и бретонский, хотя говорить на каком-либо из них упорно отказывалась. Послушница… запрещала себе произносить эти слова, ведь она могла только догадываться о том, кто ее им научил.
Иногда он все еще ей снился – тот светловолосый мужчина на цветочном лугу у моря. Он поднимал ее на руки и рассказывал какую-то историю. У него был грубый гортанный голос, а говорил он на датском языке.
Когда Матильда впервые очнулась от этого сна, она очень испугалась и не могла не задаться вопросом, был ли ее отец норманном. Она успокаивала себя тем, что многим франкам пришлось выучить датский язык. Девушка ничего не могла поделать со своими снами, но когда не спала, старалась не копаться в воспоминаниях, вызванных этими видениями. Матильде было достаточно уже того, что ей пришлось оставить монастырь. Она не хотела терять еще и свою вторую родину, даже если видела ее нечетко, как в тумане.
Ричард болтал без умолку, и Герлок крикнула ей прямо в ухо:
– Почему мужчины всегда говорят только о лошадях и об оружии? Давай уйдем отсюда наконец! Как же я ждала этого дня!
Матильда бросила на нее удивленный взгляд.
– Только не говори, что ты об этом забыла! – сказала Герлок.
– О чем?
– О том, что сегодня в Байе будет ярмарка, на которой я смогу приобрести новые ткани из Фризии.
– Ты же только сегодня показывала мне свою новую накидку, а теперь хочешь купить еще тканей?
– У женщины не может быть слишком много нарядов.
Герлок погладила тонкую тунику. Сначала ее движения были почти ласковыми, как будто она прикасалась к нежной коже любимого человека. Потом она внезапно вцепилась пальцами в ткань, словно какая-то невидимая сила хотела сорвать тунику с ее тела. Во взгляде Герлок появилось упрямство, которое свидетельствовало о том, что ею двигала не столько любовь к красивой одежде, сколько желание скрыть свое настоящее происхождение.
– И ты пойдешь со мной! – заявила Герлок.
Эти слова больше походили на приказ, чем на просьбу, и Матильда не понимала, почему девушка так настаивала на своем, ведь невозможно было представить себе более скучную спутницу, чем она. Но, казалось, Герлок считала своим долгом искоренить в ней монашескую добродетель.
Матильда не хотела соглашаться, однако предложение снова выйти на улицу после долгой зимы было слишком заманчивым. Она поднялась.
– Хорошо. Если хочешь, я пойду с тобой, – уступила она Герлок.
Вскоре послушница пожалела об этом. Ей было скучно слушать, как Герлок торгуется с продавцами тканей, неприятно проваливаться в размякшую землю и почти невыносимо находиться в толпе, чувствовать прикосновения совершенно чужих людей, слышать их голоса и ощущать их горячее дыхание на коже. Матильду захлестнула волна отвращения, и в то же время, даже если она не хотела себе в этом признаваться, в ней проснулись воспоминания об Арвиде, о днях, проведенных в лесу, о совместных ночах, о поцелуе. И эти воспоминания были далеко не отвратительными.
Иногда Матильда думала, что окончательно вычеркнула из памяти то время, но здесь, на рынке, она так ясно увидела перед собой прошедшие дни, как будто только вчера Арвид оставил ее в Фекане, а она поклялась никогда больше не произносить его имя. Девушка сдержала клятву, но в ее мыслях это имя появлялось чаще, чем ей бы того хотелось.
Матильда недовольно покачала головой и поспешила вслед за Герлок, услышав ее возглас:
– Смотри! Мех горностая и рыси!
Байе вырос на руинах римской цитадели. Ее крепкие каменные стены были разрушены норманнами, а затем восстановлены, пусть даже и не во всем своем величии. На стене за отесанными стволами деревьев скрывались воины графа, которые вглядывались в равнины, окружающие город, чтобы своевременно заметить опасность.
Некоторые прилавки располагались в тени стены, куда даже в полдень не попадали солнечные лучи и где земля все еще была покрыта льдом. Герлок решительно ступала по ней, хотя, должно быть, очень мерзла в своей легкой обуви. Девушка восторженно гладила меха, набрасывала их на плечи, прижимала к щекам и подбородку.
– Хочешь себе такой? – спросила она Матильду. – Конечно, я не стала бы предлагать тебе что-то дорогое. Я знаю, какая ты скромная. Но посмотри: эта накидка из беличьего меха была бы тебе к лицу.
Матильда замотала головой, и Герлок не стала ее уговаривать, потому что увидела нечто еще более привлекательное.
– Какие шляпки! – восхитилась она и бросилась к соседнему прилавку. – Как изысканно они выглядят! Гораздо изысканнее, чем шапки и береты норманнов.
Матильда последовала за Герлок и удивленно уставилась на странные головные уборы. Они были островерхие и такие крошечные, что, наверное, не закрывали даже ушей.
– Они же совершенно не защищают от холода, – произнесла Матильда.
– Как будто одежду носят для того, чтобы согреться! – рассмеялась Герлок.
Матильда хотела возразить ей, но потом поняла, что имеет в виду ее собеседница. Послушнице было чуждо тщеславие Герлок, но не ее стремление получать от жизни больше, чем сытную еду и мягкую постель. Матильда разделяла и ее уверенность в том, что нельзя безвольно следовать по течению, как сейчас за толпой, что нужно самой определять направление и идти вперед, даже если для этого придется толкаться и пинаться. Задумавшись, она гладила грубые войлочные и шерстяные варежки, лежащие на том же прилавке.
Герлок потянула послушницу к другому торговцу.
– Эта накидка из пурпурной ткани сделана во Фризии, – заявила она со знанием дела. – К сожалению, в ней нет золотых нитей.
Ее огорчение длилось недолго. Сначала Матильда не понимала, что могло привлечь ее спутницу на соседнем прилавке, где продавались преимущественно предметы обихода: ткацкие рамки и бронзовые чаши, ножи, серпы и ножницы, веретена и грузики для ткацкого станка, но потом увидела в руках Герлок янтарный гребень. Девушка подержала его под лучами солнца, так что он засверкал золотом, а затем воткнула в свои пышные локоны пепельного цвета, которые, стянутые на затылке тоненькой лентой, ниспадали на спину.
– Разве он не прекрасен?! – воскликнула Герлок.
Она не стала дожидаться одобрения Матильды, а купила гребень не торгуясь и поспешила к следующему прилавку. Ее совершенно не смутило то, что прямо перед ним в луже валялась хрюкающая свинья, которая, видимо, сбежала от скотовода. Герлок показала на горшочек с синей пастой.
– Эту краску наносят на веки, – объяснила она, – или под глазами.
Матильда уже однажды видела Герлок накрашенной и не могла понять, как человек, которого Бог создал по своему образу и подобию, может вносить такие изменения в Его замысел. Высказать упрек послушница не успела, потому что Герлок невольно крикнула:
– На свадьбу я тоже накрашу глаза!
Матильда нахмурилась. Герлок часто представляла своего будущего мужа. Она с завистью смотрела на свою сводную сестру Кадлин – дочь Роллона и его кельтской возлюбленной, – которая вышла замуж в пятнадцать лет.
– На чью свадьбу? – спросила Матильда.
– На свою, конечно.
– Но ведь…
Герлок повернулась к Матильде, взяла ее за руки и крепко их сжала. Ее глаза блестели.
– Да, подумать только! Я выхожу замуж… наконец-то.
– Но за кого?
– Разумеется, за франкского графа.
Она отпустила Матильду, покружилась, а потом снова схватила ее за руки.
Восторг Герлок передался и Матильде, но потом в ней проснулось недоброе чувство зависти. У других людей мечты сбывались, тогда как она по-прежнему только ждала этого, а ведь Герлок никогда не молилась так истово и гораздо меньше заслуживала исполнения своих желаний. Что она вообще сделала для достижения своей цели, кроме того, что постоянно повторяла, чего бы ей хотелось, и предавалась порокам: тщеславию, лени и самолюбованию? Конечно, это не самые страшные грехи, но за них не полагается вознаграждение.
– А кто этот франкский граф? – Матильда все же снизошла до вопроса.
Герлок не расслышала язвительности в ее голосе.
– Сначала должен был жениться мой брат – на дочери Герберта де Вермандуа, нашего западного соседа, ты же знаешь.
– Вильгельм женится? – удивилась Матильда, и хотя она одобряла то, что он вступает в благословенный Богом союз, вместо того чтобы жить в распутстве с конкубиной, но все же с глубоким сочувствием подумала о Спроте.
– По крайней мере, так должно было случиться. Но эта Литгарда, его невеста, в конце концов вышла замуж за другого. Жаль. Вильгельм мог бы получить за ней богатые поместья.
Матильде было любопытно узнать, что об этой свадьбе думала Спрота. За последние годы она ни разу не намекнула на то, что сама хотела бы стать законной супругой Вильгельма. Когда послушница поинтересовалась, почему этого до сих пор не произошло, Герлок объяснила: жениться на Спроте невыгодно. Она происходила из знатного бретонского рода, но ее семья потеряла свое имущество во время набега норманнов и не смогла вернуть его, когда Ален Кривая Борода отвоевал Бретань.
– А каким образом это относится к тебе?
– Когда моему брату подыскивали невесту, заодно выбрали пару и мне. Все уже решено: когда сойдет снег, мы с Вильгельмом поедем в Лион-ла-Форе. Там состоится моя помолвка.
– Так скоро… – пробормотала Матильда.
– Тогда я откажусь от своего норманнского имени и возьму франкское! – воскликнула Герлок. – Меня будут звать Адель. А мой жених не кто иной…
В этот момент Матильду толкнули, и она не успела оглянуться, как толпа унесла ее прочь. Со всех сторон девушку окружали люди, их локти больно впивались ей в ребра. Она пыталась вырваться из толпы, но споткнулась о чью-то ногу и не упала только потому, что в последний момент успела опереться на городскую стену. Послушница растерянно смотрела на свои руки, расцарапанные до крови о твердый камень.
– Матильда… – вдруг послышался чей-то голос.
Девушка вздрогнула. Кто бы ни шептал ее имя, это была не Герлок: ее голос был резким и громким и она никогда не разговаривала шепотом. К тому же Герлок стояла слишком далеко.
– Матильда… – вновь услышала девушка.
Откуда доносится этот голос? Откуда исходит… опасность, которую она вдруг почувствовала? По ее телу побежали мурашки. Стена вдруг стала такой же холодной, как обледеневшая земля. Девушка напряженно вглядывалась в лица людей, но никто не обращал на нее внимания, никто ее не рассматривал, хоть она и ощущала, как кто-то сверлит ее взглядом.
– Матильда…
Теперь девушка поняла, откуда доносился голос. Подняв голову, она уставилась вверх, на городскую стену. Никого видно не было, но внезапно раздался громкий треск и что-то темное рухнуло вниз.
Матильда не пригнулась, она бесстрашно смотрела в глаза смерти. В это короткое мгновение, последнее мгновение ее жизни, у нее не осталось времени на страх, ложь, самообман, попытки стереть воспоминания и опровергнуть смутные догадки. Она чувствовала только сожаление.
«Я умру, так и не узнав, кто мои родители и кто тот мужчина, который носил меня на руках на цветочном лугу у моря. Я умру, так и не встретившись снова с Арвидом».
Внезапно Матильда ясно увидела перед собой его лицо: тонкий нос, мягкие губы, карие, как всегда немного грустные, глаза, волнистые волосы. На его лице не было ни стыда, ни смущения, на нем читались тревога и желание ее защитить, как тогда, когда они прятались на дереве от преследователей или когда Матильда кричала во сне, а он ее успокаивал.
«Арвид, – подумала она, – о Арвид».
Матильда растворялась в его глазах и хотела умереть с мыслью о том, что дни, проведенные рядом с ним, были самыми трудными, самыми жестокими и холодными в ее жизни, но в то же время и самыми яркими, необычными, страстными.
Она не умерла, и Арвид уже не просто смотрел на нее. Матильду схватили руки, его руки, и оттащили в сторону. Только ощутив силу и тепло его прикосновений, девушка осознала, что он был не видением, призванным облегчить ей расставание с жизнью, не тенью и не духом, – он действительно стоял перед ней, живой человек из плоти и крови.
Такая же кровь обжигала вены Матильды, застывшей в его объятиях в двух шагах от того, что рухнуло на землю. Если бы этот предмет упал ей на голову, она была бы уже мертва.
Арвид отпустил ее слишком быстро. Ее кровь остыла.
Раздался громкий крик, и на мгновение Матильда подумала, что он сорвался с ее губ, но на самом деле его издала Герлок. Она подбежала к девушке, схватила ее так же, как до этого Арвид, и стала трясти за плечи.
– Как ты? Ты ранена?
Матильда посмотрела на нее, потом перевела взгляд на Арвида, который, пригнувшись, все больше отдалялся, пока не исчез в толпе, оставив ее в плену сомнений. Был это действительно Арвид или же от страха и потрясения она увидела его черты в другом монахе?
– Как такое могло произойти… – сказала Герлок.
Она отпустила Матильду и подозрительным взглядом окинула ход на стене. Никакого движения Герлок не заметила. Вокруг девушек столпились люди, которые шептались и показывали на упавший предмет. Герлок наклонилась за ним.
– Убить… – выдохнула Матильда. Ее язык распух и тяжело поворачивался, так что она не была уверена в том, что говорит разборчиво. – Кто-то… кто-то хотел меня убить. А Арвид… Арвид оказался рядом…
– Точильный камень! – громко объявила Герлок. – Почему он свалился оттуда?
Герлок могла возмущаться из-за человеческого легкомыслия и небрежности, но была слишком бесхитростной, чтобы поверить в злой умысел убийцы.
– Вовсе нет! – возразила она. – Для чего кому-то желать твоей смерти? Очевидно, это всего лишь нелепая случайность. Там, наверху, постоянно ходят воины. Вероятно, этим точильным камнем они точили мечи, потом забыли о нем, а кто-то споткнулся о него, даже не заметив, что натворил.
Матильду пробрала дрожь. Она думала о склонившейся над ней темной фигуре в лесу, о серебряном блеске ножа, о холодном лунном свете… Она думала об убитых сестрах в монастыре Святого Амвросия, об укрытии среди соломенных снопов и о страхе сгореть заживо. Она думала о приказе воина.
«Найдите ее!»
Кто-то хочет ее убить. Кто-то все еще хочет ее убить.
Но один человек отвел от нее опасность в тот раз и сделал то же самое сегодня.
Арвид…
– Кто тот мужчина, который спас меня? – спросила Матильда, все еще сомневаясь, что может доверять своим растревоженным чувствам.
Герлок снова подошла к ней. Толпа рассеялась.
– Это был монах… Один из многих, которыми окружает себя мой брат. Ты же знаешь, – она закатила глаза, – Вильгельм такой набожный, он молится днем и ночью.
– А как его зовут?
Герлок неуверенно пожала плечами:
– Мне кажется, он пришел из Жюмьежского монастыря еще несколько лет назад.
– Может быть, его зовут Арвид?
Герлок снова пожала плечами:
– Может быть.
Хотя Матильда не знала наверняка, но почему-то была уверена в том, что видела именно Арвида. Он живет в замке графа Вильгельма, причем уже несколько лет. Он всегда был рядом, но ни разу не попытался с ней заговорить. И сегодня он хоть и спас ей жизнь, но сразу же сбежал, как и тогда в Фекане.
Теперь Матильда дрожала уже не оттого, что кто-то хотел ее убить. Она дрожала от разочарования и злости.
Спрота давно поняла, что изменить людей невозможно, но ей было любопытно за ними наблюдать.
В случае с Матильдой удовлетворить это любопытство оказалось непросто. Спрота не знала более замкнутого человека, чем эта девушка. Матильда была не просто молчаливой и стеснительной – она упорствовала в своем желании отгородиться от окружающих. Сегодня юной послушнице впервые не удалось скрыть свои переживания. На ее обычно таком невозмутимом лице отражались чувства: волнение и возмущение, обида и страх. Если бы она говорила, у нее наверняка дрожал бы голос, но, как это часто бывало, болтала Герлок. Она рассказала о тканевом рынке в Байе, о несчастном случае, который едва не произошел с Матильдой, о мужчине… нет, о монахе, спасшем ей жизнь. С тех пор как Матильда его увидела, она не может прийти в себя.
Наконец послушница не сдержалась:
– Конечно же, я пришла в себя!
В ее голосе слышалась обида.
– Оставь нас наедине, – попросила Спрота Герлок, и та почему-то не стала возражать. Возможно, она была слишком взволнована или же просто хотела рассмотреть свои покупки.
Спрота взглянула на Матильду.
– Несчастный случай? – с сочувствием спросила она.
– Вряд ли это произошло случайно…
Матильда отвернулась, но потом, запинаясь, стала рассказывать. По мнению Спроты, ее рассказ вышел несколько путаным. Девушка говорила о своем прошлом, о своем происхождении, о бретонском и датском языках, которыми владела, но не знала, кто ее им обучил, о неизвестности, которая отравляла ей душу… и, как сегодня выяснилось, побуждала кого-то желать ее смерти.
Не то чтобы Спрота ей не верила. О том, что на земле есть люди, желающие ближнему не добра, а зла, она узнала давно. Просто она привыкла не обращать на это внимания.
– А тот мужчина, который тебя спас? – тихо спросила Спрота.
– Он другой.
Матильда сжала губы, ее лицо снова приобрело невозмутимое выражение, и на мгновение, на одно короткое мгновение Спроте показалось, будто она смотрит в зеркало. Женщина вспомнила о тех временах, когда еще не умела принимать людей такими, какие они есть, и довольствоваться тем, что жизнь бросает ей под ноги. О временах, когда она была юной девушкой, сначала дочерью представителей древнего рода, уважаемых бретонцев с обширными земельными владениями, а потом дочерью беглецов, которые так и не смогли смириться с тем, что должны умереть на чужбине. В отличие от Матильды, упомянувшей о тайне своего происхождения, Спрота всегда знала, кто ее родители, однако никому из них это знание не помогло. Они лишились своей родины и не могли вернуться, сколько бы ни предавались воспоминаниям и тоске по ней. Лучше было отрицать эту тоску, душить воспоминания, смириться с потерей родины и искать себе новую.
– Не думай о тайнах и о явлениях, которым ты не можешь найти объяснение, – посоветовала Спрота Матильде, – это давит на тебя и клонит к земле, а когда ты со сгорбленной спиной ходишь по миру, ты совсем его не видишь.
– Но что, если кто-то действительно хотел меня убить?
– Ты еще жива.
В своей жизни Спрота часто успокаивала себя этим «еще». Они с родителями были еще живы после побега. Ее семья была еще достаточно влиятельной, чтобы удостоиться знакомства с графом Вильгельмом. Она сама была еще довольно молодой и красивой, чтобы ему понравиться. До сих пор только она родила ему сына, поэтому все еще оставалась его конкубиной и могла видеть, как растет Ричард. Возможно, когда-нибудь все изменится. Возможно, Вильгельм ее прогонит, женится на девушке из знатного франкского рода, станет отцом сыновей, рожденных в браке, или уйдет в монастырь. Но переживать из-за этого было еще рано.
– А если этот человек завтра попытается снова… – начала Матильда.
– Если он попытается завтра, то по крайней мере сегодня ты в безопасности, – сказала Спрота. – Воспользуйся этим днем. Бери то, что можешь получить, и не требуй большего. Я всегда так жила, и посмотри, кем я стала.
Наконец Матильда подняла глаза. Казалось, она снова обрела спокойствие, в то время как сама Спрота его внезапно потеряла. Она спрашивала себя, кого на самом деле видит Матильда, когда смотрит на нее? Хладнокровную умиротворенную женщину, которая может найти подход к каждому человеку и справиться с любой трудностью? Или все же ту печальную девушку, которая, прежде чем свыкнуться со словом «еще», всегда хотела получить больше, а именно больше любви Вильгельма, особенно в их первую ночь – страстную ночь блаженства, когда она надеялась обрести в его объятиях новую родину. Но в этих объятиях Вильгельм держал ее недолго: он слишком рано поднялся, помолился и попросил прощения за грех, совершенный с ней, Спротой. Тогда она почувствовала себя уже не любимой, желанной и защищенной, а такой озябшей, одинокой и безродной, как никогда в жизни.
Однако Матильда ничего этого не знала и не искала в ней черты той печальной девушки.
– Разумеется, ты права, – коротко сказала она.
Арвид внимательно прислушивался к разговору Вильгельма и его советников. Обычно подобные дела его совершенно не интересовали и все слова – касались они Нормандии, графа, его семьи или самих собеседников – пролетали мимо его ушей. Но сегодня юноша впитывал каждое слово: ему нужно было занять чем-нибудь свой разум и заглушить воспоминания о том, как три года назад он вместе с Матильдой блуждал по лесу, и о том, как сегодня утром он прижал ее к своему телу так же крепко, как тогда. В тот момент ему показалось, что эти годы длились не дольше, чем взмах ресниц, и не имели никакого значения. Да и что могло иметь значение без… нее?
Арвид тряхнул головой и попытался думать не о Матильде, а о Герлок, ведь речь шла о ее замужестве. Он едва знал эту девушку, но о таких разговорчивых людях можно составить мнение, увидев их всего лишь пару раз. Судя по всему, Герлок была очень самоуверенной, немного дерзкой, слишком назойливой и громкоголосой, но в целом весьма приятной особой.
Интересно, Гильом Патлатый, могущественный граф Пуатье, хотел себе именно такую жену? И почему у него такое смешное прозвище? Арвид недоумевал, в то время как советники графа произносили это имя без тени улыбки. Видимо, они слышали его так часто, что оно уже перестало казаться им забавным.
Трое мужчин неизменно присутствовали почти при каждом разговоре. Бернард, которого нарекли Датчанином по названию его родины, был добросовестным человеком, строгим к себе и другим. Он отличался острым умом и всегда больше всех знал о событиях, происходивших в Нормандии и соседних областях. Второго мужчину, Бото, тоже называли Датчанином. Судя по его красному лицу, он относился к себе не так строго, как Бернард, а, наоборот, в полной мере наслаждался радостями жизни. Бото был крестным отцом маленького Ричарда, часто упражнялся с ним в искусстве владения мечом и верховой езде. Он происходил из семьи, которая служила Вильгельму уже не в первом поколении: его отца тоже звали Бото, и он входил в окружение отца Вильгельма, Роллона. О телесном благополучии Ричарда заботился Осмонд де Сентвиль – самый молодой и вспыльчивый из всех троих. Он предпочитал воевать, а не разговаривать, подобно тому как Вильгельму больше нравилось молиться, чем руководить страной. У них обоих не было выбора, им обоим приходилось подавлять свою истинную природу и выполнять обременительные государственные обязанности.
Теперь в эти обязанности входило выдать замуж Герлок и извлечь из этого наибольшую политическую выгоду. В этом отношении кандидатура Гильома Патлатого вызывала некоторые сомнения.
– Гильом Патлатый – враг Гуго Великого. Стоит ли заключать такой тесный союз именно с ним? – тревожился Бото.
Вильгельм молчал. Он почти всегда молчал, как и Арвид. На вопрос ответил, как это часто бывало, Бернард, известный своей рассудительностью:
– Это не должно нас интересовать, не в последнюю очередь потому, что король Людовик все больше освобождается от влияния со стороны Гуго. Возможно, будет не так уж плохо показать, что в самоуверенности и силе мы ничуть не уступаем франкскому королю.
– Гуго не станет усугублять вражду. Напротив, он обязательно посетит помолвку в новом замке в Лион-ла-Форе, чтобы лично засвидетельствовать свою притворную благосклонность.
– А мы сможем доказать, что обладаем таким же богатством и изысканными манерами, как и наши соседи, – заметил Бернард. – Нужно дать Герлок очень хорошее приданое.
От такого количества имен и названий внимание Арвида стало слабее, и перед его глазами снова возник образ Матильды. Ему так долго удавалось держаться от нее на расстоянии и не вспоминать о том, что, когда Вильгельм уезжал из Руана к сыну, она находилась в непосредственной близости от него. Но сегодня Арвид не сдержался. Увидев, как на Матильду, хрупкую девушку, летит камень, он просто не мог поступить иначе. Как она сейчас? Может быть, до сих пор дрожит?
Арвида охватила дрожь, и он глубоко вздохнул.
– Кстати, в том, что Гуго приедет в Лион-ла-Форе, есть и хорошие стороны, – сказал Бото. – У нас появится возможность еще раз доказать, что если он все же захочет захватить власть, то в нашем лице сможет найти сильного союзника. В то же время нам нельзя открыто принимать чью-либо сторону – наоборот, мы должны пообещать Людовику, что будем оказывать ему всяческую поддержку, до тех пор пока он не поставит под угрозу независимость Нормандии и могущество нашего графа.
Арвид вспомнил, какой неустойчивой была власть в королевстве. Людовик, который хотел убить его, своего племянника, правил уже почти три года, но, несмотря на свое юношеское честолюбивое желание убедить весь мир в обратном, так и не смог полностью освободиться от гнетущей опеки Гуго Великого, по чьей милости и стал королем. В подчинении Гуго находилось влиятельное аббатство Сен-Дени, он пребывал в Париже и обладал обширными территориями, в то время как владения Людовика были ничтожно малы. Неудивительно, что втайне он желал захватить Нормандию, но, чтобы одолеть Гуго, ему придется приложить максимум усилий.
Осмонд поклонился и впервые с начала разговора произнес:
– Мы еще не вспоминали о том, что, хотя Гильом Патлатый и богат, Аквитания раздроблена, как и прежде. А вдруг ему не удастся надолго объединить свои земли? Слабый зять не сможет помочь графу, если Нормандия когда-нибудь подвергнется нападению.
– С другой стороны, – заметил Бернард, – слабый зять не сможет напасть на Нормандию. Именно потому, что у Гильома Патлатого есть сильные враги, ему будет некогда бросать хищные взгляды на родину будущей жены.
Осмонд молча кивнул, остальные тоже не стали искать новые аргументы. Самое важное уже прозвучало, и теперь Вильгельм должен был принять решение. Как всегда, он смотрел немного рассеянным взглядом, будто в мыслях витал где-то далеко, но, когда Бернард покашлял, граф вздрогнул и решительно заявил:
– Хорошо. Значит, доводов в пользу свадьбы Герлок и Гильома Патлатого у нас больше, чем против нее.
Осмонд нахмурился. Вероятно, в глубине души он считал, что решения должны основываться на осознании собственной силы и пылких убеждениях, а не на трезвой оценке преимуществ и недостатков, однако, поскольку среди всех этих людей его мнение имело ничтожный вес, возражать не стал. Практичный Бернард поднялся, явно радуясь тому, что так быстро убедил графа.
Бернард преданно служил Вильгельму, но Арвид часто видел, что он завершал собрания, как только достигал своей цели. Стремление любым способом укрепить власть графа и обеспечить ему успех не вызывало желания быть его другом и проводить с ним как можно больше времени.
Арвид тоже не считал себя другом Вильгельма, хотя и не встал с места, когда Осмонд и Бото последовали за Бернардом. Графу казалось естественным то, что советники его избегают, и он старался всегда находиться в окружении монахов. Он неустанно повторял, что своей настоящей семьей считает тех, с кем посещает богослужения, постится и целые дни, а иногда и ночи посвящает молитве, но в действительности для них он оставался таким же неприступным, как для Бернарда и Бото. Ни с одним человеком Арвид не проводил больше времени, чем с Вильгельмом, но, несмотря на это, за последние два с половиной года они ни разу не поговорили по душам, не поделились своими чувствами, не произнесли дружеских клятв. Арвид был даже рад этому. Он мог бы подружиться с Вильгельмом: конечно, тот был графом и воином, но не властным и жестоким, а скорее задумчивым, и всегда печалился оттого, что не имел возможности вести праведную жизнь. Однако в душе Арвида тоже жила печаль, и если Вильгельм не мог ни на кого выплеснуть свою злость, то послушник именно графа обвинял в том, что вынужден жить вдали от Жюмьежского монастыря.
– В Пуатье, – вырвалось у Вильгельма, – в том городе, где правит Гильом Патлатый и будет жить Герлок, есть много монастырей.
Арвид бросил на него удивленный взгляд: у такой женщины, как Герлок, это обстоятельство вызвало бы куда меньше восторга, чем великолепие ее будущего замка.
– Возможно, один из них согласится прислать в Жюмьеж несколько братьев, которые могли бы помочь в восстановлении обители.
Арвиду с трудом удалось сдержаться и не сжать пальцы в кулак. Если Вильгельм так беспокоится о судьбе монастыря, то почему он держит его здесь, возле себя? Знает ли граф вообще, что он, Арвид, попал сюда не по своей воле, а исключительно по желанию аббата Годуэна?
Мышцы Арвида напряглись, во рту пересохло, но он овладел собой и сдавленным голосом сказал:
– Это хорошая мысль.
Вильгельм, как это часто бывало, не заметил его ярости. Возможно, из-за того, что он ни одного человека не подпускал к себе достаточно близко, чтобы заглянуть в потайные уголки его души. Возможно, Арвид просто слишком хорошо научился скрывать свой гнев, казаться спокойным и скромным. И лишь иногда его, как в тот раз с Годуэном, охватывало желание громко закричать, что-то разбить, ударить кого-то – не важно, кого именно: Вильгельма, Бернарда Датчанина или Матильду. Да, когда Арвид о ней подумал, ему вдруг захотелось не притянуть ее к себе и сжать в объятиях, как утром, а встряхнуть за плечи, а потом толкнуть, чтобы она пошатнулась, упала на землю и не смогла подняться. Дать волю самым темным сторонам своей души было лучше, чем слышать в себе голос, тоскующий по теплу, нежности и любви.
– Ты едешь со мной в Лион-ла-Форе, – сказал граф послушнику.
Арвид опустил глаза, потрясенный жестокостью своих фантазий, уставший от того, что Вильгельм принимает за него решения, не спрашивая о его желаниях, и испуганный мыслью о том, что не только он будет сопровождать Вильгельма, но и Матильда может поехать с Герлок.
Герлок уговаривала Матильду так долго, пока та не сдалась и не согласилась отправиться вместе с ней. Через две недели после посещения рынка девушки сели в повозку, ждавшую их во дворе. Узнав, что граф Вильгельм уже отбыл в сопровождении своих воинов и монахов, Матильда вздохнула с облегчением.
Поднимаясь в повозку, в которой им предстояло проделать путь до Лион-ла-Форе, девушки услышали рядом с собой громкий звонкий голос:
– Как бы я хотел поехать с вами!
Кричал маленький Ричард, который попрощался сначала с Герлок, а потом со своим крестным – Бото Датчанином. Вместе с другими воинами Бото должен был сопровождать Герлок, но будущему наследнику следовало остаться в безопасном Байе.
Добродушно улыбаясь, мужчина наклонился к мальчику:
– Потом я расскажу тебе обо всем, что происходило в Лионе.
Ричард восторженно кивнул и обратился к Матильде:
– И ты, – воскликнул он, – ты тоже обо всем мне расскажешь!
Она согласилась, хотя не хотела ничего видеть, слышать и уж тем более об этом рассказывать. Было бы лучше, если бы с Герлок поехала Спрота, но ни один из франкских соседей Вильгельма не стал бы принимать у себя конкубину норманнского графа. Матильде хотелось зажмурить глаза и открыть их, только вернувшись обратно в Байе. Но в этой деревянной коляске, обтянутой кожей, было невозможно ехать с закрытыми глазами: шкуры, разложенные на полу, не могли уменьшить тряску, и если бы Матильда зажмурилась, приступы тошноты стали бы еще сильнее. Вскоре ее начали беспокоить боли в спине и неприятные ощущения в желудке. Чтобы немного подышать свежим воздухом, девушка высунула голову в маленькое окошко. Она целую вечность не видела такого густого леса, как тот, через который они проезжали, не ощущала терпкого запаха земли, не боялась темноты в зарослях высоких деревьев. Целую вечность, с тех пор как они с Арвидом передвигались по похожему лесу, но не в теплой и безопасной повозке, а пешком и коченея от холода… Матильда вздрогнула и заставила себя прислушаться к словам Герлок.
А той эта поездка, судя по всему, не причиняла никаких неудобств. Девушка болтала без умолку о том, в чем разбиралась лучше всего: о моде, о прическах и о платьях.
– Франкские невесты в день своей свадьбы одеваются в красное… Значит, я тоже буду в красном. Как ты думаешь, что мне надеть на первую встречу с Гильомом Патлатым? А вдруг я ему не понравлюсь?
В ее голосе прозвучали игривые нотки, но все же в нем сквозила тревога.
– Ты никогда его не видела? – спросила Матильда.
– Конечно нет! Где бы я могла его увидеть, ведь он живет в Пуатье, а я в Фекане или Байе?
– И тем не менее ты не боишься выходить за него замуж… Ты ведь его не знаешь. Разве… разве тебе совсем не страшно?
Матильда нечасто разговаривала с Герлок так доверительно. Обычно их беседы касались каких-то несущественных мелочей, но не чувств.
Герлок, казалось, не обиделась на вопрос Матильды.
– Он франк и влиятельный человек, почему я должна его бояться? – недоумевала она.
Матильда промолчала. Какой бы невыносимой ни казалась ей мысль о свадьбе с незнакомцем, девушке было известно, что даже знакомые мужчины могут вести себя, как чужие. Узнать человека – это нечто большее, чем несколько раз увидеться с ним, и, возможно, даже хорошо, что Герлок было известно о ее будущем муже не так уж много.
Послушница все еще чувствовала себя плохо, но уже не выглядывала из окошка, а, наоборот, задернула кожаную занавеску, не желая больше видеть лес.
– Надеюсь, ты с ним будешь счастлива, – пробормотала она.
– Я буду счастлива, когда меня перестанут называть Герлок, – непривычно серьезно ответила девушка.
В час, когда через несколько дней они наконец добрались до цели, над землей уже сгущались сумерки. От утомительной поездки у Матильды так болело тело, что она едва могла шевелиться. Лес на последнем отрезке пути был уже не густым: дубы, буки и клены стояли на отдалении друг от друга, открывая вид на замок и его толстые стены. Сооруженные из бревен, пересыпанных землей, они выглядели высокими, надежными и, казалось, с легкостью выдерживали сильные порывы ветра.
Матильда не могла дождаться, когда снова окажется в тепле. Как только ее провели в женские покои, она сразу же бросилась к камину и вскоре почувствовала, как от его жара расслабляется ее измученное тело. Герлок, напротив, с любопытством оглядывалась по сторонам. Она ожидала увидеть здесь высокородных дам, жен знатных франков, однако в комнате никого не оказалось. Служанка, которая их сюда привела, сообщила, что правители не привезли своих жен: ни король Людовик, сочетавшийся браком с Гербергой, ни Гуго Великий, чья супруга Гедвига совсем недавно родила дочь. Хильдебранта, жена Герберта де Вермандуа, давно умерла, а его дочь Литгарда отказалась от поездки, и у нее были для этого основания.
– Конечно, она не хочет встречаться с моим братом, ведь когда-то расстроилась их свадьба, – сказала Герлок.
Что бы ни послужило причиной того, что они с Матильдой пока оставались одни, Герлок огорчилась: ей не удалось похвастаться своими нарядами и драгоценностями перед франкскими знатными дамами. Но, как обычно, она не показала своего разочарования. Герлок открыла маленькие шкатулки и коробочки, в которых привезла украшения – сережки из розового кварца, пряжку в форме полумесяца, украшенные янтарем и прикрепленные к поясу флакончики с нюхательной солью, рубиновое ожерелье, серебряные и бронзовые браслеты, – и принялась размышлять, по какому случаю могла бы надеть каждое из них. Потом девушка начала разбирать свою одежду: нижние юбки, которые она наденет одну поверх другой, темно-синюю и пурпурную туники, кожаный пояс с золотыми и серебряными пряжками, витту – тканую головную повязку из золотой парчи.
Матильда не удержалась и восхищенно погладила эту повязку, которая хоть и выглядела дорогой, но, к удивлению девушки, оказалась жесткой на ощупь. А что, если муж Герлок был таким же – красивым и статным, но жестоким, бессердечным? Матильда, наглухо закрывшая свое сердце, не могла назвать навязчивую Герлок своей подругой, однако, увидев ее восторг, очень захотела, чтобы это воодушевление не исчезло в последующие дни и девушке не пришлось страдать от разочарований.
– И ты действительно совсем не боишься увидеть его? – еще раз робко спросила она.
Герлок только рассмеялась:
– Я ведь уже говорила: он франк, и у него есть власть.
Матильда хотела сказать, что франки тоже бывают злыми, а правители – жестокими, но решила оставить свои мысли при себе. Герлок так долго ждала, когда сможет выйти замуж и избавиться от своего «наследства». И кто, если не она, Матильда, мог понять, какое облегчение девушка сейчас испытывает.
Было уже поздно, и встречу с Гильомом Патлатым пришлось отложить. Вскоре девушки уснули: Герлок в постели, а Матильда в изножье ее кровати. На полу громко храпели две служанки, которые поднялись еще до рассвета. Утром Матильда чувствовала себя так, будто за ночь не сомкнула глаз, однако кости уже не ломило, а завтрак из свежего хлеба, сыра и простокваши был просто превосходным.
Если Герлок, помимо любопытства, все-таки ощущала страх перед знакомством со своим женихом, то ничем этого не выдала. Она прихорашивалась, причесывала волосы и надевала украшения, болтая, как обычно, и к обеду была готова выйти в большой зал. Матильда с радостью осталась бы в комнате, но Герлок решительно потребовала:
– Конечно же, ты пойдешь со мной! Кто еще расскажет всему миру, какой красивой я была в этот час?
Послушница хотела возразить, что она не относится к числу людей, которые разбираются в красоте, но сдержалась и в который раз подчинилась воле Герлок.
Путь в большой зал вел через гостиную, множество маленьких комнат, кладовых, кабинетов нотариусов и покоев для знатных гостей. Каменные стены всюду были голыми, и только в зале их украшали фрески и шкуры быков и оленей. В печи, сложенной из бутового камня, потрескивал огонь; окна, несмотря на то что весна уже укутывала землю зеленым покровом, были утеплены грубой тканью; на потолке висели керосиновые лампы.
Сначала Матильда не поднимала глаз, но потом стала осторожно осматриваться: искала она не Гильома Патлатого и не Герлок, а Арвида. Большинство лиц, обращенных к ней, были ей незнакомы – она узнала лишь графа, Бото, Осмонда и молодого воина по имени Йохан, который обучал Ричарда датскому языку. Как всегда, Йохан дружелюбно улыбнулся послушнице, а она залилась краской и опустила глаза.
Лишь через некоторое время Матильда заметила, что лицо Герлок тоже стало пунцовым. Ее будущий муж подошел к ней, низко поклонился, взял за руку. Услышав смех Герлок, Матильда вздохнула с облегчением и теперь осмелилась украдкой рассмотреть Гильома Патлатого.
Он был высоким, но чуть ниже, чем норманны из окружения графа Вильгельма. Гильом отличался плотным телосложением, но не носил наводящего ужас оружия. У него была рыжая борода, такого же цвета волосы и карие глаза. Во взгляде этого мужчины не чувствовалось тепла, но на улыбку Герлок он ответил – может быть, оттого, что девушка ему понравилась, а может быть, потому, что она была завидной невестой. Гильом Патлатый, как Матильда узнала накануне, пользовался сомнительной славой. Его отец Эбль, умерший в 934 году, был бастардом, которому приходилось отстаивать свою власть в борьбе с многочисленными врагами. Вместе с землями он передал в наследство своему сыну и этих врагов.
Гильом Патлатый провел Герлок к столу, отодвинул для нее стул и порезал мясо на маленькие кусочки.
Вдали от своей спутницы Матильда вдруг почувствовала себя одинокой. Она с удовольствием устроилась бы в уголке большого зала, но там уже расположились воины, сопровождавшие влиятельных правителей, и ей не оставалось ничего иного, кроме как сесть за стол. Ее взгляд снова упал на молодого Йохана, который жестами звал ее к себе. Поскольку вид у него был доброжелательный, она решила принять приглашение.
Йохан порезал для нее мясо, так же как Гильом Патлатый для Герлок. Выбор мясных блюд впечатлял: жареный гусь с каштанами, приправленный тмином и перцем, свинина с хрустящей корочкой, говядина, отваренная в бульоне из тимьяна, купыря и любистка, жаркое из баранины с розмарином. Чуть позже внесли инжир, айву, персики, лесные и грецкие орехи, а также орехи, которых Матильда еще никогда не видела.
– Это миндаль! – сказал Йохан, наслаждавшийся вкусной едой не меньше, чем обществом Матильды. – Его привозят с юга и подают только по особым случаям.
Матильда была не так голодна, как ее спутник, но от духоты, царящей в зале, почувствовала жажду и выпила больше, чем следовало, сладкого ежевичного вина, которым, вместе с яблочным и грушевым сидром, угощали женщин. Вскоре у девушки закружилась голова, и, когда Йохан громко сообщил ей, что подали кобылье молоко – деликатес, который могли себе позволить только очень состоятельные люди, – ей показалось, что лицо молодого воина раздвоилось. Матильда поморгала и сделала глубокий вдох – лицо Йохана обрело четкие контуры, и она снова ясно увидела музыканта, ударившего по струнам лютни. Как только зазвучали первые такты, Герлок и Гильом Патлатый пошли танцевать.
Матильда заметила лихорадочный блеск в глазах Герлок, которая уже не заходилась своим привычным громким смехом, а лишь улыбалась какой-то незнакомой улыбкой. Может, она устала от пережитых волнений? Или же рядом с могущественным франком женщине запрещалось громко смеяться? В любом случае она выглядела счастливой, даже если Матильда никому бы не пожелала такого счастья. Должно быть, кровь, кипящая в венах Герлок, обжигала сильнее, чем ежевичное вино.
Возвращаясь вместе с Гильомом Патлатым к столу, девушка подошла к Матильде и наклонилась к ней.
– Он ведь тебе нравится? – шепнула Герлок ей в ухо.
– Гильом, несомненно, прекрасный человек…
– Я говорю не о своем женихе, а о… нем.
Герлок многозначительно подмигнула и перевела взгляд на Йохана. Прежде чем Матильда успела понять, на что намекает сестра графа, та уже скользнула на свое место, не дав послушнице с возмущением заявить, что ей нет дела до мужчин и что она хочет жить в монастыре.
Матильде расхотелось пить вино и сидеть рядом с Йоханом. Молодая послушница быстро поднялась, и у нее вновь закружилась голова. Как бы ни расплывалось все у нее перед глазами и какой бы тяжелой ни казалась голова, девушка совершенно ясно ощущала: кто-то пристально смотрит на нее, сверлит ее взглядом.
Она огляделась. Йохан продолжал увлеченно поглощать жаркое, Герлок улыбалась своему жениху, музыкант перебирал струны. Нет, никто из них не обращал на нее внимания, а собравшиеся здесь влиятельные люди таких, как она, и вовсе не замечали. Кто же мог впиваться взглядом ей в спину?
На теле девушки выступил холодный пот.
«Арвид… Возможно, Арвид все же где-то рядом».
Матильда снова посмотрела по сторонам, однако мужчину в монашеской рясе нигде не увидела. Кто бы ни разглядывал ее, это был не Арвид, а поскольку послушница больше никого здесь не знала, она пришла к выводу, что все это ей показалось и ей нужно удалиться и развеять свои тревоги с помощью молитвы. И больше никогда не пить столько вина.
Два последующих дня ознаменовались пирами, музыкой, танцами и охотой. Мужчины уходили рано утром и возвращались только к полудню – одни огорченные тем, что удача оказалась к ним неблагосклонной, позволив добыть только небольших животных – куниц, выдр и бобров, другие гордые оттого, что им удалось уложить зверя покрупнее – оленя или кабана. Глядя на разгоряченные лица и блестящие глаза мужчин, можно было подумать, будто они совершили героический поступок. Вероятно, им, привыкшим к походам и сражениям, приходилось убеждать себя в этом, чтобы, собравшись в таком количестве, избежать искушения вылить накопившуюся энергию друг на друга.
Герлок побывала на охоте вместе с Гильомом Патлатым и теперь болтала о предметах, которые до этого никогда ее не волновали: о различных видах ножей, которыми снимали звериную шкуру, и щелочи, с помощью которой из нее делали кожу. Кроме того, она говорила о лошадиных бегах, которые устраивали после обеда. Матильде это зрелище казалось слишком жестоким: во время него колотили дубинкой не только животных, но и противников, а победителя можно было узнать по наименьшему количеству ссадин. Те, кто не состязался в верховой езде, устраивали бои на мечах или метали копья. Самым безобидным было развлечение, которое позволяло проявить не только свою силу, но и ловкость, – жонглирование. Герлок восторженно наблюдала за этим занятием, хлопала в ладоши и вскрикивала от волнения. Что именно вызывало у нее такой восторг, Матильда понять не могла. Возможно, после помолвки с влиятельным франком просто нельзя было вести себя иначе.
Строго говоря, Герлок еще даже не была помолвлена. Только на третий день после ее приезда мужчины за закрытыми дверями принесли друг другу клятвы верности и договорились о приданом невесты.
Матильда и непривычно молчаливая Герлок ожидали их решения в большом зале. Герлок не отрывала напряженного взгляда от своих ладоней: вероятно, она боялась, что помолвка в последний момент расстроится, а может быть, втайне надеялась на это, но не признавалась в этом даже самой себе.
Послушница обернулась: недалеко от входа кричали молодые воины. Их шутки, поначалу невинные, переросли в бурную ссору, а потом дело дошло до драки, которую остановил мужчина постарше. Среди воинов был и Йохан, дружески подмигнувший Матильде. Девушка смутилась, отвела глаза и посмотрела на женщин, расположившихся возле большого камина. Хотя знатные правители и не привезли с собой своих жен, их приближенные поступили иначе. Их супруги держались поодаль от Герлок и Матильды, оживленно шептались и бросали на них пренебрежительные взгляды.
Матильда не раз краем уха слышала, с каким презрением они говорили об отце Герлок, Роллоне. Раньше ей тоже рассказывали истории о том, что он – опасный норманн, который силой захватил эти земли и хоть и был крещеным, но в душе оставался язычником, вселяющим страх. Тем не менее эти взгляды задевали Матильду, и она не понимала, почему Герлок не поставила этих женщин на место, почему эта дерзкая, смелая девушка вела себя так робко.
Матильда посмотрела на Герлок внимательнее и отметила ее необычайную бледность. Кажется, она даже похудела… Но ведь в замке Гильома Патлатого все это время она хорошо питалась. Или же, независимо от количества съеденного, рядом с таким влиятельным мужчиной женщина обязательно должна превратиться в его тень? А может, Герлок, всегда мечтавшая стать другим человеком – не дочерью норманна, а женой франка, – думала, что это желание исполнится быстрее, если от нее прежней останется как можно меньше?
На невесту было больно смотреть, жар от камина исходил невыносимый, и Матильде захотелось покинуть зал. На улице, наверное, было зябко, но послушница не боялась холода: в монастыре он царил всегда, и монахини стойко выдерживали его, демонстрируя готовность отречься от земных благ. Сказав, что направляется в уборную, Матильда оставила Герлок. Та даже не подняла на нее глаза. И тем не менее кто-то следил за Матильдой – по крайней мере, так ей казалось. Кто-то снова смотрел на нее, буквально обжигая ей спину пронзительным взглядом. Девушка вздрогнула и обернулась. Никто не обращал на нее внимания, но она остро ощутила дуновение холода – холода, который был вызван не ветром, снегом и льдом, а… чьей-то ненавистью.
Матильда растерянно пошла дальше и добралась до коридора, ведущего из зала на улицу. В воздухе висели густые клубы дыма, от которых у нее запершило в горле. Вне стен зала девушке не стало лучше: остановившись, она оглянулась и снова почувствовала на себе липкий взгляд, исполненный злобы и презрения. Она попыталась что-то разглядеть, но в дымовой завесе не смогла ничего различить.
– Кто здесь? – крикнула Матильда в серую пелену.
До выхода было недалеко, но в этом коридоре девушка чувствовала себя как в ловушке, беззащитная перед невидимой, подстерегающей ее опасностью.
Ответа не последовало.
Матильда сделала глубокий вдох, решив, что все это ей просто показалось. Она уже хотела идти дальше, когда услышала голос, шептавший ее имя.
– Матильда… – повторял он снова и снова. – Матильда… Пойдем со мной.
Клубы дыма сгустились еще сильнее; казалось, что весь мир тонет в них, а стены шатаются. Островок, на котором девушка еще могла уверенно стоять, был крошечным, а голос, шепотом произносивший ее имя и зовущий за собой, – зловещим.
Он звучал так, как будто принадлежал не человеку из плоти и крови, а призраку, но слова тем не менее слышались отчетливо.
– Матильда… Матильда… Пойдем!
Был этот голос мужским или женским? Доброжелательным или враждебным? Ей грозила страшная опасность или же, наоборот, бояться было нечего? Вглядываясь в серую пелену, стирающую границы, девушка не находила ответов на эти вопросы.
Внезапно голос произнес еще одно имя:
– Авуаза…
Сердце Матильды едва не выскочило из груди. Она не слышала этого имени, с тех пор как попала в монастырь. И тем не менее оно не казалось ей чужим – это имя будило еще более отчетливые воспоминания, чем ее сны, и от этих воспоминаний… исходила опасность. Матильде запретили их ворошить; она погибнет, если ослушается. Именно эту мысль какой-то человек однажды внушил ей.
– Тебе нельзя никому рассказывать о том, кто ты, слышишь? Ты должна забыть об этом.
– Почему? – спросила Матильда. Она была еще маленькой, беззащитной и очень испуганной. – Почему нельзя?
– Ты в большой опасности. Она не остановится, пока не найдет тебя. Пока не найдет и… – Ее собеседник осекся, но было ясно, какие слова остались недосказанными: не найдет и… не убьет.
«Кто такая она? Женщина по имени Авуаза? А человек, говорящий шепотом? Его подослала эта женщина?»
Слезы подступили к горлу, и Матильда вслепую пошла дальше, натыкаясь на стены. Мир все-таки не утонул в дыму, но съежился еще больше. Казалось, что потолок рушится, заваливая ее камнями.
– Матильда… Иди ко мне…
Дым, повсюду серый дым… Повсюду воспоминания, внезапно выступившие из этой пелены.
Вот она, счастливая, бежит по цветочному лугу. Светловолосый мужчина ловит ее и поднимает на руки, но, когда он ее отпускает и Матильда остается одна, луг теряет краски. Перед ней вырастают большие темные ворота, ее уводят, ворота закрываются, кто-то опускает засов.
«Меня заперли, теперь все кончено… Отныне я в тюрьме… Я больше никогда не буду счастлива… Я потеряла его навсегда».
Матильде нельзя было даже думать о нем. Ей пришлось оставить прежнюю жизнь так же, как и старую одежду. С нее стянули платье и надели что-то другое. Ткань была грубой, Матильда сопротивлялась, отбивалась, кусалась. Потом кто-то ударил ее по щеке.
– Какая она строптивая, – сказал какой-то человек. Этого голоса она никогда прежде не слышала.
– Неудивительно, – ответил другой голос, тоже незнакомый. – Тебе ведь известно, кто ее отец.
– Мы должны стереть из ее памяти воспоминания о нем.
Матильда не понимала, она отказывалась это понимать! Зачем стирать воспоминания? Ее отец, светловолосый мужчина, оберегал ее, рассказывал ей истории, носил на руках… Почему они его боялись, почему считали его злым и опасным, почему эти чужие женщины так грубо с ней обращались? Знакомых лиц нигде не было видно, и лишь один человек выглядел приветливым – Маура. Монахиня, впоследствии ставшая ее близкой подругой, тогда тоже была маленькой девочкой, напуганной и тихой. Грубая ряса сдавливала тело. «Сейчас я задохнусь, – думала Матильда, – сейчас я задохнусь».
Но она не задохнулась – ни в тот день, когда попала в монастырь, ни сегодня, когда шла на зов чужого голоса.
Девушка потопталась на месте, а затем побежала вдоль стены, через дверь, по коридору. Коридор заканчивался комнатой. Было слишком темно, чтобы разглядеть, что это за помещение и есть ли в нем люди, которые ее ожидают. Голос молчал и не призывал Матильду идти дальше. Она ощущала боль в глазах и еще более сильную боль в груди: старая душевная рана вновь кровоточила.
«Я одна в целом мире. Меня все бросили».
Когда Арвид оставил Матильду в Фекане, не попрощавшись, рана заныла, но не открылась. Это произошло только теперь, и виной тому был таинственный голос, дым и воспоминания.
«Я одна, в плену, вдали от тех, кто меня любит».
На деревянном столе Матильда увидела кружку. Что бы ни было в нее налито – вино, пиво, медовый напиток или вода, – это не имело значения. Девушка не могла выплеснуть свою боль, но могла попробовать ее проглотить.
Она подняла кружку, поднесла ее к губам, выпила, не замечая вкуса, и, только когда опустила ее, ощутила горечь во рту. Матильду охватила дрожь, и в то же время на ее коже выступил пот. Кружка, которую девушка по-прежнему держала в руке, показалась ей тяжелой настолько, что Матильда не удержала ее и уронила на пол. Осколки полетели ей на ноги, но девушка ничего не почувствовала, а после того как она проглотила эту жидкость, у нее свело желудок.
Горечь во рту усиливалась – а с ней и осознание того, что в кружке был яд.
Опустившись на пол, Матильда извивалась, корчилась в судорогах, переворачивалась со спины на живот и обратно, но боль в желудке не утихала. С нее градом лился пот, но девушка была уверена, что по ее телу стекает кровь, и эта кровь окрасила ее воспоминания в багровый цвет. Перед глазами Матильды висела кроваво-красная пелена, когда послушница, посмотрев вверх, увидела, как кто-то подошел к ней и коснулся ладонями ее лица. Эти ладони были прохладными и успокаивающими, но от них исходила опасность. Они несли смерть.
«Кто ты?» – хотела спросить Матильда, но вместо этого произнесла:
– Кто я?
– Ты же все знаешь сама, – шепотом, как и призрак, звавший ее за собой, ответил кто-то. – Возможно, ты не хочешь этого знать, но в глубине души ты понимала это всегда. А яд… Здесь нет ничего личного. И никогда не было. Я не чувствую к тебе ненависти, и если бы это зависело от меня, ты могла бы жить дальше. Но решения принимаю не я, а… она. Она не оставит тебя в живых. От этого зависит будущее целой страны… Поэтому ты должна умереть.
Хотя голос говорил шепотом, Матильде казалось, что он громко кричит.
– Пожалуйста, не надо…
Грудь немилосердно сдавило, и девушка забилась в судорогах. Казалось, что она проглотила не яд, а дикого зверя, который теперь увеличивался в размерах и когтями раздирал ее изнутри. Руки Матильды обмякли, и она не могла протянуть их к человеку, гладящему ее по лицу. У нее не хватало сил, чтобы открыть глаза и увидеть убийцу, и она даже не знала, был он мужчиной или женщиной. Кроваво-красная пелена постепенно темнела, и в какой-то момент мир провалился в черную бездну.
Размер приданого устроил обе стороны, встреча в Лион-ла-Форе прошла успешно, Вильгельм и его соседи еще раз дали друг другу клятвы верности. Были они искренними или лживыми, значения не имело.
Как всегда, Арвид узнал об этом одним из последних. Никто не думал, что послушника, приближенного к графу Вильгельму, интересуют государственные дела. Арвида они и в самом деле не интересовали. Он страстно хотел лишь одного – как можно скорее вернуться в Нормандию. Ему было не важно, куда возвращаться – в Байе или в Фекан, – главное, оказаться там, где будет легче избегать встреч с Матильдой. Здесь это удавалось Арвиду с трудом. Он уже дважды чуть не попался ей на глаза и только в последний момент смог спрятаться.
Сейчас скрыться от Матильды было очень легко: все собрались в зале, чтобы снова есть, пить и веселиться. Как всегда в таких случаях, Арвид незаметно выскользнул, сделав вид, будто хочет помолиться в часовне, хотя на самом деле его туда не очень тянуло. Монахи-франки с подозрением относились к монахам и послушникам из окружения Вильгельма. Даже если франки носили такую же одежду и выстригали такие же тонзуры, в их глазах те, кто молится вместе с сыном норманна, не были настоящими христианами.
Арвид не отправился в часовню, а побродил по двору, где у костра грелись воины, а между кухней, кладовыми и большим залом сновали служанки. Он прошелся мимо купален, мастерских и наконец вернулся к главному зданию. Никто не обращал на него внимания, но он чувствовал себя здесь лишним и был рад, когда недалеко от входа обнаружил маленькую тихую комнату, в которой мог побыть один.
Судя по письменным столам, пергаменту и чернильнице, здесь обычно работали нотариусы. Арвид вспомнил о скриптории Жюмьежского монастыря и печально вздохнул: о том, чтобы сутками переписывать священные тексты, он мог теперь только мечтать, но, как бы там ни было, здесь никто не нарушал его покоя.
Проводя пальцами по пергаменту и собираясь сесть за стол, Арвид вдруг услышал почти нечеловеческий стон, доносившийся из угла комнаты. Юноша попытался разглядеть что-то во тьме. На полу он заметил осколки глиняной кружки, а чуть дальше… очень тонкую руку скорее синего, чем розового цвета.
Бросившись туда, он увидел, что возле осколков, согнувшись, лежит человек. Арвид склонился над ним и перевернул его на спину. Ужас охватил молодого послушника не сразу – сначала в его душе вспыхнула злость на коварную судьбу, которая свела его с Матильдой в одной комнате. Но потом он заметил, что лицо девушки было таким же синим, как и ее рука. В тот же миг его смущение, его попытки забыть о прожитых вместе с ней днях и о собственных тайных желаниях потеряли смысл.
– Боже правый!
Арвид встряхнул Матильду за плечи, но она не очнулась. Он постарался поднять ее, но она безжизненно лежала в его руках. Тогда он ударил ее по щеке.
Девушка вновь застонала, и сквозь этот стон пробилось слово:
– Яд…
Потом она замолчала и закатила глаза, так что видны были только белки. Арвид прильнул к груди Матильды. Ее сердце не билось, а лишь слабо трепетало, как будто душа уже расправила крылья, готовясь к далекому опасному пути в другой мир. Арвид принялся стучать кулаками по грудной клетке девушки: он должен был удержать ее душу во что бы то ни стало.
Юноша знал, что все это бессмысленно, ведь душу невозможно увидеть, услышать, ощутить ее запах и коснуться руками. Но Арвид знал и другое: он не найдет в себе сил жить дальше, если Матильда умрет у него на глазах.
Кто, кроме нее, смог бы заглянуть в глубины его души и найти там больше, чем неприглядное наследие его отца? Кто, кроме нее, смог бы показать ему, что не следует бояться сильных чувств, ведь к ним относятся не только разрушительные, такие как ненависть и гнев, но и согревающая любовь.
Почти три года они скрывались за новым валом, который соорудили после побега. Почти три года они строили планы, готовились в очередной раз добраться до Матильды и страдали от голода. Большинство детей умерли, а выжившие ослабели настолько, что не могли ходить. Покидая укрепление, родители уносили их на спине, и Авуаза была уверена, что по ту сторону вала их ждет то же самое – смерть.
Ее воины охотились и ловили рыбу. Некоторые из них сумели переступить через гордость и собирали в близлежащих лесах ягоды, фрукты и грибы, чем обычно занимались исключительно женщины. Несмотря ни на что, запасы пищи крайне истощились за зиму, и даже если их хватило бы еще месяца на два, Авуаза больше не могла бездействовать. Она решила продвигаться дальше на запад, хотя их на каждом шагу подстерегали враги, а искать союзников было негде. Воины подчинились ей, пусть даже с неохотой и сомнением, как обычно. Вглядываясь в их мрачные лица, Авуаза в который раз убеждалась: своей властью она обязана только тому, что у них не было другого волевого, смелого и сильного предводителя.
Они ехали верхом вдоль побережья. Некогда розовые камни теперь скрывались в желтоватой траве, а волны обрушивались на берег уже не с диким шумом – их гул больше напоминал шепот. Иногда Авуаза ненавидела море, но потом всегда осознавала, что именно море подарило ей мужчину, за мечту которого она так отчаянно боролась. Авуаза почти никогда не произносила его имени, и даже мысли о нем причиняли ей боль, но сейчас она вспоминала о том, как однажды он прибыл сюда на корабле-драконе, чтобы подчинить себе эту землю.
Если бы он знал, что его здесь ждет! Если бы он знал, что она потеряет родину и подвергнется гонениям, повернул бы он обратно, так и не ступив на берег? А если бы он увидел, как она долгие годы безуспешно пытается разыскать Матильду, что произнес бы: упреки или слова сочувствия? Как бы там ни было, Авуаза надеялась, что Аскульф не упустит новую возможность.
Женщина вновь перевела взгляд на волны. В детстве она слышала, что там живет Нехаленния – кельтская богиня моря. О ней рассказывала Эрин – верная подруга, которая была едва ли старше Авуазы, но историй знала намного больше. Эрин до сих пор оставалась ее верной спутницей и одной из немногих женщин в отряде.
Авуаза обернулась, пытаясь увидеть Эрин, которая, опустив голову, ехала в самом конце процессии, не обращая внимания на шепот Нехаленнии. Вот уже много лет Эрин ничего не рассказывала. Авуаза не помнила, когда закончились эти истории: когда в ее жизнь ворвался мужчина с корабля-дракона или через несколько лет, когда она потеряла все, ради чего стоило жить, сохранив лишь желание вернуть это, пусть даже по частям.
Авуаза знала, что, в отличие от подруг детства, которые предали и бросили ее, Эрин оставалась ее верной соратницей, хоть и не одобряла ее планов. Авуаза была благодарна за то, что рядом с ней всегда находился близкий человек, деливший с ней радость и горе – а горя с каждым годом становилось больше, чем радости. И лишь иногда она спрашивала себя, какую пользу Эрин может приносить ей теперь, когда уже не рассказывает историй и этим доказывает, что между прошлым и настоящим зияет огромная пропасть.
С Авуазой поравнялся Деккур. Верхом на лошади он передвигался увереннее, чем пешком, ведь животное видело дорогу и не спотыкалось.
«Как бы все сложилось, – подумала вдруг Авуаза, – если бы во время восстания христиан против их правителей-язычников франки не победили Деккура, не выкололи ему глаза и не оскопили его?» Тогда он, беспомощный, переметнулся на ее сторону. Но если бы он мог видеть и оставался мужчиной, он убил бы ее, а перед этим, возможно, надругался бы над ней. Он никогда не подчинился бы ее власти.
– Возвращается посланник! – объявил Деккур, обладавший более тонким слухом, чем Авуаза.
И действительно, вскоре раздался стук лошадиных копыт. Авуаза остановила своих людей, приняла от посланника письмо, сорвала печать и молча прочитала.
Потом она глубоко вздохнула.
– Новости от Аскульфа? – спросил Деккур.
Брат Даниэль рассмеялся. Очевидно, от него не ускользнуло сомнение в голосе Деккура и его тайная надежда на то, что воин потерпит неудачу. И пусть это перечеркнуло бы его собственные планы, но ему стало бы легче выносить то, что Аскульф был зрячим, обладал мужской силой и к тому же был молод.
– Да, – мрачно ответила Авуаза, – это новость от него.
В душе она ненавидела Деккура не меньше, чем он ее, но он приходился братом мужчине с корабля-дракона, а поскольку она любила этого мужчину как никого другого, Деккур тоже вошел в ее жизнь. Братья вместе выросли в Вестфолле на побережье Осло-фьорда, вместе совершили набег на Бретань, вместе грабили храмы, убивали священников и пили вино, приготовленное для церковных служб. Они посреди ночи выгнали из Нанта епископа Адаларда, который даже не успел набросить на плечи теплую шубу и повесить на шею украшенный драгоценными камнями крест. Из одежды на нем была только ночная рубашка, а по некоторым утверждениям он и вовсе был голым.
После Нанта набеги воинов с корабля-дракона обрушились на города и села, расположенные на Луаре. Опустошив большие территории, северные завоеватели осознали, что власть подразумевает не только разрушение, а чтобы захватить эту область, одного желания мало. Нужно было подумать о том, как застроить и заселить земли, обагренные кровью.
– И что нового у Аскульфа? – поинтересовался Деккур.
– Матильда действительно уехала из Байе и сейчас находится в Лион-ла-Форе, – сообщила Авуаза. – Там собрались влиятельные жители королевства.
А значит, людей там много, и кто-то из них может узнать Матильду. А кто-то другой может хитростью увести ее от знакомых, чтобы она стала беззащитной…
– Неужели ты хочешь там?.. – Деккур не договорил до конца.
– А почему бы и нет? – ответила Авуаза.
– Но вдруг Матильда успеет проболтаться о том, кто она такая? Для тебя это будет провалом.
– Это будет провалом для всех нас, – тут же поправила его Авуаза. – В конце концов, ты на моей стороне.
– Я на стороне своего брата.
– Который умер много лет назад, – вмешался брат Даниэль.
Деккур хотел его ударить, но промахнулся. Тогда Авуаза подняла руку и отвесила брату Даниэлю звонкую пощечину. Он не отшатнулся, хотя удар оказался таким сильным, что на его коже остались красные следы. Но что значила его боль по сравнению с болью, которую вызвали в душе Авуазы эти слова? Да, он умер. Да, она скучала по нему каждый день. Да, без него она часто чувствовала себя беспомощной. Но всего этого Авуаза не хотела слышать. Окутанная пеленой молчания, рана от его потери кровоточила не так сильно.
Авуаза сглотнула:
– Будем надеяться, что Аскульф сможет подобраться к Матильде достаточно близко.
Ветер подул сильнее. Брат Даниэль все-таки принялся растирать щеку. Пустые глазницы Деккура напоминали черные впадины.
Всадники продолжили путь. Их по-прежнему окружали песок, море и сухая трава. Казалось, что эта земля не приносит плодов. Она была не похожа ни на родину Авуазы, ни на уже не существующее королевство.
Это была пустыня.
Глава 4
Арвид знал, что чувствует человек, когда отказывается бороться за жизнь, когда боль становится настолько невыносимой, а мучения настолько жестокими, что он с радостью соглашается отдать смерти свое измученное тело, думая только о спасении нетленной души. Он сам испытал нечто подобное, когда после нападения людей короля Людовика истекал кровью возле монастыря Святого Амвросия. А сейчас, лежа у Арвида на руках, это же чувство испытывала и Матильда. На ее искаженном от боли лице появилось выражение такого безмятежного умиротворения, какого она, наверное, не ощущала никогда.
Возможно, она и стремилась к этому состоянию, но Арвиду оно казалось обманчивым. Как можно было говорить об умиротворении, когда ни в чем не повинные люди погибали слишком молодыми, и к тому же от рук убийцы? Нет, он просто не мог позволить Матильде уйти.
Он поднял девушку, обхватил ее за пояс, наклонил и засунул пальцы ей в рот.
– Выплюнь! – закричал он в панике. – Тебе нужно это выплюнуть! Давай!
Когда-то Арвид наслаждался мягкостью ее губ – сейчас же они были грубыми и холодными. Дотронувшись до зубов Матильды и ее разбухшего неподвижного языка, он ввел пальцы глубже в ее пересохшее горло. Арвид впервые находился с кем-то в такой тесной близости, но ничто и никогда не казалось ему более естественным.
«Только полностью обнажившись, можно победить смерть, – пронеслось у него в голове. – Человек должен стряхнуть с себя всякую обузу, все, что скрывает, согревает и защищает его тело, и отбросить все свои чувства: робость, стыд и прежде всего высокомерие, зачастую присущее монахам. Передвигаясь по миру на цыпочках, они избегают темных сторон жизни, утопающих в грязи и зловонии».
Просунув пальцы еще дальше, Арвид услышал стон Матильды, который сменился рвотным позывом, и не успел он убрать руку, как девушку стошнило. Когда вышла слизь, Арвид похлопал Матильду по спине, чем вызвал у нее еще более сильный приступ рвоты. В воздухе появился неприятный запах. Тело девушки безжизненно повисло у Арвида на руках, но она не умерла: он слышал ее дыхание.
Арвид подумал, что будет недостаточно положить ее на пол, поэтому вынес девушку на улицу и тряс ее за плечи до тех пор, пока она с жадностью не вдохнула холодный, свежий, живительный воздух. На щеках Матильды медленно расцветал румянец, а сквозь полуопущенные ресницы были видны уже не только белки, но и карие райки ее глаз.
– Матильда… Матильда, ты меня слышишь?
Видимо, она его не слышала, чего нельзя было сказать о других. До Арвида донесся чей-то хохот, а подняв голову, он увидел, что смеялись воины, сидящие у костра. Они беззастенчиво разглядывали монаха, прижимающего к себе юную хрупкую девушку.
– Так значит, вот как норманнские священники восхваляют Бога! – съязвил один из мужчин.
В душе Арвида нарастала беспомощная ярость, вызванная поединком со смертью. Он готов был оставить Матильду и наброситься на воинов, вцепиться им в горло, душить их, бить ногами, кусать и царапать, выплескивая злость и чувствуя облегчение от того, что борется с осязаемыми врагами, а не с невидимым ядом.
Но вскоре мужчины со смехом отвернулись и Арвид направил все свои силы на спасение Матильды. Он успокоился, лишь когда сердце в ее груди снова забилось громко и ровно. В ее тело вернулась жизнь, и она открыла глаза.
Матильда дрожала от холода. Ее дыхание напоминало дуновение ледяного ветра. Она совсем ничего не чувствовала и даже не удивилась, увидев Арвида. Когда послушник привел ее обратно в дом, холод отступил, а с ним ушло и смутное ощущение удовольствия от прикосновений юноши. Матильда быстро высвободилась из его рук и опустилась на стул, потому что еще не могла стоять самостоятельно. В горле у нее пересохло, во рту чувствовался горький привкус, а первые слова она произнесла чуть хрипловатым голосом:
– Что случилось?
– Кто-то… кто-то хотел тебя отравить.
– Это я знаю и без тебя! – воскликнула Матильда, хотя воспоминания возвращались к ней так же медленно, как и силы.
Руки ее не слушались, а кончики пальцев будто онемели. Сможет ли она когда-нибудь почувствовать что-либо, кроме этой тупой боли и неприятного жжения?
Арвид выглядел немного растерянным, но в его глазах читалась забота.
– Я спас тебе жизнь, – тихо сказал он. – Я вызвал у тебя приступ рвоты.
Онемевшими пальцами Матильда провела по платью, мокрому и покрытому пятнами.
– Зачем? – застонала она.
Арвид видел, как ее стошнило, как она выплевывала слизь, как испачкала платье, и девушка так устыдилась этого, что его поступок показался ей проявлением жестокости, а не милосердия.
– Матильда… – Арвид все же решился наклониться к ней.
– Что ты вообще здесь делаешь? – процедила она.
– Уже несколько лет я нахожусь рядом с графом Вильгельмом.
– Я знаю. Почему ты все эти годы скрывался от меня… а теперь спас мне жизнь?
Леденящая ярость пронизывала ее сильнее, чем холод, а направить ее на Арвида было легче, чем на безликого убийцу, причинившего ей зло. Может, злоумышленник все еще где-то рядом? Совершит ли он после этой неудачи очередное покушение на ее жизнь – уже третье по счету? Теперь Матильда могла с уверенностью сказать, что точильный камень на рынке в Байе свалился на нее не случайно. И не случайно таинственный голос заманил ее в комнату, где ее ожидала кружка с ядом. Девушка задрожала, но, когда Арвид, утешая, положил ей ладони на плечи, быстро взяла себя в руки.
– Я думал, что будет лучше, если мы перестанем видеться. Лучше для нас обоих, – пробормотал он. – Мы ведь оба хотим провести жизнь в монастыре.
Матильда на него не смотрела.
– Почему же ты тогда не в Жюмьеже?
– Потому что аббат решил иначе.
– И потому что легче выполнять чужие решения, а не принимать их самому, не так ли?
Девушка не знала, что заставило ее произнести эти слова и придать своему голосу такую язвительность. Все монахи и монахини считали своей обязанностью упражняться в смирении. Матильда сама была воспитана в этом духе и с радостью стала бы снова подчиняться распоряжениям аббатисы, а не Герлок или Спроты. Но сейчас из-за холода, царящего в ее душе, любая фраза Арвида вызывала в ней только злость или насмешку.
Казалось, послушник осознал это, потому что отступил на шаг и опустил голову.
– Тебе нужно поговорить с графом, – рассудил он. – Ты должна рассказать ему о покушении.
Вспомнив шепот убийцы, девушка облизала пересохшие губы. Голос сообщил ей, что речь идет о будущем целой страны, а в том, что она, Матильда, обязательно должна попрощаться с жизнью, ее вины нет. Эти слова эхом отдавались у нее в голове, и чем больше девушка о них думала, тем более загадочными они ей казались.
– Он не сможет мне помочь, – сухо заявила Матильда, чтобы заглушить в себе этот голос и избавиться от Арвида, который, наверное, был прав: ей в самом деле следовало поговорить с Вильгельмом.
Но если она откажется от этого предложения, между ней и Арвидом снова развезнется пропасть, которую он преодолел, когда вызвал у нее рвоту.
– Мне неизвестно, кто и почему покушается на мою жизнь. Мне неизвестно, кто я такая. Чтобы обвинять кого-то, нужно знать, где его можно найти. А чтобы найти, нужно знать, где искать. Я же не знаю ничего, совсем ничего!
Девушка вцепилась в спинку стула, оперлась на нее и наконец встала. Все поплыло у нее перед глазами, но Матильда смогла удержаться на ногах.
– Ты куда?
– Ты приехал сюда с графом Вильгельмом, а я с Герлок. Мое место рядом с ней. Нет причин, по которым наши с тобой пути должны пересечься еще раз.
Матильде показалось, что в глазах Арвида она увидела не только заботу, но и нечто совершенно иное – облегчение. Возможно, это было вызвано тем, что она уже окрепла и могла стоять самостоятельно. Или же тем, что она освободила его от обязанности заботиться о ней и впредь.
Выяснять истинную причину Матильде не хотелось, и она поспешно покинула комнату, в которой чуть не рассталась с жизнью.
Герлок по-прежнему почти не смеялась, но говорила, не умолкая ни на секунду.
– Размер приданого уже определен, и сегодня вечером состоится помолвка, – взволнованно рассказывала она Матильде, когда та вновь к ней присоединилась, – а свадьбу мы отпразднуем через несколько недель в Руане. Тогда я наконец смогу надеть свое красное платье.
Матильда внимательно посмотрела на Герлок. Она и так выглядела бледной, а красное платье лишь подчеркнет болезненный цвет ее кожи. Но невеста, видимо, об этом не подумала, как не заметила и того, что Матильда была белой как мел, на ее одежде виднелись пятна, а есть она могла только сухой хлеб. На самом деле Матильда радовалась тому, что ей не пришлось рассказывать Герлок ни про незнакомца, пытавшегося ее отравить, ни про Арвида.
– На помолвку я заплету себе шесть кос, – воскликнула Герлок, – и в каждой косе будет красная лента! И еще сегодня мы ждем нотариуса, который составит libelli dotis, опись приданого. А Гильом Патлатый подарит мне туфли в знак того, что теперь мы с ним пойдем по жизненному пути вдвоем.
Будут ли эти туфли красными, как и платье, она не сказала.
– Кроме того, он подарит мне золотое кольцо, – восторженно продолжила Герлок, – annulus fidei, кольцо верности, символ того, что наши сердца бьются в такт.
Могли ли вообще два сердца биться в такт? И как стучали их с Арвидом сердца, когда он боролся за ее жизнь?
Закончив рассказ, Герлок стала повторять его сначала. На этот раз Матильда уже не слушала ее. Послушница откинулась в кресле и закрыла глаза. Она чувствовала усталость… и сильную тоску. Тоску по родине, которую потеряла. По родине, из которой ее увезли. По родине, от которой ее отделила непреодолимая преграда – стены монастыря Святого Амвросия.
Все эти годы Матильда считала монастырь своим убежищем, но воспоминание, проснувшееся в ней сегодня утром, доказывало: для маленького ребенка, которого привезли туда, а потом били и мучили до тех пор, пока не отучили говорить на бретонском и датском языках, он стал в первую очередь тюрьмой.
Рыдала ли она, когда ей пришлось оставить родину? Или, может быть, онемела от страха?
Этого Матильда не помнила, но знала одно: кто-то другой точно плакал… Какая-то женщина…
– Прощай, дитя мое, прощай…
Может быть, эта женщина была ее матерью и приказала увезти дочь, чтобы защитить от могущественного врага.
– Сразу же после свадьбы мы с Гильомом Патлатым уедем в Пуатье! – прервал ее воспоминания возглас Герлок.
Матильда открыла глаза. Она больше не испытывала тоску, только усталость.
– И ты совсем не жалеешь, что уедешь в чужие края… и больше никогда не вернешься на родину? – спросила послушница.
Герлок пожала плечами и отвернулась:
– В северных странах девушки после свадьбы остаются в доме отца, а здесь, выходя замуж, они прощаются со своей семьей. И это хорошо. Я буду очень рада, когда смогу наконец уехать из Нормандии. И я буду очень рада, когда перейду на сторону франков. Тогда люди будут видеть во мне не дочь Роллона, а жену Гильома Патлатого.
«А заметят ли они, что ты побледнела и стала смеяться меньше, чем обычно? – спросила себя Матильда, но промолчала, как молчала почти всегда. – Нет, – ответила она на свой вопрос, – никто не обратит на это внимания, потому что там тебя никогда не видели румяной и смеющейся… А кто знал меня, когда я была маленькой? Кто меня любил?..»
Герлок задумалась, а потом вдруг спросила:
– Ты не хочешь поехать со мной в Пуатье?
Это предложение очень удивило послушницу, ведь Герлок то и дело повторяла, что желает оставить в прошлом все и всех. Матильду она, видимо, не относила ко всем, и на секунду это ее обрадовало, на секунду это предложение даже показалось ей заманчивым. Отправившись с Герлок в Пуатье, она, возможно, смогла бы навсегда забыть об убийце. И не только о нем, но и об Арвиде. Если Герлок стремилась убежать от людей, которые знали о ее происхождении, то что мешало Матильде поступить так же, только бежать не от людей, а от неизвестности?
Ей представилась возможность избавиться от тайны своего происхождения, как от старых одежд, и с любопытством посмотреть, кто же она на самом деле.
Однако, почувствовав на себе вопросительный взгляд Герлок, Матильда вдруг поняла, что не хочет оставаться без одежды. Она хотела понять, сможет ли еще носить рясу, грубая ткань которой не была ей неприятна, и осталось ли у нее желание стать монахиней. Возможно, его отравили, как и ее тело.
Матильда покачала головой и быстро произнесла:
– Нет, это не мой путь.
Она отказалась от побега.
Аскульф провожал Матильду глазами, когда через два дня после помолвки она вместе с Герлок уезжала из Лион-ла-Форе. За праздничным обедом, во время которого снова подавали самые изысканные блюда, собралось много гостей, и воину не составило труда затеряться в толпе. Норманны принимали Аскульфа и его людей за франков, а франки считали их норманнами, но тем не менее еще раз подобраться к Матильде достаточно близко ему не удалось.
Повозка отдалялась, а потом и вовсе превратилась в маленькую точку. Здесь и сейчас он уже не сможет схватить Матильду. Но скоро, очень скоро она посетит еще одно многолюдное торжество, где на него опять никто не обратит внимания: гости будут пить, кричать и веселиться, не видя, что происходит у них под самым носом. И даже если они что-то и заметят, исчезновение юной девушки вряд ли кого-то обеспокоит. Никто из них так и не узнает, какая власть находится в ее руках.
Слишком большая власть для женщины, как полагал Аскульф. Он и сам хотел бы получить такую власть…
Повозка окончательно исчезла из поля его зрения. Да, здесь и сейчас он не сможет добраться до Матильды, но скоро… очень скоро в Руане состоится свадьба.
Чтобы украсить Руан в честь этого памятного события, потребовалось несколько недель.
– Вся Европа будет завидовать такому пышному торжеству! – заявила Герлок. – Гильом не пожалеет ни сил, ни средств!
Матильда думала, что Герлок преувеличивает. Эта девушка просто не могла довольствоваться золотой серединой, и в ее рассказах мир часто выглядел более ярким, светлым и приятным, чем был на самом деле. Но вскоре Матильда поняла, что даже аскетичный Вильгельм и рассудительный Бернард хотели затмить этой свадьбой все предыдущие празднества. Причиной тому была не внезапно проснувшаяся любовь к роскоши и расточительству, а скорее стремление доказать, что выходцы из холодных северных земель обладают такими же утонченными манерами, как и их франкские соседи. Для этого следовало предложить гостям не медовый напиток, а изысканное вино из долины Рейна, пить его не из обычных рогов, а из блестящих дорогих кубков, и не слушать дикие вопли мужчин, а наслаждаться играми, песнями и плясками.
Строго говоря, праздников должно быть несколько. Первое пышное застолье состоялось уже в день приезда Гильома Патлатого. Стоя рядом с Герлок на одной из башен крепких замковых стен, Матильда увидела посланников из Пуатье. Только когда всадники почти достигли черты города, мост опустился, а ступив на него, Гильом Патлатый, приветствуя собравшихся, поднял руку. Жители Руана, вышедшие на улицы, встретили графа Пуатье возгласами ликования. Матильда не знала наверняка, что вызвало их восторг: приказ графа Вильгельма, радость от столь редкого развлечения или то, что многие из них были не потомками норманнов, а их жертвами, и потому оказывали христианскому графу невероятно теплый прием.
Герлок побежала вниз, чтобы поздороваться со своим будущим мужем. За последние несколько дней она похудела еще больше, дорогие платья болтались на ее теле, а взгляд стал еще более затравленным, чем прежде. Вместо того чтобы пойти за ней и понаблюдать за встречей будущих супругов, Матильда провела на башне еще некоторое время, окидывая взглядом пронизанные лесами равнины, бурную реку, разделяющую город на две части, и маленькие пригородные поселки, где некоторые торговцы обустроили свои склады, а ремесленники – свои мастерские. У причала выстроились как большие военные суда, так и обычные кнорры, перевозившие множество различных товаров. Хотя корабли стояли на якоре, их владельцы подняли паруса, чтобы придать городу более красочный и богатый вид. Этой же цели служила и яркая одежда жонглеров и музыкантов, которых пригласили выступить в эти дни. Нищие по-прежнему ходили в грязных лохмотьях, но их всех за счет графа разместили в трактирах, где целый день в котлах варились каши, на огне жарились большие куски мяса, а вместо привычных голов трески подавали жирную селедку.
Матильда впервые увидела Руан всего неделю назад и знала о нем лишь то, что это столица Нормандии, город с развитой торговлей и множеством монастырей. Даже в такой день, как сегодня, в пестрой толпе можно было встретить монахов. Не все из них родились в Руане – некоторые пришли сюда, после того как язычники с севера разрушили их церкви и обители. Поскольку жить в шумном и богатом городе оказалось лучше, чем на морском побережье или в глухих лесах вдали от людей, они не уехали отсюда, даже когда норманнов стали считать не бичом Божьим, а правителями, благословенными Всевышним.
Вместе с Гильомом Патлатым в город прибыло несколько монахов. Среди них находились и те, кто из Руана должен был отправиться в Жюмьеж, чтобы помочь в восстановлении монастыря. Разрешат ли Арвиду присоединиться к ним? Хочет ли он этого? И, что еще важнее, хочет ли этого она сама?
Тело Матильды быстро окрепло после неудавшегося отравления, но справиться с неприятными мыслями ей так и не удалось: она по-прежнему думала об Арвиде, о своем безликом преследователе и о том, что, возможно, поторопилась, решив провести жизнь в монастыре. Раньше она не могла добиться желаемого и очень злилась из-за этого, а теперь, когда Матильда больше не знала, в чем же ее призвание, на смену злости пришла тоска. Девушка спрашивала себя, сможет ли она добровольно отказаться от принесения обетов, если изначально ее держали в обители силой? И сможет ли она полностью посвятить себя Богу, если у нее отняли часть души?
Чтобы отогнать от себя эти мысли, Матильда быстро пошла вниз мимо воинов, которые были одеты в длинные, доходившие до колен кольчуги и, несмотря на праздничное настроение, в любой момент были готовы начать бой. Она проследовала в большой зал, где гостям предлагали еду и напитки. В этот день подавались еще не самые изысканные кушанья и не самое дорогое вино. Герлок собиралась надеть лучшее из своих платьев и украшений лишь завтра – на венчание с Гильомом Патлатым в соборе Руанской Богоматери.
Взгляд Матильды упал на Спроту, сидевшую за одним столом со служанками Герлок и людьми, сопровождавшими Вильгельма. Не желая отпускать далеко от себя сына, который мог провести эти дни рядом с отцом, она тоже приехала в Руан, но к конкубине, как обычно, никто не испытывал уважения. Со Спротой обращались не лучше, чем со слугами, однако она не выказывала обиды, а, напротив, улыбалась и с невозмутимым видом сносила презрительные взгляды Герлок, которая, собственно говоря, была ее подругой. Матильда заметила, что в последние недели Герлок стала относиться к любовнице своего брата значительно холоднее, чем прежде, когда радовалась тому, что долгими зимними вечерами ей было с кем поговорить, а в ясные летние дни – сходить на рынок.
Спрота рано покинула торжество, и Матильда тоже вскоре удалилась. Шум немного заглушил ее волнение, но желание убежать от себя по-прежнему не давало ей покоя.
Церемонию венчания в соборе, состоявшуюся на следующий день, Спрота и вовсе не посетила, а для Матильды место нашлось только в задних рядах. Когда епископ Руана благословлял союз, она видела только его пурпурно-красную рясу, но не лицо Герлок. На улицах снова слышались возгласы ликования, тонущие в звоне колоколов собора, церквей Святого Стефана и Святого Мартина, а также церкви Святого Петра, которая была возведена за городскими стенами.
Как бы громко ни сообщал колокольный звон о том, что эта свадьба угодна Богу, а жители города исповедуют христианство, – на застолье, последовавшем за венчанием, в этом можно было усомниться. Если Герлок пыталась забыть о своих норманнских корнях, то воины Вильгельма, напротив, не отступали от северных традиций и развлечений, чуждых франкам.
Вместо музыканта, воспевающего франкских героев, на пиршестве присутствовали скальды, которые сочиняли стихи на датском языке в честь новобрачных. Привычные танцы, такие как карола, интересовали не всех: многие гости участвовали в более активных забавах – например поединках, во время которых нужно было бороться почти без одежды, только с кожаными ремнями на бедрах, талии и плечах. Побеждал тот, кому удавалось схватить противника за эти ремни и бросить его на землю.
Матильде было неприятно смотреть на оголенное лоснящееся от пота тело, но еще большее отвращение вызывали у нее другие бои: двое мужчин, не сходя с бычьей кожи, расстеленной на земле, набрасывались друг на друга, как дикие звери, и пытались вцепиться зубами в горло сопернику.
Развлечения тех, кто стремился одержать победу, не прикладывая мышечной силы, были более безобидными. Кто-то играл в мяч, сделанный из шерсти и меха и обтянутый кожей, а кто-то пытался выпить больше, чем остальные. Победителем из этого соревнования вышел некий Эйнар, который осушил два десятка рогов, до краев наполненных медовым вином. Этот мужчина был сыном сводного брата Роллона, а значит, приходился братом графу Вильгельму. Матильде было страшно даже представить, как долго у Эйнара будет болеть голова.
К вечеру на улицах города и в залах замка было все больше пьяных, и один из них поплатился жизнью за столь легкомысленное употребление вина. Во время лошадиных боев, когда животных натравливали друг на друга, он споткнулся, и лошадь мгновенно проломила ему череп копытом. Зрители тоже изрядно выпили, и этот несчастный случай вызвал у них приступ громкого хохота. Лишь позже они осознали, что густая белая жидкость, растекшаяся вокруг головы мертвого мужчины, была не рвотной массой, а его мозгом.
Хорошо, что Матильда не видела этого своими глазами. Ей хватило того, что воины из личной гвардии Вильгельма бросали на нее похотливые взгляды, а некоторые даже протягивали к ней руки. Хотя обычно именно эти мужчины отличались необычайной сдержанностью, смелостью и силой, сегодня они развлекались, и даже строгий, рассудительный Бернард Датчанин не стал им препятствовать. К счастью, Матильде удавалось ловко уворачиваться от их рук.
Она заняла место за большим свадебным столом, где было немного спокойнее. Он ломился от превосходных мясных и рыбных блюд, из открытых бочек разливали пиво и вино, пол был посыпан свежей соломой. Гостей развлекал жонглер, который, играя на костяной флейте, перебрасывал из руки в руку сначала сырые яйца, потом ножи и наконец горящие факелы. Обычно Матильда вела себя крайне сдержанно, но сейчас невольно захлопала в ладоши, и это заметили на другом конце стола.
– Выпей, Матильда, выпей за мое счастье! – воодушевленно крикнула ей невеста.
Послушница увидела Герлок впервые после свадьбы. Издалека невозможно было определить, был ее взгляд сияющим или же пустым и потускневшим, но, во всяком случае, выглядела невеста очень красивой. Искупавшись рано утром, Герлок надела венок и льняное покрывало, которое должно было защитить ее от дурного глаза. Обычно она не заплетала волосы, но сегодня собрала их на затылке и украсила бронзовой шпилькой со сверкающим камнем – красным, как и ее платье.
– Да, выпей! – воскликнул розовощекий малыш Ричард.
Он еще не видел более пышного торжества.
Взглянув на него, Матильда вспомнила о Спроте и снова подумала о том, насколько все это было неестественным: Вильгельм признал сына, но отрекся от его матери. Желая взять в жены девушку из более влиятельной и богатой семьи, он отверг ту единственную, ради кого отказался от своего стремления к целомудрию, а найдя подходящую партию в лице Литгарды, долго колебался, пока она не ушла к другому.
– Пей, Матильда! – услышала она снова.
Голос был незнакомым, но девушка подняла кружку и выпила пиво, сваренное специально для свадебного застолья. Она поступила так, чтобы пережить этот праздник, казавшийся ей не только роскошным, но и в первую очередь шумным – достаточно шумным, чтобы заглушить ложь, которой успокаивал себя почти каждый присутствующий, а также мысли о том, что Арвид, возможно, находится где-то рядом.
Пила Матильда без опасения, потому что кружка не предназначалась лично ей, а значит, напиток в ней не мог быть отравлен. Девушке стало жарко, и вскоре она захмелела сильнее, чем в Лион-ла-Форе. В глазах у нее не просто двоилось – ее окружало множество одинаковых лиц, но человека, который вдруг вплотную приблизился к ней, она тем не менее не узнала. Только услышав, как он произносит тост в честь Герлок, Матильда поняла, что это был Йохан, молодой воин. Это он в третий раз предлагал ей выпить, а теперь требовал большего:
– Пойдем, потанцуй со мной!
Если бы Матильда была трезвой, его слова лишь возмутили бы ее, ведь она никогда бы не позволила мужчине ничего подобного. Но сейчас девушка опьянела настолько, что думала только об одном: как она будет танцевать, если даже стоять не может? Отказаться она не успела – Йохан уже взял ее за руку и помог ей встать.
Матильда не упала, потому что он крепко ее держал, а то, что она не могла стоять прямо, не имело значения. В танце нужно кружиться, и беззаботность, с которой девушка исполняла необходимые па, казалась ей такой же непривычной, как и кислый привкус пива на губах.
Впоследствии она не могла определить, как долго протанцевала, уклоняясь от чужих локтей и отгоняя мысли о том, что она, должно быть, пала очень низко, если плясала под руку с воином. И все же Матильде не удалось отогнать от себя печаль, которая, несмотря на всеобщее веселье, нависла над ней, словно тень, и не давала ей расслабиться.
Внезапно возле девушки появилась другая тень – не воображаемая, а видимая всем, и отбрасывала ее не печаль, а фигура, устремившаяся к танцующим. Чьи-то руки схватили Матильду и оттащили ее от Йохана. Послушница споткнулась, пошатнулась и ударилась головой о сильную грудь. Подняв голову, девушка почувствовала страшную головную боль, а лицо, которое она увидела перед собой, оказалось знакомым.
Арвид. По его дыханию Матильда определила, что он много выпил. Не помня себя от ярости, юноша воскликнул:
– Ты с ума сошла? Как ты себя ведешь?
Девушка уставилась на него, не понимая, кто из них двоих потерял рассудок. Возможно, она сделала что-то предосудительное, но уже забыла об этом? Возможно, он придумал себе то, чего на самом деле не было? А может быть, его просто возмутило то, что она пьяна и танцует?
Как он мог ее в чем-то упрекать, если его собственное лицо пылало, глаза блестели, а движения были такими порывистыми? Да, Арвид тоже выпил. Поддался он всеобщему праздничному настроению или же искал забвения, как и она, – от вина и медового напитка у него не только кружилась голова, но и пылали в душе гнев и ненависть.
И если голова у него вскоре перестала кружиться, потому что он мог стоять прямо, то ненависть и гнев никуда не исчезли. Матильда ощущала, как внутри Арвида нарастает некое чувство, касающееся его самого, ее и… Йохана.
Доброжелательно улыбаясь, молодой воин произнес:
– Тише, тише, дорогой послушник! Кто же в такой день обращается столь грубо с милой девушкой?
Его слова были пропитаны язвительностью, липкой и гнетущей, а значит, Йохан только притворялся доброжелательным. Несмотря на опьянение, Матильда осознала: он из тех, кто оскорбительно отзывается о монахах, которыми окружает себя Вильгельм. Воинов злила эта особенность графа, ведь таким поведением он вызывал сомнения в своей мужественности и, как следствие, в мужественности их самих.
Йохан разозлился еще не так сильно, как Арвид, но девушка чувствовала, что напряжение нарастает. От внимания окружающих это тоже не ускользнуло – музыка стихла, и люди перестали танцевать, устремив на мужчин и Матильду любопытные взгляды.
– Оставь ее в покое! – прошипел Арвид.
– С какой стати? – холодно ответил Йохан. – Ты ее муж? Этого не может быть, ты ведь расхаживаешь в рясе. Или ты из тех, кто любит и Бога, и женщин?
Матильда затаила дыхание: своими опрометчивыми, неосторожными словами Йохан оскорбил не Арвида, а самого графа Вильгельма, выплеснув раздражение, накопившееся в душе.
К счастью, рассудок Арвида был слишком затуманен, чтобы он мог понять это и использовать против Йохана. Послушник не ответил воину, а обратился к Матильде:
– Это не та жизнь, к которой ты стремишься.
«То же самое можно сказать и о тебе», – подумала девушка.
Так значит, вот почему Арвид не мог смотреть, как она танцует с незнакомцем: это напомнило ему о стремлении, которое ему тоже пришлось подавить в себе, – стремлении к одиночеству и отрешенности от мира.
Матильда поняла смысл его слов, но этот укор возмутил ее, и ей хотелось громко закричать: «Как я могу стремиться к чему-либо, если кто-то пытается меня убить? И пока я не знаю, от кого или от чего бегу, как еще, если не кружась в пьяном танце, мне можно заставить себя хотя бы ненадолго поверить в то, что борьба с невидимым врагом была лишь игрой?»
Девушка собиралась ответить, но Йохан ее опередил:
– Монах, ты добился своего: все на тебя смотрят. Теперь лучше иди и помолись.
– Я не монах! – воскликнул Арвид.
Он чувствовал себя оскорбленным, когда его принимали за того, кем он хотел, но пока не мог стать.
– А я воин! – отрезал Йохан, – и если ты не уйдешь, то узнаешь, что драться я могу и без меча.
Он сжал кулаки, и Арвид, к ужасу Матильды, не отступил, а последовал его примеру.
– Нет! – закричала она или только хотела закричать, потому что мужчины уже набросились друг на друга.
Этот неравный бой закончился очень быстро. Ненависть, кипевшая в душе Арвида, была сильнее, но тело Йохана – крепче. Воин нанес два удара, причем бил вполсилы – и его противник уже лежал на земле, сплевывая кровь и не желая мириться с поражением. Когда девушка склонилась над ним, он оттолкнул ее и вскочил на ноги. Выражение лица Арвида пугало Матильду больше, чем происходящее: на нем отражались не бессилие и ярость, а необъяснимое наслаждение от поединка – наслаждение, воодушевление и жажда крови. Эти чувства порождала не только борьба, но и осознание того, что он ее проиграет, а значит, даже если у него не хватит сил, чтобы победить противника, все же останется возможность разрушить самого себя.
Таким свирепым она еще никогда Арвида не видела. Это был уже не он. Это был… его безумный отец.
Прежде чем Йохан нанес следующий удар, подоспевшие воины скрутили ему руки. Он сопротивлялся, но, так же как и Арвид, не мог справиться с ними в одиночку. Обоих поспешно вывели из зала, отвесив пару оскорблений, кучу насмешек и произнеся рассудительные слова, призванные их образумить:
– Не омрачайте самый счастливый день в жизни Герлок!
Матильда вышла за ними на улицу. Там было холоднее, но все же недостаточно холодно, чтобы утихомирить разъяренных мужчин. Незнакомец, отец Арвида, все еще не оставил душу своего сына, а напускная доброжелательность Йохана окончательно сменилась отвращением к противнику, который изображал из себя человека Божьего, а на самом деле был таким же, как и остальные мужчины, – грубым и жестоким собственником.
Матильда вмешалась в тот момент, когда они уже собирались снова наброситься друг на друга.
– Прекратите! – крикнула она.
Слава богу, они опустили кулаки.
Девушка повернулась к Йохану, потому что ей было легче смотреть в его лицо, чем в неузнаваемое лицо Арвида, и потребовала:
– Оставь его в покое!
– Ты его защищаешь? – возмутился он.
– Я никого не защищаю, просто я на стороне миролюбивых людей, а таких здесь слишком мало. Сделай одолжение себе и мне: уступи!
– А от него ты ничего не потребуешь?
– Потребую, но то, что я скажу ему, касается только нас двоих. Уходи, прошу тебя.
Йохан обиделся и заметно смутился.
– Мало того что с монахами водится граф Вильгельм… Но чем они привлекают тебя, юную красивую девушку? – проворчал он и наконец сделал шаг назад.
Матильда подозревала, что теперь он вернется в зал, напьется еще больше, подерется с кем-нибудь более сильным, чем Арвид, и нанесет этому человеку серьезные увечья. Но это уже были проблемы Йохана, а не ее.
Когда он ушел, девушка медленно повернулась к Арвиду.
Он выглядел уже не чужим, а… жалким. Не успел Йохан скрыться из виду, как у Арвида подкосились ноги. Он согнулся, и на его лице читались уже не ярость и безумие, а лишь сожаление о содеянном.
Матильда хотела что-то сказать, но передумала. Разве она могла найти такой упрек, который бы не пришел в голову ему самому?
А голова у Арвида раскалывалась от боли. Из носа и рта у него шла кровь. Он растирал виски и дрожал, только теперь почувствовав холод.
– Твои раны… – произнесла Матильда, и вместо гнева в ее голосе послышалась усталость. – Мне нужно обработать твои раны…
Пока Матильда смотрела на Арвида удивленно-укоризненным взглядом, он чувствовал, как по его лицу стекает кровь. И как только он решился напасть на этого мужчину? Зачем он вообще бросился туда, к танцующим?
Сейчас Арвид уже не мог делать резких движений. У него не было сил даже на то, чтобы поднять голову, упавшую на грудь. Матильда привела его в какой-то сарай недалеко от конюшни, пропахший соломой и лошадьми, заставленный мешками и большими бочками. Это помещение не располагало к тому, чтобы оставаться в нем дольше, чем требовалось, однако, несмотря на то что раны были уже обработаны, Арвид и Матильда не спешили уходить.
– Это… это был не я, – выдавил из себя послушник. – В меня вселилась какая-то чужая сила. Это был… он.
Арвид не смотрел на девушку, но почувствовал, что она кивнула.
– Ты имеешь в виду отца, – тихо сказала она.
– Я никогда его не видел, но знаю, каким он был. Я это чувствую. Он был жестоким и безумным. Возможно, я тоже такой.
– В отличие от меня, ты хотя бы знаешь имя своего отца. Тебе известно, какие черты от него унаследовал и чего следует ожидать. А мне известно только то, что у моего отца светлые волосы. Если мужчина, который так часто мне снится, действительно мой отец.
– Думаешь… думаешь, он норманн?
Арвид поднял голову и по исказившемуся от боли лицу Матильды понял, что девушка много раз задавала себе этот вопрос, но ответить на него решилась только сейчас. Она робко кивнула:
– Да… Да, я начинаю так думать.
– И как ты к этому относишься?
– Плохо. Но даже тот, кто недоволен жизнью, все равно дышит, ест, пьет и идет по своему пути дальше.
– Тебе удалось понять, почему тебя хотят убить?
Гримаса боли исчезла с ее лица, во взгляде появился холод.
– Почему тебя это вдруг заинтересовало? Почему ты вообще вмешиваешься в мою жизнь?
– Матильда…
Гнев, от которого избавился Арвид, теперь омрачал черты Матильды. Если у него гнев отнял самообладание, то ее сделал безжалостной к ним обоим.
– Тогда в Фекане ты меня просто бросил! – вспылила девушка. – У тебя не хватило смелости посмотреть мне в глаза и попрощаться.
Арвида по-прежнему мучила совесть, а ее до сих пор терзала обида, пусть и давняя. Раньше он мог назвать много причин, побудивших его принять такое решение, но сейчас осознал: причина была лишь одна – слабость. Тогда Арвиду не хватило мужества посмотреть на Матильду и понять, что она волнует его душу как никто другой. Ему и сейчас было трудно это сделать, как и признаться себе в том, что вот уже несколько недель он не может забыть ее отравленное тело, лежавшее у него на руках, и страх потерять ее, охладивший его желание последовать Божьему призыву. В непосредственной близости от смерти, где побывали они с Матильдой, этот призыв звучал очень тихо. А бороться со смертью, как говорилось в Святом Писании, могла не вера и не надежда, а только любовь.
– Может, и так, – пробормотал Арвид. – И тем не менее – я дважды спас тебе жизнь.
Матильда отвернулась и принялась беспокойно ходить по помещению. Места в нем было мало, и она могла сделать не больше четырех шагов, не наталкиваясь на бочки или ящики.
– Я даже не уверена, что это стоило делать, – тихо сказала девушка. – Я имею в виду, что, кто бы ни пытался лишить меня жизни, он попытается еще раз. Однажды ему все-таки удастся убить меня, и я умру, так и не узнав, почему меня разлучили с людьми, которых я любила.
На глазах Матильды выступили слезы, которые доказывали, что холод в ее взгляде был притворным.
Арвид подошел к девушке и, не позволяя ей отстраниться, поймал ее за руки. Она не попыталась высвободиться, а в ярости набросилась на него:
– Разве ты не понимаешь, что мой мир рухнул, когда на монастырь напали, когда нам пришлось бежать, а каждый сон все больше открывал тайну моего происхождения! У меня оставался один маленький островок, на котором можно было стоять спокойно. И этот островок подарил мне ты, когда провел меня через лес. Но стоило мне поверить, что мир – это не только скопище опасностей, как ты выбил у меня почву из-под ног.
С каждым произнесенным словом в ее голосе появлялось все больше негодования. Матильда все же высвободила свои руки, но не стала метаться по помещению и дальше, а принялась колотить кулаками по груди Арвида:
– Почему ты это сделал? Почему ты все-таки это сделал?
Он растерянно пожал плечами.
– Потому что я понятия не имел, как должен вести себя с тобой! – вырвалось у Арвида. – Я знал только двух женщин. Руна была очень сильной, Гизела – чрезвычайно слабой, и обе они всегда были немного грустными.
– Но они наверняка переживали не только печальные, но и счастливые моменты.
– А когда… когда ты в последний раз была счастлива?
Девушка перестала бить Арвида. Она разжала кулаки, ее руки безвольно опустились.
– Не знаю, не могу вспомнить.
И снова они застыли друг напротив друга, прислушиваясь к тишине. Когда Арвид переступил этот порог, он казался себе жалким и униженным. Теперь он почувствовал еще кое-что – радость от взаимной откровенности. Все те чувства, которые вызывала в нем Матильда и которые он так долго пытался забыть – угрызения совести, упрямство, тоска и смущение, – не превратились в еще более тяжелое бремя. Напротив, юноше стало легче выносить эти чувства, когда он признался в них себе и, прежде всего, ей.
– Мне жаль, – тихо сказал он. – Мне очень жаль.
Арвид не мог ничего изменить, но сегодня его уже не пугала близость, от которой он сбежал тогда. Сегодня он даже искал ее. И он нигде не смог бы ощутить это более отчетливо, чем здесь – в убогом и грязном, но таком же уединенном месте, как поляна в лесу.
Послушник поднял руки, нежно провел по плечам Матильды и наконец притянул ее к себе, чтобы согреть своим теплом, как раньше.
– Я никогда не пил так много, как сегодня, – пробормотал он.
– Я тоже.
– Я не понимаю, что делаю.
– Я тоже.
Интересно, он покраснел так же, как и Матильда? Догадывался ли он, что если поцелует ее сегодня, то уже не сможет ограничиться только этим?
На лице послушницы отразился страх, но она не убежала. Арвид чувствовал то же самое, но закрыл глаза, склонился к девушке и поцеловал ее.
Матильде было известно о плотских удовольствиях лишь то, что это грех. Она не имела никакого представления о мужском теле и понимала только одно: от него исходит опасность. Несмотря на скудные познания, путь, по которому она пошла, не был ей чужим и не казался ни греховным, ни опасным. Грех похож на змею, но Арвид не коварен. Грех ядовит, но эти поцелуи были сладкими, как мед. Грех ведет человека в ад, где горит жаркий огонь, но на ее коже не выступил пот. То, что они делали вдвоем и что приносило такие приятные ощущения, не могло быть грязным.
Раньше Арвид постоянно жил в страхе: он боялся себя, своей наследственности, боялся Матильды. Сейчас он сбросил с себя этот страх вместе с рясой и удивился тому, что одежда, легко скользнувшая на землю, значила так мало. Монашеская ряса давала Арвиду защиту, но Матильда не нападала на него с оружием, и ему не нужно было обороняться. Ее губы не несли угрозы, как не несли угрозы осторожные прикосновения ее рук, мягкая кожа и тем более уверенность, с которой девушка прижималась к его телу и которая заглушала вопросы: «Что я делаю? Почему не сопротивляюсь?»
Нет, Арвид не поддался искушению – он просто завершил то, что начал однажды в лесу. Он ощущал в душе Матильды знакомую противоречивость, но, когда они слились воедино, все противоречия растворились, а из половинок сложилось одно целое.
Все случилось неспешно. Их прошлое потеряло значение, когда они разделись и разложили на полу мешки, чтобы не ощущать холода, когда Матильда сначала неуверенно поглаживала кожу Арвида, а потом прижалась к нему всем телом. Ее движения направлял приятный огонь внизу живота – огонь, который от ее отрывистого дыхания не погас, а разгорелся еще больше. Он не утих, когда Арвид лег на нее сверху, и продолжал пылать, даже когда она почувствовала влагу между ног. Пламя разливалось по ее телу, обжигало вены и пронизывало с головы до пят бесконечным потоком, питавшимся ее накопленной страстью.
– Матильда, – прошептал Арвид ее имя, – Матильда.
Это было единственное слово, оставшееся у него в памяти, но вскоре он забыл и его. Теперь они говорили на языке своих тел, которые не стали ограничиваться шепотом, а пели превосходный хорал. Матильда открылась ему, притянула его к себе, и, хотя Арвид не знал, что нужно делать дальше, он не успел опомниться, как уже делал это. Потом он подчинился ритму страсти, который бился сильнее, громче и отчетливее, чем его собственное сердце. Этот ритм исходил из недр земли, которая не ожидала от людей ничего, кроме плодородия. Круговорот жизни и смерти был вечным, в отличие от законов, провозглашенных человеком.
Арвиду доставляло огромное наслаждение полностью погружаться в тело Матильды, ощущать ее тепло, растворяться в ней без остатка. Лишь позже он почувствовал, как сильно устал.
Юноша не стал подниматься, а лег на пол и притянул девушку к себе. Чтобы не думать о случившемся, они, обнаженные, уснули.
Когда помещение озарилось светом, Матильда все еще лежала в сильных объятиях Арвида. Это был странный свет – не яркий, как солнечные лучи, и не приглушенный багровый, как от пламени факела. Казалось, он проходил сквозь разбитое витражное стекло. Девушка потерла глаза, закрыла их и снова открыла. Разноцветным оказался не сам свет, а охапка цветов, которую ей кто-то протягивал… Тысячи цветов. Кто еще мог бы держать их в руке, если не сам Бог?
Однако Бог не стал бы собирать букет ради собственной выгоды: украсив цветами луга и поля, Он подарил их людям. Теперь Матильда увидела и один из этих лугов. Озаренная теплым светом, она стояла по колено в траве, и цветы раскрывали перед ней свои лепестки. Девушку больше не обнимали сильные руки, но она не забыла тепло, которое они ей подарили, а также удовлетворение, которое она испытала, почувствовав Арвида так глубоко внутри себя. Теперь ее держали другие руки, такие же нежные, – руки светловолосого мужчины.
Он сорвал цветок и пощекотал им ее лицо. Матильда недовольно сморщила нос: ей не было никакого дела до цветов. Ее интересовал более важный вопрос:
– Папа, а что там, за морем?
Матильда показала на синие волны, увенчанные пеной.
– За морем лежит другая земля, – сказал он гортанным голосом, но она поняла каждое слово.
– И мы поплывем туда? – взволнованно спросила девочка.
– Нет, мы останемся здесь, в Бретани, навсегда. Это твоя родина. – Он умолк и присел на корточки, чтобы она могла смотреть на него, не запрокидывая голову. Мужчина перестал щекотать ее цветком и небрежно выбросил его. – В твоих жилах течет кровь великих людей, помни об этом. Ты наследница. Пока что ты единственная наследница.
Он обнял Матильду за плечи, и из его прикосновений исчезла нежность. Его крепкие объятия причиняли боль. Матильда стала задыхаться, пыталась высвободиться, изворачивалась, а когда поняла, что все бесполезно, начала пинаться ногами. В мужчину тем не менее она не попала: вокруг нее была лишь… пустота.
Хрипло вскрикнув, Матильда проснулась, а осмотревшись, не обнаружила ни цветов, ни моря, ни отца. Она увидела только лицо Арвида, который лежал рядом, совершенно расслабленный и погруженный в глубокий, крепкий сон.
Девушка не могла сказать, сколько времени прошло с тех пор, как они чувственно и страстно любили друг друга, но точно знала, что это было грехом.
Матильда закрыла лицо руками и на мгновение застыла от ужаса. Арвид еще спал, и на его лице отражались безмятежность, нежность и доброта. Не осталось ни следа гнева, безумия или вожделения – он выглядел как ребенок, как та девочка на цветочном лугу. Это была не простая девочка, а наследница, единственная наследница Бретани, которая давно выросла и которую кто-то пытался убить. Арвиду тоже не удастся долго сохранять безмятежность. Он не будет спать вечно, а когда проснется, посмотрит на нее с ужасом, который она испытывала уже сейчас.
После их поцелуя в лесу все было именно так: за мгновением близости последовало отвращение. Арвид больше не мог смотреть ей в глаза и бросил ее на произвол судьбы в Фекане.
Матильда вздрогнула.
Она поклялась себе, что на этот раз он не сможет так поступить: на этот раз она оставит его сама.
Девушка бесшумно поднялась. Помещение, которое еще вчера вечером казалось сказочным, в полумраке выглядело убогим, а тело, пылавшее таким жаром, сейчас совершенно охладело. От чувств, бьющих через край, горячих и захватывающих, не осталось ничего, кроме решимости не позволить Арвиду снова ее оттолкнуть.
«Даже если он этого не сделает, – одеваясь, вдруг подумала Матильда, – даже если его лицо останется нежным, добрым и безмятежным, когда он проснется, – разве у меня есть право оставаться рядом с ним и навязывать ему свое общество? Все, что я могу ему предложить, – лишь обрывки воспоминаний и угрозу для жизни».
Ты наследница… В твоих жилах течет кровь великих людей…
Матильда вышла во двор.
На улице светало. Девушка не заметила никого, кроме нескольких пьяных и спящих людей, для которых она не представляла никакого интереса.
«Герлок, – подумала Матильда. – Герлок может знать что-то о Бретани. Она только что провела первую брачную ночь с Гильомом Патлатым. Были ли его поцелуи такими же сладкими, как поцелуи Арвида, прикосновения такими же страстными, а взгляды – такими же ненасытными?»
Во всяком случае, то, что сделали Гильом и Герлок, получило благословение Всевышнего, а значит, не было грехом – они же с Арвидом совершили грех. Вчера Матильда так не думала, но сейчас представила себе лица монахинь, которые учили ее различать добро и зло. Если бы аббатиса была жива, она посмотрела бы на нее с укором, наставница – с брезгливостью, а Маура – с недоумением.
Матильда скрестила руки на груди, словно таким образом могла спрятаться, и подняла глаза к небу. Было не так рано, как она предполагала, но солнце не сияло, а скрывалось за молочно-белой тучей. Матильда быстро вошла в замок.
Она была уверена, что застанет Герлок не мрачной и уставшей, – новобрачная будет светиться от счастья и встретит ее с румянцем на щеках и лихорадочным блеском глаз. Не помешает ли она, войдя в покои невесты? Может, Гильом все еще с Герлок?
Но такие мужчины, как он, проводят с женами ночи, не дни.
Дверь, ведущая в женскую половину замка, была широко распахнута. Герлок сидела одна на огромной кровати. Она прогнала прочь всех служанок и Матильду тоже не хотела видеть.
– Уходи! – воскликнула Герлок, не поднимая головы. – Оставь меня в покое!
Матильда не ушла. Плечи Герлок были низко опущены, а подбородок не высокомерно вздернут, а прижат к груди.
– Уходи! – снова потребовала она, и ее голос дрожал.
– Герлок… – растерянно произнесла Матильда.
Только теперь Герлок подняла глаза. И только теперь Матильда заметила в них слезы.
Она никогда прежде не видела Герлок плачущей, но еще сильнее ее поразило то, что рыдания девушки напоминали тихое поскуливание. Смеялась Герлок во всю глотку, но плакала как старая измученная женщина, у которой не хватает сил, чтобы выразить свое безграничное горе. Эта девушка была яркой всегда и во всем, и такой плач казался не просто жалким, но и каким-то… фальшивым.
Матильда бросилась к ней:
– Что случилось? Это из-за того, что…
Она не смогла договорить до конца и тем самым откинуть темный полог, скрывающий ото всех, кроме самих молодоженов, тайны первой брачной ночи.
Матильда предположила страшную вещь: Гильом Патлатый выполнил супружеский долг грубо и жестоко, но слова, которые Герлок, запинаясь, произнесла после долгих всхлипываний, опровергли эту догадку.
– Гильом – хороший человек. Я должна радоваться, что вышла за него замуж.
– Но ты не рада, – определила Матильда.
– Смогу ли я стать счастливой… вдали от родины?
Поток ее слез иссяк. Герлок окинула комнату таким взглядом, как будто видела ее впервые, как будто ей показалось, что она уже находится в своем новом доме в Пуатье. Она слишком смутно представляла себе этот дом, чтобы надеяться на то, что однажды сможет чувствовать себя там уютно. Герлок еще не знала, испускает ли там камин густые клубы дыма, от которых першит в горле, или же керосиновые лампы источают мягкий теплый свет и приятный запах; задувает ли в щели холодный ветер, или же стены замка достаточно крепкие, чтобы защитить его от бурь.
– Я не знаю там ни души! – выдавила она из себя. – В этом месте я ни для кого не буду Герлок, никто не обратится ко мне по имени. Мое имя неразрывно связано с севером и варварами, оно просто неприличное. Герлок – дочь норманна, а жену франка зовут Адель.
Матильда сжала ее руки. Они были красными и холодными как лед.
– Ты ведь всегда хотела этого. Ты хотела, чтобы люди забыли, чья ты дочь. Ты хотела выйти замуж за франка. И теперь твои желания начали исполняться.
Матильда говорила с воодушевлением, но грусть не исчезла с лица Герлок. Ее глаза были заплаканными.
– Да, все мои желания исполняются, но теперь я спрашиваю себя: что от меня останется, когда я потеряю все, чем жила в прошлом? Как я смогу радоваться, если меня вообще не будет? Конечно, человек, который носит безобразную, грубую одежду, мечтает от нее избавиться, но, сделав это, он останется голым и будет страдать от холода.
Теперь Матильда догадывалась, что именно мучает ее собеседницу, однако до конца понять ее боль не могла. Герлок очень боялась отказываться от своего прошлого и от себя прежней, но Матильда считала такую возможность подарком судьбы. На секунду ей тоже захотелось найти забвение, и она вдруг спросила:
– Может быть… может быть, мне все же стоит уехать с тобой в Пуатье?
Она не знала, какой ответ хотела услышать.
Герлок снова окинула взглядом комнату, а когда наконец остановила его на Матильде, то посмотрела на нее так, будто ее вообще не существовало.
– Я должна стать новым человеком, которого зовут Адель. Если кто-то будет напоминать мне о Герлок, я не смогу этого сделать. Я уже пролила много слез, а рядом с тобой буду рыдать и дальше. – Она отвернулась. – Оставь меня.
Казалось, что Герлок совершенно пала духом, но, поскольку она уже не плакала, Матильда поднялась и вышла из комнаты.
Руанский замок был гораздо больше, чем замки в Фекане и Байе, однако сейчас и он казался Матильде слишком тесным. Зачем ей все эти залы, коридоры и комнаты, если в них невозможно спрятаться? Спрятаться от Арвида, от Герлок и – послушница осознавала это все более отчетливо – от кого-то еще. В последние несколько часов опасности подвергалась ее душа, а не тело, но сейчас, бесцельно блуждая по замку, девушка вновь почувствовала на себе невидимый взгляд. Это было смутное, но знакомое ощущение. То же самое она испытывала и в Лионе, где кто-то следил за ней и пытался отравить. Возможно, Матильда ошибалась, возможно, ее чувства слишком обострились, но она понимала, что здесь убийце будет проще всего совершить очередное покушение на ее жизнь. Люди, которых она встречала в замке, вряд ли станут ее защищать: пьяные воины спали на полу, уставшие служанки занимались уборкой. Для всех них Матильда была чужим человеком, а ее знакомых, например Герлок, интересовала только собственная судьба.
Матильда подумала, что могла бы направиться к Спроте. Спокойствие этой женщины передалось бы ей и отвлекло бы от попыток понять, почему ее дыхание так участилось, а по телу побежали мурашки.
Чтобы добраться до покоев Спроты, Матильде пришлось одной пройти через два пустых коридора. Когда у нее под ногами прошмыгнула крыса, девушка резко вскрикнула, и на один миг животное, которое интересовали лишь кучи мусора, показалось ей предвестником беды. Матильда закусила губу, подождала, пока крыса скроется в темном углу, и, ускорив шаг, наконец вышла из коридора. За несколько шагов до покоев Спроты девушке удалось справиться с паникой, но, когда она увидела, что в комнате никого нет, ее снова охватил страх, на этот раз еще более сильный.
– Спрота! – крикнула Матильда и так же, как и при виде крысы, почувствовала надвигающуюся опасность.
– Ее здесь нет, – ответил чей-то голос.
У камина сидела пожилая женщина, не представляющая никакой угрозы. Матильда часто ее видела, но имени не знала. Очевидно, это была та самая бретонская родственница Спроты, которая во сне напевала старинные мелодии, а когда не спала, говорила хриплым голосом.
– Она вернулась в Байе.
– Почему?
– А зачем ей оставаться здесь?
Действительно, зачем было Спроте и дальше терпеть унижения от людей, которые притворялись, будто не замечают ее, поскольку она никогда не сможет добиться высокого положения в обществе?
Тем не менее эта новость поразила Матильду. Спрота так часто давала людям понять, что ее невозможно обидеть, но, как выяснилось сейчас, все же относилась к тем, кто пытается ложью подсластить себе жизнь. Она лгала, будто для нее вполне достаточно быть матерью Ричарда и любовницей Вильгельма, а не его женой, но здесь и сейчас почувствовала такую сильную боль, что не смогла остаться.
Но если Спрота уехала, у кого Матильда могла найти защиту?
Девушка пошла обратно по коридорам и слышала уже не шуршание крыс, а свое собственное дыхание, которое тихим, но зловещим эхом отражалось от стен. Внезапно к дыханию Матильды присоединилось чье-то еще – более громкое и тяжелое, а на стене промелькнула тень. Она растворилась во мраке, но затем послышались отчетливые шаги – и шаги эти приближались. Девушка подумала, что ее сердце не выдержит, снова почувствовала на себе чей-то взгляд, бросилась бежать – и натолкнулась на какого-то человека. Она хотела закричать, но потом узнала его.
– Матильда!
Девушка громко выдохнула. К счастью, она встретила того, кого не стоило бояться. Он напомнил ей о минутах, когда ее жизнь не находилась в опасности, а была легкой и захватывающей.
– Йохан!
– Что ты здесь делаешь?
Матильда приняла решение мгновенно: она должна бежать отсюда. От Арвида. От своего невидимого преследователя. И от новой Герлок, которая уже не хохотала, а плакала, тем самым доказывая, что за решение стать другим человеком обязательно нужно платить.
– Прошу тебя, Йохан, – взмолилась Матильда, – прошу тебя, помоги мне!
В детстве отец часто повторял Йохану, что умный человек должен полагаться на чутье, чтобы определить, когда необходимо пригнуться, а когда – выпрямиться во весь рост, не боясь ледяного ветра. Йохан всегда считал отца умным, не в последнюю очередь потому, что у того хватило смелости оставить свою родину.
Конечно, пока Йохан был маленьким, его отец еще мирился с плохим урожаем, холодными морями и непроходимыми лесами Дании. Он молча перенес смерть жены и маленьких детей. Земля тогда промерзла настолько, что было невозможно выкопать для них глубокие могилы. В какой-то момент мужчина смог преодолеть свое горе. Он решил, что смерти последнего сына он не допустит, и увез его на юг – в ту часть франкского королевства, где поселилось уже много людей с севера, где колосились золотые хлеба, а виноградные лозы полыхали яркими оттенками красного.
Йохан рано осознал, что даже здесь не все было золотым и ярко-красным и даже здесь действовал непреложный закон: тому, кто смело противостоял неприятностям, улыбалось будущее, и тогда прошлое теряло значение. Жизнь растаптывала слабых и не щадила сильных, которые так высоко поднимали голову, что принимали на себя первый удар. Выживал лишь тот, кто не отличался особой силой, но в нужный момент умел проявить слабость; был расчетливым, но не безрассудно смелым; быстро принимал решения, но не допускал опрометчивости.
Йохан поступал именно так, поэтому был хорошим воином: он не боялся крови, но и не стремился ее проливать. Он оставался верным графу, которого выходцы из Дании признавали своим единственным правителем, но не одобрял слепо все его действия. Йохан хотел однажды тоже стать состоятельным, но мечтал он не о роскошном замке с прислугой – его планы были лишены подобного честолюбия. Его устроили бы собственные земли, но только более обширные и плодородные, чем владения его отца в Дании. Тогда Йохан отложил бы меч, стал бы выращивать хлеб и виноградные лозы, и даже если хлеб не всегда колосился бы золотом, а виноградные лозы не всегда полыхали бы яркими оттенками красного, он жил бы счастливо со своей женой, а их дети не умирали бы преждевременно.
Пока ни земли, ни жены у Йохана не было, но, возвращаясь с Матильдой в Байе, он чувствовал, что близок к исполнению обоих желаний. Значит, он поступил правильно, когда усмирил свой клокочущий гнев и оставил монаха, вместо того чтобы снова ударить его.
Он взял себя в руки – и теперь получил щедрое вознаграждение.
– Увези меня из Руана, – умоляла Йохана Матильда, – куда хочешь, только как можно скорее.
Воин удивился, но не стал расспрашивать о причинах. И сейчас, после часа пути, он хотел знать только одно:
– Герлок всегда была тебе близким человеком, не так ли? Почему ты не уехала с ней в Пуатье?
– Она хочет начать новую жизнь одна, – коротко ответила Матильда.
Йохан дал ей свой широкий плащ, но видел, что девушке все равно холодно.
– К Спроте ты тоже близка, правда?
– Она всегда была добра ко мне. Спрота приютила меня, когда мне было некуда идти.
Он подавил в себе желание спросить, почему так случилось. Их будущее было важнее, чем ее происхождение.
– А граф Вильгельм? Ты хорошо его знаешь?
Заметила ли она напряжение в его голосе?
Матильда изменилась в лице. Возможно, в своих расспросах он зашел слишком далеко.
– Я просто хочу знать, много ли людей относятся к тебе благосклонно.
На самом деле Йохан подумал другое: «Я просто хочу знать, сможет ли кто-то предоставить тебе приданое… Клочок земли, на котором ты могла бы жить со своим мужем».
– Почему ты спрашиваешь? – поинтересовалась Матильда.
– Разве не понятно? Мужчинам свойственно заботиться о девушках, особенно таких красивых, как ты.
На ее лице застыла холодная маска.
– В моей жизни значение имеют многие вещи, но только не красота, – сказала Матильда и, не дав ему возразить, продолжила: – Я танцевала с тобой, но, Йохан, я не подарю тебе еще один танец лишь за то, что ты выполнил мою просьбу и увез меня из Руана. Этого не будет.
Они молча продолжили путь. Йохан больше не задавал вопросов, но его одолевали сомнения.
«Наверное, – подумал он, – Матильда ведет себя так неприступно из-за того монаха».
Йохан был молод и силен, Матильда – молода и красива. Ее руки не просил никто другой – так что же мешало ему надеяться на их совместное будущее? Жизнь была очень простой, или, по крайней мере, могла быть такой… В мире, где при дворе графа Вильгельма не служили… монахи.
Воин сжал губы и подавил в себе злобу.
Да, некоторых вещей избежать невозможно, и с ними приходится мириться, но Йохан не мог позволить монаху увести у него девушку. То, что на этой чужой земле правил граф, который предпочитал общество монахов, а не воинов, не вносило порядок, а лишь вызывало раздражение и непонимание.
«Однажды ты будешь моей, – подумал Йохан. – Однажды этот монах за все заплатит».
Граф Вильгельм всегда вставал рано и первым делом шел в часовню для утренней молитвы. Причины для того, чтобы подниматься среди ночи, появлялись редко, ведь в Нормандии уже много лет царил мир, однако в этот день Вильгельм был вынужден прервать молитву, едва опустившись на колени. Посланник, который не обращал внимания на святость этого места, принес ему тревожные новости.
Арвид, как это часто бывало ранним утром, находился рядом с Вильгельмом и прочитал на лице графа сначала раздражение, а потом, когда тот осознал последствия новости, – растущий страх.
Первые предложения посланник произнес громко, но потом склонился к Вильгельму и остальное прошептал ему на ухо. Арвид не услышал ни слова. Граф молча поднялся и поспешно покинул часовню. Остальные монахи, привыкшие не замечать ничего мирского, продолжили молиться, стоя на коленях, но Арвид не смог успокоиться и последовал за Вильгельмом. Двигало послушником не только волнение и любопытство. Вот уже несколько дней он почти не спал, а во время молитвы испытывал беспокойство, стыд, угрызения совести и не в последнюю очередь гнев из-за того, что с этими чувствами он остался один на один. Арвид хотел бы поделиться ими с Матильдой, но ее рядом не было: она вернулась в Байе, даже не попытавшись поговорить с ним. Арвид вынужден был пообещать себе, что впредь, сопровождая графа в этот город, будет избегать встречи с ней, но на этот раз не потому, что так хотел он сам, как в прошлые годы, а потому, что это, очевидно, было ее желанием. Если бы Матильда испытывала к нему какие-то чувства, она не сбежала бы, не оставила бы его наедине с воспоминаниями о той ночи и, прежде всего, не выбрала бы себе в провожатые Йохана, этого дерзкого глупого воина. Это обстоятельство оскорбляло Арвида больше, чем он готов был признать.
Когда он вышел на улицу, было еще темно, но люди, которых он встретил, не казались сонными, как обычно. Должно быть, новость, принесенная посланником, быстро распространилась.
– Что случилось? – спросил Арвид у часового.
– Все влиятельные люди Нормандии собрались в зале, – ответил тот.
– Еще до рассвета?
– На то есть веские основания…
Арвид оставил его и вошел в зал.
В камине потрескивал и разбрасывал искры огонь, но лицо Вильгельма не озарял свет, и оно казалось серым. Он сидел на стуле и смотрел на мужчину, стоящего перед ним на коленях. Арвид изумленно поднял брови. Конечно, в том, что этот человек опустился на колени перед графом, не было бы ничего удивительного, если бы, судя по оружию и одежде, он не происходил из знатного рода.
Мужчина начал жаловаться:
– На меня обрушилось страшное несчастье, и я не знаю, к кому еще обратиться за помощью. Только вы можете восстановить справедливость.
– Кто это? – шепнул Арвид, обращаясь к мужчине, который, судя по чернильным пятнам на руках, был нотариусом. В отличие от воинов, люди этой профессии охотнее говорили с монахами.
И действительно, мужчина шепотом ответил:
– Эрлуин де Понтье.
Арвид смутно припоминал это имя. Эрлуин был графом соседней с Нормандией области и не обладал особой властью, но, как поведал нотариус, оказался вовлеченным в войну с поистине могущественным противником.
– Арнульф Фландрский уже давно жаждет заполучить земли Эрлуина де Понтье. Недавно он захватил крепость возле города Монтрей, а также местный порт, который был чрезвычайно важен для Эрлуина.
– Но почему? – недоумевал Арвид. – Ведь Фландрия велика и богата.
– Очевидно, Арнульфом движет не только желание расширить свои владения, но и стремление передать тем самым некое послание графу. Вильгельм и Эрлуин находятся в дружеских отношениях, а портом Монтрей пользуются и норманны. Этим нападением Арнульф дает понять, что Вильгельму не следует быть слишком уверенным в незыблемости своего положения.
– Какого положения?
– После свадьбы Герлок и Гильома Патлатого могло возникнуть впечатление, будто франкские соседи относятся к Вильгельму как к равному. Арнульф придерживается иного мнения – он считает Вильгельма не праведным христианином, а сыном язычника. Хранить верность такому правителю он не обязан.
Нотариус замолчал, а Эрлуин продолжал жаловаться и наконец стал молить Вильгельма о помощи.
– Если вы не выступите вместе со мной против Арнульфа, я буду вынужден отдать ему мое графство, – мрачно завершил он свою речь.
Теперь все взгляды устремились на Вильгельма. В воцарившейся тишине огонь, казалось, потрескивал громче. Арвид увидел, как на лице графа отразились смешанные чувства. Среди них были досада и раздражение, как будто Вильгельм думал: «Какое мне дело до Понтье? Тот, кто слишком слаб, чтобы защитить свои земли, теряет их, таковы законы нашего мира». В то же время в его глазах читалось возмущение дерзостью Арнульфа и готовность выполнить собственный долг – не только долг графа, призванного заботиться о благополучии своего народа, но и долг христианина, который обязан всегда приходить на помощь братьям, как сильным, так и слабым.
Когда Вильгельм поклонился, его лицо оставалось таким же серым, а голос, очень глубокий и, как всегда, негромкий, звучал решительно.
– Я пошлю войско в Монтрей. Более того, я возглавлю его лично! – заявил он.
Последнее полено в камине сгорело дотла. Никто из присутствующих не подкинул дров – всем и без того было жарко. Лица собравшихся были не серыми, как у Вильгельма, а красными от волнения. В воздухе стоял запах пота. Сердце Арвида невольно забилось быстрее, подстраиваясь под учащенное сердцебиение людей, чье состояние чем-то напоминало ему возбуждение, которое он чувствовал в объятиях Матильды.
«Разве у любви и войны может быть что-то общее?» – недоумевал послушник.
Утомленный и войной, и любовью, он повернулся и поспешно вышел из зала.
Сначала Арвид кругами побродил по двору (и его щеки горели, несмотря на утреннюю прохладу), а потом вернулся в часовню, где другие монахи все еще молились и все еще ничего не знали о случившемся.
Три псалма спустя Вильгельм снова переступил этот порог. Сквозь дорогие витражи уже пробивался сумеречный свет, и теперь лицо графа было не серым, а бледным. Он опустился на колени возле Арвида, но не для того, чтобы помолиться, а чтобы с ним поговорить. Арвид удивился, ведь Вильгельм нарушил священную тишину этого места, но еще больше его поразило то, что в этот час граф хотел побеседовать именно с ним, а не со своими многочисленными советниками, в первую очередь с Бернардом Датчанином. Однако Вильгельм пришел обсудить не просьбу Эрлуина и не свое решение оказать ему поддержку.
– На свадьбе Герлок присутствовали монахи из Пуатье, которые остались в Нормандии. Аббат приказал им отправиться в Жюмьеж и помочь в восстановлении монастыря. Старейшего и мудрейшего из них зовут Мартин. Он сменит Годуэна на посту настоятеля.
Арвид уже слышал эту новость и удивлялся тому, как мало она его волновала. Только теперь он задумался о чувствах, которые испытывал Годуэн, узнав, что ему предпочли кого-то другого. Даже если его это и унизило, он наверняка, как обычно, промолчал, успокаивая себя тем, что монахи из Пуатье принесли с собой много денег, а значит, Жюмьежский монастырь вернет себе былое величие гораздо раньше.
– Господь отблагодарит всех, кто приложил к этому руку, – пробормотал Арвид, – монахов, Гильома Патлатого, вас…
– Я так устал, – резко перебил его Вильгельм.
Арвид удивленно поднял глаза. Разве возможно, чтобы граф не разделял волнения своих воинов? И чтобы в его взгляде отражались скорее боль и отвращение?
– Однажды, – продолжил Вильгельм, – однажды, когда Ричард вырастет, я уйду в Жюмьежский монастырь, чтобы провести там старость. Именно это я сказал аббату Мартину.
– И что же он ответил?
Вильгельм принялся рассматривать свои ладони.
– Что Бог послал меня в этот мир для того, чтобы я был графом, а не монахом. И что я не должен испытывать судьбу. Но я думаю… если я довольно долго буду графом, и к тому же хорошим, то в какой-то момент судьбе этого будет достаточно.
Арвид внимательно посмотрел на Вильгельма. Значит, именно это было истинной причиной его готовности выступить против Арнульфа? Не стремление восстановить справедливость, а лишь желание доказать всем, что он могущественный граф и достойный сын своего отца?
Внезапно Арвида охватило чувство, которого он не знал до сих пор, – сострадание. Он ощутил единение, порожденное их с Вильгельмом общей тоской по душевному покою и избавлению от внутренних противоречий.
– Ты можешь пойти с ними, – нарушил тишину граф.
– С кем? – в недоумении спросил Арвид.
– С монахами из Пуатье. В Жюмьежский монастырь. Я знаю, что ты, как и я, мечтаешь жить там. Но тебе, по крайней мере, не придется ждать этого долгие годы…
Раньше Арвид надеялся услышать эти слова и злился из-за того, что они не звучали и что Вильгельм, казалось, не видел, какие страдания причиняет послушнику пребывание в замке, а может быть, и видел, но не хотел дарить ему то, чего был лишен сам. Теперь послушник просто не мог принять такой подарок: прежде всего, он чувствовал, что недостоин этого. Он слишком много выпил, подрался с Йоханом, совершил распутство с Матильдой и не раскаялся во всем этом. И именно сейчас, когда у него накопилось столько же грехов, сколько грязи под ногтями у крестьянина, он должен вернуться в Жюмьежский монастырь и принести обет?
– Я останусь с вами, – быстро ответил Арвид, боясь, что может передумать.
Лицо Вильгельма прояснилось, и угрызения совести стали мучить юношу еще больше. Очевидно, граф был уверен, что послушник подавляет свое истинное желание из преданности ему, а не от презрения к самому себе. Но, возможно, именно поэтому он мог дать Вильгельму то, чего не смог предложить Матильде и отсутствие чего наверняка и стало причиной ее бегства из Руана, – сочувствие, не запятнанное смущением, нерешительностью, сожалением, страхом перед самим собой и безудержной яростью, вызванной этим страхом.
Сбежала. Матильда снова сбежала.
Он считал, что во время свадебного торжества легко сможет подобраться к девушке и, воспользовавшись ее странным поведением, выманить ее из замка.
Все было продумано, цель находилась у него перед глазами, в воздухе витала надежда на то, что, после того как он выполнит распоряжение Авуазы, его жизнь изменится к лучшему. Но в итоге он, как и в Лион-ла-Форе, потерпел неудачу.
Тогда Матильду спас Арвид, а сейчас – этот воин, Йохан. Теперь она уехала в Байе или Фекан, а там схватить ее не удастся. Это было бы слишком опасно. Оставалось только ждать – недели, месяцы, а может быть, и годы.
Аскульф яростно топнул ногой.
Это ожидание не имело ничего общего с напряжением хищника, подстерегающего добычу, с нервной щекоткой, которую он при этом чувствует, с желанием затянуть нити потуже – оно предвещало лишь безделье и скуку.
Они двигались дальше на запад и наткнулись на отряды противника, а повернув назад, снова чуть не встретили врагов. Тогда они убежали вглубь страны, несколько недель мерзли под темными кронами деревьев и наконец вернулись к побережью. Врагов там не оказалось, но надеяться на то, что так будет всегда, не приходилось.
– Возвращаемся на восток, в сторону Нормандии, – приказала Авуаза.
Вскоре начался дождь, серой стеной отделивший от них море. Когда они прибыли в Котантен, западную провинцию Нормандии, впервые за много лет оставив Бретань, солнце все еще не показалось. Авуаза не обращала внимания ни на сырость, ни на чужую землю. В Котантене было много язычников.
Солнце так и не вышло из-за туч, но дождь закончился, воздух стал чище, а вид моря успокоил женщину, хоть и не придал ей сил. Долгий путь и постоянный голод измучили ее, и она чувствовала полное изнеможение. Даже если вслух Авуаза упорно утверждала обратное, она не могла вечно ждать, что положение дел изменится к лучшему.
Когда ее люди кое-как соорудили вал, к ним после долгих скитаний наконец присоединился Аскульф. У него тоже были впалые щеки, а от перенесенных невзгод он как будто стал у́же в плечах. Когда он пришел к Авуазе за новым распоряжением, у него слипались глаза.
«Ложись спать! – больше всего хотела приказать ему она. – Матильда скрывается в Байе или в Фекане. Какая от тебя сейчас польза, если ты все равно не сможешь выполнить мои приказы?»
– Поверь мне… У меня не было возможности ее схватить… Она провела в Руане мало времени. Слишком мало.
Авуаза молчала. Возмущение, на которое у нее не хватало сил, высказал другой человек.
– Слабак! – громко воскликнул Деккур.
– Кроме Арвида, ей помогало много других людей.
– Интересно почему, – проворчал Деккур и обратился к Авуазе: – Может, кто-то знает ее тайну и пытается не допустить того, чтобы чужой человек, такой как Аскульф, подобрался к Матильде слишком близко? Ты всегда говорила, что об этом никому не известно.
Авуаза помедлила.
– По крайней мере, ни одному мужчине, – произнесла она наконец. – Я не подумала об этой ненавистной предательнице и о ее ребенке. Черт возьми, мне нужно было убить ее! Я всегда догадывалась, что она не на нашей стороне, а на стороне этой проклятой…
Авуаза осеклась, не в силах произнести это имя.
И зачем она тогда проявила милосердие и не уничтожила всех, кто восстал против нее, а также их детей и внуков?
– Я должен остаться здесь? – спросил Аскульф.
Авуаза лишь пожала плечами.
– Возможно, Спрота узнала о том, кто такая Матильда, – снова заговорил Деккур. – Спрота бретонка. А если это известно ей, то известно также и Вильгельму.
– Если бы она об этом узнала, Матильды уже не было бы в живых. Думаю, Спрота даже не знает, кто такой Арвид.
– Что же мне теперь делать? – не унимался Аскульф.
Авуаза опустила глаза:
– Отдохни! Нам всем нужно отдохнуть!
– Глупости! – крикнул Деккур. – Даже если Матильда спряталась, нам следует искать союзников. Здесь, в Котантене, очень многие настроены против Вильгельма. И против Алена тоже. Большинство из них живет возле мыса Аг.
Авуаза слышала, что это место проклято, что здесь веют особо холодные ветра, что течения опасны для кораблей, а если не знать, где находишься, то можно подумать, будто ты на краю земли. Говорят, здесь поселились многие норвежцы вместе со своими рабами-кельтами, а значит, тоже язычниками.
– Эти люди требуют ни много ни мало – независимости от Руана! – воскликнул Деккур. – Мы можем этим воспользоваться.
– Не все жители этих мест настроены против графа Вильгельма, – осадил его брат Даниэль. – Воины из Котантена входят в число его личных стражников, потому что известны своей силой, храбростью и преданностью.
Откуда он все это знал? Разве он не провел долгие годы в одиночестве? Возможно, именно по этой причине Даниэль и обладал таким острым слухом, что мог различить даже самый далекий шепот, и ничего не забывал. Для раба единственным сокровищем были его знания.
– Это правда, – признал Деккур. – Некоторые люди из Котантена сражаются на его стороне даже сейчас, в битве за Монтрей. Но если они сражаются, то многие из них будут убиты, а их матери, отцы и сестры зададутся вопросом, стоит ли умирать за далекого христианского графа.
Следовало ли ей полагаться на материнские слезы? Власть можно получить или потерять, проливая кровь… но не слезы.
Как бы там ни было, Деккур прав в одном: им нужны союзники.
– Потеряв Монтрей, Арнульф Фландрский поклялся отомстить врагам, – сказал Аскульф. – В ближайшее время Вильгельм будет занят подготовкой к войне и не обратит внимания на то, что происходит здесь, в Котантене.
– Хорошо. Тогда нам нужно поговорить с людьми. Давайте проверим, насколько силен в этих местах зов свободы и смогут ли сегодняшние мальчишки завтра стать нашими воинами. Это все, что мы пока можем сделать.
– Значит, мы сдаемся, – мрачно заметил Деккур.
– Ждать и сдаваться – это не одно и то же.
Авуаза отвернулась и зашагала прочь. Деккур ничего не видел, однако она боялась, что он догадается, какие чувства ее обуревают.
Она ощущала не только усталость, истощение и изнеможение. Авуаза отчаялась. В последний раз она чувствовала себя такой слабой, когда умер он – мужчина с корабля-дракона, мужчина всей ее жизни. Христиане утверждали, будто ему явился святой Бенедикт, чтобы предупредить о скорой кончине. Что за глупости! Он убил бы Бенедикта своими руками – не важно, был тот духом или человеком из плоти и крови.
Язычники, в свою очередь, рассказывали, что в час его смерти разразилась страшная буря, а земля задрожала, разверзлась и поглотила его. Эти слова Авуаза тоже считала выдумкой, хоть и сожалела о том, что не видела его мертвое тело и не знала, где именно он похоронен. Возможно, его вообще не смогли похоронить, потому что он, как и многие другие убитые герои, принял облик животного: быка, орла или волка.
Когда она узнала о его смерти, Эрин попыталась ее успокоить, но Авуаза оттолкнула ее и закричала:
– Тебе он никогда не нравился! Ты никогда не верила, что я люблю его несмотря ни на что! Так не смей меня успокаивать!
Крик придал ей сил, но поскольку Эрин не проронила ни слова, Авуазе тоже пришлось молчать, разрываясь от боли.
Эта боль жила в ней до сих пор, хоть и стала тише. Авуаза смотрела на море. Оно было ровным, и лишь один острый камень возвышался над его поверхностью. Волны поднимались и обрушивались на него, но не причиняли ему никакого вреда.
Внутри Авуазы таилось нечто такое несокрушимое, что она смогла вынести эту боль, и такое твердое, что даже ненасытная смерть сломала зубы. Возможно, сейчас оно поможет ей преодолеть усталость и безнадежность, которые охватили ее, после того как Матильде снова удалось уйти. Авуаза не могла определить, на что похожа эта ее сила: на твердый, острый и отвесный камень или же на терпеливое, темное и глубокое море.
Глава 5
942 год
Мужчины брели, увязая по щиколотки в грязи. Несколько недель назад растаял снег, и Сомма вышла из берегов. Теперь уровень воды в реке снова уменьшился, дикий ревущий поток превратился в коричневую жижу, в которой плавали трухлявые бревна, однако земля еще не высохла.
Арвид стоял довольно далеко от берега и находился вне опасности, но в этот холодный зимний день мерз так же, как и остальные мужчины. Они делали вид, будто не замечают холода.
Война – это борьба, а мир – это ожидание. Мужчины ждали вот уже несколько часов, хотя и сомневались, что мир, который они должны были заключить сегодня, продлится долго, а не станет короткой передышкой перед следующими сражениями.
Во всяком случае, то, что Вильгельм, граф Нормандии, встречался с Арнульфом Фландрским здесь – на реке, где часто проводили переговоры или обсуждали вопрос о перемирии, – было хорошим знаком.
Не так давно Арвид уже стоял, ждал и мерз на берегу реки, но не Соммы, а Мааса. В тот день мир заключили король Оттон и король Людовик, которые разошлись во мнениях относительно Лотарингии. Вильгельм выступил посредником и напомнил обоим о том, что они, в конце концов, не могут позволить себе войну.
«Значит, вот что побуждает людей к миру, – думал Арвид и тогда, и сегодня, – не стремление к спокойной жизни, а осознание того, что для победы не хватает средств и нужно довольствоваться словами, которые, как известно каждому, уже завтра могут оказаться ложью».
Лучше всего это было известно самому Вильгельму. На его лице появились новые морщины, взгляд притупился, походка стала более напряженной. За мирными переговорами Людовика и Оттона последовал торжественный въезд в город, и люди приветствовали не только коронованных особ, но и графа Нормандии. Франки, саксы и норманны вместе пили медовое вино. Над шутками саксов громче смеялись норманны, поскольку их языки были похожи и они понимали друг друга лучше.
Сегодня не смеялся никто. После заключения мира не будет торжественного въезда в город. Никто не станет размахивать венками перед правителями, а женщины не вплетут в волосы яркие ленты в честь праздника. Перемирие было таким же серым и холодным, как этот зимний день, а противниками двигало не желание сделать мир лучше – они просто слишком устали, чтобы продолжать войну.
Почти не чувствуя ног от холода, Арвид подошел к палатке, которую накануне приготовили для Вильгельма. Граф всю ночь молился вместе с Арвидом, а теперь разговаривал с Бернардом Датчанином, который в последнее время часто выражал беспокойство по поводу этого перемирия. То же самое было и сейчас.
– Я не понимаю, почему Арнульф хочет встретиться с тобой на острове посреди реки. Почему бы ему не переправиться на наш берег?
– Остров – это нейтральное место, – объяснил Вильгельм. – Любой другой выбор был бы признаком слабости.
– Но он на самом деле слаб! После того как ты выступил на стороне Эрлуина, Арнульф прекратил попытки завоевать Понтье.
– И поэтому он готов проявить смирение передо мной, но не перед моими воинами.
– Я даже не уверен, что он придет.
За последние месяцы Вильгельм и Арнульф уже много раз собирались встретиться и наконец заключить мир, но каждый раз их встреча откладывалась. И даже если сейчас она состоится – а возгласы, свидетельствующие о присутствии воинов на противоположном берегу, позволяли надеяться на это, – она ничего не изменит и Арнульф Фландрский будет по-прежнему ненавидеть Вильгельма. Он ненавидел всех норманнов, потому что в его жилах текла кровь Бодуэна Железная Рука. Несколько десятилетий назад этот правитель победил языческие племена, напавшие на Фландрию, чем снискал себе славу великого воина. Хотя Вильгельм не был язычником и не стремился завоевать Фландрию, для Арнульфа война с ним дала возможность доказать, что он достойный наследник своего великого предка. По крайней мере, вот уже три года он пытался это сделать. Арнульфу пришлось с горечью осознать, что в сражениях с норманнами уже нельзя заслужить славу, а можно лишь потерять слишком много воинов, а также собственное здоровье. Ходили слухи, будто Арнульф страдает от боли в ногах и прихрамывает.
– Я ему не доверяю, – проворчал Бернард. – Не исключено, что ты сойдешь на остров, а он в последний момент откажется. Вспомни, что было в Амьене.
В Амьене Арнульф сослался на то, что из-за боли в ногах не сможет преодолеть последний отрезок пути.
– Чтобы переправиться через реку, ему нужны не ноги, а лодка. Смотри! – указал Вильгельм вдаль. – Та лодка, кажется, только что отчалила от берега. Мне не нужно больше ждать.
Граф вышел из палатки и зашагал к лодке, не обращая внимания на грязь.
Арвид смотрел на реку. Над ней поднимались клубы тумана, но они не могли скрыть далекий остров – узкую полоску земли в коричневой воде, покрытую даже не голыми деревьями, а лишь колючим кустарником. И в самом деле, к острову подплывала лодка, но разглядеть, кто в ней сидит, было невозможно.
– А что, если это ловушка? – спросил Бернард Датчанин.
Вильгельм уже стоял по колено в холодной воде.
– Отсюда вам виден остров. Если Арнульф возьмет с собой больше воинов, чем было уговорено, вы сможете быстро вмешаться. Моя жизнь в руках Господа.
Арвид часто слышал от него эти слова, но сейчас, видя, как Вильгельм садится в лодку и она проседает под его весом, он вдруг почувствовал, что граф обречен. Вильгельм казался таким маленьким, река – такой неприветливой, а небо – таким серым. Создавалось впечатление, что на небесах находится не величественное царство Божье, а только еще больше холода и сырости.
Когда лодка отплывала, Арвид встретился взглядом с Вильгельмом. На лице графа появилась слегка измученная улыбка, с которой он часто смотрел на Арвида, видя в нем себя в монашеской рясе, но она быстро исчезла, и в его взгляде вдруг промелькнула досада, причину которой Арвид не смог определить. Может быть, она свидетельствовала о страхе перед Арнульфом, а может, граф был просто недоволен тем, что должен переправляться через Сомму, вместо того чтобы уйти в монастырь, и служить своей земле, вместо того чтобы заботиться о спасении души.
Но Вильгельм отогнал от себя досаду. Он отвернулся и устремил взгляд на остров.
Лодка все отдалялась, и хотя клубы тумана скрывали графа не полностью, он, казалось, растворился в серой пелене и был уже не высоким сильным мужчиной, а лишь тенью самого себя. Арвид отвел глаза.
С тех пор как между Вильгельмом и Арнульфом началась вражда, прошло три года. Три года Арвид не видел Матильду. Три года он, дрожа от холода, провел в ожидании окончания битв или бесполезных переговоров, влекущих за собой лишь новые битвы. Воины согревались в пылу сражений, но в Арвиде молитва не могла разжечь такое пламя.
Раньше Арвид чувствовал себя пленником Вильгельма, а теперь находился в плену у самого себя. Такие дни, как этот, когда он оказывался брошенным в холодный мир, с интригами которого не хотел иметь ничего общего, юноша воспринимал как наказание. Наказывал он себя за ночь с Матильдой или за тоску по ней, Арвид и сам не знал. В любом случае он много молился – за себя, за Вильгельма, за… нее, и сейчас тоже невольно начал бормотать стихи одного из псалмов.
– Я должен был отправиться вместе с ним, – сказал Бернард Датчанин, который стоял недалеко от Арвида.
– Вильгельм потребовал, чтобы его сопровождали только простые воины, – ответил чей-то голос.
– Сейчас лодка причалит к берегу. Хорошо, что на острове нет деревьев и мы сможем все увидеть.
Арвид вновь поднял голову. Казалось, что пелена из тумана и пара развеялась, и за ней можно было различить не только Вильгельма, но и Арнульфа, который вместе со своими воинами тоже причаливал к берегу. Он вылез из лодки не сразу, а когда наконец ступил на твердую землю, то пошатнулся. Либо он и вправду не мог ходить, либо же искусно притворялся. Несомненно было лишь одно: Арнульф производил впечатление довольно старого человека.
Значит, это и был мужчина, который принес графу столько забот и бессонных ночей. Мужчина, который захватил Монтрей, под натиском Вильгельма оставил его, а потом, сгорая от гнева, долго отказывался заключать мир.
И все же три года без побед, но с многочисленными жертвами способны охладить даже самую пламенную клятву мести.
Вильгельм тоже спрыгнул на землю – более ловко, чем Арнульф, но со сгорбленной спиной.
– Зачем он это делает? – в ярости спросил Бернард.
Арвид не сразу понял, что он имеет в виду, и лишь спустя некоторое время увидел, что Вильгельм сошел на остров один, а его воины остались в лодке. Очевидно, граф хотел доказать Арнульфу искренность своего желания заключить мир.
Арвид ему верил, ведь Вильгельм всегда первым опускал оружие и поднимал его вновь только потому, что знал: иногда, чтобы добиться чего-нибудь, одной лишь надежды бывает мало.
Почему же именно в этот день надежда сделала его столь легкомысленным?
Арвид ощущал, как среди ожидающих воинов нарастает напряжение. Он и сам невольно подступил ближе к берегу, несмотря на то что его ноги глубоко проваливались в грязь. Его охватила дрожь, вызванная не холодом, туманом и сыростью, а плохим предчувствием.
Послушник не сводил глаз с Арнульфа и Вильгельма. Сначала они спокойно беседовали, потом вроде бы обнялись. До воинов не доносилось ни слова, но туман рассеивался все больше, а с ним исчезали и серые тучи. Сквозь них пробился луч солнца, неожиданно сильный и теплый, и окутал далекий остров ярким приветливым светом.
Арвид поднял глаза к небу. Возможно, его мрачное предчувствие было обманчивым. Возможно, именно в эту секунду правители заключают мир.
А потом он услышал крик, пронзительный, панический, многоголосый. Кричал Бернард Датчанин, кричали другие советники Вильгельма, кричали его воины.
Солнечный свет был уже не теплым, а просто ярким. Он озарил вторую лодку, неожиданно причалившую к берегу, и четырех мужчин, которые из нее выскочили. Эти люди прибыли не для того, чтобы помочь больному Арнульфу передвигаться. Они были одеты в широкие плащи, под которыми прятали копья.
Теперь с губ Арвида тоже сорвался крик, совершенно бесполезный крик. Воины не могли сделать ничего, чтобы помешать этим мужчинам, когда те направили свои копья на графа Вильгельма.
Арвиду казалось, что они раздирают его собственную кожу, все глубже проникают в теплое, еще живое тело и пронизывают сердце – обитель жизни и души. После того как Вильгельм позволил Арвиду уйти в Жюмьежский монастырь, а тот отклонил его предложение, связь между ними укрепилась, однако послушник никогда не называл графа своим другом. Совместные ночные молитвы сблизили их, но это ничего не меняло: один из них был могущественным правителем, а другой – его подданным.
Только сейчас, увидев, как беззащитный Вильгельм умирает, Арвид понял: они были не просто друзьями. Они были братьями. Братьями по духу. И только сейчас он пожалел о том, что они с графом почти всегда молились молча и никогда не говорили о борьбе с демонами, которую им обоим – сыновьям язычников, стремящимся стать христианами, – приходилось вести.
Когда безжизненное тело Вильгельма упало на землю, солнце зашло за тучу и в мире Арвида воцарилась тьма.
Арвид видел, как убитого графа забрали с острова и положили в гроб. Мужчины разделились: одни повезли тело в Руан, другие, в том числе и Арвид, помчались в Байе, чтобы передать трагическое известие Спроте. При жизни Вильгельма его подданные не замечали ее, а теперь, когда он умер, скорбели вместе с ней.
Скорбь Спроты оказалась тихой. Как Арвид и предполагал, женщина не потеряла самообладания. Она принимала людей такими, какие они есть, и к миру, который иногда бывал жестоким, относилась точно так же.
Арвид не знал, почему оказался среди тех, кто отправился в Байе. Возможно, так решил Бернард Датчанин: после смерти Вильгельма именно он отдавал приказы, именно он не позволил воинам переправиться через Сомму и броситься в погоню за Арнульфом. Лодок на всех не хватило бы, а пока воины плыли бы к другому берегу, Арнульф и его люди давно сбежали бы, как ночные воры. Нет, час расплаты за это убийство еще не настал.
Спрота выслушала свидетелей с невозмутимым выражением лица. Бернард ограничился несколькими предложениями, остальные воины были так же немногословны, и именно Арвиду пришлось приукрашивать рассказ о случившемся. Очевидно, все думали, что человек Божий лучше умеет облекать страшные события в слова, несмотря на то или именно потому, что слова оказались лживыми: Арнульф обещал мир, но готовил убийство.
– Где он сейчас? – спросила Спрота, когда Арвид закончил.
Юноша посмотрел на нее в недоумении. На мгновение он испугался, что Спрота потеряла рассудок. Вильгельм мертв, его коварно убили. Разве она не поняла этого и думала, что он может войти в зал в любой момент?
Арвид внимательно посмотрел на женщину. Она казалась очень маленькой и хрупкой. Два года назад ходили слухи о том, что она ждет второго ребенка, но либо они были выдумкой, либо ребенка Спрота потеряла. Ричард был единственным сыном графа… а теперь и его единственным наследником.
– Что ты имеешь в виду? – растерянно спросил Арвид.
– Где сейчас его тело?
Значит, эта женщина все-таки не потеряла рассудок. Она знала, что смерть невозможно победить. Арвиду же было нелегко это постичь. По дороге в Байе он много молился и скучал по своему товарищу, который, как и он сам, жил со знанием того, что все его дела – это лишь мимолетное занятие, а не исполнение истинного предназначения.
Прерывающимся голосом Арвид сообщил:
– В Руане.
Он ничего не добавил, и другие воины тоже не уточнили, может ли Спрота прийти на похороны.
Ее же, казалось, гораздо больше интересовало кое-что другое.
– Его смерть была… легкой? – спросила она. – Я имею в виду, он умер… быстро?
Арвид задумался. Воины без колебаний пронзили тело Вильгельма, и он не успел сделать ничего, чтобы защититься. Но была ли его смерть быстрой? Унесла ли она его жизнь в одно мгновение?
Вильгельм хорошо понимал, что происходит. По крайней мере, так утверждал один из воинов, наблюдавших за этим ужасным преступлением из лодки.
– Нам известны имена убийц, – вмешался Бернард Датчанин. – Эрик, Бос, Роберт и Ридульф.
Спрота бросила на него беглый взгляд.
– Он умер быстро? – спросила она, снова обращаясь к Арвиду.
Тот пожал плечами. «Как глупо называть имена убийц! Разве сила смертельного удара зависит от того, был он нанесен неизвестным или знакомым врагом?»
Но Бернард не отступал от этой темы.
– Именно Бос лишил его жизни. – Он помолчал. – Но Вильгельм успел произнести последние слова. Он воскликнул: «О, какое предательство!»
Спрота кивнула. Она знала Вильгельма и, вероятно, догадывалась, какие чувства он должен был испытывать, захлебываясь кровью: его поразило то, что другие люди не придерживались законов морали.
Несомненно, Спроту взволновало подлое убийство и глубоко опечалило известие о том, что мужчина, чьей конкубиной она была, погиб. Тем не менее она ничуть не удивилась, ведь все эти годы Вильгельм снова и снова уходил на войну. Если бы он стал монахом, о чем втайне мечтал, то остался бы жив. Но если бы он стал монахом, Спрота не провела бы последние годы рядом с ним.
В разговор вступил еще один воин – Осмонд де Сентвиль. До сих пор он только слушал с каменным выражением лица, а сейчас произнес:
– После убийства Арнульф сбежал в северном направлении. Пока у нас нет возможности преследовать его, но расплата его настигнет. Он не должен уйти безнаказанным. Он не должен…
Воин осекся, потому что в большой зал ввели Ричарда. Мальчику уже исполнилось десять лет, и он выглядел старше, чем ребенок из воспоминаний Арвида. Его волосы больше не курчавились, а ниспадали гладкими прядями и доходили до подбородка, а карие глаза уже не казались такими большими и круглыми. Ричард был уже не ребенком, но еще не мужчиной; достаточно взрослым, чтобы понять, что произошло, но слишком юным, чтобы отомстить за отца. Кроме того, он был слишком мал, чтобы стать достойным наследником…
«Что теперь станет с Нормандией?»
Арвид впервые задумался об этом, но все мысли вылетели у него из головы, когда он узнал женщину, которая привела Ричарда в зал.
Матильда.
Арвид окинул ее пристальным взглядом. Спрота похудела, Ричард повзрослел, а вот Матильда… не изменилась. Она осталась такой же на первый взгляд хрупкой, а на самом деле сильной девушкой, вместе с которой они бежали через лес. Девушкой, которую он любил на полу в сарае. Девушкой, такой недоступной и резкой до этого и такой нежной и ласковой после. Девушкой, которая уехала с тем воином, Йоханом, вместо того чтобы поговорить с Арвидом и решить, чем было то, что они сделали: грехом или любовью.
В последние годы мысль о Матильде вызывала в послушнике стыд или тоску, но сейчас его обуял гнев. Лишь гнев помог Арвиду, тяжело переживающему смерть Вильгельма, выдержать эту встречу с Матильдой. Хотя, строго говоря, он даже не хотел с ней встречаться, как и с Ричардом, который сначала держал себя в руках, но потом, посмотрев на свою невозмутимую мать, залился слезами.
Матильда не заплакала, но побледнела. Из-за Вильгельма? Или из-за него?
Арвид не хотел этого знать.
– Я буду молиться за нашего графа, – глухо сказал он, догадываясь, что тишина часовни не сможет унять ни его скорбь, ни его гнев, и вихрем пролетел мимо Матильды.
Матильда не была в Руане три года, а теперь снова видела, как в узких улочках толпились люди, как Спроте не разрешили посетить официальное мероприятие, как маленький Ричард вошел в собор без матери и на этот раз даже без отца. Тогда все собирались на свадьбу, теперь на похороны. Свадьба была шумной и красочной, похороны – тихими и мрачными.
Под звуки свистящего ветра в соборе прочитали молитвы за упокой души Вильгельма, а потом Ричард получил из рук архиепископа Руана мантию и копье как символ своего нового титула – графа Нормандии.
По крайней мере, все надеялись, что он им станет и будет достойным правителем. Впоследствии люди неустанно восхищались тем, как легко Ричард взял на себя эту ношу, ведь за все богослужение он даже ни разу не моргнул и сдерживал слезы. Они говорили, что Ричард был зрелым не по годам, но умалчивали о том, что от этого не менялся его возраст. Как бы там ни было, он оставался всего лишь ребенком, и даже если народ любил, уважал и истово молился за этого ребенка, чуда произойти не могло. Ричард не мог за одну ночь вырасти и стать законным наследником Вильгельма в глазах не только норманнов, но и их соседей.
Через несколько дней траур закончился, пришло время решать, что делать дальше, и мужчины собрались на совет. Среди них был Бото – крестный отец Ричарда, который после смерти Вильгельма привез мальчика из Байе в Руан; Бернард Датчанин – самый влиятельный советник графа; правители де ла Рош-Тессон и Брикебек, а также Осмонд де Сентвиль – воин, которому предстояло заботиться о безопасности Ричарда.
Поговаривали, что все эти люди принесли Ричарду клятву верности и пообещали оказывать друг другу всяческую поддержку. Конечно, они понимали: чтобы сохранить его власть надолго, этого недостаточно. Для этого требовались клятвы в верности соседей Нормандии, но те не спешили их приносить, а лишь возмущались по поводу насильственной смерти Вильгельма. Может быть, это возмущение и было искренним, но к нему, без сомнения, прилагалось и осознание того, что после смерти Вильгельма – заслуженной или нет – его земли остались без правителя. По крайней мере, такого правителя, который в случае необходимости мог бы повести за собой войско и защитить эти земли с мечом и копьем в руках.
Все эти дни Матильда провела рядом со Спротой. Девушка не знала, что должна чувствовать – Вильгельм всегда был ей чужим. Но она разделила бы горе Спроты, если бы та, конечно, его не скрывала. Однако женщина вела себя, как всегда, сдержанно, всем своим видом показывая, что ее не могло потрясти то, чего она постоянно опасалась, и что смерти правителя от рук врагов следовало ожидать. А вот Ричард за последние годы, наоборот, очень привязался к Матильде. Девушка сочувствовала мальчику, который потерял отца и вынужден был взвалить на себя тяжелую ношу – стать графом Нормандии, но видела она его слишком редко, чтобы понять, какие чувства таились в его душе и как его можно успокоить. Страха за будущее этой земли Матильда, в отличие от многих людей, не испытывала. Она не знала своей родины, и ей всегда было сложно считать таковой Нормандию. Девушка решила заниматься тем, что, по слухам, в эти дни делал и Арвид, – много молиться.
Однажды по пути в часовню она встретила Йохана. За последние несколько лет они иногда виделись, чаще всего на Пасху и Рождество, когда на больших гуляниях люди много смеялись, пили и танцевали. Матильда всегда лишь вежливо улыбалась, мало пила и отказывалась от предложений Йохана потанцевать, как тогда, на свадьбе Герлок. Она догадывалась, что таким поведением обижала его, хотя он этого и не показывал. Сегодня на его лице читались не бравада и задор молодого мужчины, добивающегося благосклонности девушки, а скорбь по Вильгельму и тревога за будущее.
Нахмурившись, Йохан заговорил о Ричарде.
– Власть Ричарда легко оспорить не только из-за его возраста, – мрачно заметил он, – но и по той причине, что Вильгельм не был женат на Спроте. Если мы, норманны, не считаем это проблемой, то наши соседи-франки могут рассудить иначе и назвать мальчика бастардом.
В его голосе звучало неодобрение, хотя он и не сказал, что именно стремление Вильгельма уйти в монастырь помешало этой свадьбе.
В отличие от Йохана, Матильде было знакомо это стремление, но она тоже невольно задумалась о том, чего стоит человеческое желание, пусть даже самое благое, если оно чуть не погубило страну.
– Как ты думаешь, что теперь произойдет? – спросила она.
– Несомненно, наибольшая опасность исходит от короля франков, – определил Йохан.
– Людовик Четвертый…
– Уже давно ходят слухи о том, что он хочет захватить Нормандию.
Матильда кивнула. Она знала это лучше, чем кто-либо другой, ведь однажды видела рану на теле Арвида, которую нанес ему воин Людовика.
– Жаль, что Ричарда родила бретонка. Нашим франкским соседям было бы легче принять сына своей соотечественницы.
Матильда ответила непривычно резко:
– Бессмысленно представлять себе, как все могло бы быть. Того, что есть, не изменишь.
Девушка сама удивилась своим словам и прежде всего тому, как она их произнесла. Она говорила, как Спрота: смиренно, разочарованно и как-то… по-стариковски. Три года назад, когда Матильда была в Руане, она желала, любила, сгорала от страсти, стыдилась этого, испытывала страх за свою жизнь и жизнь Арвида, но потом спрятала все эти чувства в самых темных уголках души и теперь уже не могла их найти.
Вернее, она могла бы их найти, но не хотела искать. Матильда устала, и ее упрямство стало слабее. Девушка уже не хотела идти напролом, разбивая стены, а ограничивалась тем, что садилась у этих стен, подтянув колени к подбородку, и упрямо притворялась спящей.
Йохан посмотрел на Матильду, и в его глазах вдруг появилась нежность.
– Что бы ни случилось и что бы ни принесло с собой будущее, я все же представляю себе собственный клочок земли. И женщину, с которой мы могли бы жить там вместе.
Он посмотрел на Матильду с тоской и надеждой.
«А я уже ничего не представляю, – хотелось ответить девушке. – Я не могу думать ни о будущем, ни о прошлом». В последние годы ее жизнь ни разу не подвергалась опасности, и старые сны к ней больше не возвращались.
– Я желаю тебе найти то, что ты ищешь, – коротко ответила Матильда и оставила воина одного.
Возле дверей часовни она застыла, не решаясь переступить порог. Матильда догадывалась, что знакомые псалмы не смогут заглушить те мысли, которые разбудили в ней размышления Йохана о будущем – будущем Нормандии, Ричарда, ее собственном.
Что будет со Спротой? С ней самой? Что будет… с Арвидом?
С Арвидом, который не смог посмотреть ей в глаза, когда они случайно встретились, и сбежал от нее. Вероятно, его охватил стыд, ведь, увидев ее, он вспомнил о том, что однажды случилось в Руане. С Арвидом, который теперь, после смерти Вильгельма, непременно вернется в Жюмьежский монастырь.
Матильда все еще стояла возле часовни, когда во двор въехали повозки, а вслед за ними появился отряд воинов. Мужчины с громкими криками спешились, отдали приказы конюхам и теперь оглядывались по сторонам. Их акцент показался послушнице чужим, чего нельзя было сказать о произношении женщины, которая вышла из повозки и ступила на стул, подставленный одним из мужчин.
Как и Матильда, она вернулась в Руан впервые за три года. Как и Матильда, сейчас она, наверное, вспоминала веселье, царившее здесь тогда. Герлок, которую теперь звали Адель, приехала слишком поздно и не успела на похороны брата. Руку ей подал краснолицый мужчина – это был Гильом Патлатый, ее муж. Герлок даже не оглянулась, когда вслед за ней из повозки вышла еще одна женщина с маленьким ребенком на руках.
Матильда подошла поближе. Женщина, очевидно, была кормилицей сына Герлок, которого та родила мужу и на которого почти не смотрела. Гильом Патлатый остался таким же коренастым, но его волосы и борода поредели. Герлок изменилась еще больше: ее одежда была изысканной, украшения сияли, но губы казались узкими, как будто сморщились от того, что перестали улыбаться. Наверное, говорила она тоже мало и почти ничего не ела, о чем свидетельствовали ее острые скулы.
Герлок равнодушно окинула взглядом двор и посмотрела на Матильду, которая секунду назад собиралась подойти и поздороваться, но теперь застыла на месте.
Потом Герлок молча отвернулась и проследовала в замок в сопровождении мужа. Она ни разу не оглянулась – ни на кормилицу, ни на сына, ни на Матильду. «Для человека, которому собственная плоть и кровь кажется чужой, давняя подруга, должно быть, ничего не значит», – подумала Матильда. Однако, вернувшись в покои Спроты, она обнаружила там одну из служанок, которая с чужим акцентом и с нотками презрения ко всему норманнскому сообщила, что Герлок… то есть Адель хочет ее видеть.
Они встретились в той же комнате, где Герлок провела свою первую брачную ночь, а на следующее утро спрашивала, как ей быть дальше. Матильда не знала ответа и просто сбежала из Руана – от своего безликого врага и от Арвида. Тот враг больше не покушался на ее жизнь: видимо, в Фекане и Байе она была в безопасности. Спустя годы Матильду стали одолевать сомнения: возможно, смутные подозрения и воспоминания ее обманывали, она многое истолковала неправильно: она не являлась наследницей, судьба целой страны не зависела от нее и ее не хотела убить незнакомая женщина… Авуаза.
Об Арвиде Матильда думала чаще, чем о врагах, но он упорно ее избегал. Герлок, напротив, приняла ее приветливо, хоть и не слишком тепло, и предложила сесть у камина, а потом замолчала, как будто Матильда была чужим человеком, который заслуживает вежливости, но не доверия.
Это молчание казалось приятным совсем недолго: за последние дни Матильда слишком много пережила, чтобы теперь погружаться в воспоминания о прежней Герлок. А после смерти Вильгельма в душе девушки воцарился лютый холод, не дающий задремать у приветливо потрескивающего огня в камине.
– Когда-то ты очень боялась будущего, которое ожидало тебя в Пуатье, – невольно сказала Матильда, решив сразу перейти к главному. – Надеюсь, ты все же обрела счастье.
Герлок улыбнулась, не глядя на Матильду. Некоторое время был слышен только треск поленьев, а потом раздался ее голос – более тихий, чем раньше, но твердый:
– Почему ты думаешь, что мне было страшно?
– Тогда ты была не уверена, кем являешься, еще меньше понимала, кем станешь, и совершенно не знала, кем хочешь быть.
Герлок отвела глаза в сторону и улыбнулась:
– Что за глупости!
– Но ты плакала!
Герлок улыбнулась:
– Что за глупости!
Теперь Матильда не могла смотреть на собеседницу. Она перевела взгляд на огонь.
– Герлок…
На секунду Матильде захотелось взять ее за руку и вместо слов пустить в ход прикосновения, но она передумала. Девушка хорошо понимала, почему Герлок прячется за маской и какое умиротворение это вносит в ее душу, поэтому решила тоже молчать и улыбаться.
Когда поленья догорели, служанка не стала подкладывать новые. Матильда уже собиралась подняться, но Герлок вдруг схватила ее за руку, и эта хватка была сильнее, чем ее голос.
– Я дам за тобой приданое.
Матильда широко открыла глаза.
– Но… – начала она.
Прежде чем девушка успела сказать, что не собирается выходить замуж, Герлок добавила:
– С этим приданым ты сможешь уйти в монастырь. Ты же всегда хотела именно этого.
Женщина впервые пристально посмотрела на Матильду, и ненадолго та узнала в ней прежнюю Герлок, которая даже в минуты благодушия оставалась немного грубой и язвительной. Это предложение она тоже сделала не по доброте душевной, иначе почему ее пальцы вцепились в руку девушки с такой силой, как будто получить то, чего давно хочется, было не милостью, а скорее наказанием?
Или таким образом Герлок признавала, что тогда действительно плакала?
– Это очень великодушно… – пробормотала Матильда.
Герлок разжала пальцы, и Матильда почувствовала угрызения совести из-за того, что подумала, будто на самом деле она предлагает ей приданое не из лучших побуждений.
Герлок снова отвела взгляд и улыбнулась.
Матильда не знала, что делать. Как она сможет уйти в монастырь, если недостойна этого? С другой стороны, как отказаться и объяснить Герлок, что она этого уже не хочет, если никаких других желаний у нее нет? К тому же сейчас, когда Вильгельм умер, а будущее Спроты и тем более ее собственное будущее скрывалось в тумане неизвестности, это казалось наиболее разумным решением.
Матильда не пыталась убедить себя в том, что сможет жить, как раньше: наверное, она изменилась не меньше, чем Герлок, некогда дерзкая, шумная и постоянно смеющаяся Герлок, которая заявляла, что каждый способен стать тем, кем он хочет.
Вероятно, она права, вот только ничего нельзя вернуть назад, как старухе не следует тешить себя надеждой, что горб – это лишь временная мука, а легкость юности можно вновь обрести в любой момент. Герлок перешла на сторону франков навсегда, навсегда стала супругой Гильома Патлатого и матерью его сына, навсегда превратилась в Адель.
И только она, Матильда, так и не стала никем навсегда: ни возлюбленной, ни грешницей, ни бродягой, ни жертвой, ни наследницей Бретани, ни… монахиней. По крайней мере, пока не стала. Герлок подарила ей возможность это исправить.
Девушка думала долго, пока дрова не сгорели дотла. Натянутая улыбка Герлок уже не казалась ей лживой, а молчание больше не вызывало отчуждения. Матильде хотелось спрятаться за улыбками и ложью. На сегодня, навсегда.
– Да, я хочу уйти в монастырь, – неожиданно произнесла она. – Но не в большом городе… В глуши… Далеко от всех.
В такой, как монастырь Святого Амвросия. Она будет молиться, соблюдать пост, переписывать тексты в скриптории. Она снова найдет подругу, похожую на Мауру, и будет без труда понимать ее мысли и чувства, в отличие от мыслей и чувств Герлок. Их с подругой объединит желание служить Богу, забыть о мире, отречься от всего земного.
Герлок поднялась, и улыбка исчезла с ее лица.
– Ты когда-нибудь тосковала по родине? – спросила Матильда, догадываясь, что они прощаются навсегда.
– Нет, – прозвучал резкий ответ. – Никогда.
– Герлок…
– Меня зовут Адель.
Матильда вздохнула:
– Я буду молиться за тебя, как бы тебя теперь ни звали.
Герлок взглянула на нее.
– Иногда, – сказала она, – иногда.
Матильда не знала, что ее собеседница имела в виду: что достаточно молиться за нее лишь иногда или что иногда она все же тоскует по родине.
Спрота никогда не понимала, что подразумевают люди, когда говорят о счастье. Порой ей казалось, что счастье – это то, что чувствует бабочка, порхая над цветочным лугом в летний день. Но люди летать не умели, а бабочки могли наслаждаться всего одним летом, пока не наступала осень. Поэтому разумнее стремиться не к счастью, а к миру и покою, обрести которые можно, только смирившись с неизбежностью.
Даже если Спроте и не хватало ощущения счастья, по крайней мере она знала, что такое несчастье и что чувствует человек, когда боль съедает душу и не хочет выплевывать ни кусочка.
Смерть Вильгельма Спрота еще могла перенести. Он никогда не принадлежал только ей, она вынуждена была делить Вильгельма с его страной и в первую очередь с его Богом, а Он неизменно оказывался более удачливым. Но судьба забрала у Спроты не только мужа. Теперь женщине предстояло потерять и Ричарда, который совсем недавно принадлежал ей и больше никому. Конечно, когда он вышел из ее тела, его жизнью стали распоряжаться другие, но она всегда была рядом. А теперь это изменится. Даже мужчины, которые до сих пор благоразумно ее презирали, сейчас сочувствовали ей настолько, что поделились с ней своими планами.
Изменить эти планы она все же не могла.
Мужчины – Бото, Осмонд де Сентвиль, Бернард Датчанин, конечно же, а также тот монах, Арвид, – собрались в большом зале.
Бернард как раз делился своими соображениями о том, каким образом можно сохранить наследство Ричарда:
– Это тяжелое решение, просто чудовищно тяжелое. Но мы должны его принять.
Бернард всегда производил впечатление старого человека, но в последние дни казалось, будто невидимая ноша на его плечах стала еще тяжелее. На его лице отражалась уже не скорбь, как сразу после смерти Вильгельма, а просто усталость.
Он поднял голову и посмотрел Спроте прямо в глаза, чего раньше почти никогда не делал.
– Ты ведь понимаешь это, не так ли? – спросил Бернард.
Внутри Спроты все кричало, но она не проронила ни слова. Она научилась молчать, когда вместе с родителями вынуждена была покинуть дом, когда после их смерти осталась совсем одна, когда познакомилась с Вильгельмом и они оба увлеклись молодостью и силой друг друга. А чуть позже Спрота поняла: такие люди, как они с Вильгельмом, так и не узнали, что такое настоящая молодость, ведь им обоим пришлось слишком рано повзрослеть. Вильгельм не был сильным, он просто выполнял свой долг; она тоже не была сильной, просто смирилась со своей судьбой. Это их объединяло, и этого оказалось достаточно, чтобы Спрота стала его конкубиной. Но для чего-то большего – для любви – этого было мало.
Вместо нее возразил другой человек – Осмонд, самый молодой из собравшихся здесь мужчин и еще не научившийся скрывать свои чувства.
– Людовик не изъявил желания отомстить за смерть Вильгельма и привлечь Арнульфа к ответственности. И именно он…
Воин осекся.
После похорон, состоявшихся несколько недель назад, все они ждали, что король франков пойдет войной против Арнульфа, но тот до сих пор оставался безнаказанным. Вынудить Людовика восстановить справедливость они не могли, а недавно он вдруг приехал в Руан и остановился в доме, где раньше проживал архиепископ.
Туда Людовик накануне и пригласил Ричарда, «молодого графа», как совершенно непринужденно его назвал. Хорошим знаком это не показалось никому, тем более когда после совместного ужина король франков пожелал, чтобы Ричард заночевал в его доме. На следующее утро Осмонд де Сентвиль обратился к королю с просьбой забрать мальчика и отвести его в купальни, но получил резкий отказ. Король франков заверил, что Ричарду будет лучше там, где много слуг, которые день и ночь заботятся о его благополучии, и поэтому он вынужден настаивать на том, чтобы мальчик и дальше оставался у него в гостях.
Сгорая от гнева, Осмонд вернулся обратно. Он первый высказал вслух то, о чем думали все: Ричард не гость Людовика, а его пленник. Воину больше всего хотелось поднять меч и освободить мальчика силой.
Но рассудительный Бернард удержал его от этого шага.
– Пока Людовик прикрывается маской гостеприимства, мы не можем заставить его отпустить Ричарда.
Тогда они еще надеялись, что стоит проявить немного доброй воли, и все изменится к лучшему. Однако сегодня король франков через посланника передал следующее: во дворце в Лане Ричарду будет наиболее безопасно, там он получит такое же воспитание, как и наследный принц Лотарь, и к нему будут относиться как к сыну, пока он не достигнет возраста, когда сможет править Нормандией. А до тех пор управление государственными делами вполне мог бы взять на себя Бернард Датчанин.
Бернард в задумчивости покачал головой:
– Если мы отдадим ему Ричарда, то, вполне возможно, никогда больше его не увидим.
– Но если Людовик хочет, чтобы весь мир считал его защитником Ричарда, – заметил Бото, – он будет вынужден наказать Арнульфа Фландрского.
«Какое мне дело до Фландрии, – подумала Спрота, – если я теряю сына?»
– И что же, ради этой мести мы бросим нашего наследника?! – возмутился Осмонд. – Как бы хорошо к нему ни относились в Лане, там он в плену, а не в гостях. Что, если Людовик воспользуется случаем и…
Бернард махнул рукой, и Осмонд замолчал, но Спроте было известно окончание этой фразы. Что, если Людовик убьет Ричарда?
– Если Ричард умрет в Лане, – сказал Бернард, – в глазах всего мира Людовик станет его убийцей. Король франков не может так рисковать. Если бы он хотел лишить мальчика жизни, то вернулся бы домой и послал бы в Нормандию душегуба. Как бы странно это ни звучало, в Лане Ричарду, возможно, будет безопаснее, чем здесь. Похоже, рядом с Людовиком он лучше защищен от самого Людовика.
– При условии, – проворчал Осмонд, – что король действительно боится клейма убийцы. Арнульфа оно не испугало.
– Арнульф – это не король франков, помазанный на царство елеем, который когда-то держал в руках сам святой Ремигий. Не забывайте: речь идет не только о безопасности Ричарда, но и о судьбе Нормандии. Людовик не единственный, от кого исходит угроза. Почти все соседи рано или поздно попытаются завоевать наши земли, но пока Ричард, законный наследник, находится под покровительством Людовика, они не посмеют совершить нападение.
– Но не совершит ли его сам Людовик?
– Он изъявил желание до своего отъезда в Лан посетить вместе с Ричардом несколько городов Нормандии, чтобы народ мог выразить свое почтение будущему правителю, прежде чем тот покинет страну. Это можно расценивать как жест доброй воли.
– Если у нас самих есть эта добрая воля, – сказал Осмонд. – У меня ее, во всяком случае, нет.
Бото вздохнул:
– Никто не мешает нам рассуждать о том, как сложатся события. Но что бы мы ни сделали, это вполне может оказаться как ошибкой, так и верным решением.
Спрота вглядывалась в лица мужчин, которые слушали этот разговор молча. Свое мнение было у каждого: вспыльчивые стремились что-то делать – не важно, что именно, а рассудительные хотели оттянуть принятие решения, насколько это было возможно. Но все они чувствовали облегчение от того, что тяжелая ноша лежит на плечах Бернарда, и даже Спрота радовалась, что не она должна решать судьбу сына. Она бы не знала, что делать. Сейчас ей было известно лишь одно: счастье – это нечто большее, чем порхание бабочки над летним лугом. Счастье – это понимать, что Ричард рядом, целый и невредимый, и этого счастья ее лишили надолго, если не навсегда.
Женщина подавила в себе желание закричать, броситься к ногам Бернарда, умоляя его оставить сына с ней, и вместо этого спокойно произнесла:
– Если Ричард действительно должен уехать в Лан, вам следует выдвинуть условие: кто-нибудь из вас будет его сопровождать. Наверное, лучше всего это сделает Осмонд. Он сможет держать меня… нас в известности по поводу происходящего.
Бернард задумчиво посмотрел на нее. В любой другой ситуации он никогда бы не последовал совету Спроты, но сейчас кивнул:
– Четыре года… Через четыре года Ричарду исполнится четырнадцать. Тогда он сможет вступить в наследство, и мы заберем его из Лана любой ценой.
Воцарилась тишина. Четыре года – большой срок для страны без правителя, но с алчными соседями, однако Ричард был единственным наследником.
Четыре года – большой срок и для матери, просто матери, не вдовы и уже не конкубины, однако выбора у нее не было.
Молчание длилось недолго, вскоре мужчины заговорили снова, повторяя одни и те же доводы. Только Спрота больше не проронила ни слова и опустила глаза, скрывая от всех свою боль.
Когда час спустя все разошлись, женщина, до сих пор стоявшая с прямой спиной, бессильно опустилась на стул. Если бы она осталась одна, то заплакала бы так безудержно, как никогда в жизни, но еще не все удалились. Кто-то подошел к Спроте и ждал, когда к ней вернутся силы и она сможет поднять голову.
Этот мужчина не изводил ее вопросами, и говорить с ним было легко.
– Именно ты остался со мной, – невольно произнесла Спрота. – Между мной и его монахами всегда стояла невидимая стена. Мы обвиняли друг друга в том, что Вильгельм не принадлежит нам полностью. А теперь… теперь он уже никому не принадлежит. Теперь даже его сына отдают врагу.
Она тяжело вздохнула.
– Что с тобой будет дальше?
– С каких пор я могу это решать? – ответила Спрота. – Но ты – ты можешь принимать решения. Ты вернешься в Жюмьежский монастырь, не так ли?
Арвид отвел глаза.
– Я должен поговорить… с ней, – вырвалось у него. – Мне давно следовало это сделать. Все эти годы я думал, что смогу ее забыть и что так будет лучше, но с тех пор как увидел ее снова…
Он замолчал.
Значит, вот почему он остался с ней в зале! И как только она могла подумать, что Арвид сделал это ради нее? Нет, его волновало будущее другой женщины, такой же бездомной, как и она, затравленной и, несомненно, исполненной страха перед завтрашним днем. Спрота не знала, что связывало Матильду и Арвида, но замечала взгляды, которые молодые люди в последнее время украдкой бросали друг на друга, а также их попытки изобразить безразличие.
– Но для чего ты хочешь поговорить с ней? Чтобы попрощаться? Не усложняй жизнь ни себе, ни ей.
В голосе Спроты послышалась злость. Женщина сдержала ее в разговоре с Бернардом, потому что Ричарда защитить не могла, в отличие от Матильды.
– Я должен ее увидеть! – снова взмолился Арвид. – Прошу тебя! Я ведь даже не знаю, хочу ли вернуться в монастырь.
Спрота прищурила глаза. Отчаяние на лице этого молодого мужчины растрогало ее и в то же время привело в ярость, но злилась она не на него, а на Вильгельма.
– Этими словами ты себя выдал, – резко ответила она. – Ты говоришь, что не знаешь, а значит, ты колеблешься. Ты не уверен. И надеешься, что решение за тебя примет Матильда. Но послушай меня: не обременяй ее этим. Я точно знаю, что чувствует женщина, когда живет с мужчиной, который находится в плену противоречий, разрывается между Богом и государством, умерщвляет свою плоть и все же иногда поддается искушению.
«С мужчиной, который, став отцом моего ребенка, признал его, – мысленно добавила она, – но не женился на мне и не придал моим словам достаточно влияния, чтобы я могла кричать на Бернарда, а не соглашаться с ним».
– Уезжай! – велела Спрота. – Уезжай как можно скорее и не заставляй Матильду повторять мою судьбу. Рядом с Вильгельмом я перестала искать счастье, потому что думала, что по крайней мере он защитит меня от несчастья. Ты видишь, чем все закончилось.
Арвид бросил на нее растерянный взгляд:
– Значит, я должен ее избегать? Но что с ней будет?
– Не беспокойся об этом. Герлок… Адель сделала ей щедрый подарок – приданое, с которым Матильда сможет уйти в монастырь.
Арвид принялся мерить шагами комнату:
– И она все еще хочет этого? После всех этих лет? Ты ведь общаешься с ней, ты должна это знать. Ответь мне! Она будет там счастлива?
– Она обретет покой.
«Который продлится дольше, чем тот, что был отведен мне с Вильгельмом», – мысленно добавила Спрота.
На мгновение ее охватил стыд за то, что она сравнивала судьбу Матильды со своей собственной, а поступки Арвида – с поведением Вильгельма и упрекала монаха в том, в чем никогда открыто не обвиняла графа: в растерянности, нерешительности, сомнениях в выборе жизненного пути. В то же время Спрота обрадовалась, почувствовав все это и в душе Арвида, с которым могла обращаться гораздо увереннее, жестче и требовательнее.
Он все еще метался по комнате, и она подстраивалась под ритм его шагов.
– Что ты можешь привнести в жизнь Матильды, кроме беспокойства, неуверенности и боли? – спросила она.
Арвид остановился:
– Несколько лет назад Вильгельм позволил мне вернуться в Жюмьежский монастырь. Желая наказать себя, я отказался, а теперь думаю, что самое большое наказание – это жить там, но быть недостойным этого.
Спрота не поинтересовалась, почему он считал себя недостойным.
– Ты же был… другом Вильгельма, правда? Так живи той жизнью, о которой он мечтал: это лучший способ почтить его память. И пройди до конца тот путь, который для него был закрыт.
– Пока Вильгельм был жив, я не назвал бы его другом, но теперь… – Арвид пожал плечами. – Ты так и не сказала мне, что собираешься делать.
Праведный гнев Спроты прошел. Размышления о собственной судьбе утомили ее еще больше, чем мысли о Матильде.
– Пока Вильгельм был жив, меня еще терпели, – тихо произнесла она. – Без Ричарда для меня не найдется места ни в Фекане, ни в Байе, ни здесь, в Руане. Вильгельм так много думал о своей старости и о том, где ее проведет, но о моей старости он не думал никогда.
Через некоторое время она добавила:
– В отличие от Матильды, меня не примут ни в один монастырь. Боюсь, мне придется искать себе подходящего мужа.
Наверное, мужчин, которые сочли бы за честь жениться на конкубине Вильгельма, было достаточно, по крайней мере среди тех, кто не обладал ни высоким положением, ни большим состоянием.
– А если я могу стать уважаемой женщиной, – продолжила Спрота, – то почему из тебя не получится хороший монах, а из Матильды – хорошая монахиня? Разве ты можешь дать ей что-то лучшее, чем жизнь в уединении и без боли?
«А что, – подумала она, – мог предложить мне Вильгельм, кроме ночей, вызывающих у него стыд, сына, которого теперь у меня отнимают, и безбедной жизни, всегда являвшейся только милостью с его стороны, а не моим законным правом?»
– Наверное, для Матильды и в самом деле будет лучше, если я и дальше стану избегать ее, – пробормотал Арвид.
Спрота отчетливо ощутила его боль, а также почувствовала угрызения совести из-за того, что отговорила молодого человека бороться за свое счастье. Теперь женщина уже не была уверена в том, что действительно старалась уберечь Матильду. Может, она просто поддалась желанию отомстить, пусть даже не тому, кому следовало.
Но когда Арвид обернулся и вышел из зала, Спрота не окликнула его. Если бы он и вправду хотел бороться, ей не удалось бы так легко посеять в нем сомнение. Если бы послушник действительно верил, что счастье может длиться дольше, чем теплый яркий летний день, он не улетел бы после первого порыва ветра и не сложил бы крылья даже во время грозы.
Вплоть до отъезда в монастырь Матильда часто и убедительно говорила о радости, переполняющей ее душу, и о бесконечной благодарности Богу за его милосердие и за возможность наконец вести ту жизнь, к которой она всегда стремилась. Однако при прощании, несмотря на спокойствие Спроты, а может быть, именно из-за него, девушка почувствовала глубокую печаль.
Хотя женщина и обняла Матильду, но было не похоже на то, что она расстается с давней подругой, что ее возлюбленный умер, а только вчера ей пришлось отпустить еще и маленького Ричарда.
Если бы Спрота проронила хоть одну слезинку, Матильде было бы легче сбежать туда, где толстые стены оградили бы ее от мирских страданий, потому что ни страдания, ни мир не имели для нее значения. Но теперь слезы катились по щекам Матильды. Теперь монастырь вдруг снова показался ей не убежищем, а тюрьмой.
– Как тебе это удается?! – воскликнула она. – Как тебе удается всегда оставаться такой невозмутимой?
После этих слов лицо Спроты тоже омрачилось, и на нем отразилась боль.
– Отпуская Ричарда, я думала, что умру, – произнесла она хриплым голосом.
Пораженная до глубины души, Матильда перестала плакать. Спрота отвернулась. Обнажая свою душу, она не могла смотреть в глаза собеседнику.
– Я знаю, – сказала Спрота, – все считают, что я никогда не теряю самообладания. Я и сама часто повторяла тебе, что жить становится легче, если смириться с «еще» и безропотно принять «больше не», которые часто неразлучно следуют друг за другом. Но знай: привязанность к Вильгельму в итоге не причинила мне сильной боли – Ричард же навсегда останется в моем сердце, и сейчас оно разрывается от того, что я отпускаю сына. Кто любит, тот страдает.
Ее голос звучал все тише, а потом она и вовсе замолчала. Через несколько мгновений Спрота повернулась к Матильде лицом. Женщина стояла прямо, но уголки ее рта подергивались – от боли, которую она испытывала, и, как показалось Матильде, от нежелания смириться.
– Ты все делаешь правильно! – вдруг крикнула женщина. – Уйти в монастырь – это верное решение. Для тебя. И для Арвида.
– Ты знаешь… о наших с ним отношениях?
– О многом я могу только догадываться. Но не бойся: что бы вас ни связывало, я сохраню эту тайну.
Они никогда не говорили об Арвиде, и сейчас Спрота тоже не задавала вопросов. Именно поэтому Матильда с неожиданной легкостью рассказала ей обо всем: как они с Арвидом бежали через лес, как он спас ее от преследователей, как она проснулась и поцеловала его, как он оставил ее в Фекане… Ее слова лились бурным потоком. Матильда не стала скрывать, что Арвид спас ей жизнь – сначала в Байе, а потом в Лион-ла-Форе – и что в день свадьбы Герлок они занимались любовью на пыльном полу в каком-то сарае.
– Тогда я не решилась еще раз посмотреть ему в глаза, – призналась девушка. – А теперь он на меня не смотрит. И я считаю, что это правильно. Но тем не менее мне очень больно.
Нахмурившись, Спрота долго не сводила глаз с Матильды и несколько раз пыталась ей что-то сказать, но какие бы слова она ни подобрала, они так и не сорвались с ее губ.
– Мне нужно поговорить с Арвидом, хотя бы сейчас, хотя бы попрощаться, – пробормотала Матильда.
– А ты не думаешь, что от этого тебе станет только больнее? – предостерегла ее Спрота. – Ты хочешь этого? Ты хочешь снова испытать боль? О, как много я бы отдала, чтобы от нее избавиться!
– Прости, – прошептала Матильда, – я говорю о себе, когда ты и маленький Ричард…
– Я выйду замуж за Эсперленка, – резко перебила ее Спрота.
От удивления Матильда широко открыла глаза.
– Да, я сделаю это, – заявила женщина. – Эсперленк богат, у него много мельниц на Андели и большой каменный дом в Питре. Я знаю его, он хороший человек. Тот вкусный хлеб, который мы едим, испечен из его муки. Эсперленк сделал мне предложение, и я уверена, что с ним буду жить хорошо. Лучше, чем с Вильгельмом.
Казалось, Спрота верила в то, что говорила, но ее вера была слишком слабой, чтобы подарить надежду на любовь.
– Знаешь, Матильда, – добавила женщина, – я всегда думала, что тот, кто не подставляет лицо холодному ветру, не замерзнет; что нельзя утонуть, оставаясь на берегу и не выходя в открытое море; что если привыкнуть к вкусу хлеба из пепла, то не придется ложиться спать с чувством голода. Но…
– …но не всего можно избежать, притворившись мертвым, – продолжила Матильда.
Спрота кивнула:
– Теперь речь не обо мне… а о Ричарде. Его увозят навстречу холодным ветрам, он не может остаться со мной на безопасном берегу, и я не знаю, предложит ли ему жизнь что-то вкуснее, чем хлеб из пепла. И мне плохо, потому что я ничего не могу изменить.
Она покачала головой, уголки ее рта снова задрожали. Матильда ждала, что Спрота наконец заплачет, но ее глаза не увлажнились. Вместо этого она рассмеялась так же звонко, как когда-то смеялась Герлок:
– В Лане, пожалуй, подают самый вкусный хлеб во всем королевстве, а я беспокоюсь!
Матильда ничего не ответила, но догадалась, о чем подумала Спрота, когда ее смех затих: кому нужен этот вкусный хлеб, если Ричард, даже если он будет не голоден, рискует навсегда остаться пленником и потерять земли своего отца.
– Значит, ты считаешь, что мне нужно и дальше избегать Арвида, – пробормотала Матильда.
– У него есть возможность прожить свой век так, как Вильгельм мог только мечтать.
– Арвид вернется в Жюмьежский монастырь, не так ли?
– Он обретет покой. И ты тоже.
Матильда не была в этом уверена. Когда Спрота обняла ее за плечи, девушке хотелось вырваться, броситься на улицу и громко позвать Арвида. Потом она посмотрела в лицо Спроты, изменившееся от боли. Эта женщина всегда была привлекательной, но никогда не выглядела такой красивой, такой нежной и ранимой, как сейчас.
Матильда застыла в ее объятиях, догадываясь, от чего Спрота хочет защитить ее, и не смогла найти более подходящих слов, чем те, которыми попрощалась с Герлок:
– В монастыре я буду молиться за тебя.
Йохан сразу же согласился сопровождать Матильду.
Все эти годы он ждал, что однажды она еще раз попросит его о помощи. Все эти годы он все отчетливее представлял себе жизнь с Матильдой – более богатую, сытую и счастливую, чем у его родителей. Рядом с ним будет близкий человек, который проведет с ним все оставшиеся дни на этой чужой земле, и эта земля в конце концов станет ему родной.
Йохан так и не понял, что этому препятствовало и почему после поспешного возвращения в Байе Матильда избегала встреч с ним. Он смирился с тем, что разгадать причины поступков такой женщины, как она, было сложно, и решил не отказываться от своих целей из-за этой неизвестности. Его терпение и ожидание оказались не напрасными: Спрота выходила замуж за Эсперленка, а Герлок, по слухам, дала Матильде хорошее приданое. И то, что девушка просила его о помощи, могло означать только одно: она выбрала его себе в мужья, но еще не знала, как сказать ему о своих чувствах.
Тогда, на свадьбе в Руане, Матильда еще не была готова, однако теперь все изменилось. Тогда между ними стоял этот монах, однако теперь девушка поняла, что в этом мире выигрывает тот, кто отличает черное от белого, а воина – от монаха. Первый мог дать женщине будущее, а второй – нет.
– Конечно, я поеду с тобой! – с воодушевлением воскликнул Йохан.
Он с радостью уехал бы с ней в тот же день, не важно куда. Матильда ничего не сказала о месте назначения, лишь сообщила, что отправляться в путь нужно завтра на рассвете. Всю ночь Йохан представлял себе, как будет обнимать девушку, сидящую перед ним на лошади.
Однако на следующий день во дворе замка стояла повозка, в которой Матильда собиралась путешествовать, а в повозке сидели – и это было еще хуже – два монаха.
Йохан в недоумении посмотрел на девушку:
– Что они здесь делают?
– Они поедут со мной в монастырь. Раз в год священники посещают его, чтобы исповедать монахинь.
Йохан ничего не понимал.
– В какой монастырь? – спросил он.
– В монастырь Святой Радегунды, где я буду жить. Герлок подарила мне земельный участок недалеко от Эвре. Доходы от него я буду отдавать монастырю в качестве приданого.
Матильда села в повозку, оставив Йохана наедине с осознанием того, что совместная поездка не укрепит связь между ними, а разорвет ее окончательно. Своей просьбой девушка не пыталась намекнуть ему о своих чувствах. Ей была нужна защита, а не муж.
Когда повозка тронулась, воина охватил гнев. Гнев на своего отца, заманившего его сюда обещаниями лучшей жизни. Гнев на Вильгельма, который оказался слишком слабым, связался с монахами и, скорее всего, именно из-за этого стал жертвой коварного убийцы. Гнев на советников графа, доверивших маленького Ричарда королю франков. И, в конце концов, гнев на Матильду, которая настолько усложняла такую, по сути, простую жизнь. Почему она переворачивала мир с ног на голову, вместо того чтобы стремиться к самому главному предназначению в этом мире – рожать и воспитывать детей?
Повозка отдалялась, и Йохан смотрел ей вслед, не пришпоривая лошадь, а потом огляделся по сторонам в надежде обнаружить кого-нибудь, кто смог бы отговорить Матильду.
Единственным человеком, которого увидел Йохан, был Арвид. Послушник как раз вышел из часовни и, спрятавшись в тени портала, провожал повозку взглядом, полным страсти и в то же время решимости не поддаваться ей. Он отпускал Матильду.
«Как ему это удается? – подумал Йохан. – Почему он не бежит за ней? Почему не бросается под ноги волам? Почему не вытягивает девушку из повозки, не толкает ее на землю, не берет силой, не заставляет забыть о монастыре?»
Арвид не мог сделать этого, потому что был монахом. А он, Йохан, хоть и был воином, поступить так тоже не мог.
Он думал об этом целый час, то и дело рисуя эту картину в своем воображении, а затем все же пришпорил лошадь и последовал за повозкой. На самом деле все было очень просто. У него на родине мужчины иногда похищали чужих женщин, если свои умирали от голода. Свидетелями его действий станут только два монаха, которые бессильны перед ним. На улицах и на узких дорогах среди заснеженных лугов людей не было, и никто не мог защитить девушку.
Но Матильда ни о чем не подозревала, и Йохан просто не мог с ней так поступить.
Когда ближе к обеду они сделали привал, чтобы поесть вяленого мяса с хлебом и выпить из бурдюков вина, которое оказалось не только кислым, но и горьким, девушка присела рядом с Йоханом.
– Благодарю тебя, – пробормотала она. – Ты всегда рядом, когда мне нужна твоя помощь.
Матильда говорила искренне, а Йохан закипал от гнева, и на этот раз он злился не на чужую землю и не на привычки населявшего ее народа, а на свою мягкотелость и на то, что, скованный какой-то необъяснимой робостью, не взял, что хотел. Он даже не смог сказать Матильде слова, которые крутились у него в голове: «Не уходи в монастырь, прошу тебя, останься со мной! Мы будем жить вместе, будем счастливы, у нас появятся дети. Я буду заботиться о тебе гораздо лучше, чем мой отец о матери. Я приехал в незнакомую страну для того, чтобы как следует заботиться о жене, а не для того, чтобы отдать ее чужому Богу».
– Ты действительно хочешь уйти в монастырь? – спросил Йохан вместо этого.
– Это всегда было моим предназначением, – коротко ответила Матильда.
Она поднялась и сложила оставшуюся еду в кожаный мешочек, прикрепленный к ремню.
Как бы Йохан хотел расстегнуть этот ремень, с каким удовольствием он сорвал бы с Матильды платье! Но она не опасалась и не ожидала этого, а значит, он не мог так поступить.
Все, что он мог, это дернуть за уздечку, когда повозка снова тронулась. Вместо того чтобы сопровождать Матильду, Йохан повернул обратно. Пусть по пути в монастырь ее защищает ее бледный слабый Бог.
Йохан умчался так быстро, что не услышал, как удивленные монахи и Матильда кричали ему вслед. Взбираясь на холм, он пустил лошадь вскачь, а когда оглянулся, повозка уже скрылась из виду.
Чем больше Йохан приближался к Руану, тем сильнее его мучила совесть. Он чувствовал на себе чьи-то взгляды, в лесу ему чудились треск веток и мелькание теней. Может, это были духи, а может, разбойники. На него они нападать не решились бы, ведь он был вооружен, а вот богомольцы станут легкой добычей…
Лишь в Руане Йохану удалось успокоить свою совесть. После отъезда прошло уже несколько часов, но Арвид по-прежнему стоял возле часовни. В его глазах была страсть, и, наверное, он все еще был полон решимости устоять перед очарованием Матильды.
Хотя Йохан не знал, что происходит в голове у женщин, и никогда не хотел этого знать, он был уверен: Матильда ушла в монастырь не для того, чтобы исполнить свое предназначение, а из-за Арвида.
«Ты за это заплатишь, – поклялся он так же, как и на свадьбе Герлок, – однажды ты за это заплатишь». Он никогда не сможет простить ни Матильде, ни Арвиду того, что эта земля так и осталась для него чужой.
Монахи молились, а Матильда молчала. Только сейчас она подумала о том, что какое-то время после побега из монастыря Святого Амвросия регулярно читала молитвы. В какой-то момент девушка перестала это делать, но не преднамеренно, а скорее из-за забывчивости. Псалмы она все же помнила: голоса монахов оживили эти слова в ее памяти. И тем не менее Матильде казалось, что бормотание, прославляющее величие Бога, бессильно в этом беззвучном враждебном мире. Снег на дорогах был не таким глубоким, как опасались путники, в болоте их повозка не завязла, но Матильда все более отчетливо ощущала, что они мчатся навстречу гибели.
Почему Йохан бросил ее в беде?
В глубине души Матильда знала ответ – он был написан у него на лице, – но не желала разбираться в чувствах воина, не желала знать ничего о его боли, обиде и внутренней борьбе. И ей не хотелось думать о том, действительно за ней кто-то следит или же это ей только кажется.
Да, на нее смотрели глаза, невидимые глаза.
Раньше девушка старалась не думать об убийце и о причинах, по которым он покушался на ее жизнь, но теперь, находясь с монахами в безлюдном месте, она ощущала свою беззащитность так остро, как никогда прежде.
Монахам, видимо, тоже было не по себе. Их бормотание, поначалу воодушевленное, становилось все тише. Втянув голову в плечи и пригнувшись, они испуганно вглядывались в лесную чащу. Никто не выказывал страха, но в конце концов один из мужчин прервал молитву и предложил сделать небольшой привал. Матильда неохотно остановила волов, запряженных в повозку. Сухие деревья чуть в стороне от дороги, под которыми расположились монахи, могли защитить от ветра, но не от этих… невидимых глаз. Матильда ощущала их взгляд еще отчетливее, чем раньше.
Монахи достали еду и, протягивая девушке немного хлеба и сыра, вдруг застыли на месте.
– Господи Иисусе! – вырвалось у одного из мужчин.
Его резкий крик и внезапный шелест кустов оглушили Матильду. Она оглянулась, ветки раздвинулись, и из тени выскочило что-то темное.
Это была птица, которая громко закричала.
– Господи Иисусе! – снова произнес монах, на этот раз с облегчением.
Он больше не обращал внимания на птицу, кусты и шелест и впился зубами в желтый сыр. С привкусом пряного сыра на губах он и умер. Обращение к Иисусу Христу было последним, что он произнес, ведь как только монах откусил сыр, шелест повторился, и на этот раз из кустов появилась не кричащая птица, а молчаливые мужчины, присыпанные снегом и прогнившей листвой.
Их было немного – четверо или пятеро. Их было достаточно, чтобы мгновенно убить двоих человек. Кусок сыра так и остался во рту у одного из монахов, когда голова слетела у него с плеч, а тело, прежде чем тоже рухнуть на землю, ненадолго застыло. Второго монаха не обезглавили, а разрубили надвое. У него был открыт только один глаз, рассеченное лицо заливала кровь.
Все произошло слишком быстро, чтобы можно было испытать страх. Матильда не ощутила ничего, кроме пряного аромата сыра, который на секунду даже заглушил металлический запах крови, повисший в воздухе.
«А как умру я?» – вдруг совершенно спокойно подумала она, прежде чем получить глухой удар, после которого ее окутал мрак.
Когда Матильда очнулась, мужчины были уже не белыми. Снег на их шубах растаял, и на миг ей показалось, что она провела в забытьи не несколько мгновений, а долгие месяцы, что уже наступила весна и вся земля была в цвету. Но потом девушка почувствовала боль в затылке, от которой раскалывалась голова. Ноющая рана была свежей и еще не начала заживать.
Ее ударили всего лишь навершием меча, а не клинком, и ни один из воинов, стоящих вокруг, не замахивался на нее во второй раз. Оглядевшись, Матильда поняла, что лежит недалеко от убитых монахов.
Наверное, было бы лучше притвориться мертвой и терпеливо ждать, когда представится возможность для побега, но ждать Матильда не могла. Внутри нее все кричало. Она вскочила на ноги и бросилась бежать. Девушка сделала лишь один шаг, и ее голова вновь стала раскалываться от боли. Вспыхнул яркий, ослепительный свет, а потом потемнело в глазах. Ничего не видя, Матильда все же пыталась переставлять ноги. Это удалось ей один раз, второй… Но потом она натолкнулась на дерево, которое вдруг протянуло к ней руки. Матильда пронзительно закричала, но дерево закрыло ей рот ладонью, заглушая звук.
Черная пелена перед глазами девушки разорвалась, словно ветхая ткань. Дерево оказалось мужчиной. Его кожа была такой же шершавой и потрескавшейся, как кора, а руки – необычайно сильными.
Внезапно Матильда вспомнила: в тот день, когда ее мир рухнул, она тоже пыталась убежать. И тогда кто-то держал ее такой же железной хваткой.
Девушке хотелось остаться на цветочном лугу, даже если цветы там больше не росли. Хотелось слышать шум моря, даже если от него веяло холодом. Она отбивалась тогда, и делала это сейчас, она снова кусалась и пиналась, тяжело дыша. И сейчас, и тогда все это было бессмысленно.
– Послушай, Матильда, – произнес незнакомый голос из ее внезапно оживших воспоминаний, – мне не хочется этого делать, но я должна. Я должна спрятать тебя от… нее. Она… она злая женщина. У нее есть сын, и ради него она пойдет на все. Я не могу допустить, чтобы она забрала тебя или убила. Она и так отняла у меня слишком много. Она всегда считала, что заслуживает большего, чем я.
Голос из воспоминаний прервался, с Матильдой больше никто не говорил. На секунду незнакомец убрал мозолистую руку с ее губ, но потом в рот девушке засунули кляп, заглушающий крики. У нее подкосились ноги.
– Я не хочу уезжать! Я хочу остаться дома! Не бросай меня!
В тот день ее мольбы остались неуслышанными, и, взглянув на мужчину, Матильда поняла, что сегодня они тоже ничего бы не изменили. Никогда раньше она не видела этих глаз, но знала, что они принадлежат тому, кто несколько раз покушался на ее жизнь.
Этот мужчина возглавлял отряд воинов, которые, пытаясь ее найти, совершили набег на монастырь Святого Амвросия. В лесу он склонился над ней с ножом. На рынке в Байе он сбросил на нее точильный камень, а в Лион-ла-Форе хотел ее отравить. Возможно, этот незнакомец еще много раз пытался убить ее, но обстоятельства были против него. Теперь же он доведет начатое до конца.
Не выдержав взгляда мужчины, девушка опустила глаза и стала рассматривать меч, висевший у него на поясе, большой и тяжелый. Будь он даже маленьким и легким, она бы не выжила, если бы он на нее обрушился.
Но пока воин не прикасался к оружию. Подняв руку, он не потянулся к навершию, а провел пальцами по ее лицу, шее, груди. Может, он хочет задушить ее?
Матильда попыталась отстраниться, но от резкого движения кляп лишь глубже проник в ее рот. Она чуть не подавилась.
– Если ты не будешь кричать, я его вытащу, – пообещал мужчина.
Его голос был таким же грубым, как и кожа.
Когда девушка кивнула, у нее на глазах выступили слезы. Она пообещала бы этому незнакомцу все, что угодно, только бы перед смертью еще раз глубоко вдохнуть, только бы еще раз увидеть небо, а не его лицо. Мужчина извлек кляп из ее рта. Матильда закашлялась, сделала вдох и посмотрела вверх. Серое небо скрывалось за кронами деревьев. Матильда снова опустила глаза. Мужчина еще раз погладил ее по лицу, и, к удивлению девушки, на ее нежной коже не появилось царапин. Несмотря на мозоли на его ладонях, эти прикосновения были не грубыми, а осторожными и… нежными.
– Меня зовут Аскульф.
Он назвал свое имя. Значит ли это, что он не собирается ее убивать? Или же он хочет успокоить ее, как успокаивают кричащее животное, чтобы его легче было вести на бойню?
Матильда не кричала, она ровно дышала и думала: «Пока он меня не убил, у меня есть возможность убежать».
Уже много лет Аскульф представлял себе, как дотронется до тела Матильды. Уже много лет он не прикасался к коже, которая была бы нежной и гладкой, а не шершавой и мозолистой. Конечно, у него были женщины, и всех их, уже немолодых и молчаливых, толкало в его объятия не столько вожделение, сколько одиночество. Когда их отряд был вынужден ждать на побережье или находился в бегах, они по вечерам приходили к нему, сидящему у костра, поднимали юбки и садились на него сверху, разведя ноги. Женщины не утруждали себя тем, чтобы нежно погладить его по лицу, а он не удосуживался поднять руку выше их груди. В большинстве случаев это была обвисшая грудь, вскормившая многих, уже мертвых, детей. Может быть, некоторых из них зачал именно он…
Невольно Аскульф подумал о том, каким будет ребенок Матильды. Светловолосым, как и ее отец? Полным сил?
Какая глупая мысль! Значит, вот что имели в виду воины, советовавшие ему опасаться женщин, которые могли соблазнить даже самого сурового мужчину, и Аскульф, вместо того чтобы наброситься на них, начинал рисовать в своем воображении более красивый и добрый мир. В этом мире кожа на лицах людей была не грубой, а бархатной, их тела – не сильными и крепкими, а мягкими, как воск. Никто не покрывался ледяной корочкой от затянувшихся холодов, наоборот, для каждого человека светило солнце, и оно действительно согревало.
Как глупо было надеяться на это! Лед не растает. Даже обнимая Матильду, Аскульф оставался прежним.
Девушка обмякла в его руках. Наверное, она снова потеряла сознание.
Воины вопросительно смотрели на него.
– Чего ты ждешь?
Все они знали о распоряжении Авуазы, и, да, он выполнит его, но по-своему. Аскульф не хотел торопиться.
– Сегодня ночью мы останемся здесь, – заявил он.
Один из мужчин сразу же принялся разводить огонь, а другой указал на убитых монахов.
– Рядом с ними? – спросил он.
Аскульф совсем забыл о них. В его глазах мертвецы ничем не отличались от поваленных деревьев. Через них было неудобно переступать, но ни страха, ни отвращения они у него не вызывали.
– Да, мы останемся здесь, – повторил он и положил Матильду на землю подальше от тел монахов. Туда, где не было крови. Она не должна снова потерять сознание, когда очнется.
Когда разгорелся костер, Аскульф перенес девушку к согревающему пламени, но не слишком близко, чтобы она не задохнулась от дыма. Ее глаза были закрыты, а кожа выглядела такой же белой, как снег.
– Авуаза будет счастлива…
Аскульф обернулся и метнул злобный взгляд в мужчину, который посмел это сказать. Уже много лет они с Авуазой преследовали общие цели, но Аскульф не хотел, чтобы его считали слабаком, который подчиняется приказам женщины и лишен собственной воли.
– Речь идет не только о будущем Авуазы, но и о моем собственном! – взревел он.
Мужчина, ухмыляясь, смотрел ему прямо в глаза. Аскульф вскочил на ноги, сжал пальцы в кулак и набросился на него. Ухмылка слетела с лица воина еще до того, как он получил первый удар, и теперь улыбался Аскульф.
Удовольствие, которое он получал, запугивая окружающих своей силой, длилось недолго: на ноги вскочил не только он, но и Матильда. Она лишь притворилась, будто погрузилась в глубокий обморок, а сама ждала подходящего момента.
– Проклятье! – разозлился Аскульф.
Он хотел схватить ее, но не успел. Убегая, Матильда споткнулась о тела монахов, но не упала и не застыла в ужасе. Она была юной и нежной девушкой, но мертвых людей видела не впервые.
Матильда помчалась дальше, Аскульф устремился за ней. Несомненно, он был сильнее, но она быстрее бегала, и скоро ее тоненькая фигура растаяла в темном лесу. Воин еще слышал ее шаги и тяжелое дыхание, но догнать не мог.
– Проклятье! – снова крикнул он.
С некоторым опозданием другие воины тоже бросились в погоню, но и они заблудились в лабиринте деревьев.
Аскульф ударился лбом о ветку, и у него потемнело в глазах.
Когда зрение к нему вернулось, он увидел, что Матильда добралась до ручья, зашла по колено в воду, снова споткнулась и на этот раз упала. Ее унесло течением.
Аскульф тоже добежал до ручья, но сразу же увяз в иле, потому что был намного тяжелее Матильды. Девушка исчезла под водой и выплыла на некотором расстоянии от воина. Волосы закрывали ей лицо: несомненно, она ничего не видела.
Аскульф в ярости выбрался из ила, но поскользнулся – и теперь холодная вода сомкнулась у него над головой. Когда мужчина, фыркая, вынырнул, Матильду он не увидел. Либо она добралась до другого берега реки, либо утонула. В такой холодной воде ни один человек не выдержал бы долго.
Да, холод не пощадил бы даже такую девушку, как Матильда, – нежную, юную и красивую. Было бессмысленно надеяться на то, что два человека могли согреть друг друга, – они могли только замерзнуть вдвоем. Разочарование Аскульфа от того, что его лишили даже этой радости, было таким же сильным, как и стыд за то, что он снова позволил Матильде уйти.
За эти несколько лет Матильда не забыла, что значит убегать от погони, прикладывать максимум усилий, чтобы спастись от врагов, не обращая внимания на боль в груди, разбитые в кровь ступни и растущую усталость. Она думала, что утонет в реке, и когда была уже готова смириться с этим, почувствовала под ногами дно и сумела выбраться на берег. Потом ей показалось, что она превратится в лед от холодного ветра, но кровь пламенем обжигала ее вены. Когда девушка оглянулась, Аскульфа и его людей видно не было, и она, несмотря на панику, возликовала.
Она была жива. Она уже не в первый раз перехитрила мужчину, который хотел ее убить. На мгновение Матильда возомнила себя владычицей мира, на мгновение она поверила в то, что может взяться за любое дело и все у нее получится.
И лишь потом девушка поняла, что быть владычицей мира бесполезно. Людей в этом мире не оказалось, а деревья не стали склонять перед ней голову. Жизнь здесь означала одиночество и вечные поиски пути обратно.
Однако Матильда пошла дальше. Она не знала, куда идет, у нее не было еды, мокрая одежда облепила ее тело. Девушке придавала силы лишь мысль о том, что однажды она уже смогла выбраться из леса и вернуться к людям. Она цеплялась за надежду и за воспоминания.
Проходил час за часом, наступила ночь, потом день, потом снова ночь. Матильда уже не чувствовала ног, не ощущала холода и знала лишь одно: она не одинока, Арвид где-то рядом. Да, она его не видела и не слышала, но могла представить, что он просто ненадолго отошел, чтобы поохотиться или найти сухие ветки. Скоро он вернется, разведет огонь и будет жарить мясо.
В какой-то момент Матильда ослабела настолько, что ей даже почудился запах дыма. Она все еще не видела и не слышала Арвида, но чувствовала, как его теплые руки согревают ее измученное тело. Девушка прижалась к нему и уснула в его объятиях, а когда снова проснулась, у нее перед глазами появились видения, и она не знала, были это обрывки сна или отголоски прошлого. Одни наполняли ее радостью, другие внушали ужас.
На рассвете Матильда поднялась и продолжила свой путь. Теперь она слышала шаги Арвида, идущего рядом, его дыхание и стук его сердца. В глубине души девушка понимала, что все это ей только кажется, но без этого самообмана она бы умерла.
Однажды до нее донесся не только шелест ветра, но и шум прибоя. Свет стал ярче, а за деревьями показалось не только широкое небо, но и море.
Человек, живущий на побережье, чувствовал себя одиноким и подвергался опасности. Море приносило воинов с севера и не могло предложить ничего, кроме бескрайних просторов. Но именно поэтому здесь уединялись набожные люди, которые опасностям и одиночеству противопоставляли веру. Где-то неподалеку они и возвели монастырь Святой Радегунды.
Матильда была уверена, что должна идти на восток. Откуда появилась эта уверенность, девушка не знала. Возможно, это внушил ей Арвид, который все еще сопровождал ее, а может быть, она шла совсем не на восток, а ходила кругами, не замечая этого из-за усталости и бессилия. Во всяком случае, она могла идти и была жива, и в какой-то момент вдали показался дом из камня – признак того, что здесь есть не только люди, но и Бог.
Матильда споткнулась, упала и некоторое время лишь молча смотрела на здание. Потом она нащупала кожаный мешочек, который носила на груди, развязала его и с облегчением убедилась, что его содержимое – пергамент, подтверждающий, что ей принадлежит земля в окрестностях Эвре, – не пропало. Этот подарок Герлок был пропуском Матильды в дом из камня.
Девушка сложила руки для молитвы. За это чудесное спасение ей следовало бы возблагодарить Бога, ведь глубоко внутри она знала: это Он привел ее сюда, а не Арвид. Но Матильда не могла молиться всем сердцем. Всем сердцем она могла только сожалеть о том, что не поговорила с Арвидом в ту ночь в сарае, не посмотрела ему в глаза после смерти Вильгельма, так и не поблагодарила его за то, что он дважды спас ей жизнь, и не призналась ему в любви. А ведь она его любила, если любить – значит думать о человеке в последнее мгновение своей жизни. Когда над Матильдой склонился Аскульф, когда она чуть не утонула в ручье, когда блуждала по лесу, она думала об Арвиде.
Тем не менее она не умерла, а значит, те мгновения были не последними. Она будет жить дальше, жить в монастыре, но только если оставит любовь к Арвиду здесь, на побережье, и не возьмет ее с собой за ворота обители.
Желудок Матильды свело от голода, губы пересохли и потрескались от жажды. В небе над головой кружили чайки. Попрощавшись с Арвидом, девушка заплакала.
Мартин, аббат Жюмьежского монастыря, во многом отличался от Годуэна: он больше внимания уделял удобствам, строже относился к братьям и строил более честолюбивые планы. Однако слов Мартин не любил: он говорил мало сам и требовал того же от других.
Когда Арвид, вернувшись из Руана, заявил, что снова хочет жить в монашеской обители, но видит себя простым послушником и еще не достоин принять постриг, аббат не стал задавать вопросов. Возможно, он полагал, что человеку, так долго прожившему в миру, было сложно вернуться в монастырь. Во всяком случае, он не стал упрекать Арвида и посоветовал ему некоторое время подумать и прийти в себя.
От раздумий Арвид с удовольствием отказался бы. Предстоящая жизнь казалась ему однообразной и бесконечно долгой. Лишь сейчас он осознал, что, хотя никогда не испытывал особого интереса к управлению государственными делами, в глубине души все же наслаждался поездками с Вильгельмом, бесконечным потоком новостей, которые тот получал, и многочисленными совещаниями, которые проводил после этого. Однообразие тяготило Арвида, поэтому он обрадовался, когда аббат позвал его к себе. Мартина интересовало не душевное состояние послушника, а его мнение о новости, которую Арвид, по всей видимости, мог истолковать.
В душе Арвида проснулось чувство, которому он не мог подобрать названия. Это было что-то горячее и страстное, напоминающее юношеский задор. Раньше Арвид не испытывал ничего подобного. Уже в детском возрасте он чувствовал себя взрослым, а позже никогда не понимал других послушников, которые перешептывались, когда должны были молчать, смеялись, хотя это было запрещено, и небрежно относились к переписыванию текстов, вместо того чтобы полностью сосредоточиться на задании.
Когда аббат Мартин зачитал эту новость, Арвид вдруг воодушевился. Он никогда не делился соображениями с Вильгельмом, но теперь не только составил свое мнение по поводу услышанного, но и захотел его высказать.
– Думаю, отдать Ричарда королю Людовику было большой ошибкой, – вырвалось у него. – И это письмо служит тому подтверждением.
В нем влиятельные люди Нормандии с недовольством сообщали, что им едва удается поддерживать связь с Ричардом. Хотя Осмонд де Сентвиль получил разрешение отправиться в Лан вместе с мальчиком, они оба были вынуждены жить затворниками. Воин с трудом передавал вести Бернарду Датчанину, который занимался государственными делами Нормандии.
Арвид не скрывал возмущения, аббат же отнесся к этому известию более спокойно.
– Жаль, конечно, что Ричард растет вдали от родины, – задумчиво произнес он, – однако, если король Людовик предоставляет Бернарду свободу действий, значит, он хочет мира.
– Но будет ли так всегда?! – вспылил Арвид. – Пока правители франкского королевства были возмущены поступком Арнульфа, Людовик не мог напасть на Нормандию. Но я уверен, что он задумал именно это. Ричард у него не в гостях, а в плену.
– Почему ты так уверен, что его интересует Нормандия?
Арвид опустил глаза. Значит, Годуэн выдал его тайну. И даже если Мартин не говорил об этом – как и о многом другом – открыто, Арвид ясно понимал: не что иное, как его происхождение стало причиной, по которой аббат хотел обсудить новость из Руана с ним и только с ним.
– Никто не может знать этого лучше, чем я, – ответил послушник. – Вскоре после коронации Людовик покушался на мою жизнь, хотя я ему и не соперник.
– Но он не попытался сделать это снова.
– Потому что считал меня мертвым, ведь я не вернулся в Жюмьеж, а с тех пор прошло столько лет, что он уже забыл об этом. Но это не меняет того обстоятельства, что Людовик по-прежнему считает Нормандию провинцией своего королевства.
Аббат бросил на Арвида задумчивый взгляд:
– Но так ли это плохо для нас?
Арвид не сразу понял, что Мартин имеет в виду. Последние недели в Руане послушник провел среди людей, которым юный возраст Ричарда внушал серьезные опасения и которые переживали за графа и за будущее Нормандии.
Судя по словам аббата Мартина, будущее Нормандии, впрочем, как и будущее самого мальчика, его не особо волновало.
– Людовик происходит из династии Каролингов. Ричард – внук Роллона, – холодно сказал он. – При Каролингах Жюмьежский монастырь переживал расцвет, а норманны разрушили эти стены.
Арвид растерялся. Он слушал аббата Мартина и не понимал, почему ему самому эта мысль никогда не приходила в голову. Арвид вдруг понял, что годы, проведенные рядом с Вильгельмом, изменили его взгляд на мир. Он подружился с людьми, которых раньше считал врагами. Границы стерлись в тот день, когда Людовик, родственник Арвида, попытался его убить, а Вильгельм, чужой человек, предоставил ему защиту.
– Итак, – сказал Мартин, отложив сверток в сторону, – мы должны попытаться сохранить хорошие отношения со всеми. Я и дальше буду поддерживать связь с Бернардом Датчанином и пообещаю оказывать ему любую помощь, для того чтобы сохранялся мир между Нормандией и франкским королевством. В то же время я сообщу Людовику о том, что в случае необходимости мы рассчитываем на его содействие в восстановлении монастыря, такое же ревностное, как со стороны Вильгельма, спаси, Господи, его душу.
Арвид отвернулся, желая скрыть от аббата Мартина глубокое сомнение, которое вызвали в нем эти расчетливые слова. Послушник не понимал, что здесь делает, ведь он даже не был уверен в том, что поддерживает франков. Он также не был уверен в том, что вообще должен находиться в этом месте и служить Богу под руководством аббата, который скорее напоминал лист на ветру, чем достойного предводителя общины.
«Господи, спаси и мою душу», – мысленно попросил Арвид.
Он закрыл глаза и подумал о Матильде, всей душой надеясь, что подобные сомнения обойдут ее стороной.
Авуаза судорожно сжимала амулет Тора. Ее губы шевелились, но она не могла подобрать слов. Христианскому Богу, от которого она давно отреклась, можно было молиться, но языческие боги требовали от людей не слов, а действий, подчиненных их велению.
После смерти Вильгельма простора для действий стало еще меньше, но в минуты радости Авуаза не осознавала этого, как и того, что теперь над ними нависла угроза. Нормандию захватит франкский король, а если не он, то Гуго Великий или Арнульф Фландрский. А ведь Котантен, где она и ее люди обосновались и даже нашли союзников, находится в Нормандии.
– И что теперь? – спросил брат Даниэль.
– И что теперь? – спросил Деккур.
Оба были настолько раздосадованы этими новостями, что не сочли постыдным задавать вопросы, вместо того чтобы принимать решения.
Авуаза молча указала на Аскульфа, и он продолжил:
– Я не знаю, что предпримет король Людовик, он самый непредсказуемый из всех. Кажется, он не собирается мстить Арнульфу за это подлое убийство, хотя раньше утверждал обратное. Тем не менее Арнульф, испугавшись возмездия и желая умилостивить короля, принес ему в дар драгоценную золотую вазу и попросил разрешения посетить Лан. Там он на коленях поклялся, что не виновен в смерти Вильгельма.
Авуаза покачала головой. Люди, убивавшие из мести, нравились ей больше, чем изворотливые трусливые лжецы.
Однако правда была именно такой – не твердой, как скала, а податливой. Если упорно ее разминать, она поместится даже в тот сосуд, который сначала казался слишком маленьким. Существует ли вообще что-то, сделанное руками человека, что бы не искривлялось и не ломалось, что могло бы противостоять любой лжи?
А сама она стоит прямо или же сгорбилась от усталости и разочарования?
Внезапно Авуаза приблизилась к Аскульфу и замахнулась для удара. Она сдержалась, потому что не хотела прикасаться к его коже, такой же грубой и покрытой пятнами, как и ее собственная. Вместо этого она закричала:
– Что бы ты ни рассказывал о короле Людовике, это не меняет того факта, что ты позволил ей уйти. Как ты только мог допустить такое? И это уже не в первый раз!
Аскульф едва заметно втянул голову в плечи:
– Она сильная, очень сильная. Она умная… ловкая… хитрая…
– Конечно, она такая, а как же иначе? Ведь это у нее в крови.
Не договорив, Авуаза снова вскинула руку, но уже не для того, чтобы ударить Аскульфа, а чтобы забрать у него меч. Он оказался таким тяжелым, что она едва смогла его удержать.
Аскульф не препятствовал, но и не отвел взгляда, когда Авуаза подняла меч. Нужно было отдать воину должное: хоть он и не смог схватить Матильду, но смело смотрел смерти в глаза.
Такое поведение не вызвало у Авуазы особого уважения. Язык, который был понятен Аскульфу, казался ей ужасно простым: «Я сделал ошибку, значит, должен понести наказание. Я потерпел неудачу, значит, должен умереть».
Разве он не знал о существовании другого языка, который понимали и на котором говорили очень многие люди: «Я слаб, но спасаюсь с помощью лицемерия; я ничего не умею, но убеждаю всех в обратном; я лгу так долго, что уже и сам верю в эту ложь».
Те, кому был понятен такой язык, считали, что шаг навстречу своей гибели делает не герой, а глупец.
– Ты ведь не убьешь Аскульфа! – крикнул брат Даниэль.
На его лице отразился ужас, но голос звучал так, как будто монах с трудом сдерживал смех.
Авуаза не обратила на него внимания. Она с натугой подняла меч и занесла его над Аскульфом, но в последний момент отвела удар, так и не дав ему обрушиться на голову воина. Под тяжестью оружия женщина едва устояла на ногах.
– Не думай, что я проявила милосердие, – выдавила она из себя, – просто у меня слишком мало людей. Я не могу терять никого из них, тем более тебя. Уходи!
Аскульф не двинулся с места. Видимо, повиноваться женщине было для него более позорным, чем умереть от ее руки.
Тогда Авуаза ушла сама, пока не назвала истинную причину, по которой оставила его в живых.
«Для тебя, – подумала она. – Я делаю все для тебя…»
Аскульф был племянником мужчины с корабля-дракона. Она не могла убить того, в чьих жилах текла его кровь.
Женщина глубоко вздохнула и попыталась не думать о нем, об упрямстве на лице Аскульфа, о Матильде.
Вместо этого она думала о сыне Вильгельма, Ричарде, которого держали в плену в Лане. Возможно, было бы лучше, если бы он умер. И пусть Людовик тогда ворвался бы в Нормандию, а значит, и в Котантен, но они смогли бы привлечь на свою сторону больше союзников – не просто язычников, стремящихся к свободе, но и христиан, которые не оставили бы смерть Ричарда безнаказанной.
Это был хороший план, но для его выполнения нужно было снова ждать.
Авуаза услышала позади себя лязг оружия. Аскульф наклонился и схватил меч, которым она его чуть не убила. Вместо того чтобы снова спрятать его в ножны, воин отбросил его прочь, ведь гордость не позволяла ему носить оружие, оскверненное рукой женщины.
Глава 6
945 год
Жизнь в монастыре Святой Радегунды ничем не отличалась от будней монастыря Святого Амвросия, разве что пение хора здесь сопровождалось шумом прибоя. Во время шторма этот шум напоминал резкие голоса, которые побуждали молиться более истово, а в тихие дни переходил в шепот – эхо давно ушедших сестер, которые жили здесь, прославляя Господа, много лет назад. Матильде нравился шум моря и то, о чем он говорил: она всего лишь одна из многих безымянных монахинь, а отдельные голоса не имеют значения, потому что они вливаются в общий хор. Девушка быстро освоилась в кругу сестер, и они обращались с ней вежливо, но равнодушно, как и положено людям, стремящимся освободить свою душу от всего мирского.
Конечно, на пути к этой цели здесь тоже случались ошибки и неудачи: некоторые монахини слишком много болтали, плели интриги, тайком лакомились вкусной едой или засыпали в часовне. Матильда к их числу не относилась, и здесь, в отличие от монастыря Святого Амвросия, более слабые сестры вызывали у нее не презрение, а скорее любопытство. Ей было интересно, что ощущает человек, потакая своим желаниям, даже если речь идет всего лишь о дополнительном кусочке сыра. Матильда оставила желания за воротами и с удивлением обнаружила, что они ее не преследуют, что она может представлять себе, будто продолжает жизнь с того места, где она разорвалась. Это удавалось ей не в последнюю очередь благодаря тому, что рядом с ней не было никого, кто бы заметил, что нитки не совпадают по цвету, а узел слишком слаб.
С тех пор как умер граф Вильгельм, прошло два года. Время текло очень медленно в дни, наполненные привычным однообразием, и ускоряло свой ход, когда между монахинями разгорались споры. Их темы не очень интересовали Матильду, но, конечно же, она высказала свое мнение по поводу того, следует ли ради спасения души отменить в их обители, отрезанной от мира, церковный канон. Тогда сестры могли бы сами читать Библию во время богослужений, что обычно делали только священники, а аббатиса – проводить обряд посвящения дев. То, что монахини не всегда надевали покрывало и совершенно непринужденно входили в алтарь, уже давно стало нормой, хотя тоже противоречило установленным правилам.
Сначала это смущало Матильду: как женщина она чувствовала себя недостойной этого и к тому же, по сравнению с другими сестрами, была грешницей. Однако в конце концов все прислушались к мнению невозмутимой аббатисы, которая хоть и не отличалась особой мудростью, но хорошо разбиралась в людях: там, где поблизости нет мужских монастырей, а священники появляются нечасто, необходимо делать из нужды добродетель. Следует не жаловаться на одиночество, а считать его свободой, соблюдать законы, которые здесь имеют смысл, но при необходимости принимать новые. Зачем проявлять строгость, если отрешенность от мира сама по себе усмиряет мятежный дух?
Матильде нравилась такая практичность. В тишине и молитве девушка отгоняла от себя волнующие мысли и ужасные воспоминания о монахах, которые сопровождали ее по дороге в обитель и умерли страшной смертью. Иногда они ей снились. Время от времени Матильде в кошмарах являлся Аскульф, от которого исходила угроза ее собственной жизни. Но эти сны повторялись все реже, особенно после того, как одна из монахинь мирно скончалась. Тогда Матильда поняла: здесь она не скроется от смерти, но в этих стенах смерть тихо забирает дух больных женщин, а не обрушивается на них с мечом. Здесь свеча человеческой жизни догорает медленно, а не угасает от внезапного порыва ветра.
Как и в монастыре Святого Амвросия, бо́льшую часть дня девушка проводила в молитве, но оставшееся время посвящала уже другому занятию. Несмотря на умение читать и писать, тут она работала не в скриптории: в нем не было свободных мест. Аббатиса решила, что Матильда будет ухаживать в саду за лекарственными растениями, а также трудиться в лечебнице, где их использовали для исцеления от болезней и укрепления здоровья. После скриптория это было наиболее подходящим местом для употребления своих талантов во благо общины. Для этого необходимо было читать рецепты, которые за много веков накопились в старых книгах, и записывать новые. Прежде всего здесь требовалось острое зрение, чтобы различать многочисленные травы, хорошая память, чтобы запоминать, при каких болезнях помогает каждая из них, и не в последнюю очередь молодость, чтобы не испытывать боли после долгих часов, проведенных за посадкой одних растений и сбором других.
Сестры, руки которых были покрыты чернильными пятнами от работы в скриптории, бросали презрительные взгляды на темные «полумесяцы» под ногтями Матильды. Тем не менее девушке нравилась ее работа, хотя в монастыре Святого Амвросия подобное повергло бы ее в ужас. Даже зимой, когда почва замерзала, становилась твердой, как камень, и непригодной для выращивания трав, Матильда с удовольствием сидела в саду, пока от холода у нее не синели губы и не коченели руки. Ей доставляла удовольствие мысль о том, что этот клочок земли принадлежал только ей и был защищен от призраков прошлого. Осознание любви к Арвиду и боль от того, что оно пришло так поздно, больше не мучили Матильду, так же как и тайна ее происхождения. Разве имело значение, где она появилась на свет, если усилием воли она могла сделать эту плодородную землю, где собирала целебные растения, своей родиной?
Обычно Матильда работала в саду одна, к ней присоединялась разве что сестра Альба, которая разбиралась в травах, но слишком плохо видела, чтобы их собирать, и не могла говорить ни о чем другом. Новости крайне редко проникали за монастырские стены, и иногда Матильда думала о Ричарде, о том, находится он до сих пор в гостях (или в плену) у короля Людовика и сможет ли когда-нибудь править Нормандией. Она очень любила этого ребенка с живым взглядом, унаследованным от Спроты, но его лицо почти стерлось из ее памяти, как и лица других людей, которые играли важную роль в ее прежней жизни.
Покой Матильды впервые был нарушен лишь в январе 945 года, когда кто-то постучал в ворота. Эта новость была такой невероятной, что мгновенно облетела весь монастырь. Нищие умерли бы от голода по дороге сюда, паломники почти не приходили, поскольку в обители не было особых реликвий, а язычники с севера, которые иногда нападали на своих соотечественников, обратившихся в христианскую веру, стучать бы не стали.
Сначала сестры предположили, что епископ снова прислал священников посмотреть, все ли здесь в порядке. Но, открыв ворота, они увидели не мужчин, а нескольких женщин, одетых в монашеские рясы.
Их было четверо, но говорила лишь одна. Эта монахиня рассказала, что они пришли из монастыря, расположенного в трех днях пути на запад в таком же уединенном месте, как и монастырь Святой Радегунды. Лихорадка, свирепствующая в их обители, забрала старых и больных сестер, в том числе аббатису и ее заместительницу. Они вчетвером остались в живых, но не могут вести богоугодную жизнь без наставницы и просят принять их в общину.
Монахини разглядывали их с таким же подозрением, с каким смотрели на Матильду, когда она постучала в эти ворота. Поначалу все чужое воспринималось как угроза. Но когда аббатиса увидела, что эти женщины принесли с собой из монастыря бронзовые чаши и серебряный подсвечник, у нее заблестели глаза. Это были настоящие сокровища, пусть даже, как считала Матильда, совершенно бесполезные здесь, в глуши. Они не могли ни придать вкус скудной пище, ни сделать хриплые голоса более звонкими.
В следующее мгновение девушка забыла о драгоценностях. После того как аббатиса позвала женщин и они переступили порог, взгляд Матильды упал на одну из монахинь. Девушка узнала ее, и по ее телу пробежала радостная дрожь. Они полжизни провели вместе, а когда-то спали рядом по ночам. Хотя Матильда с Арвидом не обнаружили ее среди мертвых, девушка всегда думала, что эта монахиня не смогла пережить нападение бретонцев. Теперь же она стояла здесь – повзрослевшая и несколько измученная, но живая.
– Маура! – воскликнула Матильда. Ее голос редко был таким взволнованным. – О Маура!
Матильда уже давно перестала ждать, что Господь подаст ей знак, подтверждающий, что решение уйти в монастырь было правильным и что ей отпущен грех, который она совершила с Арвидом. Девушка считала, что мнимый покой, который она здесь обрела, уже являлся достаточным доказательством этого. Но встречу с Маурой, самой близкой и любимой подругой из монастыря Святого Амвросия, она могла объяснить только благосклонностью небесных сил. Покой Матильды дополнился радостью – самым глубоким, теплым и волнующим чувством, которое она испытала за последние несколько месяцев. Она не смогла удержаться от того, чтобы не броситься Мауре на шею, обнять ее, провести ладонями по ее щекам и встряхнуть ее за плечи.
Маура тоже была растрогана. Она растерянно смотрела на Матильду глазами, полными слез, и повторяла:
– Ты жива! Ты еще жива!
На какое-то время для них перестали существовать остальные сестры, с любопытством наблюдавшие за их встречей, какое-то время подруги могли говорить лишь о чуде, благодаря которому выжили после нападения на монастырь Святого Амвросия.
– Как тебе удалось спастись? Всех остальных монахинь убили те жестокие воины! – воскликнула Матильда.
– Я спряталась в погребе, где зимой хранился картофель.
– А я под соломой.
– Потом я решилась выйти, но все, кого я увидела, были мертвы.
– Я искала тебя среди убитых.
– Я тебя тоже!
– Наверное, ты вышла, когда я уже убежала в лес… с Арвидом.
Произнеся это имя, Матильда покраснела. Она была уверена в том, что ее подруга не забыла, как сильно ее тогда взволновал этот юноша, и что она догадывается, какая тесная и в то же время мучительная связь возникла между ними после совместного побега. Однако радость от встречи оказалась сильнее, чем любопытство Мауры.
Девушки продолжали оживленно беседовать, взволнованно перебивая друг друга, сетовали на разлучившее их нападение и наконец заговорили о своей жизни после него. Матильда рассказала, как ей удалось добраться до Фекана, а Маура поведала о том, как осталась совершенно одна и нашла приют в мужском монастыре, расположенном неподалеку. Аббат поспособствовал тому, чтобы ее приняли в другой монастырь, но почти все сестры в нем были старыми и, как уже говорилось, умерли, а молодых монахинь там было слишком мало.
Когда девушки наконец замолчали и смогли отвести взгляд друг от друга, они увидели, что рядом с ними остались лишь аббатиса и три монахини, которые пришли вместе с Маурой. Аббатиса, с блеском в глазах смотревшая на сокровища из другого монастыря, заявила, что сестры по праву надеялись на то, что здесь их примут. Разумеется, монастырь Святой Радегунды открыт для каждого, кто хочет и может вести уединенную и благочестивую жизнь.
– Но сколько бы нас теперь ни было – десятеро, вполовину меньше или в два раза больше, – аббатиса строго посмотрела на Матильду и Мауру, – жизнь монастыря снова войдет в привычное русло, и мы будем воздерживаться от слишком сильных чувств, даже если они приятные.
Жизнь действительно вошла в кажущееся привычным русло. Размеренного течения дней не нарушило даже присутствие Мауры, а Матильда продолжала добросовестно выполнять свою работу. Но все-таки кое-что изменилось. Раньше девушка лишь воображала, что может продолжить с того места, где остановилась, ведь слишком много событий разделяло ее нынешнюю жизнь и годы, проведенные в монастыре Святого Амвросия. Но теперь, когда Матильда просыпалась рядом с Маурой в дормитории и сидела возле нее в часовне, она чувствовала себя прежней послушницей – отрешенной от мира, пугливой и невинной. Ей казалось, что она надела старую, заплатанную одежду, из которой уже давно выросла, но которая была достаточно знакомой, чтобы чувствовать себя в ней уютно, и достаточно теплой, чтобы согреть в ней свое нагое тело.
После встречи девушки говорили друг с другом не очень часто. Собственно, их мало что объединяло – и тогда, и сейчас. Матильда всегда была более серьезной и старательной, а Маура чаще ленилась и легче поддавалась искушениям, будь то пропуск молитвы или неумеренность в еде. Но сейчас именно эти отличия нравились Матильде, потому что казались такими знакомыми. Когда Маура смеялась, Матильда качала головой, а когда Маура притворялась спящей, ее подруга настойчиво будила ее для ночной молитвы, совсем как та юная девушка, которая была послушной сама и призывала к послушанию других.
Маура закатывала глаза, как будто хотела воскликнуть: «Ты ничуть не изменилась!»
А Матильда после этого принимала еще более строгий вид, который говорил: «Да, я осталась прежней».
Маура не стала спрашивать Матильду о том, как она жила после разрушения монастыря Святого Амвросия и сколько лет провела в монастыре Святой Радегунды. Говоря о прошлом, они вспоминали только спокойные дни, когда наставница обучала их чтению и письму, аббатиса Гизела рассказывала им о жизни великих святых или когда девушки вместе мыли уборные, чтобы этим унизительным трудом доказать свое смирение и укрепить веру в распятого, измученного, отвергнутого Бога.
Лишь однажды Матильда поддалась искушению и зашла дальше: коснулась вопроса, который в монастыре Святого Амвросия не имел значения, в монастыре Святой Радегунды не выходил у нее из головы, а в миру просто не давал ей покоя.
– А ты не знаешь, почему меня отдали в монастырь? Я, наверное, была слишком маленькой и не помню, как жила до этого.
Маура нахмурилась:
– Кого ты видишь, когда смотришь на меня?
Матильда пожала плечами, не понимая, на что намекает девушка.
– Сестру такого же возраста, как и ты, – быстро ответила Маура. – Почему я должна помнить о том времени больше?
– Ты уже жила в монастыре, когда меня туда привели? – спросила Матильда. – Хотя бы это ты должна знать! Сколько лет тебе было, когда родители отдали тебя на воспитание монахиням?
Вместе с желанием узнать больше в Матильде проснулись смутные воспоминания. Плачущая женщина… Страх, когда закрылись ворота… Стены, которые не давали защиту, а отнимали свободу.
«Я осталась одна, меня никто не спасет».
Должно быть, Матильда выглядела очень взволнованной, потому что Маура вдруг схватила ее за руку:
– Боже мой, Матильда, о чем ты только думаешь?
– Расскажи мне! – потребовала девушка охрипшим голосом. – Расскажи все, что ты обо мне знаешь!
– Что я должна знать? Думаю, когда я попала в монастырь, ты уже там жила. Я не могу вспомнить ни дня, когда бы тебя не ставили мне в пример. Даже в детском возрасте ты была очень набожной.
Матильде хотелось покачать головой, но она сдержалась.
«Я была не набожной, а очень грустной…»
Она и сейчас загрустила, осознав, что Маура не может рассказать ей ничего нового, и ругала себя за то, что заговорила о тайне своего происхождения.
– Это не важно, – быстро произнесла Матильда.
Целый день ей удавалось в это верить, но в ночь после этого разговора к ней снова вернулись странные сны. В них был цветочный луг, по которому она бежала, светловолосый мужчина, носивший ее на руках, и какая-то женщина, незнакомая женщина, рассказывавшая ей историю. В ней говорилось об извергающем пламя драконе и о его убийце – святом по имени Мевенн. Матильде казалось, что она чувствует тепло этого огня… А может, она чувствовала горячее дыхание незнакомки на своем лице? Была ли это женщина из ее воспоминаний, которая так часто плакала? Или же Авуаза, желающая ее смерти?
Матильда проснулась и уснула снова. Теперь дракон казался еще больше. Она его боялась и не хотела ничего знать ни о нем, ни о святом Мевенне.
– Я не хочу это слушать! – закричала она. – Я хочу слушать историю, которую рассказывает мне отец.
– Твой отец больше не сможет рассказывать тебе истории. Он умер.
– Нет, нет, нет!
– Матильда, послушай меня! Я знаю, он твой отец, ты его любишь. Наверное, он тоже тебя любил. И все-таки есть и хорошие стороны в том, что он…
– Нет, нет, нет!
– Твой отец мог быть очень злым. Он принес большое горе твоей матери… Ее жизнь начиналась так светло, а потом пришел он… Она отрицает это и направляет свою ненависть на… нее, но я все-таки думаю, что…
– Где мой отец? – резко перебила ее Матильда. – Я хочу к отцу!
– Ты милая девочка, – сказала женщина. – Ты легко располагаешь к себе людей, и его тоже. Но кто знает, как долго продлилась бы его любовь? Кто знает, может быть, он принес бы большое горе и тебе, и ты тоже не смогла бы себе в этом признаться.
Раньше Матильда просыпалась от кошмаров с криком, но сегодня, открыв глаза, чувствовала себя так, будто ее оглушили. Во рту у нее пересохло. Она была в смятении. Оглянувшись, девушка не сразу поняла, где находится: сон казался ей более реальным, чем время, проведенное в монастыре Святой Радегунды.
«Маура, – пронеслось у нее в голове, – Маура теперь тоже живет в этой обители…» Но когда Матильда повернула голову, она увидела, что на соломенном тюфяке, где обычно спала ее давняя подруга, никого нет.
Матильда поднялась. Она побоялась снова лечь спать и отдаться на волю сновидений. Этот сон слишком сильно взволновал девушку, и, пытаясь забыть его, она сначала вышла во двор, чтобы с наслаждением вдохнуть свежий холодный воздух, а потом отправилась в часовню, чтобы забыться в молитвах. Предчувствие беды не оставило ее и там.
Покинув часовню и проходя мимо сада, девушка, как это нередко случалось, захотела покопаться в земле, ощутить ее бодрящий запах и полюбоваться буйной зеленью, но было еще слишком темно, чтобы отличить драгоценные лекарственные растения от сорняков.
Матильда вошла в помещение, где хранились травы, глубоко вдохнула их сильный аромат и почувствовала, что боль в висках немного утихла. Тем не менее ее усталость не прошла, и девушка опустилась на один из деревянных стульев. Она решила дождаться нового дня здесь. Стул оказался достаточно удобным, чтобы на нем можно было отдохнуть, и слишком жестким для того, чтобы на нем задремать. Именно это и было ей нужно.
Свет, проникающий снаружи, становился все ярче, а сон, наоборот, все больше терял краски, и в конце концов голоса монахинь, идущих в часовню, заглушили голос женщины, которая рассказывала о святом Мевенне и нелестно отзывалась о ее отце.
Матильда чувствовала себя лучше, но по-прежнему ощущала сухость во рту. Она встала со стула и хотела пойти за молоком, чтобы утолить жажду, но потом увидела на столе, где сушились травы, кружку. Наверное, сестра Альба приготовила для больных лечебный чай.
Матильда схватила кружку, поднесла ее к губам и стала жадно пить. Ее не интересовало, что она пьет: больше всего ей хотелось смочить пересохшее горло и избавиться от горького привкуса во рту. Сделав несколько глотков, она в ужасе выпустила кружку из рук.
Что бы в ней ни находилось и что бы ни разлилось теперь на глиняном полу, это был не лечебный чай, придающий силы. То, что Матильда выпила, сначала казалось сладким, а потом отдавало горечью. Ей был знаком этот вкус. Она узнала его в Лион-ла-Форе. Она узнала его в тот день, когда кто-то пытался ее отравить.
Может быть, тогда она выпила больше, может быть, с тех пор ее тело и воля к жизни стали сильнее, или же доза яда оказалась другой, но в этот раз прошло больше времени, прежде чем у нее начались судороги, похолодела кровь в жилах и закружилась голова. Матильда успела добежать до стенного шкафа, на ощупь схватила сушеные травы и стала набивать ими рот. Из глаз у нее потекли слезы, когда она проталкивала стебельки дальше. Они кололи язык, горло, и в конце концов девушку стошнило.
Ей потребовалось немало времени на то, чтобы вырвать все: густую слизь, желчь и травы. Горло обжигало огнем, и, хотя судороги прекратились, желудок все еще болел. Матильда в изнеможении опустилась на колени. Ее глаза по-прежнему слезились, но она могла видеть ясно – более ясно, чем когда-либо.
«Мой злейший враг не мужчина. Мой злейший враг – женщина».
Матильда слишком устала, чтобы испытывать ужас или обвинять себя в глупости, но все же сумела отползти от стенного шкафа. Свернувшись на полу, она неподвижно лежала, пока не услышала шаги – легкие, тихие, мягкие шаги.
Девушка казалась себе жалкой, но это лишь усилило ее ярость. Матильде хотелось наброситься на своего врага с кулаками, но она сдержалась, проглотила горечь в израненном рту и попыталась собрать все силы, оставшиеся в ее истощенном теле. Силы, которые понадобятся ей, чтобы наконец узнать, кто ее убийца и почему ее хотят лишить жизни.
Все эти годы Маура провела в ожидании и играла все роли, которые от нее требовались. Она жила в монастыре, пребывала при дворе Алена Кривая Борода, сопровождала благородных дам в Лион и Руан, и все это ради того, чтобы добраться до Матильды. Она постоянно боялась, что Аскульф опередит ее и схватит девушку сначала в лесу, где она впервые попыталась убить ее, а потом при дворе графа Вильгельма, где Маура совершила два покушения: на рынке и в Лион-ла-Форе. А здесь, в обители, Маура еще вчера опасалась того, что к Матильде, потрясенной этой встречей, слишком быстро вернутся воспоминания.
Но Маура научилась не поддаваться страху и вооружилась терпением. В итоге она получила больше, чем Аскульф, и к тому же ей повезло: Матильда ей доверяла и здесь, в монастырских стенах, не боялась убийцы. Маура с ухмылкой склонилась над бездыханным телом. Волосы закрывали лицо Матильды, и девушка была уверена, что глаза послушницы были застывшими и широко распахнутыми, как у человека, которого смерть застала врасплох.
Она прикоснулась к хрупкому телу Матильды, перевернула его и убрала волосы с лица девушки. Как странно… Маура увидела не широко распахнутые, а закрытые глаза. По крайней мере, пока закрытые.
В следующее мгновение Матильда открыла их, и ее взгляд не был застывшим. Она молниеносно обхватила запястья Мауры и вцепилась в них мертвой хваткой. Ее пальцы были совсем не слабыми, как и голос, когда она закричала:
– Ты… Почему ты?
Маура не могла скрыть ужаса от того, что в который раз допустила страшную ошибку. Тогда в лесу, склонившись над Матильдой с ножом в руках, она не рассчитывала на то, что ей окажут сопротивление. В Байе и Лионе не предусмотрела вмешательство Арвида. А сегодня не ожидала того, что яд окажется недостаточно сильным, Матильда выпьет его совсем мало и у нее хватит хитрости, чтобы устроить ловушку.
Но Маура не могла снова потерпеть неудачу! Только не теперь!
С криком ярости она вырвалась из рук девушки и оттолкнула ее в сторону. Все-таки действие яда не прошло для Матильды бесследно. Ударившись о стол, она согнулась и схватилась за живот, который у нее, должно быть, болел. Маура посмотрела по сторонам, надеясь найти какое-нибудь орудие, быстро подняла с пола кружку и замахнулась, чтобы разбить ее о голову девушки. В последний момент Матильда успела пригнуться и ударила Мауру кулаком в живот. От боли та выронила кружку.
– Это была ты! – крикнула Матильда. – Все эти годы ты пыталась меня убить! Нож в лесу, точильный камень на рынке в Байе, потом яд. Я думала, это Аскульф…
Матильда тяжело дышала. Маура знала: сейчас не время для нового удара, нужно как-то отвлечь ее, усыпить ее бдительность.
– Ты думала, что Аскульф хочет лишить тебя жизни? – с издевкой спросила она. – Какая же ты глупая!
– Но…
– Ты нужна Аскульфу. Ты нужна… ей.
– Кого ты имеешь в виду?
Разговаривая с Матильдой, Маура незаметно окидывала взглядом комнату и на одной из полок обнаружила маленький нож. Вероятно, его использовали для садовых работ и для ее целей он был недостаточно острым, но попытаться все же стоило.
– Почему ты? – крикнула Матильда. – Почему именно ты? Ты же моя… Ты же была моей подругой!
Маура осторожно обошла стол, и Матильда, опасаясь нового нападения, отошла в сторону. «Хорошо, теперь будет легче добраться до ножа».
– Ты никогда мне не нравилась, – прошипела Маура. – Из-за тебя мне пришлось расстаться с матерью, оставить родину и жить в монастыре. Это был единственный способ следить за тобой и не дать тебе вернуться.
– Куда? В Бретань?
Маура сжала губы и не стала тратить время на разговоры. Нож лежал совсем рядом, и лишь несколько мгновений отделяло ее от… мести.
Да, ею двигало желание отомстить. Ее мать Кадха утверждала, что они совершают доброе дело и однажды Бог их за это вознаградит, но на протяжении долгих лет Маура упорно выполняла свои обязанности не ради этого. Ее наградой была возможность отомстить за то, что она никогда не жила своей жизнью и всегда лишь скрывалась в тени Матильды. За то, что она никогда не выбирала дорогу сама, а всегда следовала за ней. За то, что ее мать любила ее, но пожертвовала этой любовью ради важного дела. Когда Матильда умрет, Маура наконец сможет сама распоряжаться своей жизнью.
В ее глазах заблестела надежда. Маура схватила нож и замахнулась, чтобы вонзить его Матильде в грудь. Вопреки ожиданиям Мауры, девушка не стала убегать, а молниеносно пригнулась, и клинок, вместо того чтобы войти в ее тело, застрял в твердом деревянном столе. Маура все еще пыталась вытащить его, когда Матильда выпрямилась, и в руках у нее тоже сверкнул нож. Видимо, в этой комнате было много оружия, и она знала, где его искать. Этот нож был остро заточен.
Маура отчаянно дергала за рукоятку. Когда ей все же удалось вытащить нож, было уже слишком поздно. Не успев замахнуться, она упала, сраженная ударом Матильды.
Сильная боль разрывала грудь Мауры. Ее жизнь так никогда и не будет принадлежать только ей. В отличие от смерти.
Убийство было совершено быстро и легко. Никакая невидимая сила не заставила Матильду отдернуть руку, хлынувшая кровь не вызвала у нее отвращения, и девушка не испытала сожаления, когда Маура опустилась на пол. Матильда почувствовала лишь опьянение, которое было таким сильным, что она чуть не замахнулась во второй раз, чтобы наносить удары снова и снова и превратить это тело в месиво из окровавленной плоти. Просто убийства было мало: Матильде хотелось уничтожить Мауру, забрать дыхание ее жизни и наслаждаться им самой, пока не рассеется весь ужас от этого коварного поступка, а значение будет иметь лишь то, что она оказалась сильнее соперницы.
Но это опьянение быстро прошло. Маура еще дышала. Кровь застыла в жилах Матильды. Она больше не торжествовала.
Девушка опустилась на пол рядом с умирающей, возле которой образовалась лужа крови. Матильда не давала воли раскаянию, которое зарождалось у нее в душе. У нее еще было время, чтобы задать вопросы.
– Кто я? Кто же я такая, раз ты хотела меня убить?
Из уголков рта Мауры пошла пена, сначала белая, потом красноватая. Белки ее глаз пожелтели. Она хрипло дышала.
– Ты не имеешь права… находиться в этом монастыре… Ни в одном монастыре мира… не должна жить такая, как ты.
Близкая смерть забрала из ее голоса силу, но не ненависть.
– Мой отец был норманном, об этом я догадывалась уже давно, – пробормотала Матильда, – но это не моя вина. Я всегда хотела стать хорошей монахиней.
– Речь идет не только о… желании. Судьба возлагает на плечи каждого из нас свою ношу, и мы должны ее нести. Ты… не просто дочь норманна, одно лишь это обстоятельство не сделало бы тебя опасной. Ты… еще и дочь… внучка… – Маура замолчала.
– Ты же провела рядом со мной все эти годы… Ты была моей подругой.
Из груди Мауры струилась кровь, но это не вызывало у Матильды сочувствия – ей казалось, что ранение получила она сама. Осознание того, что ее обманули и предали, не было смертоносным, как нож или яд, но причиняло такую же боль.
– Меня привезли… в обитель… вместе с тобой, – запинаясь, выговорила Маура. – Я была… чуть старше, чем ты… и помню все. Моя мать… отдала меня в монастырь, чтобы… я за тобой присматривала. Я… ненавидела это решение. И никогда… не была твоей подругой.
– Кто… кто твоя мать? Это она та злая женщина, от которой меня прятали?
– Нет… У моей матери Кадхи… не было власти, она была… твоей кормилицей, а я… ее родной дочерью… Она заботилась о нас обеих. Она была… истинной христианкой и кормила тебя своим молоком… потому что ей не оставили выбора, но… она всегда знала, что ты не должна жить на земле. Она… верно служила ей.
Маура… Дочь ее кормилицы… Кормилицы, которую звали Кадха и которая отвергала и ненавидела ее, как и Маура.
«Нас вскормила одна и та же женщина, – подумала Матильда, – а теперь мы пытаемся убить друг друга. Разве женщины не должны дарить жизнь, а не отнимать ее?»
Женщины, такие как они с Маурой, как ее кормилица, как незнакомая ей мать, приказавшая увезти свою дочь, и как та могущественная злодейка, которая хочет ее убить.
– После нападения… – запинаясь, продолжила Маура, – я нашла приют в мужском монастыре… и поговорила с аббатом. Он отправил меня к моей матери… которая жила при дворе Алена Кривая Борода… рядом с ней. Да, именно там, а не в монастыре… я и провела бо́льшую часть времени. Я постоянно… возвращалась в Нормандию, чтобы убить тебя… Я постоянно находилась рядом с тобой… а ты даже не подозревала об этом.
– Ален Кривая Борода. – Матильда пыталась понять смысл путаного рассказа Мауры. – Он правит Бретанью, по крайней мере, пытается это делать. За последние несколько лет он по частям отвоевал ее и показал себя достойным наследником своего деда, Алена Великого.
«Достойным наследником…»
Ты наследница…
Значит, она представляет опасность для Алена и потому должна умереть? Тогда кто эта злая женщина: жена Алена или его мать? И что имела в виду Маура, когда сказала: «Ты не просто дочь норманна, одно лишь это не сделало бы тебя опасной. Ты еще и дочь… внучка…»
«Чья внучка?»
Матильда вспомнила еще кое-что – слова плачущей женщины: «Твой отец мог быть очень злым. Он принес большое горе твоей матери».
Чем больше она узнавала, тем меньше понимала.
Когда туман рассеивался с одной стороны, другую обволакивала новая, еще более густая, серая пелена.
Маура закашлялась, и изо рта у нее хлынула кровь – уже не разбавленная пузырьками белой пены, а багрово-красная. Не успела Матильда задать следующий вопрос, как тело умирающей в последний раз выгнулось дугой и рухнуло на пол. Смерть остановила взгляд Мауры, и, посмотрев в ее застывшие глаза, Матильда тоже захотела ощутить тот незыблемый покой, который сейчас окутывал тело ее бывшей подруги. То, что она, Матильда, осталась в этом порочном мире, в то время как душа ее соперницы легко поднималась над ним, нельзя было назвать победой.
– Что я наделала? – застонала девушка. – Что же я наделала?
Никто не слышал этих слов, не видел ее раскаяния, не мог избавить ее от вины и от горьких мыслей. Теперь Матильда знала, что может убить человека, но кто она на самом деле, по-прежнему оставалось загадкой.
Матильда собиралась закрыть Мауре глаза, когда раздался звук приближающихся шагов.
Обернувшись, девушка заметила в дверном проеме монахиню и на мгновение увидела себя, склонившуюся над окровавленным телом, со стороны. Убегать было уже поздно.
– Я не хотела… Она не оставила мне выбора…
Матильда замолчала. Там, где жизнь встречается со смертью, не остается места для слов.
Женщина, которая застала ее, была одной из тех сестер, которые пришли в монастырь Святой Радегунды вместе с Маурой. Монахиня вскрикнула и, в отличие от Матильды, сумела облечь невыразимое в слова:
– Она убила Мауру! Эта язычница убила Мауру! Она заодно с норманнами!
Открыв глаза, Арвид не сразу понял, где находится и какое сейчас время суток. Во рту у него был горький привкус, а между зубов застряли остатки жесткого мяса, которое он ел за обедом. Обычно монахов кормили бобами с топленым жиром и иногда вяленым мясом, но сегодня в честь именин одного из братьев на стол подали более сытную еду. Это очень обрадовало Арвида, ведь ему приходилось много работать на открытом воздухе, и работать очень тяжело.
Когда послушник снова принялся, как в былые времена, таскать камни, поначалу он чувствовал боль во всем теле. На ладонях у него появлялись волдыри, которые лопались и гноились. Через некоторое время боль сменилась онемением, мышцы стали твердыми, руки – мозолистыми, а плечи – широкими. Арвид привык к работе, но это не значило, что она не отнимала у него все силы. Вот и сейчас он заснул прямо в часовне. Арвид сонно огляделся по сторонам. Что его разбудило? Шорох мышей, с которыми монахи безуспешно боролись? Страшный сон о безликих людях, размахивающих ножами? Или ощущение угрозы, которое по-прежнему тяжким грузом давило ему на плечи, хотя он уже давно очнулся от кошмара?
Арвид протер глаза и попытался проглотить горечь во рту. Обычно ему удавалось заглушать мысли и чувства тяжелой работой, но сейчас, несмотря на необычайную тяжесть и слабость в теле, его разум был совершенно ясным. Арвид чуял опасность.
Он подавил в себе тревогу и хотел подняться, чтобы отвлечься чем-нибудь, но вдруг услышал голоса и увидел двоих братьев, с которыми аббат Мартин однажды пришел сюда из Пуатье. Они стояли за колонной и о чем-то шептались.
Поскольку Арвид уснул на скамье для коленопреклонений, они его не видели.
Он снова пригнулся. Монахов звали Пипин и Беренгар. Арвид испытывал неприязнь к обоим. Эти братья с самого начала смотрели на Жюмьежский монастырь свысока и считали себя благодетелями, спасающими обитель, хотя на самом деле были последними, кого заботила ее судьба.
К Арвиду они относились с особым презрением, и он много раз спрашивал себя, не проболтался ли аббат Мартин о его происхождении, несмотря на то что с ним самим об этом больше не разговаривал. Его мнением о положении дел в стране аббат тоже интересовался уже не так часто. В первые месяцы после смерти Вильгельма Мартин постоянно обсуждал с послушником новости из Руана и Лана, но в последнее время их беседы прекратились. Арвид был даже рад этому: ему больше нравилось таскать камни, чем размышлять и говорить умные слова. Теперь же он немного огорчился, ведь очень хотел бы понять, что значит фраза брата Пипина: «Решение будет принято до конца этого года».
Беренгар, по крайней мере, его намек понял.
– Я тоже так думаю, – горячо произнес он. – Король Людовик действительно ждал довольно долго.
– Мне кажется, люди уже давно забыли о существовании Ричарда.
Арвид покачал головой. Монах ошибался, и доказательством этого служило количество паломников, которые за последние годы посетили Жюмьежский монастырь, чтобы помолиться за мальчика. Их поток давно иссяк бы, если бы народ Нормандии не считал Ричарда законным наследником.
– Аббат Мартин, – продолжил Пипин, – в последние годы вел себя разумно… Ему нужно сохранить хорошие отношения с норманнами и с Бернардом Датчанином…
– …и в то же время втереться в доверие к Людовику, – закончил его мысль Беренгар.
Арвиду снова захотелось возразить. Конечно, ему были известны взгляды аббата Мартина, который ясно дал понять, что был бы рад видеть Нормандию частью франкского королевства. Тем не менее втайне надеяться еще не значило открыто заискивать перед Людовиком, и не было никаких оснований полагать, будто аббат Мартин поступил именно так.
Но следующие слова монахов заставили Арвида в этом усомниться.
– Насколько я знаю, он каждый месяц пишет Людовику письма и обещает молиться за достижение его целей, – сообщил Беренгар.
– И правильно делает. Но вряд ли этого будет достаточно для того, чтобы развеять недоверие Людовика, – заметил Пипин. – А учитывая обстоятельства, при которых он пришел к власти, его подозрительность очень велика.
– Так вот, – Арвид услышал, как Беренгар ухмыльнулся, – аббат придумал, чем еще, помимо истовых молитв, сможет доказать Людовику свою верность.
– И что же он хочет сделать?
– Воспользоваться тайной.
– Какой тайной?
Беренгар многозначительно замолчал. Сначала Арвид считал этот разговор пустой болтовней, но теперь задержал дыхание. Он понятия не имел, на что намекает монах.
– Тайной, – сказал Беренгар после паузы, которая показалась Арвиду вечностью, – одного из наших братьев.
– Кого именно?
Арвид догадался, каким будет ответ, и побледнел. Он не слышал, как Беренгар произнес его имя, потому что монах склонился и прошептал его в ухо Пипину, но тот оказался не настолько осторожным.
– Брата Арвида?! – ошеломленно воскликнул Пипин. – Но разве у него есть тайна, которая могла бы помочь аббату Мартину завоевать расположение короля? Арвид всего лишь послушник.
В любой другой момент Арвида разозлило бы презрение в голосе Пипина, но по сравнению с витавшей в воздухе опасностью, которую он почувствовал сразу же после пробуждения, неприязнь к братьям из Пуатье казалась сущим пустяком. Арвид закрыл рот рукой, услышав следующие слова Беренгара:
– Он не простой послушник. Говорят, что он сын Гизелы, старшей сестры Людовика по отцу. И к тому же его отец был норманном.
– Неужели он сын Роллона? – заволновался Пипин. – Гизела ведь умерла еще до свадьбы с ним.
– Никто не знает этого наверняка. Вероятно, она прожила еще долго и стала аббатисой монастыря.
– Как же тогда она родила ребенка? – озадаченно спросил Пипин.
– Конечно же, он появился на свет до этого, – ответил Беренгар с явным раздражением. – Как все было, я не знаю. Во всяком случае, Аврид для короля словно бельмо на глазу. Людовику и без того приходится соперничать с Ричардом. Появление еще одного наследника его несказанно огорчит.
– Ты имеешь в виду?.. Он хочет?.. Но ведь аббат Мартин не может…
Арвид сжал кулаки так крепко, что побелели костяшки пальцев. То, что привело Пипина в неподдельный ужас, его собеседника ничуть не волновало.
– Разумеется, аббат Мартин не может собственноручно пролить его кровь. Но сообщить Людовику о том, что Арвид жив, что он находится здесь, а потом передать его в руки короля, – это он может. Таким образом аббат ясно даст понять, что полностью поддерживает Людовика и ненавидит все языческое. А каким бы набожным ни был Вильгельм, большинство норманнов остаются язычниками.
По тому, что последние предложения прозвучали несколько тише, а шаги медленно удалялись, Арвид догадался, что Беренгар уже все сказал и не хотел давать Пипину времени на возмущение.
Арвид не мог пошевелиться. Он смотрел на свои мозолистые руки, которые очень отличались от рук монахов и всегда ему нравились, потому что служили доказательством его стараний, а ороговевшая кожа позволяла надеяться на то, что его душа огрубела так же. Но когда Арвид снова и снова прокручивал в голове слова монахов, каждое из них ранило его, словно острая стрела. И у него не было щита, чтобы прикрыть свою обнаженную душу.
Ложь причиняла Арвиду невыносимую боль: ложь аббата Мартина, который обещал, что не выдаст его тайну, и его собственная ложь, с помощью которой он убеждал себя в том, что наконец нашел свой путь, свое призвание, свою тихую гавань. Арвид не стал бы так усердно таскать камни, если бы не ощущал в себе этой чужой силы и не знал, что ее нужно усмирить. Голос его крови отказывался молчать – теперь, помимо боли и отчаяния, Арвид чувствовал гнев.
– Боже милостивый, помоги мне! – прошептал он.
Ему нельзя было поддаваться этому гневу, ведь, призвав аббата Мартина к ответу, он поставил бы под угрозу свою жизнь. Нет, нужно действовать осторожно, чтобы сохранить эту жизнь и, прежде всего, чтобы придать ей смысл, который не смогут отнять у него предатели и лжецы.
Матильда смотрела на кричащую монахиню, и ужас от того, что ее застали с окровавленным ножом в руках возле убитой сестры, был не таким сильным, как возмущение этой ложью.
Она заодно с норманнами? Что за чушь!
Но потом девушка поняла: не зная о себе правды, нельзя говорить о лжи. Не важно, справедливо это обвинение или нет, – Мауру убила именно она, и никто не мог доказать, что она просто защищалась.
Матильда не знала, как поступают с монахинями, уличенными в убийстве. Столь страшный грех и тем более наказание за него представить себе было невозможно. Она знала лишь одно: даже если ее оставят в живых, это будет уже не та жизнь, о которой она мечтала.
Девушка вскочила на ноги и подошла к сестре. Как бы громко та ни кричала еще несколько мгновений назад, сейчас она испугалась и отпрянула, будто дыхание Матильды было ядовитым.
Матильда не стала терять времени на оправдания и бросилась прочь из комнаты мимо растерянных монахинь, которые примчались на крик и теперь ошеломленно смотрели на запятнанные кровью руки девушки. Никто не преградил ей путь, и она быстро добралась до ворот.
Когда монахини обнаружили тело Мауры, крик за спиной Матильды усилился, и она всем своим весом навалилась на засов, пытаясь его отодвинуть. Сестрам не разрешалось открывать ворота, но разве могло быть что-то более запретное, чем убийство, которое совершила Матильда?
Засов взвизгнул, ворота со скрипом отворились, и девушка покинула место, которое последние несколько лет служило ей надежным убежищем. На мгновение она почувствовала то же самое, что и при побеге из монастыря Святого Амвросия, – безысходность.
Вокруг простиралось лишь серое море, безлюдные холмы и темные леса. Ей негде было искать защиту и кров.
Матильда бросилась бежать, не взяв с собой ничего, кроме забрызганной кровью рясы. Крик за ее спиной становился все тише, монахини ее не преследовали, а когда через некоторое время девушка обернулась, монастырские стены уже пропали из виду. Тяжело дыша, Матильда опустилась на землю и вытерла руки о влажный мох. Она снова была бездомной беглянкой… убийцей.
«Нет!» – кричало что-то у нее внутри. Нет, она не убийца. Долгие годы она скрывалась от этого мира в обители, но знала, что он не делится на черное и белое и что не каждый человек, отнимающий чужую жизнь, непременно является коварным убийцей.
Матильда снова поднялась на ноги. Что бы она ни совершила, это не должно сковывать ни ее тело, ни ее мысли. Она лихорадочно пыталась найти способ остаться в живых. В борьбе с Маурой Матильда использовала силу своего тела, а справиться с одиночеством ей помогало осознание того, что у нее есть к кому обратиться за поддержкой.
Арвид. Герлок. Спрота.
Арвид вернулся в монастырь и наверняка уже давно принес монашеские обеты. Герлок теперь была уже не Герлок, а Адель. Она жила в Пуатье, а идти туда было слишком далеко. Оставалась только Спрота, которая вышла замуж за Эсперленка и поселилась в Питре.
Может быть, до нее тоже было слишком далеко, но тем не менее Матильда отправилась в путь.
Дороги Матильда не знала и поэтому просто пошла в ту сторону, где грязи было поменьше, деревья росли не слишком густо, а в кожу не впивались колючки. Весна все еще не вступила в свои права, ночи были очень холодные, а дни – ясные. Природа была готова доказать свое плодородие, покрывая коричнево-серый мир зелеными ростками. Но даже если она и радовала взор яркими красками, ничего съедобного пока предложить не могла.
Как и в тот раз, когда Матильда из последних сил пыталась добраться до монастыря, в ее измученной памяти проснулись воспоминания об Арвиде и о том, как он ее защищал. Но даже если девушка могла вообразить, будто он рядом, будто он помогает ей пережить горе, как однажды помог осознать, что именно он самый важный, нужный и любимый человек в ее жизни, – любовь не утоляла чувство голода и могла согреть душу, но не тело.
Три ночи Матильда провела в пути. Она пила илистую воду из ручьев, ничего не ела, и урчание в ее желудке заглушало желание идти дальше. Теперь ей казалось, что рядом с ней находится не только Арвид, но и другие люди, которых она встречала в своей жизни. Словно тени, они шли вместе с девушкой по влажному мху: аббатиса Гизела, Маура, сестры из монастыря Святого Амвросия. Сопровождали Матильду и безликие фигуры: мать, которая отдала ее в монастырь, чтобы спасти от злой женщины; кормилица Кадха, в глубине души презиравшая ее и пославшая свою дочь Мауру, чтобы ее убить; безымянная женщина, которая рассказывала девочке о драконе и святом Мевенне и утверждала, что ее отец был злым человеком. Возможно, именно поэтому у Матильды и не осталось никаких воспоминаний о нем, кроме образа из снов? Она любила его, но чувствовала, что он не заслуживает этой любви?
Девушка много раз спотыкалась, падала и вставала снова. Она думала о том, ждет ли ее этот незнакомый отец на пороге смерти. Как норманну ему не будет дарована вечная жизнь, но из-за смертного греха, который совершила Матильда, демоны заберут в ад и ее душу, когда она покинет тело. Интересно, знакомые люди там встречаются, как на небесах, или же они, обреченные на вечные муки, тщетно пытаются найти друг друга? Девушка даже не знала имени своего отца, чтобы позвать его, и саму ее больше никто не звал по имени. Если она умрет здесь, ее близкие никогда об этом не узнают.
На четвертый день Матильде больше не казалось, будто знакомые люди идут рядом с ней, – теперь ей чудилось, что лес закончился, за лесом простирается поле, а за ним стоит дом. Конечно же, это тоже было игрой ее воображения.
Девушка верила в это до тех пор, пока не подошла достаточно близко и не увидела, что дом, сооруженный из глины и досок, немного врос в землю и обнесен частоколом.
Надеяться на то, что здесь живут люди, Матильда все еще не смела. Несомненно, дом построили злые демоны, чтобы дразнить и изводить ее, играя на ее желании больше не оставаться одной в целом мире.
Но она одна, она не доживет до завтра, она даже не сможет добраться до этого дома.
В десяти шагах от частокола Матильда споткнулась о корень и упала. Раньше она всегда вставала на ноги, но теперь так и осталась лежать, не в силах подняться. Она закрыла глаза. Смерть пахла весенней землей.
Людей Ингельтруда боялась больше, чем одиночества. Конечно, это касалось не всех людей: среди них встречались и хорошие, такие как ее муж Панкрас. Он трудился не покладая рук, молчал о своей боли и проблемах. После того как умерли его дети, он не плакал, а зачал других, а когда умерли и они, тоже не стал плакать, а лишь молился. Да, Панкрас – хороший человек, и можно было не сомневаться в том, что завтра он останется таким же, как сегодня. Очень многое в мире, напротив, не внушало уверенности, и Ингельтруда винила в этом людей, которые, в отличие от Панкраса, не работали, а грабили и разоряли; не молчали, а кричали страшным голосом; не молились за упокой души своих детей, а убивали чужих.
За сорок лет Ингельтруда слишком часто встречала таких людей. Когда она родилась, в этой небольшой деревне домов было много. Потом сюда хлынули толпы норманнов. Сначала они разорили поля, через несколько лет сожгли дома, а в третий раз пришли не просто из-за жажды разрушения, а по поручению Роллона, который к тому времени был уже не разбойником из языческой земли, а новым графом Нормандии. Они тоже принесли с собой беду. Эти люди пришли, чтобы собрать налоги, а когда ее сосед не смог их заплатить, его подвесили вверх ногами, чтобы кровь прилила к его голове. Когда мужчину отвязали, он побагровел и уже не дышал.
В этот момент норманны не кричали, а спокойно бились об заклад, лопнет его голова или нет. Этого не произошло. Когда несчастного хоронили, его лицо было уже не багровым, а желтым, как воск.
Следующий отряд норманнов прислал не Роллон, а граф Вильгельм, которого называли истинным христианином. Ингельтруда в это не верила, потому что, хотя в деревне больше никого не подвешивали за ноги, налоги все же приходилось платить, и к тому же настолько высокие, что те жители, которые смогли выдержать разорение и опустошение, сочли эту землю слишком суровой. Они переселились ближе к морю, ловили рыбу и – поскольку на побережье обосновалось очень много норманнов – изучали датский язык.
Ингельтруда учить его не хотела и не верила рассказам Панкраса, будто норманны уже и сами на нем не говорят, а живут, как франки. Нет, лучше она останется с мужем здесь, будет смотреть на то, как разваливаются хижины бывших соседей, привыкать к одиночеству и опасаться чужих людей. А чужие наведывались к ним все реже. Слух о том, что двое пожилых крестьян не могли платить налоги, дошел даже до норманнов.
Так они и жили, забытые всем миром, и их многочисленные давние страхи уже развеялись. Женщина боялась лишь того, что Панкрас умрет раньше нее или наоборот. Она не знала, что хуже.
Но сейчас смерть грозила не им, а юной девушке, лежащей в поле. Она появилась словно ниоткуда и упала без чувств. Панкрас увидел ее первым, но рассказал об этом не сразу: он никогда не был словоохотливым. И только под вечер он спокойно произнес:
– Там, на улице, лежит девушка.
Подобное удивить Панкраса не могло. Он пожал плечами, как будто о таком не стоило даже думать, но Ингельтруда тем не менее задумалась. Она опасалась, не была ли эта девушка духом или демоном, которые живут в лесу.
– Если завтра она все еще будет лежать там, я о ней позабочусь, – решила она.
– Если завтра она все еще будет лежать там, она будет мертва, – заметил Панкрас.
В его голосе не было досады, он привык встречать смерть не со слезами, а с молитвой.
Ингельтруда пожала плечами и пошла варить суп. Ели они дважды в день, но не досыта, а ровно столько, чтобы не умереть от голода. На завтрак была обычно ячневая каша, а на ужин – густой суп с луком, чечевицей и, если на охоте им сопутствовала удача, копченым мясом.
Помешивая в котелке суп, Ингельтруда беспокоилась все больше. Если бы девушка действительно была демоном, она нашла бы способ проникнуть в дом. Но супруги снова заговорили о ней только после того, как доели суп.
– Она одета в монашескую рясу, – нарушил молчание Панкрас. – Ты действительно оставишь ее лежать на улице всю ночь?
– Почему ты сразу об этом не сказал? – У Ингельтруды вырвался вопрос, который она раньше никогда не задавала, потому что давно смирилась с тем, что Панкрас говорить не любит. Он и не должен был говорить, пока мог работать. На это, по крайней мере, она могла рассчитывать и сейчас.
– Неси ее в дом, – велела Ингельтруда.
Должно быть, девушка была нетяжелой, потому что вскоре Панкрас быстрым шагом вернулся, почти не сгибаясь под своей ношей. Он положил девушку на соломенный тюфяк, и Ингельтруда стала с опаской ее разглядывать. Незнакомка действительно была одета в черную монашескую рясу, ее ноги были покрыты царапинами и ссадинами, на грязных руках застыли пятна крови, а лицо было бледным.
Ингельтруда не решилась к ней прикоснуться, а просто сварила новый суп. Она больше не боялась, что девушка может оказаться демоном, – ее очень волновало кое-что другое. До сих пор из леса приходили только грубые мужчины, но не женщины, и при виде этого нежного создания Ингельтруда растрогалась. Она вспомнила многочисленных детей, которых родила и похоронила. В отличие от Панкраса, она никогда не молилась. В отличие от Панкраса, она оплакивала каждого ребенка.
Первым, что Матильда увидела в темноте, были теплые руки. Эти руки гладили ее по лицу, перевязывали ей раны, растирали ее расцарапанные, закоченевшие руки и ноги, вливали что-то ей в рот. Матильда не узнавала вкуса, но ощущала, что это было что-то горячее, сытное. Еда придавала ей сил. В какой-то момент девушка окрепла настолько, что смогла открыть глаза и рассмотреть комнату, в которой находилась. Из камина к потолку кольцами поднимался дым, покрывающий незамысловатую мебель черной копотью. Мебели было немного: стол, две лавки, полка для кухонной утвари и соломенный тюфяк. На нем Матильда и лежала.
Не успела девушка разглядеть лицо человека с теплыми руками, как у нее снова закрылись глаза. Матильда заснула, а проснувшись, почувствовала мучительную боль. Ее сжигала лихорадка, в горле пересохло. Она тяжело дышала, стонала и кричала. Голова раскалывалась от боли, но теплые руки продолжали гладить ее, и в конце концов им удалось унять эту боль. Девушку снова покормили, и на этот раз она поняла, что ест соленый суп. К ней снова вернулись силы, и она смогла не только открыть глаза, но и приподняться.
Теперь Матильда увидела своих спасителей: изнуренную работой женщину с редкими волосами и равнодушным взглядом и седого сгорбленного мужчину, чье лицо избороздили морщинами время и жизненные невзгоды. Эти люди не излучали ни особой доброжелательности, ни неприязни.
– Кто ты? – спросил мужчина.
Из глаз девушки вдруг ручьями полились слезы. Телесные муки ненадолго заглушили боль, терзающую ее душу. Теперь же она вернулась.
«Я не знаю, – хотелось ответить ей, – я сама не знаю, кто я!»
Вместо этого она хриплым голосом произнесла:
– Мне нужно в Питр, к Спроте.
– Кто такая Спрота?
Несмотря ни на что Матильда радовалась тому, что находится среди людей, которым ничего не говорит это имя, которые ничего не слышали о конкубине графа Вильгельма и матери его сына Ричарда и, как следствие, не могли ничего знать о ее собственной судьбе. О том, что она, очевидно, была наследницей королевства. О том, что ее пытались убить. И о том, что в итоге убила она сама.
– Отведите меня в ближайший поселок! – взмолилась Матильда. – Там наверняка каждую неделю устраивают ярмарку, которую посещает много людей. Возможно, кто-нибудь из них знает, кто такая Спрота… и где находится Питр.
Женщина посмотрела на нее. Теперь она выглядела уже не равнодушной, а строгой.
– Сейчас ты никуда не пойдешь. Ты еще слишком слаба.
Эти слова прозвучали так твердо, будто их произнесла мать, которая знает, что будет лучше для ее ребенка. Матильда обрадовалась тому, что ей пришлось послушаться, что она не должна сама принимать решения, а может полностью довериться этим теплым рукам. На время она перестала твердить, что ей нужно добраться до Спроты.
Жар прошел, ссадины затянулись, головная боль исчезла. Несколько дней Матильде не задавали вопросов. И только когда она смогла подняться и надеть рясу, которую женщина тем временем постирала и зашила, мужчина поинтересовался:
– Ты монахиня?
– Послушница, – тихо произнесла девушка, опустив глаза.
– Бежишь от норманнов? – спросила женщина.
Матильда помедлила с ответом. Очевидно, эти люди жили отшельниками и не знали, что от норманнов больше никто не убегал, наоборот, они правили этой страной. А может быть, они и слышали об этом, но не поверили. Тем не менее она кивнула.
– Здесь ты в безопасности, – заверила ее женщина и назвала их с мужем имена: Ингельтруда и Панкрас.
Матильда повторила их, и на мгновение ей страстно захотелось остаться у этих людей. Зачем идти к Спроте, если можно жить здесь, работать в поле, притворяться дочкой крестьян и усмирять свой взбудораженный дух тяжким трудом до тех пор, пока не исчезнут мучительные вопросы.
И все же Ингельтруда и Панкрас были уже не молоды. Когда-нибудь они умрут, и тогда она снова останется одна в целом мире.
– Мне нужно в Питр, к Спроте, – повторила Матильда.
– Я никогда не уходила отсюда, – заявила Ингельтруда.
– Но я иногда охотился в лесу, – вмешался Панкрас, – там живет лесник… Возможно, он проведет тебя в соседнюю деревню. Возможно, там знают дорогу в Питр.
Прошло несколько дней, прежде чем Матильда добралась до цели, и за это время она почти не разговаривала. Все ее провожатые тоже были немногословными: Панкрас с Ингельтрудой, лесник, к которому они ее привели и который хотя бы слышал имя Спроты, и, наконец, женщина на рынке в соседней деревне, знакомая лесника. У нее был свой маленький прилавок, где она продавала кур и яйца. И то и другое женщина расхваливала громким звонким голосом, но, когда товар был распродан, из нее невозможно было вытащить ни слова. Леснику пришлось повторить вопрос несколько раз, прежде чем она ответила. Да, она знает, кто такая Спрота. Да, когда-то она вместе с мужем-торговцем ездила по стране и может показать дорогу до Питра.
Скоро Матильда перестала донимать женщину расспросами. Деревня была небольшой, базарный день близился к концу, но многоликая толпа утомляла девушку. Уже несколько лет она не видела столько людей, которые собирались в одном месте, чтобы беззаботно смеяться, браниться, пить, ворчать и проклинать жизнь, а потом снова ею наслаждаться.
Матильда присела на пыльную землю и положила голову на колени.
Под вечер женщина подошла к ней и долго ее рассматривала.
– Эсперленк – хороший человек, – вдруг заявила она.
Матильда подняла глаза:
– У него есть мельницы на берегу Андели, не так ли? Как мне добраться до реки, а от нее до Питра?
– Эсперленк мелет зерно для крестьян за хорошую плату.
Эти слова еще не указывали путь к нему, но принесли Матильде облегчение. Значит, Спрота все же правильно сделала, что вышла замуж за этого человека.
– Пойдем со мной, – позвала женщина.
Вскоре желание Матильды как можно скорее добраться до Питра осуществилось. После смерти супруга, странствующего торговца, женщина вышла замуж за бедного крестьянина, двор которого был таким же маленьким и убогим, как и двор Панкраса и Ингельтруды. Отличался он лишь тем, что в нем звучали громкие крики: пятеро мальчиков спорили из-за скудного ужина. Они с любопытством поглядывали на Матильду, но мать быстро их успокоила. Не желая злоупотреблять гостеприимством, девушка почти ничего не ела. Спать ее положили возле печки. На следующее утро женщина заявила, что двое из ее сыновей отправляются за семенами и Матильда может пойти с ними, а потом свернуть в сторону Питра.
Когда матери рядом не было, оба мальчика снова стали пристально разглядывать Матильду. Это смущало девушку, но они не подходили к ней слишком близко и оказались такими же неразговорчивыми, как и их родители. Сначала мальчики вели ее по широкой улице, а потом – по узким тропинкам. Через два дня у Матильды заболели ноги, к едва зажившим ранам и волдырям добавились новые, но апрельское солнце вытеснило холод из ее тела и мрачные чувства из ее сердца. Она сможет добраться до Спроты и будет там в безопасности. Даже на последнем участке пути, который девушка прошла одна, она смогла отбросить свои страхи, успокаивая себя тем, что в весенний теплый день на нее не нападет жестокий разбойник. Глубоко внутри Матильда, конечно, знала, что страшные преступления совершаются как в сером, так и в красочном мире, но с каждым шагом навстречу своей цели она все больше верила, что это не так.
Когда Матильда добралась до Питра, она вдруг пала духом. Уже наступил вечер; город, казалось, уснул; люди закрылись в своих домах. На пустынных улицах девушке было не у кого спросить, где живет Эсперленк. Тем не менее она догадалась, что ему должен принадлежать самый большой и к тому же сооруженный из камня дом.
Он единственный был освещен, а его обитатели, казалось, не спали. Во дворе горели факелы и стояли лошади. Всадники явно торопились сюда, потому что спешились, едва успев остановиться, и не обратили внимания на Матильду. Все они вошли в дом через узкую дверь, и, хотя она быстро за ними захлопнулась, девушка тоже подошла ближе и постучала.
Дверь открыли не сразу, и, к своему удивлению, Матильда увидела перед собой мужчину, который в своем кожаном камзоле, с мечом на поясе и в бронзовом шлеме был похож на воина графа Вильгельма.
– Что тебе нужно? – крикнул он. – Если ты хочешь поесть, приходи завтра утром.
Матильда в недоумении смотрела на него, пытаясь понять, почему дом Эсперленка охраняет вооруженный человек, а воин тем временем окидывал ее презрительным взглядом. Лишь через некоторое время девушка осознала, что из-за ее потертой, испачканной и залатанной рясы он принял ее за нищенку.
– Я… я не прошу еды. Мне нужна Спрота. Я ее хорошая знакомая.
– Такое может говорить кто угодно.
Мужчина выпрямился, будто хотел казаться еще выше, хотя и так намного превосходил ее ростом. В другое время Матильда испугалась бы, но сейчас, выдержав столько мучений и преодолев столько препятствий, она просто не могла струсить.
– Я ее родственница, – солгала она, – из Бретани. Если бы я обманывала, то не умела бы говорить по-бретонски.
А она прекрасно владела этим языком.
Воина это поразило, как, впрочем, и саму Матильду. Она часто слышала этот язык, понимала его, но никогда им не пользовалась. Теперь же она слепо полагалась на свои инстинкты, которые помогали ей выживать.
Мужчина явно был озадачен. Он крикнул человеку, который, видимо, стоял за дверью, что-то невнятное и хоть и не впустил девушку внутрь, но прогнать ее тоже не решился. Вскоре из дома выскочила женщина.
Матильда помнила Спроту худенькой и невысокой, а женщина, выбежавшая во двор, была полноватой. Только когда она подняла факел и свет озарил ее лицо, девушка узнала ее и поняла, что та ждет ребенка.
– Спрота! – выдохнула Матильда.
Лицо Спроты тоже изменилось, но, в отличие от тела, оно казалось измученным и бледным, а глаза были красными, как будто она много плакала. И все же, какой бы несчастной она ни выглядела, сейчас значение имело лишь то, что это была Спрота. Наконец, поддавшись усталости, девушка бессильно опустилась на колени.
– Матильда, что ты здесь делаешь?
– Я не знаю… Мне больше некуда идти. Мне пришлось бежать из монастыря, меня приютили крестьяне, Ингельтруда и Панкрас – их имена я знаю, но имя той другой женщины мне неизвестно, а ее сыновья…
От переполняющей ее радости девушка говорила без умолку и едва не призналась в убийстве. Пытаясь успокоить Матильду, Спрота обняла ее за плечи и повела в дом:
– Поговорим об этом позже.
Вскоре они вошли в зал. По сравнению с замками в Руане, Фекане или Байе, он казался очень простым, но по сравнению с крестьянскими хижинами, в которых девушка ночевала в последнее время, выглядел огромным. Стены и пол были голыми: их не украшали ни звериные шкуры, ни картины, а вместо приятно пахнущих свечей и ламп зал освещали дымящиеся факелы. Зато в большом каменном камине приветливо потрескивал огонь.
Вместо того чтобы последовать первому порыву – броситься к огню и отогреться, Матильда сделала шаг назад. В зале собралось много воинов, одетых так же, как и мужчина, который открыл ей дверь, и девушка снова задалась вопросом, что все они делают в доме мельника. И почему – теперь, несмотря на свою радость, Матильда больше не могла этого не замечать – у Спроты красные, заплаканные глаза?
– Ты хочешь есть? Или, может, лучше выпьешь вина или медового напитка? – предложила Спрота.
Матильда не могла произнести ни слова. Голод и жажда казались сущим пустяком по сравнению с напряжением в этом зале.
– Что здесь происходит?
Спрота сдавленно всхлипнула. Она проглотила слезы, но больше не могла скрывать отчаяние.
– Ты пришла в час беды. Я… мы ужасно волнуемся.
Она показала в сторону людей у камина, одетых в благородные меха. Это были не воины, и Матильда не смогла сдержать крик удивления, когда увидела, что среди них были некоторые знакомые ей влиятельные норманны: Бернард Датчанин, правители де ла Рош-Тессон и Брикебек и даже Осмонд де Сентвиль, который, как она предполагала, должен был находиться в Лане рядом с Ричардом.
На их фоне Эсперленк в своей льняной тунике казался маленьким и жалким, но по его взгляду, ласковому и заботливому, девушка поняла, что он был приветливым и добрым человеком.
Эсперленк подошел к Спроте, чтобы ее поддержать:
– Тебе нужно успокоиться…
– Как я могу успокоиться, если моему сыну грозит опасность? – возразила Спрота. – Я уйду не раньше, чем мы придумаем, как его спасти.
– И тем не менее… хотя бы присядь.
Эсперленк усадил Спроту за стол. Он оказался старше, чем Матильда ожидала, речь его была такой же невнятной, как и у простых людей, которые работали больше, чем говорили, и, по сравнению с графом Вильгельмом, он не блистал красотой. Но девушка никогда не видела, чтобы граф Вильгельм так волновался и заботился о Спроте.
– Что… что с Ричардом? Почему ему грозит опасность? – спросила Матильда.
Спрота закрыла лицо руками, а собравшиеся мужчины не обращали на девушку внимания и разговаривали, перебивая друг друга. Она напряженно прислушивалась, пытаясь понять, что происходит. Речь шла о короле Людовике, его жене Герберге и высоких стенах, которые делали Лан неприступным. И все же Ричарда нужно освободить любой ценой.
Матильда подошла к Спроте:
– Спрота, не молчи! Что с Ричардом?
Женщина не смотрела на нее.
– Почему ты не осталась в монастыре? – спросила она.
Матильда не хотела лгать, но раскрывать правду тоже не желала.
– Я была там не на своем месте.
– Как странно…
– Что в этом странного?
– Ты говоришь те же слова, что и… он. Я ошиблась. Я думала, что, разлучая вас, поступаю правильно. Я думала, что вам удастся сделать то, чего не смогла я: равнодушно относиться к миру, ничего не видеть и закрыть свое сердце. А теперь он хочет мне помочь… И ты тоже вернулась именно сейчас, когда нам дорога любая помощь. Ты простишь меня? За то, что я посоветовала тебе охладеть ко всему, а сама этого сделать не смогла. За то, что ко мне слишком поздно пришло осознание: от холода душа разрывается еще сильнее, чем от боли.
Матильда в недоумении смотрела на Спроту. Мысли девушки путались. Она смутно припоминала, как однажды в Руане Спрота пыталась приуменьшить значение ее любви к Арвиду и как она слишком легко поверила женщине, которая сейчас явно раскаивалась в своих словах.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросила Матильда.
Спрота встала и подошла к мужчинам, стоявшим у камина.
– Матильда, – произнесла она. – Матильда именно та женщина, которая нужна для осуществления нашего плана. Она долго жила с нами и хорошо знает Ричарда. Если я ничем не могу помочь сыну… пусть это сделает она.
Когда Спрота вновь обратилась к Матильде, недоумение девушки возросло еще больше.
– Да, ты нам нужна. Ты нужна Ричарду. И прости меня за то, что я убедила тебя… вас обоих спрятаться в монастыре. Этот мир рушится, а значит, надежного убежища не может быть нигде.
Матильда ничего не понимала, но в следующий миг слова Спроты потеряли значение. Девушка заметила еще одно знакомое лицо.
У нее перехватило дух, и она больше не чувствовала боли в ногах и в измученном голодом желудке.
Она чувствовала только… счастье. Оно согревало сильнее, чем огонь, пьянило больше, чем вино, и было приятнее, чем нежные прикосновения Спроты.
Среди мужчин, которые взволнованно обсуждали будущее Ричарда, находился… Арвид.
Последние недели были похожи на страшный сон. Иногда Арвиду хотелось проснуться и понять, что предательство аббата Мартина и очередной побег из монастыря – это всего лишь один из ночных кошмаров. Но Арвид не спал, он должен был принять решение, и оно привело его сначала в Руан, а потом, когда он узнал эту ужасную новость, – в Питр, где влиятельные люди Нормандии придумывали план спасения графа. Сначала они еще считали Арвида чужим, но все же встретили его радушно, потому что он был другом Вильгельма и потому что они принимали любую помощь.
Теперь этот страшный сон стал приятным, теперь Арвид хотел видеть его вечно. Они посмотрели друг на друга, он подошел к ней, прошептал ее имя. Впервые за последние недели Арвид понимал все настолько ясно и в то же время словно витал в облаках. Он ощущал каждую клеточку своего тела, но ему казалось, будто он наблюдает за этой встречей издалека. Ни одну свою мысль Арвид не мог выразить словами, а чувства, которые его переполняли, были слишком сильными, чтобы дать им название. Во всяком случае, среди них не было сомнения, которое заставило бы его отстраниться, изображая робость и отчуждение.
Из всех желаний, которые его переполняли (желание забыть о своем происхождении, желание покоя и уединения), лишь одно оказалось не напрасным и не ошибочным – желание быть с ней. Арвид не мог больше его подавлять и лишь безудержно радовался его исполнению, признавая то, что отрицал все эти годы: без Матильды он жил только наполовину, а не в полную силу.
Теперь он стоял напротив нее и видел по ее взгляду, что и она чувствует то же самое. Каждый из них слишком часто бывал на волосок от смерти, мир каждого слишком часто рушился, каждый принял слишком много неправильных решений, чтобы теперь не взять за руки человека, который, как в зеркале, отражал его собственную судьбу и помогал с ней примириться.
Сначала они просто держались за руки, потом заключили друг друга в объятия. Арвид поцеловал бы девушку, если бы вдруг не заметил, что в комнате воцарилась тишина. Только тогда он вернулся из своего маленького мира, который теперь принадлежал им двоим, в большой, где на Арвида устремились удивленные взгляды и где прозвучал вопрос Спроты. Она спрашивала Матильду, готова ли та ей помочь. Арвид знал, на какой ответ она надеялась, и первым его желанием было закрыть девушку своим телом и запретить ей участвовать в этом.
Но Матильда уже не смотрела в его глаза.
– Что случилось? – спросила она.
Спрота подошла и отвела ее в сторону, прежде чем Арвид успел этому воспрепятствовать.
– Ричарду грозит страшная опасность, – сказала она, едва дыша. – Он по-прежнему находится в Лане при дворе короля Людовика, но если тот поначалу еще пытался изображать гостеприимство, то в последние месяцы стал относиться к Ричарду хуже – как к заложнику, как к пленнику, кем мальчик и является на самом деле.
Губы Спроты дрожали, и взгляд Матильды наполнился сочувствием.
Арвид испытывал такое же сочувствие, когда несколько дней назад услышал эту новость из Лана, и был удивлен силе праведного гнева, нарастающего в его душе. Только сейчас он понял, что после побега из Жюмьежского монастыря не только навсегда распрощался с монашеством, но и принял сторону норманнов в борьбе с франками. Подлость Людовика по отношению к молодому графу возмутила Арвида не меньше, чем предательство аббата, и теперь он больше не мог притворяться, будто государственные дела его не касаются.
В разговор вступил Бото, крестный отец мальчика:
– Раньше Ричард мог регулярно ездить верхом и участвовать в охоте, но с некоторых пор ему это запрещают. Герберга, жена Людовика, которая прежде изредка делала над собой усилие и вела себя с мальчиком вежливо, больше не скрывает своей неприязни. Она считает, что от Ричарда исходит опасность – не в последнюю очередь для ее сына, наследного принца Лотаря. Кроме того, она недавно родила второго сына, Карла, которому с удовольствием отдала бы графство. Как бы там ни было, она больше не позволяет Ричарду сидеть за королевским столом.
Раскрасневшийся Осмонд де Сентвиль выступил вперед:
– Я не выдержал и однажды настоял на том, чтобы Ричард поехал со мной на охоту. Когда мы вернулись, Герберга в ярости на нас набросилась. Она обозвала молодого графа паршивцем и пригрозила, что если Ричард еще раз покинет дворец, его оскопят и выколют ему глаза. Если бы вы видели, с каким достоинством Ричард выслушал ее оскорбления. И лишь когда мы остались одни, он признался, что пришел в отчание.
Спрота буквально вцепилась в Матильду, и праведный гнев, который Арвид испытывал к врагу Ричарда, боролся в его душе с желанием защитить девушку. Сам он больше не мог оставаться в стороне, но хотел, чтобы она в это не вмешивалась.
– Как я могу вам помочь? – решительно спросила Матильда.
– Слава богу, Осмонд смог найти предлог, чтобы покинуть Лан и передать нам эту новость, – сказала Спрота. – Отправиться в Руан он не решился, опасаясь, что об этом узнает Людовик, и приехал сюда, ко мне. До нас с Эсперленком никому нет дела, поэтому мы смогли устроить встречу правителей Нормандии, не вызвав подозрений у короля.
Матильда обвела присутствующих задумчивым взглядом. Только сейчас Арвиду бросился в глаза ее уставший вид. В момент встречи имело значение лишь то, что она была рядом, – теперь же он с тревогой заметил, что она очень изменилась за последние годы. Но хотя темные круги под глазами свидетельствовали о том, что Матильда голодна, напугана и истощена, ее взгляд был полон решимости.
– И какой у вас план? – спросила девушка.
Вперед выступил Бернард Датчанин:
– Положение непростое, но Людовик все еще думает, что мы ему доверяем, и пока мы намерены позволить ему и дальше оставаться в этом заблуждении. Если мы открыто выразим недовольство его отношением к Ричарду, он может сбросить маску слишком быстро. И только если мы внушим королю чувство уверенности, у нас появится надежда, что он не захочет немедленно убрать с дороги Ричарда… и напасть на Нормандию.
– Это значит, – продолжил Бото, – что нам нельзя открыто требовать освобождения Ричарда. Мы должны спасти его тайно.
Спрота снова сжала руку Матильды:
– И ты, Матильда, можешь нам помочь.
Впервые с момента их встречи Матильда увидела на лице Арвида то, что читалось и в ее глазах. Оба поняли: судьба снова свела их вместе не для того, чтобы сделать счастливыми, а для того, чтобы дать им задание.
– Чем я могу помочь? – повторила она.
– Граф Алансона, – ответил Осмонд, – наш союзник. Он убедил нас пойти на хитрость.
Сомнение в его голосе свидетельствовало о том, что ему больше понравилась бы открытая борьба, но вслух мужчина этого не произнес.
– И для этой хитрости нужна женщина, – заявила Спрота. – Такая, как ты…
Матильда перевела взгляд на Арвида, потом снова на Спроту. Воцарилась тишина.
– Что бы ни потребовалось сделать ради спасения Ричарда, – наконец решительно заявила девушка, – я готова на это.
Совещание длилось всю ночь. Детали плана придумывались и отбрасывались, предложения восторженно принимались и снова подвергались сомнению, определялись те шаги, которые были необходимы для освобождения Ричарда, и те, которые представлялись слишком опасными. На рассвете все выглядели уставшими, но пребывали в хорошем расположении духа.
Спрота велела принести для Матильды суп со свининой, нутом и чечевицей. Наевшись досыта, девушка испытала удовольствие, хотя потом ей показалось, будто ее желудок набит камнями. И все же Матильде удалось отдохнуть лишь немного: она не могла не замечать напряжения, повисшего в воздухе. В борьбу за будущее Ричарда и всей Нормандии она ввязалась совершенно случайно, но пустых обещаний не давала. Матильда действительно была готова броситься в эту борьбу, пусть даже просто ради того, чтобы наполнить свою жизнь новым смыслом, ведь все предыдущие битвы оказались безрезультатными. Она не хотела строить свое будущее на путаных снах и смутных воспоминаниях, связанных с тайной ее происхождения.
Спрашивать себя о том, какая роль в этом будущем отводится Арвиду, Матильда пока не решалась. Радость от их неожиданной встречи была слишком свежей и слишком хрупкой, чтобы отягощать ее желаниями и надеждами. Достаточно было просто отдаться ей и лишь на следующее утро проверить, что останется от этого счастья при свете дня.
Солнце еще не встало, когда Арвид зашел в маленькую, но чистую комнату, которую Спрота предоставила Матильде. Этот его поступок не возмутил и даже не особо удивил девушку, наоборот, она сочла его естественным.
Будущее выглядело туманным как никогда. Возможно, они не успеют освободить Ричарда и король Людовик убьет его, а потом нападет на Нормандию. Возможно, при попытке увезти мальчика из Лана они все погибнут. Но именно поэтому им нельзя было тратить время на слова. Словно ведомые таинственной силой, которая уравнивала их шаги, они молча подошли друг к другу и обнялись. Матильда прижалась к Арвиду, не понимая, почему тогда, после часов наслаждения, она не осталась рядом, чтобы поговорить с ним, а позже, после смерти Вильгельма, не искала с ним встречи, а сбежала в монастырь. Как легко было его обнимать. Как приятно знать, что они вместе. И как естественно больше не подавлять желание прикоснуться к нему, нежно провести по его коже…
Они еще долго не могли разомкнуть объятий.
– Почему ты не в монастыре?
Арвид и Матильда произнесли эти слова одновременно. Никто не стал отвечать. В глазах друг друга они видели тоску по утраченной заветной мечте и в то же время уверенность в том, что оставить ее и искать свое призвание в чем-то другом было правильным решением.
– Я там не на своем месте, – снова сказали они в один голос.
Арвид ничего не добавил, и Матильда произнесла:
– Видимо, мой отец был влиятельным человеком… Поэтому меня хотят убить. Я вспомнила, что могу спрятаться здесь, даже если тут я в безопасности, но не дома.
– Если у человека нет дома, ему все равно, где жить, – пробормотал Арвид. – Что нам теперь делать?
– Я знаю только одно: я хочу быть с тобой.
– Почему же ты тогда сбежала из Руана? Почему не попрощалась со мной? – спросил он.
– Почему ты за мной не поехал? – ответила Матильда вопросом на вопрос.
– Почему после смерти Вильгельма ты меня избегала?
– А почему мы тратим время на вопросы?
На лице Арвида промелькнула грустная улыбка. Он открыл рот, но не для того, чтобы ответить. Он наклонился и поцеловал девушку. Медленно и нежно они коснулись друг друга губами, а потом языками.
Когда Матильда и Арвид, затаив дыхание, оторвались друг от друга, у обоих горели щеки.
– Почему… почему ты помогаешь Ричарду? – поинтересовалась девушка.
Арвид задумался.
– Новый аббат Жюмьежского монастыря собирался выдать меня Людовику, и я вспомнил, что могу спрятаться здесь. Но на самом деле причина в другом. Пока Вильгельм был жив, я не мог себе в этом признаться, но после его смерти я понял, что он был моим лучшим другом, моим братом с похожей судьбой. Он умер слишком рано, так и не успев окончательно примирить свои норманнские корни с христианской верой, но если его сын проживет долго, то, может быть, ему это удастся. А ты… почему ты ему помогаешь?
Матильда тоже ответила не сразу:
– Первые несколько лет после побега из монастыря Святого Амвросия я много времени проводила с Герлок и Спротой. Сначала я брала пример с Герлок и думала, что если довольно долго отрекаться от себя и забывать свое прошлое, то можно обрести счастье. Но потом я увидела, что таким образом Герлок не обрела счастье, а лишь потеряла улыбку. Я стала подражать Спроте, которая считала, что человека, изображающего равнодушие, невозможно обидеть, а тот, кто не любит, не страдает. Но сегодня ночью она призналась, что была неправа. И если нам удастся вернуть Ричарда целым и невредимым, это станет доказательством того, что любовь может не причинять боль, а придавать силы и изменять все к лучшему.
Чтобы объяснить, что она хочет доказать это не только Спроте, но также самой себе и Арвиду, одних слов было мало.
Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Потом Матильда поднялась на цыпочки и снова поцеловала Арвида, еще более страстно и требовательно, чем до этого. Она не оборвала поцелуй даже тогда, когда они мягко опустились на кровать.
Его прикосновения возбуждали ее так же сильно, как и в первый раз. Их тела и губы соединились. Вместе влюбленные научились взлетать и мягко приземляться, растворяться друг в друге и возрождаться снова. У них было мало времени, и каждый миг они тонули в сладком омуте своих горячих тел, а стонами и учащенным дыханием заглушали страх снова потерять то, чего так долго ждали и сейчас получили. Они разожгли огонь, который мог вечно освещать в их памяти каждое из этих мгновений.
Только когда все закончилось, Матильда заметила, что плачет, но это были не слезы отчаяния, а слезы надежды. Надежды для нее с Арвидом, для Спроты, для Ричарда. Надежды для всего народа Нормандии.
Во сне она видела себя молодой, а на самом деле была старой. Так, по крайней мере, все выглядело в последние годы. Теперь ее судьба изменилась. Ее сны казались старыми, ведь они являлись свидетельством того времени, которое больше не имело значения, – наяву же Авуаза вновь обрела молодость. Наконец у нее появилась надежда, наконец она сможет бороться не в одиночку. Деккура и Даниэля женщина вовсе не принимала во внимание, на Аскульфа могла положиться лишь иногда, а на жителей Котантена, поддержкой которых они пытались заручиться, никогда особо и не рассчитывала. Совершенно случайно она нашла новых союзников, а с ними можно достичь многого.
Авуазе были известны их имена – Седрик и Турмод, – но она не знала этих людей в лицо. Она поддерживала с ними связь через посланников, но сама их еще не видела. И тем не менее женщина чувствовала, что их объединяют общие цели. Авуаза знала, что Седрик и Турмод были язычниками с севера: их корабли-драконы недавно пристали к побережью Котантена. Эти люди были полны решимости завоевывать и порабощать, не подчиняясь ни христианскому Богу, ни норманнским графам, и жить здесь, придерживаясь обычаев своей родины.
– Я хочу с ними встретиться! – обратилась Авуаза к Аскульфу. – Пришло время строить совместные планы.
Аскульф промолчал, но брат Даниэль закричал с непривычным страхом в голосе:
– Ты ведь не знаешь, кто они на самом деле! Может быть, это всего лишь предводители разбойничих банд, которые хотят грабить, убивать монахов и насиловать девушек? Почему ты стремишься объединиться именно с ними?
– Потому что они настоящие мужчины!
– Ты хотела сказать «настоящие язычники»! Но разве то, что все норманны, не принявшие христианскую веру, терпят поражение на этой земле, не знак Всевышнего?
Авуаза зарычала, как дикий зверь. Как он смеет говорить о поражении, если дело ее возлюбленного рухнуло не из-за его трусости и лени, а просто потому, что он умер?
Да, при жизни он тоже не из всех битв выходил победителем, иногда вражеские войска оказывались сильнее и ему приходилось бежать. Он хотел завоевать не только Бретань, и это ему не удалось. Но у нее – у нее это должно получиться, она должна по крайней мере вернуть себе родину, а Турмод и Седрик обязаны ей в этом помочь!
– Закрой рот! – набросилась Авуаза на брата Даниэля и прошипела: – И почему только я тебя до сих пор не убила?
– Потому что я часто говорю тебе правду, – лукаво ответил он, – и потому что в твоем положении слишком сладкая ложь может оказаться смертельной. А что, если ты заблуждаешься? Что, если Седрик и Турмод хотят с тобой встретиться лишь затем, чтобы отобрать у тебя оружие и людей, а совсем не для того, чтобы стать твоими союзниками?
Авуаза подняла руку, хотя в глубине души ее мучили те же сомнения; она подняла руку, собираясь ударить Даниэля. Но не успела она коснуться его лица, как Аскульф оттащил ее в сторону. Может, это была его запоздалая месть за то, что она угрожала ему мечом, а может, он просто проявил таким образом свое нетерпение.
Женщина бросила на него удивленный взгляд.
– Сейчас не время терять самообладание. Ты держала себя в руках, когда мы были близки к поражению. Но скоро наступит наш день, и ты тем более должна сохранять спокойствие.
«Наш день, – эхом отдавалось у нее в голове. – Мой день. Его день».
Авуаза повернулась к брату Даниэлю, и теперь торжествующие нотки звучали уже в ее голосе.
– Турмод и Седрик пришли сюда не для того, чтобы грабить. В норманнских деревнях на побережье, на которые они совершили набеги, они не убивали людей, а заставляли их забыть христианскую веру. То же самое они хотят сделать во всей Нормандии. Может быть, им даже Ричарда удастся насильно обратить в веру предков, если он когда-нибудь вырвется из плена короля Людовика и вернется в Нормандию.
– А в чем твоя выгода? – спросил брат Даниэль. – Ричард-язычник не уступит тебе Бретань. Как, впрочем, и Турмод с Седриком.
Авуаза покачала головой:
– Без нас они не справятся. Они не знают местность, а я знаю. У них никого здесь нет, а у меня глубокие корни.
Женщина повернулась к Аскульфу:
– Ты должен найти Матильду. Сейчас это важнее, чем когда-либо.
– После смерти Мауры она не появлялась ни в Фекане, ни в Байе, – пробормотал он. – Наверное, она у Спроты.
– Тогда чего ты ждешь? Исполняй свой долг, а я исполню свой. Я встречусь с Седриком и Турмодом, посвящу их в свои планы и заключу с ними союз.
Аскульф сжал кулаки:
– В этот раз она от меня не уйдет.
В его глазах не было сомнения, только упрямство, и это радовало. Во взгляде брата Даниэля, напротив, по-прежнему читалось недоверие, поэтому Авуаза ушла, не удостоив монаха ни единым словом.
Тем не менее вскоре она встретила человека, омрачившего ее радость. Эрин, которая в последние годы все больше замыкалась в себе, почти не разговаривала с ней и больше всего хотела где-нибудь спрятаться, вдруг подошла к ней.
– Я слышала, что Маура, дочь Кадхи, мертва, – печально сказала она.
Авуаза в ярости кивнула:
– И она это заслужила! Только не говори, что тебе ее жаль.
Эрин отпрянула. В отличие от брата Даниэля, Аскульфа и Деккура, иногда она испытывала страх перед Авуазой. И не скрывала этого. Но, в отличие от брата Даниэля, Аскульфа и Деккура, Эрин могла спорить с Авуазой даже во вред себе.
– Да, мне ее жаль, – решительно заявила она. – Мне всех жаль. Мауру, ее мать…
– Эту предательницу!
– И Матильду мне тоже жаль, – невозмутимо продолжала Эрин, – и тебя, и даже…
– Не смей произносить это имя!
– Ах, Авуаза, – вздохнула Эрин.
Она поняла, что говорить дальше не имеет смысла, и на ее лице застыло выражение бесконечной грусти.
«Я не хочу быть такой, – вдруг подумала Авуаза. – Пусть я буду свирепой, бессильной, растерянной, иногда отчаявшейся, но только не… грустной. Я слишком много грустила раньше».
– Я не могу отступить, – пробормотала она. – Просто не могу.
– Знаю, – произнесла Эрин и погрустнела еще больше.
Глава 7
Стоя на вершине холма, они окидывали взглядом Лан. Днем пригревало солнце, а теперь пронзительный холодный ветер гнал по небу облака. Он ломал слабые лозы в виноградниках, расположенных на холме, и стебли на коричневых лугах, где совсем недавно сошел снег. Крестьяне неустанно трудились в поле, не обращая внимания на небольшую группу путников. Здесь, возле главной дороги, соединяющей Санлис с Кельном, они привыкли встречать незнакомцев и не удивлялись, когда те почтительно замирали, впервые увидев город, который высокие стены превращали в неприступную крепость.
На некоторое время вниманием Матильды завладела эта римская крепостная стена. Потом девушка перевела взгляд на юг и посмотрела на монастырь Девы Марии. Матильда невольно прочитала короткую молитву. В этом монастыре, несомненно, чаще молились за Людовика, чем за маленького Ричарда, но все же было приятно осознавать, что рядом есть люди, далекие от государственных интриг, ведь в поклонении небесному, единственному истинному царю познается ничтожность судеб земных правителей.
Похожее чувство Матильда испытала, когда проезжала Реймс и видела церковь, где короновались франкские монархи. Этот город называли оплотом Франции, caput Franciae. Конечно, таких людей, как Матильда, там ненавидели, а таких, как Людовик и его жена Герберга, напротив, любили, но все же именно здесь постоянно укреплялась вера в то, что все короли подчиняются Господу. В отличие от преходящей власти людей, которую они по своему легкомыслию могут использовать во вред и потерять, Его власть вечна.
Матильда думала не только о молитвах, которые произносили монахини там, в долине, но и о тех, которые, возможно, именно сейчас обращала к небу Спрота. Она никогда не была набожной, но страх за сына полностью ее изменил. Когда Матильда покидала Питр, Спрота впервые в жизни ласково ее обняла.
– Если бы я могла поехать вместо тебя! – воскликнула она. – Как бы я хотела освободить своего сына и поставить на место проклятого короля и его жену!
Матильда высвободилась из ее объятий и указала на округлившийся живот Спроты:
– Это невозможно, а значит, за тебя это сделаю я.
Девушка села на лошадь. Она чувствовала на себе обжигающий взгляд Спроты, даже когда дом Эсперленка остался далеко позади.
Поездка в Лан прошла почти в полном молчании. Бернард и Бото вернулись в Руан, чтобы Людовик не усомнился в их преданности. Герцог Алансона, который усердно трудился над созданием плана, тоже вернулся в свой замок, чтобы в случае неудачи не попасть под подозрение. Осмонд поехал вперед, чтобы подготовить Ричарда, поэтому Матильда отправилась в долгий путь в сопровождении Арвида и двоих норманнских воинов. Путники ночевали на постоялых дворах или под открытым небом и теперь приближались к городским воротам Лана.
Какой бы широкой ни казалась улица, она была так запружена повозками и заполнена людьми, что проехать по ней верхом на лошади не представлялось возможным. Помогая Матильде спешиться, Арвид держал ее руку чуть дольше, чем нужно. Такими маленькими, неприметными жестами он проявлял свою симпатию, хотя после той ночи они больше не оставались наедине и сейчас было неподходящее время для признаний в любви.
– Ты все еще можешь вернуться, – прошептал Арвид, отпустив ее руку. – Ты не обязана это делать.
– Нет, обязана, – возразила Матильда. – Тогда, в Фекане, Спрота меня приютила. Я никогда не выражала ей особой благодарности и в том, что жила неправильно, винила не в последнюю очередь ее. И тем не менее она всегда мне помогала.
Арвид опустил глаза.
– Я боюсь за тебя, – впервые признался он.
Матильда вздохнула. Она знала, что не сможет рассеять этот страх, но все же попыталась побороть его своей решительностью.
– Все будет хорошо, – сказала она.
Хотя судьба Ричарда не имела отношения к ее собственной, девушка видела в ней пророчество для себя. Матильда была уверена: если им удастся привезти мальчика в Руан целым и невредимым, она наконец станет счастливой и больше не будет отказываться от будущего только потому, что не знает своего прошлого.
Она решительно кивнула и вместе с Арвидом вошла в ворота.
Матильда надвинула капюшон пониже и опустила глаза. Она молчала. В своей одежде, не очень дорогой, но сшитой из плотной, целой и чистой льняной ткани, Матильда выглядела как женщина, занимающая определенное положение в обществе. Арвид облачился в рясу. На самом деле он уже давно ее не носил, но для их плана ему обязательно нужно было притвориться священником.
– Как странно, – заметил он, – я всю жизнь хотел служить Господу. И именно сейчас, когда я распрощался с этим желанием, мне приходится изображать человека Божьего.
Хоть он и выглядел как священник, поначалу их обоих встретили с недоверием. У ворот королевского замка стояло много стражников, которые отказались их пропускать, даже когда Арвид заявил, что прибыл из Нормандии, чтобы по поручению Бернарда Датчанина проведать молодого графа, и к тому же предъявил письменное подтверждение того, что раньше был учителем Ричарда.
У Матильды опустились руки, но все же она не собиралась сдаваться так быстро. Пока Арвид подбирал слова, она подняла глаза, откинула капюшон и с мольбой взглянула на стражников:
– Сжальтесь надо мной! Я бывшая кормилица Ричарда, меня прислала сюда его мать. Мы слышали, что он тяжело болен. Прошу вас, позвольте нам увидеться с ним, чтобы на родине мы смогли рассказать о его скором выздоровлении.
Договорив до конца, Матильда затаила дыхание. Мужчины внимательно на нее смотрели. Может быть, они удивлялись тому, что ничего не знают о болезни Ричарда? Или же подозревали, что она слишком молода для того, чтобы быть его кормилицей? Но все-таки Матильде уже исполнилось двадцать пять лет, и выглядела она не моложе своего возраста. Хотя ее рыжевато-каштановые волосы еще были густыми и у нее еще не выпал ни один зуб, маленькие морщинки вокруг глаз и рта свидетельствовали о перенесенных испытаниях и смертельном страхе.
Наконец один из мужчин принял решение:
– Короля сейчас нет в городе, но мы можем сообщить о вашей просьбе королеве.
Матильде и Арвиду пришлось провести у ворот долгие изнурительные часы. Они не смотрели друг на друга и избегали назойливых недоверчивых взглядов стражников. Когда стемнело, мужчина, говоривший с Матильдой, вернулся и жестами пригласил их следовать за ним.
Матильда снова набросила капюшон на голову и шла, не отрывая взгляда от земли. Она почти не видела двора и хозяйственных построек, расположенных по обе стороны от нее, и только в большом зале поняла, что совершила ошибку, не осмотревшись как следует. Если их план провалится, ей придется ориентироваться здесь одной. Но осознала это Матильда слишком поздно.
В зале было жарко и душно, пахло мясом и жиром. Перед королевой стояла полная тарелка. Герберга ничего не ела, а только с отвращением смотрела на нее. Хотя эта женщина недавно родила ребенка, она была чрезвычайно худой, и ее острый подбородок это подчеркивал. И тем не менее она не казалась беспомощной или хрупкой: когда Герберга подняла глаза от тарелки и стала рассматривать вошедших, ее взгляд напоминал взгляд хищной птицы.
Матильда не знала, что делать: начинать разговор или ждать, когда Герберга к ней обратится. По-видимому, у Арвида возникли такие же сомнения, потому что мгновения одно за другим проходили в напряженном молчании.
– Священник и кормилица, – наконец произнесла Герберга. По ее хриплому голосу было неясно, сказала она это дружелюбно или с презрением.
Матильда попыталась вспомнить все, что знала об этой женщине. Герберга была не только супругой монарха, но и дочерью монарха – короля восточных франков Генриха, – а теперь, после его смерти, еще и сестрой монарха – короля Германии Оттона, которого называли Великим. В отличие от других женщин ее круга, ставших игрушками в руках отцов, братьев и мужей, Герберга, по слухам, обладала трезвым рассудком и тщеславием, необходимым для того, чтобы самостоятельно принимать решения и не предоставлять управление делами мужчинам. Следовательно, от нее исходила едва ли не бо́льшая опасность благополучию и жизни Ричарда, чем от Людовика.
– Мы слышали, что молодой граф болен, – нарушил молчание Арвид. – И хотели бы своими глазами увидеть, что он хорошо себя чувствует.
– Неужели вы сомневаетесь в том, что король пригласил для своего воспитанника лучших врачей?
Голос, который только что был очень хриплым, прозвучал пронзительно и резко, но Матильда ни на миг не поверила в искренность этого возмущения. Такого человека, как Герберга, болезнь Ричарда могла только обрадовать.
– Ни в коем случае! – воскликнул Арвид. – Но все же не от врачей, а лишь от воли Божьей зависит, выздоровеет мальчик или нет. Если да, то на его родину мы принесем хорошие новости; если же нет, то помолимся за его несчастную душу.
После этих слов Герберга с притворным пониманием кивнула, но от Матильды не ускользнул торжествующий блеск в ее глазах.
– Врачи прописали ему строгую диету, но пока она не приносит пользы. Ричард очень исхудал, и я думаю, что не стоит беспокоить его в таком состоянии. Король лично приказал никого к нему не пускать.
– Но это не касается тех, кто пришел по поручению его матери, – вставила Матильда. – Вы ведь тоже мать. Вы знаете, как разрывается женское сердце от беспокойства за детей. Не прогоняйте нас, позвольте нам внести в жизнь Спроты немного… ясности!
Герберга стала сверлить Матильду взглядом, и девушку охватил страх. Заметит ли королева то, на что не обратили внимания стражники, – что она чересчур молода для того, чтобы быть бывшей кормилицей Ричарда? Но факелы из березовой коры наполняли зал слишком тусклым светом. На лице Герберги танцевали тени, как, наверное, и на ее собственном лице.
Внезапно пронизывающий взгляд Герберги поник. Может быть, ее и не переполняла материнская любовь, но ее попытки укрепить власть мужа определенно были вызваны желанием обеспечить своим сыновьям великое будущее и страхом потерпеть в этом неудачу. Этот страх сопровождал ее всю жизнь, и не в последнюю очередь во время таких одиноких ужинов, как этот. Женщина отодвинула полную тарелку и поднялась. Наконец она кивнула:
– Можете увидеться с Ричардом, если так этого хотите. Но имейте в виду: если вы задумали что-то еще, кроме посещения больного, не думайте, что я помилую вас только потому, что вы женщина и священник.
Арвид и Матильда приготовились увидеть Ричарда бледным и исхудавшим, но то, что у него болит живот, стало для них неожиданностью. Когда они вошли в покои, мальчик метался на постели, стонал и закатывал глаза. Ставни были закрыты, в плотном воздухе висел кисловатый запах. Недалеко от кровати стояли две кружки с раствором уксуса, но никто не спешил смачивать им льняные полотенца и делать Ричарду холодные компрессы.
Осмонд де Сентвиль беспомощно застыл у постели мальчика. Он лишь мельком взглянул на Арвида с Матильдой и притворился, будто не знает их, хотя был знаком с ними не первый год. Они тоже не сказали ему ни слова, по крайней мере в присутствии слуги, отвечавшего за убранство и чистоту покоев королевского замка.
Матильду бросило в пот: Ричард не получал должного ухода, зато дров для него не жалели. Рядом с каменным камином и тонким листом железа, защищающим деревянный пол от искр, лежала большая куча поленьев, и Осмонд то и дело подкладывал их в огонь.
Вскоре Матильде захотелось сделать глоток свежего воздуха, но она не подала виду, а быстро подошла к мальчику, положила руку на его вспотевшее лицо и утешительно провела по нему ладонью. Он не оттолкнул ее, но стонать не перестал, и Арвид, который все еще стоял поодаль, начал бормотать молитвы.
Осмонд по-прежнему не обращал внимания на Матильду и Арвида. В ярости он набросился на слугу:
– Почему до сих пор не пришел врач? Лан считается городом ученых, но все лекари, которые до сегодняшнего дня осматривали молодого графа, были шарлатанами!
Слуга помрачнел и заметно разозлился, поскольку в его обязанности не входило следить за лечением мальчика и поскольку ему не нравилось, что Осмонд бранит придворных врачей. Вместо того чтобы ответить на упрек, он просто развернулся и молча вышел из комнаты.
Как только за ним закрылась дверь, все изменилось: Арвид перестал молиться, обеспокоенное лицо Матильды вмиг просияло торжествующей улыбкой, а Осмонд довольно кивнул, радуясь тому, что они сумели совершить задуманное.
– Вас все-таки впустили к Ричарду! – воскликнул он.
– Видимо, в груди Герберги тоже бьется материнское сердце, – сказала Матильда.
– Ничего подобного! – прошипел Осмонд, которому, как всегда, с трудом удавалось держать себя в руках.
Безусловно преданный Вильгельму, он так же относился и к его сыну, а всякого, кто угрожал Ричарду, считал своим смертельным врагом. В мире Осмонда не существовало серого цвета – только черный и белый.
– Если бы мы действительно нуждались в услугах врача, наше положение было бы безнадежным. Я не преувеличивал, когда говорил о шарлатанах. Возможно, здешние врачи что-то и понимают в медицине, но они не сделали ничего, чтобы спасти Ричарда. Наоборот, если бы они не были уверены в том, что он умрет и без их помощи, то вместо лекарства напоили бы его ядом.
Ричард приподнялся на постели. Он уже не стонал и не закатывал глаза. Все это время он только изображал страдания, и делал это, по мнению Матильды, очень правдоподобно. Если бы она не знала, в чем дело, то, увидев его, умерла бы от волнения. Во всяком случае, пот на его лице был настоящим, что было неудивительно при такой жаре.
– Матильда! – радостно воскликнул мальчик.
Его голос был хрипловатым, а не по-детски звонким и тонким, как раньше. Ричард заметно повзрослел. Он выглядел изможденным от длительного пребывания в плену и в последнее время, наверное, почти ничего не ел, стремясь похудеть. У него были впалые щеки, но в карих глазах блестели искорки.
– К счастью, никто не усомнился в том, что Ричард серьезно болен, – радовался Осмонд.
– Видимо, все они так сильно надеются на его кончину, – предположил Арвид, – что с ликованием принимают даже малейшие признаки этого, вместо того чтобы трезво оценить ситуацию.
– Моя мать просила что-нибудь мне передать? – взволнованно сказал Ричард.
Уже много лет он не говорил о Спроте, но сейчас, радуясь успеху их плана, не мог относиться к матери с привычным равнодушием, хоть она и была всего лишь конкубиной его отца.
– В своих мыслях и молитвах она всегда рядом с тобой, – заверила мальчика Матильда.
Девушка не помнила, прикасалась ли вообще когда-то к Ричарду, но сейчас, сидя на его кровати, обняла его совершенно непринужденно и без всякого стеснения. Матильде казалось, что после той ночи с Арвидом она стала другой – более нежной, ласковой, заботливой.
– У нас нет времени на то, чтобы радоваться встрече, – вмешался Осмонд. – Завтра вечером все решится: либо нам удастся сбежать, либо все наши надежды рухнут.
– Король будет во дворце? – спросил Арвид.
Осмонд кивнул:
– Сегодня он уехал на охоту, но скоро вернется, и тогда вместе соберется вся королевская семья: Людовик, Герберга и их трое детей. К счастью, они не станут нам мешать: они боятся подходить к больному, чтобы не отравиться его ядовитым дыханием.
– А двое мужчин в коридоре – кто они?
– Росцелин и Жерар. Воины, охраняющие Ричарда, – ответил Осмонд. – Росцелин – это тот рыжебородый, от чьего смеха сотрясаются стены, а Жерар – невысокий мужчина с соколиным взглядом, от которого ничего не ускользает. Он выглядит не таким сильным, как его товарищ, однако он намного опаснее. До недавнего времени Жерар был всего лишь конюхом, но теперь ему поручили куда более ответственное задание, и он, несомненно, приложит все усилия, чтобы его выполнить. – Осмонд повернулся к Матильде. – Думаешь, тебе удастся отвлечь их внимание?
Не только он смотрел на нее с сомнением, но и Арвид. В его взгляде читалась тревога, и девушка знала, что он хочет сказать: они добились многого, но все еще не достигли цели.
Сжав руку Ричарда, она пообещала:
– Я сделаю все, что в моих силах.
Матильда долго наблюдала за воинами, не решаясь сделать над собой усилие и подойти к ним. До сих пор она думала, что легко выполнит свою задачу, ведь она слишком часто испытывала страх смерти, чтобы теперь бояться незнакомых людей. Но даже если бы девушка не испытывала страха, преодолеть смущение перед мужчинами после стольких лет, проведенных в монастыре, было непросто.
Когда один из них взглянул на Матильду, она быстро опустила глаза. Девушка разозлилась на себя за это, однако в следующее мгновение поняла, что такое поведение очень понравилось обоим воинам.
Раздался смех, но не оскорбительный, а добродушный.
– Эй, девушка! – крикнул один из них. – Ты ведь из Нормандии, правда? Не желаешь ли присоединиться к нам?
Матильда нерешительно подошла и заметила на столе перед мужчинами две кружки, наполненные до краев. По ее телу скользили взгляды: один похотливый, другой оценивающий, и она ощущала их так же отчетливо, как будто это были прикосновения рук.
В отличие от своего товарища, простодушного Росцелина, Жерар не засмеялся.
– Говорят, что ты была кормилицей молодого графа, – недоверчиво сказал он, – но ты не похожа на кормилицу.
Матильда подняла голову и посмотрела ему в глаза:
– И как же, по-твоему, должны выглядеть кормилицы?
Жерар промолчал, а Росцелин широко улыбнулся, поднял руку и указал на ее грудь, которая, вопреки его ожиданиям, была не пышной, а маленькой.
– Я не кормлю Ричарда уже много лет… – пробормотала девушка.
Этот ответ не произвел на них впечатления. Не важно, большая грудь или маленькая, – глядя на женщину, такие мужчины не хотят думать о том, скольких детей она вскормила. Матильда поспешила исправить свой промах и быстро сбросила накидку. Пусть она не могла похвастаться большой грудью, но теперь у нее были открыты плечи. Сегодня Матильда облачилась в платье, похожее на те, которые раньше любила носить Герлок, а волосы расчесала до блеска, заплела в тоненькие косички и перевязала ярко-красными лентами.
Казалось, мужчинам нравилось то, что они видят, потому что глаза у них сверкали.
– Может, сыграешь с нами партию? – предложил недоверчивый Жерар, и только теперь девушка заметила, что на столе были не только кружки с медовым вином, но и игральные кости из китового уса.
Она понятия не имела, что нужно с ними делать, ведь знала всего одну настольную игру – хнефатафл, в которую иногда играла с Герлок и Спротой, и в ней фигуры были изготовлены из янтаря, стекла и рогов животных. Тем не менее Матильда с притворным воодушевлением кивнула.
– Если вы не боитесь проиграть! – самоуверенно воскликнула она и громко рассмеялась.
Чуть позже Матильда уже сидела рядом с мужчинами, пробовала медовое вино, пыталась понять правила игры – и призывала себя к терпению. Как бы она ни хотела, чтобы все это быстрее закончилось, нужно было дождаться, когда на королевский замок опустится ночь и все лягут спать. К тому же нельзя было торопиться с вопросами, хоть мужчины и успели уже назвать ей свои имена.
И лишь после того, как кружки с медовым вином наполовину опустели, а лица воинов раскраснелись, Матильда, проигравшая две партии и выигравшая столько же, решилась спросить о Людовике.
– Король куда-то уехал? – будто невзначай поинтересовалась она. – Когда я была у Ричарда, я слышала, что он уже давно не навещал мальчика.
– О, этого он не делал уже целую вечность! – заявил Росцелин. – Хотя его величество уже вернулся с охоты, к молодому графу он еще не заходил. Здесь очень скучно, и нам редко кто-нибудь составляет компанию, тем более такая женщина, как ты.
Он бросил на Матильду нескромный взгляд.
– Превосходная женщина! – вторил ему Жерар. Его считали более тщеславным и осторожным, но медовое вино и красота Матильды сделали свое дело. – Говорят, что норманнские женщины очень сильные. Это правда?
Когда он внезапно придвинулся ближе, девушка отстранилась, но все же заставила себя игриво улыбнуться:
– О да, мы сильные. Но прежде всего мы ловкие. Я могла бы доказать вам это в другой игре, потому что эта мне уже немного надоела. Как насчет того, чтобы пометать кости? Думаю, вам не удастся меня победить.
Метание костей было детской забавой, но Жерар и Росцелин с воодушевлением приняли предложение.
– Я бы тоже с удовольствием продемонстрировал тебе ловкость своих рук! – воскликнул Росцелин.
– Да ну? У тебя же лапы, а не руки! – съязвил Жерар. – А вот я всегда бросаю кости прямо в цель, потому что у меня есть необходимое чутье.
Его руки тоже были похожи на лапы, но Матильда лишь улыбнулась еще шире и восторженно попросила:
– Что же, тогда несите кости!
Росцелин услужливо поднялся, но Жерар не сдвинулся с места. Казалось, что его чрезвычайно привлекала возможность остаться с Матильдой наедине. Этого девушка допустить не могла. Она наклонилась к нему:
– К сожалению, кости не могут утолить голод, а играя с вами, я проголодалась. Ты не мог бы принести нам поесть?
Жерар нахмурился.
– Прошу тебя! – с мольбой воскликнула Матильда, не давая ему возможности отказаться. – Иначе мне придется самой выпрашивать в кухне кусочек хлеба.
К ее облегчению, он все-таки поднялся и вслед за Росцелином пошел вниз по лестнице. Наконец-то она осталась одна возле наполовину наполненных кружек!
Девушка долго ждала этого момента, но не решалась перейти к делу. Какими бы навязчивыми ни были слова и взгляды этих мужчин, все же они не переходили границ вежливости – наоборот, они оказались добродушными людьми и не заслуживали того, чтобы им причиняли вред. Если Матильде удастся осуществить свой план, их обоих наверняка казнят. Конечно, приговор зачитает король, а исполнять его будут воины, но именно она посылает этих мужчин на смерть, и, представив себе их невинные лица, девушка почувствовала, что не может так поступить. Но потом Матильда подумала о Ричарде, о Спроте, об Осмонде, об Арвиде и собралась с духом. Слишком много людей рассчитывало на нее и на то, что она преодолеет угрызения совести и сделает зло во имя добра.
Матильда открыла привязанный к поясу кожаный мешочек и высыпала часть его содержимого в кружки с медовым вином. В монастыре Святой Радегунды она многое узнала о травах, в том числе и то, что некоторые из них, а именно белена, дурман и мак, вызывают сонливость.
Едва Матильда спрятала мешочек, как воины вернулись обратно. Собственно говоря, девушка была не голодна, но обрадовалась тому, что может смотреть на еду, а не им в глаза, и набросилась на холодные гусиные окорочка и хлеб.
Даже вдоволь насытившись, Матильда делала вид, будто все еще хочет есть. Мужчины много пили и вскоре стали тереть глаза. Тем не менее они долго не поддавались усталости, и девушка испугалась, что взяла слишком мало трав. Но когда Матильда поднялась, громко спросила, кто хочет первым доказать свою ловкость, и, не став дожидаться ответа, бросила кости, то, кроме стука, услышала громкий храп. Она обернулась: Росцелин положил голову на стол, а Жерар – на плечо товарища. Оба погрузились в крепкий, глубокий сон.
Матильда вновь почувствовала угрызения совести, но быстро взяла себя в руки. Она надела накидку и бросилась в покои, где ее уже с нетерпением ждали Ричард и Осмонд.
– Они спят! Они спят крепким сном! Где Арвид?
– Он только что приходил и сказал, что в коридорах все тихо.
Пока Матильда выполняла свою часть плана – опоить стражников, Арвид, низко надвинув на лицо капюшон, следил за тем, чтобы они никого не встретили, выходя из замка. Даже если бы кто-то его увидел, монах, который по ночам не спит, а молится, ни у кого не вызвал бы подозрений.
Матильда пожалела, что Арвида не оказалось рядом и он не мог подбодрить ее кивком головы, но ждать его возвращения было некогда.
– Начинаем! – скомандовал Осмонд и принес из угла комнаты охапку соломы.
Эту часть плана предложили Матильда и Арвид, которые однажды во время нападения на монастырь спрятались под соломой, и это спасло им жизнь. Подобным образом можно было спрятать и мальчика.
Когда Осмонд стал окутывать Ричарда соломой, тот попытался улыбнуться, как будто это было игрой, хотя на самом деле все понимали, что рискуют жизнью.
«Надеюсь, ему хватит воздуха», – подумала Матильда.
После того как Осмонд поднял охапку, девушка обошла кругом и убедилась в том, что молодого графа не видно. Потом она последовала за воином в коридор и во двор. Если они все же кого-то встретят, возможно, она сумеет его отвлечь.
Матильда искала глазами Арвида, но его нигде не было. После долгих часов, проведенных в душных комнатах, холодный ночной воздух взбодрил ее, но потом у нее перехватило дух от неожиданности: из темноты послышался чей-то низкий голос.
– Эй! Стойте!
Матильда не видела, кто к ним приближается, но, судя по голосу, это был очень крепкий и очень сердитый мужчина.
– Куда ты несешь солому? – крикнул он.
Матильда понятия не имела, как можно отвлечь этого человека, но Осмонд не растерялся.
– На ней спал маленький Ричард. Он очень болен и сильно потеет, поэтому я хочу ее поменять.
Матильда услышала, что мужчина плюнул на землю.
– Тогда иди прочь! Зараза норманнов мне не нужна!
Осмонд молча продолжил путь и вместе с охапкой соломы растворился во тьме. Матильда не сдвинулась с места. Сердце по-прежнему бешено стучало у нее в груди, и девушке не сразу удалось убедить себя в том, что пока все идет по плану.
Осмонд вынесет Ричарда из города в охапке соломы, найдет в условленном месте лошадь и увезет мальчика в замок Куси. Местный граф, которого возмутило убийство Вильгельма и пленение Ричарда, предложил им свою помощь, а высокие и толстые стены его замка в случае необходимости могли выдержать многомесячную осаду. Разумеется, Ричард не мог оставаться в замке Куси вечно, поэтому, немного отдохнув и убедившись, что их не преследуют, Осмонд увезет мальчика в Санлис. Там живет еще более могущественный граф, который тоже встал на их сторону.
Матильда поспешила обратно, чтобы выполнить свою последнюю задачу на сегодня. Возвращаясь в покои Ричарда, она прошла мимо Росцелина и Жерара, которые все еще крепко спали. При свете дня они выглядели сильными и грубыми – во сне же в них было что-то по-детски невинное, и это растрогало и взволновало Матильду. «Почему, – сокрушалась она, – в этом жестоком мире так часто приходится убивать, чтобы сохранить жизнь?»
Добравшись до покоев Ричарда, она положила одеяло так, чтобы казалось, будто под ним лежит ребенок. Если на следующее утро в комнату войдет слуга или врач, он подумает, что мальчик еще спит.
Как можно тише девушка вышла в коридор. Даже если Росцелин и Жерар не слышали, как она осторожно закрыла за собой дверь, это услышал кто-то другой. Обернувшись, Матильда увидела перед собой чью-то фигуру.
Арвид заметил, как она сначала застыла в оцепенении, а узнав его, облегченно вздохнула.
– Все прошло хорошо! Они спят! – взволнованно прошептала Матильда. – Я видела, как Осмонд и Ричард покинули замок.
Арвид быстро закрыл ей рот рукой. Ее губы были очень мягкими и вызывали непреодолимое желание поцеловать их. В то время как одна половина его души изнывала от страха и тревоги, другая наслаждалась этим приключением и считала его таким захватывающим – не в последнюю очередь из-за постоянной опасности. Арвид впервые испытывал восторг от того, что шел по краю пропасти, которая была не просто темной и глубокой, но и, казалось, бросала ему вызов. Возможно, этот восторг свидетельствовал о его легкомыслии, а может, достался ему в наследство от безумного отца, но, как бы там ни было, Арвид давно не чувствовал себя таким бодрым и таким живым, как в эти дни.
Он быстро наклонился и поцеловал Матильду. Она ответила на поцелуй, но потом отстранилась:
– Не сейчас, у нас нет времени.
– Но ведь во дворе… все прошло хорошо?
– Осмонда никто не остановил.
– Слава богу!
– Теперь нам нужно спешить.
Арвиду очень не хотелось оставлять ее одну, однако, согласно их плану, на этом месте лучше было разделиться и поодиночке незаметно покинуть королевский дворец.
– Иди первый, – решила Матильда, – а я прослежу за тем, чтобы эти двое и дальше спали беспробудным сном.
Внутри Арвида все противилось ее намерению. Конечно, Матильда была права: если воины проснутся, то не он, священник, а именно она сможет снова опоить их медовым вином. Но вдруг кто-нибудь увидит ее во дворе ночью?
– Прошу тебя! – настаивала девушка, угадав его сомнения. – Мы уже говорили об этом и вместе пришли к выводу, что так будет лучше.
Матильда сжала руку Арвида и потом отпустила ее. Его недовольство возрастало, но ему не оставалось ничего иного, кроме как уйти и оставить ее одну. В конце коридора он обернулся, и Матильда помахала ему рукой, покраснев от волнения.
– Не бойся! Уже завтра утром мы увидимся снова! – с надеждой прошептала девушка.
Арвид почувствовал комок в горле. Он безуспешно пытался найти подходящие слова, чтобы сказать, что тоже надеется на это.
Потом он в последний раз улыбнулся, кивнул Матильде и быстро накинул на голову капюшон.
В который раз Матильда пожалела, что во время приезда не рассмотрела королевский замок получше. При свете дня она могла бы определить самый легкий и быстрый способ сбежать отсюда, но сейчас, в кромешной тьме, все здания – амбар, кладовая, сараи и конюшни – выглядели одинаково. В коридорах, соединяющих эти постройки, либо клубился дым, либо гулял ветер, а те немногие люди, которых девушка увидела, спали так же крепко, как и Жерар с Росцелином. Но удача могла оставить Матильду в любой момент. Она должна наконец найти пекарню!
Именно там, как удалось узнать Эсперленку перед их отъездом в Лан, находится потайной выход. Им пользовались мельники, которые приносили из близлежащих мельниц свежую муку. Матильда должна была покинуть замок через этот выход и на улице встретиться с Арвидом.
По запаху, ударившему ей в нос, девушка поняла, что поблизости находятся не помещения со свежеиспеченным хлебом и зерном, а уборные. Она услышала стоны: видимо, у кого-то болел живот. Матильда быстро пошла дальше. Что это там, неужели костер? И вокруг него сидят воины? Было легко покинуть здание замка, но во дворе Матильда постоянно сталкивалась с новыми препятствиями.
Да, чуть поодаль действительно собрались мужчины, но, к счастью, они были полностью сосредоточены на кружках с вином и не обратили на нее внимания. Хотя на глинистой почве Матильда двигалась бесшумно, она вплотную приблизилась к стене и дальше пошла на цыпочках. Запах уборных сменился запахом земли. Помимо сопения, ржания и стука копыт, девушка вдруг услышала голос конюха:
– Кто здесь?
Мгновение назад ей еще было холодно, – теперь же на ее теле выступил пот. Матильда быстро присела и еще сильнее прижалась к стене, чувствуя, как ее лицо и руки, прикасаясь к камням, покрываются царапинами. Шаги приблизились, а вместе с ними и свет, но на нее он не упал, и в конце концов шаги снова удалились.
Матильда тихо вздохнула и посмотрела на распростершийся над миром небесный свод. Он больше не был черным, на нем уже проступала предрассветная серость. Хотя теперь девушке было легче сориентироваться, она вспомнила о том, как безжалостно быстро летит время, – время, которое Арвид проводит в ожидании и тревоге.
При мысли о нем Матильда воспрянула духом. Девушка отошла от стены и продолжила путь. Где-то рядом должны быть купальни, часовня и, наконец, пекарня!
В какой-то момент Матильда все-таки почувствовала запах хлеба. Первая дверь, которую она увидела, оказалась не заперта, но за ней находилась не пекарня с печами и большими кадками, в которых месили тесто, а всего лишь кладовая. Услышав шорох, Матильда вздрогнула, а чуть позже под ее ногами что-то прошмыгнуло: то ли мышь, которая лакомилась здесь зерном, то ли кошка, которая пыталась ее поймать.
Сердце бешено стучало у девушки в груди, но глаза постепенно привыкли к полумраку. В другом конце комнаты находилась вторая дверь, и она тоже была не заперта. За ней Матильда обнаружила не кладовую, не коридор и не стену, а открытое пространство.
Неужели случай подсказал ей дорогу из Лана?
Девушка сдержала ликующий возглас и бросилась бежать – уже не по глине, а по невысокой траве. Вдали она увидела мужчину в темной одежде, такой, как у Арвида. Матильда сдержалась и не выкрикнула его имя, но остановиться не смогла – она бежала, она мчалась, чтобы наконец воссоединиться с ним.
Скоро это случится, скоро они уедут отсюда, скоро они окажутся в безопасности. А после этого «скоро» начнется их совместное будущее.
Темная фигура заметила девушку и двинулась ей навстречу. Ее шаги, по сравнению с быстрыми и пружинящими шагами Матильды, были скорее размеренными. Фигура у незнакомца была крепкой, гораздо более крепкой, чем у Арвида, и, в отличие от Арвида, на поясе у него висел меч.
Поворачивать назад было поздно: к темной фигуре присоединились другие и окружили Матильду со всех сторон. Теперь с губ девушки все же сорвался крик, пусть даже это было не имя Арвида. Чтобы заглушить звук, чья-то рука в тот же миг закрыла Матильде рот, а потом засунула в него кусок плотной ткани. Матильда думала, что сейчас задохнется, но все же она получала достаточно воздуха, чтобы дышать. Она увидела, как незнакомец снимает капюшон.
Это был Аскульф.
Измученная лошадь заржала, изо рта у нее пошла пена, но Арвид не чувствовал жалости к животному. Он то и дело бил его пятками по бокам, чтобы в который раз объехать кругом Лана. Каждый день он выбирал один и тот же путь, надеясь, что Матильда все же объявится, но время шло, усталость возрастала, лошадь все больше упрямилась, а никаких следов ему обнаружить не удалось.
Когда позади раздался стук копыт, мужчина вздрогнул. Это конец? В нем узнали человека, который помог Ричарду бежать? Но, оглянувшись, Арвид увидел, что к нему приближаются не франкские воины, а Осмонд.
– Почему ты все еще здесь? – негодовал он.
Арвид мог спросить у него то же самое. Возвращение Осмонда было невероятно опасным шагом, ведь в Лане его лицо знали слишком хорошо.
– Я не могу уехать без нее, – коротко ответил Арвид.
– Но здесь ты рискуешь жизнью!
– Пусть так.
Осмонд угрюмо покачал головой:
– Ты больше ничего не можешь для нее сделать.
Вслух он этого не сказал, но думал, вероятно, о том же, что так часто проносилось в голове у Арвида, когда ему не удавалось вовремя отогнать от себя тревожные мысли: Матильду поймали при побеге, скорее всего, допрашивали, в худшем случае подвергли пыткам и в конце концов убили. Кто, если не он, мог знать лучше, как мало значит для Людовика человеческая жизнь, тем более жизнь женщины из Нормандии.
– По крайней мере Ричард в безопасности, – пробормотал Осмонд и рассказал Арвиду о событиях последних недель. – Я сам ездил в Париж к Гуго Великому, и он поклялся на Библии, что вступится за права Ричарда. Конечно, доверять Гуго нельзя. Его забота о законном наследнике нашей страны весьма запоздала, и на самом деле он просто хочет насолить Людовику. Как бы там ни было, благодаря покровительству Гуго я смог перевезти Ричарда из Куси в Санлис. – Осмонд замолчал, заметив, что Арвид рассеянно смотрит вдаль. – Тебе нельзя здесь оставаться! – решительно крикнул он.
Арвид вздохнул:
– Я поговорил с одной прачкой из королевского замка. Хотя побег Ричарда обсуждают все, о женщине, которая помогла ему бежать, ей ничего не известно, а имени Матильда она и вовсе никогда не слышала. Если бы Матильда была там, о ней шептались бы на каждом углу!
Осмонд пожал плечами:
– Может быть, она давно вернулась к Спроте.
– Она знала, что я ее жду и беспокоюсь о ней.
– И тем не менее поедем со мной, прошу тебя!
Арвид понимал, что Осмонд прав. Он понимал, что измученная лошадь скоро не сможет его нести и что сам он давно выбился из сил. Но он также понимал и то, что Матильда не могла добраться до Спроты целой и невредимой.
Ей грозила страшная опасность.
Он не убил Матильду, но не спускал с нее глаз. Когда Лан остался далеко позади, он вытащил кляп у нее изо рта, но еще туже связал ей руки и ноги. Сначала воин перебросил ее через спину лошади, и при каждом шаге девушка получала сильный удар в живот. Потом он затолкал ее в маленькую тележку, в которой обычно перевозили оружие. Матильда не могла в ней сидеть. Она лежала на спине и смотрела на кожу, натянутую у нее прямо перед носом. Щели в деревянном дне тележки были законопачены воском и смолой. Девушка то и дело к ним прикасалась: пока ее пальцы полностью не онемели, она оставалась живой. А чем дольше она оставалась живой, тем менее вероятным было то, что Аскульф ее убьет.
Во время привала Матильду вытаскивали из тележки и подводили к костру, где Аскульф развязывал ей руки. Ей давали поесть, и девушка давилась невкусной пищей. Впоследствии у нее каждый раз появлялось ощущение, будто ее желудок набит песком и камнями.
В первые дни Матильда была слишком напугана, чтобы поднимать глаза во время еды, но потом она стала открыто смотреть Аскульфу в лицо, и тот не отводил взгляд. На его лице ясно читалось одно: «Больше ты меня не обманешь. Тебе не удастся снова сбежать от меня».
«Как он стал таким? – невольно спрашивала себя Матильда. – Человеком, у которого есть имя и цель, но который во всем остальном остается таким же гладким, как камешек на дне мутной реки. В нем нет ничего особенного, ничего, что отличало бы его от других камешков, ни следа своеобразности, неповторимости. Тот, кто к нему прикасается, ощущает лишь холод и жесткость. Обращать к камню слова, просьбы, мольбы так же бессмысленно, как целовать и гладить его, ведь на нем не остается отпечатков губ и мягких женских рук».
Это относилось не только к Аскульфу, но и к другим воинам. Когда кто-то из них хотел тепла, он в лучшем случае думал о потрескивающем костре, а не о мягком теле женщины, которая была бы с ним одним целым, которую он любил бы и которая дарила бы ему уверенность в том, что он не одинок.
Однажды вечером, когда Матильда сидела у костра, Аскульф присел рядом с ней. Неожиданно он поднял руку и погладил ее по лицу. Он все же был человеком из плоти и крови, а не из камня, и это удивило девушку. На его безжалостность она могла ответить упрямством, но теперь, когда он не переставал ее ласкать, она только жалобно заскулила. Аскульф оказался человеком, а значит, был способен совершить то, чего Матильда боялась больше, чем смерти, – изнасиловать ее. А о чем еще он мог думать, если его рука ощупывала ее грудь, но не с вожделением, а скорее оценивающе, как будто ему нужно было очень осторожно осмотреть убитое диковинное животное, чтобы при потрошении не пропал ни один кусочек дорогого мяса?
Матильда застонала.
– Ты должна ко мне привыкнуть! – приказал Аскульф грубым голосом. – Не сопротивляйся!
Она и не могла сопротивляться, поскольку была связана, она могла только жалобно скулить, и, к ее удивлению, на человека из камня это подействовало. Он убрал руки и прислонился к стволу дерева.
Матильда замолчала, но в ее душе звучало множество вопросов. Почему Аскульф не взял ее силой? Что он имел в виду, когда говорил, что она должна к нему привыкнуть? Куда он ее везет? И опять же: кто она такая?
На следующий день пальцы девушки онемели настолько, что она уже не чувствовала деревянного дна тележки. Ее тело медленно погибало, как молодой зеленый росток на весеннем морозе. Дух ее, напротив, охватило лихорадочное волнение. Матильда догадывалась, что скоро поездка закончится и в конце дороги она получит ответы на все свои вопросы.
Арвид давал отдохнуть лошади, но сам не отдыхал. Привязав животное, он лишь изредка позволял себе прилечь, чтобы восстановить силы. Обычно он бродил пешком по окрестностям Лана и уже давно изучил эти места вдоль и поперек. Арвид знал каждое дерево, каждый камень, каждую развилку, каждый крестьянский двор, а также то, получит он там кружку пива или же только недоверчивые взгляды.
То, что воины короля Людовика его схватят, допросят и узнают, что он прибыл из Нормандии и помог Ричарду бежать, было всего лишь вопросом времени.
Об этом предупреждала Арвида и Спрота, когда он с ней разговаривал. Вопреки своим убеждениям, он последовал совету Осмонда и вернулся в Питр, но, как он и ожидал, Матильды там не оказалось.
– Что бы с ней ни случилось, – рассудила Спрота, – в одиночку ты не сможешь ей помочь.
Она была права, и все же Арвиду хотелось наброситься на нее с кулаками. Даже ее округлившееся тело не удержало бы его от того, чтобы поддаться кипевшему у него внутри гневу, вызванному растерянностью и бессилием. И только Эсперленк, который, казалось, все это почувствовал и угрожающе поднял кулаки, заставил его отступить. Но помешать Арвиду кричать на Спроту он не мог.
– Я еще не потерял надежду! Не говори со мной так, будто Матильда уже мертва!
Взгляд Спроты наполнился сочувствием, и это только усилило гнев Арвида. Он не мог простить ей того, что она так легко принимала неизбежное, а себя он не мог простить за то, что раньше и сам очень часто сдавался раньше времени. Теперь, видимо, его настигла справедливая кара. Почему тогда, после смерти Вильгельма, он не боролся за Матильду более решительно, почему позволил ей уйти в монастырь?
Арвид сбежал из Питра и стал себя казнить: он больше не отдыхал, почти не спал, мало ел и даже не пил. Часто он, несмотря на жажду, проезжал мимо прозрачных ручьев и говорил себе, что не имеет права пить из них, не зная, испытывает ли жажду Матильда.
Он хотел пожертвовать ради нее всем, хотя и догадывался, что это бесполезно и что на это его толкает не только любовь, но и озлобленность, с которой он когда-то цеплялся за желание стать монахом. В голове у Арвида промелькнуло подозрение: все, к чему он стремился – святая жизнь, благополучие молодого Ричарда или совместное будущее с Матильдой, – могло оказаться случайным выбором и на самом деле совсем ничего не значило. Не исключено, что ему всего лишь нужно было выплеснуть буйство, упрямство и ярость, живущие в его душе, и не позволить им с неистовой силой обрушиться на него самого.
И все же Арвид слишком часто отрицал свою любовь к Матильде, чтобы теперь снова усомниться в силе этого чувства. Не важно, что его толкало на это и почему, – значение имели лишь слова, которые он сказал Спроте: он не потеряет надежду.
Дни пролетали один за другим. Арвид поговорил со странствующим торговцем, прачкой и крестьянином из Лана, но никто из них не слышал о Матильде. Вместо этого они поделились с ним другой новостью, не менее тревожной. После побега Ричарда лицемерный Арнульф Фландрский предложил Людовику свою помощь и прислал из Лилля несколько отрядов воинов. Хотя только благодаря им король не смог бы вернуть Ричарда обратно, этот странный союз вызывал опасения.
Еще бо́льшую тревогу внушала Арвиду встреча Людовика и Гуго Великого в Лакруа, где король посулил Гуго новые выгоды при условии, что тот пойдет войной на норманнов.
Что ответил правитель, который, собственно говоря, поклялся не вмешиваться в их вражду, Арвиду не сказали – возможно, потому, что простые люди и сами не знали этого, или же потому, что на пороге войны они с подозрением относились к каждому незнакомцу.
Как бы там ни было, Арвид больше не мог оставаться в окрестностях Лана. Однажды утром он сел на лошадь и направился на запад, но не для того, чтобы спасти свою жизнь, – просто он убедился в том, что Матильды в городе нет. Его путь лежал в Санлис, где по-прежнему находился Ричард.
Увидев Арвида, Осмонд вздохнул с облегчением.
– Ты не представляешь, что произошло! Гуго встретился с Людовиком, но Бернард снова пытается на него повлиять. Он ездил в Париж, и Гуго еще раз поклялся, что окажет Ричарду поддержку.
– Но ведь это хорошо!
– Да, если бы Гуго держал свои обещания. Но он оказался вероломным подлецом. Наверное, он уже долго раздумывал о том, как извлечь из этой вражды наибольшую пользу для себя, и выбирал, у кого отобрать земли: у Людовика или у Ричарда. К сожалению, Гуго решил обогатиться за счет норманнов.
– Что он сделал? – спросил Арвид.
– Он перешел границу и захватил Бессен, а сейчас осаждает Байе. Одновременно с ним до Нормандии добрались и воины короля Людовика.
Арвид закрыл глаза. Судьба Нормандии его почему-то не волновала, но из-за этой войны в опасности окажется и Матильда, если она еще жива.
Только теперь Арвид заметил, что к ним присоединился Ричард. Мальчик выглядел таким тощим, как будто по-прежнему ничего не ел, хотя ему уже ни перед кем не нужно было притворяться больным. Он мрачно произнес:
– И Людовик, и Гуго обвиняют во всем меня. Якобы своим побегом я легкомысленно нарушил мир между Нормандией и ее соседями.
У него была фигура юноши и глаза опытного мужчины, повидавшего в этой жизни многое. Арвид почувствовал в душе Ричарда, крещеного норманна, знакомые противоречия, с которыми приходилось жить и его отцу Вильгельму.
– Хорошо, что ты вернулся, – продолжил мальчик. – Если бы ты остался на земле франков, тебя бы, наверное, уже убили.
Арвид кивнул и снова обратился к Осмонду:
– Я не знаю, где еще искать Матильду. Мне нужна твоя помощь.
Сначала на лице Осмонда отразилось искреннее сочувствие, но потом он нахмурился:
– Как ты себе это представляешь? Я не могу бросить Ричарда! Разве ты не понимаешь, что на Нормандию только что напали два врага? Сейчас на карту поставлено гораздо больше, чем жизнь одной женщины.
– Если бы не эта женщина, Ричард сейчас не стоял бы здесь! – крикнул Арвид.
В нем снова проснулся пламенный слепой гнев, и он готов был наброситься на Осмонда с кулаками. Этому воспрепятствовал Ричард.
– Арвид прав, – сказал он Осмонду. – Пусть два человека помогут ему в поисках.
Гнев прошел, оставив после себя усталость. Добившись желаемого, Арвид вдруг совершенно отчетливо понял, что все это бесполезно. Он не найдет Матильду ни в Нормандии, ни во франкском королевстве.
Матильда потеряла счет дням. Ее похитители провели в пути несколько недель и, казалось, уже не ехали на запад, как она сначала думала, а двигались по кругу. По крайней мере, они уже несколько раз проезжали одни и те же места, и девушка все больше убеждалась в том, что хоть она и находится в плену, но Аскульф и его воины тоже не свободны и не сами выбирают путь, а скрываются от врагов.
Эти враги оставались невидимыми: люди Аскульфа лишь изредка обнаруживали их следы или слышали вдалеке шаги и голоса, и тогда они прятались в кустах или за деревьями. Избежав опасности, мужчины сидели у огня, переговаривались, хмурились и бросали на Матильду укоризненные взгляды, как будто во всех бедах была виновата она одна. Сначала эти взгляды ее смущали, потом она перестала обращать на них внимание.
Девушка ожидала смерти, но все еще была жива. Она рассчитывала, что скоро они доберутся до цели, но этого не случилось. В какой-то момент Матильде просто стало все равно, что произойдет дальше. Ей казалось, что она попала в другой мир, где время остановилось, где решительность ни к чему не приведет, где невозможно совершить задуманное. В этом мире человек лишается чувств, отличающих его от животного, и снова превращается в существо, которое делает шаг за шагом лишь потому, что умеет, а не потому, что хочет.
Однажды они все же выехали на незнакомый клочок земли. Деревья здесь росли не очень густо и не закрывали вид на побережье. Матильда привыкла к морю, но песня этих волн отличалась от той, которая звучала в монастыре Святой Радегунды: тут они разбивались о скалы с большей силой и настойчивостью. Ветер трепал волосы девушки, и они хлестали ее по лицу, заставляя вздрагивать от холода, но благодаря этому Матильда смогла очнуться от оцепенения. В последнее время она казалась себе связанной овечкой, которую ведут на бойню, – теперь же в ней проснулся страх перед будущим, а вместе с ним и воспоминания о прошлом.
Девушка знала: она в Бретани, она вернулась на родину. Даже если это побережье было ей незнакомо, возможно, стоит проехать чуть дальше, и тучи рассеются, солнце озарит лучами цветочный луг, и ее встретит пусть и не светловолосый мужчина, но какой-то добрый человек, который освободит ее от пут и развеет ее страх смерти. И тогда Матильда споет бретонскую песню.
Сейчас для этого было слишком рано. У девушки пересохло в горле, а земля вокруг была чересчур суровой. Сейчас Матильда очень сильно боялась, что, даже если не умрет, никогда не сможет увидеть перед собой всю жизнь целиком, а не отдельные осколки, которые не подходят друг к другу.
Теперь путники ехали вдоль побережья. Ветер бросал песчинки Матильде в лицо, и от этого щипало кожу. День остался таким же серым, земля – такой же неплодородной, а безумная надежда на то, что скоро наконец покажется цветочный луг, умерла. Тем не менее Матильда могла ясно думать, а ее воспоминания не поблекли. Во время привала, когда Аскульф принес ей поесть, девушка посмотрела на него с вызовом. На этой земле, которая, по сути дела, была ей чужой, но все-таки казалась родной, Матильда больше не видела в нем бездушного убийцу.
– Ты знаешь, кем был мой отец? – спросила она твердым голосом. – Он был влиятельным человеком, не так ли? И ты позволяешь себе так обращаться с его дочерью?
Воин взглянул на девушку с удивлением, а в голове Матильды в это время эхом отдавался голос женщины, рассказывающий не только о могуществе ее отца, но и о его жестокости: «Твой отец принес большое горе твоей матери… Она отрицает это и направляет свою ненависть только на… нее».
Не сказав ни слова, Аскульф поднялся и зашагал прочь. Матильда закрыла глаза. В последние дни ей часто казалось, будто они двигаются по кругу, – теперь же кружился весь мир, а она оставалась неподвижной. Девушка увидела лицо Мауры, которая однажды произнесла: «Из-за тебя мне пришлось оставить мать и уйти в монастырь». Маура жила при дворе Алена Кривая Борода, нового правителя Бретани… правителя, для которого Матильда могла быть опасна. Маура выполняла… ее приказ.
Что за женщина хочет ее смерти и почему?
Открыв глаза, девушка увидела, как к ней приближаются всадники и как спешивается какая-то женщина. В ее движениях не было легкости, ее лицо было покрыто морщинами.
Матильда пристально смотрела на нее, не замечая, что Аскульф поспешно вернулся и быстро освободил ее от пут. Теперь, впервые за долгое время, она смогла встать и размять затекшие руки, но тем не менее осталась неподвижно сидеть на песке.
Приблизившись, женщина остановилась в нескольких шагах от Матильды. Много лет назад эта женщина велела Аскульфу найти ее и привезти сюда. Видимо, приказа убить ее он не получил, иначе она была бы уже мертва. Но девушку это утешало мало: по ее мнению, это доказывало, что незнакомка хочет совершить убийство собственноручно или по крайней мере увидеть его своими глазами.
Матильда опустила глаза, но потом снова подняла голову. Ее единственным оружием в борьбе с этой женщиной была гордость.
Но женщину это, казалось, не растрогало. Глаза, которые впивались в Матильду, выглядели как темные впадины. Девушка часто чувствовала дыхание смерти. Никогда еще оно не было таким холодным.
Раньше она часто снилась Авуазе, но в какой-то момент женщина слишком устала от ночи, чтобы видеть сны. Она пыталась представить ее себе, но в какой-то момент поняла: то, что человек получает от жизни, никогда не совпадает с тем, на что он втайне надеется. Авуаза тосковала по ней, но всегда знала, что, даже если когда-то сможет снова ее обнять, все равно никогда не вернет того, что потеряла.
Потеряла она маленькую девочку со светлыми кудряшками, похожими на волосы ее отца, с невинным, доверчивым взглядом и высоким голоском; девочку, которая больше любила петь, чем говорить. Теперь же перед Авуазой стояла темноволосая женщина. В ее глазах читались ужас и подозрение, а голоса слышно и вовсе не было, потому что она упрямо молчала.
Но благодаря этому у Авуазы хотя бы оставалось время для того, чтобы внимательно ее рассмотреть – с облегчением, радостью и удивлением. В детстве Матильда была похожа на отца, и, в конце концов, именно его привязанность к их общей дочери заставила Авуазу полюбить его. Однако, глядя в лицо этой взрослой женщины, она вспомнила совсем о другом человеке, о котором почти не думала уже много лет.
– Я не ожидала увидеть в тебе именно… его черты, – вырвалось у Авуазы. – Я думала, ты пойдешь в отца, но ты как две капли воды похожа на своего дедушку.
Некоторое время Матильда не могла промолвить ни слова. Когда она все же заговорила, ее голос прозвучал хрипло.
– Кем был мой дедушка? – спросила она. – И кем был мой отец?
– Что тебе известно об истории Бретани? – спросила Авуаза в ответ.
– Что норманны совершили на нее набег и разорили ее, как когда-то поступили с землями на севере франкского королевства.
Матильда опустила голову. Теперь взгляд Авуазы больше не приковывали к себе большие глаза девушки, и она окинула взглядом ее тело – худое, измученное дальней дорогой, грязное и израненное. Судя по красным пятнам на запястьях и лодыжках, Матильда была связана.
«Аскульф просто чудовище, если он так с ней обращался», – пронеслось в голове у Авуазы. Но наказывать его за это женщина не собиралась. В конце концов, Матильда сама виновата: своей строптивостью она не оставила ему выбора. Авуазе еще долго придется на нее смотреть, чтобы запомнить ее лицо, но ей казалось, что характер этой девушки она знает уже сейчас: Матильда упряма; она из тех, кто вступает в борьбу, а не принимает жизнь такой, какая она есть.
На самом деле Авуазе это даже нравилось. Решив проявить терпение, женщина таким же спокойным голосом, каким однажды рассказывала ей истории, медленно произнесла:
– Бретонцы – гордый народ. Много веков назад они пришли из-за моря, спасаясь от шотландцев и англосаксов. Сначала они поселились на побережье, потом продвинулись вглубь страны. У них были почти такие же обычаи, как у римлян, но глубоко в душе они верили в других богов. Бретонцы не просто гордый, но и непокорный, храбрый народ. Им пришлось покинуть родные места, но свою новую родину они не отдали бы без боя. Каролингам так и не удалось отнять у них земли. Для этого нужны были более сильные воины.
– Норманны, – выдохнула Матильда.
– Почему ты говоришь с таким ужасом, будто они враги? Бретонцы оказывали сопротивление, пока их вели за собой сильные люди, такие как Ален Великий. Ни один человек из тех, кто пришел к власти после его смерти, не стоил его мизинца. Разве страна, которая не может вырастить сильного правителя, заслуживает чего-то другого, кроме как стать чьей-либо добычей?
Матильда снова подняла глаза:
– А каким образом это относится ко мне?
Авуаза не спешила отвечать. На секунду ей показалось, что к ней самой это тоже не имеет никакого отношения, не должно иметь никакого отношения. Она лишь изредка вспоминала, кем была до того, как в ее жизнь ворвался гордый норманн. Этот мужчина напал на замок, в котором она пряталась, и оставил в нем кровавый след. Он не пощадил женщин, и прежде всего ее. Не только Бретань он разделил на «до» и «после» – жизнь Авуазы он тоже разрубил на две части, и она быстро поняла, что не сможет сделать ни единого вдоха в этой новой жизни, пока будет держаться за старую. Ей пришлось измениться, так же как придется измениться Матильде. Ей пришлось научиться его любить, так же как Матильде придется научиться любить ее.
Но девушка этого еще не понимала.
– Почему ты хочешь моей смерти? – спросила она, так и не дождавшись от Авуазы ответа.
– С чего ты взяла, что я хочу твоей смерти?
– Ведь тогда на монастырь напали твои люди… И именно ты подослала Мауру.
– Это сделала не я.
– А кто тогда? Я же это помню… В детстве кто-то предупреждал меня о злой женщине. Я думала, что она – это ты.
– Скорее я была той, кто уберег тебя от злой женщины.
– Почему? – В голосе Матильды слышалось не только непонимание, но и отчаяние. – Кто ты?
Ответ дался Авуазе не так легко, как она предполагала. «Я женщина, которая забыла о своем происхождении. Женщина, которая безоговорочно подчинилась новому сильному правителю Бретани. Женщина, которая объединила гордость и жажду власти своих предков со стремлением своего возлюбленного основать в Бретани единое могущественное королевство – не королевство бретонцев, ведь оно слишком часто оказывалось слабым, а королевство норманнов».
Ничего этого Авуаза не сказала. Вместо этого она произнесла:
– Я Авуаза, твоя мать. А твой отец – мужчина, которого я любила, – был могущественным норманном по имени Рогнвальд.
Глава 8
Проехав еще немного вдоль берега, они добрались до круглого вала.
Женщина, которую звали Авуаза и которая была ее матерью, больше не проронила ни слова, а, спешившись за валом, сразу же отвернулась, и Матильда не понимала почему. Может быть, она не хотела показывать свои чувства, а может, решила дать дочери время разобраться со своими эмоциями.
Времени для осознания происходящего у девушки было не так уж много. Вскоре Авуаза заговорила, причем таким равнодушным и монотонным голосом, как будто все, что она рассказывала, на самом деле их не касалось. Матильда впитывала в себя каждое слово, хоть смысл услышанного поняла не сразу.
– После смерти Алена Великого казалось, что время расцвета Бретани безвозвратно ушло. За трон боролось слишком много людей, но среди них не было ни одного достаточно сильного правителя, который смог бы удержать власть. Эта борьба раздирала страну изнутри и привлекала внимание врагов. Постоянные войны утомили народ, и люди, у которых было достаточно денег, оставили эту землю. Те из них, кто смог начать новую жизнь, не вернулись назад.
Девушка кивнула, хотя Авуаза по-прежнему стояла к ней спиной и не могла этого видеть. Эти слова были уже более понятны Матильде: они напомнили ей о Спроте, чьи родители когда-то тоже сбежали из родной Бретани. Но какое отношение это имеет к ней самой? И к тому, что Авуаза, по-видимому, была не злой женщиной, желающей ее смерти, а человеком, который отправил Матильду ради ее собственной безопасности в монастырь, а теперь снова забрал к себе?
Вдруг девушка вспомнила, что в детстве очень сильно ждала этого дня, по крайней мере в первое время, когда угрозы и удары еще не заставили ее забыть о том, кто она на самом деле. Но теперь… Теперь слишком поздно… Теперь она уже не ребенок, а эта женщина стала ей чужой.
– В то время, – продолжила Авуаза, – когда падение Бретани казалось неизбежным, на нее обрушились отряды норманнов, которых раньше сдерживал Ален Великий.
Она медленно повернулась и подождала, пока Матильда внимательно рассмотрит ее лицо. До сих пор девушка замечала лишь худое тело, обвисшую кожу и седые волосы Авуазы, а теперь пыталась найти в ней что-то родное. Если эта женщина – ее мать, то должны же в ней быть знакомые черты! Почему она кажется более чужой, чем светловолосый мужчина из сна и та безликая женщина, которая когда-то плакала при расставании?
– И мой отец… Рогнвальд… был одним из них, верно? – пробормотала Матильда. – Высокий, светловолосый, сильный. Когда он умер, ты отдала меня в монастырь, чтобы уберечь от опасности…
Если эти слова и разбередили старую рану, Авуаза не подала виду.
– Название монастыря от меня скрыли, – совершенно спокойно заявила она. – Я не хотела его знать, ведь это было бы слишком рискованно: его могли выбить из меня под пытками. Поэтому прошло много времени, прежде чем мне удалось тебя найти. Больше, чем я ожидала.
Взгляд Матильды упал на цепочку на шее Авуазы.
– Ты тоже норманнка? – спросила девушка.
О языческой вере она знала немного, но амулет, который носила ее незнакомая мать, считался знаком бога Тора и благодаря крестообразной форме был известен и христианам.
– Я родилась и выросла христианкой, – коротко ответила Авуаза и не стала объяснять, почему это изменилось.
Твой отец принес большое горе твоей матери.
Эти слова неожиданно всплыли в памяти, и девушке захотелось произнести их вслух, чтобы посмотреть, какие чувства отразятся на каменном лице Авуазы. Но Матильда не решилась на это. Теперь она точно знала, что не умрет, но это не избавило ее от страха, а, наоборот, усилило его еще больше.
– Что случилось? – тихо спросила Матильда.
Думая об объятиях светловолосого мужчины, она больше не чувствовала себя защищенной. Теперь она испытывала лишь разочарование. Она снова в Бретани, но цветы нигде не цветут. Может быть, она просто вернулась не туда, а может, те цветы давно увяли, а другие здесь больше не выросли.
– За очень короткое время Рогнвальд основал свое государство, как когда-то Роллон в Нормандии, – продолжила Авуаза, и впервые за все время в ее глазах появился блеск. – Конечно, правители соседних земель возмутились и попытались прогнать его. Никому из них это не удалось.
Женщина говорила с такой гордостью, как будто это она противостояла тем могущественным людям, но ее лицо помрачнело, когда Матильда произнесла:
– Однако это государство просуществовало недолго.
Авуаза угрюмо кивнула.
– Рогнвальд хотел завоевать новые земли, но не продвинулся дальше реки Уазы. И все же в его руках находилось целое государство. Он управлял им из Нанта. Город процветал. На острове недалеко от монастыря Святого Флорентия построили порт и замок. Сбежавшие торговцы вернулись назад. В Ренне и Корнуае снова воцарилось благоденствие. Многие норманны, воины Рогнвальда, осознали, что здесь можно не только разорять монастыри, но и возделывать плодородную землю. Вместо того чтобы поджигать дома и убивать их хозяев, они начали строить для себя жилища. – Она ненадолго замолчала. – Рогнвальд был хорошим правителем.
«Что она понимает под словом “хороший”? Милосердный и справедливый, настойчивый и мудрый? Или же просто сильный – более сильный, чем его враги?» – спросила себя Матильда.
– Но он умер, – тихо произнесла девушка. – Он умер, не успев укрепить свою власть и установить в стране окончательный мир, а люди, которых он оставил после себя, были недостойными преемниками. Они не смогли ничего противопоставить Алену Кривая Борода – христианину и наследнику Алена Великого.
– Ален Кривая Борода – его внук. И сын моей сестры.
Матильда широко открыла глаза. Еще секунду назад она думала, что искорка знания немного рассеяла тьму. Теперь ей казалось, что свет снова погас.
– Твоей сестры?
– Да… Ее зовут Орегюэн.
Ты не просто дочь норманна, одно лишь это не сделало бы тебя опасной. Ты еще и внучка…
Темные покровы упали, обнажив правду. Матильда все поняла.
Если Авуаза – сестра Орегюэн, а Орегюэн – дочь Алена Великого, значит, Авуаза тоже приходится ему дочерью, а Матильда – внучкой. Да, в ней течет кровь Алена Великого, последнего могучего христианского короля Бретани… а также кровь ее отца Рогнвальда, последнего язычника, правившего этим государством.
Ты наследница.
Авуаза снова отвернулась.
– В первые годы после смерти Рогнвальда я еще чувствовала себя уверенно. Мне пришлось спрятать тебя от… нее, но сама я могла жить спокойно.
«Почему она говорит о том, что произошло после его смерти, а не о том, что случилось до этого? Как она стала его женой, матерью его ребенка, женщиной с амулетом Тора?»
– Но начиная с 933 года мы постоянно находились под угрозой, – продолжила Авуаза. – Тогда Ален Кривая Борода впервые напал на Бретань. Он потерпел поражение, но три года спустя повторил попытку и захватил Нант.
В голосе Авуазы послышалось презрение.
– Почему ты его так ненавидишь? – недоумевала Матильда. – Он ведь твой родственник, племянник, сын твоей сестры.
Женщина горько рассмеялась, и только сейчас Матильда поняла: Авуаза ненавидит не только Алена Кривая Борода – прежде всего она ненавидит свою сестру. Орегюэн… наверняка была готова на все ради сына… Она хотела видеть его правителем Бретани… Именно Орегюэн та злая женщина, которой Кадха, бывшая кормилица Матильды, была предана так же беззаветно, как и ее дочь Маура.
Авуаза перестала смеяться.
– На самом деле Ален Кривая Борода должен был стать моим сыном. Его отца, Матьедуа, тоже наследника могущественного рода, когда-то прочили мне в мужья. Тогда я была еще молода. – Авуаза говорила так, как будто с тех пор прошла вечность, и Матильде действительно было нелегко разглядеть за ее морщинами и усталостью молодое, свежее лицо. – Мне нравился этот статный и рассудительный мужчина. Он не бросал слов на ветер, на охоте ему всегда сопутствовала удача, а лучше всего он чувствовал себя верхом на коне и с мечом в руке. Я не хотела себе грамотного мужа: читать и писать я умела и сама. Мне нужен был честолюбивый супруг, который рядом с моим отцом не выглядел бы жалким.
– Но ты его не получила.
– Нет, – просто ответила Авуаза, и за этим словом скрывались слезы обиженной девушки, слепая ярость оттого, что Матьедуа предпочел ей ее сестру, и боль, вызванная их счастьем, которое позже увенчалось рождением сына. – Нет. Вместо меня он женился на Орегюэн.
Матильда искала в лице Авуазы следы обиды, но находила только холод… и озлобленность. «С женщиной, которая может так отчаянно любить, лучше не враждовать», – промелькнуло у нее в голове.
– А потом? – спросила девушка, едва дыша.
– Потом в мою жизнь пришел Рогнвальд.
Это прозвучало вполне невинно, но Матильда догадывалась, что за этими несколькими словами скрывается страшная правда. Такой человек, как Рогнвальд, не мог войти в чужую жизнь спокойно. Норманн и язычник, он наверняка ворвался в нее подобно буре, прокладывая дорогу с помощью огня и насилия.
Матильда не хотела, чтобы и ее обжег этот огонь.
– И ты родила от него ребенка… меня, – быстро произнесла она.
– К сожалению, об этом узнала Орегюэн.
Авуаза снова сказала не больше, чем было необходимо. И снова этих немногих слов хватило, чтобы понять все. Сначала двух сестер разделила любовь к одному мужчине, а потом то обстоятельство, что одна из них стала матерью христианского наследника, а другая – языческой наследницы, создало между ними непреодолимую пропасть. Даже если Матильда сумела избежать смерти, Орегюэн все равно осталась победительницей.
– И теперь Ален Кривая Борода правит Бретанью… – пробормотала девушка.
Авуаза сжала губы.
– Пока что… – процедила она. – Но скоро настанет наше время!
Из-за того что женщина произнесла эти слова шепотом, они казались еще более грозными – и еще более безумными. Все это время Матильда старалась отыскать в чужом лице матери знакомые черты и более не пыталась внимательно рассмотреть место, в котором находилась. Теперь она это сделала и определила, что этот вал был убогим, а людей, способных сражаться, на нем было не так уж много.
– Но Ален Кривая Борода… – начала Матильда.
– Да, да, я знаю, о чем ты думаешь, – резко перебила ее Авуаза. – Его не так уж легко свергнуть с трона. Но здесь, в Котантене, люди хотят стать независимыми, избавиться от опеки как со стороны Руана, так и со стороны Нанта. Они любят свободу, а с помощью язычников из Ирландии и Дании и, прежде всего, с нашей помощью они ее получат. Когда в наших руках будет Котантен, мы сможем бросить все силы на то, чтобы вернуть себе Бретань и, может быть, даже захватить Нормандию. А ты… ты будешь править этим королевством.
Авуаза подняла руки и положила их Матильде на плечи. Она впервые прикоснулась к ней, и этот жест был вызван не нежностью и долгой безмолвной тоской по потерянной дочери, а властолюбием и одержимостью.
Матильда вздрогнула:
– Но я ведь женщина! Мое право на эти земли, даже если бы я о нем заявила, никогда бы не получило такого признания, как права наследника-мужчины!
Пальцы Авуазы впились в тело девушки. Они были похожи на когти.
– Вот именно! Поэтому рядом с тобой должен быть достойный мужчина, такой как Аскульф. Он племянник Рогнвальда.
Матильда больше не могла сдерживать ужас и вырвалась из рук Авуазы.
– Ни за что! Никогда! – закричала она. – Долгие годы я думала, что ты хочешь моей смерти, а ты намеревалась выдать меня за него замуж! Этого не будет! Ты не можешь указывать, как мне жить и к чему стремиться.
– Мне тоже пришлось через это пройти.
Наконец голос Авуазы задрожал, и это доказывало, что за ее одержимостью скрывается боль, а за упрямством и жаждой власти – мучительные воспоминания. Это также подтверждало догадку Матильды о том, что Рогнвальд силой заставил дочь Алена Великого стать его конкубиной. Он сломил ее волю.
– Почему ты хочешь во что бы то ни стало сохранить наследие Рогнвальда?
– Потому что я его любила! – выпалила Авуаза. – Потому что он был гораздо сильнее, чем Матьедуа!
«А еще потому, – подумала Матильда, – что ты не могла смириться с тем, что твоя сестра вытянула счастливый жребий, вышла замуж за бретонца, родила ему сына и застала его правление, в то время как тебя, Авуазу, изнасиловал норманн, после чего ты произвела на свет дочь, потеряла родину и пустилась в бега».
Матильда покачала головой. Понимать, какое отчаяние руководило поступками этой женщины, еще не означало перестать ее бояться.
– Но это невозможно…
– Все возможно, если этого захотеть.
– Я не хочу выходить замуж за Аскульфа! – воскликнула Матильда, хотя и догадывалась, что разумнее было бы промолчать.
– Я твоя мать, и решения принимаю я.
«Нет, – хотелось закричать Матильде, – нет, ты мне не мать! Мать заключила бы своего потерянного ребенка в объятия и больше никогда бы его не отпустила».
Она покачала головой, а когда Авуаза снова подняла руки, сделала шаг назад.
– Не прикасайся ко мне! – прошипела Матильда.
Она боялась, что Авуаза ее ударит, но та лишь снисходительно улыбнулась. Пощечина причинила бы Матильде меньшую боль, чем улыбка, которая казалась фальшивой и давала понять: от этой женщины не стоило ожидать милосердия.
– Последние события тебя утомили. Ты узнала очень многое. Но когда ты все обдумаешь, то сделаешь то, чего я от тебя требую.
Матильду оставили одну. Без сомнения, она попала в плен, но, видимо, должна была чувствовать себя скорее гостьей, которой предоставили отдельную комнату – небольшую, но чистую, а для сна выделили мешок, набитый соломой.
Спать девушке не хотелось, и она с удовольствием отказалась бы еще и от еды, а также от всего, что дала ей Авуаза, как будто тогда смогла бы не воспринимать слова этой женщины всерьез, а притвориться, будто она никогда их не слышала.
Конечно, Матильда знала, что это самообман: слова Авуазы постоянно крутились у нее в голове. И конечно, она знала, что, голодая из упрямства, она ничем не улучшит своего положения.
Девушка все же съела кашу, которая была пряной, но недоваренной, и немного соленой рыбы, а потом выпила кружку безвкусного медового вина. Пищу она проглатывала быстро, не прожевывая, и вскоре ее желудок взбунтовался. Несмотря на тошноту, Матильда не останавливалась, а доев, перестала закрывать глаза на правду. Итак, в ее жилах течет кровь Алена Великого, ее дедушки, и Рогнвальда, ее отца. Ее хотели не лишить жизни, а сделать правительницей Бретани, а Аскульф, по решению Авуазы, должен был стать не убийцей, а ее мужем. Но вместе с этим девушка осознала еще кое-что: «Я не хочу этого. Это не моя судьба».
Матильда всегда тосковала по родным местам, но теперь поняла, что слишком долго жила вдали от них, чтобы считать эту землю своей родиной. Она всегда тосковала по близким людям, по матери, подарившей ей жизнь, но теперь поняла, что слишком долго жила вдали от этой матери, чтобы видеть в ней не просто женщину с безумным блеском в глазах.
Она, Матильда, должна быть не здесь, а рядом с Арвидом.
– Рогнвальд и Авуаза, – прошептала она имена своих родителей, и с каждым слогом урчание в ее желудке становилось все тише.
Теперь она часто будет произносить эти имена, радуясь тому, что наконец узнала о своем происхождении. Она будет думать о родителях с грустью, потому что они оба не получили желаемого: отец прожил слишком мало, а мать, наверное, слишком много. Если у нее будут дети, она расскажет им об их предках. Но она не просто дочь своих родителей – она еще и женщина, которая освободила Ричарда из Лана, которая живет в Нормандии и которая хочет выйти замуж за Арвида.
Матильда заставила себя прилечь на мешок с соломой, закрыть глаза и расслабиться.
Отдохнув совсем немного, она снова поднялась. Ее тело ныло от боли, но разум был совершенно ясным.
Ей нужно бежать.
Матильда постучала, и вскоре дверь отворилась. Своего охранника девушка видела впервые. Он не входил в отряд Аскульфа, поэтому перехитрить его было легче.
– Я хочу к Авуазе, – заявила она, и мужчина почтительно опустил глаза. Еще никто не относился к ней с таким уважением. Он указал рукой направление, но Матильда покачала головой. – Приведи ее сюда.
Она надеялась, что после этого уважение к ней не исчезнет, и не разочаровалась. Воин быстро ушел и не стал запирать дверь.
Матильда сделала глубокий вдох. Об этом здании она знала лишь то, что оно расположено за валом, сооруженным на побережье. Раньше ворота были открыты настежь, и, возможно, ей удастся незаметно выбраться на волю.
Девушка поддалась порыву и помчалась прочь, хотя, несомненно, разумнее было бы продумать следующий шаг. Нужно украсть лошадь или лучше убегать пешком?
Принимать решение Матильде все равно не пришлось. Она без труда смогла добраться до ворот, но потом на нее упала чья-то тень, длинная и широкая. Аскульф.
В этот раз Матильда тоже догадывалась, что разумнее было бы улыбнуться, притвориться, будто она его искала, и сказать, как она рада тому, что наконец знает правду и что он – ее родственник, ее будущий муж.
Еще мгновение назад девушка думала, что сможет смириться с этой правдой, но теперь вдруг почувствовала, как ее душит и распирает одновременно. Матильду охватила паника, и эта паника затуманила ее зрение и разум. Вместо того чтобы улыбнуться и найти правильные слова, девушка стала кричать и бить Аскульфа по груди.
– Я не хочу этого! Я ничего не хочу! Я не наследница Бретани! И я никогда не выйду за тебя замуж!
Она совершила ошибку, дав выход своим чувствам, но от этого ей стало легче. Исчезло напряжение последних недель, страх смерти, а также замешательство, вызванное встречей с незнакомой матерью и тем, что она рассказала. Наконец Матильда смогла как-то ответить на все это, пусть даже просто криком – невнятным и бессвязным, но все же достаточно громким, чтобы заглушить потрясение и ужас.
Когда девушка наконец успокоилась, Аскульф все еще неподвижно стоял перед ней.
– Ах, Матильда, – вздохнул он, и казалось, будто он ей сочувствует, – ах, Матильда, перестань наконец сопротивляться. Смирись! Просто смирись! Так же, как…
Аскульф не договорил, но она догадалась, что он хотел сказать. «Смирись так же, как я, смирись, как тот юноша, которым я был когда-то. Этот юноша мечтал править страной, не покоряя, не развязывая войн и не убивая, мечтал о молодой жене, которая будет жить с ним по любви, а не по принуждению. Оставь надежду на то, что иногда слабый тоже побеждает. Он не побеждает никогда, так что борись изо всех сил, чтобы стать сильнее, и в этой борьбе забудь обо всех своих желаниях, ведь они – это лишний груз».
Девушка поняла: ее не отпустит ни он, ни тем более Авуаза.
Услышав шаги, Матильда обернулась. Когда Авуаза подошла ближе, девушка увидела, что в ее глазах больше не было безумного блеска – в них застыло лишь… разочарование.
Матильда не ожидала милосердия, и она его не получила. Она не пыталась оправдаться, а Авуаза не пыталась понять поведение дочери и просто велела закрыть ее на замок. Когда Матильду уводили, она почувствовала облегчение от того, что больше не должна выдерживать строгий взгляд матери. Заключение обещало не только одиночество, но и защиту от пронзительного голоса, бросившего ей вслед: «Используй это время, чтобы подумать».
То, что она больше его не слышала, радовало Матильду недолго. Ей казалось, что нет ничего более невыносимого, чем ледяной холод в этой тюрьме. Девушку привели не в дом, построенный руками человека, а в пещеру, которую морская вода за много веков выточила в скале. С потолка срывались соленые капли. Земляной пол был покрыт соломой, но она уже сгнила, и вокруг образовалось множество луж. Завывал ветер. Волны обрушивались на скалы с грохотом, похожим на раскаты грома. Эти звуки вновь и вновь отражались эхом от стен пещеры, и Матильда, забившись в угол и спрятав голову в колени, не могла их больше выносить. Она закрывала уши, но грохот не утихал. В ушах у Матильды гудело, и вскоре ее голова стала раскалываться от боли.
Вдруг у девушки заныло все тело, каждая косточка, каждая мышца – может быть, от долгого пути, а может, от напряжения. Матильда закрыла глаза, а когда через некоторое время их открыла, вокруг нее сгустилась непроглядная тьма. Мир спал, но неутомимое море ни на миг не умолкало.
Матильда поднялась и стала ходить по пещере, пытаясь согреться. К ней в душу закралось подозрение: Авуаза хочет не побудить ее к размышлениям, а скорее довести до безумия. Иначе зачем она держала бы ее здесь целую ночь, день и еще одну ночь? Девушка перестала считать дни. Она перестала надеяться на спасение.
Может, эта женщина, ее мать, когда-то и любила ее, но теперь ее упрямство стало сильнее любви. Матильда была для нее не только дочерью, но и средством для достижения цели, и если она воспротивится планам матери, то та сломит ее волю.
Иногда девушка чувствовала себя такой измученной, что была готова на все, лишь бы обрести свободу, но при мысли об Аскульфе у нее пробегал мороз по коже, вожделенная земля с цветочным лугом превращалась в ненавистный край темных пещер, и лишь тоска по Арвиду оставалась прежней. Единственным, что согревало Матильду, единственным, что заглушало шум моря, был его образ, который она вызывала в памяти снова и снова. И наконец, когда девушка уже потеряла счет дням, появилось еще кое-что, из-за чего она твердо решила не сдаваться.
Однажды утром от вида еды, на которую Матильда обычно жадно набрасывалась, ей стало плохо. Ее всегда кормили безвкусной кашей с молоком, иногда с черствым хлебом, но когда перед девушкой снова поставили этот скудный обед, ее охватило такое отвращение, будто ей принесли тухлую рыбу. Может, виной тому был солоноватый запах гнили, витавший в воздухе… а может быть, что-то совсем другое.
Подозрение появилось не сразу, но глубоко укоренилось в мыслях Матильды. Отвлечься ей было не на что, и в конце концов она решилась его проверить. Ощупав свое тело, девушка обнаружила, что ее грудь слегка налилась, а живот немного увеличился и был более мягким, чем обычно. Когда она резко поднималась, у нее кружилась голова, а ночью, несмотря на холод, Матильда спала глубоким, крепким сном.
«У меня будет ребенок, ребенок от Арвида», – подумала она.
Та ночь в Питре, которая как будто осталась в другой жизни, принесла плоды.
Девушку бросило в жар от радости. Ее бросило в дрожь от страха. Она ждет ребенка! Она любит Арвида, но находится далеко от него и не сможет ему об этом сказать. И, что еще страшнее, она не сможет спасти свое дитя от Авуазы. Этой женщине нужна дочь, которую можно выдать замуж за Аскульфа и сделать правительницей. Ей не нужен внук от мужчины с сомнительным происхождением.
Если раньше Матильда еще могла кое-как переносить свое заключение, то теперь она дала волю слепому отчаянию. Девушка плакала и громко кричала, заглушая шум моря, – достаточно громко, чтобы обратить на себя внимание.
На Матильду упала узкая полоска света. Вопреки ожиданиям девушки, к ней пришла не мать, а маленький сгорбленный человек. Матильда не могла бы с уверенностью сказать, втягивал он голову в плечи из-за того, что свод пещеры был низким, или потому, что такова была его природа. Во всяком случае, этот человечек носил рясу. Он был монахом.
Матильда упала перед ним на колени.
– Слава Иисусу Христу! – выдохнула она, надеясь, что мужчина ответит на приветствие, но он этого не сделал. В его взгляде даже не было особого сострадания. – Ты Божий человек! – воскликнула Матильда. – Ты ведь поможешь мне?
– Я раб и ничего не могу для тебя сделать.
Эти слова стали для девушки ударом. На нее снова нахлынуло отчаяние, а на глазах выступили слезы – соленые, как море, но гораздо более теплые. Монах не проявил сочувствия.
– Я пришел, чтобы дать тебе совет, – произнес он почти равнодушным голосом. – С Авуазой лучше не спорить. Она действительно считает, что сможет завоевать сначала Котантен, затем Бретань и наконец Нормандию. Она рассчитывает на поддержку со стороны местных язычников, но я думаю, что это напрасная надежда.
Матильде не было дела до того, на что рассчитывает Авуаза. Она хотела лишь одного: спасти жизнь своего ребенка.
– Я не понимаю, что ею движет, – тихо сказала девушка. – Не важно, из-за чего они поссорились с сестрой. Ален Кривая Борода – ее племянник, ее плоть и кровь.
Монах вяло улыбнулся:
– Он для нее слишком набожный. Жан, аббат монастыря Ландевеннек, лично занимался его религиозным воспитанием, о котором Ален не забывал даже в бою. Когда Ален, поверженный, был вынужден спрятаться на холме и там, изнывая от жажды, упал без сил, он так долго молился Деве Марии, что земля разверзлась, и из нее забил родник.
Зачем он ей об этом рассказывает? Чтобы доказать, что за долгие годы рабства не потерял веру и в нем все еще живет надежда на силу Господа и милость Девы Марии?
Матильде не нужен был родник. Она нуждалась в свободе.
– Ален вырос во владениях короля Этельстана, – продолжил человечек. – Многие монахи из моей общины тоже отправились туда. Лучше бы я поехал с ними… Тогда мне не пришлось бы пройти через все это.
Матильда поднялась. Она знала, что нельзя упускать возможность узнать о матери больше.
– Как… как Авуаза попала в руки Рогнвальда?
– Во время набега на Бретань он захватил замок, в котором она пряталась. – Монах замолчал и посмотрел девушке в глаза. – Ей неоткуда было ждать помощи. – Он снова улыбнулся, на этот раз уже не вяло, а злорадно.
– Он ее изнасиловал, – пробормотала Матильда.
– Узнав, кто она такая, Рогнвальд все же не отдал ее своим воинам, а сделал своей конкубиной.
Девушка вздрогнула.
Твой отец принес большое горе твоей матери.
– У нее был выбор, – размышляла Матильда, – либо приспособиться к обстоятельствам и подчиниться ему, либо воспротивиться и умереть. Она выбрала жизнь.
– Перед подобным выбором она ставит и тебя. И если ты умная, то ты, как и она…
Монах замолчал, услышав шорох. Раздался звук шагов. Доска, закрывающая вход в пещеру, снова отодвинулась, и из-за нее показалась чья-то худощавая фигура. Авуаза.
– Что ты здесь делаешь, Даниэль? – накинулась она на монаха.
Его не мучили угрызения совести. О том, что он раб, можно было догадаться только по его опущенной голове. Прежде всего, раб никогда не стал бы говорить с такой насмешкой в голосе, с какой Даниэль обратился к своей повелительнице:
– Я хотел убедиться, что она еще жива. Неужели ты не боишься, что она здесь умрет?
Они говорили о Матильде так, будто ее рядом не было, и на миг девушка почувствовала себя именно такой – невидимкой, пропавшей в морской глубине. Никто не знал, кто она на самом деле, никого не интересовали ее чувства.
– Если она моя дочь и дочь своего отца, то способна выдержать многое.
– Если ты так ценишь силу, тебе должен нравиться Ален Кривая Борода. Он славится тем, что убивает диких кабанов и медведей, используя вместо оружия заточенный кол.
Авуаза подняла руку – монах даже не пригнулся.
– Не трогай его! – закричала Матильда.
У нее заболело горло, поскольку она давно не повышала голос. То, что в ее крике послышались не только отчаяние и беспомощность, но и ярость, принесло девушке облегчение.
Взглянув на нее, Авуаза опустила руку.
– Ты собираешься сопротивляться и дальше?
Матильда почувствовала новый приступ тошноты и в ужасе закрыла ладонью рот. Если ее вырвет, Авуаза догадается о ее беременности. Девушка сжала губы и подавила рвотный позыв, надеясь, что в сумерках никто не заметил, как она бледна.
Даниэль поднял голову.
– Она еще не готова, – с удовольствием заявил он.
Авуаза молча вышла из пещеры, и монах последовал за ней. Когда Матильда снова осталась одна, ее стошнило.
Хотя Арвид и спрятался под деревом, листья не защищали его от дождя: после нескольких жарких дней мир погрузился в серость, сырость и грязь.
Вместо того чтобы пригнуться, мужчина подставил лицо дождю. Он не умывался уже целую вечность, и, наверное, все его тело испачкалось, как и волосы, которые к тому же спутались. Дождь не мог смыть все, и Арвиду нужно было растереть кожу так, чтобы она горела, но он старался вести себя как можно тише.
Конечно, те воины, от которых он едва успел укрыться в тени деревьев, уже давно продолжили свой путь, но за ними могли ехать другие. Арвид по-прежнему ждал в лесу, дрожа от холода, и впервые за несколько недель, проведенных в растерянности, его одолели мысли, от которых он до сих пор убегал, и прежде всего мысль о том, что его поиски бесполезны и он зря рискует жизнью. Путешествовать в одиночку стало опасно, хотя Арвид уже давно покинул королевство франков и вернулся в Нормандию. Граница, разделяющая эти два государства, больше не была нерушимой. Король Людовик, наверное, уже считал Нормандию своей. Воинам, по крайней мере, он позволял вести себя так, будто каждый клочок этой земли принадлежит им, будто им можно грабить крестьянские дворы, разорять поля, насиловать девушек.
Арвид прислушался. Сквозь сильный шум дождя не было слышно ни голосов, ни шагов. Затаившись в своем укрытии, мужчина прижался к дереву, обхватил ствол руками и прикоснулся к нему щекой. Ему хотелось хотя бы на миг поверить в то, что дерево – живое существо и он не один на целом свете. Одежда Арвида и без того уже давно промокла.
Сколько времени прошло после побега Ричарда из Лана, он сказать не мог, но знал, что с тех пор ничего не изменилось. Возможно, Матильды уже давно нет в живых (те два воина, которых Осмонд предоставил ему для поисков, были в этом уверены и вернулись в Санлис), а Ричард был так далек от власти, как никогда.
Вероломный Гуго напал на Байе, Руан перешел в руки Людовика. В отличие от Гуго, король франков даже не стал осаждать город, Руан сдался без боя: так решил Бернард Датчанин, который знал, что сражаться с превосходящими силами противника не имеет смысла. Он приказал своим воинам сложить оружие и собрал бывших приверженцев Вильгельма, чтобы встретить Людовика с миром. Бернард заявил, что побег Ричарда якобы устроили несколько предателей, а сам он, Бернард Датчанин, никогда не поддерживал этот нелепый замысел. В конце концов, Ричард – еще ребенок, а король Людовик – взрослый мужчина, и только его можно признать правителем.
Арвид мог себе представить, как такое малодушие возмутило норманнских воинов, но все же Бернарду каким-то образом удалось их усмирить, а также убедить епископов и монахов включиться в игру. Игра эта была нечестной, покорность – притворной. Пока Людовик со своими воинами входил в город, а его жители изображали ликование и прославляли короля франков как освободителя, Бернард разрабатывал секретный план: укрепить уверенность короля в победе и тем временем продолжать делать все для возвращения Ричарда.
После шествия франков во главе с Людовиком по городу был устроен пир. Бернард велел подать на стол самые изысканные блюда и неустанно заверял сытого короля в том, что, увозя Ричарда в Санлис, Осмонд действовал у него за спиной. Воспользовавшись доверительной обстановкой, Датчанин решил сплести первую интригу.
– Я не понимаю только одного, – сказал он. – Нормандия охотно вам покорилась, народ считает вас своим королем. Почему же вы уступили Гуго часть земель вокруг Байе? Там люди встретили бы вас так же торжественно, как и здесь.
Бернард пошел на хитрость, а Людовик, наверное, просто был слишком тщеславен. Лесть и почет нравились ему настолько, что он не распознал намерение Бернарда вбить клин между ним и Гуго. Уже на следующий день Людовик приказал прекратить осаду Байе по причине заключения мира с норманнами. Не желая идти войной на франкского короля, Гуго подчинился его воле, хотя втайне поклялся отомстить за это.
Все эти новости Арвид услышал в Питре и в Руане. Свободно передвигаться по стране, которую, словно саранча, заполонили воины Людовика, становилось все труднее.
И все же во время его последнего приезда в Питр речь шла не только о плане Бернарда изображать покорность и втайне готовить восстание, но и кое о чем другом.
– Матильда ведь когда-то жила в монастыре на побережье, – сказала Спрота. – Я не понимаю, зачем ей так поступать, но она могла вернуться туда.
Арвид не верил в это, но в монастыре он Матильду еще не искал, и это обстоятельство придало ему новые силы. И вот он уже почти добрался до побережья.
Мужчина снова прислушался, но ничего не услышал и решился выйти из укрытия. Дождь немного утих, а воздух стал чище. Арвид энергично замотал головой, и мокрые волосы хлестнули его по лицу. Они отросли, тонзуру уже не было видно.
Посмотрев в обе стороны размытой дороги, Арвид не заметил всадников, но вдруг позади него раздался треск веток.
«Может быть, это просто животное», – подумал он и обернулся. Но ни одно животное, как ему пришлось осознать уже в следующее мгновение, не стало бы прикладывать к его горлу холодный нож.
– Не двигайся! – прошипел чей-то голос.
Арвиду предоставили ровно столько свободы, чтобы он смог медленно обернуться. Мужчина, который ему угрожал, был ниже, но плотнее, чем он сам; его одежда была простой, лицо морщинистым, а руки – мозолистыми. Сначала Арвид принял его за разбойника или грабителя, но потом из тени деревьев вышли другие люди. Одни были вооружены похожими ножами, а то, что держали в руках другие – серпы для уборки урожая, – совсем не напоминало оружие воинов. Очевидно, это были крестьяне.
– Франк или норманн? – спросил мужчина, который ему угрожал.
Никогда еще этот вопрос не казался Арвиду таким нелепым. «И тот и другой», – хотелось ему ответить, но этим он подписал бы себе смертный приговор.
– Норманн, – быстро сказал Арвид.
Видимо, это был правильный ответ – крестьянин убрал нож от горла Арвида.
– Так-так. Значит, ты тоже прятался от… них, – решил он.
Лица других мужчин ничего не выражали, хотя и казались уже не такими недоброжелательными.
– Что ты здесь делаешь? – спросил один из крестьян.
Надежды на спасение у Арвида почти не осталось, но он все же уцепился за нее и вкратце рассказал о своей пропавшей невесте по имени Матильда, которую он уже давно ищет.
– Вы не видели девушку, блуждающую по округе? – в отчаянии закончил он свой рассказ.
Крестьян, казалось, не удивило то, что в это время люди могли бесследно исчезнуть. Но человек, который заговорил с Арвидом первым, покачал головой.
– Сожалею, но здесь редко можно встретить одиноких женщин.
– А что вы здесь делаете? – спросил Арвид. – Что заставило вас уйти в лес? Да еще и с оружием в руках?
Мужчина опустил нож и провел пальцами по топору, висящему у него на поясе. Это была не секира, как у франков или норманнов, а именно топор, которым в лесу рубят дрова.
– Мечей у нас нет, но мы защищаемся, как можем, ведь никто другой нас не защитит. Бывшие правители Руана предоставили королю Людовику свободу действий, а он в свою очередь разрешил воинам творить любые бесчинства.
Крестьянин говорил с такой ненавистью, что Арвид едва устоял перед соблазном рассказать ему правду о том, что правители Руана не бросили народ в беде, но сейчас у них просто не было другого выхода, кроме как изображать покорность.
– В Руане король Людовик только и делал, что ел и пил, – продолжил крестьянин, – а еще раздавал титулы и приказы своим рыцарям, в том числе… – Он умолк, а потом зловеще произнес: – …человеку по имени Рудольф Торта.
Арвиду показалось, что он когда-то слышал это имя.
– Король уже вернулся в Лан, назначив Рудольфа Торту официальным наместником Нормандии. Этот человек не ограничивается обжорством и пьянством. Он бездумно тратит деньги и посягает на имущество, принадлежащее баронам, рыцарям и даже Церкви. Если бы против него не выступил какой-то священник, Торта разрушил бы Жюмьежский монастырь, где ему отказались отдавать ценности.
Арвид слушал и все больше приходил в ужас. После упоминания о Жюмьеже он внезапно почувствовал боль во всем теле и подумал о камнях, которые таскал, для того чтобы восстановить монастырь. А теперь этому монастырю грозит разрушение? Причем от руки франка и по поручению Людовика? Возмущение Арвида было сильнее, чем злорадство от того, что аббат Мартин, очевидно, сделал неправильный выбор.
– Плохо то, что франки нападают не только на богатых людей, но и на нас, крестьян, – пожаловался мужчина. – Каждый день они приходят, чтобы собрать новые налоги. Если вчера им хватало двух поросят, то завтра их должно быть уже четыре. Если раньше они довольствовались льняным семенем и чечевицей, то теперь требуют еще и зерно – и не осенью, а уже сейчас, весной, когда мы боимся, что земля не принесет нам урожая. – Он сплюнул, как будто отравился бы яростью, если бы этого не сделал. – Но в лес мы сбежали вот почему, – продолжил крестьянин, немного успокоившись. – Король Людовик обязал рыцарей и епископов предоставлять ему воинов на сорок дней в году. От своих людей они отказываться не желают, поэтому служить врагу заставляют простых крестьян.
Мужчина снова сплюнул, высморкался и наконец посмотрел вверх. С листьев стекали капли, но дождь уже прекратился. Крестьянин несколько раз с опаской огляделся по сторонам, а потом вышел из укрытия в тени деревьев. Другие крестьяне последовали за ним. Арвид поступил так же.
– Куда вы пойдете теперь? – поинтересовался он.
– Соблазн просто где-нибудь спрятаться очень велик, но если правители Руана струсили, то мы этого не сделаем. Мы решили предупредить о набегах франков даже самые отдаленные села. Здесь неподалеку живут старые крестьяне, Ингельтруда и Панкрас. Может быть, им вообще ничего не известно о том, что творится в этом жестоком мире.
Он решительно поднял топор, и Арвида растрогало желание этого простого человека защитить свою страну и людей, которые в ней живут.
– Присоединяйся к нам, – предложил крестьянин.
– Собственно говоря, я ищу монастырь Святой Радегунды.
– Возможно, Панкрас с Ингельтрудой укажут тебе дорогу туда.
Арвид кивнул, отвязал свою лошадь, взял уздечку и пошел вслед за мужчинами пешком. Хотя так он продвигался вперед намного медленнее, ему было приятно чувствовать, что теперь он не одинок в этом враждебном мире.
Раньше Ингельтруда думала, что в своем возрасте знает о жизни все и, поскольку все это принесло ей много мучений, больше ничего не сможет причинить ей боль. Но теперь она поняла: каким бы старым, смиренным и спокойным ни был человек, он все равно будет испытывать леденящий ужас, бояться за свою жизнь и пытаться спасти своих близких от внезапного набега чужестранных воинов.
Но это не имело никакого смысла. Было бы проще безропотно покориться этим людям и позволить им себя убить. Да и что они с Панкрасом могли сделать? Объяснить, что они давно не платили налогов, поскольку живут так одиноко, что о них забыл весь мир?
Судя по виду мужчин, окруживших своего предводителя, который представился Брокардом и утверждал, что пришел по поручению какого-то Рудольфа Торты, отвечать за это будет не весь мир, а только они с Панкрасом. Одиночество – это Ингельтруда тоже поняла, только когда мужчины, желая что-нибудь украсть или разрушить, обыскивали их кладовые, а потом и дом – могло дать лишь относительную защиту.
– Будьте вы прокляты! – Вопреки здравому смыслу Ингельтруда выплеснула свой гнев, от которого, казалось, уже давно избавилась. – Гореть вам в аду за то, что вы грабите двух стариков, которые живут тем, что заработали честным трудом. Да накажет вас Бог!
Втайне она не была уверена в том, что Бог их накажет, да и сами мужчины, по-видимому, в этом сомневались. Совершенно не боясь высшей справедливости, они зарезали кур, которые без головы пробегали по двору еще несколько шагов, и развели костер. Как заявили воины, они зажарят кур на огне, а затем подожгут дом и сарай. Они вытоптали поле, которое Панкрас с Ингельтрудой засеяли несколько недель назад, и толкали ногами маленькую кладовую до тех пор, пока ее шаткие стены с треском не рухнули. Мужчины не просто ухмылялись – теперь они хохотали, и громче всех смеялся Брокард.
– Отныне эти земли опять принадлежат франкам! А это значит, что здесь снова царят закон и порядок! Теперь вы больше не сможете прятаться за спинами норманнов!
Панкрас, наблюдавший за разрушением с опущенными плечами, предостерегающе покачал головой, но Ингельтруда уже не могла остановиться и продолжала выплескивать свой бессильный гнев:
– Мы никогда не прятались за спинами норманнов! Я старуха, и они грабили меня, как и вы сегодня. Мы ведь тоже франки.
Ингельтруда не просто разозлилась, как никогда, – за последние годы эта женщина не произносила столько слов за один раз, зная при этом, что все они совершенно бесполезны. Не важно, какая кровь течет в их жилах, – для этих людей они никогда не станут своими, а всегда будут лишь теми, кого можно пинать ногами. Один из мужчин именно это и сделал, когда Ингельтруда не перестала кричать, и попал ей в живот. У нее перехватило дыхание, и она затихла от боли. Упав на колени, женщина снова почувствовала на себе взгляд Панкраса. В этот раз он не качал головой, а смотрел на нее взглядом, полным сочувствия, словно безмолвно умолял ее: «Не сопротивляйся, мы ведь уже все равно почти мертвы. Радуйся, что мы все-таки дожили до старости».
Да, именно это Ингельтруда прочла у него на лице, и это еще больше разожгло ее гнев.
«Зачем, – Ингельтруда хотела выплеснуть горе, которое так давно носила в себе, – зачем нужна старость, если все наши дети умерли от холода и голода?»
Панкрас закрыл глаза и начал беззвучно шевелить губами. Может быть, в этот момент он тоже думал об их детях и о том, что скоро с ними встретится. У него была эта надежда, он мог молиться, а вот она – нет. Ингельтруду ничто не побуждало к смирению, ничто не укрепляло ее веру в то, что человек, который покорно переносит страдания, будет вознагражден и что за порогом смерти находится светлое царство, где играют их дети. На земле они почти не играли. Они начинали помогать по дому и хозяйству, едва научившись ходить.
– Мерзавцы проклятые! – кричала Ингельтруда, пока не охрипла, и, несмотря на боль, поднялась на ноги. – Паршивцы, выродки! Чтоб языки и члены ваши отсохли! Чтоб…
Договорить женщина не успела. В этот раз ее не стали пинать. Один из мужчин замахнулся и сначала ударил ее по лицу, так что она ощутила во рту привкус крови, а потом снова потянулся к ней и разорвал ее халат. Ингельтруду обдало холодным воздухом, и она почувствовала, как ее хватают мозолистые руки. У нее были дряблые мышцы, а кожа казалась слишком большой для ее сморщенного тела и свисала складками. Но, видимо, мужчин, которые, проголодавшись, ели заплесневевший хлеб, а испытывая жажду, пили перебродившее вино, это не смутило. Они получили бы удовольствие даже от старого, дряблого тела, потому что удовольствие для них значило не согревать и нежно исследовать другого человека, а подчинять и унижать его.
Теперь в Ингельтруду вцепились еще двое, и как бы она ни сопротивлялась, это было бесполезно. Панкрас до сих пор не открыл глаза. Хорошо. Пусть вспоминает об их детях, пока ее будут насиловать. Она уже давно не может зачать ребенка.
Женщину прижали к земле, схватили за бедра и развели их в стороны. Ингельтруде казалось, что ее тело разрывают надвое. Но оно осталось целым. Вместо кулаков на нее обрушились комки земли, отлетающие от лошадиных копыт. Мужчины отпустили Ингельтруду, она смогла соединить ноги и подняться. Женщина увидела подъехавшего всадника. Его лицо не выглядело грубым и жестоким, как у франкских воинов, а на его поясе, более широком и красивом, чем у крестьян, не висел меч.
– Что здесь происходит?
Всадник приехал не один, с ним были еще трое – пешие, но вооруженные серпами и ножами. Им это не поможет: вчетвером они были в меньшинстве. Ингельтруда поняла это сразу, как и Брокард. Он подошел к всаднику и посмотрел на него сначала с подозрением, а потом с насмешкой.
– Мы устанавливаем закон и порядок, – протянул он.
– Насилуя пожилых крестьянок? Разве этого король Людовик хочет для Нормандии?
Брокард ухмыльнулся. Женщина знала, о чем он думает, она и сама думала об этом: бороться за справедливость не благородно, а глупо. За Ингельтруду еще никто никогда не заступался, и уже только ради этого – чтобы увидеть, как против рева чудовищ восстает чей-то голос, – стоило дожить до старости и выдержать столько лет одиночества.
– Какое тебе дело до этого?! – воскликнул Брокард. – Кто ты вообще такой?
Ингельтруда увидела, как в глазах мужчины сверкнул страх, а также надежда на то, что ему все же удастся выбраться из этой ситуации живым.
– Я из окружения Бернарда Датчанина.
Ингельтруда истово желала, чтобы эти слова спасли его, желала этого ему, незнакомому всаднику, еще больше, чем себе и Панкрасу. Но мужчины, разорвавшие ее одежду и повалившие ее на землю, теперь набросились на этого человека и после короткой безнадежной борьбы стянули его с лошади. Крестьяне, которые пришли вместе с ним, не стали ему помогать, а сбежали, воспользовавшись случаем.
Женщина набросила свое одеяние на голое дряблое тело. Она больше не чувствовала бессильного гнева – теперь ей хотелось плакать.
– Так-так… Бернард Датчанин… – произнес Брокард. – Это может быть интересно. Посмотрим, что ты нам о нем расскажешь. Думаю, он скрывает несколько тайн, которые тебе известны.
Страх на лице незнакомца стал еще более отчетливым. А еще на нем появилось упрямое выражение. Сожаления о том, что он за нее заступился, Ингельтруда в его чертах разглядеть не смогла.
– Вы позорите своего короля, – процедил мужчина.
Брокард оставил эти слова без внимания.
– Боюсь, добровольно ты мне эти тайны не расскажешь, не так ли?
Он повернулся к воинам и указал на костер:
– Нагрейте кусок железа!
Ингельтруда больше не могла смотреть на незнакомца. Она взглянула на Панкраса, увидела, что он уже открыл глаза, но не перестал молиться, и догадалась: он молится не за их умерших детей, а за этого мужчину. Пусть он не смог спасти их от этих чудовищ, но спас от безнадежной уверенности в том, что весь мир пронизан жестокостью и что в нем нет ни одной доброй души.
Матильда долго не могла определить, как лучше защитить ребенка: спрятаться в своей тюрьме, чтобы никто не заметил ее живота, который скоро, несомненно, увеличится, или изобразить покорность, чтобы получить свободу и подкрепиться.
Поскольку девушка голодала, у нее рос не живот, а только страх из-за того, что ребенок уже умер. «Но даже если он еще жив, – промелькнуло у нее в голове, – он скоро умрет, если я и дальше буду прозябать здесь».
Однажды настал день – Матильда не знала, провела она в неволе несколько недель или месяцев, – когда она была готова пообещать все, что угодно: полное подчинение, безграничную преданность, свадьбу с любым мужчиной. Собрав все свои силы, она закричала в холодную пустоту, что выполнит требования Авуазы. Девушка долго думала, что ее никто не слышит, но вдруг дверь отворилась.
Матильда не смогла выйти из пещеры самостоятельно: у нее подкосились ноги, и к Авуазе ее отнес незнакомый воин. Дневной свет бил девушке в глаза; наверное, они были красными и опухшими. Растрепанные волосы, жесткие от морской воды, которая постоянно на них капала, закрывали ей лицо. В ушах у нее все еще стоял гул.
Должно быть, она выглядела ужасно, но ее мать этого не заметила. Очевидно, то, что Матильда решила сдаться, было не единственной хорошей новостью.
– Представляешь, – торжествующе воскликнула Авуаза, – в Нормандии Турмоду и Седрику сначала пришлось отступить: их разбил Гуго Великий, который осаждал Байе! Но он покинул страну, и вскоре они предпримут новую попытку, теперь уже совместно с жителями Котантена.
Матильда не поняла ни слова, но кивнула, и, видимо, Авуаза сочла это достаточным основанием для того, чтобы послать своих людей за водой – не соленой морской, а пресной. Ей принесли два ведра, а также льняные полотенца. Женщина собственноручно вымыла Матильде голову и стала растирать ее тело – сначала осторожно, а потом так сильно, что девушке показалось, будто ее кожа горит. Возможно, Авуаза думала, что таким образом можно устранить не только грязь, но и мятежные мысли, которые противоречили ее плану.
Избавиться от соли и грязи было очень приятно, но Матильда все же боялась, что мать заметит ее живот, немного округлившийся ниже пупка. Однако Авуаза этого не увидела, как не увидела и многочисленные ссадины на теле дочери. Она торжествующе продолжила:
– Ходят слухи, что Харальд, сын датского короля, собирается вмешаться в битву за Нормандию. Он хочет встать на сторону Ричарда. Это нам не повредит. К счастью, Харальд люто ненавидит Алена Кривая Борода. Он будет только рад освободить Бретань от этого мерзкого святоши, и тогда, чтобы объединить народ, понадобитесь вы с Аскульфом.
Матильда все еще не понимала, о чем говорит Авуаза, но ей казалось смешным то, что она может кому-то понадобиться: хотя теперь девушка была более-менее чистой, ее одежда изорвалась, а сама она ослабела настолько, что с трудом держалась на ногах.
Авуаза накинула на Матильду свежее платье и протянула ей хлеб, смоченный в вине, чтобы та немного подкрепилась. Но опасения, закравшиеся в душу девушки, высказали другие люди – советники Авуазы, которых она пригласила войти.
Матильда обвела мужчин внимательным взглядом. Это были брат Даниэль, Аскульф и тот человек, которого называли Деккуром. Он был слепым, и он первым возразил Авуазе:
– Ты слишком сильно полагаешься на поддержку Турмода и Седрика. Вспомни, они не бретонцы, они приехали из Ирландии. Кто знает, на чьей они стороне? И тем более это касается Харальда. Что ты можешь ему предложить?
Авуаза бросила на него уничтожающий взгляд: наверное, Деккур уже не в первый раз высказывал сомнения по поводу ее планов. Воцарилось молчание, и у Матильды закружилась голова. Лица присутствующих стали расплываться, и только лицо монаха она видела четко. Он вдруг подошел к ней и прошептал ей в ухо:
– Деккур – брат Рогнвальда. В день святого Михаила, когда бретонцы подняли восстание против Фелекана, Деккура оскопили и выкололи ему глаза.
Матильда понятия не имела, для чего он ей это говорит. Видимо, ему нравилась эта история, ведь она доказывала: тот, кто сеет насилие, иногда сам становится его жертвой.
– Я долго жил в лесу отшельником, – продолжил он. – Там я тоже знал одного скопца. Он был монахом, как и я, и он оскопил себя сам, потому что демоны поставили его перед соблазном совершить противоестественный блуд с одним из братьев.
Монаха это забавляло, а в Матильде поднималась волна отвращения.
– Закрой рот! – прошипела Авуаза.
«К кому она обращается, к Деккуру или к брату Даниэлю?»
Как бы там ни было, теперь она обращалась не к ним, а к Матильде:
– Могу ли я рассчитывать на твою преданность?
Этот вопрос она уже задавала, и девушка ответила утвердительно. Видимо, Авуаза хотела, чтобы она повторила это при всех.
Матильда попыталась справиться с головокружением. Она знала: что бы она сейчас ни сказала, это должно прозвучать убедительно. Авуаза ослеплена, она легко поверит всему, но Деккур распознает ложь по тому, как дрожит ее голос, а монах Даниэль, очевидно, только и ждет, когда другие люди потерпят неудачу, поссорятся, соврут или погибнут, а он сможет этому порадоваться.
– В детстве, – начала Матильда, – в детстве Рогнвальд… отец рассказывал мне историю о короле Хегни и его дочери Хильд. Хильд влюбилась в Хедина, и, чтобы быть вместе, они сбежали от ее строгого отца. Тот бросился в погоню, и на большом поле между его людьми и людьми Хедина состоялась битва. Она длилась всю ночь, и к утру почти все были убиты. Увидев мертвых воинов, Хильд пришла в отчаяние и попросила Одина, чтобы он запретил валькириям забирать погибших в Вальгаллу. Все они вернулись к жизни, но лишь для того, чтобы на следующее утро снова сразиться друг с другом. Этот бой длится вечно.
Девушка не знала, когда эта история всплыла у нее в памяти: только что или в те долгие одинокие холодные часы, проведенные в темнице. Она знала лишь одно: в мире ее матери и, наверное, в мире отца эту историю рассказывали с восторгом и безо всякого сожаления о бессмысленной жестокости, подобно тому как Даниэль представлял себе страшные картины ослепления и оскопления с ухмылкой и блеском в глазах.
– Бой, который длится вечно, – произнесла Матильда, – это и твоя жизнь. Не правда ли… мама?
Может быть, она перестаралась. Даниэль хитро улыбнулся, Деккур нахмурился, и лишь лицо Аскульфа ничего не выражало.
Авуаза захлопала в ладоши:
– Я знала, что ты не сможешь отказаться от его наследства. Я знала, что однажды ты обо всем вспомнишь!
– Вечный бой… – пробормотала Матильда. – Я хочу, чтобы мы вели его вместе.
Вечером девушка снова увидела брата Даниэля. Он долго рассматривал ее, и под его задумчивым взглядом она невольно покраснела. Монах производил впечатление наблюдательного человека, которому способность вовремя оценивать ситуацию не раз спасала жизнь. Матильда подозревала, что он лучше, чем ее мать, умеет распознавать ложь, и невольно положила руку на живот, чтобы защитить своего нерожденного ребенка. Конечно, столь красноречивый жест был ошибкой.
О ее беременности монах все же не догадался: в конце концов, он был мужчиной, но, когда Матильда убрала руку с живота, подошел к ней и с язвительной ухмылкой сказал:
– Здесь, в Котантене, есть замок, его называют замком Пиру. Много лет назад его осаждали норманны. Жители замка умоляли Бога о спасении, и Он смилостивился над ними, а может быть, просто пошутил. Он превратил всех жителей в гусей, чтобы они поднялись в воздух и улетели. Норманны захватили и сожгли замок, но убивать им было некого. Жители замка так и остались гусями, и с тех пор они каждый год возвращаются в Пиру и печально кружат над своими бывшими владениями.
Матильда смотрела в сторону, стараясь выглядеть как можно более равнодушной. Она не знала, чего брат Даниэль добивается этим рассказом.
Он рассмеялся.
– Смотри, чтобы ты не превратилась в гусыню, – пробормотал он. – Может случиться так, что ты останешься ею навечно.
Теперь девушка осознала: хоть он и не догадался о ее беременности, но понял, что она обманула свою мать. Матильда испугалась и в то же время почувствовала облегчение от того, что хотя бы перед кем-то ей не нужно притворяться.
– Если бы такую легенду рассказывали о тебе, она была бы не о гусях, а о червяках, – заметила девушка.
Монах снова рассмеялся. Видимо, за свою жизнь он испытал столько страданий, что его уже невозможно было обидеть. Матильда собиралась уйти, но потом решила использовать брата Даниэля для того, чтобы больше узнать о своем положении.
– Кажется, здесь, за валом, очень неспокойно. Тут постоянно ходят люди.
Он кивнул и откровенно сообщил:
– Это из-за того, что сюда прибывает все больше язычников из Дании. Твоя мать стремится заключить с ними союз.
«А значит, Авуаза будет принимать гостей, и это отвлечет ее внимание».
Матильда оглянулась и указала на воинов, охраняющих ворота вала.
– Кто эти двое? – спросила она.
И снова Даниэль не стал тянуть с ответом.
– Вромонок и Руалок, – ответил он. – Но если я правильно понимаю, тебя интересуют не их имена, а то, любят ли они выпить. Этим они занимаются каждый вечер. Однако в том, что они опьянеют настолько, чтобы дать тебе сбежать, я сомневаюсь.
Его хихиканье стало невыносимым.
– Я не собираюсь сбегать! – горячо возразила девушка.
– Конечно же нет! – язвительно произнес монах, а затем ушел, наклонив голову.
Матильда видела, как от смеха у него трясутся плечи. Его веселье казалось ей таким же неискренним, как и ее недавнее обещание.
«Ему не смешно, – подумала девушка, – ведь он и сам в отчаянии, совсем как те люди, которые, превратившись в гусей, летают над Пиру, понимая, что потеряли прежнюю жизнь навсегда. А когда они открывают клюв, чтобы посетовать на судьбу, из него вырывается только гогот. Они даже не могут выразить свое горе по-человечески: вздохами, плачем и стенаниями».
С тех пор Матильда избегала брата Даниэля, но жизнь ее оставалась такой же невыносимой, и ее по-прежнему угнетал страх за нерожденного ребенка. Пытаясь избавиться от этого страха, девушка днями и ночами бродила по двору.
Она часто смотрела на море, в темноте напоминавшее черное покрывало. В нем отражался серп луны, похожий не на небесное тело, знак славы и величия Господа, а на опасное оружие, твердое и острое, прикоснувшись к которому можно было порезаться до крови. Иногда девушка, стоя на валу, с тоской вглядывалась в леса вдалеке. Хотя ночью они напоминали темную стену, она была не такой непреодолимой, как вал, и обещала стать не тюрьмой, а укрытием для того, кто все еще думал о побеге.
Однажды вечером Матильду остановил какой-то человек. Это был Аскульф – мужчина из камня, как она мысленно его называла, – родственник ее отца и, по решению Авуазы, ее будущий супруг. Аскульф и она – король и королева Бретани. Матильда подавила дрожь.
– Я хочу побыть одна.
– Меня ты больше не обманешь, – предупредил Аскульф. – Я не дам тебе сбежать.
То, что он произнес эти слова совершенно бесчувственно – без злорадства, раздражения или презрения, – ранило Матильду еще больше. Быть пленницей плохо, но еще хуже жить среди таких холодных людей, сломленных, одержимых или просто равнодушных, чьи глаза хоть и блестят иногда, но никогда не излучают тепла. Ей вдруг захотелось увидеть пылающий огонь, пусть даже он обжег бы ее тело.
– Ты много раз безуспешно пытался привезти меня сюда, – язвительно сказала Матильда. – Должно быть, Авуаза наказывала тебя за твои неудачи.
Девушка не ошиблась: за твердой оболочкой скрывалось больное самолюбие, и его легко можно было уязвить.
– Замолчи! – крикнул Аскульф.
Но она продолжала выплескивать тот яд, от которого в последние дни так часто страдала сама.
– А ведь она всего лишь женщина, – насмехалась Матильда. – Тебе как воину наверняка было неприятно терпеть от нее унижения. Не понимаю, почему ты ей подчиняешься.
Она видела, как челюсти мужчины ходят ходуном, но он больше не позволил ей его оскорблять.
– Скоро ты тоже мне подчинишься, – пригрозил он, – и ты не будешь сопротивляться… Скоро ты станешь моей женой…
Девушка отвернулась. Ей больше не доставляло удовольствия оскорблять Аскульфа. Услышав звук его удаляющихся шагов, Матильда окончательно потеряла надежду. Он прав: она не сможет сопротивляться. Не сможет убежать. Не сможет защитить ребенка Арвида.
Перегнувшись через ограждение, Матильда посмотрела вниз: вид открывался пугающий, но в то же время обнадеживающий. Если она упадет, то разобьется об острые камни. Ее смоет волнами, и больше никто не сможет причинить зло ей и ее ребенку.
С другой стороны, никто и никогда не узнает о существовании этого ребенка, и эта мысль испугала Матильду больше, чем мысль о собственной смерти.
Девушка отшатнулась, и в тот же миг у нее за спиной раздались шаги, более тихие, чем у Аскульфа. Человек, который к ней приближался, был хрупким и невысоким. Матильда обернулась, ожидая увидеть монаха, но увидела морщинистое лицо старой женщины.
Это лицо было ей незнакомо, однако голос, который к ней обратился, она знала.
– Матильда, – произнесла женщина, – ты помнишь меня, Матильда?
Девушка застыла. Это был голос из ее воспоминаний, голос из ее снов, голос, говоривший о том, что ее отец принес большое горе ее матери.
– Кто ты? – спросила она.
Женщина подошла ближе и взяла Матильду за руку. Рука была теплой, а прикосновения успокаивающими.
– Я знаю твою мать с детства. Я ее давняя подруга, которая никогда не бросала ее в беде.
– Как тебя зовут?
– Эрин. Я дальняя родственница Авуазы, и я тоже пережила все это… как и Кадха.
– Мать Мауры, – пробормотала Матильда.
– Да, мы втроем дрожали от страха, когда Рогнвальд ворвался в замок. Потом твоя мать перешла на его сторону. Кадха, которую изнасиловал один из воинов Рогнвальда, родила ребенка и стала страстно ненавидеть всех норманнов, а значит, и тебя. А я… Я единственная успела спрятаться. Я всегда беспокоилась о твоей матери. И о тебе я тоже беспокоилась, ведь я желала тебе добра.
Ее голос дрожал.
– Ты все еще желаешь мне добра? – спросила Матильда.
К ее удивлению, Эрин крепче сжала ее руку. В голосе этой женщины прозвучала печаль, но вместе с тем и решимость.
– Я была рядом, когда ты родилась. Кадха кормила тебя молоком, но ухаживала за тобой я. Когда тебя увозили в монастырь, я рыдала. Твоя мать уже давно выплакала все слезы. – Женщина ненадолго замолчала. – Авуаза думает, будто ты должна исправить то, что разрушилось в ее жизни.
– А что думаешь ты? – спросила Матильда, снова окидывая взглядом лес, который ей нужно было бы пересечь, чтобы вернуться к Арвиду.
– Я думаю, что ее желание все исправить повлечет за собой лишь новые разрушения. Некоторые раны никогда не заживают. С ними нужно научиться жить.
– Цветочный луг, – пробормотала девушка, – я помню цветочный луг на берегу моря. Ты знаешь, где он находится?
Эрин кивнула:
– Это мыс на западе, выступающий далеко в море. Когда-то Рогнвальд сошел там на берег и часто туда возвращался. Ему нравилось это место.
– А моей матери оно тоже нравилось?
– Тому, кто так долго отрицает свою ненависть, пока она не превращается в притворную любовь, не может нравиться никто и ничто. Авуаза утверждает обратное, но я думаю, что на самом деле ее не волнуют ни земли, за которые она сражается, ни дочь, которую она искала много лет. У нее сильная воля и невероятное упорство, но ее душа давно обледенела.
В глазах Эрин заблестели слезы: сейчас, как и тогда, она плакала об Авуазе. И о Матильде. Могла ли она ожидать от этой женщины большего?
– И что теперь? – спросила девушка.
Щеки Эрин были сухими.
– Теперь я тебе помогу.
Железо раскалилось докрасна. Еще чуть-чуть, и оно станет достаточно горячим, чтобы испепелить его кожу и тело. Арвид постарался приготовиться к боли, но знал, что у него ничего не выйдет. Эта боль будет страшной, не сравнимой с той, которую он испытывал раньше. Хоть это и было бессмысленно, но, когда мужчины схватили его, он напряг каждую мышцу и попытался обороняться. Их было слишком много, чтобы можно было им как-то противостоять: Арвид понял это сразу, но не смог не вмешаться, когда увидел, как они пытаются надругаться над старой крестьянкой. В отличие от мужчин, которые привели его сюда, она не убежала, а лишь смотрела на Арвида сочувствующим и в то же время благодарным взглядом. На лице предводителя воинов, напротив, не было никаких признаков человечности, когда он поднял кусок железа и неторопливо приблизился.
– Рассказывай нам все, что знаешь.
У Арвида пересохло во рту. Он не мог ни отвести взгляд от раскаленного железа, ни держать язык за зубами. Он говорил много и быстро, хотя пока сообщал только безобидную информацию – факты, о которых знал весь мир: где сейчас находится Ричард и кто помог ему бежать. Но Арвид догадывался: скоро он расскажет и то, что непременно должно остаться тайной: Бернард Датчанин тянет время, лишь изображает покорность и хочет выгнать Людовика из страны.
Брокард поднес железо еще ближе. Да, этот человек сможет выжечь из него правду. Когда тело Арвида обуглится, а в воздухе запахнет паленым, враг будет знать все, что известно ему самому. Неясным оставалось только одно: как долго гордость поможет ему выносить жар раскаленного докрасна железа и терпеть боль.
Арвид не был воином, которому эту гордость внушили строгим воспитанием. Он даже не был монахом, который ставил счастье других выше собственной жизни. Он был обычным человеком, который боялся боли и теперь молил о пощаде.
– Нет, – услышал он свой крик, – нет! Не делайте этого. Я вам не враг… Моя мать… В ее жилах тоже текла кровь франков, как и в ваших. И не простая кровь…
Он замолчал. Где-то в глубине души Арвид понимал: умолять их не имеет смысла. И что-то у него внутри отказывалось унижаться дальше. Возможно, это передалось ему от отца, который в такой ситуации стал бы сопротивляться врагам, но не потому, что был сильным и гордым, а потому, что из-за своего безумия не боялся боли. Когда ему причиняли муки, он чувствовал себя более живым, чем когда ему делали добро. Впервые Арвида не испугала мысль о том, что он сын своего отца. Сила, текущая по его жилам, была не враждебной – она не позволяла впасть в панику и шептала: «Не плачь из-за жестокости людей. Смейся над ними».
От напряжения и страха Арвид действительно разразился хохотом. Он смеялся так громко и звонко, как никогда. Брокард опустил кусок железа и вместо этого ударил Арвида кулаком по лицу.
Арвид почувствовал, как лопнула его кожа, треснули кости и брызнула кровь. Но он продолжал смеяться, заглушая гневные вопросы Брокарда и голоса других воинов, и только внезапно раздавшийся стук копыт его смех заглушить не смог.
Арвид не верил, что близится его спасение, но, когда подъехали всадники, воины, державшие его, ослабили хватку. Красная пелена перед его глазами разорвалась, а боль уступила место головокружению. Сплюнув кровь, Арвид заметил, что всадники были не франками, а норманнами.
Только теперь Арвид осознал: его уже отпустили, он рухнул на землю и у него мокрые штаны – но не потому, что он упал в лужу, образовавшуюся после дождя, а потому, что обмочился от смертельного страха.
Арвид больше не смеялся – теперь он чувствовал себя жалким, тем более что одного из всадников он узнал. Это был воин графа Вильгельма, Йохан. Арвид смутно припоминал, что однажды дрался с этим мужчиной и с тех пор тот его возненавидел. Но сейчас все это не имело значения, ведь франков Йохан ненавидел еще больше.
– Что здесь происходит?! – взревел он.
Брокард смерил его суровым взглядом:
– Не вмешивайтесь, не навлекайте на себя беду. В этой стране у вас больше нет власти.
– Что касается страны в целом, может быть, – ответил Йохан. – Но здесь, в этом дворе, у меня явно больше людей, чем у тебя.
– Страной правит Торта. Если он узнает, что ты…
– Если вы все умрете, он ничего не узнает.
Йохан поднял руку, и его воины обнажили мечи. Через мгновение люди Брокарда поступили так же. Никто не двигался: все ждали, что враг нападет первым.
«Если это произойдет, – подумал Арвид и вздрогнул от страха, – то все закончится ужасным побоищем».
Что бы тогда ни придало ему сил для смеха, теперь у него осталось лишь отчаянное желание спасти свою жизнь. Пригнувшись, Арвид в мокрых штанах побежал к крестьянке. От нее не стоило ждать помощи, но рядом с человеком, который так же дрожал от страха, Арвид чувствовал себя немного увереннее.
Женщина уставилась на него невидящим взглядом и туже затянула разорванное одеяние на сморщенном теле.
– Спасибо, – произнесла она.
Глядя в ее глаза, Арвид видел измученную душу целой страны, в которой люди гораздо чаще вели себя как враги, а не как друзья.
– Спасибо, – повторила женщина.
Внезапно воины Рудольфа Торты стряхнули с себя оцепенение. Изрыгая проклятия и оскорбления, они пришпорили лошадей. Видимо, они поняли, что сражаться с превосходящими силами противника бессмысленно. И только когда воины умчались прочь, Арвид увидел на земле брошенный ими кусок железа, который уже остыл. Кроме ссадин от удара, на его теле не было никаких ран.
Крестьянка опустилась на колени, и Арвид хотел сделать то же самое. Лишь пристальный взгляд Йохана удержал его от этого. Заметил ли воин его мокрые штаны?
– Вы подоспели в последний момент… – запинаясь, проговорил Арвид.
– Да, иначе ты рассказал бы о планах Бернарда еще больше, – прошипел Йохан.
Теперь, когда франков рядом не было, в нем снова вспыхнула ненависть к Арвиду, но все же Йохан, вероятно, осознал, что сейчас не время давать волю своим чувствам.
– Нам нужно как можно скорее уехать отсюда.
– Но ведь я должен…
Арвид отвернулся от Йохана и поспешил к крестьянке.
– Матильда… Я ищу девушку по имени Матильда. – Страх боли и смерти сковал его горло, и когда он объяснял, зачем прибыл в это отдаленное место, его голос хрипел.
Благодарность крестьянки сменилась сожалением.
– Мы с мужем однажды приютили у себя девушку. Ее тоже звали Матильда. Но это было давно…
Могло ли раскаленное железо причинить ему такую же боль, как крушение надежд, которые разожгли ее первые слова и погасили последние?
– Значит, она была здесь, – прошептал Арвид, огляделся и посмотрел на двор новыми глазами. Здесь она ходила, говорила, дышала…
Но следов ее присутствия нигде не осталось. Нигде, кроме его сердца.
– Ты хочешь пустить тут корни? – нетерпеливо проворчал Йохан.
Арвид в последний раз обвел взглядом двор. Его занесло туда, где Матильда когда-то нашла приют, – разве это не чудо, вселяющее надежду на еще одно? На то, что однажды они окажутся в одно время в одном и том же месте?
Но, может быть, это вовсе не чудо, а всего лишь совпадение, а они слишком непредсказуемы и случаются слишком редко, чтобы на них можно было рассчитывать.
– Я непременно должен найти монастырь Святой Радегунды, – упорствовал Арвид.
– Еще чего! – разозлился Йохан. – Повсюду шастают люди Рудольфа Торты. Если ты еще раз попадешь к ним в руки, они заставят тебя выболтать все тайны.
Этого Арвид отрицать не мог.
– Как… как обстоят дела в Руане? – сменил тему он.
– Плохо, очень плохо. Норманны подвергаются страшным гонениям. Один франк даже попытался надругаться над женой Бернарда. Чтобы спастись, ей вместе с сыном Торфом пришлось уплыть в Данию.
– Как Людовик мог допустить это?
– Ха! Бернард пожаловался ему, но король не делает ничего, чтобы ограничить власть Торты.
– И что теперь?
– У Бернарда есть новый план… Но он расскажет тебе о нем сам. Пойдем с нами.
Голос Йохана был пропитан презрением, и Арвид не мог бы с уверенностью сказать, действительно ли причиной тому послужила их драка. Ненависть казалась не давней, а свежей, как будто тогда он не только набросился на воина, но и глубоко оскорбил его.
Вдруг Арвид почувствовал себя слишком слабым, чтобы думать об этом. Он вскочил на лошадь, осознав, что не сможет спасти Матильду, если люди Рудольфа Торты подвергнут его пыткам и убьют.
Взгляд Арвида в последний раз упал на крестьянку – женщину, которая когда-то говорила с Матильдой, может быть, прикасалась к ней и кормила ее. Он не мог сказать этой женщине ничего утешительного. Сегодня они избежали опасности, но завтра над ними может нависнуть новая. Арвид знал это, и она тоже знала.
А вот Йохан, который до сих пор не обращал внимания на простых людей, бросил им через плечо:
– Потерпите еще немного! Скоро произойдет великая битва, во время которой решится все.
Они провели в пути три дня, и объяснялось это не дальним расстоянием, а тем, что им постоянно приходилось прятаться и делать долгие привалы. Недавно норманнским воинам запретили носить оружие. Если они встретят большую группу франков, то потеряют и оружие, и свою жизнь. Это все, что Йохан рассказал Арвиду. В остальном он был немногословен.
Арвид донимал его расспросами, пытаясь узнать больше о великой, решающей битве, на которую Йохан намекнул Ингельтруде, но воин отказался об этом говорить. Более того, он только сейчас сообщил Арвиду, что направляются они не в Руан, а в отдаленный замок.
– Бернард там? – удивился Арвид.
– У него не осталось выбора, ведь Рудольф Торта занял его замок в Руане. А после побега жены и сына его больше ничего не держит.
Арвид огляделся по сторонам. Он не мог определить, как далеко они сейчас от побережья и находится этот замок на востоке или на западе Нормандии. Он больше не задавал Йохану вопросов, но и не стал благодарить его за спасение. Арвид был уверен, что воин вмешался только потому, что не смог бы объяснить своим людям, почему они бросили норманна на произвол судьбы, а также потому, что должен был помешать ему разболтать тайны.
Когда Арвид вошел в зал замка, Бернард оживленно обсуждал что-то с мужчинами, которых Арвид не знал. Имена и названия, упомянутые в разговоре, ему тоже ни о чем не говорили.
Бернард обратился к нему сразу, как только его увидел:
– Хорошо, что ты здесь.
Несмотря ни на что, Арвид не смог удержаться, чтобы не спросить Бернарда о том, слышал ли он что-нибудь о Матильде.
Тот даже не удосужился ответить на вопрос.
– Язычники – наша последняя надежда, – произнес он.
Арвид бросил на него вопросительный взгляд.
Бернард указал на свиток, который, видимо, получил совсем недавно:
– Корабли уже стоят на якоре возле Шербура.
– Чьи корабли?
– Харальда Синезубого. Благодаря тому, что ветер дул с северо-запада, он добрался сюда быстро. Если все пройдет благополучно, скоро он высадится на берег – наверное, недалеко от солеварен в устье реки Див.
«Харальд Синезубый? Он говорит о сыне датского короля?»
Замешательство Арвида возрастало, но на этот раз Бернард готов был объяснить ему ситуацию более подробно.
– Изображая перед Людовиком верного вассала, я втайне собирал войско. У меня слишком мало людей, чтобы противостоять франкам, но если мы объединимся с воинами Харальда, то сможем победить короля.
Бернард казался более взволнованным, чем обычно, и в то же время недовольным. Это был слишком рискованный план, чтобы человек, который охотнее прибегал к интригам, чем к оружию, принял его безоговорочно.
Арвид пытался вспомнить все, что знал о Харальде Синезубом. Знал он немного: только то, что его отец Горм подвергал христиан страшным гонениям, а сам Харальд хоть и не отличался такой жестокостью, но все же был язычником до мозга костей.
– Ты хочешь, чтобы язычники помогли нам освободить Нормандию?! – в ужасе воскликнул Арвид.
Бернард отвел взгляд.
– И ты можешь нам в этом помочь.
Арвид покачал головой:
– Я помог Ричарду бежать, потому что он сын Вильгельма, а тот был хорошим, благочестивым человеком. Но я никогда не встану на сторону язычников.
«И мне нужно искать Матильду», – мысленно добавил он. Арвид не знал, почему не произнес эти слова вслух. Вероятно, он не хотел слышать безысходность в своем голосе.
– Йохан рассказал мне, что франки тебя пытали и чуть не убили.
– Но я по-прежнему остался христианином!
– Как христианин ты должен стремиться к торжеству справедливости. Ричард – законный наследник Нормандии. Чтобы добиться признания его прав, мы должны воспользоваться всеми доступными способами.
Бернард отвернулся и, вздыхая, принялся мерить шагами комнату.
– Нам нужно действовать быстро, иначе будет слишком поздно. Не только потому, что люди Рудольфа Торты разграбят Нормандию, – нам грозит еще более серьезная опасность, и исходит она от Арнульфа Фландрского. Представляешь, он заключил мир с Эрлуином – с тем самым человеком, за которого вступился и отдал жизнь Вильгельм. Разве стал бы Арнульф уступать ему Монтрей, если бы не надеялся завоевать что-то большее? Нормандию например?
– Но он же не может всерьез надеяться…
– Может, – перебил его Бернард, – может. Скорее всего, его поддержит Гуго Великий, который не хочет, чтобы Нормандия досталась Людовику. Теперь ты понимаешь, почему мы должны объединить силы с Харальдом?
Арвид кивнул. Значит, именно об этой битве говорил Йохан. Битве норманнов и франков. Битве за Нормандию.
– Харальд привез из Дании двадцать тысяч воинов, мы сможем собрать приблизительно столько же. Теперь мы должны придумать, как объединить наши войска, не вызвав подозрений у Людовика. Нам нужно передать Харальду тайное послание, и тут в игру вступаешь ты.
– Я? Но чем я могу помочь?! – удивленно воскликнул Арвид.
– Ты мог бы стать посланником.
Арвид подумал о Йохане.
– В твоем распоряжении есть много воинов, более сильных и храбрых, чем я!
– Может быть. Но поскольку они воины, они бросаются в глаза. А вот монах может передвигаться по стране, не привлекая внимания людей Торты.
– Я не монах!
– Но ты знаешь, как он должен себя вести!
– Одна лишь ряса меня не защитит. Воины Рудольфа Торты напали и на Жюмьежский монастырь.
– Позорный поступок, не правда ли? Неужели ты не хочешь за это отомстить?
Арвид покачал головой. Перед каким нелепым выбором ставит его судьба! Конечно, новость о попытке Торты разграбить монастырь возмутила Арвида, но аббату он не желал добра. Еще более нелепым Арвиду казалось то, что снова надеть рясу ему нужно именно для того, чтобы передать послание королю-язычнику, который должен помочь спасти Нормандию. Мир сошел с ума.
– Тебе не удалось ее найти, – вдруг сказал Бернард и, повернувшись, посмотрел на Арвида пристальным взглядом.
Лишь теперь Арвид понял, что его собеседник не забыл о Матильде, как казалось на первый взгляд. Наоборот, Бернард обещал помочь в ее поисках в благодарность за то, что Арвид выполнит его просьбу.
– Почему Харальд Синезубый вообще вступается за Нормандию?
– Потому что его отец предпочитает вести торговлю с норманнами, а не с франками. Ты передашь послание?
Значит, датчанам нужны деньги, Бернарду – власть, а ему – что ж, ему нужна Матильда. Арвид сделал вид, будто обдумывает ответ, но на самом деле он готов был закрыть глаза на гораздо большее, чем на свое неодобрение планов Бернарда, ради того чтобы все-таки найти Матильду несмотря ни на что.
Иногда Матильда спрашивала себя, откуда у нее берутся силы. Силы лгать и изображать покорность перед Авуазой, чтобы таким образом усыпить ее бдительность. Силы убежать с Эрин – не ночью, когда вал охранял Аскульф, а утром, после завтрака, когда он уехал на охоту, а все остальные были слишком заняты обдумыванием планов, чтобы заметить ее исчезновение. Силы добраться до побережья через выточенную морем пещеру – свою бывшую тюрьму – и идти дальше на восток, а возле леса попрощаться с Эрин, которая, чтобы ввести Аскульфа в заблуждение, должна была проложить ложный след. И наконец, силы продолжать путь в Нормандию, даже после того как несколько дней назад у нее закончились скудные запасы еды.
Может быть, не Бретань, а именно эти силы были ее настоящим наследством, подаренным родителями. Хотя Матильда убегала от своей матери и никогда не считала ее таковой, все же их с Авуазой объединяло упрямство и твердая воля, позволяющая достичь однажды поставленной цели. У незнакомого отца Матильды тоже была сильная воля, и ее смогло сломить не море, разделяющее его суровую северную родину и вожделенную страну на юге, не жертвы, необходимые для того, чтобы ее завоевать, не поражения, – а лишь смерть.
Но Матильда не умерла, она хотела жить сама и сохранить жизнь своему ребенку.
Руки Рогнвальда, качавшие ее на цветочном лугу, были сильными – такими же, несмотря на истощение, были и ее руки. Девушка собирала хворост, разжигала кремнем огонь, засыпала землей пепел и охотилась на животных – прежде всего на зайцев, которые прыгали по полям, греясь на весеннем солнце, и поймать которых было легче, чем зверей в лесу. Матильда забивала их с несвойственным ей хладнокровием и точно знала: если бы понадобилось совершить такое же насилие над людьми, вставшими у нее на пути, она наносила бы удары с такой же решительностью. Однажды она уже вонзила нож в грудь Мауры, потому что умирать было страшнее, чем убивать.
С каждым шагом Матильда отрекалась от своих родителей, но каждый прожитый час доказывал, что она – их дочь. Почти всю дорогу Матильда преодолела в одиночестве и лишь изредка заходила в деревни и просила поесть. Почти всегда ее чем-нибудь угощали – либо потому, что она была всего лишь женщиной, и к тому же беременной, либо от радости, что внезапно появившаяся незнакомка не имела ничего общего с франкскими воинами Рудольфа Торты, внушающими страх.
Это имя часто звучало в разговорах с людьми, которых Матильда встречала во время побега, и она его запомнила. Кроме того, она узнала, что Нормандию захватил король Людовик, а чтобы его прогнать, на помощь позвали Харальда Синезубого. Девушка стремилась лишь к одному: выжить и вернуться домой, а пока воинов – датчан, бретонцев или франков – поблизости не было, она не желала испытывать страх.
Матильда не желала думать о Людовике, Ричарде или Бернарде – ей хотелось думать только об Арвиде. Как и раньше, он незримо присутствовал рядом с ней, утешал ее, придавал ей сил и с каждым шагом все больше убеждал ее не сдаваться.
Где и как его искать, Матильда не знала. От знакомых мест – Байе, Фекана, Питра и Руана – ее, казалось, отделяла вечность, и однажды силы начали покидать девушку. Ее согревало уже не игривое весеннее, а безжалостное летнее солнце. Стремление добраться домой часто уступало желанию прилечь в тени деревьев, смотреть в синее небо и тратить время впустую, вместо того чтобы разумно его использовать.
Только утром и вечером Матильда быстро продвигалась вперед. Она долго шла вдоль побережья, но однажды заметила вдалеке несколько кораблей и решила, идя по течению реки, направиться вглубь страны.
Здесь тоже было достаточно деревьев, тенистые кроны которых могли защитить ее от солнца, но когда девушка отдыхала, ее все чаще тревожили звуки: голоса, шаги, стук копыт, – и ей приходилось поспешно убегать.
В один из дней – Матильда как раз пыталась найти немного фруктов – стук копыт приблизился настолько, что вокруг задрожала земля. Девушка убежала в лес и спряталась в кустах, а когда звуки затихли, стала блуждать от одной поляны к другой.
Внезапно она очутилась на опушке леса и обнаружила перед собой не золотые поля и зеленые луга, а разноцветные палатки и павильоны. Их установили слуги воинов, и Матильда еще никогда не видела так много воинов, собравшихся в одном месте.
«Это франки?»
Матильда легла на землю и бесшумно подползла к одной из палаток, чтобы услышать голоса. Люди говорили на французском языке, но акцент был норманнский.
Земля снова задрожала. Девушка быстро вскочила, оглядываясь в поисках укрытия, но потом заметила, что к ней приближаются не лошади, а всего лишь крестьяне с запряженной волами повозкой, на которой были сложены корзины с продуктами, инструментами и одеждой. Этих людей она не боялась.
Матильда бросилась к одному из мужчин:
– Что здесь происходит?
Крестьяне уставились на нее невидящим взглядом. Так смотрят люди, которые только что оставили родину, чтобы спасти свою жизнь.
– Мы уходим в лес, потому что скоро начнется великая битва.
– Какая битва?
Ответа не последовало. Крестьяне пригнулись. Из леса, разогнав людей и животных, выскочила лошадь. Всадник, богато одетый, но безоружный, видимо, был посланником и не обратил на них внимания. Не успел он отъехать, как крестьяне погнали своих волов дальше.
В нерешительности Матильда смотрела им вслед. Может быть, ей следует бежать вместе с этими людьми? Или же нужно набраться смелости и подойти к одной из палаток – вдруг там окажется кто-то знакомый: Бернард Датчанин или Осмонд де Сентвиль? Но могла ли беременная женщина рассчитывать на сочувствие и помощь воинов, которые, готовясь к бою, обращали все свои мысли и чувства к убийству?
Матильда не двигалась, пока крестьяне не исчезли из ее поля зрения, а потом вернулась на опушку. Пока что она будет наблюдать и ждать.
Авуаза догадывалась, что Матильда упряма, но о безрассудстве, неблагодарности и корыстолюбии дочери она не подозревала. Даже если в жилах девушки течет кровь Рогнвальда и ее самой, в первом порыве гнева Авуаза с удовольствием пролила бы эту кровь. Единственным достойным наказанием за побег была смерть.
Но потом женщина все же осознала, что этим она накажет в первую очередь себя. А значит, придется ограничиться тем, что она будет избивать Матильду, таскать ее за волосы, морить голодом и снова держать ее в темнице. В какой-то момент ее воля сломается, как любая воля, которая не согнулась вовремя.
Авуаза выругалась на языке севера. Ее услышал только брат Даниэль.
– Почему ты так на меня смотришь? – фыркнула она.
– Матильда не единственная, кто с тобой не согласен. Деккур считает, что преследовать ее не имеет смысла. Он не покинет вал.
– Я не поручила бы догонять беглянку слепому человеку.
– Но и Аскульф не хочет возвращать Матильду.
Авуаза нахмурилась, только сейчас осознав, что не видела Аскульфа уже несколько часов.
Даниэль с презрением произнес:
– Он спрашивает себя, зачем ему эта строптивая молодая женщина. Разве он не племянник Рогнвальда? Разве, чтобы захватить власть, ему нужна еще и дочь этого человека?
– Глупец! – закричала Авуаза.
Наверное, Аскульфа оскорбило то, что Матильда не захотела выйти за него замуж.
– Он и вправду глупец, если не подумал об этом намного раньше, а вместо этого был всецело предан тебе и искал эту девушку.
– Ничего подобного! Он глупец, потому что Матильда не только дочь Рогнвальда, но и внучка Алена Великого. Она объединяет два народа.
– Но Матильда сбежала, – с издевкой напомнил Даниэль.
– Я ее догоню! – решительно крикнула Авуаза и неожиданно схватила его за руку. – И ты пойдешь со мной.
Язвительный спутник был лучше, чем никакого.
Брат Даниэль послушно последовал за ней, но в его словах снова прозвучала насмешка.
– Побег Матильды не единственная плохая новость, которую ты получила сегодня, не так ли? Это правда, что убит язычник Седрик – товарищ Турмода, а следовательно, один из твоих союзников?
На миг Авуазе показалось, будто ее грудь разорвется от бессилия и ярости. Эти неукротимые чувства будут сдавливать ее ребра, пока те не треснут, пока кости уже не смогут ее держать, и все, что от нее останется, – это жалкий комок плоти и крови, который будет беспомощно лежать на земле, разочарованный, отчаявшийся, одинокий. Внутри женщины все кричало: «Я так больше не могу».
Тем не менее Авуаза совершенно спокойно ответила:
– Но Турмод еще жив. Мы должны объединить наши войска и подождать, пока датчане прогонят франков из страны.
– Даже если все так и произойдет, это ни к чему не приведет, если мы не найдем твою дочь или если она и дальше будет отказываться от королевства, которое ты хочешь ей навязать.
Они дошли до конюшни. Женщина отпустила руку Даниэля.
– Матильда была моей последней надеждой, – с горечью сказала Авуаза. – Но на самом деле она, видимо, просто глупая растерянная девушка. Что ж, если она снова заупрямится, я сама стану королевой Бретани.
Брат Даниэль пристально посмотрел ей в глаза, и Авуаза догадалась, что он видит в них уже не боль, а безрассудство, в котором она обвиняла Матильду.
«Я схожу с ума, – подумала женщина. – Если я засмеюсь, то не смогу остановиться. Если заплачу, то пролью столько слез, что высохну изнутри».
– Почему ты хочешь ее догнать, если она тебе больше не нужна? – спросил Даниэль.
– Никто не может предать дело Рогнвальда и остаться безнаказанным!
Авуаза снова схватила его за руку и потащила к лошадям.
– Если бы я не провел с тобой много лет, я бы надеялся на то, что Матильда сможет от тебя спастись, – произнес Даниэль. – Но рядом с тобой люди теряют способность надеяться как на спасение других, так и на свое собственное.
Он сказал эти слова не насмешливым, как обычно, а глухим голосом. Лицо монаха не исказилось ухмылкой – на нем отражалась лишь усталость.
Прежде чем сесть на лошадь, Авуаза еще раз обвела взглядом скалистое побережье. Камни были испещрены трещинами, словно старческое лицо морщинами. Она и сама уже постарела. А Матильда, которая была еще молода, отреклась от нее.
Глава 9
В начале июля 945 года Бернард Датчанин решил, что их час настал. После того как Арвид сообщил датскому королю о том, где должны встретиться войска, а именно на реке Див, норманны направились к этому месту.
Пока среди воинов нарастало волнение, Бернард снова пошел на хитрость и велел Рудольфу Торте передать королю Людовику послание. В нем он заявил о своей беспомощности перед Харальдом, чьи корабли появились словно ниоткуда и угрожают стране, а норманнское войско якобы выступило лишь для того, чтобы отстоять власть Людовика в Нормандии. Бернард советовал королю провести переговоры с Харальдом Синезубым, у которого, несомненно, есть сильные воины, но все же он, Бернард, считает, что в Нормандию его привел не интерес к этой земле, а скорее жажда наживы. С помощью золота Харальда легко можно заставить повернуть обратно.
Король Людовик выступил в поход в тот же час, когда датские корабли Харальда Синезубого стали подниматься вверх по реке Див. Узнав об этом, Людовик, слишком легковерный, чтобы заметить обман, отменил закон, обязавший норманнов сдать все свое оружие. Теперь, готовые к войне, они встретились с франкскими воинами, притворились их союзниками и разбили лагерь на правом берегу реки, в то время как датские корабли под покровом ночи бесшумно причалили к левому. На рассвете следующего дня – палатки были еще окутаны туманом и казались призрачными видениями – всем стало ясно: решающий день настал.
Арвид не спал много ночей и в ночь на тринадцатое июля тоже не сомкнул глаз. Передав датскому королю послание, он вернулся к Бернарду, поскольку не знал, где еще может подождать развития событий. Теперь, когда Арвид снова снял рясу, стало невозможно определить, кем именно он является: советником, воином или священнослужителем.
Бернард Датчанин тоже не спал, а вот остальные похрапывали, пользуясь последней возможностью набраться сил. Арвид понятия не имел, как можно преодолеть волнение и успокоиться. Даже Бернард, видимо, не мог этого сделать. Его лицо посерело.
– Благодарю тебя за услугу, – пробормотал он. – Если бы ты не передал послание Харальду, мы могли бы потерпеть поражение.
Арвид только кивнул.
На рассвете они вышли из палатки и посмотрели на реку. В воде плавали ветки, и на них сидело несколько кричащих чаек. Еще недавно птицы кружили над датскими драккарами и потому оказались дальше от побережья, чем было велено природой. В утренней тиши на Арвида нахлынули воспоминания о недавних днях, которые прошли, как во сне. Когда после долгого пути мужчина наконец добрался до Харальда Синезубого, к нему отнеслись очень внимательно. Арвид ожидал попасть в другой мир, однако, несмотря на то что воины Харальда говорили на непонятном языке, носили меховые одежды, странные головные уборы и заметные украшения, во всем остальном они вели себя так же, как и мужчины, которых он знал. Те из них, кого жизнь еще не щелкнула по носу, были безрассудно смелыми и легкомысленными, а те, кто слишком часто видел, как человек, утром гордо размахивавший мечом, днем падал замертво, а вечером над его телом собирались стервятники, были более недоверчивыми и осторожными. Харальд обладал и рассудительностью, защищавшей его от принятия скоропалительных решений, и гордостью королевского сына, который выиграл достаточно сражений, чтобы не бояться борьбы с равным противником.
– Мы все еще можем потерпеть поражение, – пробормотал Арвид.
– У меня хорошее настроение, – возразил ему Бернард, но его бледное лицо и глухой голос свидетельствовали об обратном.
– Хорошее настроение?! – воскликнул Арвид. – Сегодня погибнут люди!
В гостях у Харальда он понял, что язычники – такие же люди, как и все остальные, но все еще не мог скрыть от Бернарда своего недовольства тем, что за помощью тот обратился именно к этому безбожнику.
Бернард пропустил его слова мимо ушей.
– Сегодня настанет час истины. Король Людовик наконец осознает, что норманны не подчинились ему и что все эти недели и даже месяцы я был вынужден притворяться и лгать.
– Во всяком случае, – вырвалось у Арвида, – ты всегда обманывал только других, но себя – никогда. Несмотря ни на что, ты знаешь, кто ты и чего хочешь.
Бернард удивленно посмотрел на него:
– А ты разве нет?
Арвид пожал плечами:
– Я долго не знал, на чьей я стороне. Пока Вильгельм был жив, я часто злился на него, потому что не мог вернуться в монастырь. Если бы у меня был выбор, я родился бы либо франком, либо норманном, но не тем, кто унаследовал черты обоих народов.
– Кем были твои родители?
Арвид прикусил губу, сожалея о том, что после бессонной ночи позволил себе сделать это откровенное признание. При дворе Вильгельма он не говорил о своем происхождении ни с кем, кроме Матильды.
– Это не важно, – быстро ответил Арвид.
Бернард не стал его расспрашивать. Они молча смотрели, как рассеивается туман, как разрывается серая небесная пелена, а за ней проступает еще бледное, но уже теплое солнце. Храп затих. Мужчины готовились к войне. Они были еще сонными, но громкие шаги и внезапно раздавшийся гул голосов вызвали всеобщее волнение.
Бернард вздрогнул. Несколько человек выкрикивали его имя, а потом подбежали к нему. Очевидно, все они были посланниками: одних отправил Харальд Синезубый, других – норманнские военачальники.
Арвид слышал не все, что они шепотом рассказывали Бернарду, но самое главное понял: норманнские воины, которые до сих пор участвовали в обмане, понимают, что датское войско находится рядом, и больше не хотят изображать дружбу с франками. Наоборот, они стремятся как можно скорее объединиться с датчанами, и несколько воинов под руководством некого Агральда уже переправилось через реку, чтобы с ним встретиться.
– Но разве еще не слишком рано? – ужаснулся Арвид.
Неожиданно лицо Бернарда расплылось в улыбке.
– Совсем нет, – ответил он. – Настало время последней лжи. Если хочешь на это посмотреть, пойдем со мной.
Чуть позже они вошли в палатку короля Людовика, находившуюся недалеко от их собственной. Снаружи она ничем не отличалась от палаток простых воинов, но внутри оказалась более уютной: земля была устлана подушками и шкурами животных.
«Кто эти люди, – невольно спросил себя Арвид, – которые во время войны берут на себя эту обязанность – не убивать, а раскладывать шкуры и подушки, чтобы перед убийством можно было хорошенько отдохнуть?»
Людовик как раз собирался одеваться. В Лане Арвид имел возможность поговорить только с королевой Гербергой, короля он сегодня видел впервые.
Фигура Людовика не внушала особого уважения, но по пронзительному взгляду голубых глаз, горделиво вздернутому подбородку и уверенным жестам было понятно, что этот человек привык командовать. Из-за рыжеватых волос и бледной кожи он выглядел невзрачным, а не представительным, но в его суетливых энергичных движениях чувствовалось дыхание юности. Очевидным было и тщеславие Людовика, которое сделает из него если не героя, то правителя, умеющего добиваться своего.
«Он мой родственник, – подумал Арвид, глядя на короля и пытаясь сохранять равнодушное выражение лица. – Мой дядя, приказавший меня убить». Если бы не Людовик, его жизнь никогда не вышла бы из привычной колеи. Он остался бы в Жюмьежском монастыре, никогда не узнал бы правду о своем происхождении, никогда не полюбил бы Матильду. Хотя Арвид не желал от этого отказываться, его ненависть возрастала, и он быстро опустил глаза, чтобы себя не выдать.
Бернард Датчанин скрывал свои чувства лучше.
– Я безгранично верен вам, мой король, – произнес он с покорностью в голосе, – но боюсь, что среди моих людей есть предатели. Несколько воинов решили перейти на сторону датчан.
– Несколько?
– Несколько сотен, – робко пробормотал Бернард.
Людовик сжал пальцы в кулак:
– Проклятье! Предатели заплатят за это кровью!
– Я прошу вас сохранять хладнокровие. Есть возможность предотвратить битву.
– И что вы посоветуете?
Бернард доверительно наклонился к Людовику:
– Я слышал, что Харальд Синезубый только что переправился через реку. Он готов вести с нами переговоры при условии, что в это время не начнутся сражения.
Арвид поднял глаза, и его ненависть уступила место злорадству. Людовик ничего не заподозрил. Он не догадывался о том, что Арвид знал уже давно: пока будут длиться переговоры и король будет думать, что он в безопасности, датские и норманнские войска окончательно объединятся, а потом совершат неожиданное нападение. Бернард часто повторял: чтобы выиграть войну, нужно не только убить врага, но и терпеливо дождаться, когда для этого наступит подходящий момент.
– Харальду действительно нужно только золото? – с недоверием спросил Людовик.
– Думаю, он обязательно упомянет о безнаказанном убийстве Вильгельма и о том, что Ричард – законный наследник Нормандии.
– Об этом вы мне ничего не говорили! – вспылил Людовик.
– Наверняка он сразу же успокоится, – поспешил заверить короля Бернард. – Его преданность мертвому человеку не может быть сильнее жадности. А Харальд понимает, что Ричард не даст ему так много золота, как вы.
Воцарилось молчание. Наконец Людовик кивнул.
– Хорошо, – произнес он. – Пригласите принца Харальда в мою палатку.
Бернард ничем не выдал своего ликования. Он тоже кивнул, а потом вместе с Арвидом и другими мужчинами вышел на улицу, отправил посланника к Харальду и стал дожидаться его прибытия.
Бернард показал на небо.
– Когда солнце поднимется высоко, мы начнем бой, – шепнул он Арвиду. – Ты не воин, садись на лошадь и уезжай, пока есть время. Все будут думать, что ты посланник.
Арвид кивнул, но особой радости не испытывал. Ему совершенно не хотелось оказаться на поле боя, но он понятия не имел, куда бежать. Спросить об этом Бернарда он уже не мог, потому что тот, увидев Харальда Синезубого, пошел ему навстречу, чтобы поприветствовать его и провести в палатку короля.
Арвид направился обратно к лагерю норманнов, стараясь не спешить. У него еще оставалось достаточно времени: пока ничто не указывало на то, что скоро начнется сражение. Наоборот, несмотря на утреннюю суету, солнце, медленно поднимающееся на ярком голубом небосклоне, а также бирюзовые воды Дива, птицы над головой и жужжание мух дарили ощущение мира.
Вместо того чтобы немедленно уехать, Арвид вошел в палатку Бернарда и подкрепился кашей. Сквозь щель в палатку попадали теплые солнечные лучи, которые создавали обманчивое впечатление, будто смертоносная битва не может начаться, пока день кажется таким добрым.
Но внезапно раздались крики, лязг оружия, стоны, вопли, проклятия и призывы к бою. Ложка выпала у Арвида из рук. Буря пришла словно ниоткуда. Пока он думал, почему воины подняли оружие намного раньше, чем собирались, речные воды, которые только что сверкали бирюзой, начали окрашиваться в багровый цвет.
Арвид находился в самой гуще боя и в то же время был лишь наблюдателем; из палатки он мог видеть все, но сам оставался незаметным. Шум сражения пронизывал его насквозь, но он сохранял спокойствие, пока не проливал чужую кровь и не терял свою. Арвид чувствовал пульс войны, но его собственное сердце, казалось, перестало биться. Когда-нибудь оно снова застучит, когда-нибудь все, что он видит и чувствует, снова будет иметь к нему отношение, когда-нибудь мир станет опять прекрасным. Но не сейчас.
Скрещивались мечи и булавы, разбивались шлемы, трескались щиты, свистели стрелы, проносились в воздухе брошенные камни.
Одни воины умирали с громким ревом, другие со стонами; одни, даже получив ранение, оставались стоять на ногах и отчаянно боролись за свою жизнь, другие падали, словно срубленные деревья. Обманутые франки сначала были в худшем положении: они не ожидали ни нападения, ни того, что противников будет больше. Однако когда воины осознали, что произошло, в них проснулась ярость, и эта ярость придала им сил.
Арвид долго оставался в палатке один, но потом в нее внезапно вбежал юноша, который ухаживал за лошадьми. Наверное, утром он еще гордился тем, что находится здесь, и кричал о своем желании сражаться, – теперь же он побледнел, штаны его были мокрыми, и он пригнулся так низко, словно больше всего хотел зарыться в землю.
«Как будто это может помочь, – подумал Арвид. – Скоро земля будет насквозь пропитана кровью». Когда он наклонился к юноше, тот вздрогнул.
– Я видел это! – крикнул он в панике.
– Что ты видел?
– Как он отрубил ему голову!
Арвид был уверен, что этим утром много людей осталось без головы, но из рассказа заикающегося юноши понял, что тот видел самое начало боя и то, почему он разразился раньше, чем планировал Бернард Датчанин.
– Что случилось? – спросил Арвид.
Несмотря на заикание, юноша мог говорить внятно. Он ждал у палатки, в которой разговаривали Людовик, Бернард и Харальд, когда возле нее неожиданно появился Эрлуин, граф Монтрей.
– Предатель… – пробормотал юноша.
«Кого сегодня нельзя назвать предателем?» – подумал Арвид.
Эрлуин и в самом деле вел нечестную игру. Лишь потому, что он отчаянно попросил о помощи – Арвид своими глазами видел его стоящим на коленях, – Вильгельм начал войну с Арнульфом и в итоге нашел свою смерть. Но, вместо того чтобы вступиться за сына Вильгельма, Ричарда, Эрлуин притворился верным вассалом короля Людовика. Он прибыл сюда вместе с ним и полагал, будто находится в безопасности. Это стало последней ошибкой в его жизни: его узнал один из норманнских воинов, который громко выкрикнул его имя, и не успел Людовик выйти из палатки и предотвратить убийство, как один из датчан отрубил Эрлуину голову.
– Кровь брызнула во все стороны! – пожаловался юноша.
Он тер лицо руками и отряхивал одежду, как будто и сам испачкался. Арвиду хотелось сказать ему, что мокрое пятно было не чужой кровью, а его собственной мочой, но это вряд ли могло утешить мальчика.
– А потом? Что случилось потом?
– На датского воина накинулся мужчина – Ламберт, брат Эрлуина. Может, он хотел отомстить за его смерть, я не знаю. Но после этого началась битва.
Юноша замолчал. То, что произошло потом, нельзя было описать словами. Кроме того, ужасный шум заглушил бы его голос. Арвид понимал, что здесь, в палатке, становится небезопасно и что в пылу боя ее могут просто снести.
– Спасайся! – крикнул он мальчику, и тот широко открыл глаза, но потом быстро повернулся и убежал.
Арвид вышел намного медленнее и осторожнее. Больше всего он боялся получить удар мечом, но когда выглянул из палатки, то едва не попал под копыта лошади.
Прямо перед ним лошадь заржала, встала на дыбы и сбросила раненого всадника на землю. Из груди мужчины торчали три стрелы.
Арвид пригнулся и подождал, пока лошадь успокоится. Изо рта у нее шла пена, глаза налились кровью, но в какой-то момент у нее больше не осталось сил, чтобы встать на дыбы еще раз. Арвид схватил уздечку и стал ласково гладить животное. Эти лошади – дестриэ – были боевыми, их выращивали и обучали лишь с одной целью – использовать во время сражений, поэтому они не боялись запаха крови и смерти. Но, возможно, это животное, так же как и испуганный юноша, было слишком молодым и не знало, что битвы, которые позже будут воспевать в героических песнях, в действительности несут с собой лишь грязь, зловоние, страх и гибель.
– Тихо, – шептал Арвид, – тихо…
Он успокаивал лошадь и успокаивался сам. Постепенно животное стало ему доверять, позволило сесть в седло и само выбрало путь – подальше от лихорадки боя. Лошадь беспрепятственно поднялась на холм и добралась до опушки леса. В тени ближайших деревьев Арвид остановил лошадь, повернул ее и посмотрел вниз на воинов. Когда он сам был в гуще сражения, ему казалось, что вокруг царит суматоха, но теперь, видя все поле битвы, он заметил в ней некую упорядоченность. По крайней мере, норманны не предавались слепой жажде крови, а применяли определенную тактику. Они наступали на противника способом, изобретение которого приписывали Одину: в первом ряду стояли два человека, во втором – три, в третьем – четыре, и таким образом воины вклинивались во вражеские ряды, при этом оставляя своим товарищам достаточно места, чтобы те могли замахнуться мечом.
Датчане, как заметил Арвид, сражались похожим способом, их снаряжение напоминало доспехи норманнов. Различить воинов можно было только по лошадям: если у норманнских лошадей были подковы, седло и стремена, а грудь и живот защищали ремни, то датчане вели своих животных в бой только с помощью мундштуков и шпор. Пользовались противники одинаковым оружием или разным, Арвид издалека определить не мог, но смерть, которую несло это оружие, будь то длинный меч, короткий нож или секира, была одинаковой. Железо блестело на солнце, и могло показаться, что кровавая купель на самом деле была серебристым морем.
Арвид совершенно потерял чувство времени. Первый приступ кровожадности прошел: воины сражались уже не лихорадочно и яростно, а тщательно обдумывали удары. Сдаваться тем не менее никто не собирался. Еще во время пребывания в замке Вильгельма Арвид узнал, что воины дают своим мечам имена, такие как «Выжигающий раны», «Смакующий кровь», «Ненавидящий жизнь» или «Отсекающий ноги». Возможно, именно по этой причине оружие, будто живое существо, стремилось воспользоваться своим правом на ненависть и убийство, даже если тот, кто его держит, уже давно устал и выбился из сил.
Однажды Арвид увидел в толпе Харальда Синезубого, который, как и Бернард с Людовиком, тоже участвовал в бою, но в тот же миг король снова затерялся в мешанине тел, похожей на огромное чудовище. Оно все больше увеличивалось в размерах и, казалось, уже не состояло из людей с разными лицами и судьбами.
Пока Арвид смотрел на это неистовство, в его душе нарастало волнение. Почему судьба отвела ему роль наблюдателя? Потому что его приемный отец Таурин воспитал из него монаха, а не воина? Он так и не стал монахом, но разве то, что воином он тоже не стал, – это не признак трусости? Или же это просто признак ума? Ведь если не все воины, то все войны лишены здравого смысла.
И что подумал бы его родной отец Тур, если бы его увидел? Стал бы он насмехаться над своим сыном или даже не обратил бы на него внимания, поскольку сам давно бы бросился в бой?
Одна половина души Арвида тоже хотела этого – не обязательно убивать, главное, делать что-нибудь, но сейчас на берегу Дива можно было только убивать. После полудня у воинов появился выбор: не продолжать сражение, а бежать с поля боя. Большинство франков поступили именно так.
Какой бы сильной ни была ярость из-за того, что их короля предали, эта ярость не помогла им победить, и рассудительные воины, отчаявшись переломить ход битвы, признали свое поражение. Они убегали пешком и верхом на лошадях, спотыкались через убитых и через оружие – и чудовище из сражающихся людей сжималось, а его движения все больше замедлялись. Несколько воинов промчались мимо Арвида, но не заметили его. И вдруг… вдруг он тоже перестал их замечать.
В месте, где отдельный человек, его прошлое и будущее ничего не значат, кто-то звал его по имени. Тот, кого он совсем не ожидал здесь увидеть. Тот, кто совершил чудо, превратив берег смерти в берег любви. Но Арвид все еще не мог поверить в чудо, не мог поверить в любовь.
Он повернул голову туда, откуда доносился голос. Это был высокий женский голос, и он кричал: «Арвид! Арвид!»
А потом он увидел ее – девушку, ради которой с радостью стал трусом, наблюдающим за этой битвой издалека, вместо того чтобы решать ее исход. Он увидел ее и поверил.
Матильда бросилась к Арвиду. Как и он, она пряталась в тени деревьев и ждала, когда закончится сражение. Хотя девушка находилась довольно далеко от убитых, она вся была забрызгана кровью.
Она смотрела на Арвида и не успела осознать, что судьба действительно снова свела их вместе, как у нее все поплыло перед глазами. Что-то теплое потекло по ее лицу, и Матильда не знала, пот это или кровь. Видимо, все-таки кровь, потому что Арвид в ужасе вскрикнул и, запинаясь, произнес ее имя. Он подбежал к девушке, и она хотела упасть в его объятия, крепко прижаться к нему и на мгновение представить, что она в безопасности, однако он схватил ее за плечи и закричал:
– Что случилось?
Матильда поморгала и снова стала видеть четко, но ужас на лице Арвида не исчез. Мужчина принялся искать рану, кровь из которой заливала ей лицо, тело, руки, и стал отрывать лоскуты от своей одежды, чтобы сделать перевязку.
Девушка вдруг засмеялась звонким смехом, в котором дала выход напряжению, накопившемуся за последние месяцы, и своей радости от того, что она наконец встретилась с Арвидом.
– Это не моя кровь! – кричала она снова и снова. – Это же не моя кровь!
Только теперь Арвид позволил ей себя обнять. Матильда спрятала лицо у него на груди и едва могла дышать, но это было не важно. Она с удовольствием задохнулась бы в его объятиях и с удовольствием умерла бы, зная, что теперь они наконец вместе. Но Арвид отстранился и стал ее разглядывать. Должно быть, он почувствовал, что ее живот округлился.
– Матильда…
– Да, – ответила она, – да, я жду ребенка.
Девушка не смогла сказать больше ничего и на миг пожалела, что эту радостную новость сообщила ему здесь, на поле боя. Казалось, это было характерно для всей ее жизни, в которой она так часто оказывалась на волосок от смерти. И еще больше Матильда жалела о том, что у них не было времени вместе порадоваться этому известию. У Арвида заблестели глаза, но потом в его взгляде снова появилось беспокойство.
– Почему ты вся в крови? – спросил он.
Запинаясь, Матильда рассказала о том, что произошло. О том, как она случайно добралась до лагеря и сначала пряталась в лесу, наблюдая за жестокостью битвы, а потом слишком рано вышла из укрытия, чтобы поискать среди воинов знакомые лица. Ее увидели двое мужчин, которые, ослепленные победой, пожелали вместе с вещами погибших взять и эту молодую женщину, которая, спотыкаясь, бродила среди мертвецов. Чего они не ожидали – так это того, что Матильда будет отчаянно обороняться. Сначала ее усилия не принесли результата, но потом она вытащила кинжал из-за пояса у одного из мужчин. Испачкалась она именно его кровью. Второй воин неожиданно сбежал, а может быть, обнаружил более богатую добычу. Девушка все еще не могла поверить в то, что в ней скрывается столько сил. Вероятно, она не смогла бы найти эти силы, если бы защищала только себя, но она ждала ребенка… А любовь к этому ребенку сильнее всего проявлялась в желании убить каждого, кто ему угрожает.
Матильда убежала, и раненый мужчина не стал ее преследовать.
Теперь девушка оглянулась, и хотя никого рядом не было, она почувствовала опасность, витавшую в воздухе.
– Нужно уходить отсюда! – крикнул Арвид.
Матильда застыла в нерешительности. Тогда им пришлось бы пройти мимо мертвых и, что еще хуже, мимо живых воинов, которые, желая убедить себя в том, что все еще живы, грабили, пили и нападали на беззащитных женщин.
– Может, нам лучше спрятаться?
Арвид проследил за взглядом Матильды и быстро оттащил ее в тень дуба.
– Я мог бы попытаться добраться до Бернарда, – пробормотал он, – но тогда мне придется ненадолго оставить тебя одну.
Матильда провела в одиночестве много недель, и мысль о том, что ей снова придется отпустить Арвида, была невыносимой, но все же девушка кивнула. Она обхватила дерево руками, как будто оно могло ее защитить.
– Делай то, что ты должен сделать, – через силу произнесла она.
Не успел Арвид в последний раз обнять ее, как раздался стук копыт: прямо к дубу приближались два всадника. Доспехи и оружие выдавали в одном из них норманна; другой мужчина был безоружен, но богато одет. Матильда почувствовала, как Арвид напрягся. Он прижал ее к себе, как будто больше никогда не хотел отпускать, но потом передумал.
– Я смогу лучше защитить тебя, если отвлеку их и выйду к ним один, – прошептал он и покинул укрытие.
Матильда слышала, как он задает вопросы о сражении, а мужчины на них отвечают. Это не вызвало у нее тревоги.
Но внезапно Арвид удивленно вскрикнул. Выглянув из-за дерева, девушка увидела, что он бледен как смерть. В тот же миг мужчины пришпорили лошадей и умчались прочь.
– Боже правый! – воскликнул Арвид.
Матильда подбежала к нему.
– Что? – спросила она. – Что случилось?
Арвид беспомощно оглядывался по сторонам.
– Я должен их остановить! – заявил он. – Я непременно должен их остановить.
Покидая Матильду, Арвид испытывал угрызения совести: он ведь только что нашел ее, как же он может так бессердечно бросать ее снова, наивно полагая, будто в тени дерева она будет в безопасности! Но заставить себя остановить лошадь и вернуться к Матильде он тоже не мог. Арвид видел перед собой цель, а оцепенение, охватившее его, когда он наблюдал за битвой, резко прошло. Хотя сражение и завершилось, он все еще вел войну, и это была его личная война.
Лошадь Арвида, набравшаяся сил после отдыха, мчалась быстрее, чем лошади мужчин, и вскоре он догнал всадников.
– Стойте! – кричал он снова и снова. – Стойте!
С большой неохотой они потянули за уздечки. Арвида встретили недоверчивые взгляды, потом в них появилось облегчение. Он мысленно выругал себя, осознав, чем было вызвано это облегчение: он безоружен, а значит, не опасен. В порыве волнения он не просто бросил Матильду в беде, а и поступил безрассудно и опрометчиво.
– Стойте! – закричал Арвид еще раз, пытаясь скрыть свою неуверенность.
Одного из мужчин – норманнского воина – он раньше никогда не видел, а во втором узнал франкского короля Людовика. Его войско потерпело поражение, но самому королю каким-то образом удалось сбежать.
– Что здесь происходит? – решительно крикнул Арвид.
От него не ускользнуло смущение норманнского воина, который был еще молод и казался таким же вспыльчивым, каким иногда бывал и сам Арвид.
– В бою короля Людовика взяли в плен, – робко признался он. – Охранять его велели четырем воинам, но когда все остальные стали собирать добычу, их тоже ничто не могло удержать.
Юноша не признался лишь в том, что он тоже оказался слабым и продажным, пусть даже в его случае речь шла о богатствах, не сравнимых с военными трофеями.
Это подтвердил и король Людовик, посмотрев на воина прищуренными глазами.
– Если ты меня не выдашь, – обратился он к Арвиду, – если поможешь мне бежать и проведешь через лес на берегу реки Тук, я тебя отблагодарю. Нам нужно добраться до Сены. На ней много островов, и на одном из них у меня есть владения, где я смогу спрятаться. Я сдержу свое слово.
На лице Арвида ничего не отразилось. Когда сегодня утром он, сопровождая Бернарда Датчанина, впервые увидел Людовика, он не заметил никакого сходства, однако теперь голубые глаза и красивые волосы напомнили ему о Гизеле, его родной матери и сводной сестре короля, которую тот хотел бы убрать с дороги так же безжалостно, как и его, Арвида, своего племянника. Злая шутка судьбы: Людовик умоляет о помощи именно его!
Арвид сохранил спокойствие, но теперь кровь в его жилах остудило не безразличие, а ненависть.
– Я провожу вас, – пообещал он, – я вас не выдам.
Арвид принял решение. Он действительно его не выдаст. Он отомстит королю Людовику, убьет его и таким образом даст пищу той части своей души, в которой живут безумие, жадность и сила его отца, чтобы она раз и навсегда насытилась, а Нормандия раз и навсегда избавилась от своего опасного соседа. Арвиду нужно было только дождаться удобной возможности отобрать оружие у норманнского воина, а для этого и воин, и король должны ему доверять.
Йохан уже давно заметил Арвида, но поле боя покинул не сразу. Он бродил среди убитых и, как и многие другие воины, искал ценные вещи и оружие: золотые регалии, латы, ножи, кинжалы, мечи и монеты. Каждый раз, когда Йохан забирал себе эти богатства, восторг искателя сокровищ ненадолго пересиливал отвращение. Это отвращение вызывали не бесчисленные тела и не реки крови, а взгляды людей, которые были еще живы и медленно погибали под полуденным солнцем. Они казались примирившимися с судьбой, печальными, потерявшими надежду, и мысль о том, что сам он может жить на этом свете дальше, не радовала Йохана, когда он ловил на себе такие взгляды.
«Но все же война, – постоянно повторял он себе, – это схватка, из которой не все выходят победителями». Понимание того, что уже в следующий раз он может оказаться в числе поверженных, разжигало его жадность, которую не удовлетворили даже два меча, кольчуга, широкий пояс и крепкие сапоги. Когда награбленное уже не помещалось у Йохана в руках, его взгляд снова упал на Арвида.
«Что этот монах ищет на поле боя?»
Несмотря на усталость после сражения, Йохан воспылал жаждой мести. Хотя этот мужчина увел у него Матильду, воину все же пришлось спасти его от отряда Рудольфа Торты. Он бы с радостью понаблюдал за тем, как Арвида замучат до смерти, но в присутствии своих людей, которые ненавидели франков больше всего на свете, он не мог бросить норманна в беде.
Собственно говоря, Арвид не был похож на норманна. Он родился здесь, а не в холодной Дании. Он не знал, как это – замерзать от холода, голодать, тосковать по собственной земле и по женщине, которая…
Йохан насторожился. «Почему Арвид так оживленно говорит с франком? И почему он собирается уехать вместе с ним?»
Воин всегда презирал Арвида, ведь тот был послушником, но когда он вышел из этой роли (как будто можно выбирать, кто ты и кем хочешь быть!), Йохан разозлился еще больше. У него такой возможности не было: он приехал сюда, потому что так решил его отец, а не он сам, и попытки извлечь из этого выгоду часто заканчивались неудачей. Плохо было уже то, что такие люди, как Арвид, Матильда и старый граф Вильгельм просто ставили мир с ног на голову. Но еще больше Йохан возмущался, когда потом этот мир переворачивали обратно, будто это всего лишь игра, в которой можно не соблюдать правила, а с каждым ходом устанавливать новые.
«Что Арвид там делает?»
Йохан выронил свою добычу и вскочил на лошадь, но не успел он ее пришпорить, как услышал взволнованные крики.
– Король Людовик! – раздавалось со всех сторон. – Король Людовик сбежал!
Фигура Арвида уменьшалась вдали, и франк, рядом с которым он ехал, тоже почти исчез из виду. Может быть, это вовсе не воин, может быть…
Йохан вспомнил слова, которые слышал до того, как пришел Арвиду на помощь: он не настоящий норманн, а сын женщины из народа франков – и женщины, очевидно, влиятельной…
– За мной! – приказал он одному из воинов. На него устремились удивленные взгляды. – Сбежавший король – там! И сопровождает его не кто иной, как Арвид!
Йохан широко улыбнулся. Наконец-то он отомстит Арвиду за все. Он позаботится о том, чтобы в мире, в котором граф слишком много молится, женщина любит священнослужителя, а послушник ездит на боевой лошади, восторжествовала простая истина. Преступники должны получить наказание. Предателей нужно привлечь к ответу.
Удовольствие от того, что она снова может сидеть, ненадолго избавило Матильду от страха за Арвида. Девушка прислонилась к шершавой коре дуба, закрыла глаза, вдохнула терпкий запах и на какое-то время забыла о мертвецах. Она в безопасности, и ее малыш тоже. Сначала он неподвижно лежал у нее в утробе, но, погладив живот, она почувствовала легкое трепетание. Матильда улыбнулась: ребенок в порядке, она сама в порядке, она нашла Арвида, и он скоро вернется…
Открыв глаза, девушка увидела, что Арвид действительно вернулся. Но рядом с ним был человек, которого она не ожидала встретить, – Йохан. Что ж, в том, что он, как и все остальные воины Нормандии, участвовал в этом сражении, не было ничего странного, но почему-то он держал уздечку лошади Арвида и, более того, угрожал ему мечом. Арвид, видимо, сопротивлялся, потому что на щеке у него виднелась кровь. Он смотрел перед собой невидящим взглядом. Матильда поднялась. В воздухе ощущался уже не терпкий запах дуба, а запах страха. Ее страха.
– Если ты желал быть полезен своей стране, – проворчал Арвид, – ты должен был преследовать Людовика, а не хватать меня. Тебе так сильно хотелось последнего, что ты дал королю уйти, болван!
– Не смей говорить мне о моей стране, предатель!
– Я не предатель!
– И кто тебе поверит?
Злорадный смех Йохана пронзил Матильду насквозь. Только сейчас она заметила, что эти двое мужчин обратили на себя не только ее внимание, но и внимание нескольких воинов, которые теперь приближались к ним. Во главе ехал Бернард Датчанин.
«Слава богу, – подумала девушка. – Бернард – рассудительный человек, он разберется в том, что здесь происходит, и запретит Йохану угрожать Арвиду мечом, он…»
– Как королю Людовику удалось сбежать? – вдруг раздался его громкий голос.
Матильда никогда не слышала, чтобы Бернард так кричал.
Арвид открыл рот, но не успел он и слова произнести, как Йохан не менее громко и возмущенно вскрикнул:
– Ему удалось сбежать, потому что среди нас есть предатель! Вот человек, освободивший Людовика. Он хотел уехать с королем, и это ему удалось бы, если бы я его не задержал. К сожалению, я не смог схватить самого Людовика, а также второго предателя, который был с ними заодно.
Матильда вышла из тени деревьев. У нее кружилась голова, но она не обращала на это внимания. Когда Арвид посмотрел на девушку, его взгляд уже не казался невидящим. «Не вмешивайся, – читалось в его глазах. – Спасайся!»
Матильда в растерянности уставилась на него и услышала, как Бернард Датчанин задал вопрос, который она хотела задать сама:
– Боже правый, что же ты натворил?
– Я не помогал Людовику бежать, я всего лишь хотел…
Арвид не успел договорить, потому что его перебил Йохан:
– Несколько человек видели, как они уезжали вместе. И я своими ушами слышал, что Арвид пообещал Людовику свою помощь.
– Я это сделал только для того, чтобы…
– Если бы ты не был с ним заодно, ты поднял бы тревогу, как только узнал его. Почему же вместо этого ты уехал вместе с ним?
– Я тоже хотел бы это знать, – проворчал Бернард.
Взгляды, сверлящие Арвида, были холодными, как сталь. Матильде казалось, что она чувствует их на своем теле. Головокружение прошло, но теперь ее мучила боль, сковывающая ноги и спину. Возле ее лица танцевала мошка, а может, это были искорки, на которые разлетелся мир. Как будто издалека Матильда слышала, как Бернард сначала велел немедленно броситься в погоню за королем Людовиком, а потом приказал держать Арвида в плену до тех пор, пока все не выяснится.
– Нет, – вырвалось у Матильды, – нет…
Ее никто не слышал. Широко улыбаясь, Йохан передал уздечку лошади Арвида одному из людей Бернарда. Арвид опустил глаза.
– Арвид…
На этот раз он ее услышал.
– Уходи в безопасное место! – крикнул он. – Все будет хорошо.
Бернард мельком глянул на Матильду, и в его взгляде появилось удивление: видимо, он не понимал, что она здесь делает. Но Бернард был слишком увлечен мыслями о том, как догнать Людовика, чтобы думать о ней.
Девушка беспомощно смотрела Арвиду вслед. Его фигура все уменьшалась, а Йохан тем временем спрыгнул с лошади и подошел к Матильде.
– Зачем ты это сделал?! – отчаянно закричала она.
Воин с презрением взглянул на ее округлившийся живот:
– Его отцом должен был стать я, а не этот монах.
Когда Йохан ушел, Матильда положила руки на живот и, шатаясь, побрела обратно к дереву. Боль, которая медленно поднималась по спине, сковывала ее тело, словно кандалы, и не давала ей дышать. Падая, девушка ударилась головой о дерево. Она попыталась ухватиться за что-то, но не смогла. Вокруг нее все потемнело, а когда в бездну снова пробился луч света, Матильда лежала на земле, брошенная и беспомощная.
Арвид не давал ей пустых обещаний. Долгое время он и в самом деле был уверен в том, что все изменится к лучшему. Конечно, его поведение было не в его пользу, а клевета Йохана лишь усугубляла его положение, но Бернарду Датчанину Арвид не был чужим человеком. Он помог освободить Ричарда и передал королю Харальду важное послание. Когда все успокоится, он сможет объясниться.
Арвид не роптал, когда его привели к другим пленным, смотревшим на него пустыми глазами; не роптал из-за того, что его почти не кормили. Его мучила лишь мысль о Матильде и о том, что он оставил ее одну на поле боя. Во время долгого пути в Руан Арвид иногда читал молитвы, в которых просил Бога о милости и помощи для нее. Для себя он не просил ничего. Все, что ему понадобится, – это короткий разговор с Бернардом.
Когда после долгих дней пути они наконец приехали в Руан, а через несколько дней, проведенных в зловонной тюрьме, пленника привели к Бернарду, он понял, что ошибся. Бернард принял его не в окружении своих привычных советников, а вместе с человеком, которого Арвид не ожидал здесь увидеть. Это был аббат Жюмьежского монастыря Мартин, который – Арвид слышал это собственными ушами – мечтал о том, чтобы Нормандия снова перешла в руки франков, пытался выслужиться перед королем Людовиком и не в последнюю очередь собирался использовать для этого самого Арвида.
Теперь об этом не могло быть и речи. Аббат Мартин холодно смотрел на него.
– И как только ты мог совершить такое, сын мой? – спросил он с упреком в голосе. – Как только ты мог стать предателем?
У Арвида пересохло во рту. Выдерживать клевету Йохана было тяжело, но вспыльчивый воин верил в то, в чем его обвинял. Аббат же осмелился нагло лгать ему в лицо! И, видимо, спасая свое будущее, невозмутимо продолжал говорить, даже когда Арвид бросил на него возмущенный взгляд.
– Итак, – обратился Мартин к Бернарду Датчанину, – вы только что сказали, что не можете поверить этим обвинениям и не понимаете, почему Арвид поддерживает Людовика, хотя до этого проявлял необычайную верность вам.
Арвид понял, почему ложь называют ядом. Она не похожа на меч, который обрушивается на жертву и от которого еще можно уклониться. Она напоминает туман, который обволакивает со всех сторон, отнимает воздух, проникает в каждую пору, лишает способности говорить. Он хотел прервать аббата, но не смог.
– В чем бы Арвид ни пытался вас убедить, он питает глубокую ненависть ко всему норманнскому. Мой предшественник, Годуэн, рассказал мне кое-что, а позже Арвид подтвердил, что это правда. Он сын Гизелы.
По крайней мере, последнее предложение не было ложью, и тем не менее оно обладало такой же силой – лицо Бернарда перекосилось от удивления, потом от презрения.
– Он родственник короля Людовика?
– Его племянник! – горячо воскликнул Мартин. – Видимо, они уже давно тайно поддерживают связь. Я всегда опасался этого, и больше всего в тот день, когда Арвид самовольно оставил монастырь.
Узник рванул свои путы. Хотя у аббата хватило совести больше не смотреть ему в глаза, Арвиду очень захотелось его ударить. Пламенная ярость, которая иногда охватывала бывшего послушника, сейчас снова грозила сжечь его дотла.
– Это ложь! – крикнул он.
– Значит, Людовик тебе не родственник?
– Родственник, но…
– Ты племянник злейшего врага Ричарда, и ты скрыл это от нас! – взревел Бернард.
– Почему я должен был об этом рассказать?
– Накануне сражения я спросил тебя о родителях, и ты ответил, что это не важно.
– Это и в самом деле не важно! Бернард, поверь мне! Людовик хотел меня убить. Как сын его сестры я представлял для него угрозу. Аббат Мартин знал об этом и даже собирался выдать меня Людовику в знак того, что аббат Жюмьежского монастыря предан франкскому королю и видит в нем истинного правителя Нормандии. Ты должен мне поверить!
Аббат Мартин больше ничего не сказал.
Бернард отвернулся:
– Но никто не видел, как аббат Жюмьежского монастыря помогает королю Людовику бежать.
– Я не хотел помогать ему бежать, я хотел убить его!
Бернард снова повернулся, и теперь его лицо было не только перекошенным, но и красным от гнева.
– Ты с ума сошел?
Возможно, так оно и было. Возможно, он, Арвид, так же безумен, как и его отец, и не способен совершать обдуманные поступки, подавлять в себе ненависть, спокойно опровергать упреки. Что-то оборвалось у него внутри, и, несмотря на путы, Арвид накинулся на аббата, со связанными руками ударил человека Божьего. Он попал Мартину в лицо, прежде чем тот успел пригнуться и прежде чем его самого оттащили в сторону. Арвид пинался, сопротивляясь людям Бернарда, но не мог совладать ни с ними, ни тем более с собственным бессилием опровергнуть эту ложь и мыслью, что не стоило окончательно переходить на чью-либо сторону и отрекаться от половины своей души.
– Бернард, послушай меня!
Арвид кричал, пока не охрип, и не замолкал, даже когда Бернард уже не мог его слышать. Его не слышал никто. Арвида снова бросили в темницу – в этот раз не к другим пленникам, а в отдельную крошечную камеру, в которой едва можно было выпрямиться в полный рост и сырые стены которой поглощали все его крики и проклятия.
Целыми днями Матильда просила разрешения увидеться с Арвидом, и однажды ее мольбы все же были услышаны. Темница, в которой его держали, выглядела жалкой. Когда девушка вошла, ей на голову посыпалась пыль и паутина. Арвид согнулся в углу и не двигался, как будто уже умер. Ей пришлось несколько раз позвать его по имени, прежде чем он наконец поднял глаза, вскочил, подбежал к ней и взял ее за руки.
– Матильда…
Какая безнадежность слышалась в его голосе!
Но по крайней мере он был жив, он дышал.
– У тебя все хорошо? – спросил он. – У тебя и у ребенка?
– Все в порядке. Когда тебя схватили, у меня начались судороги, но вскоре они прошли. Бернард велел отвезти меня в Питр к Спроте. Последние несколько недель обо мне заботилась она. Мы вместе приехали в Руан, чтобы наконец выяснить, что случилось… в чем тебя обвиняют…
– Ты же знаешь, что все это ложь! Я не хотел помогать Людовику бежать, я хотел убить его. Да, это была ошибка, поспешное, глупое решение, которое мне не стоило принимать, ведь я должен был заботиться о тебе. Но…
Он осекся, отпустил Матильду и, согнувшись, стал метаться по комнате, как зверь в клетке.
– Людовику не удалось бежать, – быстро произнесла она, чтобы отвлечь Арвида от его горя, – он не добрался до Лана и потому не смог собрать новое войско.
Он остановился.
– Как… как его схватили?
– Тот воин, который первым вызвался помочь королю и довел его до Сены, одумался. Он понял, что при побеге его узнали и что старая мать и дети, которых он оставил в Нормандии, будут расплачиваться за его ошибку. Чтобы отвести от себя и своих близких самое страшное, он сам привез Людовика в Руан.
Арвид горько засмеялся.
– Значит, его тоже держат здесь! – крикнул он.
Матильда кивнула. Камера Людовика наверняка была более удобной, чем эта. Но, возможно, король, не понимая, в чем обвиняют его, представителя рода Каролингов, метался по ней так же беспокойно, как и Арвид.
В конце концов Арвид остановился и бессильно опустился на пол.
– Почему Йохан так меня ненавидит? – спросил он. – Я помню, что тогда, на свадьбе Герлок, подрался с ним. Но это ведь не причина для клеветы.
– Дело во мне, – призналась Матильда. – Видимо, я ему нравлюсь, и в том, что я не вышла за него замуж, Йохан винит тебя. Некоторые люди становятся жестокими, когда разбиваются их мечты.
Девушка пыталась поговорить с Йоханом и умоляла его отказаться от своего обвинения. Ее отчаяние делало его победу ничтожной, Матильда видела это в его сверкающих глазах. Но разрывать сеть изо лжи, которой он опутал Арвида, было уже поздно. Тогда он погубит себя, ведь плести эту сеть ему помог не кто иной, как Мартин, аббат Жюмьежского монастыря.
– Не имеет значения, почему Йохан это сделал, – продолжила Матильда. – Откуда столько ненависти в тебе? Я знаю, сколько горя тебе причинил Людовик, но то, что ты хотел его убить… Ты никогда не думал ни о чем подобном. По крайней мере, ты никогда мне об этом не говорил.
Арвид беспомощно пожал плечами:
– Это была не только ненависть. Это была…
– …жажда мести?
– Да, но не только это. Я думал, что, когда Людовик умрет, во мне утихнет слепая ярость, которой я не понимаю, и желание разрушать. Наверное, я хотел убить не Людовика, а отца, отомстить ему за все, что он сделал моей матери… и мне. Это может выглядеть очень глупо: в конце концов, мой отец был норманном, а Людовик – франк, но тем не менее Людовик знает, кто я. Он не позволил мне решить, с ним я или против него. Он считает меня угрозой, которую нужно вырвать с корнем. И я подумал, что если он умрет, то я не только буду в безопасности, но и обрету свободу.
Арвид опустил голову на руки. Еще более темными, грязными и зловонными, чем эта тюрьма, должны быть закоулки его души, в которых вызрела эта кровожадность. Матильда все еще не понимала до конца, что на него нашло, но знала: иногда выдерживать собственную противоречивость становится легче, если не глядя крушить все вокруг.
– Не важно, почему я так поступил, – я потерпел неудачу, – пробормотал Арвид. – И теперь Бернард Датчанин считает меня предателем. Даже в более мирные времена предателям полагалось строгое наказание.
Матильду бросило в холод. Казалось, что плесень, ползущая вверх по стенам, проникает в каждую клеточку ее тела.
«Из этой тюрьмы, – подумала девушка, – я выйду старой и седой». Потом она почувствовала, как внутри нее шевелится ребенок. Нет, она не могла оставить надежду на то, что будущее есть у каждого из них.
– Они не могут тебя казнить! – крикнула Матильда. – После всего, что ты сделал для Ричарда.
– Но они могут выслать меня из страны.
«Куда?» – хотела спросить девушка, но потом поняла, что это не имеет значения. В любом месте за пределами Нормандии их ждет чужбина и одиночество.
– Куда бы тебя ни отправили, я пойду с тобой, – решительно заявила она.
Арвид поднял глаза:
– Нет, тебе нельзя идти со мной! Я ничего не могу тебе дать. И я не хочу навлекать на тебя беду.
– После побега Ричарда меня силой увезли в Бретань. Долго рассказывать, что там произошло и почему. Сейчас важно лишь то, что я сделала все возможное, чтобы вернуться к тебе.
– А я встречаю тебя в тюрьме.
Арвид безрадостно засмеялся, и Матильде было больно слышать этот звук. Вдруг она вспомнила о своей темнице. Там было прохладнее, и воздух был не спертый, а соленый. Там было немного просторнее, и тем не менее девушка чувствовала такое же отчаяние, которое теперь охватило и Арвида.
Матильда погладила себя по животу. Она сумела справиться с отчаянием и покинуть свою тюрьму. Теперь она позаботится о том, чтобы Арвид покинул свою.
– Не сдавайся, – пробормотала она. – Не сдавайся.
Спрота родила второго ребенка. Ее тело снова стало стройным, а щеки порозовели. Это был мальчик, его назвали Раулем. В отличие от Ричарда, он был рожден в законном браке, но занимал гораздо более низкое положение, чем его брат. И все же этого сына Спрота могла признавать открыто. Она выглядела счастливой, как заметила Матильда, и у нее были для этого причины: Рауль и победа Ричарда. Таким же безграничным, как счастье Спроты, было и ее сочувствие Матильде, но девушка знала, что оно ей не поможет. В час беды влиятельные люди советовались со Спротой, она почти что стала одной из них, однако скоро они снова вспомнят о том, что она – всего лишь бывшая любовница Вильгельма, на которую не стоит обращать внимание.
На Матильду тоже никто не обращал внимания. Хотя ее пропустили к Бернарду Датчанину, мужчина был увлечен разговором и даже не удостоил ее взглядом. Девушка надеялась застать Ричарда, но он еще не вернулся в Руан: пока готовилось его торжественное вхождение в город, мальчик находился в более безопасном месте – вероятно, в Санлисе.
Наконец Бернард прервал разговор, но не для того, чтобы поздороваться с Матильдой, а чтобы принять письмо, которое принес посланник. Мужчина быстро прочитал это письмо сначала с задумчивым, а потом с радостным выражением лица.
– Гуго Великий узнал о случившемся и принял сторону Ричарда, а не Людовика. После предательства Людовика это и неудивительно. Это значит, что Гуго не будет пытаться вызволить короля из Руана.
Осмонд рассмеялся, но Бото не разделял всеобщего восторга.
– Все это очень хорошо, но наши франкские соседи признают Ричарда законным графом только после того, как это сделает сам Людовик. Он может быть нашим пленником, но он все же остается королем. А чтобы признать за Ричардом титул графа, Людовик должен обладать властью.
Смех Осмонда затих.
– Нам придется его отпустить?
Бернард продолжил:
– Кажется, Гербергу глубоко поразило то, что ее супруг находится в плену. Она обратилась за помощью к своему брату Оттону, и хотя он отказал ей в просьбе, поскольку считает, что Людовик сам во всем виноват, он все же навел ее на одну мысль. Эту мысль поддерживает и Гуго.
– Я думал, что Гуго не станет вмешиваться.
– А он и не вмешивается. Но это не значит, что он должен воздерживаться от советов.
– И что же он советует? – раздраженно спросил Осмонд.
Бернард указал на письмо:
– Лотаря, сына Людовика, в качестве заложника можно привезти в Руан в сопровождении двух влиятельных священнослужителей: Дидье, епископа Бове, и Ги, епископа Суассона. Может быть, удастся настоять на том, чтобы приехал и Карл, младший брат Лотаря. Как только они доберутся до Руана и будут у нас в руках, Людовик получит свободу.
– А это значит, – догадался Осмонд, – что он снова будет обладать королевской властью, признает Ричарда графом Нормандии и побоится нападать на страну, зная, что его сыновья у нас в руках.
Матильда заметила, как омрачилось лицо Спроты. Женщина никогда бы не призналась в этом, но она явно сочувствовала Герберге, которой грозило то же, что и ей самой: быть матерью сына, ставшего заложником. При других обстоятельствах Матильда тоже испытывала бы сочувствие, но сейчас она была целиком и полностью поглощена своими заботами.
– Я знаю, где можно официально заключить перемирие между Ричардом и Людовиком, – вмешался Бото, – в Сен-Клер-сюр-Эпт. Когда-то отец Людовика признал там Роллона графом Нормандии, а Роллон в свою очередь принес ему ленную присягу.
Бернард одобрительно кивнул. Осмонду эта мысль тоже понравилась.
– И тогда наконец воцарится мир! – крикнул он, доказывая, что даже вспыльчивые люди не любят войну.
– По крайней мере с франкским королевством… и по крайней мере на первое время, – сказал Бернард. – К сожалению, я узнал, что нам грозит опасность с другой стороны. Нам повезло, что в бою нас поддержали датские воины Харальда, однако многие из них – все как один язычники – теперь не желают покидать страну. Более того, они объединились с группой бретонцев, которые пытаются захватить власть в Котантене, чтобы оттуда завоевать Бретань. Если сегодня они хотят свергнуть Алена Кривая Борода, то завтра это может быть Ричард.
Мужчины озадаченно молчали, и Матильда не упустила возможности этим воспользоваться:
– У меня есть что сказать по этому поводу.
Бернард поднял голову. Он только сейчас заметил девушку.
– Я знаю, ты на стороне Арвида. Но то, что он сделал, непростительно.
– Он не предатель, он верен Ричарду!
Бернард нахмурился:
– Как я могу ему поверить после всего, что о нем узнал?
Матильда помедлила.
– Никак, – наконец решительно ответила она. – А как Арвид может доказать свою невиновность, сидя в тюрьме? Но я… Как его будущая жена и мать его ребенка я могу доказать, что мы не поддерживаем ни франков, ни язычников, что мы настоящие норманны.
Бернард недоверчиво посмотрел на Матильду, но тем не менее дал ей договорить. Она сделала шаг к нему.
– Я знаю, что происходит в Котантене. Один из язычников, Седрик, видимо, погиб, но другой, Турмод, еще жив. Он заключил союз с некой Авуазой, и от нее исходит самая большая опасность, ведь эта женщина – дочь Алена Великого и жена могучего Рогнвальда. Она хочет ни много ни мало – восстановить его королевство.
– Откуда ты это знаешь?
– Я ее родственница, но я от нее отреклась. Сейчас имеет значение лишь то, что мне известно, где пребывает Авуаза. И я скажу об этом, если Арвид выйдет на свободу.
В комнате повисло молчание. Спрота смотрела на Матильду удивленно, Бернард – все еще недоверчиво. Но девушка знала, что достигла цели.
«Как легко стать предательницей», – подумала она. Но было ли это предательством, если взамен она получит не тридцать сребреников, а жизнь Арвида?
Авуаза не нашла Матильду. Напротив, в этих поисках она потеряла себя. Вскоре после отправления она отослала брата Даниэля обратно, потому что он докучал ей, но одиночество стало пожирать ее рассудок, как коршун падаль. Иногда, объезжая побережье, а потом удаляясь от него, женщина забывала, что именно она ищет. Потом она снова это вспоминала.
Иногда Авуаза слышала голоса. Кто кричал эти слова: «Беги, Матильда, беги от меня!»? Она сама? Ее мертвый отец? Или же Рогнвальд?
Авуаза устала и едва держалась в седле, но разум ее прояснился, потому что воспоминания, которые годами скрывались в сером тумане, внезапно проявились с необычайной резкостью. Воспоминания о детстве, о ее сестре Орегюэн, о том времени, когда они еще делились секретами и искренне любили друг друга.
– Интересно, какими будут мужчины, за которых нас когда-то выдадут замуж?
– Мой муж должен быть высоким, – сказала тогда Авуаза, – сильным, властным и гордым.
Матьедуа, мужчина ее мечты, был именно таким, но он выбрал не ее, а Орегюэн.
Рогнвальд тоже был таким. Но в нем присутствовали и другие черты. Например, нетерпеливость. Когда он напал на замок, то сразу же приказал убить всех мужчин.
С женщинами он немного помедлил. Он изнасиловал Авуазу не сразу. Только узнав о том, что она дочь Алена, он будто обезумел. Гордый, сильный, высокий и властный мужчина может причинить страшную боль.
Авуаза снова почувствовала эту боль, блуждая по одиноким лесам и думая о дне, когда узнала о его внезапной смерти, когда чуть не задохнулась от мысли о том, что решение полностью подчиниться ему оказалось напрасным. Тогда она была еще более беззащитной и бессильной, и ей не осталось ничего иного, кроме как разлучиться со своей дочерью, которая вдали от нее была в большей безопасности. Авуазе пришлось жить со знанием того, что от любви, которую она научилась испытывать к Рогнвальду или, скорее, выдавила из себя силой воли, потому что иначе разочаровалась бы в жизни, не осталось ничего, кроме многолетней борьбы за власть в Бретани. Авуазу не интересовала страна, но эта проклятая любовь должна была оправдать себя.
«Но как, – спрашивала себя женщина, – как любовь может оправдать себя, если она не укоренилась глубоко? Если она родилась не из нежности, а по принуждению – в тот миг, когда я покорилась сильному мужчине, который взял все, потому что мог это сделать?»
Рогнвальд не только забрал у нее все: честь, гордость, девственность, – он также подарил ей дочь. Матильду… Но ребенок мог только дать надежду на будущее, он не мог избавить от мук прошлого.
«Беги, Матильда, беги!»
В какой-то момент убегать стала Авуаза – от воспоминаний, нахлынувших на нее, от желания навязать дочери жизнь, которой та не хотела, и от понимания того, что она сама уже давно сдалась.
Женщина возвращалась к валу в уверенности, что застанет его опустевшим, но во дворе ее ожидал Деккур. Его глаза были слепы, и он не видел, как сильно она устала. Его душа была слепа, и он не видел, что Авуаза сломлена. Он рассказал ей новости. Харальд Синезубый покинул Нормандию вместе со своими воинами, потому что был нужен в Дании. Турмод и его союзники все еще здесь, но в ходе неудачного набега на королевство франков они понесли большие потери.
Авуаза почти не слушала его.
– Все потеряно, – пробормотала она.
– О чем ты говоришь, женщина?
– Все потеряно, – повторила она. – Какая разница, кто отец Матильды, если она любит другого мужчину? Матьедуа тоже перестал для меня что-либо значить, после того как я покорилась Рогнвальду.
– Ты с ума сошла? Столько лет…
– Столько лет, – перебила его Авуаза, – ты относишься ко мне так, будто я вдова твоего брата. Но я не его вдова, потому что не была его женой. Я была его конкубиной. Чтобы жениться, нужно ухаживать за девушкой. Он за мной никогда не ухаживал.
Деккур не стал с ней спорить. Она камень за камнем сносила дом, возведенный изо лжи, и теперь этот мужчина, пусть даже дрожащей рукой, обрушил на него последний удар.
– Я это помню, потому что я все видел, – вдруг язвительно произнес он. – В тот день, когда ты попала в руки Рогнвальда, у меня еще были глаза. Его руки были такими большими и грубыми, а твое тело – таким маленьким и нежным.
Как оказалось, осознавать правду – это не то же самое, что слышать ее от кого-то другого.
– Замолчи! – набросилась Авуаза на Деккура.
Но он не замолчал. Ему очень долго приходилось мириться со своей слепотой и с тем, что он был вынужден объединиться с Авуазой. Теперь он не хотел упускать возможность отомстить за это.
– А ты знаешь, что мы с воинами бились об заклад, отдаст он тебя потом нам или нет? И вообще, выживешь ли ты после этого?
– Он не отдал меня вам.
– Потому что ты не сопротивлялась, а покорилась ему. Потому что ты умоляла сохранить тебе жизнь и надеялась на его милость. Ты была очень красивой, но у тебя не было гордости. Женщины из моего народа предпочитают смерть изнасилованию.
– Все эти годы ты пресмыкался передо мной, а теперь говоришь о гордости?
– По крайней мере, я никогда не притворялся, будто ты мне нравишься. Я всегда тебя презирал, и ты всегда об этом знала. Я не обманывал тебя, ты сама себя обманывала. Ты внушила себе, будто любишь моего брата Рогнвальда. Видишь ли, я знаю о любви не много, но женщина, которая однажды лежала перед мужчиной в крови, стонущая, испуганная и заплаканная, забрызганная его семенем, измученная его грубостью, никогда не сможет его полюбить.
Он не сказал ничего такого, чего Авуаза не знала бы сама, но тем не менее она не хотела этого слышать и с криком набросилась на Деккура. В отличие от Аскульфа, он носил с собой не меч, а маленький нож, которым резал мясо и хлеб. Этот нож был тупым и, может быть, не пригодным для убийства, но женщина все же вытащила его из-за пояса Деккура. Если бы у него были глаза, она бы выколола их. Если бы он еще был мужчиной, она бы его оскопила. Авуаза не знала, как еще может причинить ему боль.
Не успев принять решение, она услышала крик брата Даниэля. Значит, он вернулся сюда, вместо того чтобы убежать от нее. Какой же он трус!
– Отряд! – кричал он. – К нам приближаются воины, на лошадях и с оружием.
– Кто это? Люди Турмода?
– Не похоже. Посмотри сама.
Он услужливо пропустил Авуазу вперед, и она подошла к воротам вала. Закрывать их было поздно, но женщина и не хотела их закрывать, потому что к ним подъезжали не только воины, но и… она. Матильда.
Авуаза любовалась ею. Внезапно исчезли злоба, безумие и боль. «Моя дочь, – подумала Авуаза, – моя дочь плачет».
В ту ночь, когда Рогнвальд набросился на нее, она тоже плакала, но после этого больше не пролила ни слезинки, даже тогда, когда расставалась с Матильдой. Вместо нее плакала Эрин.
На деревянных ногах Авуаза подошла к дочери. Воины еще сидели верхом, и только Матильда спрыгнула с лошади. Она была уже не нежным ребенком, как раньше, а сильной женщиной. Возможно, она проявила бы гордость, о которой говорил Деккур. Гордость, о которой сама Авуаза забыла, подчинившись Рогнвальду.
– Не нужно плакать, – сказала Авуаза дрожащим голосом. – Не нужно. Когда ты рядом со мной, тебе не грозит опасность от норманнов. Тогда ты становишься одной из них, и они не причинят тебе зла. Ты не беспомощна, ты не беззащитна. Ты наследница, наследница Алена и Рогнвальда. Бездушный скот не втопчет тебя в грязь. Чтобы выжить, тебе не придется продавать свою душу и смотреть, как ее терзают чужие люди.
Она подошла к Матильде, взяла ее за руку, а потом обняла девушку.
– Ты выйдешь замуж за того, кого любишь, а не за того, кто над тобой надругается. Ты не будешь ненавидеть свою кровь, как я ненавижу сестру и племянника, потому что видела слишком много этой крови. Ты можешь стать счастливой.
Матильда высвободилась из объятий. Она больше не плакала, и только теперь Авуаза поняла, что воины были норманнами и что Матильда привела их сюда не для того, чтобы объединиться.
Матильда ее предала.
Глава 10
Матильда сжала руки женщины, сначала одну, потом другую. Это были сухие, шершавые, теплые руки, пальцы на них были похожи на когти. Раньше Авуаза казалась ей скорее беспокойным духом, теперь же Матильда увидела в ней женщину из плоти и крови, уже не охваченную слепой жаждой власти и одержимостью, а полную чувств, которые Матильда знала и разделяла. Девушка посмотрела ей в глаза и увидела в них сначала понимание, потом разочарование и наконец страх. Она увидела человека. И в этот момент, став предательницей, она почувствовала себя дочерью Авуазы сильнее, чем когда-либо.
– Уже слишком поздно, мама.
Авуаза высвободила свои руки, обернулась и стала смотреть, как норманнские воины захватывают вал. С ее губ слетел не крик, а стон. В нем слышалось разочарование, но не удивление. Теперь она поняла: Матильда не может спасти ее и восстановить ее разрушенную жизнь.
– Я не наследница Бретани, – произнесла девушка, опустив глаза. – Хоть я и дочь норманна, но в Нормандии все норманны стали христианами, и я тоже. Они оставили свою родину и завоевали новую. И я живу в этом мире с мужчиной, которого люблю. С Арвидом.
Матильда подняла голову и взглянула на свою мать. Увиденное заставило ее застыть в оцепенении: Авуаза держала в руке нож, в ее глазах снова вспыхнула искра безумия, и девушка с ужасом ожидала, что ее мать погубит их обоих.
Но потом во взгляде Авуазы снова появились холод и усталость.
– Матильда… – прошептала она. – Матильда…
И с именем дочери на губах она вонзила себе нож прямо в сердце.
Матильде показалось, будто она чувствует, как клинок режет кожу, впивается в теплую плоть и забирает жизнь женщины, которая была ее матерью. Они с Авуазой стали одним целым. Девушка терпела муки, ощущала, как все ее тело пронизывает боль, как струится кровь, и задыхалась. Она знала, что чувствует ее мать. Не знала она лишь того, прощает Авуаза ее в этот момент или проклинает.
Женщина опустилась на колени, а потом рухнула на землю. Взмахом руки Матильда остановила воинов, которые собирались подойти ближе, и склонилась над матерью. Это мгновение принадлежало только им и никому больше. Матильда не решилась снова взять Авуазу за руки, боясь ощутить, как они медленно остывают, но она должна была сделать что-нибудь для матери и для спасения собственной души.
Матильде не пришло в голову ничего иного, кроме как прочитать молитву. Внезапно в ее бормотание влился другой голос. Девушка полагала, что Авуаза уже мертва, но человек, который десятилетиями цеплялся за пустую надежду, не мог умереть так быстро. Она еще дышала. У нее еще были силы, чтобы говорить.
– Я… никогда не попаду на небо, – выдохнула Авуаза. – Я… пойду по дороге в Хель. Она ведет… на север, где становится все темнее и холоднее… Она ведет через горы и глубокие долины. Когда-нибудь горы исчезнут, когда-нибудь исчезнет… свет. Останется только вечный лед.
– Нет, – возразила Матильда, и в ее голосе прозвучали упрямство и возмущение.
Казалось, что на них с матерью опускается черное покрывало, которое бросил ангел смерти, чтобы оборвать все: последнюю попытку Авуазы побороть смерть и желание Матильды помириться. Но последнее слово должен произнести не ангел смерти, он не может обладать единоличной властью. С ним должны прийти и другие ангелы, которые прогонят демонов и проведут душу к свету.
– Нет! – воскликнула Матильда. – Ты не попадешь в темноту и вечный холод. Бог милостив, Бог великодушен!
Авуаза с трудом дышала.
– Единственный источник света, – прохрипела она, – это огонь. Он вырвется из глаз и ноздрей волка Фенрира, когда мир… погрузится в хаос. Такова судьба мира. Такова… моя судьба… И твоя тоже. Ты не дитя любви… ты дитя огня. Когда твой отец набросился на меня, я думала, что разорвусь на части, сгорю… и превращусь в пепел. После этого… мне больше никогда не было тепло, я больше никогда не видела света.
Матильда все же взяла Авуазу за руку, и ее пальцы уже не казались похожими на когти – скорее это была рука той юной девушки, на которую когда-то обрушился Рогнвальд.
– Ты должна простить Рогнвальда, – тихо сказала Матильда. – И простить себя за то, что ты внушила себе, будто любишь его.
– Говорят, что любовь… такая же сильная, как смерть, но я умираю… а мне холодно и темно.
– Прости его, мама! Прости его и саму себя!
– Он был добр к тебе… а ко мне – нет. Для него я была всего лишь… трофеем. Когда я отказывалась ему подчиняться, он бил меня, а когда… оплакивала отца, он смеялся надо мной. Но если бы я перестала скрывать свою ненависть… что осталось бы от меня, кроме измученной души, такой жалкой и такой слабой? Я не могла этого допустить… я не хотела этого.
– Но сейчас ты можешь быть жалкой и слабой, – настаивала Матильда. – Хотя бы сейчас.
Авуаза тяжело дышала. Из последних сил она подняла руку и обхватила рукоятку ножа, которым себя ударила.
– Я… я часто поднимала на людей руку. Но я никогда не убивала. Мне… всегда хотелось знать, что человек при этом испытывает и что бы почувствовала я, убивая его, а потом себя. Почему я ждала так долго? Почему… я этого не сделала?
– Хорошо, что ты не сделала этого, – сказала Матильда. – Ты подарила мне жизнь, и я благодарна тебе за это. А теперь я передам эту жизнь дальше: я жду ребенка от Арвида. Может, любовь и слабее смерти, но новая жизнь – нет. Между тобой и Рогнвальдом, между отцом Арвида и его матерью Гизелой было так много насилия и ненависти, но мой ребенок, в котором течет кровь всех вас, это не дитя ненависти и насилия. Ты слышишь, мама? Это дитя любви.
Авуаза посмотрела на Матильду и с трудом втянула воздух. Это был ее последний вдох.
Аскульф всегда ненавидел холод. Хотя он подавил в себе желание однажды ощутить тепло и похоронил надежду на то, что это тепло ему подарит Матильда, но даже притворная черствость и равнодушие не могли избавить его от глубокой тоски.
Сейчас ему было тепло, очень тепло. Он сражался, обливаясь по́том, сражался даже тогда, когда понял, что это бессмысленно, ведь вал защищало всего двенадцать человек. Воинов, которые появились будто ниоткуда и стали пробиваться внутрь, оказалось вдвое больше. Эти мужчины превосходили их по силе, потому что лучше питались, и к тому же у них были более быстрые лошади и более острые мечи.
Возможно, все битвы в его жизни были бессмысленными; возможно, такой была вся его жизнь. Рогнвальд, его дядя, останется у людей в памяти: все-таки он основал королевство, пусть даже оно оказалось недолговечным. Сам же Аскульф занимался лишь тем, что возился на руинах этого королевства, а в итоге не смог построить из них ни дом, ни хотя бы прочную стену. Сейчас эти руины распались на еще более маленькие и бесполезные обломки. Они больше никогда не будут целыми. Он сам больше никогда не будет целым – теперь, после того как ему отрубили руку.
Аскульф смотрел на нее, но не чувствовал боли. Он почувствовал только, как из обрубка хлынула кровь. Мужчина опустился на колени и больше не обливался по́том. Почему для того, чтобы понять, что смерть согревает больше, чем жизнь, и даже больше, чем Матильда, он должен умереть?
У него еще не закрылись глаза, и он видел, как девушка склонилась над Авуазой. Аскульф был слишком слаб, чтобы отогнать от себя желание – желание, чтобы Матильда склонилась над ним, взяла его за еще целую руку, прикоснулась своей нежной кожей к его грубой, стянула с него каменную оболочку, которую ему приходилось носить все эти годы, и осыпала его тело поцелуями, чтобы оно обмякло.
У Аскульфа зарябило в глазах. Она не придет к нему, не присядет рядом, и ему нечем было заглушить свою печаль. У него еще не остыла кровь, он еще не чувствовал боли в руке, а давление в его груди еще не стало невыносимым, когда кто-то занес над ним меч и отрубил ему голову.
Матильда не знала, сколько просидела возле тела своей матери. Позади нее ожесточенно сражались люди Авуазы и Бернарда. Воины погибали или спасались бегством, но она не боялась, что в суматохе ее кто-то ранит. Душа Авуазы перешла в другой мир, и Матильда считала, что тоже находится где-то далеко, где прошлая боль не имеет значения, а будущая жизненная борьба еще не отнимает силы.
К действительности девушку вернула глубокая тишина, воцарившаяся после окончания битвы. Матильда моргнула, огляделась по сторонам, как будто очнувшись от долгого сна, и увидела, что земля усеяна мертвецами. Лица у большинства из них были перекошены, и только Авуаза выглядела такой спокойной, как будто просто спала, и такой мягкой, как будто ее тело было сделано из воска.
– Упокой, Господи, твою душу, мама, – пробормотала Матильда.
Она поднялась и в последний раз взглянула на Авуазу. Матильда знала, что не будет плакать о ней. Скорбела она глубоко и искренне, но не о старой женщине, лежащей перед ней, а о юной девушке, которой та была когда-то и которая уже давно умерла. Помимо скорби, Матильда чувствовала благодарность за то, что ей не пришлось видеть, как рушится ее собственная душа, и за то, что пережитое горе не сломило ее, а сделало сильнее. Девушка не могла этим гордиться, ведь это была не ее заслуга, а скорее милость, дарованная своенравной судьбой, по чьей воле одни деревья усыхают, а другие цветут.
Услышав звук шагов, Матильда вздрогнула. Она обернулась. Человек, подошедший к ней, упал к ее ногам.
– Благодаря Божьей милости теперь я свободен! – вскрикнул брат Даниэль, поспешно перекрестился и со страхом добавил: – Ты ведь пришла, чтобы освободить меня, правда? Ты ведь знаешь, я был всего лишь ее рабом и делал все, что она приказывала, потому что у меня не было выбора.
– Нет, – холодно ответила Матильда, – у тебя был выбор. Ты мог помочь мне, но не сделал этого.
Губы Даниэля расплылись в любезной улыбке, но взгляд оставался колючим.
– Мне тоже никто не помог, – заломил руки он. – Что может дать человек, у которого ничего нет?
Скорбь Матильды прошла, оставив после себя лишь раздражение.
– Ты всего лишь листок на ветру, – процедила она. – Уходи в монастырь, обрети покой, но не попадайся мне на глаза! И избавь нас обоих от твоего коленопреклонения. Ты ничего не делаешь искренне.
Он помедлил, но потом поднялся и зашагал прочь.
Матильда подошла к одному из норманнских воинов и указала на брата Даниэля.
– Это раб моей матери, который раньше был монахом. Прошу вас, увезите его отсюда… и проследите, чтобы с ней тоже ничего не случилось. – Девушка кивнула на пожилую женщину, которая к ним приближалась. Это была Эрин. Увидев тело Авуазы, она разрыдалась. – Она помогла мне бежать, – сказала Матильда, – пусть в благодарность за это она проведет старость в мирном и уютном месте.
Она желала Эрин всего самого хорошего, но слишком устала, чтобы с ней говорить. Матильда отвернулась. Она знала, что воспоминания об этом дне еще долго не оставят ее в покое, но сейчас ей хотелось закрыть глаза, не видеть убитых и думать только о завтрашнем дне, когда она вернется в Руан. Вернется к Арвиду.
Когда Ричард въезжал в Руан, ликованию жителей города не было предела. На улицы вышли монахи и нищие, зажиточные торговцы и крестьяне с морщинистыми лицами, знатные люди и их прислуга. Все они уже давно знали о благоприятном исходе великой битвы на Диве, но, казалось, поверили в это только сейчас.
Уже несколько лет молодой граф не посещал столицу своего государства, и в это время, когда все беспокоились о его жизни и будущем их родины, о нем ходило много слухов. Говорили, что Ричард очень силен, очень умен и очень красив. Теперь, когда люди его увидели, выяснилось, что он все же был человеком из плоти и крови, и к тому же молодым и неопытным. Но во взглядах людей светились радостные ожидания, все перенесенные опасности разжигали надежду на то, что теперь все наладится, а теплые солнечные лучи делали все остальное, необходимое для того, чтобы поверить, будто этот торжественный въезд был чудом. А если кто-то еще сомневался в том, что все произошло благодаря вмешательству Господа и что именно этого Он хотел для Нормандии, того переубедили большие колокола собора Руанской Богоматери, призывающие к благодарственному молебну. Их раскатистый звон пронизывал людей насквозь, и эта мелодия пленяла всех и каждого.
Матильда добралась до Руана к концу молебна. Сначала она думала, что вид оживленного, упоенного радостью города будет ей неприятен, но потом тоже поддалась восторгу и волшебству этого часа, который обещал так много перемен. Девушка вздохнула, закрыла глаза и подставила лицо солнцу, наслаждаясь теплыми лучами, возгласами ликования и колокольным звоном. Когда она снова открыла глаза, то увидела, что недалеко от нее стоит Арвид. Матильду привели к руанскому замку, и самые близкие приверженцы и советники Ричарда как раз возвращались с молебна. Арвид, которому не позволили принимать в нем участие, ждал во дворе. Он выглядел измученным после заточения, его волосы потускнели, но на щеках у него, как и у всех остальных, пылал румянец.
Матильда бросилась к Арвиду, обняла его и почувствовала, как в ее уже заметно округлившемся животе пошевелился ребенок.
– Наконец-то ты свободен!
– Только благодаря тебе.
Девушка сменила тему, потому что сейчас было неподходящее время, чтобы говорить об Авуазе.
– Нормандия тоже свободна! – рассказывала она. – Представляешь, Рудольфа Торту с позором выгнали из страны.
Арвид кивнул:
– Ричард не приказал убить его, но пригрозил сделать это, если тот вернется в Нормандию.
– Он милостив, – пробормотала Матильда.
Она не произнесла вслух вопрос, который вертелся у нее на языке: милостив ли он настолько, чтобы позволить им с Арвидом спокойно жить в его стране? Предав Авуазу, она добилась освобождения Арвида, не более того. У них обоих не было титула и имущества, влиятельных друзей и родственников, и они мало что умели делать действительно хорошо: только писать, читать и, несмотря на раздвоенность души, смело идти по жизни.
– Я слышал, что Рудольф Торта ищет убежища у епископа Парижа, – сказал Арвид.
– Надеюсь, тот заставит его понести суровое наказание за грехи!
– Но уже только потому, что Рудольф Торта повержен и все предвещает мир, однажды из своих нор выползут старые враги: Арнульф, Людовик, Гуго.
«Это касается и нас двоих, – подумала Матильда. – Нормандия получила обратно своего графа, но не более того. Мы с Арвидом снова вместе, но не более того. Никто не может поручиться, что мы будем счастливы. Дорога в будущее не обрамлена яркими цветами и золотыми полями, а усеяна камнями и колючками».
Они молча наблюдали за тем, как Ричард возвращается из собора Руанской Богоматери в замок и как люди падают перед ним на колени, – люди, в чьих жилах тоже течет кровь и язычников, и христиан. Ричарда они видели лишь издалека, но Осмонд де Сентвиль подъехал прямо к ним. Он не смог полностью скрыть свое презрение по отношению к Арвиду и проявил неуважение тем, что не слез с лошади, а обратился к ним сверху вниз.
– Ричард хочет поговорить с вами обоими, – сообщил он и все-таки выдавил из себя слабую улыбку.
Когда Матильда и Арвид вошли в палаты графа, Ричард стоял у окна и смотрел на улицу. Во время въезда в город он держался горделиво, а теперь снова стал похож на взволнованного ребенка, который не может поверить в то, что его встречали так шумно и восторженно.
– Они так радовались! – вскрикнул он, увидев Арвида и Матильду.
Его голос звучал ясно и звонко, как будто Ричард не провел несколько изнурительных недель в ожидании и страхе и как будто радость его народа не возлагала на него тяжелое бремя – доказать, что он достоин этой радости.
Арвид позволил Ричарду насладиться теми короткими мгновениями, когда он мог быть не только графом, но и энергичным молодым человеком, и радовался тому, что юноша не встретил его отчужденно, хотя ему, несомненно, сообщили о сути обвинения. Арвид размышлял, стоит ли снова пытаться рассказывать правду и доказывать свою невиновность, но не успел он начать, как Ричард сделал шаг в его сторону.
– Ты был близким другом моего отца и помог мне бежать из Лана, – заявил молодой граф.
Мужчина видел, как на лицах присутствующих – кроме Осмонда, в зале собрались Бернард, Бото, де ла Рош-Тессон и Брикебек – появилось выражение несогласия, но Ричард продолжал говорить, не упоминая при этом недавних проступков Арвида.
– Я не знаю, кто ты: монах или воин, франк или норманн. Но я знаю, что ты умен и благочестив. Я еще молод, мне нужно многому научиться, и я хотел бы, чтобы ты был моим наставником.
Арвид ожидал чего угодно, но не этого. Он уставился на графа широко открытыми глазами. Для всех остальных это решение тоже стало неожиданностью.
– Ричард, – заговорил Бернард Датчанин, – ты понимаешь, кто такой Арвид? Он родственник франкского короля!
В его словах слышалось не возмущение, а скорее усталость. Бернард достиг поставленных целей, его жена снова вернулась в Нормандию, но он был уже немолод, и события последних лет не прошли для него бесследно.
– Почему твой выбор пал именно на него?
Ричард пожал плечами:
– Король франков – это прежде всего мой сосед. Мне придется находить с ним общий язык. Если мы постоянно будем чувствовать угрозу со стороны врагов, наша жизнь не станет более легкой.
– И все же…
– Я знаю, в чем обвиняют Арвида, но именно поэтому он так нам полезен. Мне нужен наставник, которому не чужды сомнения и который окончательно не принял ни одну из сторон. В моей стране живут все: норманны, франки, христиане, язычники. Я хочу объединить их под своей властью, и Арвид мне в этом поможет.
Бернард не сказал ни слова, но Бото недовольно проворчал:
– Он может оказаться предателем.
– Ну и что? – возразил молодой граф. – В моей стране каждый может стать предателем. Тому, у кого в жилах течет множество кровей, всегда приходится что-то отрицать, скрывать и подавлять. Но почему мне нельзя верить в то, что человек может использовать эти противоречия во имя добра, а не во зло?
Ричард снова обратился к Арвиду:
– Ты выполнишь это задание? Ты будешь преданно служить мне? Ты поможешь мне править страной?
Теперь возражать не стал даже Бото. На комнату опустилась тишина. Матильда взяла Арвида за руку.
– Да, я сделаю это, – пообещал Арвид, растрогавшись до глубины души.
Ему казалось, что все это происходит не на самом деле, ведь на него обрушилось так много счастья: он воссоединился с любимой женщиной и нашел свое место на земле.
Торжественность этого момента вскоре была нарушена: в комнату ворвался слуга и сообщил, что праздничный обед уже готов и Ричард может пройти к столу. Не зная, что здесь произошло, мужчина очень деловито добавил, что молодые воины немедленно должны что-то съесть, потому что они целый день пили. У некоторых уже случился приступ рвоты.
Казалось, что он был единственным, кто не заразился слепой радостью этого дня. Наоборот, он прожил достаточно, чтобы знать: там, где пахнет жареным мясом, всегда есть что-то зловонное; там, где подают изысканные блюда, собираются и отходы; люди, которые поднимают кубки, инкрустированные драгоценными камнями, опьянеют и будут храпеть на грязном полу.
– Не будем томить ожиданием тех, кто проголодался! – заявил Ричард.
Он расправил плечи, как будто от этого мог казаться выше, снова принял горделивый вид и в сопровождении советников направился в парадный зал.
Эпилог
Ребенок Арвида и Матильды появился на свет в один из первых дней 946 года. Земля лежала под толстым одеялом белого снега, которое заглушало звуки шагов и придавало всем движениям размеренность. Это было спокойное время.
Схватки начались на рассвете. Когда солнце, слабое и тусклое, скрылось за горизонтом, Матильда родила дочь. Девочка еще не окрепла после родов, но жизнерадостно издала громкий звонкий крик.
Когда Матильда стала кормить малышку грудью, к постели подошел Арвид. Какое-то время они оба не могли вымолвить ни слова: новая жизнь вызывала только благоговейное изумление. Повитуха завернула новорожденную в покрывало и удалилась.
– Ты разочарован тем, что это не сын? – спросила Матильда.
– Почему? Ты сильная. Может быть, ты даже сильнее меня. Нам обоим пришлось многое выдержать в жизни, но ты перенесла все это более стойко. Я бы хотел, чтобы наша дочь тоже стала такой…
Арвид осторожно протянул руку и коснулся еще влажных волос на крошечной мягкой голове. Девочка зажмурилась. Она проголодалась и причмокивала губами.
– Как мы ее назовем?
В Нормандии укоренился такой же обычай, как и на прежней родине норманнов: девочек чаще всего называли в честь бабушек. Но ни Авуаза, ни Гизела не казались Арвиду и Матильде подходящими именами. Одна из женщин была слишком безумной, чтобы безоговорочно любить своего ребенка, а другая – слишком слабой.
– Я хотел бы назвать ее твоим именем, – сказал Арвид, – или именем Руны, моей приемной матери. Она была сильной женщиной, и ей удалось, несмотря на все преграды, отвоевать у жизни каждую искорку счастья.
– Тогда давай соединим два старых имени в одно новое, так же как из наших старых жизней мы создали новую жизнь. Мы можем назвать нашу дочь Алруна.
Арвид еще раз погладил малышку по голове:
– Да благословит тебя Господь, Алруна.
Матильда повторила его слова.
– Да благословит Господь графа Ричарда и молодую Нормандию, – добавила она и закрыла глаза.
Хотя Матильда с детства не видела этого места, перед ней вдруг совершенно отчетливо предстал луг, где, несмотря на соленый морской воздух, цвели яркие цветы. Возможно, когда-нибудь в Нормандии тоже появятся такие места. Возможно, их дочь однажды будет играть на таком цветочном лугу, а родители, в чьи распахнутые объятия она побежит, не допустят, чтобы ее у них забрали и с ней произошло несчастье.
Историческое примечание
Власть Ричарда не упрочилась и после 945 года: в дальнейшем суверенитет Нормандии постоянно находился под угрозой. Тем не менее Ричард смог победить врагов – короля Людовика, императора Оттона, Тибо Мошенника и многих других, – и таким образом Нормандия стала единственным государственным образованием норманнов, сохранившимся и после окончания эпохи набегов викингов.
В Бретани, напротив, после первых достижений Рогнвальда в двадцатых годах десятого века попытки викингов основать свое государство так и не увенчались успехом. Причина, по которой все их притязания на господство в Бретани потерпели неудачу, вероятно, заключалась в том, что здесь, в отличие от Нормандии, они обеспечивали только военное присутствие и никогда не стремились адаптироваться к местной культуре.
С одной стороны, на примере викингов становится очевидным, что народ может продолжительное время существовать на территории чужой страны только в том случае, если перенимает ее культуру. С другой стороны, история викингов служит доказательством того, какую высокую цену за это необходимо заплатить: вместе с языком и религией они утратили важные элементы своей идентичности.
Потеря этой идентичности и поиски новой, преодоление травм, нанесенных столкновением двух культур, и внутренние противоречия, с которыми приходится мириться потомкам как завоевателей, так и завоеванных, – вот темы, определяющие поступки главных героев моего романа. При этом судьба Матильды и Арвида, вымышленных персонажей, переплетается с судьбой многих исторических личностей: Вильгельма Длинный Меч и Ричарда, Спроты и Эсперленка, Герлок и Бернарда Датчанина. Сведений об их жизни сохранилось немного, и иногда я щедро дополняла их с помощью фантазии, однако, наряду с вымыслом, в создании образов героев мне очень помогли обнаруженные в источниках интересные детали, например, набожность Вильгельма и его стремление провести старость в монастыре.
Судьбы Авуазы, Деккура и Аскульфа вымышлены: в исторических источниках не содержится упоминаний о том, что у Орегюэн – дочери Алена Великого, супруги Матьедуа и матери Алена Кривая Борода – была сестра, которая родила ребенка от Рогнвальда. Не вымышленным, однако, является тот факт, что после правления Рогнвальда не прекратились попытки основать языческое государство в Бретани – прежде всего в Северном Котантене. Кроме того, исторически доказано существование упомянутых в моем романе язычников Турмода и Седрика, которые хотели воспользоваться нестабильностью в регионе для удовлетворения своей жажды власти, но в конечном счете потерпели поражение.
Многие другие изображаемые события также не являются исключительно плодом моей фантазии. В некоторых источниках содержатся сведения о помолвке и свадьбе Герлок, гибели Вильгельма от рук воинов Арнульфа, побеге Ричарда из Лана в охапке соломы и битве на реке Див, из которой норманны вышли победителями не в последнюю очередь благодаря поддержке Харальда Синезубого.
Большинство из этих событий поддаются датировке с большим трудом. Относительно даты свадьбы Герлок мнения исследователей расходятся. Часто утверждают, что она состоялась намного раньше, чем указано в моей книге, а именно в 935-м году. Но все же по этому поводу можно высказать обоснованные сомнения, поскольку во многих источниках содержатся указания на то, что в это время готовилась свадьба не Герлок и Гильома Патлатого, а Вильгельма и Литгарды. Но даже об этом нельзя говорить с уверенностью. В итоге я выбрала год, который лучше всего подходил для моей истории.
Относительно года рождения Ричарда в исторических источниках тоже указаны различные данные. В одних называется 930-ый, в других – 933-ий, в некоторых – 935-ый год.
Причина таких расхождений, а также того, что одна и та же историческая личность часто упоминается под разными именами или же в написании ее имени обнаруживаются значительные различия, вероятно, кроется в том, что хронисты, повествующие о событиях той эпохи – монахи Дудо и Роберт де Ториньи, – жили значительно позже, в конце десятого века. Только тогда земли Вильгельма стали называть Нормандией. Для простоты я все же работала с этим понятием и называла Вильгельма графом, хотя во время его жизни этот титул еще не был введен. В конце десятого века Нормандия стала герцогством, что не в последнюю очередь является заслугой Ричарда.
То, как он укрепил свою власть, увеличил территорию Нормандии, победил врагов и искоренил языческие течения в своей стране, – это уже другая история, и ее, а также историю Алруны, дочери Матильды и Арвида, я хотела бы рассказать в своей следующей книге.
Сноски
1
Перевод А. И. Корсуна (Примеч. пер.).
(обратно)


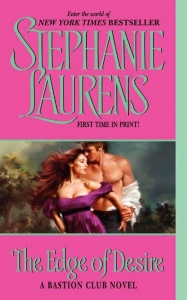

Комментарии к книге «Дитя огня», Юлия Крён
Всего 0 комментариев