Наталья Павлищева София Палеолог. Первый кинороман о первой русской царице
© Павлищева Н.П., 2016
© ООО «Издательство «Яуза», 2016
© ООО «Издательство «Эксмо», 2016
Иван да София. Суть вопроса
София (Зоя) Фоминична Палеолог — супруга великого князя Московского Ивана III Васильевича — россиянам больше памятна как бабушка Ивана IV Васильевича. Считается, что это она, племянница последнего византийского императора Константина XI, погибшего при взятии турками Константинополя, привезла на Русь двуглавого орла.
София Палеолог сыграла заметную роль в истории Руси-России не только как бабушка печально известного Ивана IV Грозного, но и как жена-соратница Ивана III.
К сожалению, Ивана III Васильевича упоминают куда реже его внука, а ведь он и по деяниям своим, и по характеру, и по роли, которую сыграл в нашей истории, достоин куда большей чести. Это его современники называли Великим и Грозным (его внуку-тезке такой «титул» много позже присвоили потомки). А еще Правдолюбом. Неплохое прозвище для правителя, не правда ли?
Судьба Ивана III требует отдельного обстоятельного разговора, уж слишком она удивительна. Рассказ об этом замечательном человеке и правителе непременно будет, но вкратце упомянуть о его заслугах и жизни стоит и сейчас, чтобы понять, с кем же связала доля Софию Фоминичну, сделав женой Ивана Великого.
Его отца московского князя Василия II соперник в борьбе за Московский престол Дмитрий Шемяка после долгого противостояния сумел пленить и ослепить (честно говоря, перед этим сам Василий натворил тоже немало). Казалось, жизнь несчастного князя Василия, получившего прозвище Темный, окончена, но он смог выстоять, нашел себе покровителя в лице тверского князя Бориса и отменного помощника — своего сынишку Ивана.
Прозвище Темный часто привязывают к слепоте князя, мол, потому и «Темный», что света не видел. Но не только потому. Слепец-правитель — это нонсенс, но помимо слепоты была у Василия еще одна особенность. Конечно, он не желал терять зрение, сопротивлялся своим палачам и в результате оказался не только ослеплен, но и страшно изуродован. Самому князю все равно, а у окружающих увечье вызывало оторопь, пришлось надеть широкую черную повязку, скрывающую верхнюю часть лица. Едва ли это добавляло симпатий и доверия, но нашлись многие, кто решил воспользоваться увечностью своего правителя, и смогли бы это сделать, не будь у него маленького, но очень разумного сына Ивана.
Ваня помогал отцу передвигаться, стал его глазами, с восьми лет был при князе неотлучно, разве что уезжал во главе войска (!) на время походов. Присутствовал на всех советах, стоя за стулом отца, слушал и объяснял, кто говорит, куда при этом смотрит, как себя ведет (и поневоле прошел блестящую школу физиогномики и понимания людей). Читал присланные письма и грамоты, писал под диктовку, а с двенадцати лет и сам составлял послания правителям-соседям и в дальние страны, то есть отвечал за дипломатическую переписку (!).
Тверской князь за свою помощь в тяжелые времена (он приютил князя Василия Темного и через год помог вернуть Московский престол — Шемяку в Новгороде отравили) пожелал породниться, так шестилетний Иван оказался обручен с четырехлетней Марией Тверской. Венчались позже, когда мудрому не по годам отроку исполнилось двенадцать. В семнадцать он стал отцом Ивана Молодого.
Умирая, князь Василий за Московское княжество не беспокоился, оно оставалось в надежных руках двадцатидвухлетнего Ивана, давным-давно правившего этим княжеством от имени отца. Правил юный сын куда лучше своего отца-неудачника, запомнившегося современникам помимо слепоты постоянной необходимостью собирать средства на выкупы князя из очередного плена (тогда пленников предпочитали не в лагеря отправлять, а освобождать за золото). В истории России трудно найти другого такого неудачника, как Василий II, если он чему-то и мог научить своего сына, то только тому, как НЕ НАДО править. Иван III и научился. Принцип «от противного» тоже бывает полезным, увидев, «как не надо», он сам смог додумать «как надо». Конечно, не без ошибок и жестокости, но провалов у правителя им же созданного государства почти не было, а успехи такие, что заставили уважать новую державу.
Когда Ивану Васильевичу было двадцать семь, враги расправились с его Марией Борисовной, отравив великую княгиню во время отсутствия Ивана в Москве. Он оплакивал жену до конца жизни.
На пятом году вдовства состоялся второй брак — с Софией Палеолог, которая после падения Константинополя и смерти родителей жила при папском дворе в Риме.
Что заставило папу римского (вернее, двоих — задумал все папа Павел II, а осуществил после его смерти папа Сикст IV) предложить в жены далекому московскому князю византийскую царевну Софию (ее брат Андреас вообще считался наследником несуществующего византийского престола и своим правом на престол вовсю торговал, проматывая полученные деньги)? Именно предложить, это не великий князь Иван Софию сватал, напротив, ее кандидатуру преподнесли из Рима на блюдечке с голубой каемочкой, а жених еще и раздумывал.
Дело в том, что Европа, привыкшая считать Русь не просто раздробленной и даже растащенной на куски, но и подчиненной Орде, вдруг обнаружила, что она, прежде всего в лице Московии, восстала из пепла и может дать фору если не по развитию, то по силе и богатству многим государствам самой Европы.
Орда уже не была единой, она распалась на пять разных образований, зато окрепло Крымское ханство, было очень сильно Великое княжество Литовское, Нагайская Орда, Казанское ханство, да и сама Большая Орда оставалась грозной. Московию со всех сторон окружали либо чужие желающие оторвать свой кусок, либо свои, страдавшие тем же (когда бывало иначе?).
Чтобы понять, что получил в наследство Иван Васильевич, достаточно вспомнить, что Тверское княжество было самостоятельным, как и Рязанское, как и Новгородская и Псковская боярские республики, граница с Великим княжеством Литовским проходила где-то между Вязьмой и Можайском (!), а от того самого места на реке Угре, где было последнее противостояние войск Руси и Орды, от МКАД по Киевскому шоссе километров полтораста.
И дань Орде не плачена больше десяти лет, и литовский князь Казимир наседал, грозя до самой Москвы дойти, а Новгород и вовсе нацелился на унию, решив отказаться от православия, и собственные братья-князья норовили с врагами за спиной молодого великого князя Ивана договориться…
Что сделал Иван Васильевич в такой ситуации? Порвал ордынскую грамоту с требованием выплаты дани и бросил ее себе под ноги!
Но сумел избежать войны на два фронта — когда хан Ахмат пришел наказывать непокорную Москву за невиданную наглость неподчинения, то обещанной поддержки от литовского князя Казимира не дождался. Иван Васильевич договорился с Крымским ханством, и литовцам оказалось не до Ахмата, они отражали набег дружественных Москве (тогда) крымчаков.
Иван Васильевич в походы во главе войска не ходил — не княжье то дело, а воеводское, на то они и воеводы. Ордынцев на Угре встретила закованная в броню регулярная армия (в отличие от всех предыдущих, собранных с мира по воину). Полки других княжеств были скорее подспорьем основным силам Москвы. Хан Ахмат решил не связываться и с Угры ушел.
И так во всем — кнут и пряник, война и переговоры одновременно.
Литье пушек на Москве, строительство из камня, разведка полезных ископаемых, освоение и подчинение новых земель (это по его приказу за сто лет до Ермака в Сибирь, на Обь, Иртыш и Тобол, отправились воеводы Салтык и Курбский Черный для защиты земель от Тюменского ханства), подчинение строптивого Новгорода и еще много чего…
Именно Иван Васильевич назвал себя государем Всея Руси (а не одной Московии).
Следующему государю, сыну Софии Василию, он оставил территорию, в несколько раз превышающую ту, что получил сам. И армию крепкую, и промышленность довольно развитую, и очередь иностранных мастеров, желавших послужить Москве своим умением.
И не его вина, что потомки не всегда с толком распорядились наследством, а через сотню лет после его смерти (князь умер в 1505 году) и вовсе допустили поляков в Кремль.
Об Иване Васильевиче говорили, что он высок ростом, а взгляд такой, что мало кто выдерживал, женщины так и вовсе в обморок падали.
Тверд и даже жесток, когда нужно, не терпел непослушания, требовал исполнения приказов в точности и вовремя, людей ценил не за знатность, а за их ум и желание послужить Руси. Был тверд в вере, но при этом очень любознателен, с догмами не всегда считался. Например, главный православный собор Москвы Успенский пригласил строить латинянина Фиораванти (правда, после того, как попытка сделать это силами своих строителей увенчалась обрушением целой стены почти возведенного собора).
Кстати, заодно Аристотель Фиораванти и пушки лил, и мосты строил, и еще много чем занимался, Возрождение же, не один Леонардо да Винчи многопрофильным был. Вот к кому приехать бы мастеру Леонардо, вот кто сумел бы оценить его многочисленные таланты и применить их на деле! Но не суждено, мыкался Леонардо да Винчи по городам-государствам Италии, создавая портреты влиятельных заказчиц, а его технические задумки и изобретения остались пылиться на полках. Пожалуй, это единственное упущение Ивана Великого, но, возможно, он и не знал о гениальном итальянце.
Иван III поставил Ивангород на реке Нарве ради выхода в Балтийское море (ничего не напоминает? Петр I свое окно в Европу на берегу пустынных волн Финского залива рубил рядом с давно открытой туда дверью). Иван III правильно оценил выгоду и силу Крымского ханства, завязав с ним дружбу. Иван III озаботился возвращением в лоно Руси исконно русских земель с православным населением, которые входили в состав Великого княжества Литовского (и успешно ведь!). Это он одновременно сдерживал воинственное Казанское ханство и звал татарских князей к себе на службу (и тоже успешно). Это он начал активно использовать иностранных мастеров в чисто практических целях в Московии (в отличие от Екатерины Великой, допустившей иноземцев в науку).
Перечислять его новшества можно долго. Иван Васильевич на многие столетия вперед определил направления внешней политики созданного им государства. Да и внутренней тоже.
Блестящий политик, умевший все точно рассчитать и использовать любую, даже самую тяжелую, ситуацию.
Это Иван III создал то, что потом назовут Россией, превратив небольшое Московское княжество в огромное по территории и сильное государство.
Тогда в Европе родилась боязнь вдруг восставшей из пепла сильной и почти единой (не без ренегатов, конечно) Руси во главе с Москвой. Родилась и по сей день существует.
Почему же неблагодарная Россия не имеет даже небольшого памятника своему основателю (государства, которое Петр I только назвал Россией, а создал его Иван), больше того, просто не вспоминает об основателе?
Его внук и полный тезка Иван IV Васильевич Грозный НЕ совпал с Россией, Петр I НЕ совпал, они ломали государство и народ через колено, ввергали его в хаос и тем запомнились. Екатерина Великая запомнилась только тем, в чем НЕ совпала, о многих ее деяниях, пришедшихся по сердцу русскому духу (или продолжавших линию Ивана III), мы легко забыли.
А вот Иван III СОВПАЛ. Совпал потому, что сам создал.
В результате мы воспринимаем свершенное им как исконно русское.
Кто из нас, глядя на Грановитую палату и красные стены Кремля, задумывается, что не из глубины русских столетий пришли вот эти массивные арочные своды и «ласточкины хвосты» по верху кремлевских стен, что и форма башен, и многое-многое другое, что вот этот «исконнорусский» стиль, по сути, создан при Иване III?
Об Иване III Васильевиче, которого современники называли Великим, Грозным и Правдолюбцем, можно (и нужно) рассказывать долго, но это отдельный разговор, а пока нас интересует его вторая супруга София Палеолог, сыгравшая свою (как положительную, так и черную) роль в его судьбе и судьбе будущей России.
Вот за такого загадочного правителя загадочного государства вышла в 1472 году (Ивану Васильевичу было 32 года) София Фоминична Палеолог, превратившись из византийской царевны в государыню Всея Руси.
Послы загадочной Москвы
Проделав долгий и трудный путь, русское посольство от Великого князя Московского Ивана Васильевича прибывало в Рим. Пока не к папскому двору, поселили московитов на большой вилле у городских ворот. Нужно же с дороги отдохнуть и вымыться, переодеться, не в гости к соседу забежали по-свойски, Московию представляли и остальную Русь тоже.
Посольство немалое, хотя самих послов всего трое: бояре Ларион Беззубцев и Тимофей Шубин и дьяк Василий Мамырев. Ну и Иван Фрязин по прозвищу Денежник, куда ж без этого ловкого итальянца, что у московского государя чеканкой монеты занимается, а вернее, больше собственным обогащением.
А еще слуг множество и охрана крепкая. Не только чтобы солидней выглядеть, но и действительно ради охраны — посольство много богатейших даров папе и его окружению везло. Повод был знатный…
Никиша, что помогал дьяку Мамыреву еще в Москве, всю дорогу одолевал Василия Саввича расспросами, но тот не отмахивался, отвечал. Парень разумный и любознательный, из него толк в посольском деле может быть большой. Чужой язык легко схватывал, это тоже важно. Пусть спрашивает, язык без костей, чай, не устанет отвечать.
Никиша дивился и негодовал:
— К чему государь дорогу латинянам на Русь торит? Чтоб они свои обычаи принесли да своих попов прислали? Недолго же тогда нашей вере быть…
Василий Саввич резко оборвал сомневающегося:
— Плохо ты о нашей вере мыслишь, я погляжу, ежели боишься, что ее вот так просто можно чужими обычаями свалить. Нет, стояла православная Русь и стоять будет. А дорога, она как и палка — о двух концах. И двигаться по ней в обе стороны можно. Государь правильно рассудил, мы столько лет из-за ордынцев от мира отрезанными сидели, словно волки в огороженном лесу. Негоже так жить, надо с братьями христианами и торговать поболе, и ума-разума у них набираться.
Никишу обидело намерение дьяка ума-разума у латинян набираться, даже губы надул:
— Чего это, нешто своего мало? Мы им еще какого ума выказать можем, а не у них набираться.
Дьяк усмехнулся в бородку:
— Мы им, а они нам, вот и прибудет у обоих ума-то. Верно сказал государь Иван Васильевич: Русь столько лет под Ордой словно и не жила, все от лета до лета, от одного набега до другого, все накоротке, все ненадолго. Лучшее туда забирали, столько людей погибло. А латиняне тем временем опыта набирались.
— Словно бы у них войн да междоусобиц не было, — снова ревниво возразил Никиша. Уж очень ему не хотелось признавать превосходство латинян хоть в чем-то.
И снова дьяк разъяснил как дитю малому:
— И у них все бывало, да только не сжигали города дотла, не заставляли по лесам годами хорониться, не вырезали под корень. Можно город разграбить, но стены каменные останутся, люд, который выживет, снова за дело примется. А у нас ордынцы мастеровых либо в рабство забирали, либо убивали, если не подчинялись. Но не о том речь, кто более пострадал. Ты про государя спросил, про то, к чему дорогу латинянам на Русь торит. Я тебе ответил, что по той дороге и наши купцы меха к ним повезут, и к нам мастеровые, кто умеет то, чего мы не умеем, поедут.
— Чего это они к нам поедут, если у них своего много? И к холодам небось непривычные.
— Знаешь, что заставляет людей пускаться в дальнюю дорогу или неудобства переносить?
— Государев приказ.
— Ай молодец! Но это нас с тобой как государевых людей. А тех, кто сам по себе?
Никиша чуть подумал и переспросил:
— Чего?
— Деньги. Золото — оно самая лучшая приманка. Поманит наш государь золотишком, и побегут разные мастеровые латинские к нам.
— Нужны они нам! Сами справимся.
— Ох и дурень ты, как я погляжу.
Но Никиша упорно гнул свое:
— Сами все придумаем и сделаем, не надо нам латинян этих. Нешто не сообразим без их разумения?
— Сообразим и придумаем, только к чему придумывать то, что другие уже знают? Не лучше ли научиться и на том разумении дальше пойти, чтобы остальных обогнать? А заплатить им всего-то золотом.
Теперь Никиша смотрел на наставника во все глаза:
— Василий Саввич, это сам придумал?
Дьяк с изумлением уточнил:
— Что придумал?
— Ну, как у этих латинян их разумение перехватить и дальше пойти?
— Да кто ж иначе делает? Ежели бы каждый все сам от начала придумывал, мы б до сих пор в землянках жили да в шкурах ходили. Если какое-то знание можно купить, его нужно купить, а уж дальше самим. А вот свое новое продавать не стоит, разве когда оно уж не внове будет.
— Ну ты и голова… Недаром тебя государь при всяком деле держит.
— Ладно уж тебе. Только не болтай там лишнего и вопросов своих дурацких тамошним и Фрязину не задавай. Ежели чего не понял, то меня спроси.
— Понял, Василий Саввич, лучше у тебя спрошу. Только ты уж не серчай на меня за дурь мою, я не все постиг пока.
Дьяк Мамырев рассмеялся:
— Да всего никто на Земле не постиг, а что постичь желаешь, то хорошо. И еще одно сказать хочу: в чужие земли придем, много там чудного и непривычного увидишь. Помни, что в чужой дом со своими правилами не лезут и что не все дивное на первый взгляд дивным со второго показаться может. Пальцем не тычь на чужие порядки и рта не разевай, словно бы ворон считаешь.
Долго еще наставлял дьяк Мамырев своего помощника, прекрасно понимая, что парень все забудет, и рот разинет, и мысли вслух выскажет. Не все умеют вида не подавать, что удивлены или неприятно поражены.
И вот перед ними Рим — великий, древний город, столица христиан-латинян. И прием у папы римского.
Но великий князь Иван Васильевич знал, кого выбирать послами, это Иван Фрязин балаболка и даже пустобрех, остальные себе на уме и цену и свою, и Москве знали. Все трое держаться с достоинством умели и не стали дрожать коленками пред папским престолом. Не слишком волновались московские послы, направляясь в сопровождении богато одетых слуг и охраны в Ватикан.
При папском дворе их приезда ждали, но папа Сикст все еще был занят праздниками по поводу своего восшествия на престол Святого Петра.
Эти русские медведи всегда привозили богатые дары, особенно меха и самоцветы, но послы бывали редко, потому лучшим подарком для себя и престола папа Сикст посчитал бы присоединение Московии к Флорентийской унии. Тогда и меха в его сокровищницу, и золото на новый крестовый поход потекли бы рекой.
Потому московитов принимали двояко — полупрезрительно, но с надеждой.
Лаура ныла, держась за щеку, третью ночь — страдала зубами. Зою это страшно раздражало, советовала рот солью полоскать или вовсе зуб вырвать. Но девушка отказывалась от всего, полоскание казалось ей мерзким, а открывать рот перед лекарем страшно. В конце концов щеку красавицы разнесло, выглядела она уродливо. Оставалось ждать, пока нарыв сам прорвет.
Другая выгнала бы надоедливую соседку из комнаты или сама ушла, но Зое, живущей в папском дворце из милости, и гнать кого-то не пристало, и самой идти некуда, хотя имя у нее гордое, императорское — Палеолог. Два столетия Палеологи были на византийском троне, последний император — Константин XI — погиб, защищая город от турок, а с ним пала и Византийская империя. Католический мир не пришел на помощь осажденному Константинополю, но Ватикан приютил у себя брата последнего императора Фому Палеолога и потом его осиротевших детей. Так внучка одного императора и племянница другого Зоя Фоминична Палеолог стала воспитанницей понтифика и нахлебницей папского двора.
Лаура Зое не сестра и даже не родственница, просто новый папа Сикст пристроил к византийской царевне одну из своих дальних родственниц. Лаура сначала была страшно недовольна, но потом поняла выгоду: она при дворе, а тяжеловатая, страдающая полнотой Зоя, совершенно не умеющая кокетничать или обольщать, прекрасно оттеняла легкую тоненькую Лауру. Выигрышное соседство. Кроме того, бесприданница Зоя и прав больших себе не требовала, те, кто живет из милости, не могут ни на что претендовать. Четырнадцатилетняя уверенная в себе кокетка легко превратила старшую подругу в подобие наперсницы-служанки. Нет, Зоя не прислуживала Лауре, но требования дать лекарства или позвать служанок выполняла исправно.
При прежнем папе было лучше, папа Павел больше благоволил несчастному деспоту Мореи и его детям, хотя Зоя прекрасно понимала, что и это благоволение не навсегда. Но что она могла поделать? Только ждать замужества или уйти в монастырь. Пока оставалась надежда на первое, слабая надежда, но она, как известно, умирает последней…
Полоскать, чтобы опухоль срочно спала, Лауре пришлось потому, что из папских покоев прибежал Розарио с вестью о приезде русского посольства от короля Московии. Он взахлеб рассказывал о том, сколько сундуков с дарами привезли русские. Мол, отведенные им комнаты сплошь заставлены, а папе Сиксту пришлось даже приставить отдельную стражу, чтобы отгоняла любопытных.
Зоя застыла, не зная, радоваться или все же плакать.
Дело в том, что известие касалось ее лично, приезд страшных бородачей означал, что ей, возможно, придется отправиться в далекую холодную Московию, где по улицам бродят дикие звери, да и люди не лучше тех зверей.
Там, в далекой, даже летом заснеженной Москве, дикими московитами правил ужасный Иоанн Базилевс. Он был вдов, и, отчаявшись найти Зое Палеолог, названной в Риме Зоей, мужа среди аристократов Италии, предыдущий папа римский Павел придумал выдать ее замуж за этого правителя. О Московии ходило столько страшных слухов, что подобное замужество могло означать лишь заклание, хотя иногда казалось, что среди снегов и медведей лучше, чем быть в богатом Риме нахлебницей.
Лаура, услышав столь потрясающую новость, завопила, требуя немедленно дать ей соляное полоскание. Она едва дождалась, пока Зоя снова разведет соль горячей водой, ведь полоскать холодной бесполезно.
Сама Зоя двигалась словно во сне.
Столько лет ждала она своего замужества! Сколько об этом дум передумала! Неужели оно будет столь ужасным и избежать не получится?
— Ну что ты возишься?! — возмутилась Лаура, заметив странное состояние девушки. — Может, это вовсе не те послы, может, не за тобой приехали.
Ей уже чуть полегчало, боль стала отпускать, и теперь распирало любопытство. Подруга по-своему расценила замешательство Зои, решив, что та в ужасе от приезда послов.
— Не переживай. А хочешь, скажись больной, мол, это у тебя зуб болит. Я подтвержу.
— А? — очнулась Зоя. — Нет, не надо. Ты права, может, это не те послы, может, не за мной.
Но немного погодя пришел брат Андреас, оживленный и довольный, с тем же известием о московских послах.
Оказалось, что послы пока отдыхают в предоставленном им доме подле въездных городских ворот. Папа Сикст намерен встретиться с ними завтра, но сначала желает поговорить с самой Зоей.
По тому, какие сундуки да короба, как все разодеты, можно судить, что дело сладилось, приехали сватать Зою за правителя Московии.
— Ну, сестрица, быть тебе московской королевой! Будешь дикарями править и в повозке, запряженной медведями, ездить.
Лаура умирала от любопытства и от желания отправиться вместе с подругой, но приказ папы Сикста был четок: только Зоя.
Девушка шла в папский кабинет, не чуя под собой ног. Судьба решалась, неужели окончательно?
А судьба у Зои Палеолог, в Москве названной Софией, была нелегкой.
Ее дядя, последний император Византии Константин Палеолог, погиб на крепостной стене вместе с другими воинами, когда турецкий султан Мехмед приступом брал Константинополь. Отец Зои Фома Палеолог еще правил в Морее (на Пелопоннесе) вместе с другим братом, но турки скоро добрались и туда. Жена Фомы Катарина Заккария с детьми перебралась на Корфу, а сам бывший деспот Морейский, забрав главную имеющуюся у него ценность — забальзамированную голову святого апостола Андрея, — отправился в Рим. Отдал реликвию папе Павлу и принял католичество в надежде, что сумеет устроить будущее своих детей.
Старшая из его дочерей, Елена, уже была замужем за сербским деспотом Лазарем, потому помощи не требовала (и сама родственникам не предлагала, даже маленькой Зое), младший сын Мануил предпочел службу султану Мехмеду и его веру. А вот старший Андреас и младшая дочь Зоя, оставшись после скорой смерти матери сиротами, были вызваны отцом в Рим. Но и рядом с отцом жить не получилось, тот позвал детей, потому как тоже умирал.
Остались Андреас и Зоя сиротами в чужом городе, чужой стране. Католичество приняли, стала Зоя Софией. Папа им содержание назначил, кардиналы из своих средств добавили немного, но всего этого было мало — едва концы с концами сводили. Иногда перепадало от щедрот папских, но как же это унизительно — быть нахлебниками! За всякую мелочь благодарить, кланяться и делать вид, что ни в чем не нуждаешься.
Андреаса считали наследником уже несуществующего византийского престола. Это все, что у брата и сестры было.
Их учили, особенно Зою. На ее счастье, учителем оказался кардинал Виссарион Никейский, человек умный, образованный и не считающий, что для девушки достаточно уметь читать и вышивать. Зоя освоила латынь, философию, много занималась историей, неплохо разбиралась в математике, географии и много в чем, чем даже Андреас ленился заниматься.
Но это не помогло ей выйти замуж.
Жениха нашли из знатного рода Караччоли, даром что стар был и немощен, а невеста совсем девочка, зато согласился взять бесприданницу. Стать женой Зоя не успела, только обручили заочно, как жених помер. Она даже не видела возможного супруга ни разу.
Нет худа без добра: окажись Зоя настоящей наследницей, потеряла бы и папское содержание, и мужнина не получила, поскольку наследство после него было дутым — одни долги. Бог миловал, уберег.
С тех пор еще дважды сватали, но всякий раз что-то мешало. Да и женихи не из тех, из-за которых стоило слезы лить.
Зоя прекрасно понимала, что именно мешало: она бесприданница, не считать же приданым сохраненные Фомой Палеологом византийские реликвии — костяной трон, множество православных книг, грамоты… Для Рима это ничто, Западной Римской империи слава и честь Восточной вовсе не нужны.
Но было еще одно, что мешало Зое надеяться на замужество: она разительно отличалась от остальных девушек. Те, кто беседовал с византийской царевной, поражались ее уму, образованности, ее умению размышлять, пониманию людей. Но разговоры Зоя вела не женские, не о поэзии или любовных шалостях, а на серьезные темы. Кому нужны от девушки такие речи?
Она не умела кокетничать (кардинал Виссарион такому не обучал, а природа не наградила таким умением), слишком часто говорила что думала, бывала резка. А еще Зоя… упитанна. Рядом со своими тоненькими, словно былинки, и хрупкими подругами и вовсе выглядела толстухой.
Два года назад папу Павла осенила счастливая, как ему показалось, мысль — о браке Зои с овдовевшим правителем далекой страшной Московии Иоанном. Мысль понтифику так понравилась, что он, даже не спросив согласия самой невесты, отправил в Москву с Иваном Фрязиным его племянника Антонио Джислярди с предложением руки Зои.
Ответ пришел положительный, но великий князь Московии просил портрет невесты, дабы убедиться, что у нее все на месте: глаза, нос, рот… Портрет нарисовали и отослали. Зоя страшно переживала, потому что художник хоть и старался изобразить ее в лучшем виде, но сделать этого не удалось. Правда важней, заявил он и отказался рисовать царевну в два раза тоньше и без бровей. А сама Зоя их категорически не желала сбривать (ее брови после выщипывания упрямо отрастали шире прежних!).
Иван Фрязин твердил, что в Москве не в чести худые и безбровые женщины, мол, Зоя, напротив, будет желанна именно такой, какова есть. К словам Джана Батисты делла Вольпе, которого в Москве именовали Иваном Фрязиным, следовало относиться с осторожностью, этот соврет — дорого не возьмет. Сам Фрязин старался выглядеть значительно, делал вид, что он правая рука государя Московского, поскольку отвечал за выпуск монет. Никто не знал, насколько важен Вольпе в Москве, но благодаря и его стараниям эта свадьба могла состояться.
Портрет увезли, и потянулись длинные недели ожидания, превратившиеся в месяцы. Мало того, умер папа Павел и на папский престол взошел Франческо делла Ровере под именем Сикста IV. Нового папу сначала мало волновала судьба византийской царевны, честно сказать, не волновала вовсе. У Зои появилась робкая надежда, что об этом сватовстве забудут и ей найдут другого мужа.
Но подсуетился кардинал Виссарион, у нового папы следовало зарабатывать авторитет, значит, сделать нечто для престола очень полезное. Чем же хорош брак византийской бесприданницы с московским правителем? Очень полезная штука. Прекрасный способ заставить великого князя Московии подписать унию и, главное, принять деятельное участие в крестовом походе против турок ради освобождения Гроба Господня. Несколько столетий русские князья ловко избегали сего, не ходили в походы и денег не давали. Пусть бы и сейчас не шли, но золото прислали. А еще меха, на Руси меха отменные.
Папа Сикст признал правоту мыслей кардинала Виссариона и снова отправил в Москву Антонио Джислярди с намеком к московиту, что пора, мол, и сватать царевну.
Саму Зою по-прежнему никто не спрашивал.
А ведь кто знает, что с ней сотворят в дикой стране, как жить заставят, не придется ли сырое мясо кушать или мыться то и дело?
Давно прошли времена римских терм, не одни римляне, вся Европа от воды отвыкла.
В Тибр из-за трупов и нечистот лучше не соваться, а немногочисленные колодцы не могли снабдить весь Рим чистой водой. Только самые богатые могли наполнять большие чаны водой, а потом сидеть в них до посинения. Но это в летнюю жару, а в холода, когда в каменных домах и без воды зуб на зуб не попадет, о мытье вообще забывали. Дрова слишком дороги, чтобы нагревать воду. Кроме того, всем известно, что с горячей водой через кожу внутрь человека проникает зараза! Благородные люди не моются, достаточно того, что рубахи меняют по несколько раз за день.
А московиты мылись! Да-да, ходили слухи, что эти московиты любят горячую воду, вернее, любят ее на себя лить и золой при том тереться. И это в жуткий холод, который стоит там круглый год!
Если бы только купание…
Когда побывавшие в далекой Москве рассказывали о странностях ее жителей, многие в Риме считали их слова выдумкой. Разве можно поверить, что дома даже простых московитов не стоят вплотную друг к дружке, словно это виллы? А драгоценными мехами лавки выстилают. Слепленные из снега комки (как их вообще можно в руки брать?) бросают друг в друга с удовольствием. Все потому, что большую часть года там так холодно, что пар изо рта идет, а зимой дома по крыши снегом заносит.
Рыбу предпочитают мясу, и она у простого люда каждый день, да не морская, а речная и озерная, что для Рима совсем уж немыслимо.
Большинство людей не туфли с длинными носами носят, а какую-то странную обувь, плетенную из коры березовых деревьев.
И моря там нет, вернее, есть, но далеко от Москвы и очень-очень холодное, даже называется Студеным.
Или (об этом тайно выведала служанка Зои Гликерия) что муж, вернувшись из поездки, к жене на ложе не взойдет, пока не вымоется весь. И после тоже моется…
А библиотек там нет, разве что в монастырях. Зоя опечалилась: значит, и грамотных людей тоже нет?
Антонио Джислярди, что Зоин портрет к Иоанну Базилевсу возил, только и твердил о несметных богатствах, но что с тех богатств, если вокруг дикость?
Пока шли простые разговоры, Зоя не очень боялась, почти не веря в угрозу оказаться среди дикарей, но теперь, когда послы уже в Риме, вдруг осознала неизбежность жизненной катастрофы. Как бы ни было тяжело при папском дворе, но вокруг все знакомое, уже родное. Унижения, которые она испытывала, казались уже не столь высокой платой за возможность пользоваться книгами, быть среди образованных людей, жить в образованном обществе, одеваться не в медвежьи шкуры и обуваться в котурны, а не в куски бересты.
И теперь все это отнимали, предлагая взамен непонятное будущее в непроходимых лесах и болотах. Как она будет разговаривать со своими родственниками, с подданными, даже с мужем? Джислярди говорил, что их язык самый трудный из всех, какие он слышал, мол, половины жизни не хватит, чтобы сотню слов выучить. Что она будет делать, не понимая ни слова и не умея выразить свои просьбы и желания?
Каждая девушка хочет замуж, Зоя тоже хотела. Замужество — это возможность жить настоящей жизнью, даже если муж небогат или незнатен. Но только не такое, какое предстояло ей!
И Зое вдруг стало страшно, по-настоящему страшно. Захотелось броситься в ноги папе Сиксту с мольбой отпустить в монастырь. Будь она менее сдержанной и практичной, так бы и поступила. Но жизнь уже научила Зою, что не стоит просить о том, чего все равно не получишь. Папа Сикст ни за что не позволит ей уйти в монастырь, если от ее замужества можно получить выгоду. Судьба самой девушки понтифика не интересовала вовсе, а вот выгода — очень.
С такими невеселыми мыслями Зоя спешила в кабинет к папе Сиксту.
Надежду, что этого замужества удастся избежать, следовало оставить. Если только московиты приехали ее сватать, то Зоя Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина и наследница византийского престола (которого больше нет), станет супругой далекого дикого правителя страшной холодной Московии.
В приемной перед кабинетом крутился Ченчо — очередной юный любовник папы Сикста. Зоя терпеть не могла этих молодчиков, с которыми Святые отцы занимались содомией, но всегда старалась делать вид, что не подозревает, почему красавчик рядом с Сикстом. И у папы Павла был постоянный жеребец рядом, готовый ублажить Святого отца, когда только потребуется. Все об этом знали, но никто не удивлялся и не протестовал.
Для Зои присутствие Ченчо означало, что разговор будет хоть и важный, но недолгий. Папа уже горел желанием уединиться со своим жеребцом, значит, поторопится завершить дело с дочерью Фомы Палеолога. Это хорошо, она не очень любила бывать в папских покоях, а уж выслушивать его речи и того меньше.
Вошла, покорно склонив голову, как полагалось доброй христианке, по знаку папы подошла и приложилась к краю его одежды. Сикст нетерпеливо показал, чтобы поднялась, видно, и впрямь торопился к своему любовнику.
— В Рим снова прибыло посольство московитов. Они будут не только поздравлять нас с восшествием на престол Святого Петра, но и сватать тебя. Не нами сие задумано, но, поразмыслив, мы решили, что в том есть свой прок.
Девушка молчала, понимая, что это не обсуждение, а речь, которую надо внимательно выслушать и все исполнить.
— Дочь наша, думаю, ты достаточно хорошо воспитана и обучена кардиналом Виссарионом, чтобы понять, что данное тебе благодеяние нужно заслужить.
Зое очень хотелось сказать, что она давно заслужила, мало кому выпадало больше невзгод за столь короткую жизнь, чем ей, мало кому приходилось так и столько подстраиваться, молчать, угождать и склонять голову, даже когда хотелось вцепиться зубами в горло. Снова (в который уж раз!) склонила голову, приложилась к его полной дебелой, милостиво протянутой руке:
— Я постараюсь оправдать ваше доверие, святой отец.
— Да, — почему-то согласился тот. Присел сам, сделал знак, чтобы тоже села.
Зоя скромно примостилась на самом краешке стула, готовая в любую минуту снова пасть перед понтификом ниц и целовать край его одежды. И не только потому, что он глава всех христиан и наместник Петра, но и потому, что она живет в папском дворце из папской милости. Тут не до строптивости или неуважения.
— Мы не зря выбрали тебя на сию роль, дочь наша, надеясь, что ты сумеешь выполнить нашу волю.
Зоя удивилась тому, что папа Сикст тянет, хотя явно торопится. Не может решиться? Девушка тихонько подсказала:
— Я должна что-то передать от вашего святейшества правителю Московии?
— Не передать, это без тебя послы сделают. Но ты должна помнить о своем долге перед Святым престолом и о том, что наше желание постоянно: увеличивать и растить нашу паству. Посольство московитов будет на приеме только завтра, но Вольпе, которого они Фрязиным зовут, уже сообщил, что князь Иоанн согласен на унию по примеру Новгородского боярства и многих других.
Зоя, не вполне понимая, что требуется от нее лично, ждала. Понтифик встал, пришлось подняться и ей тоже. Прошелся по комнате, похрустел суставами пальцев, снова сел, сделал ей знак садиться. Из-за двери слышался громкий смех Ченчо, который таким способом напоминал царственному любовнику о своем нетерпении, но папа Сикст увлекся размышлениями, тема была слишком важной.
— Мы не вполне доверяем этому Вольпе, он нередко выдает желаемое за действительное и раздает обещания, выполнить которые не может. Но даже если то, что он утверждает, наполовину правда, то московитов можно привлечь к священной войне против турок. Вот в этом ты и должна постараться, дочь наша. Как сие сделать, тебе подскажут люди, которых я отправлю в помощь. Об этом разговор еще будет впереди, а пока мы желали бы знать, готова ли ты верно служить нашим интересам и интересам Церкви?
Интересно, какого ответа он ждал? Только бы не заставил клясться! Клятвы Зоя терпеть не могла, а потому поспешно кивнула:
— Ваше святейшество, позвольте заверить вас, что я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы выполнить вашу волю и волю Господа.
— Хорошо. Нам нравится твое послушание и готовность служить Святому престолу. Пока иди. Когда будет нужно, мы тебя вызовем. И скажи, чтобы Ченчо зашел, мы желаем с ним поговорить.
«Старый развратник!» — мысленно ругалась Зоя, возвращаясь в свою комнату.
Ей наплевать на Ченчо и содомию, которая пышным цветом цвела при папском дворе. Девушка пыталась понять, чем ей грозит задание, данное папой.
Склонить московского правителя к унии… Так ли это трудно, если даже византийский император согласился на нее? Зоя никогда не задумывалась над этими вопросами и понятия не имела, кто униат, кто католик, а кто и вовсе греческой веры. Кажется, в греческой (какой была и она сама, и ее отец Фома Палеолог до приезда в Рим) осталась только Русь. Тогда, конечно, нужно настоять на принятии унии.
Посоветоваться бы с наставником кардиналом Виссарионом, но он не в Риме…
Конечно, не того Зоя ждала от замужества, не хотелось думать о политике, да и само замужество пока не решено. Девичье сердце сильней билось при мысли о том, каков правитель Московии, насколько он дик и звероподобен, на каком языке с ним говорить. Завтра московиты во дворец на прием приедут. Это ближние люди государя Московии, едва ли по их виду можно судить о том, каков сам Иоанн Базилевс, но все же…
В ее комнате сгорала от нетерпения Лаура, от любопытства даже забывшая о больном зубе.
— Ну, что сказал папа Сикст?
Зоя вовсе не собиралась передавать болтушке Лауре разговор с папой, хотя понтифик и не просил держать в секрете. Пожала плечами:
— Сказал, что послы прибыли, надеется, что со сватовством. Предупреждал, чтобы была готова к встрече.
— Сегодня?! — ахнула Лаура, у которой опухоль все еще раздувала щеку, хотя заметно уменьшилась.
— Нет, они на приеме завтра будут, а там решат.
Лаура с хрустом потянулась, сладко зевнула, дохнув несвежим изо рта (даже фиалковые пастилки не помогали), и заявила:
— Знаешь, Зоя, тебе перебирать не стоит, и без того уже засиделась. В Риме жениха не найти, даже вдовцы хотят приданое или красоту, а лучше и то и другое. Вообще, зря вы в Рим приехали, лучше бы в своем Константинополе оставались. Но теперь уж для тебя лучше в Москву уехать.
Этот разговор не нов, Лаура, родственница и прежнего, и нынешнего папы, считала себя ценным даром для будущего мужа. А Зою неудачницей.
— Неужели ты не можешь втянуть щеки, чтобы они не выглядели пухлыми? Выпей уксус, чтобы не хотелось кушать. Прикажи выбрить себе волосы надо лбом, лоб должен быть большим!
Царевна злилась:
— Лоб у меня и без того не маленький! И уксус я пить не буду, чтобы потом животом не маяться. И брови выщипывать тоже не стану!
— Животом она боится помучиться! А то, что толста, как корова, это как? Тогда не ешь вовсе ничего, чтобы жир на щеках не вис.
Зоя уходила от разговора, когда никто не видел, вставала перед зеркалом и видела ужасающе не похожую на ту же Лауру невысокую полную девушку. Румянец на щеках проступал даже сквозь слой белил, а толще накладывать уже нельзя — отвалятся. И брови широки, их либо рвать каждый день надо, либо смириться. И волосы с рыжинкой (от матери) густые прямо надо лбом. Лоб высок, но не до темени же.
Зоя пыталась представить свой облик, если только послушает Лауру, и понимала, что станет совсем страшной.
Нет уж, лучше в монастырь! Там не надо щипать брови и выдергивать ресницы, не надо пить уксус, чтобы исчез румянец, под широким одеянием можно забыть об отсутствии тонкой талии и о толщине рук тоже можно не вспоминать. Одна беда — в монастырь нужен вклад, если не хочешь стать послушницей, выполняющей всю жизнь самую грязную работу, следует принести золото или другие ценности. Но все, что у Зои есть, — ее имя, ее кровь и греческие реликвии.
Все это никому не нужно, разве только московитам. Джан Батиста делла Вольпе рассказывал, пока царевна целый день позировала перед художником, что в Москве как раз такие женщины и ценны: полные, дородные, с румянцем во всю щеку и бровями вразлет. Но Вольпе болтун, это всем известно. А Москва дикая. Это тоже все знают.
Однако он не обманул — послы приехали. И теперь, плачь не плачь, Зоя должна отправиться в таинственную страну, где ценят таких, как она.
На второй день московских послов пригласили на прием. Чтобы не подумали, что Рим только их и ждал, прием устроили многолюдным, позвали всех, кто желал поздравить нового папу Сикста с восшествием на престол, но почему-либо не успел сделать этого до сих пор. Много чести кого-то одного отдельно принимать.
Несмотря на всеобщее столпотворение в Ватиканском дворце, наибольший интерес вызвало посольство Московии. Московиты были богато одеты в парчу и шелка, кафтаны щедро усыпаны жемчугами и самоцветами, а также мехами, от которых у римских модниц скулы от зависти сводило, на головах меховые же шапки (это в летнюю жару!).
Внимание любопытных привлекали дюжие молодцы с изогнутыми топориками на длинных ручках, идущие по сторонам подвод, груженных тяжелыми коваными сундуками. Мало кто из римлян оказывался им выше плеча. А подводы устланы богатыми коврами, такие не грех и в самом дворце постелить. И попоны у коней золотом расшиты… И упряжь с серебряными пряжками…
Было на что поглазеть римским зевакам в тот день.
Но глазели и сами московиты, Мамырев едва успевал отвечать парню или одергивать того. Никиша замолкал, но немного погодя принимался выпытывать снова:
— А чего царевну византийской кличут, ежели она римлянка?
И снова дьяк терпеливо разъяснял отроку, что царевна Зоя при рождении была Зоей Палеолог, она дочь Фомы Палеолога, племянница последнего византийского императора Константина.
— Того, который погиб, когда Царьград турки захватили?
— Да, император вместе со своими воинами на крепостной стене Константинополя погиб, но поражения не признал. А братья его еще Морейским княжеством правили, пока турки и туда не добрались. Вот Фома Палеолог и бежал в Рим к папе, прихватив с собой голову апостола Андрея. Один из братьев царевны в Константинополь уехал, их веру принял и султану служит, второй латинянином стал, чаю, и царевна наша тоже.
— Дак как же тогда?!
— Латинянка не магометанка, мало ли царевен на Руси другой веры было? Но она Палеолог, в ней кровь царская. Как Царьград пал, православная вера словно осиротела, пора Москве главенство брать. Царевна в самый раз для нашего Ивана Васильевича будет.
На улице Никиша таращил глаза, не в силах поверить в то, что видел. Чудеса вокруг, да и только! Нет, не огромные каменные здания, не мощеные камнем же узкие улочки — на некоторых двум всадникам не разъехаться, не множество площадей изумляли его. Хотя уже пожаловался, что из-за камня точно в склепе каком, а не в городе находится. Но больше всего дивился людям, их одеяниям, обуви.
Сначала парню показалось, что ходят без портов, ноги были так плотно облеплены тканью, что видна каждая жилка. Но потом понял, что это и есть их штаны, поскольку те разного цвета. То есть вот совсем разного — одна половина узких портов желтая, вторая красная. И во всей одежде так: правая половина спереди одного цвета, сзади другого, а левая наоборот. Чудно…
Узкие порты облегали тело, и все мужское достоинство срамно дыбилось. Никиша даже решил, что мужик спьяну полуголым из дома вышел, но огляделся вокруг и понял, что тут все такие — точно спьяну. Тьфу, срамота!
Сверху широкий кафтан весь в складках и сборках, будто вся ткань на него ушла, потому на порты и не хватило. Пояса два — один обычный, а второй широкий, с большим кошелем подвязанным. Дурак мужик ежели такого грабить, так и гадать не стоит — срезать пояс, и всех делов. Никиша задумался: если вот носят, значит, грабителей не боятся? Дьяк в ответ только плечами пожал, мол, сие ему неведомо.
И на головах вместо шапки тоже тряпица широкая намотана, а конец на плечо спущен или вовсе через руку перекинут. Не кланяется, решил Никиша, не то давно размотал бы тряпицу и шапку надел. Хотя летом какая шапка?
И обувь странная, как чулок, словно вовсе ее нет. В такой только по гладким плитам ходить, на камешек наступишь, так взвоешь. Не умеют подошву делать, что ли? И носок длинный, как у скоморохов.
— Колпаков с бубенцами недостает. Может, у них праздник какой, что все так вырядились?
— Ага, в честь твоего приезда. Дурака дурацкой одеждой и привечают, — почти разозлился дьяк. — Сказал же, чтоб не крутил башкой да не глазел! Мало ли, кто как одевается? Чего ты на его мотню уставился?
— Да какая мотня-то? Срамотища одна.
Немного погодя очередное потрясение.
— Василий Саввич, нешто вот этакую домой на Москву привезем?! — с тоской в голосе возопил несчастный Никиша, указывая глазами на римлянку.
Помня предостережение, пальцем не тыкал и говорил шепотом, но и в нем столько отчаяния, что дьяку даже смешно стало. Тем более римлянка, на которую Никиша указывал, и впрямь в Москве пугалом огородным выглядела бы.
На ней было большое, вздыбленное впереди (словно бы на сносях баба) платье с ворохом ткани поверх юбки, эти складки приходилось рукой придерживать. Но поразили Никишу больше ее туфли и голова.
— Чой-то она длинная такая?
Но оказалось что римлянка не высокая, просто шла на ходулях. Как иначе назвать большущие подставки вместо нормальной обуви?
Пришлось спросить Ивана Фрязина, тот отмахнулся, мол, это котурны, обувь такая. На вопрос зачем снова отмахнулся:
— Чтобы платья и ноги в грязи не запачкать.
— Какой грязи?
Оказалось, стоит пролиться хорошему дождю, и по улицам не пройти, все нечистоты потоком несет. Вот женщины, чтобы не выпачкаться, и носят такую обувь с высоченной подставкой.
Не меньшее удивление вызвало лицо. Девушка была бледная, без кровинки, с отсутствием волос надо лбом до самого темечка. Головка на тонкой шейке покрыта прозрачной вуалью, от макушки волосы свободно по плечам распущены, как в бане, но ни на лице, ни надо лбом ничего нет — ни волос, ни бровей, ни ресниц! И ручки тоненькие, даже синие жилки все на виду.
— Болящая, что ли?
Осторожно огляделся и понял, что не больная, просто принято так, чтобы у всех бровей и ресниц не было, личики, ручки, шейки — все как у курчонка, которого живьем ощипали.
Пока Никиша оглядывался, процессия московитов, сопровождаемая толпой любопытных зевак, добралась до папского дворца.
Торжественный прием у папы Сикста IV начался…
Самому московскому князю Ивану Васильевичу было не до сватовства и незнакомой невесты в далеком Риме. Отправив посольство за будущей женой, он в тот же час забыл об этом деле, навалились другие.
Великий князь давно знал о том, что новгородское боярство во главе с Борецкими договаривается с литовским князем Казимиром, чтобы отложиться от Руси, встать под руку Литвы и принять латинство.
— Пред ордынцами устояли, а тут сами голову в петлю суют! — ярился Иван Васильевич. — Неужто не понимают, что и Казимир, и поляки только пока улыбаются, а потом так в бараний рог согнут, что рука Москвы ласковой покажется. Ганзейский союз их и ныне за щенков неумных держит, а ежели под Казимира встанут, так вовсе прислугой будут.
— Отец, а почему ты Ганзейский союз ругаешь? — вставил слово четырнадцатилетний наследник, тоже Иван, прозванный ради отличия от отца Молодым. — Новгород много с ганзейскими купцами торгует, прибыль знает.
Великий князь московский вздохнул:
— То-то и оно, что прибыль малая, а могла быть большая.
— Торговлю лучше наладить?
— Нет, Ваня. Ганзейские купцы хитры, они Новгород к себе в союз не пускают, а с ним разрешают торговать только купцам немецким. Те и скупают в Новгороде все задешево, а у себя продают втридорога. Ежели бы новгородцы умней были да свои причалы ближе к морю Варяжскому поставили и своих купцов с товарами по всем странам снаряжали, то и выгода вся им была.
— А новгородцы о том не ведают?! — ахнул княжич.
— Ведают, но чтобы такой город у моря с причалами для больших ладей поставить, надо с Москвой объединиться. Никто из соседей его построить не позволит, немедля нападут и сожгут. Но к Москве или вон к Твери за подмогой идти не хочется, вот и живут сами по себе.
— Потому ты их воевать решил?
— Нет, не потому. Пусть бы себе сами сидели, но бояре новгородские решили под Казимира лечь, даже договор подписали. И на унию согласны.
— А чем это для них плохо?
— Потому как не просто самостоятельность потеряют, но и самих себя. Не новгородский люд латинянам нужен, а богатства этой земли, а люди лишь как рабы.
— А ты на латинянке жениться собрался, — неожиданно укорил сын отца.
Иван Васильевич хмыкнул:
— Ишь ты какой!
Трудный разговор на сей раз не состоялся, но великий князь прекрасно понимал, что сын еще спросит, чего ради взял мачеху-чужеземку. И отвечать придется. Противился не один Иван-младший, против и митрополит Геронтий (ох и неуступчивый старик!), предвидевший неприятности от приезда в Москву не просто латинян — послов или купцов, а супруги князя и ее свиты. Небось навезет своих людей, заполонит Москву, нарушит начавшую налаживаться спокойную жизнь. Ничего хорошего от княгини-латинянки (пусть и из рода Палеологов) митрополит не ждал, но великий князь, как обычно, всех выслушал, а поступил по-своему. Это тоже страшно злило Геронтия. К чему советоваться, если поступит так, как давно решил?
Новгород Иван Васильевич воевал успешно, разбив городское войско полностью и жестоко наказав за предательство.
Он все сделал не так, как делали князья до того.
Уже знал, что бояре во главе с Марфой Борецкой заключили уговор с литовским князем Казимиром, обещавшим, что сядет на коня в защиту города от Москвы. Потому следовало поторопиться.
Обычно низовские княжества Новгород, будь то Москва или Тверь, воевали зимой. Когда же еще лезть с войском в приильменские болота? Воеводы Ивана Васильевича повели свои полки летом, когда новгородское ополчение жатвой да покосом занималось или на ладьях с купцами уплыло.
Новгород легко выставлял в помощь своему нанятому с дружиной князю большое ополчение, хорошо обученное и боеспособное. Мало у кого из русских княжеств такая силища была, не уполовиненная к тому же ордынцами. Иван Васильевич это учел и отправил свое войско тремя рукавами. Первые ушли еще в мае вокруг озера Ильмень с востока. Воевода Холмский повел свои полки к Старой Руссе и оттуда вдоль берега озера Посолонь к Шелони, чтобы там объединиться с псковичами. А сам великий князь вышел следом за остальными, чтобы быть у Новгорода ко времени подхода первых двух.
Уговор с псковичами тоже был хитростью Ивана Васильевича. Если Новгород встанет под Казимира, то Псков попадет в полную зависимость от ливонцев. У псковичей не было иного выхода, кроме как помочь Москве против своего старшего брата Новгорода.
Марфа Борецкая и ее бояре не волновались, даже когда пришлось разделить войско на три части, у Новгорода сил хватало, к тому же Казимир обещал…
Но сначала москвичи разбили новгородцев на востоке, потом дважды у Старой Руссы, а потом было сокрушительнейшее поражение на Шелони, когда пять тысяч воеводы Холмского переправились через реку там, где бродов никогда не было, и в клочья разнесли сорокатысячное войско Новгорода, обойдясь без помощи еще не подошедших псковичей.
А что же Казимир?
Не зря же Иван Васильевич своих людей посреди лета в новгородские болота к комарам на съедение бросил, осенью могло быть поздно. Казимир именно тогда оказался занят вдруг возникшим недовольством поляков, с которыми был в едином государстве. До Новгорода ли ему, если в своем государстве свара?
После второго нападения новгородцев под Старой Руссой воевода Холмский примерно и жестоко наказал пленных — в Новгороде много появилось безносых и безухих людей. Это чтобы запомнили, что будет с каждым, кто против Москвы на предательство решится.
Основное войско в Новгород и не пошло, все на Шелони решилось. После Шелони наказывать ополчение не стали, чтоб врагов в городе не множить. Казнили только зачинщиков-предателей, среди них Дмитрия Борецкого, сына Марфы. Второго сына посадили в тюрьму в Москве, а потом постригли в монастырь.
Иван Васильевич понимал, что установившееся спокойствие ненадолго, но хоть несколько лет за северные рубежи Москвы можно было не бояться.
Это очень важно, можно развернуть основные силы на юг, где вознамерился добраться до Москвы хан Ахмат со своим бесчисленным войском. Орда развалилась на части, но ради похода на Русь даже отдельные ханы легко договаривались между собой. Ахмат был самой большой опасностью для Москвы.
Уже к лету все что только возможно оказалось стянуто к Оке. Ахмата нельзя допустить к Москве, иначе гибель. В июле, убедившись, что просто так переправиться через Оку ему не дадут, хан повернул на запад и по пути осадил небольшой городок Алексин на самом берегу. Крошечная крепостица задержала многотысячное ордынское войско, а тем временем по другому берегу подошли один за другим великокняжеские полки. Броды снова оказались прикрыты.
Защитники Алексина погибли во множестве, но хан Ахмат вынужден был повернуть обратно в степь, не дождавшись встречи с князем Казимиром для совместных действий. Москва была спасена.
Иван Васильевич с основными силами вернулся в Москву только к осени. Там его застало известие, что сватовство прошло как полагается, невесту привезут вборзе.
Вборзе, то есть быстро, не вышло. Как ни убеждали папу Сикста и саму Зою, что нужно торопиться, ведь ехать предстояло до самого Балтийского побережья, а там плыть до Колывани, добираться по плохим дорогам до Пскова, потом до Новгорода по осенней распутице и оттуда в Москву, латиняне понять этого не могли.
Дурную роль сыграл Иван Фрязин. Тому так хотелось показать себя соотечественникам и всем остальным, что он убедил папу Сикста в важности пышного шествия в знак успехов ватиканского престола в мире, и вместо торопливости в каждом городе предстояли задержки из-за праздников, пиров или просто толп зевак.
Но до того еще была встреча послов с самой невестой великого князя и заочное обручение Зои с Иваном Васильевичем, которого представлял Иван Фрязин.
Неизвестно, на кого встреча произвела большее впечатление.
Послы посетили братьев царевны Андреаса и Мануила, Фрязин предупредил об их приходе и предложил, чтобы в доме Палеологов в Санто-Спирито «случайно» оказалась Зоя. Девушка согласилась, но шла к братьям с большой опаской. Она уже много слышала о богатейших дарах (роскошная шуба и семь десятков соболей чего стоили!), которые московиты преподнесли папе Сиксту, о том, что они хоть и одеты странно, но вовсе не зверского вида, на женщин не бросаются и в свои покои не тащат. И все равно было страшновато…
Ивана Фрязина она уже видела в предыдущий его приезд, но тот из Виченцы, а у московского правителя монету чеканил и вот такие посольские поручения выполнял. Трое других от него отличались. Двое крупные, даже толстые, богато разодетые (Андреас с завистью рассматривал пуговицы из самоцветов на их кафтанах), третий высокий, но худой, зато глаза цепкие и внимательные сверх меры.
Послы принесли подарки, и братьям невесты отдельно. Когда открыли крышки богатых ларцов, щедро усыпанных самоцветами, Андреас даже сглотнул. А слуги принесли еще связки мехов.
Старший из Палеологов был столь потрясен подарками, что не заметил вошедшую в комнату сестру. Мануил вынужден был толкнуть его локтем.
— А это наша сестра Зоя…
Зоя приветствовала гостей поклоном (уже знала, что именно так полагается делать в Москве), те ответили. Повисла тишина, которая не была зловещей — московиты и их будущая правительница разглядывали друг друга.
Взгляд дьяка Мамырева потеплел: хороша, нечего сказать! Невысокая, великому князю только что по плечо будет, полненькая, с белоснежной чистой кожей, густыми волосами, убранными под сетку, темными глазами под бровями дугой и пухлыми губами. Какой дурень мог сказать, что царевна нехороша?! Что на этих бритых худосочных чучел на ходулях не похожа, так слава богу!
На душе у москвичей полегчало: и брови у царевны на месте, и ресницы тоже, и волосы не от темечка, а надо лбом начинаются, а лоб высокий, и взгляд темных глаз умный. Пухленькая, не как тощие щипаные курицы, ими в Риме виданные, шея хороша, словно для ожерелий создана…
Опомнившись, дьяк сделал знак, и Никиша поднес большой ларец.
— Позволь, царевна, дар тебе от будущего супруга преподнести.
В ларце жемчуга и украшения самые разные. А помимо ларца еще подали связки мехов белых, как лебединый пух.
— Горностай, чтоб на одежду нашить. И ткани, хотя у вас своих фрязских много, а эти издалека, из Орды привезены.
Зоя ахнула — у нее в руках оказался большой кусок тонкого шелкового полотна.
И все равно ее больше интересовали люди, эту роскошь дарившие. Понятно, что от князя своего дары привезли, понятно, что не худших послами отправил, но ведь и сам правитель Московии тоже не худший. Она смотрела из-под ресниц, а так хотелось открыто разглядывать!
Было видно, что внешне невеста послам понравилась. Удивительно, но и сами бородатые здоровяки произвели на нее хорошее впечатление. И вовсе они не дикари, а что одеты иначе, чем римляне, то неудивительно, у них холодно круглый год, потому меха и ценятся. Наверное, и бороды, чтобы подбородок не мерз. О чем шел разговор, и не вспомнить, Зоя молчала, ей беседовать с чужими не положено, но слушала внимательно. Переводил Фрязин, однако что-то подсказывало царевне, что высокий худой московит понимал и без перевода.
Немного погодя царевна поспешила откланяться, знала, что и без того кардинал Виссарион будет недоволен ее поведением. А за своеволием всегда следовало наказание, не физическое, но лишение чего-то ценного.
Семь лет назад, принимая покровительство над детьми Фомы Палеолога, Виссарион написал целое послание, чтобы не забыли, что им надлежит делать и как себя вести. Твердил, что если будут добрыми католиками, то будет у них все, а если нет, то останутся нищими. Зоя старалась быть доброй католичкой, но «всего» у детей Фомы Палеолога все равно не было. Старшая сестра Елена после гибели своего супруга, сербского деспота Лазаря Бранковича, вынуждена была бежать от турок и укрыться в греческом монастыре, Зоя с братьями жили на небольшую сумму в ожидании непонятно чего.
Даже сейчас Зою могли лишить этих даров, украшений, мехов, самой надежды вырваться из зависимости. Уже трижды замужество отменялось в последнюю минуту. Что, если и теперь московитам что-то в ее «неправильном» облике не понравится или поймут, что она бесприданница, у которой нет денег даже на дорогу в далекую Москву? И белый мех — единственный, других не имеется. И шелка у нее тоже никогда не было, поскольку 100 дукатов на каждого очень мало, а Андреас то в кости проиграет, то на шлюх потратит, то выплачивает кому-то за нанесенные побои или оскорбление…
Прощаясь, с тоской думала о том, что щедрые дары завтра же могут отправиться в папскую казну, если понтифик решит, что она вела себя недостойно. Но вдруг встретилась глазами с дьяком Мамыревым и поняла, что вот эти бородачи ее даже в Риме не дадут в обиду! Это новое, не испытанное доселе чувство защищенности было настолько сильным, что Зоя замерла. Всего на мгновение, но остановилась, продолжая смотреть в глаза Василия Саввича.
А тот широко улыбнулся и тихо произнес:
— Будь спокойна, государыня.
Зоя улыбнулась в ответ.
Девушка возвращалась к себе словно во сне.
И дело не в том, что не были эти московиты дикарями, а дьяк даже по-итальянски говорил, не в богатстве даров (не последнее же привезли!), а в потрясающем чувстве защищенности. Ее детство прошло под знаком боязни турок, страха попасть в плен и оказаться в рабстве.
Зое не было восьми, когда пал Константинополь и к ним в Морею (на Пелопоннес) потянулись беженцы. Они привезли не только книги и спасенные христианские реликвии, но и страх перед турецким рабством.
Ей не было пятнадцати, когда семья вынуждена была бежать на Корфу. В неполные семнадцать Зоя осталась опекуншей братьев после смерти матери. Хорошо, что отец забрал их в Рим, но тут же они снова остались одни. Из-за переживаний девушка начала толстеть. Зоя ела куда меньше Лауры или других подруг, но стать такой же тонкой и хрупкой никак не могла.
Царевне постоянно выговаривали из-за неподобающей полноты и неумения общаться с противоположным полом.
— Кому нужны твои рассуждения об устройстве государства? Кардинал Виссарион заморочил тебе голову платонизмом, а мужчины от девушек ждут вовсе не этого, — наставляла ее прежняя подружка Джулия, быстро вышедшая замуж и без большого приданого. Просто она знала, о чем нужно вести беседы с мужчинами.
Зоя боялась остаться без мужа, подумывала о монастыре, но постриг принимать вовсе не хотела, слишком ярким был пример старшей сестры, ставшей монахиней. Нет, Зоя хотела жить! Пусть в Московии, кажется, там не все так плохо, если есть люди как этот дьяк с умными добрыми глазами. Не один же он такой?
Чем больше думала, тем легче становилось на душе. Зоя поверила, что находится под надежной защитой, что теперь все в ее жизни будет хорошо, она понравилась, ее не дадут в обиду. Поверила и на следующий день в соборе Святых Петра и Павла рядом с Иваном Фрязиным, выступавшим от имени великого князя Ивана Васильевича, на заочном обручении стояла спокойно и прямо.
Красавица Кларисса Орсини, присутствовавшая во время обручения, только головой качала:
— Зоя, кажется, не боится ехать в эту страшную Московию.
Королева Боснии Катарина тихонько фыркнула:
— Ей так много лет и у нее так мало надежды найти другого мужа, что и вдовому правителю Москвы обрадуешься.
Но на невесте были такие украшения, что не завидовать дамы не могли. Вот тебе и бесприданница! А считалось, что эта Зоя Палеолог нищая…
Объяснению, что подарил будущий супруг, поверили не сразу.
— Неужели и в дикой Московии такие украшения делать умеют?
Но посольство все было в богатых одеяниях, даже охрана и слуги. И невесте меха подарены отменные, а еще шелк и парча не итальянская, а какая-то восточная.
Что осудить нашли:
— Невеста словно тумба!
— На одно платье пошло ткани столько, что можно весь собор укрыть.
— А раскрашена-то! Щеки пунцовые.
— Это у нее свой румянец такой, как у простолюдинки.
— Неужели нельзя было его белилами замазать?
— Да, она этим московитам под стать. Неудивительно, что именно Зою посватали, а не другую благородную, изящную римлянку.
Конечно, Зоя замечала и завистливые, и насмешливые взгляды гостей (мужчины осуждали даже больше, чем женщины), но теперь ей было все равно. Она не просто сосватана — она заочно обручена, и если не погибнет по дороге, то совсем скоро станет супругой московского правителя и сама правительницей. В Москве византийскую царевну ждал не сын мантуанского маркиза Гонзаго, не разорившийся итальянский князь Караччоло, не незаконнорожденный сын свергнутого правителя крошечного кипрского королевства, а законный правитель огромной страны, который мог прислать подарки, приведшие весь Рим в оторопь.
Там, в Москве, оценят ее ум, образованность, не потребуют пить уксус или щедро мазать лицо цинковыми белилами, от которых потом сыпь на коже. Там не станут хихикать или тыкать пальцем из-за ее полноты. Не будут укорять отсутствием приданого…
Зоя вдруг ахнула: а вдруг будут?! Вдруг и московские послы не знают, что у внучки императора Мануила нет средств даже на то, чтобы доехать до жениха? Девушка почти запаниковала, от нее уже однажды отказался Федериго Гонзаго, всего лишь сын маркиза Мантуи, как только узнал, что невеста бедна, словно церковная мышь. Как же она не подумала о возможности такого позора?! Почему не подумал папа Сикст?
Зоя едва дождалась, когда закончится церемония и гости разойдутся, и бросилась к братьям. Те успокоили:
— Послы приданого не требуют, князь Иоанн Базилевс сам богат. А на ответные дары и дорогу в Москву папа Сикст обещал тебе выдать денег.
Полегчало…
Поняв, что все решилось, обратной дороги нет и она станет московской правительницей, Зоя словно выпрямилась, прежде всего где-то внутри, но это сказалось и снаружи. Что-то изменилось в ней, пропала сирота, живущая у богатых родственников из милости, хотя пока еще не появилась княгиня.
Желая сделать будущему супругу и родственникам приятное, Зоя пыталась выучить хотя бы несколько русских слов. Как там называют правителя Московии?
Зоя пыталась запомнить:
— Коназ… коназ… коназ… Коназ Иоанн Базилевс.
— Царевна, надо говорить «князь», а не «коназ». «Коназ» говорят ордынцы, которых на Руси ненавидят, — поучала московитка.
Зоя с удивлением уставилась на девушку:
— Ты латынь знаешь?
— Да, и фрязский тоже.
— Повтори, как нужно говорить.
После двадцати попыток Зоя усвоила, что после первого звука «к» нужно словно остановиться, а потом мягко.
— К инязи…
Девушка-московитка смеялась.
— Как тебя зовут?
— Настена я. Просто «князь», без «и». И звать его Иван Васильевич. И не «Маскава», а «Москва».
Неожиданно для себя Зоя попросила:
— Пойдешь ко мне в услужение? Будешь русскому языку учить.
Настена сверкнула хитрым синим взглядом, кивнула:
— Возьмешь, так пойду.
Настену Зоя приметила сразу, девушка чем-то напоминала ее старшую сестру Елену, хотя похожа почти не была. Московитка удивительно красива, за ней в Риме толпы зевак ходили: рослая, стройная, крепкая, светлая коса с руку толщиной по спине змеилась, а глаза синие… Полновата, как все простолюдинки. Одновременно приветлива и насмешливо недоступна. Позже Зоя не раз оказывалась свидетельницей, как Настена избавлялась от поклонников и высмеивала особенно приставучих наглецов.
— А кому ты сейчас служишь?
— Да Василь Савичу Мамыреву, дьяку нашему.
— Ты его любовница?
— Чего?! Нет, просто служу, Никиша пристроил.
Богатырского сложения Никишу Зоя тоже приметила. Рождает же таких земля! Ее брат Андреас гиганту по плечо, не выше. И кулаки у московита такие, что камни раскалывать можно. А глаза как у Настены, в них небо заглянуло и осталось. Неужели и у князя Иоанна такие? При мысли об этом где-то внутри у Зои сладко замерло.
Она решила Настену от себя не отпускать, девушка хорошо говорила по-итальянски, значит, могла не только научить разным трудным словам саму царевну, но и многое рассказать о Москаве. Нет, надо даже думать правильно, чтобы привыкнуть: Москве. Вот!
Так у Зои рядом с гречанками среди свиты появилась ближайшая подруга — московитка Настена. Настя действительно многому научила царевну, о многом рассказала и стала настоящей палочкой-выручалочкой для Зои на пути в загадочную и теперь уже не такую страшную Москву.
И еще с одним удивительным человеком состоялась у византийской царевны встреча, сыгравшая в ее жизни очень важную роль.
С посольством Московии в Рим приехал старец Амвросий. Путь его лежал в Афонский монастырь, но пройти через турок невозможно, вот и решил добираться вместе со сватами до Рима, а уж оттуда через греческие обители на святую гору Афон. Старец не встречался ни с кем из священников Рима, чтобы не ввязываться в теологические споры, не ходил по городу вместе с боярами и дьяком, но после заочного обручения Ивана Фрязина от имени великого князя с византийской царевной Амвросий улучил минутку, чтобы подойти к Зое.
Заговорил по-гречески, чем тронул царевну до слез.
— Благословить тебя хочу, доченька. Езжай на Русь, в Москве твое место, там цареградской царевне жить, а не в Риме. Иконка сия с твоим именем схожа — святой Софии, Веры, Надежды и Любови. Святые сии супружество да материнство берегут. Пусть все они с тобой будут и тебя оберегают. Бог в помощь, доченька.
Зоя заметила, как напрягся наблюдавший за ней епископ Бонумбре, поняла, что показывать иконку никому не стоит, ловко спрятала ее среди многочисленных складок одежды, а на вопрос самого папского легата ответила, что старец благословил на замужество. Она вообще никому об иконке не рассказала, спрятала на самое дно большого сундука с книгами, предварительно обернув чистой тканью. Из-за суматохи сборов даже верная служанка Гликерия этого не увидела, а может, и увидела, но значения не придала, мало ли что царевна хочет с собой увезти?
Времени на сборы дали совсем немного, послы рассчитывали пробыть в Риме только месяц, все твердили, что нужно успеть на Русь до осенней распутицы, иначе потом будет трудно и холодно ехать. Но об осенней распутице думать не хотелось, какая распутица, если до холодных дождей еще несколько месяцев! Конечно, в Риме не представляли, что такое московский октябрь и осеннее Балтийское (русские звали его Варяжским) море.
Как ни торопили послы, царевна со свитой были готовы выступить из Рима только двадцать четвертого июня. А ехать предстояло на север через всю Италию, германские города до самого Любека, а там морем до Колывани, который в Европе Ревелем называли. И от Колывани снова по суше через Юрьев, Псков и Новгород на Москву.
Московиты представляли трудности пути, Зоя и ее сопровождающие нет, а потому не торопились.
Перед отъездом папа Сикст и впрямь дал Зое денег и бумагу к банкирскому дому Медичи на получение огромной суммы в шесть с половиной тысяч дукатов из тех средств, что были собраны на поход против турок. Часть денег предназначалась епископу Бонумбре, часть оставалась в залог у Лоренцо Медичи, но основная сумма все же доставалась Зое, вернее, ее будущему супругу.
Зоя, получавшая по сто дукатов в месяц, понимала, что это не столь уж большая щедрость, но на дорогу вполне хватит.
Перед отъездом она решила поговорить с братом. Девушке очень хотелось оставить братьям хоть немного денег, но все они были у папского посла Антонио, который должен привезти невесту в Москву и передать жениху вместе с приданым. Тогда Зоя открыла ларец с подарками будущего супруга. Подарки не возвращают, значит, она вправе подарить что-то на память своим родственникам!
Андреас принял украшения спокойно, словно так и нужно, Зоя была готова отдать все, но понимала, что так нельзя, супруг обидится.
— Андреас, послушай меня. Я скоро там освоюсь и заберу тебя к себе. Ты только дождись, брат, не натвори бед.
Палеолог фыркнул: будет ему сестра наставления давать!
— Как бы тебя саму не пришлось обратно со слезами забирать. Если что, отправь с оказией просьбу, что-нибудь придумаем.
Зоя подумала, что брат вполне может оказаться прав, но прогнала от себя такие черные мысли.
Оставалась последняя ночь в Риме, Вечный город становился ее прошлым, в котором было больше унижения и страха, чем радости и спокойствия. Каким будет будущая жизнь?
Утром моросил мелкий дождик, а уезжать в дождь хорошо, об этом, смеясь, напомнила Клариче Орсини, супруга Лоренцо Медичи, которая ехала с ними до Флоренции.
В Москву!
О, это была огромная процессия!
Большинство любопытных римлян, мокнувших под дождем больше часа, так и не дождались ее конца — за дорогими каретами самой царевны и едущей с ней Клариче Орсини тянулась внушительная вереница других карет, повозок, ехали всадники, тащились пешие слуги и охрана.
Вся Италия по пути, а проследовать им пришлось от Рима до Альп через Витербо, Сиену, Флоренцию, Болонью и множество городов помельче. Потом через Альпы и все немецкие земли до самого побережья в Любек. Оттуда морем до Ревели, который московиты называли Колыванью, и снова сушей до русских земель, а уж там…
Никто толком не знал, что ожидало византийскую царевну в Московии, путешественники, которые бывали в Москве, рассказывали столь удивительные и противоречивые вещи, что разум отказывался верить. Был, конечно, Джан Батиста делла Вольпе, уже много лет служивший московскому правителю и приезжавший в итальянские города по его поручениям, но всем известно, что Вольпе болтун, врет без стеснения. Если верить его словам, то московский князь богаче папы римского, а сама Московия так велика, что на ней поместится не одна Италия со всеми городами-государствами.
Что московиты ходят в дорогущих мехах, но при этом носят обувь, сделанную из коры деревьев. Что там нет моря, а потому московиты едят много речной и озерной рыбы, а рыбины бывают столь огромные, что их вынуждены нести по несколько человек. И мяса у них много, особенно зайчатины и всякой птицы.
А еще там всего три месяца в году тепло, в остальное время либо холодно, как в Риме зимой, либо вовсе такие морозы стоят, что вода в реках и озерах замерзает толстым слоем. По этому льду даже всадники и повозки ездят, и на нем рынки устраивают. И снег лежит такой, что если подходы к домам не расчистить, то засыплет по крышу.
Но московиты снегу радуются, ставят свои кареты и повозки на большие полозья и так ездят быстро.
А в домах все время, пока холодно, топят печи. Каждый день и вдоволь, потому внутри жарко, в то время как снаружи можно замерзнуть.
Если послушать Вольпе, значило, что Зоя едет в самую удивительную страну, где жить очень трудно.
Но выбора у нее все равно не было, а чтобы не пугаться, Зоя решила пока никакого Вольпе не расспрашивать и не слушать. Ей сочувствовали все: получить богатые подарки не значит удачно выйти замуж. Если жизнь в Московии столь трудна и страшна, то как не пожалеть пусть и чужую, но все же воспитанницу папы византийку Зою Палеолог? Жалели, кто притворно, втайне насмехаясь, как Лаура, а кто искренне, как добрая Клариче Орсини.
Клариче много моложе самой Зои, но у нее уже дети. Ее супруг — блестящий Лоренцо Медичи, которого уже прозвали Великолепным, к жене холоден настолько, что открыто предпочитает ей другую. Зое очень хотелось спросить почему. Чем красивая, скромная, нежная, прекрасно воспитанная и образованная Клариче могла не угодить очень некрасивому, пусть и блестящему, Лоренцо? Когда все же решилась, получила короткий ответ:
— Сердцу не прикажешь.
Зоя ужаснулась: что, если и у нее будет так? Московский правитель вдов давно, наверняка у него есть какая-то любовница. Что, если князь Иоанн будет предпочитать эту женщину собственной супруге? У Клариче есть возможность ездить в Рим или просто к родственникам в другие города, муж отпускает ее одну, а как в Московии? Не уедешь же оттуда надолго? Или можно уехать?
Увидев во Флоренции соперницу Клариче, Зоя затосковала. Предпочтения этих мужчин непостижимы, столь достойной супруге Медичи предпочитал откровенную распутницу, пусть и красивую, но доступную не только для него.
Зоя решила осторожно выяснить у Настены щекотливый вопрос. Она не могла расспросить об этом никого из мужчин, дьяка Мамырева в том числе, но не была уверена, что девушка хоть что-то знает об интересующем ее предмете, разве что слухи… Но слухи — самое верное.
Долго не знала, как приступить к разговору. Наконец решилась, словно невзначай поинтересовалась, есть ли у великого князя любовник.
Настена действительно не поняла:
— Кто?
— Ну, вот у его святейшества сейчас есть Ченчо, который… ублажает его в спальне.
Настена буквально вытаращила глаза:
— Ченчо мужчина?!
— Ну да, красивый юноша…
— Содомией, что ли, занимается?!
Зоя покраснела, словно это ее саму обвиняют в непотребном поведении, только плечом дернула. Настена все поняла, энергично замотала головой:
— Что ты, царевна! Девок к князю наверняка водят, вдовый столько лет ведь. Но за содомию митрополит и проклясть может.
— Митрополит? А он сам как? Лупанарии в Москве есть?
— Это где девки непотребные живут и мужчин ублажают?! — Настена придвинулась к царевне ближе и зашептала: — Хорошо, что меня спросила. Других не спрашивай, смеяться станут или вовсе ругаться. Вера наша не только содомию порицает, но и всякую измену супружескую. Конечно, князьям да боярам девок в опочивальню водят, но из дворовых. Никаких лупанариев в Москве нет! Ежели чистоту тела блюсти не будешь, так и душа быстро выпачкается. За женскую измену — развод, тому мужу, что прелюбодеяние жены своей простит за ради любви к ней или не желая детей без матери оставлять, штраф большой в пользу церкви определяют, чтобы женка знала, что своей неверностью семью в разорение ввела.
Зоя вспомнила нравы папского окружения и тихонько вздохнула: эта Московия не только дикая, но и монашеская. Но одновременно почувствовала, что такой аскетизм приятен, он действительно пах чистотой. Грязная Московия на поверку оказывалась чище не только из-за мытья в бане, но и из-за своих правил поведения.
— И разводы невозможны?
— Почему же? Бывают. Муж от женки отказаться может, ежели она прелюбодейством займется или бесплодной окажется. И жена от мужа тоже потому может. Прелюбодейство редко доказать удается, но ежели муж никчемен, в опочивальню не ходит и других девок не имеет, то можно и развод получить. А еще пострижение причиной может стать.
— Что?
— Пострижение. Ежели один из супругов в монашество уйти вознамерился, раньше другой должен за ним бы пойти, а ноне нет, можно развод попросить и за ради детей, например, в миру остаться…
Настена еще долго рассказывала о супружеской жизни в Московии, о жизни в княжеских теремах она знала понаслышке, а вот о боярах, особенно новгородских, так и сыпала примерами и именами.
Зоя поняла главное: женская половина богатого дома практически отделена от мужской и чужих там не приветствуют; жизнь женщин довольно замкнута, посвящена семье и детям, это их первейшая обязанность — рожать и растить хороших детей.
Праздники в Московии почти исключительно церковные, разве только Масленица перед Великим постом да свадьбы.
— А дни рождения?
— У нас не дни рождения празднуют, а именины, связанные с тем святым, в честь которого человек крещен.
Два месяца спустя они еще только подъезжали к Любеку. Там было решено неделю передохнуть перед трудным морским путешествием. Никакие увещевания московитов, советовавших поторопиться и отдохнуть лучше в русских землях, не были услышаны, противился больше всего Джан Батиста. Вольпе вообще вел себя странно, он принимал все приветствия и подарки так, словно сам был государем Московским и женихом Зои Палеолог, но настойчиво рекомендовал некоторым спутникам царевны вернуться в Рим. Будь его воля, с Зоей на корабли сели бы только женщины и слуги.
Но, конечно, его не слушали.
И вот оно море… Совсем иное, чем то, на берегу которого Зоя родилась и выросла. Ветер холодный, несущий мелкие брызги почти ледяной воды. Небо серое, солнце если и проглядывало, то ненадолго.
Целых два дня грузили на корабли все, что должны были привезти в Москву вместе с царевной. Потом размещались сами. И вот наконец поднят якорь, и Зоя Палеолог с тоской глядит на удаляющийся берег. Не в первый раз тоской сжало сердце: куда она плывет, что ждет впереди?
Грусть царевны пыталась развеять Настена, чтобы в тысячный раз не задаваться трудным вопросом о своем будущем, Зоя принялась усиленно учить трудный русский язык. Они занимались этим всю дорогу после Флоренции, когда синеглазая московитка заняла место Клариче Орсини в карете Зои.
Первые три дня плавания были хоть и не очень легкими и приятными (легат Бонумбре лежал в своей каморке и тихо стонал, его выворачивало наизнанку из-за качки, впрочем, не одного его, мучились многие), но потом началось нечто страшное.
В тот день светило солнышко и казалось, мрачные серые тучи больше не вернутся. Но, увидев на горизонте крошечную тучку, команда корабля засуетилась, привязывая, перевязывая и закрепляя все, что могло сдвинуться с места. Пассажирам просто приказали спуститься вниз, а крышки выходов плотно закрыли. На вопрос, что случилось, коротко отвечали:
— Буря идет.
Сидевшие в своих каморках пассажиры не видели, как почти мгновенно крошечная симпатичная тучка превратилась в скопище черных грозовых облаков.
Казалось, море вдруг поднялось против них, рев ветра и волн, грохот обрушивавшихся на палубу потоков воды, черное посреди дня небо. Было неясно, день сейчас или ночь, где север, где юг, откуда они плывут и куда их сносит.
Сколько это продолжалось? Сказали, что третий день, но измученным ужасом пассажирам казалось, что прошла вечность. Еще немного, и корабль не выдержит, тогда им всем один путь — в морскую пучину. Моряки утверждали, что никогда не попадали в столь сильный шторм. Но разве это приносило облегчение?
— Какой сегодня день?
Сил не было уже ни на что, Зоя поинтересовалась просто так, чтобы знать, в какой именно день они погибнут.
В том, что до завтра не доживут, не сомневался никто. Восьмой день путешествия должен стать последним. Но люди были настолько измучены, что радовались гибели как избавлению.
— Сегодня Вера, Надежда, Любовь и мать их София, — откликнулась Настена.
Зоя замерла. София… мать замученных девочек, сама умершая на их могиле… Вспомнились ясные, добрые глаза старца, благословившего ее маленькой иконой. Старец сказал, что София защищает семью, детей, что ее имя почти совпадает с именем самой Зои.
Глаза этого старого, умудренного жизнью человека не могли лгать. А она спрятала иконку как можно дальше. Что, если?..
Слуги подивились блажи царевны, требовавшей немедленно достать сундук с книгами. Нашла время! Но приволокли его в помещение, отведенное Зое.
Икона, завернутая в тряпицу, лежала на самом дне. Вынув сверток, Зоя вдруг приказала служанкам выйти, а оставшись одна, осторожно развернула ткань.
Римская церковь не признает святости икон, это в православных храмах они мироточат и внимают мольбам верующих. Зоя держала в руках изображение женщины с тремя девочками и чувствовала, что это не просто картинка, к тому же не слишком умело нарисованная. Все четверо на иконе словно ожили, они смотрели на византийскую царевну в немом ожидании.
Буря швыряла суденышко, словно щепку в водовороте. С морем не поспоришь, оно сильней любого корабля. Дерево скрипело и даже трещало, казалось, следующий удар волн борта уже не выдержат и тогда…
Повинуясь какому-то непонятному ей самой желанию, Зоя устроила иконку на своей постели и встала перед ней на колени. Это не распятие, не образ Девы Марии, а икона, но Зоя молилась. София и ее дочери общехристианские святые, однако в страшную бурю на краю гибели униатка Зоя молилась им как православным святым перед православной иконой. Она не знала, какими словами следует просить помощи у Софии, кажется, вообще не произносила слов, не речами молила — сердцем.
Как долго это продолжалось, тоже сказать не могла бы, Зоя чувствовала такое единение с изображенными на иконе святыми, что забыла даже о буре снаружи. Из глаз сами собой лились блаженные слезы, они очищали душу, и ужас, творившийся снаружи, был нестрашен.
Закончилась молитва тем, что Зоя размашисто перекрестилась — два перста прикоснулись ко лбу, опустились к поясу, а потом… царевна и сама не поняла, почему рука двинулась к правому плечу, как крестятся в греческой вере.
Зоя была униаткой с рождения, ее отец Фома Палеолог всегда ратовал за подчинение греческой церкви Риму, церкви западной. Чтобы не возмущать греческое население Пелопоннеса, и без того не желавшее жить под властью деспотов, он согласился на унию, позволявшую оставить православным свои обряды, но сам их не соблюдал. Возможно, потому Фома Палеолог так легко перешел в католичество и обязал детей поступить также.
Отца давно не было на свете, воспитывавший Зою, Андреаса и Мануила кардинал Виссарион старательно следил за соблюдением ими всех правил и обрядов католической церкви. И теперь с ней отправили папского легата Бонумбре вовсе не ради теологических споров в Москве, а чтобы привела к унии мужа и воспитала будущих детей по закону Римской церкви.
Но сейчас Бонумбре лежал на своем ложе, стонал и проклинал день, когда родился на белый свет. Епископ ничем не мог помочь своей гибнущей пастве, разве что погибнуть за компанию. Зою беспомощность устраивала, все время бури легат не мешал и не вел свои до смерти надоевшие беседы-наставления. Во всем, даже в творившемся на море ужасе, можно было найти свои хорошие стороны.
Мысль об этом царевну даже развеселила. Что было бы, узнай епископ, что она молилась православной иконе? Зое показалось, что строгие глаза Софии смотрели теперь ободряюще. Улыбаясь в ответ, Зоя свернулась на постели калачиком и заснула с прижатой к груди иконкой. Она вверила свою судьбу Господу и Софии.
Проснувшись, не сразу поняла, что произошло.
Рева разъяренной стихии не слышно, качало, конечно, но не так, чтоб о перегородки биться. Зоя прислушалась, не веря своим ушам. Неужели спасены?!
В ее каморку заглянула Гликерия:
— Царевна, буря стихла!
Зоя посмотрела на иконку, прошептала:
— Благодарю, София.
Значит, Господу угодно ее замужество, только нельзя икону прятать. Когда-то она слышала правило страшной Орды: не обижать местных богов, даже чтить их, принося дары. Ордынцы считали, что людей можно запугать, обратить в рабство и увести с собой, можно даже убить, а вот богов, что на этой земле, надо уважать. Хуже нет обидеть местные божества.
Наверное, так не только с богами, он у всех христиан един, и даже не со святыми, а с правилами. Если чтут иконы в ее новом отечестве, значит, и она чтить должна. А как с остальными правилами быть? Неужели и ей придется одеваться подобно московитам, носить шкуры и мыться в страшной банье?
Зоя тихонько вздохнула. Несомненно, Господь давал ей знак этой бурей, если бы не поняла, все погибли.
Буря на море страшна и удивительна. Гнев Господен вдруг нагрянет, заставит не только перекреститься, но и о жизни своей задуматься, а потом вдруг словно иссякнет. И солнце, которое после грозы светит куда ярче обычного, и жизнь пережившим кажется во стократ радостней. Бывалые моряки головами качали: чудная буря — то, что налетела вдруг, неудивительно, но чтоб вот так сразу закончиться… такого не припомнят. Зоя молчала о своем молении, пока не понимая, о чем можно говорить, а о чем нет.
Как налетела буря, так и ушла неожиданно, но путешественники еще долго приходили в себя, пытались понять, где остальные суда, кто пострадал, а кто и не выжил.
В сохранности оказались все корабли, мачты у них целы, а вот паруса порвало. Берег недалече, встать, чтобы осмотреться, можно, хотя жилья не видно.
Один корабль все же потерялся, на нем плыли провожающие не из важных, скорее попутчики, что решили подзаработать рядом с царевной. Фрязин весело утверждал, что они нарочно отстали и вернулись, решив не испытывать судьбу.
Немного погодя разобрались, починили сломанное и были готовы продолжить путь. Всем хотелось поскорей завершить морскую часть путешествия, по суше все же куда надежней…
Иван Фрязин попытался сделать вид, что часть сундуков потеряна, но Беззубцев и Шубин не просто так были к вороватому итальянцу приставлены — государь знал, что тот нечист на руку при любой возможности, — осадили вора, мол, все уже подсчитано и учтено, ничего не пропало.
Зоя беспокоилась за книги, но и те оказались целы. Дьяк Мамырев успокоил царевну:
— Как до Москвы доберемся, так на просушку выложим. — Тут же вздохнул: — Только нескоро это будет…
— Почему, нас так далеко бурей снесло?
— Нет, царевна, снесло совсем немного, вернее, просто задержались. Отдохнем чуть, паруса подлатаем, и снова в путь. Через несколько дней, коли Господь позволит, будем в Колывани.
— Что это — Колывань?
— Град при море. Ревелем по-иному зовется.
Зоя кивнула, это название она помнила, еще в Риме говорили о том, как станут добираться.
— Скоро Москва?
— Москва-то? Нет, царевна, нескоро. Как в Колывань прибудем, передохнем, оттуда к Пскову двинемся. Задержались мы очень, распутица начинается — ни в повозке, ни на санях.
В Колывани пристали на двенадцатый день путешествия совершенно измученными.
После одиннадцати дней беспрерывной морской качки на берегу хотелось одного — обхватить землю руками и лежать, убеждаясь, что под ногами твердь, а не вода. Сами ноги дрожали от беспрерывного напряжения, дрожали и руки от усталости даже у тех, кто, как царевна, не делал ничего, а что говорить о моряках, которые с парусами замучались?
Зоя тоже устала, но пересилила себя, улыбалась, понимая, что предстает перед своими будущими подданными.
Оказалось — нет, Колывань только дань московскому государю платит, а землями сама по себе. Требовалось ехать к Пскову, но было решено остановиться тут хоть на пару дней, чтобы в себя прийти и разобраться с людьми и поклажей.
Колыванский берег встретил их моросью, временами переходящей в мелкий дождь, и пронизывающим ветром. Одежда Зоиной свиты мигом промокла, люди замерзли. Потому, обнаружив в крепости лавки с разными товарами, бросились запасаться шубами и даже простыми овчинными тулупами.
— Почему здесь зима так рано наступила? Здесь всегда так? — грея руки у огня, вопрошала Зоя.
Настена удивилась:
— Зима? Нет, царевна, это даже не осень, а так, пасмурно да мокро всего лишь.
Царевна ужаснулась:
— А что же зимой?
Настена поняла, что зря испугала хозяйку, принялась успокаивать:
— На Руси и в Москве осень куда лучше! Там деревья желтые и красные стоят, паутинка по ветру летает, журавли курлычат… И грибов в лесу видимо-невидимо. — Она даже зажмурилась, представляя лесную поляну. — Клюква на болоте…
— Что такое клюква?
— Ягода такая кислая. Ой, царевна, да много чего. Это в здешних местах осень противная, да здесь всегда так — мокро и ветрено. Нет, на Руси тебе понравится.
Зоя рассмеялась тому, как Настена свою родину хвалит. Пока нравиться было нечему, даже если помнить, что Колывань не Русь.
А Настена продолжала соловьем заливаться:
— А снега на Руси какие!.. Пушистые, словно лебяжье покрывало. Укроют землю, лягут белыми шапками на еловые лапы, спрячут лес под собой. Зато на санях ехать борзо можно. Реки встанут, и санный путь будет. А санный самый быстрый и удобный.
Забывшись, она перешла на русский. Зоя не остановила девушку, вслушиваясь в певучий, пока незнакомый ей язык. Настена опомнилась сама, рассмеялась:
— Ой, царевна, прости меня. Я о русской зиме рассказывала, как хорошо, когда снегом все вокруг занесет. Не то что здесь — слякотно круглый год.
Зоя вспомнила, как однажды в Риме выпал снег и пролежал целых полдня. Это было ужасно — на улицах под ногами холодная каша, в домах зуб на зуб не попадет, стоило от огня отойти, все мокрое… Чего же хорошего? Но она не возразила, решив, что Настена просто успокаивает ее.
У папского легата архиепископа Бонумбре от холода сначала покраснел нос, а потом и вовсе потекло. Он лежал под горой одеял и шуб и страдал. Дьяк Мамырев головой качал:
— В баньку бы его, с одного раза все выпарили бы, да здесь немчура все извела, ни одной бани стоящей не нашел.
Зоя поинтересовалась у Настены:
— Что все-таки такое «банья»?
— Баня? Там парятся.
Царевна не поняла, пришлось добавлять на латыни:
— Моются.
— Термы?
— Ну нет. В нашей парной все иначе, да только так, что после нее словно заново родившейся выйдешь.
Так Зоя и не поняла. Оставалось ждать, когда же они увидят эти термы под странным названием «банья». А пока Настена с сокрушенными вздохами и охами помогала Гликерии мыть царевну в лохани, то и дело риторически вопрошая:
— Да разве ж это мытье?! Ни воды вволю, ни веничка, ни пара!
Наконец, скупив в Колывани все шубы и полушубки и, к изумлению местных, вырядившись в меха, хотя еще и заморозков сильных не было, огромный обоз двинулся в сторону Юрьева. С трудом нашли достаточное количество подвод и лошадей, часть вещей, а с ними и людей даже решено оставить в Колывани и прислать за ними из Пскова.
Зое было тоскливо, настроение не улучшали серое небо, морось и холод. Если здесь так всегда, то она умрет от тоски раньше, чем наступит следующее лето. Бывает ли здесь лето вообще? Настена может говорить что угодно, она на Руси родилась и выросла, лазурного моря и жаркого солнца не видела, ей и эта вот хмурая пора хороша.
Грустили Зоины придворные дамы, большинство, несмотря на меховые шубы, хлюпали носами и дрожали, поджимая страшно мерзнувшие ноги. Ходить в привычной обуви в этой дикой холодной стране невозможно, а московиты твердят, что зима впереди. Что тогда? Не будешь же полгода сидеть у камина, вытянув ноги к огню? Хорошо, хоть деревьев вокруг много, дрова, наверное, не так дороги, как в Риме.
Чтобы не думать о тяжести предстоящей жизни, Зоя с утра до вечера учила русский язык. Настена оказалась отличной наставницей, а сама царевна — талантливой ученицей. Настена медленно и четко произносила какое-то слово по-русски, потом повторяла по-итальянски. Снова по-русски и по-итальянски. И так пока Зоя не запоминала. Постепенно московитка стала произносить целые фразы, царевна училась здороваться, желать добра, прочить то, что нужно… Она уже знала, как обращаться к великому князю, к его матери, к окружающим, знала слова «пить», «кушать», «да», «нет», «хочу», «не хочу»…
Но успехи в изучении языка хоть и принесли некоторое облегчение — Зоя начала кое-что понимать из произносимого московитами, — но не могли изменить тягостного настроения. Как она ни скрывала, это стало заметно.
На вопрос Настены, что не так, Зоя отвечала, что слишком холодно, наверное, она никогда не привыкнет к этому.
— В баньке попаришься, всю тоску как рукой снимет! — бодро пообещала Настена, заставив Зою поморщиться. Царевне надоели разговоры о неведомой банье. Сколько можно?!
В Юрьеве, где русских людей побольше, их встретили иначе, чем в Колывани.
— Баньки истопили. Чай, соскучились среди этих латинян без парку-то?
Мамырев едва не расцеловал старшего купцов Пашуту за такое сообщение:
— Ах ты ж мой дорогой! Знал ведь, чем взять. И впрямь от того мытья в лоханях и без пара коростой покрылись, самим тошно.
Оказалось, тутошние расстарались, натопили все бани в городе, что нашлись, каждая готова взять в первый пар людей хоть сейчас, только пойдут ли латиняне мыться?
Ларион Никифорович Беззубцев махнул рукой:
— Мы предложим, а не пойдут, так их дело. Знать, потом в третий пар в лоханях мыться будут.
Настена и Гликерия повели Зою мыться в лучшую баню и в первый пар.
Внутри пахло какими-то травами, было прохладно. Так и заболеть недолго. Зоя огляделась:
— А где чан?
— Внутри, царевна, это лишь место для раздевания, а парок там. — Настена кивнула на массивную дверь и добавила, успокаивая: — Тебе понравится. На Руси все так моются, не бойся и привыкай.
За дверью царил полумрак, было очень жарко и еще сильней пахло травами. Там их ждала крепкая девка в мокрой, прилипшей к телу рубахе, приветливо улыбнулась, о чем-то спросила Настену. Зоя поняла только слово «пар».
Настена рассмеялась, головой покачала и что-то объяснила, девка кивнула понимающе и… плеснула на раскаленные камни печи из ковшика. Все помещение с полками окутал пар. Стало жарко дышать, Зоя едва не бросилась наружу, а входившая к ним Гликерия и вовсе шарахнулась обратно. Настена схватила служанку за руку, втащила внутрь, успокаивая.
На ближайшей к двери лавке стояли какие-то лохани, из одной зачерпывала ковшиком банщица, когда плескала на камни. Поместиться в них было невозможно, но Настена и девка-банщица быстро налили в две горячей, а потом холодной воды и пригласили Зою с Гликерией мыться. Оказалось, что воду нужно лить прямо на себя! А утекала она между досок пола куда-то вниз.
«Почему бы не сделать пол мраморным? — подумала Зоя. — Наверное, у них мрамора мало или не догадываются». Она решила при случае подсказать будущему супругу.
Настена помогла царевне вымыть роскошные волосы, натерла тело мочалом, потом сполоснула чистой водой и удовлетворенно заявила:
— Теперь и попариться не грех. А потом еще помоемся.
— Что сделать? — удивилась царевна.
Настена махнула рукой и позвала Зою к полке у другой стены, там было куда жарче. Девка окатила деревянный настил из ковшика горячей водой и предложила… лечь на живот.
— Зачем? Здесь неудобно лежать, — почти возмутилась царевна, оглядывая голые доски.
Понимая, что объяснять придется долго, Настена предпочла показать на личном примере, она окатила вторую полку, улеглась на нее на живот и что-то сказала банщице.
Гликерия, усевшаяся на краешке полки Зои, и сама царевна с изумлением наблюдали, как, облив теперь уже Настену, банщица взяла из лохани две связки прутьев, побрызгала с них на спину девушки и… принялась сначала тихонько, а потом все сильней и быстрей хлестать Настину спину! Гликерия даже вскочила от ужаса, но, повинуясь жесту царевны, вернулась на место. А Зоя наблюдала за своей советчицей и с изумлением убеждалась, что той приятно.
Это было непонятно, нелогично, безумно, но девка-банщица охаживала спину, бока и ноги Настены, а та млела и довольно охала.
Может, таким образом они грехи искупают, это вместо прилюдной порки? Да, наверное, как она сразу не догадалась! Русские набожны, считают, что много нагрешили, пока в чужих землях были, вот теперь все и отправились грехи замаливать таким способом. Только почему икон не видно? И распятия тоже…
Сколько это продолжалось, Зоя сказать не смогла бы, но когда связки прутьев в руках банщицы опустились, спина Настены была цвета вареных раков. Девка окатила жертву своих издевательств водой и оставила млеть.
— Это невозможно, царевна! — горячо зашептала Гликерия.
Но Зоя была иного мнения. Она уже поняла, что Настена не лжет, что эта экзекуция и впрямь чем-то приятна.
Банщица тем временем еще раз плеснула на горячие камни, по парной пополз очень приятный запах трав. На сей раз воздух уже не показался таким горячим.
Настена, слегка придя в себя, пригласила Зою:
— Царевна, пусть Марьюшка и тебя похлещет? Она осторожно.
Слово «похлещет» пришлось говорить по-русски, но Зоя догадалась.
— Это обязательно?
— Быть в парной да не попариться веничком?
Царевна не поняла слов банщицы, но обреченно распрямилась на лавке, готовая принять экзекуцию, молча стиснув зубы. Гликерия упрямо осталась рядом, только по требованию банщицы сдвинулась в сторону, чтобы не мешать. Верная служанка предпочла подставить свою спину вместо хозяйской, если бы Зоя позволила это сделать.
Первое прикосновение прутьев было легким и совсем не болезненным. Надо же, как хитрят — это чтобы привыкла…
Прутья оказались с листьями, видно, чтобы не оставлять полос содранной кожи?
Движения банщицы становились все более быстрыми, а прикосновения хлесткими, но Зоя с изумлением чувствовала, что обжигающая боль скорее приятна, чем невыносима, мало того, листья и прутья словно уносили с собой накопившуюся за время тяжелого путешествия грязь. И горячий воздух больше не казался таким горячим, и вода, которой обливали, тоже. Зое страшно захотелось спать, глаза закрывались.
Банщица, хорошенько отходив ее спину, ноги и бока, вытянула руки царевны вдоль туловища и прошлась вениками по руками. Зоя невольно застонала. Тут же около ее лица появились встревоженные глаза Гликерии:
— Госпожа…
Царевна открыла глаза, улыбнулась:
— Хорошо-то как… Ты бы тоже попробовала?
Она лежала, блаженно улыбаясь, пока банщица осторожно охаживала веником Гликерию, которую тоже разморило.
Потом их еще окатывали водой, полоскали приятно пахнущим отваром волосы… Уходить совсем не хотелось, но хотелось пить. Однако вина в этой «банье», видно, не полагалось. Заметив, что царевна облизывает губы, Настена поднесла в ковшике:
— Взвар клюквенный. Попей.
Это было божественно, холодный с кислинкой взвар показался нектаром. Зоя выпила половину большого ковшика и уселась на лавку подле жбана, откуда его наливали, не в силах двинуться с места.
Купцы в Юрьеве приготовили для дорогих гостей пир, но ни на какое застолье Зоя пойти не смогла, она просто засыпала, разморенная баней. Едва добралась до горницы, с помощью Настены замотала волосы в большой плат и повалилась на перину. Гликерия прикорнула на лавке, забыв о том, что за хозяйкой надо приглядывать.
Проваливаясь в блаженный сон, Зоя услышала, как за дверью Настена объясняет дьяку Мамыреву, что царевна разомлела после баньки, к тому же волосы мокрые. Ни есть, ни пить сейчас не будет.
Пир отложили на завтра.
Проснулась Зоя, когда уже рассвело. Сначала не поняла, где она и что произошло, потом вспомнилась «банья». Во всем теле была неимоверная легкость, а кожа нежная, атласная и словно истончилась из-за парной. И волосы чудно пахли травами. Настолько чистой она не чувствовала себя никогда!
Однако очень хотелось кушать.
Услышав, что Зоя проснулась, встала и Настена, в ответ на пожелание царевны приказала что-то девке, что прикорнула у порога, та исчезла за дверью. Настена помогла царевне одеться, теперь уже в русское платье. Сначала тонкую рубаху, которая приятно прилегала к телу, потом рубаху потолще с широкими вышитыми рукавами, поверх всего то, что она назвала сарафаном: платье с широкими бретелями, сильно расширяющееся книзу. Оно тоже было богато украшено вышивкой, жемчугом и самоцветами. И еще расшитую жилетку, ее Настена назвала душегреей. Волосы пока оставили распущенными, чтобы совсем высохли.
Пока она одевалась, служанки принесли и расставили на столе множество мисок, накрытых какая другой миской, а какая куском чистой ткани, серебряные блюда от небольших до просто огромных. Зое стало смешно, когда заметила, как служанки стреляли на нее любопытными взорами. Выскальзывая за дверь, тут же начинали обсуждать увиденное.
Проснулась Гликерия, быстро оделась, смущенная собственной сонливостью, но Зоя не обращала на это внимания. Она была в столь блаженном состоянии, что не хотелось вообще ни о чем думать, ничего делать, вот поесть и снова на перину. Но царевна понимала, что отдых будет коротким, не за тем так далеко ехала и плыла, чтобы на перине лежать.
На серебряных подносах ждали своей очереди мягкий как пух хлеб, жареный гусь, перепела, еще какие-то птички, нежно-розовое мясо, буквально исходившее янтарным жиром. На соседнем блюде такое же, только белое… Небольшие огурцы, лук, овощи. В миске лежало что-то, чего Зоя и определить не могла. В другой явно масло, в третьей сметана. Еще были миски с языками, со свининой, блюда с балыками, ветчиной, миска с какими-то потрошками, три миски с грибами…
Царевна замахала руками:
— Я не звала гостей, достаточно!
Настена согласилась:
— Да, только вот пироги с зайчатиной, а сладкие пироги после принесут.
— Это что? — ткнула Зоя пальцем в непонятное мясо.
— Осетрина. Рыба. А это белужина. Вот стерлядь. Это жаворонки, вот их язычки. Это тетеревиные языки, а вот потрошки птичьи. Не желаешь ли ушного попробовать?
— Что есть «ушное»?
— Суп с рыбой, ушица. А хочешь, заливное из зайца? Или щучью голову с чесноком?
Зоя только мотала головой:
— Я не ем так много, только попробую. А это что?
— Грибки соленые. Уж этого года. А вот сморчки жареные.
Зоя принялась с осторожностью пробовать и увлеклась…
— Я умру от обжорства, — пожаловалась она Гликерии, словно забывшей о существовании хозяйки. Та с трудом переводила дыхание, дожевывая кусок пирога с зайчатиной, который буквально таял во рту.
Но мучения не закончились, в горницу вплыли одна за другой три пышные девки, неся в руках по большому блюду с горой блинов каждая. Настена радостно объявила:
— Блинки подоспели. С чем блинов желаешь, царевна? Вот икра белужья, вот севрюжина, вот балычок… А хочешь со сметаной или сладкие с медом, с ореховым маслицем, с маковым молочком… А вот варенья разные на выбор…
Зоя с ужасом замахала руками:
— Я уже ничего не могу!
Настена рассмеялась:
— Меня бранить будут за то, что ты мало ела. Ты хоть попробуй блинок, а там решишь, кушать ли.
Блины были такие красивые, что царевна не удержалась. А то, что Настена назвала икрой, и вовсе восхитительно — отдельные шарики, если их придавить языком, лопались, оставляя на языке чуть солоноватый вкус с рыбным оттенком.
Когда она еще съела вареную сливу, взяла ложку удивительно пахучего меда и запила все это малиновым взваром, стало ясно, что и сегодняшний пир может оказаться сорванным.
— Я больше не могу! — снова взмолилась Зоя, откидываясь от стола к стене. — Ты решила показать мне все, что умеют ваши повара?
Настена вытаращила на нее глаза:
— Да нет же! Здесь и малой доли нет. Только то, что на леднике со вчерашнего ужина осталось, да блинков вон испечь успели. Вот еще спинки белужьей попробуешь, да стерлядку на пару, да заливное всякого рода, да грибков, да почки заячьи, да… — она махнула рукой, — всего и не упомнишь, и не выскажешь. Одни пироги чего стоят! Это тебе не в вашей печи, в русской на духу они во стократ вкусней и нежней получаются.
Зоя незаметно тронула на себе подол сарафана. Теперь понятно, почему у них такая одежда: съесть десятую часть предложенного можно только при условии очень свободного платья. Подумалось, что бледность здесь просто невозможна.
В Риме главным было не съесть лишнего, чтобы не отложилось на боках и щеках, за каждым куском, взятым в рот, следили. Последнее время Лаура вообще ничего не позволяла, Зоя забыла, что такое кушать много и вкусно. А тут напротив, сетуют, что мало съела, хотя тем, что на столе, можно накормить весь Совет кардиналов.
А потом Настена плела ей косу. Носившая в Риме распущенные согласно моде волосы, Зоя долго и с удовольствием то наклоняла голову, чтобы толстая с руку коса перекидывалась через плечо на грудь и обратно на спину, то наматывала ее на руку, то принималась мотать головой из стороны в сторону.
Настена смеялась:
— Чисто дитя малое…
И без перевода было ясно, что она довольна.
Девичья повязка и коса очень шли Зое. Настена объяснила, что это только пока царевна не венчана:
— А потом кокошник и повойник наденешь. У замужней женщины волос не должно быть видно.
— Что есть кокошник?
Настена показала. И кокошник очень понравился — строго, но красиво.
Но было пора встречаться с гостеприимными хозяевами.
Когда она, одетая русской боярышней, вышла к своим нынешним соплеменникам, крякнул даже боярин Ларион Беззубцев, настроенный к латинянке весьма недружелюбно.
Зоя была не просто хороша — она оказалась настоящей русской красавицей. Наряд подчеркнул все достоинства лица и фигуры, которые в Риме казались недостатками, в том числе полноту и румянец на щеках.
Недоволен остался легат Бонумбре. Подойдя к царевне, он прошипел:
— Вы стали настоящей московитской куклой, принцесса.
Зоя весело блеснула глазами:
— А мне нравится. И еда очень понравилась. Очень.
Легат нехотя признался:
— Да, ужин был весьма обилен. Я с трудом заснул.
— Я не ела, после баньи сон сморил сразу.
Бонумбре ужаснулся:
— Вы ходили в это ужасное место?! Там темно и жарко!
— А я даже парилась. Это так приятно…
Едва ли легат понял слово «парилась», но он высказал, вернее, процедил сквозь зубы другое:
— Дикарка!
Зоя снова с удовольствием рассмеялась. Ей вдруг показалось забавным дразнить епископа своим восхищением от всего русского. Но она ведь не кривила душой — и еда, и одежда, и даже страшная банья нравились.
Оказалось, что париться рискнула только она, ну и Гликерия с хозяйкой вместе, остальные предпочли протереть тело влажной тканью. Зоя смеялась, рассказывая придворным дамам о парной, давала погладить шелковистую после мытья кожу, понюхать пахнущие травами волосы… Обещала в следующий раз взять с собой.
Заодно она решила поинтересоваться у Настены, как часто устраивают эту банью. Девушка ответила, что хоть каждый день, но обычно через седмицу.
После пира, перемена блюд на котором показалась латинянам бесконечной, женская часть гостей долго делилась впечатлениями. Увидев длинную череду слуг, несущих блюда с угощением, они договорились, что каждая попробует половину, поскольку попробовать все невозможно. Оказалось, что и половину невозможно. Восторгам не было конца, все объелись и без леденцовых лебедей или сахарных замков.
Зоя, чувствуя себя почти хозяйкой, которой приятны восторги гостей, снисходительно объявила, что это еще не пир, а так, легкое угощение, поскольку они не в Москве, а в Пскове, а это провинция Московии. Она уверенно советовала попробовать блины непременно с икрой, а еще соленых грибов и пироги с зайчатиной, те, что в русской печи испечены. Остальное просто не запомнила.
А ведь это крошечный Юрьев, даже не Русская земля, и принимали их не от имени князя, а купцы. Что же там, в Московии? Какие столы накрывают там, какие богатства ждут Зою в самой Москве? Она начала завидовать сама себе.
Первыми за Зоей последовали жены Траханиотов, переодевшись в русское платье. Все вдруг почувствовали, что им неудобно в модной римской одежде.
На женщин-предательниц немедленно взъелся легат. Бонумбре шипел, словно рассерженный кот:
— Вы забываете, кого представляете здесь! Вы не по своей воле в Московию приехали, а благодаря заботам Его Святейшества.
Злился больше от своего бессилия, поскольку женщин не смогли урезонить даже их собственные мужья — Дмитрий и Георгий. Конечно, дурной пример подавала сама царевна: не переоденься она — и остальным в голову не пришло бы. Одно дело шубу на плечи накинуть, ведь на улице зима, но совсем иное — волосы в косу заплести и этот сарафан надеть. Об ужасном обычае мыться в темном жарком помещении легат вообще не вспоминал.
У несчастного архиепископа даже зародилось сомнение, правильно ли было отправлять именно Зою Палеолог, у которой варварство, видно, в крови. Не лучше ли пожертвовать высокородной принцессой с хорошими корнями, не дикой и поистине преданной Риму? Эта варварка своим восхищением дикими обычаями московитов способна все только испортить.
Бонумбре решил, что нужно поговорить с Христофором Стериади, учителем Зои, который имел на царевну хоть какое-то влияние, чтобы грек подсказал, что, восхищаясь всем вокруг, она роняет себя в глазах московитов. Кому нужна ее искренность? Нужно выглядеть наследницей крови Палеологов, все же она византийская принцесса и воспитанница самого понтифика. Где гордость? Испарилась в этой «банье»?
Но вокруг легата словно существовал заговор. Все во главе с царевной сошли с ума. Стоило отведать русских угощений, как женщины переоделись, а мужчины заявили, что это им нисколько не мешает и хорошо бы последовать примеру дам. Бонумбре даже заподозрил, что в еду или питье было что-то помешано, но вспомнил, что и сам ел и пил.
Постепенно его мысли ушли в другую сторону (на счастье Зои), Бонумбре вдруг осознал, что таким образом искушают и его — проповедника! Вся эта еда, несомненно, была частью дьявольских козней. Он должен выдержать, больше никакой севрюжины или блинов! Хлеб и вода, чтобы мысли оставались чистыми. Теперь епископу стало ясно, почему эти московиты так противятся унии: дьявол силен и он развратил несчастных обилием еды и дров. Когда человек сыт и ему тепло, несмотря на морозы, он едва ли будет думать о Боге, сытость живота туманит мысли.
Несомненно, простолюдины так не едят, они испытывают голод и холод, но те, в чьих руках власть в Московии, не учитывают желаний народа. Бонумбре должен раскрыть правителю Московии глаза на греховность такой жизни, должен нести свет Римской веры народу Московии!
Епископ даже задохнулся от понимания, сколь важна его миссия. Его святейшество папа Сикст не мог правильно оценить эту миссию, из Рима не видно. Не ради похода на турок, а ради света Римской веры в заблудших душах московитов Бонумбре столько месяцев трясся в повозке, потом страдал в бушующем море, а теперь терпит холод и неверность сопровождающих. Не он царевну Зою сопровождает, это ее замужество лишь повод для его миссии. И он вынесет все, но исполнит свою миссию, возложенную даже не наместником престола Святого Петра, а самим Господом!
Антонио Бонумбре уже видел себя Святителем Московии и всей Руси!
Итогом размышлений стало решение отныне на Русской земле нести большой крест, который он намеревался водрузить в покоях Зои в Москве. Этот крест (русские называли его крыжем) еще станет камнем преткновения, но пока никто не противился, когда епископ, вытащив его из своих вещей, положил рядом в повозку.
Вдовая великая княгиня Марья Ярославна сидела под деревом в тенечке, прячась от солнца. Осенние денечки куда лучше летних бывают, когда паутинки по воздуху летят, солнышко мягким теплом согревает, не палит и не слепит, птицы слетываются в стаи, чтобы в дальние края отправиться…
Вдовая великая княгиня… А другой сейчас у Москвы нет. После смерти ее невестки Марии Борисовны, дочери Тверского князя, овдовел не только Иван Васильевич, вся Московия овдовела разом. Пятый год уж шел вдовства-то.
Только успела об этом подумать, как заметила приближающегося внука — Ивана Ивановича. Хорош сын у великого князя-то, рослый, сильный, крепкий. И силушкой, и умом Господь не обидел. Пример есть с кого брать, его отец всем мог бы пример подать. И во всем.
Мария Ярославна гордилась сыном справедливо, Иван Васильевич у власти считай с детства, как отца ослепили. Не только глазами великого князя Василия Темного был, но и головой. Десятый год сам правит, всех с собой считаться заставил, даже строптивых новгородцев. И латинян тоже.
Сын в отца пошел, Иван Молодой (чтоб с отцом различать, княжича стали так называть, тот не противился) тоже обещал стать сильным правителем.
На сердце у Марии Ярославны потеплело при виде внука, она и не скрывала, что Ванюшу больше других внуков любит. Рослый не по годам, голос уж «поломался», басом разговаривает, как взрослый, «петуха» больше не дает, как у отроков бывает. А вот походка мальчишечья — ногами загребает по земле и косолапит малость. Надо осторожно сказать об этом, потому как сын в отца пошел — вспыхивает, точно сухая солома. Но Иван Васильевич в детстве научился свой гнев внутри гасить, а Ивану Младшему пока не удается.
Подошел, поклонился, здоровья любимой бабушке пожелал. От глаз Марии Ярославны побежали лучики-морщинки от улыбки, но при этом глаза оглядывали внука внимательно, выискивая непорядок в одежде, в лице. От нее не укрылось, что Иван Молодой чем-то озабочен.
Но он сразу говорить не пожелал, речь повел пустую, ни о чем. Так тому и быть, пусть просто поговорит, душой отойдет, тогда важное сам скажет. Бабушка прекрасно понимала, что волнует внука, тут и гадать нечего — предстоящая женитьбы отца на латинянке.
Так и есть, немного погодя разговор об этом и пошел.
— К чем отцу латинянку брать, своих княжон да боярынь мало?
— Он, Ванюша, хорошо подумал, прежде чем свое согласие на сватовство давать. И правильно подумал.
Иван Молодой строптиво мотнул головой. Ведь понимал, что это так, но смириться не смог. Мария Ярославна знала, что разумом Господь внука не обидел, потому ему нужно еще раз все объяснить, чтобы умом понял отцову задумку.
Она вспомнила, как хитро поступил сам великий князь Иван Васильевич. Он всегда так: вроде и советовался со всеми, но мать точно знала, что все уж обдумал и все сам решил. А когда митрополит против такого брака возражать стал, несколькими доводами его возражения разбил, пришлось согласиться. Иван Васильевич советы собирал и высказаться всем важным людям давал, но потом свои мысли высказывал, и даже супротивные поражались тому, как же сами не додумались. В конце концов все соглашались с князем. И получалось, что противных нет. В этом тоже его сила.
Мария Ярославна решила так же поступить и с внуком. Начала толково объяснять.
Боярышень пригожих много, Русь всегда красавицами славилась. Но не ради пригожести князь новую жену берет. И родовитых княжон много, и таких, что детей родят, тоже. Но за каждой из них свои люди стоят. Марию Борисовну кто отравил?
Знала, что больно сыну такие рассуждения о матери слушать, но на то он и будущий князь, чтобы ради своей Земли через свою боль переступать.
За Марией Борисовной Тверь стояла, вот и отомстили свои же вороги. И так какую ни возьми, недаром князья себе женок издали привозили, чтоб всем чужие были.
Но это не все. Латинянка та не просто знатного рода, она ведь внучка византийского императора, значит, над всеми княжнами и боярышнями на две головы выше стоять будет.
— Вот этого и боюсь, — дернул головой Иван Молодой.
— Над княжнами да боярышнями, — повторила бабка, — но не над князем, тобой и мной тоже. Она женкой будет второй, дети вперед тебя к престолу не подступят, а вот то, что византийская царевна в княгинях ходит, отцу твоему подспорье перед другими князьями, он с императорской кровью породнится. Великий князь старается Москву над остальными княжествами поставить, а такая женка будет в помощь.
— И отца в латинство тянуть станет!
Мария Ярославна нахмурилась:
— Худо об отце думаешь. Он в вере крепок, ни жена, никто другой никуда не перетянет, наоборот, только укрепит. К тому же сумеет ли ромейка власть над князем взять? И отзываются о ней хорошо, дьяк Василий Саввич Мамырев Федору Курицыну еще из Рима доброе о царевне писал: мол, сирота она, давно у папы римского из милости живет. Знаешь, каково оно — из милости жить? Я знаю, мы в Твери меньше года жили, и дед твой князь Борис добр был, очень уж отец твой ему понравился, все хотел своим сыном назвать и славу великую предрекал. Но все одно — из милости жили, а хлеб милостыни горек. И мачеха твоя будущая, такого хлебушка вкусив, княжеский ценить будет.
Иван Молодой только плечом дернул. Мария Ярославна вздохнула украдкой: весь в отца. Этот внук любимый не потому, что старший, у младшей дочери Анны тоже мальчишки один другого лучше, но Иван Молодой повторил Ивана Старшего, княгиня видела перед собой сына в детском возрасте. Раньше так хотелось тетешкать, наблюдать, как в детские игры играет, как взрослеет, превращаясь из мальца в юношу, но, видно, не судьба. У старших княжичей не бывает долгого детства, это братья Ивана Васильевича могли в игры играть, он сам встал подле отца в восемь, а стал соправителем в двенадцать поневоле, но решил, что и Иван Молодой также должен.
Зря бабушка надеялась внуку сказки рассказывать, Иван Васильевич рано приобщил единственного сына к своим делам, назвал соправителем. И хотя Иван Молодой без отцова согласия и шагу не делал, все же бояр с собой считаться заставил. Ему пятнадцатый год, женить уж пора, а тут мачеха это ромейка. Что-то волновалось внутри у парня, неспокойно было. Оправдывался тем, что она латинской веры, мол, докука в Москве будет, а в действительности беспокойно было как-то иначе. Будущих младших братьев не боялся, он уже великий князь, а вот мачеху… Объяснить не мог, откуда это предчувствие беды.
Но бабушке ничего говорить не стал. Негоже мужчине к женскому плечу в слезах прислоняться. Приедет царевна, там видно будет, что за сиротку Иван Фрязин великому князю высватал.
Зоя тоже размышляла о своей миссии. Почему именно этой иконой благословил ее старец в Риме, почему именно в день Софии и после молитвы к ней прекратилась буря?
Почему столько раз срывались ее возможные браки, чтобы сейчас вдруг забросить в далекую Московию? Чем Московия отличается от всех других стран? Почему именно она выбрана в невесты московскому правителю, разве там мало своих девушек?
Почему византийская царевна должна стать правительницей Московии и какой правительницей она должна стать?
Результатом размышлений явилось неожиданное решение. Неожиданное для остальных, но только не для самой Зои.
К Мамыреву бочком подошла Настена. Девушка служила ему еще в Москве верой и правдой, с собой взял в надежде, что к будущей княгине пристроит, поскольку Настена языки знала, у нее отец купцом был, а сестра за Фрязиным замужем. Настена умная, сама пристроилась и теперь опекала царевну, как наседка цыпленка. После того как Никиша рассказал о попытке Ивана Фрязина подкупить его, усомнился Мамырев и в Настене тоже. Вдруг Никишу не удалось подкупить, а Настену удалось? Прогнала же она от себя Никишу… Нет, с этой ловкой девкой надо ухо востро держать.
— Василий Саввич, царевна с тобой говорить хочет, но так, чтоб остальные не слышали.
— С чего это? — подивился дьяк, настороженно косясь на Настену.
Та на сомнения и внимания не обратила, добавив:
— Только чтоб Иван Фрязин не знал. И присмотрщик папский тоже.
Дьяк Мамырев кивнул:
— Пусть скажет когда.
Настена быстрая, ловкая в делах, но у дьяка подозрения, что девка Фрязину служит тайно, ему все слова царевны передает.
Настена словно подслушала его мысли, сама вдруг посоветовала:
— Василий Саввич, ты бы Фрязина этого поостерегся.
— Чего это? — подозрительно прищурился дьяк. Кто ее знает эту девку, вдруг хитра не в меру?
— Скользкий он. И болтливый очень, обещания раздает и себя ставит так, словно от него что зависит. Только не верь ему, ничего он не может, разве только языком молоть.
— Так ведь и зависит. Что-то ты на своего хозяина больно сердита. Обидел, что ль?
Дьяк Мамырев схитрил, лучше сделать вид, что не принял слова девки на веру. Он и без Настены знал, что Фрязин обещать горазд.
Девка вторую часть сказанного вроде и не заметила, а на первую откликнулась:
— Вот то-то и обидно, что зависит. Наобещал в Риме столько, что половина фрязинов теперь за нами в Москву поедут. Говорил, что на Руси мехами лавки покрывают, а золотом церкви покрыты. И что государь платить будет щедро всем, кто ни приедет.
Дьяк рассмеялся:
— А ведь правду болтун баял. У Белоозера и впрямь лавки мехами покрыты, а купола соборов в Кремле позолочены. И о том, что государь сполна платить станет, тоже правда, только вот не всем, а тем, кто стоить будет.
— Все равно болтун он! — упорствовала Настена.
— Болтун, и еще какой. Я знаю, что обещал многое. Только ты сама не болтай лишнего, пусть Фрязин пока в неведении остается.
Чего угодно ожидал дьяк от Зои Палеолог — что станет на холод жаловаться, что возок богатый потребует, какой от Рима до Любека вез, что еще меха нужны и злато с каменьями самоцветными… Но только того, что услышал, ожидать не мог.
— Все ли так, царевна, нет ли в чем обиды, неудобства, нет ли пожеланий?
— Всем довольна. — Зоя вздохнула и вдруг словно с обрыва в холодную воду бросилась: — Я креститься хочу.
Сначала у дьяка внутри все похолодело, а как же обручение с Фрязиным от имени великого князя в римском храме? Потом понял, о чем она, даже горло перехватило, но на всякий случай переспросил:
— Ты латинянка, царевна?
— Была униаткой, но в Риме в латинской церкви крестили. Иначе нельзя…
В голосе столько досады, боли, словно каялась на исповеди в страшном грехе. А как подумать — в чем ее грех? Не в магометанство же перешла.
Мамырев не дал царевне мучиться, сухонькая рука легла на ее рукав:
— В том себя не вини, то не грех. А крестят тебя в Москве обязательно, перед венчанием и крестят.
Зоя дух перевела и даже выпрямилась, бровь чуть вздернулась. Дьяк мысленно усмехнулся: ишь ты, строптивая!
— Я скорей хочу!
— Не было, царевна, такого наказа от государя, чтоб тебя в пути крестить.
Но нашла коса на камень, будущая великая княгиня потребовала:
— Вон церковь. Священник там есть?
Дьяк вздохнул:
— Есть, конечно. Да только это маленькая церквушка, подожди уж до Новгорода, там крестишься, коли до Москвы терпеть невмочь.
Темные восточные глаза сверкнули (ой, гневлива государыня-то будет!).
— В Русскую землю хочу православной въехать.
Что тут скажешь? Русская земля скоро, псковитяне должны царевну на границе в устье Омовжи встречать, так договорено. Негоже, конечно, будущую великую княгиню в Юрьеве крестить, да, видно, так лучше.
— Тогда я нашего Евлампия позову, у него святости поболе будет, нежели у здешнего попа. Он на Афоне был.
— У меня иконка святых Софии и ее дочерей есть, — зачем-то сказала Зоя. — Старец ваш в Риме благословил и сказал, что мне имя София.
— Амвросий? — ахнул Мамырев.
— Не знаю, как зовут. Он с вами приехал, но обратно не едет.
— Старец на святую гору Афон отправился, через греческие монастыри пойдет.
— Если бы я знала! — досадовала царевна. — У меня в монастыре сестра Елена, привет бы ей передать.
— Жаль, что не знали, непременно передал бы доброе слово.
— Я на иконку молилась, когда буря была. Это был день Софии. Я молилась, и буря стихла. Хочу ее имя взять.
Дьяк смотрел на свою будущую государыню, широко раскрыв глаза: ай да царевна!
Потом усмехнулся:
— Епископ не знает?
— Нет.
— Сделаю все как скажешь, царевна, сделаю, — обрадовался Мамырев.
Евлампий на старца Амвросия, что благословлял Зою в Риме, не похож. Он тоже сухощавый, но темный, глаза словно уголья, а брови седые.
— По доброй ли воле решила в греческую веру вернуться, дочь моя? — Глаза старца смотрели внимательно и строго, как у ликов на русских иконах.
— Да, отец. Не по своей воле в латинянство переходила, вы же знаете.
Он чуть нахмурился:
— Не говори сейчас о том: что было, то прошло. Хорошее имя выбрала, Софию за мудрость на Руси почитают.
Зоя согласилась, она помнила значение имени: мудрая. Чего лучше для правительницы?
Посланцы земли Русской встретили их на границе — в устье реки Омовжи.
Блестя любопытными глазами (какая она, византийская царевна, воспитанная в Риме?), поднесли на серебряном блюде золотую чарку отменного вина. Зоя не пила, но пригубила. Блюдо и чарку забирать не стали, это, мол, дар.
Зоя, наученная уже Настеной, поясно поклонилась, поблагодарила по-русски, вызвав бурю восторга у встречающих. Ей были явно рады!
Пригласили на богато украшенные расшивы, чтобы озером плыть в устье Великой к Пскову, мол, там основная встреча приготовлена. Обоз должен берегом тянуться туда же. Дали проводников, чтобы в болотах не застрять. Бонумбре сначала категорически отказался ступать на борт ладьи, но потом рискнул. Из-за собственных переживаний он упустил важную деталь — царевна крестилась справа налево, как делали это и псковичи.
Бедолагу снова мутило, хотя волнения на озере почти не было. Нет, все эти путешествия по воде не для него!
Царевна не обращала на своего бывшего духовного наставника внимания, не до того.
К Пскову подплыли ярким солнечным днем.
Природа словно опомнилась, залила все светом, в небе синь-синева, все яркое, радостное. И золотые купола церквей, блестевших золотом.
И тут…
Шагнув с ладьи на пристань, царевна остановилась, низко, почти в пол, поклонилась встречающим и размашисто перекрестилась на церковные купола православным крестом — справа налево, выдохнув:
— Дома!
Папский легат Бонумбре обомлел, только рот разевал, не в силах даже возмутиться. Но потом подскочил, зашипел:
— Вы с ума сошли! Я обо всем сообщу его святейшеству!
Его голос потонул в гуле радостных криков окружающих, но София поняла по одному движению губ. Повернула к нему сияющее лицо:
— Мне теперь его святейшество не указ, я православная.
— Что?!
София только отмахнулась от наседавшего на нее Антонио Бонумбре.
Дьяк Мамырев сокрушенно качал головой:
— Ох, девка, крута больно. Теперь за легатом пригляд особый нужен, не то счеты сведет…
Боярин Тимофей Шубин поморщился:
— Показное сие. Небось с легатом сговорились, что тот гнев показывать станет. Вона как крестилась-то…
— Как?
— Сначала себя крестным знамением осенила, а потом персты по-латински к губам приложила, словно бы прощения просила.
Дьяку стало не по себе. Может, конечно, царевна просто не знала, что на Руси так не делают, а может, и прав боярин. Что, если все сговорено, и вчерашнее крещение тоже? Решил пока молчать, понаблюдать за Софией, послушать, что вполголоса говорить станет, братьев Траханиотов поспрашивать. Хотя и с ними осторожно надо, Дмитрий и Георгий византийцы, но ведь латиняне, кто знает, зачем с царевной на Русь отправлены. Эти латиняне спят и видят, чтоб русские княжества под себя поставить да на турок натравить. Сами с султаном заигрывали, пока тот Царьград не взял да многие земли славянские себе не подчинил, а теперь жаждут, чтоб те земли русские воины освобождали ради Гроба Господня. Да только где гроб, где турки, а где Русь.
Ох, осторожно с ними дела вести надо. О том еще дьяк Курицын (умнейшая голова!) предупреждал. Они, конечно, с великим князем умны, да только и фрязины хитры не в меру.
Мамырев решил сразу по приезде дьяку Федору Курицыну все свои сомнения и опасения высказать, даже если тот сам все знает, еще один голос не лишний будет. Лучше перестараться, чем оступиться.
Решение хорошее, но на душе после него муторно, словно в ясный день вдруг хмарь налетела или стая черных ворон с карканьем мимо пронеслась.
София о тяжелых думах дьяка не подозревала, иначе вела бы себя по-другому, умней и осторожней. А еще лучше — поговорила с Мамыревым откровенно. Многое пошло бы иначе, знай она о сомнениях своих новых соплеменников. Но человек задним умом силен, а в свое время многое не замечает или не понимает.
В тот же вечер дьяк Мамырев невольно оказался свидетелем тайного разговора Софии с легатом Бонумбре. Шел к царевне, да замер, услышав их с архиепископом приглушенные голоса. Остановился, не зная, как поступить, но потом остался, вникая.
Он понимал и латынь, и греческий, хотя этого не выдавал. Хорошо, что понимал.
Легат, видно, даже своих хоронился, с царевной на дворе говорить решил. Он выговаривал Софие за неподобающее поведение и особливо за то, что крестится православным крестом. Это бы ничего, но дьяка ужаснуло то, что София ответила.
— Неужели вы, ваше преосвященство, не видите, как московиты принимают меня всего лишь из-за того, что крещусь справа налево? Легче всего завоевать людей, внушив им любовь к себе, а не ненависть. Или вы предпочитаете, чтобы я с ними враждовала? Делайте свое дело, а я буду делать свое. Мне его святейшеством приказано подтолкнуть правителя московитов к унии, я и подтолкну. Только делать это надо исподволь и изнутри, а не противостоя.
Она еще что-то говорила, Бонумбре поддакивал, изумляясь хитрости царевны. Но сам отказывался поступать так же.
В Пскове царевну не только радушно приняли, но и щедро одарили — поднесли целую горку серебра. Перепало и Джану Батисте, хотя его горка была куда меньше. Оказалось, псковитяне подарили невесте великого князя целых пятьдесят рублей серебром, что было большой суммой. Вольпе попытался забрать все, но царевна не позволила, позвала дьяка Мамырева и отдала серебро ему на сохранение. Фрязин обиделся и дулся до самого Новгорода, впрочем, София не обращала на него никакого внимания. Она уже поняла, что не столь важен в Московии Вольпе, каким себя представлял. Кроме того, он явно чего-то опасался.
Новгород тоже встретил хлебом-солью, чаркой и богатыми дарами. Сам архиепископ Феофил приветствовал царевну в Святой Софии и благословил ее. София заставила легата не только войти в собор, но и приложиться к иконам. Ей нравилось диктовать свою волю заносчивому Бонумбре, но тот воспрянул духом, словно очнувшись от страданий после морской качки. С приходом в Новгород ожил, стал деятельным не в меру, все об унии речи вел, о латинстве. Может, просто приходил в себя после трудного морского путешествия? Но что-то долго приходил.
Суетился Фрязин. Этот словно собственные владения царевне показывал: все хвалился и стенами детинца, и множеством ладей на Волхове и Ильмене, и огромными складами, по его словам битком набитыми пушниной самого лучшего качества, и вообще богатствами тороватых новгородских купцов.
София морщилась от его безостановочной болтовни и похвальбы, но все же было приятно, что подданные ее будущего мужа (а значит, и ее собственные) столь богаты. Если Новгород такой, то какова же Москва? Царевна чувствовала себя очень богатой, уже представляя, какие роскошные подарки отправит в Рим, например той же зазнайке Лауре, как Лаура станет с досадой кусать губы, сожалея о насмешках, как удивятся все римские надменные аристократки, смотревшие на Зою свысока…
Но как бы София ни была очарована богатством Новгорода, она не могла не заметить, что при упоминании имени ее будущего супруга многие отводят глаза. Спросила Бонумбре почему. Ответ ужаснул.
— Дочь моя, — вздохнул Бонумбре, — вам едва ли ведом жестокий нрав будущего мужа. У новгородцев есть право на него обижаться. Семен — один из тех, кто пострадал год назад, когда Москва пыталась захватить Новгород.
София усомнилась:
— При чем здесь жестокий нрав правителя Московии?
Легат снисходительно объяснил:
— В Новгороде много недовольных Москвой и даже ненавидящих ее. Новгородская земля решила подписать унию и перейти под власть литовского князя Казимира. Главными сторонниками этого дела были бояре Борецкие, но в прошлом году войско правителя Московии разбило войско Новгорода. И расправилось с побежденными крайне жестоко — им были отрезаны носы и уши.
София содрогнулась:
— По приказу правителя московитов?!
Легат чуть смутился:
— Нет, но он не наказал тех, кто это сделал. У госпожи Борецкой, с которой предстоит встретиться, был казнен старший сын как возглавлявший сопротивление Москве. А ведь они хотели всего лишь подписания унии и присоединения Новгорода к княжеству Литовскому.
София сообразила чуть быстрее, чем рассчитывал Бонумпре:
— То есть перестать подчиняться Москве?
— Новгород и без того не подчинялся, здесь боярская республика.
— Тогда почему они раньше к Литовскому княжеству не присоединились?
Бонумпре на этот вопрос отвечать не стал, не объяснять же царевне, что желание бояр Борецких и тех, кто с ними вместе стоит за унию, вовсе не желание простых новгородцев. Он постарался перевести разговор на будущие отношения Софии с супругом:
— Дочь моя, вы помните наказ его святейшества? Вы должны способствовать согласию московского правителя на подписание унии.
— А почему Москва не подписывает?
— Князь Иоанн хоть и силен и жесток, но подчиняется своему митрополиту, зависит от него. А митрополит не желает подчиняться его святейшеству.
— Только и всего? — усомнилась царевна.
— Конечно!
Поспешность, с которой ответил легат, заронила в душу Софии какое-то сомнение. Она очень не хотела впутываться в политические передряги и противостояния, особенно связанные с религией. София надеялась править — устраивать приемы, праздники, диктовать моду и правила поведения при дворе, надеялась принести в дикую Московию свет римской культуры, обучить, цивилизовать отсталый двор Москвы… А политические интриги папского легата не для нее.
Сначала царевну успокоило само московское посольство: если уж в окружении князя Иоанна есть люди, подобные Мамыреву, значит, не все потеряно. Потом София испытала потрясение, поняв, что в дикой стране, куда она едет, даже многие женщины грамотны. Они не имели библиотек, но прекрасно писали друг другу письма — жены мужьям, а мужья женам давали наказы, сестры или подруги делились новостями и сплетнями… Лаура знала латынь только потому, что говорила на ней с рождения, а вот Настена знала три языка и даже писала на всех трех.
«И все равно страна дикая! — решила для себя София. — И помочь князю Иоанну противостоять митрополиту она должна обязательно, в этом и его святейшество, и легат правы. Пусть Новгород присоединяется к унии и Литовскому княжеству, за ним последует и Москва. Это и облагораживание дикой Московии — достойная цель брака византийской царевны! Вот для чего она избрана Провидением, почему столько лет не могла выйти замуж и ждала своего часа!»
На встречу с загадочной Марфой Борецкой, сын которой погиб в схватке с Московией, София отправилась с твердой решимостью отстоять права Новгорода перед будущим мужем, а самому мужу помочь одолеть непримиримого митрополита и присоединиться к пастве его святейшества. В своей силе и способности не просто повлиять на Ивана Васильевича, но и почти диктовать ему волю папы Сикста царевна не сомневалась.
София вдруг почувствовала вкус к политической деятельности!
То, что раньше старательно избегала, о чем не хотела даже думать, вдруг стало интересным, даже заманчивым.
Еще одним совершенно новым было ощущение себя почти правительницей. Она могла повлиять на решения своего супруга, от нее зависели судьбы многих людей, свобода целого такого города, как Новгород, она могла карать и миловать. Это было совершенно новое чувство и состояние, София вдруг оказывалась не просто рядом с властью, как было в Риме, но самой властью! И свою избранность для влияния (положительного, конечно) на правителя Московии она воспринимала теперь иначе.
Легат Бонумпре с изумлением наблюдал, как на глазах меняется состояние и даже поведение его подопечной. По его мнению, менялось к лучшему, София поверила в свое предназначение и свои возможности. Это хорошо, с такой силой, как умная жена великого князя, справиться с митрополитом в Москве будет много проще. В отличие от самой Софии он прекрасно понимал трудность и серьезность поставленной его святейшеством задачи, но готовность будущей княгини действовать под его руководством внушала легату надежду на скорое и успешное достижение цели. А тогда можно будет надеяться на щедрое вознаграждение от Святого престола.
Легат временами тоже витал в облаках своих мечтаний, но теперь его мечты были уже о возвращении в Рим и получении нового сана и наград за то, что приведет упрямую Московию в лоно Святой Римской церкви. О судьбе Софии он не думал, царевна была для Бонумбре всего лишь подручным средством для достижения цели. Но для нее замужество в Московии тоже прекрасный выход, в Риме ей ни за что семью не создать, там не любят некрасивых бесприданниц.
А София хитра… Кто бы мог подумать? Как она ловко воспользовалась доверчивостью этих московитов. Молодец, если будет также действовать и дальше, то… От счастливых мыслей легата о будущем успехе и наградах отвлекала необходимость встречаться с богатыми новгородцами. Но это была часть его миссии — сторонники унии в Новгороде и Московии должны знать о поддержке Святого престола.
Марфа Борецкая Софие понравилась. В глазах рослой, сухощавой боярыни словно металось темное пламя, она не забыла казни своего старшего сына, и великому князю Ивану Васильевичу не простила, и своего дела не бросила. Борецкие готовы все свое немалое состояние положить на борьбу с Москвой. Марфа верила, что наступит время, когда второй сын (вернее, четвертый, ее старшие два от первого брака в море погибли) возглавит сопротивление Новгорода Москве. Ничего, что пока он у князя Ивана в тюрьме сидит. Сама Борецкая связь с литовским князем Казимиром не порвала, напротив, стала еще активней.
Были и неприятные новости. София узнала, что Москва — княжество бедное, это у Великого Новгорода мягкой рухляди — пушнины — в северных лесах видимо-невидимо, это у Новгорода торные пути и водой, и по суше в Европу, это он с Ганзейским союзом в дружбе, у Новгорода и руда, и серебро имеются… А Москва что?.. Москва нищая, только и кичится своей славой, а слава какая? Что Орда московским князьям ярлыки на правление давала? Так Новгород и вовсе под Ордой не был, не дошли до Новгорода ордынцы, испугались. Пока Орда год за годом остальные русские земли словно косой косила, Новгород жил своей жизнью и торговал по-прежнему. Конечно, и ему досталось от ордынцев, но то лишь малая толика испытанного низовскими княжествами. Вот что значит хорошо сидеть — удобное место для града выбрать!
София была далека от всех этих названий: Тверь, Ярославль, Белое озеро, Казимир, Литва… Псков знала только потому, что проезжала через него, об Орде слышала лишь, что это страшные степняки, которые режут людям горло и жгут города. Но получалось, что все богатство московского посольства дутое? Это было неприятно. Как и заверения, что Москва полунищая и тому же Новгороду в служанки не годится. Невольно шевельнулась обида за свое будущее королевство, с трудом сдержалась, чтобы не выдать недовольства этими кичливыми речами.
Это двоякое чувство — стремление помочь Новгороду вместе с остальными объединиться с Европой и жесткое желание согнуть всех их в дугу, чтобы стали ниже Москвы, — не отпускало долго. Может, и правитель Московии вот так: услышал надменные речи новгородцев, потому и разбил их войско в прошлом году?
Софии не нравилось раздвоение собственных мыслей, оно ослабляло уверенность в своей и папской правоте, в том, что должна стать буквально умной наставницей мужа. Что-то заставило не поведать о сомнениях архиепископу Бонумбре. София внутренне досадовала сама на себя из-за вдруг возникшей неуверенности и неумения справиться.
Странное состояние царевны заметили и Мамырев, и Бонумбре, но каждый истолковал по-своему.
Дьяк честно отписал своему наставнику в Москву дьяку Федору Курицыну, бывшему правой рукой великого князя Ивана Васильевича. Все одно, сам он ничего не мог поделать, а вот в Москве знать о царевне и ее поведении должны…
Бонумбре же принялся успокаивать Софию, твердя, что все в ее руках, мол, убедит мужа присоединиться к унии, станет Московия как все, потекут туда реки благодати, которых пока лишена. О том, что Москва бедна и дика, он не упоминал, как София ни намекала. Это заставило царевну усомниться и в остальном. Почему еще в Риме ей честно не сказали, что едет не просто в дикую, необразованную, но совершенно нищую Москву, где даже меха на плечах привезенные из Новгорода? А у московского князя своя только медвежья шкура да собственная.
Настроение не улучшала и погода.
Зима в том году встала ранняя и снежная. Еще в Новгороде, проснувшись, София поразилась тому, что в опочивальне светло. А когда вышла на крыльцо, ахнула — все вокруг белым бело! Рядом смеялась счастливым смехом Настена:
— С зимой тебя, царевна! Жаль, что к обеду стает, тепло еще.
София ахнула, столько снега она не видела никогда, в Риме он падал и сразу таял под ногами непролазной грязью. Здесь каменных плит под ногами не видно, значит, и грязь будет выше колен.
Настена возразила:
— А мостовые деревянные на что? К тому же завтра новый выпадет, а потом еще и еще…
Девушка объяснила, что снегу на Руси рады, много снега — много хлеба. Не зря так говорят. Снег укроет поля, леса, от мороза встанут реки, можно будет забыть о плохой дороге, сесть в сани и с ветерком… Пришлось объяснять, что «встанут» — значит замерзнут, покроются льдом. С ветерком — значит быстро.
— В санях по льду ехать куда быстрей, чем на подводе. Быстрей только что наметом, то есть верхом, пригнувшись к самой конской шее.
Девушка все говорила и говорила, радостно, обнадеживающе. Но София вспомнила о нищете Москвы и уже больше не верила всем этим россказням.
Как можно радоваться холоду, который покроет льдом реки? Каким же должен быть мороз, чтобы вода замерзла и выдерживала всадников с лошадьми? Что хорошего в снегах по пояс? В этом санном пути? В необходимости топить печи, тепло одеваться и мыться в бане? Все вокруг вдруг стало казаться диким и непонятным, София почувствовала почти отчаяние.
А уж слушать Настену и вовсе не хотелось.
Потому, когда девушка, смущаясь, вдруг поинтересовалась, нужна ли она по-прежнему, София пожала плечами:
— Поступай как хочешь.
— Ты не серчай на меня, царевна. В Москве меня небось к тебе и не подпустят, там в княжеских покоях своих разумных хватает.
Оказалось, что сама Настена новгородская и в Новгороде остаться хотела бы. Ее любимый недавно овдовел, готов взять ее за себя, так сестра сказала.
Глаза Настены светились счастьем, понять которое София не в силах. Возлюбленный вовсе не богат, он вдовец с тремя детьми, кузнец, значит, будет вечно ходить грязным. Но девушка радовалась будущей жизни с любимым человеком, которого вынудили жениться на нелюбимой Настиной же подруге, из-за чего сама девушка отправилась в Москву и в услужение к Фрязину.
София только руками развела, мол, я тебя не держу. Это был еще один обман, словно Настена обещала ей неотлучно находиться рядом до самой смерти, но вот решила уйти. Девушка ничего не обещала, однако София воспринимала все именно так.
На Руси ей нравилось все меньше и меньше, надежды не оправдывались, жизнь, несмотря на белоснежное покрывало, которым покрылась земля, казалась серой и даже мрачной. Цокающий говор новгородцев страшно раздражал, ветер казался слишком холодным, еда неправильной, а одежда тяжелой. В хоромах жарко, на дворе холодно, окна маленькие, а вокруг дикари и глупцы, радующиеся тому, чему нормальные люди радоваться не должны!
И впереди еще замужество, от которого вообще ждать ничего хорошего не стоило.
Над Москвой, над княжеским двором, кружили стаи ворон. Каркая, садились на коньки крыш, на верх ограды, хлопая крыльями, взлетали и снова садились, словно переругиваясь из-за мест.
Это производило тягостное впечатление, будто черные, крикливые птицы пророчили какую-то беду. Наверное, так и было, вороний ор никогда добра людям не сулил.
Дьяк Федор Курицын проследил за очередной стаей, покачал головой:
— Экая птица противная! Страсть как ворон не люблю, кабы не накаркали чего.
Сопровождавший его боярин тоже вздохнул:
— То, верно, к приезду латинян, к чему же еще?
— Болтай мне! — в сердцах проворчал дьяк.
— А то? — упрямо возразил боярин. — Ордынцев днесь не ждать, они до весны далече сидеть будут, Казимир тоже в слякоть не тронется. Остается одна царевна византийская с ее кликой.
— Замолчь, сказал! — почти огрызнулся на него Курицын.
Не всякий дьяк не каждому боярину такое сказать мог. Но тут боярин молодой да захудалый, а дьяк — правая рука государя, Иван Васильевич без совета с Курицыным и шагу не ступит. Послушает совет или нет, неизвестно, но вот спросит обязательно.
Федор Курицын из новых служилых, тех, кому при Иване Васильевиче все пути открыты. Служит государю не просто верой и правдой, а себя забыв. Не приведи господи, случится необходимость — свою голову под топор подставит и своей грудью прикроет. Но не только в верности его заслуга, мало ли кто верен без ума? Больше Иван Васильевич ценил в своем дьяке как раз ум, многие знания (Курицын разбирался, кажется, во всем, а в чем не смыслил, так стоило поговорить со знающим человеком день-другой, и дьяк уже все понимал) и рассудительность.
У Федора Курицына дурное настроение не из-за ворон, они как раз только повторяли его мрачные думы. Просто от дьяка Мамырева, отправленного с боярами за цареградской царевной в Рим, с полдороги от Новгорода прискакал тайный вестник с письмом. Вот это письмо и было причиной недовольства.
Первое послание Мамырев прислал еще из Рима с купеческой оказией. Сообщал, что все прошло хорошо, даже гладко, что дары пришлись по нраву, за царевной папа римский даже золота немало дал, сама она рада и замужеству, и тому, что в Москву едет, хотя пугается. Все было хорошо, и из Пскова писал, что добре приняли деспину и что она довольна, зазнается немного, но это больше от смущения. И даже написал, что вернуться в греческую веру сама решила!
А вот после Новгорода совсем иное появилось в посланиях.
Дьяк Курицын даже порадовался, что не стал государя обнадеживать, словно чувствовал, попридержал благие вести, сообщал только о том, что псковичи хорошо приняли да в Новгороде тоже не обижают.
Мамырев вдруг написал, что царевна из хитрости решила сделать вид, что в православную веру вернулась, в какой крещена в детстве была. Мало того, она в Новгороде с боярами встречалась, особливо с Марфой Борецкой, матерью казненного Иваном Васильевичем Дмитрия Борецкого! И никого из москвичей на ту встречу не позвали, только царевна, ее легат Бонумбре и толмач ганзейский.
А ведь доброхоты новгородские дьяку Курицыну доносили, что Марфа Борецкая своих черных мыслей уйти в Литву не оставила, с князем литовским Казимиром связи не потеряла, только затаилась до времени. В том, что посадница казни своего старшего сына Москве не простит, никто не сомневался, но что продолжит с Казимиром договариваться предательски, да еще и невесту государеву к себе привлечет!..
Курицын понимал тревогу Мамырева (знал, кого посылать, Василий Саввич стоил самого Курицына), латинянка, да еще и связанная с предателями Новгорода, в опочивальне государя — это змея за пазухой. И что ловко пыталась самого дьяка обмануть, а в голове предательство держит, тоже плохо.
Все было плохо, но и отказаться от свадьбы никак нельзя, Иван Фрязин от имени государя перед алтарем поклялся, что возьмет ее Иван в жены.
Итак, в Москву ехала змея подколодная с большой свитой, чтобы стать государыней. Что-то будет…
Дьяк Курицын вздохнул: Василий Саввич прав, государю надо все заранее высказать, чтобы знал, какую гадюку на груди пригреет. А вот вдовой великой княгине решил не говорить, Мария Ярославна расстроится. Изменить уже ничего нельзя, так лучше пусть пока не знает, потом, позже все объяснят.
Иван Васильевич сразу понял, что что-то случилось, если уж дьяк Курицын так хмур. Понял и то, что разговор не для чужих ушей, сделал знак дворецкому, чтобы оставил их одних.
— А теперь говори, не тяни.
Федор Курицын только руками развел, что он еще мог? Все рассказал, ручаясь за дьяка Мамырева, тот лгать не станет. Иван Васильевич слушал молча, потом кивнул:
— Добра не ждал от сей женитьбы, но и беды большой тоже. Значит, вот как расценили в Риме мое согласие взять за себя цареградскую царевну? Плохо в своем доме змею подколодную иметь, но теперь уже деваться некуда, назвался груздем — полезай в кузов. Только я зажарить себя не дам. Женюсь, куда же теперь? Но далее терема нос сунуть не позволю, с Новгородом разберемся, всю ее свору, коли будут под ногами путаться, вон вышвырну, только пятки засверкают. Братья Траханиоты мне понравились, жаль, что они заодно с папой. Спасибо, что предупредил. Еще поговорим, а епископа этого римского сразу после свадьбы попросим вернуться к папе.
— Тут еще одно дело, государь. Мамырев пишет, что легат сей Бонумбре все норовит перед каждым селением вперед выйти в своем красном облачении и с большим крестом латинским. Несет, мол, сей крыж с гордостью и им всех осеняет. Люди встречные шарахаются и крестятся с испугу.
— Я не испугаюсь, — усмехнулся Иван Васильевич.
— Ты нет, а вот митрополит уже испугался. Сказал, что ежели этот легат в одни ворота Москвы со своим крыжем войдет, то сам митрополит в сей же час из других навсегда выйдет.
— Так и сказал? — расхохотался Иван.
— Так и сказал!
— Ай молодец митрополит. Задело, знать, за живое. Ну что, Федор Иванович, не допустим, чтобы митрополит Москву покинул? Придумай что-то с легатом этим. Передай ему, что я повелел наши обряды блюсти, пусть крыж свой подальше спрячет, либо в Новгород возвращается. Когда они в Москве будут?
— Через два-три дня. Можно венчание назначать, ежели ты не передумал, государь.
Иван Васильевич сокрушенно вздохнул:
— Я же не холоп, мое слово твердое, обещал — значит, женюсь.
Курицын хмыкнул, явно придумав что-то забавное. Иван потребовал сказать.
— А обещал за тебя небось Фрязин? Он обещальщик известный, ему ничего не стоит наврать с три короба. Может, пусть он и отвечает?
Они посмеялись немного, но смех был невеселый, сознавать, что неприятности из-за приезда цареградской царевны уже совсем близко, было тяжело.
— Все же не жалею, что согласился. Пользы больше будет, чем вреда. А с легатами или латинянами, что приедут, справимся. Перезимуют, носы да то, что в портах, отморозят, а там, глядишь, и сами удерут. Купцы да послы сказывают, у них и портов-то толковых нет, так, видимость одна. Зато цвета разного, словно у скоморохов.
Еще посмеялись шутке государя, потом разговор зашел о московских делах. Все же невеста невестой, а жизнь на Москве не остановилась.
Почти сразу после Новгорода им встретился посланник великого князя с новыми дарами. Привез он… шубы. Самую богатую — парча на соболях — царевне, попроще Фрязину, легату, князю Константину и посланнику братьев Палеолог Дмитрию Ралю. Сказал, что еще везут, да только он поторопился, но и второй обоз скоро будет. А еще большой ларец с золотыми и серебряными вещицами, щедро украшенными самоцветами. Не скуп великий князь Иван Васильевич…
Не успели Софиины дамы завистливо поахать и за ее спиной обсудить великолепные горностаевые и соболиные меха, как подъехали еще три подводы с охраной. Теперь даров хватило всем, даже служанки получили беличьи полушубки. И… странную обувь под названием «валенки». Дьяк Мамырев настоял, чтобы обули. Сунули ноги и обомлели, там словно печь внутри — тепло и сухо.
Русский люд дивился на заморских гостей — в этакую пору да в валенках, а те млели, отогреваясь. Софие объяснили, что в этой обуви и в морозы не холодно.
Дамы ее свиты уже забыли все трудности пути, Иван Фрязин прав — в эту страну из-за одних мехов ехать стоило. Стать вдруг обладательницей шубы на лисьем меху, стоимость которой в Риме равнялась целому состоянию!..
Торжок и Тверь миновали стороной. Негоже устраивать праздники второй жене великого князя на родине первой. Чтобы избежать каких-то неприятностей, поторопились и прошли сторонними дорогами.
София об этом даже не узнала, все равно по сторонам лес и лес. Лесам, казалось, конца не будет. Дмитрий Раль дивился:
— Здесь столько дров, что камины можно топить целый день. Неудивительно, что они и дома из дерева строят.
В деревянных теремах дышалось легко, легче, чем в дымных папских покоях, где круглый год гуляли сквозняки, заставляя то чихать от дыма очагов и жаровен, то дрожать от холода. В Риме камень под ногами быстро остывал и долго нагревался, потому с октября по март во дворцах было неуютно, особенно если не хватало денег, чтобы купить вдоволь дров.
Дмитрий прав, если здесь вокруг дрова, то и топить можно сколько захочешь.
Дороге, казалось, не будет конца. Они ехали и ехали, изредка встречая по пути деревеньки, вдруг открывавшиеся посреди леса, за это время в Европе от Рима до Любека добраться успели бы, а здесь от Новгорода до Москвы никак не доедут!
София уже перестала что-либо понимать. В Риме Московию называли дикой и нищей, рассказывали о медведях, от которых надо спасаться на улицах, волчьем вое по ночам, о непроходимых лесах и непролазных болотах, о людях в шкурах и ужасной банье…
Пожалуй, все это было. В бане София сама парилась, медведя мужик за кольцо в носу на Торге в Новгороде водил и даже плясать заставлял. И волчий вой они тоже слышали, когда останавливались по пути, но не в боярском тереме, а в небольшой деревне. И леса вокруг стояли такие, что страшно становилось. Людей в шкурах видели, только это были их собственные латиняне, которым легкие ночные заморозки суровой зимой показались, вот и напялили на себя овчинные тулупы еще в Колывани.
Новгород был богат, богаче многих европейских городов, через которые проезжали. И люди там грамотные. Вот это оказалось самым большим потрясением для царевны — не сонеты Петрарки или философские труды читали, но письма друг дружке, записочки разные. Зато все от мала до велика — бояре, купцы, мужчины, женщины, старики и дети, все! София усомнилась, что в Риме нашлось бы столько грамотных, сколько в Новгороде. Вот тебе и дикари!
Но она тут же вспоминала, что Новгород — это не Москва. Марфа Борецкая твердила, что Москва нищая, лапотная (лаптями оказалась та самая обувь из березовой коры) и неграмотная.
София снова, как и в Новгороде, раздваивалась, теперь ей хотелось образовать свое будущее княжество и одновременно накатывало презрение к диким московитам. Вздыхала: ну что ж, видно, ей, византийской царевне императорской крови, суждено образовывать дикарей. Она уже нутром почувствовала, что не столь страшна жизнь в будущем доме, а потому позволяла себе думать о нем чуть свысока.
«Кто я и кто они! Будущий муж всего лишь князь маленького нищего княжества. А я принцесса императорского рода. Я научу его грамоте, подскажу, как вести себя, как одеваться, приведу к унии», — такие мысли все четче оформлялись в голове у царевны. Чем ближе к Москве, тем тверже становилось ее решение образовать дикого князя московитов и ввести его в большую европейскую семью. Сидят там себе в медвежьем углу и знать ничего не знают об остальном мире. Пора вылезать!
До Москвы остался один переход, вернее, меньше половины дневного. Если до рассвета выехать, то утром прибудут.
Но вечером, едва успели устроиться для сна, из Москвы от великого князя прибыл боярин Федор Давыдович Хромой. Не с дарами прибыл, а с требованием. Поговорил с дьяком Мамыревым, а разговор с Софией отложил до утра.
Но главное не царевне должен был сказать, а легату Бонумбре.
После Новгорода окончательно уверовавший в свою избранность и предназначение епископ решительно принялся проповедовать. Стоило показаться какому-то жилью, как он отправлялся в начало процессии и шел, подняв над собой большой крест.
Народ страшно пугался его кроваво-красной мантии, надвинутого на лицо капюшона, но более всего красных же перчаток и поднятого креста. Тут не до приветствий княжьей невесты, подхватывали детишек и удирали в дома, крестясь и запирая двери. Но легат не сдавался, он не понимал, что кровавый цвет для русских не всегда праздничный, а уж руки в длинных красных перчатках и вовсе со стороны облитыми кровью кажутся.
Вслед процессии неслось:
— Антихрист!
София не видела Бонумбре, а потому не понимала причины таких встреч. И вот теперь боярин Федор Хромой потребовал, чтобы епископ убрал свой крыж и в Москву с ним не входил!
— Но я несу свет веры Христовой! — возмутился такому нерадушному приему легат.
— Вера Христова и в Москве есть, без твоего крыжа. Сказано — не пущу, значит, не пущу!
Легат еще пытался оспаривать нелепое, на его взгляд, требование, но получил обещание быть отправленным обратно немедля.
Закончился спор тем, что уставший от пререканий боярин попросту отнял у Бонумбре его крест и сунул слугам:
— Спрячьте под сено на подводу. А будет противиться, и самого связать!
София поняла, что дело и впрямь может закончиться позором папского легата, приказала:
— Подчинитесь требованию, ваше преосвященство. Мы в Москве, здесь их право.
Легат, ожидавший от царевны покровительства, обиженно поджал губы, хотел было пригрозить, что пожалуется папе Сиксту, но вспомнил, что она крестилась в греческую веру, значит, его святейшеству не подвластна.
Крест спрятали, Бонумбре сел в закрытую повозку, решив больше ни с кем не разговаривать. Торжественного внесения символа Римской веры не получилось, но это его не обескуражило, видно, так Господу угодно, это просто испытание. Бонумбре ехал, успокаивая себя, что иногда надо и отступить, чтобы укрепиться на завоеванных позициях. Его нынешней позицией пока было пребывание в Московии и связь с новгородскими боярами, которые, несмотря на прошлогодний разгром от Москвы, остались сильны и преданы унии.
Софии было не до размышлений Бонумбре, она внутренне сжалась, как пружина, в ожидании решающей встречи и с Москвой, и с будущим мужем.
Каков он, этот великий князь московитов, которому не жалко бросить к ногам ее служанок роскошные меха? Что из рассказанного Марфой Борецкой правда, а что ложь? Если у московитов обувь из коры деревьев вместо сапог (как выяснилось, чаще они ходят в валенках), а меха все новгородские, то откуда такие богатства у самого князя, чтобы купить эти меха для ее сопровождающих?
В голове у царевны все смешалось, она пыталась не думать, понимая, что разобраться сможет только на месте.
— Царевна, Москва, — показал куда-то вперед князь Константин.
София только кивнула. Она уже поняла, что приехала, но ни выходить, чтобы встать на колени, как перед Новгородом, ни делать что-то подобное не стала. То, что царевна видела из окошка своей колымаги, ничуть не походило на богатую столицу: деревянные домишки, стоявшие далеко друг от друга, все темное, несмотря на солнечный день, строения деревянные, каменных дворцов не видно… Сердце сдавила тоска: куда она приехала?!
И тут… над городским посадом поплыл колокольный звон. Сначала зазвучал один колокол, к нему почти сразу присоединился другой, третий… Перезвон был яркий, радостный.
— Царевна, тебя встречают! — кивнул в окно колымаги дьяк Мамырев. На латыни крикнул, даже не по-итальянски.
Но София не обратила внимания, не до того. Улицы предместий Москвы, которые здесь называли посадом, были настолько запружены людьми, что обозу трудно пробиться. Высланная из Кремля охрана усердно раздавала удары плетьми, но толпа, чуть отступив, смыкалась снова. Кланялись, приветственно махали руками, что-то кричали…
— Что они кричат?
Мамырев усмехнулся:
— Заступничества у тебя просят.
— Их обижают? Зачем их бьют плетьми?
— Чтобы расступились, иначе не проедем. А заступницей ты теперь за них всегда будешь, как Дева Мария перед Господом, так ты за обиженных и перед князем, и перед митрополитом, и перед боярами.
К перезвону присоединились главные колокола Кремля.
Москва встречала свою новую государыню. Какой-то будет эта правительница? Хотя от княгини многого не ждали, но на заступничество и впрямь рассчитывали. Всем известно: добрая женка дома — половина удачи в жизни. А негодная — так одна большая беда.
С трудом переводила дыхание от волнения и сама София. Это по пути она могла радоваться или печалиться, ужасаться и восхищаться. Дорога закончилась, и привела она в Москву, где суждено жить до конца дней, детей рожать и растить, быть правительницей.
Удастся ли желанное? Но главное — каков будет муж, этот загадочный князь загадочной страны? Для женщины, пожалуй, отношения с мужем самые важные, никакие меха и золото не исправят разлад меж собой супругов. Больше, чем встречи с Москвой, София ждала встречи с Иваном Васильевичем.
Великая княгиня София Фоминична
София закрыла глаза, пытаясь сначала привыкнуть к звукам. Крики были как везде, где собралось много людей и кого-то приветствуют, но она не различала отдельных слов, потому все сливалось в сплошной гул, скорее пугающий, чем радостный. Открыла глаза и увидела всеобщее любопытство. Так бывало во всех городах, через которые проезжали, люди везде одинаковы, разве что одеты иначе и кричат на разных языках. Хотя кое-что София уже понимала: желали здравствовать. Помахала в ответ рукой, вызвав бурю возгласов, среди которых слышались «царевна» и «римлянка». Второе будет преследовать ее всю жизнь.
Обратного пути не было: вот они, стены и башни, въездные ворота и главный собор Москвы — Успенский. Стены обветшалые, башни тоже, собор деревянный и очень неказистый, остальное София разглядеть не успела, тем более площадь была запружена народом настолько, что и бояр с их домашними пришлось почти плетьми отгонять.
С собором и вовсе непонятно: стены стояли без крыши, а когда внутрь вошли, то оказалось, что эти стены сооружены вокруг крошечной церквушки. Что за странный обычай? Позже София узнала, что старый собор разобрали, а пока возводили новый, внутри построили маленькую церковь, которую позже разберут.
Митрополит Филипп ждал царевну в парадном облачении у входа в собор. Она подошла под благословение, митрополит осенил всех крестом, а внутрь пригласил пока только Софию. Церковь внутри выглядела просто крошечной по сравнению с огромными храмами Рима, но выбора у царевны не было. Странная эта Москва, где роскошь и нищета, простор и теснота, безлюдье и многолюдье рядом.
Оказалось, что митрополит намерен крестить царевну в греческую веру, считая, что та в римской. София покачала головой:
— Крещена уже. Софией названа.
Митрополит, видно, не понял ее слов, решил, что отказывается. София достала из-за пазухи крест и еще что-то. Филипп с удивлением смотрел на просвирку, полученную Софией от старца Евлампия. А старец уж сам спешил царевне на помощь:
— Я крестил в Юрьеве. По просьбе царевны крестил, Софией наречена, потому как спаслась во время бури благодаря молитве к Софии в день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. А иконку ту ей с благословением в Риме еще старец Амвросий вручил.
Митрополит поджал губы, София не понимала, что говорил старец Евлампий, но видела недовольство Филиппа.
Дольше митрополит слушать не стал, только махнул рукой:
— После доскажешь. Крещена так крещена. Пора к князю.
А потом все завертелось так, что София не успевала даже понять, что происходит.
По русскому обычаю полагалось жениху и невесте сначала обручиться, обменявшись кольцами и платками, потом невесте хотя бы несколько дней прожить у великой княгини, чтобы присмотреться, и только после того идти на венчание. Но все было сделано в один день.
Великая княгиня Мария Ярославна ждала невестку в своих покоях. Когда София сначала присела, приветствуя свекровь, а потом поясно поклонилась, княгиня шагнула ей навстречу и тепло обняла:
— Здравствуй, доченька. Благословляю тебя. Каково доехала?
София все поняла, закивала:
— Добре доехала, добре.
— Да тебя уже и русскому языку научили? — ахнула княгиня.
Царевна посмотрела на свекровь внимательней. Едва ли можно найти более непохожих женщин, чем ее мать Катарина Заккария и вот эта княгиня. Катарина рослая, смуглая, суховатая, с острым взглядом черных глаз. Мария Ярославна невысокая, полноватая, светлокожая, и от серых глаз в стороны лучики морщинок, такие бывают от улыбок. Но главное — мать всегда была недовольна Зоей, что бы та ни сделала, Катарина Заккария не любила никого, кроме Елены, а уж полноватую, неуклюжую Зою особенно. Княгиня Мария Ярославна сразу показала Софии, что уже сейчас считает ее своей доченькой.
Софии с трудом удалось сдержать слезы. Пожалуй, разревелась бы, но кто-то произнес: «Государь!» — и все повернулись к входу. Царевна едва успела повернуться тоже и оказалась прямо перед стремительно вошедшим в комнату мужчиной. Он был высок, перед глазами Софии пуговицы его кафтана. К тому же царевна стояла опустив голову, как полагалось.
Что-то сказала великая княгиня, потом чуть подтолкнула Софию. Та подняла голову и встретилась с темными глазами будущего мужа. Иван Васильевич был статен, красив и молод, немногим старше ее самой. Прямой нос, брови вразлет, усы и борода, прячущие красиво очерченные губы. Но главное — его знаменитый взгляд, от которого женщины даже теряли сознание…
София забыла, что вокруг люди, что она должна вести себя скромней, что не пристало так разглядывать жениха. Просто стояла и смотрела, тонула в его глазах, как в омуте. Мелькнула мысль, что если он вдруг сейчас откажется взять ее в жены, то жить незачем.
Иван тоже рассматривал невесту слишком откровенно. Невысокая, ему едва по плечо, полновата, кожа чистая, белая, без малейшего изъяна, полные губы, широкие брови, а глаза темные. Художник не солгал, ну разве самую малость изуродовал ее внешность. Не юная, но Ивану и не нужна молоденькая жена, он давно чувствовал себя взрослым мужем, сына вон женить пора.
Мария Ярославна тихонько хмыкнула:
— Поглазели — и будет. На венчание пора.
Дальше все как во сне. Ее куда-то вели, что-то говорили, переодевали в богатейшие одежды, снова вели в крошечный деревянный, построенный на время собор, венчали… София не понимала речи, двигалась, лишь когда подсказывали, отвечала по подсказке, крестилась по подсказке. Но слова «венчается раба божия София рабу божию Ивану…» поняла. Пока трижды обходили вокруг алтаря, в голове билась мысль, что не отказался, свершилось, она стала женой этого красивого князя, к которому безумно потянуло с первых мгновений встречи. София впервые в жизни влюбилась и сразу же стала законной женой человека, от взгляда темных глаз которого потеряла голову. А он еще и правитель загадочной страны, где меха бросают к ногам служанок…
Пыталась найти взглядом тех, с кем приехала, но видела великую княгиню Марию Ярославну, свою свекровь отныне, красивого юношу, так похожего на великого князя, — поняла, что это и есть пасынок Иван Молодой, еще троих богато одетых мужчин, похожих на князя, видно, его братьев… Нет, и ее люди тоже рядом, вон князь Константин, рядом посол от Андреаса и Мануила Дмитрий Раль, братья Траханиоты, старый учитель Христофор Стериади, даже дядьку царевичей грека Франдиси и ее няньку Евлампию в собор пропустили. Из-за спин выглядывал любопытный повар Афиноген.
На ступеньках крошечного храма их поздравляли, обсыпали зерном и еще чем-то, кричали приветствия… Но даже сквозь свое полуобморочное состояние София замечала, что куда больше во взглядах любопытства, а то и зависти. Оба этих чувства со стороны окружающих будут преследовать ее еще очень долго. Какова она, византийская царевна, воспитанная латинянами? Чем отличается от своих боярышень и боярынь? А еще зависть: ишь, великого князя отхватила, да и просто красивого мужчину.
Но она сосредоточилась на прикосновении сильных пальцев князя Ивана, сжавших ее руку. София понимала, что всю оставшуюся жизнь будет ведома его рукой, но и защищаема тоже. Много слышала уже о том, что великий князь не терпит ни возражений, ни особенно неподчинения. Но готова была покориться с восторгом.
Что и сделала.
Свадебный пир она не запомнила вообще, поинтересовалась только, как ее спутники. Посол Андреаса и Мануила Дмитрий Раль, у которого спросила, сказал, что хорошо, всех устроили, всех позвали и на венчание, и на пир. Великий князь пожелал узнать, о чем его молодая супруга беседует с византийцем, услышав ответ, довольно хмыкнул, позвал Дмитрия к себе на следующий день. София поняла, что мужу понравилась ее заботливость.
Великая княгиня Мария Ярославна сообщила ей, что и служанки тоже пристроены, а прислуживать ей будут свои, московские, они немного по-гречески говорят. София не стала задумываться о том, куда потом денутся Гликерия и старая нянька Евлампия, и старик Франдиси, который учил их с братьями еще в Морее, и остальные тоже. Взяла их с собой, поскольку в Риме никому не нужны, а служили верой и правдой столько лет. Мария Ярославна, видно, поняла ее заботу, успокаивающе похлопала по руке:
— Людей твоих всех пристроим, никого не обидим.
Что-то сказала сыну, тот внимательно посмотрел на жену, кивнул. Дмитрий Раль перевел слова князя:
— Великий князь говорит, что все из приехавших, кто пожелает остаться, не будут обижены. Своих людей можешь оставить в своей свите, чтобы с непривычки не скучать.
София улыбнулась мужу:
— Благодарствую, князь…
Бровь Ивана чуть насмешливо приподнялась:
— Ты никак говоришь по-русски, княгиня?
София поняла, замотала головой:
— Немного… Велыкый князь… Масква… добрэ…
— Научим. — Темные глаза Ивана Васильевича смотрели лукаво. И пряча улыбку в усах, добавил: — Всему научим.
Теперь в его взгляде кроме лукавства мелькнуло что-то такое, от чего София смущенно вспыхнула, а внутри у нее стало горячо. Но поймала ревнивый взгляд Ивана Молодого и поспешила свой отвести. Почувствовала, что непростыми будут отношения с этим юношей, ох непростыми, но решила, что сделает все, чтобы тот понял: не врагиня она никому в Москве.
Но закончился и пир.
Софию отвели в покои, для брачной ночи предназначенные. Служанки, действительно понимавшие греческий, принесли горячей воды, потом помогли облачиться в белоснежную тонкую рубашку на легких завязках, расплели косу и расчесали волосы, объяснили, что она должна по обычаю разуть своего мужа, что означало подчинение ему как мужчине. В остальном следовало просто его слушать.
Девушки ушли, оставив Софию подле высоченной постели ждать свою судьбу.
Долго ждать не пришлось, почти сразу в ложницу вошел и плотно прикрыл за собой дверь великий князь. София постаралась, чтобы распущенные волосы покрыли не только спину, но и грудь, ниспадая золотистой волной. Князь это заметил, довольно хмыкнул. Расстегивая кафтан, разглядывал. Потом сел в кресло. Помня о своей обязанности, София подошла, опустилась перед мужем на колени и взялась за левый сапог. Князь приподнял ногу, позволяя стянуть обувь. Второй снял сам, отбросил в сторону, поднялся.
Не понимая, угодила ли, София тоже встала. Иван сбросил и рубашку и остался в одних портах. Перед глазами царевны было сильное мужское тело, под атласной кожей при движении перекатывались мускулы. К этому телу так хотелось прикоснуться, кожу погладить, но она запретила себе даже думать о таком!
А вот Иван действовал решительней. Он откинул волосы жены на спину, взялся за завязки рубашки. Тонкая ткань легко скользнула вниз, обнажая тело царевны. София невольно сделала движение прикрыться рукой, но муж отвел ее руки, ладони легли на ее грудь, погладили, скользнули на тонкую, несмотря на полноту, талию, остановились на бедрах, снова вернулись к груди, слегка стиснув. Внутри у Софии бушевало невиданное доселе пламя, она с трудом сдерживалась, чтобы не ответить на ласки.
Князь прошептал:
— Хороша… — И позвал: — Иди ко мне.
Положив на высокую постель, свечи гасить не стал, ласкал ее до тех пор, пока сдерживаться уже не могла, застонала, привлекая его к себе и выгибаясь дугой. Только после того дал волю себе.
София не имела любовника, но наслышана о любовных страстях и ласках была весьма. А тут и без рассказов подруг смогла бы понять, что князь Иван великолепный любовник, думающий не только об удовлетворении своих желаний, но и о жене.
— Ты родишь мне много детей…
Поняла скорее сердцем, чем умом, согласилась:
— Да!
Когда проснулась утром, мужа рядом не было. В небольшое оконце светило солнышко, было тепло, и вставать совсем не хотелось, но София понимала, что делать это нужно. Сладко потянувшись, она решительно опустила ноги с постели. Пришлось буквально спрыгивать — по обычаю под перину было наложено много всякого, символизирующего будущее богатство и благоденствие.
Тут же в ложницу вошла прислуживающая девка, пожелала доброго утра. Софии помогли вымыться, заплели волосы в две косы, которые спрятали под головной убор, одели и обули богато, но уже иначе, чем была наряжена вчера. Молодая великая княгиня поняла, что на ней женский головной убор и одежда тоже. Она стала женщиной, женой, великой княгиней, правительницей Московии.
Конечно, хотелось поинтересоваться, где муж, но она уже знала, что лишних вопросов задавать не стоит. Ее место вот здесь — в покоях, куда супруг приходит по желанию, а ее главная задача — родить как можно больше здоровых детей, лучше сыновей. При этом наследником все равно будет старший сын, который так неприветливо смотрел на нее вчера.
Как часто князь ходит к своей супруге? При воспоминании о ночных ласках у Софии невольно полыхнули щеки, уж очень они были горячи и продолжительны. Она понимала, что с замиранием сердца будет ждать князя весь день. Этот мужчина за одну ночь навсегда покорил ее сердце, забрал его себе и подчинил ее волю.
София никогда не была заносчивой — судьба не позволяла, но пока ехала от Рима до Москвы, кое-что поняла. Поверила в то, что она важна сама по себе своим происхождением, родством с византийскими императорами, благородством крови, умом, воспитанностью, образованием. Для Московии важна византийским наследством, пусть сама Византия уже не существует, а еще тем, что многому может научить этих людей, живущих среди лесов и снегов.
Во всей Европе, а потом и на Руси ее принимали так, что к приезду в Москву София начала ценить сама себя. А потом были темные глаза Ивана, в которых она утонула еще до венчания, и его сильное тело, подчинившее себе всю ее с византийским прошлым, императорской кровью в жилах, со знанием философии, с умом и образованностью. И оказалось, что одно прикосновение чутких пальцев мужа способно заставить забыть о своем превосходстве над московитами. Женщина в Софии легко взяла верх над царевной и воспитанницей папского двора.
Нет, не стоило папе Сиксту и епископу Бонумбре рассчитывать на помощь царевны в склонении великого князя Ивана к унии — один поцелуй, и она была готова на все…
Сам великий князь в это время уже принимал приехавших с невестой папского легата Бонумбре и посланца братьев Софии Андреаса и Мануила Палеологов Дмитрия Раля, прозванного Греком. Оба пожелали передать подарки правителю Московии. И Бонумбре, и Дмитрий Грек были поражены неказистостью собора, в котором проходило венчание, и роскошью последующего пира.
Москва деревянная, кремлевские стены обветшали, а собор и вовсе больше похож на церквушку, в Новгороде они видели куда лучшие. Неужели великий князь нарочно устроил венчание в такой неприметной церкви, чтобы унизить свою жену?
Конечно, прямо задать все эти вопросы гости не могли, но своими расспросами еще вчера они навели дьяка Федора Курицына на мысль, что нужно бы объяснить. Великий князь согласился сделать это на приеме. Прием был торжественным, но очень душевным. Князь благодарил за дары и, главное, — за невесту, которой остался весьма доволен. Но никаких обещаний пока не давал. Легат решил, что нажимать рано, всему свое время.
Иван Васильевич без вопросов сам объяснил, что Москва не так давно горела, что из-за многих нападений обветшали крепостные стены, а про храм сказал, что Успенский собор, построенный еще прадедом, тоже перенес несколько пожаров, его решили построить заново, а потому не ремонтировали. Год назад развалили, только что заложили новый каменный, а пока для службы быстро возвели деревянный. Там и венчались, это княжеский собор.
— Все будет у Москвы: и соборы каменные, и стены крепкие, и дома тоже. Горит город часто, каждый год половина выгорает. Надо строить каменные дома, но все не до того было. Теперь, чаю, пришла пора.
Дмитрий Грек смотрел на молодого, сильного человека, уверенно сидящего на своем месте, твердо обещавшего великое будущее своей земле, и верил в то, что все это будет. Жесткий взгляд князя не обещал ничего хорошего тем, кто ослушается, но речи правитель Московии вел разумные, словно не три десятка лет прожил на свете, а все шесть. Подумалось, что мало какая из стран Европы может таким правителем похвастать, а у епископа Бонумбре ничего с унией не выйдет, поскольку князь сразу же дал понять, что за свою веру стоит стеной.
Это понял и сам папский легат, говорил мягко и даже не вкрадчиво, об унии не вспоминал, теологические споры вести отказался, заявив, что не для того приехал и книг с собой не взял.
— А для чего?
В темных глазах князя появилась насмешка.
— Невесту привез, коей вы остались довольны. Многие годы византийская царевна была окружена заботой его святейшества, заботой Римской церкви, а ныне будет окружена вашей.
Дмитрий Грек подумал о папской заботе, от которой Зое хотелось бежать куда угодно, хоть на край света, в Московию. А еще подумал о том, что уж очень мягок стал Бонумбре, видно, понял, что здесь не только крыж потерять можно, но и голову.
У него было опасение, что с Джаном Батистой так и случилось. Осторожно спросил, получил ответ:
— Иван Фрязин под стражей пока сидит. Есть грехи за ним, болтлив более, чем позволено, и на руку нечист. Разберусь, решу, выпустить или сильней наказать. — В глазах снова насмешливый огонь. — Обещал за меня в Риме то, о чем я и не мыслил!
Дмитрий решил за Вольпе не заступаться: кто знает, что тот имел право говорить, а что нет? Может, и правда только сватать был отправлен, а на Совете кардиналов такого наврал, что папа Сикст даже рукой махнул, мол, потом поговорим.
Но это оказались не все неприятности делла Вольпе, то есть Ивана Фрязина.
Прощаясь, великий князь напомнил о том, что в Москве и помимо Фрязина немало их соотечественников живет.
— Дьяк Курицын назовет вам всех, вдруг кого знаете.
Дьяк с готовностью перечислил имена, в том числе… Тревизано.
— Он уже из Орды вернулся? — обрадовался Дмитрий.
— Из какой Орды? Это венецианец, племянник Фрязина. Приехал и остался, нравится, значит.
Конечно, Дмитрий Грек поспешил встретиться с этим «племянником».
И пока София одевалась да собиралась, посланец ее братьев уже беседовал с венецианцем, который никаким племянником Вольпе не доводился, а был несколько лет назад отправлен от Венеции к хану Ахмату. Кроме богатых даров самому хану Тревизано вез и дары великому князю, которого Венеция просила сопроводить посла в Орду.
Тревизано, заикаясь, каялся:
— Джан Батиста так меня Ордой запугал, что я и поверил. А как князю подарки отдать, не сознаваясь, что ехать дальше должен? Вот и не стал совсем ничего говорить, остался здесь.
— А дары где?
— Джан Батиста себе взял. У меня ничего не осталось. Как теперь назад возвращаться? Ни вперед ни назад, живу у него из милости.
Дьяк Курицын, сопровождавший Дмитрия к Тревизано, покачал головой:
— Придется ли возвращаться?
— Но я и к хану не могу, не с чем. — В голосе посла-неудачника было столько тоски, что стало его даже жалко.
— Винись князю, — посоветовал Курицын. — Иного пути нет, все одно накажут.
Когда возвращались на княжий двор, Дмитрий осторожно поинтересовался у дьяка:
— Как накажут?
— Голову отрубят.
— Что?! За подарки?!
— Не в дарах дело, а в том, что князя обманул и перед Венецией выставил неблагодарным, мол, ему дары передали, а он в ответ спасибо не сказал.
— А… Вольпе?
В ответ Курицын только рукой махнул.
— И спасти нельзя? Не хочется с этого начинать-то, — настаивал Дмитрий Раль.
— Фрязина спасать не буду, лжи да обману от него столько, что всем надоел, а за венецианца можно попробовать попросить, — вздохнул дьяк. — И на что надеялся? Сколь веревочке не виться, а конец всегда найдется.
София не знала о неприятностях, постигших Вольпе и Тревизано, но если бы и знала, просить не стала. Джан Батиста надоел ей за дорогу, чувствовала, что нечист на руку, лжив и заслуживает наказания. А за Тревизано заступаться, не зная человека, тоже опасно, князь, похоже, на руку крут и на расправу скор.
Нет, пока она предпочитала быть послушной, к тому же мысли были заняты предстоящей ночью и гаданием: придет ли князь, будет ли столь же горяч и ненасытен?
Пришел и был еще более. Истосковавшийся по женскому телу, все же дворовые девки не жена, а Иван старался не грешить, он отдавал весь накопленный жар Софии, которая принимала. Царевна, так долго ждавшая мужской ласки, отдавалась с восторгом, была счастлива, по-настоящему счастлива.
Мария Ярославна, видя блестящие глаза невестки, даже вопросов не задавала, только приказала девкам не тревожить молодую великую княгиню, пока та сама не проснется.
София блаженствовала на перине подолгу, потом одевалась, вкусно кушала, садилась у огня и сидела, вспоминая мужнины ласки и предвкушая новые.
Только на третий день, когда Иван вдруг сказал, что приехавшие с ней люди пока останутся — Бонумбре и Дмитрий Раль до зимы, а остальные как пожелают, — она наконец вспомнила о жизни за пределами этой опочивальни.
— Кого пожелаешь, можешь в свою свиту взять и в услужение, а то и просто так жить оставить, — такое предложение из уст князя заставило Софию с благодарностью поцеловать его руку.
Иван изумился:
— Да могло ли быть иначе? Куда ж людям деваться, особливо тем, кто стар и немощен? Пусть живут, не станут обузой. А Дмитрий, посланец от твоих братьев, молодец, так за Тревизано просил, что я решил ему жизнь оставить. Но в застенке пусть посидит.
— Почему?
— Знать должен, что если к государеву делу приставлен, то исполнять надобно как следует, а не как захочется.
София поняла одно: ее муж крут и способен приказать отрубить голову за какой-то проступок. А еще что болтать надо осторожней. Князь не только понимал греческий, но и говорил на нем, вдруг и другие вокруг также? Позже Иван Васильевич объяснил жене, что правителю следует знать многие языки, но этого не выдавать, чтобы понимать послов без переводчика и примечать, соответствуют ли их слова выражению их лиц.
— Этому наблюдению с детства научен. Оно для правителя полезно. Да и для мужа тоже, ежели жена по-русски не говорит, — рассмеялся князь. — Иди ко мне, я с тобой без слов поговорю.
София с восторгом подчинилась приказу.
В Москве остались все приехавшие с Софией греки. Братьям Траханиотам нашлось дело, а Гликерия снова стала прислуживать хозяйке.
Повар Афиноген ловко пек блины и учился приготовлению русских блюд, дивясь большому количеству поедаемого московитами мяса и, особенно, рыбы. В Морее рыба была привычной, но там море, а вот в Риме уже меньше и тоже морская. Здесь же пресноводная — озерная и речная. Огромнейших осетров привозили с Волги в бочках, белуги, севрюги, сомов, налимов… чего только не было на кухне у этих московитов!
А печи какие? Открытого огня нет, все скорее томится, чем жарится и варится. От этого вкус необычный и без специй. Но и специй хватало любых… Афиноген поражался обилию самых разных блюд и способов их приготовления: вареное, тушеное, запеченное, заливное, верченое, пареное…
— Боже мой, почему Европа не ведает такой кухни?!
Но понимал, что в Риме такое невозможно, для парения и томления дрова нужны, которых в Вечном городе вечно же не хватает.
Он тоже с удовольствием ходил в баню и даже валялся после мытья в снегу!
Конечно, царевне о таком не рассказывал, зато с восторгом потчевал блинами:
— Царевна, это божественно! Ничего вкусней не ел.
Молодую великую княгиню удивило то, что свадебный пир одним днем и ограничился. София была наслышана про то, как любят и умеют пировать московиты, почему же на сей раз так скромно?
Объяснила Мария Ярославна, не из-за пира, просто сказала, что два месяца назад умер любимый брат Ивана Васильевича Георгий. Мол, этого князя ордынцы до смерти боялись. Иван Васильевич словно осиротел.
— Старший брат?
— Нет, младший, погодки они, но все одно, жил Юрий Ивановыми делами, без остатка ему отдавался. Остальные братья не так. Потому и не празднуем вашу свадьбу так широко, как надо бы.
— А его вдова?..
— Не был женат, деток не оставил, никого, кроме нас с Иваном, не осиротил.
Праздничные хлопоты быстро закончились, потянулись обычные дни. И вот тут София оказалась заперта в четырех стенах своих покоев.
Рожденная у теплого моря, она впервые переживала столь суровую зиму, хотя окружающие утверждали, что зима еще не начиналась. Эти слова приводили царевну в отчаяние. Все вокруг засыпало снегом, не пройти. Дорожки и дороги расчищали, но снег все валил и валил. В Москве ему радовались, София не понимала, как можно радоваться снегам и морозам.
Она очень боялась холода, кожа не просто краснела, но становилась сухой и шершавой. Обнаружив это в первый же день, как только попыталась выйти на крыльцо, София запаниковала. Она всегда гордилась изумительной молочной кожей, и лишиться нежной шелковистости было трагедией. Гликерия, которой София пожаловалась на непереносимость холода, раздобыла какое-то снадобье, шершавость прошла. Все утверждали, что нужно просто смазывать лицо и руки перед выходом на двор, но София решила не рисковать — пересидеть морозы в тереме.
Сначала она не понимала, на что себя обрекает, ведь морозы и снег надолго.
Кроме того, сидение в теремных покоях не столь простая вещь. Из-за холода окна и двери не откроешь, свет лишь от свечей, постоянно топятся печи, потому душно и полутьма.
София скучала, муж занят делами, все время либо в дальних разъездах, либо по Москве и округе мотался, в ложнице появлялся редко, словно пыл первой ночи прошел. Старая княгиня на латыни говорила плохо, а по-гречески так и вовсе не знала. Да и о чем с ней беседы вести, если все заботы о взрослых уже сыновьях, о внуках да о хозяйстве? Если бы молодую княгиню спросили, о чем же должна заботиться свекровь, ответить не смогла. Но дела и хлопоты Марии Ярославны ее не интересовали.
Женки боярские по теремам сидели, встречались только в церквях, разговаривали по-русски. Молодая княгиня понимала, что меж собой они в гости ходят, о чем-то болтают, но это было неинтересно, к тому же Софию коробило от неповоротливости и, как ей казалось, глупости окружающих женщин. На все у них какой присказ есть, скажут — всем понятно, а ей переведут, и получается скучно. Что интересного во фразе «на чужой каравай рот не разевай»? Или «волка ноги кормят»? «Не в свои сани не садись»? Зачем садиться в чужие сани? Такого много, это непонятно, а что непонятно — раздражает.
Сначала язык взялась учить с удовольствием, Настена всю дорогу до Новгорода произносила фразу на латыни, повторяла по-русски, и так по несколько раз. София начала главные слова понимать и запоминать. Но после Новгорода словно отрезало — язык трудный, одно и то же можно десятками слов назвать, приставленный учить дьяк скучен до невозможности… Нравиться перестало. Скучен день до вечера, коли делать нечего…
Ее часто навещали то приехавшие вместе из Рима женщины, то братья Траханиоты, то Дмитрий Раль, полюбившийся московскому государю настолько, что звал к себе на службу. Ежедневно заходил епископ Бонумбре, словно не подозревая о том, что княгиня ныне православная, вел с ней речи как с латинянкой, произносил проповеди, короткие, но яростные, жаловался на местных, ничего не понимающих попов.
Чувствуя себя между княгинь и боярынь словно глухой, молодая княгиня все больше замыкалась среди своих — звала жен братьев Траханиотов Елену и Анну, собирала посольских и новгородских женок, что с мужьями по делам в Москве жили и ее понимали. Устраивала посиделки, где говорили на латыни, там была возможность не только молча слушать, но и весело болтать самой.
Когда одна из новгородок собралась домой, София передала через нее письмо боярыне Марфе Борецкой с просьбой передать записочку Настене. Знать бы, к чему это приведет!
Конечно, она замечала, что вызывает недовольство окружающих, но, в конце концов, если они сиднем сидят по теремам, почему византийская царевна должна жить так же? Правил не нарушала, а что в ее покоях творится — не их дело!
Знала об участившихся встречах греков и латинян с молодой княгиней и Мария Ярославна. Вздыхала: скучно Софии, языка не знает, муж все в делах да заботах… Были бы детки, свои заботы одолевали, а так заняться нечем. Что они там в латинстве своем делают? Неужто и рукоделие им чуждо, и забота о хозяйстве? Конечно, Мария Ярославна сама ничего не мыла и не стирала, а вот штопать любила и вышивать тоже. А молодая княгиня за месяц иглу в руки не взяла. Заставлять негоже, все ж государыня.
Чем живет? К ней в вышнюю горницу придешь — сразу вскинется, как птица, книгу захлопнет, поздоровается и смотрит молча, словно ожидая ухода. Книга латинская, о чем она, Марья Ярославна понять не могла. По-русски молодая княгиня не говорила и почти не понимала, а через толмача душевные разговоры вести трудно. Потопчется у невестки свекровь, поспрошает о здоровье да известиях из Рима и уйдет. В первые дни казалось душевно, а после сошло на нет.
А еще не сложилось у Софии с митрополитом Филиппом. Тот с самого начала был против женитьбы великого князя на римлянке, пусть и византийской крови. Что из того, что рождена от Фомы Палеолога? Эти Палеологи давно в униатство перекинулись, за что и поплатились потерей всего. Византия погибла, к чему брать за себя наследницу погибшего Царьграда?
Митрополит относился к молодой великой княгине настороженно с первого дня, нахмурился, узнав, что уже крещена в греческой вере (не очень-то этому поверил, если бы не старец Евлампий), а уж легата папского с его красными перчатками и крыжом вовсе простить не мог. Не было в том Софииной вины, напротив, тогда еще будущая княгиня заставила Бонумбре крыж отдать, но недоверие не побороть. На Софиино счастье, дьяк Курицын не стал рассказывать митрополиту о встрече Софии с Марфой Борецкой в Новгороде. Достаточно того, что под благословение новгородского архиепископа Феофила подходила, который тоже в унию тянет.
Но все бы это постепенно забылось, не умудрись София сама дать повод к осуждению.
Приближалось Рождество — главный праздник для тех, кто в римской вере. И для православных тоже праздник, но второй по важности. Не зная об этом, царевна высказала митрополиту о главном празднике года. Тот помрачнел:
— Ты, княгиня, хоть и крещена ныне в православии, а кроме как креститься правильно, более ничего не знаешь и знать не хочешь. Это для латинян Рождество главней, для православных — Светлая Пасха, потому как Рождество — это рождение тела, а Пасха — Воскресение духа. Духовное важней телесного, худо, что вновь обращенная княгиня этого не знает! Я к тебе инокиню Ефросинью приставил, так ты и учиться не стала.
Митрополит выказал свое недовольство и Ивану Васильевичу. Князь нахмурился, он и без того не всегда ладил с митрополитом, пытаясь подмять того под себя, а уж по поводу жены-латинянки спорить совсем не хотелось. Попросил мать помочь Софии понять, что к чему, но та уезжала на богомолье, обещала заняться когда приедет.
Иван не настаивал, чтобы взяла невестку с собой, он знал, как истово молится великая княгиня Мария Ярославна, как не любит, когда отвлекают, даже любимую дочь Анну с собой не зовет, не то что иноземку, которую всему учить надо.
Было решено пока оставить Софию дома, а после возвращения Мария Ярославна невесткой займется.
Но София успела натворить дел, за которые не была наказана только потому, что никто не узнал…
Отведенные молодой великой княгине покои великолепны и богато обставлены. На полу опочивальни огромный шемаханский ковер, чтобы ножки не застудила, когда с постели встанет, на кровати множество перин, в которых тело просто тонет, в кованых сундуках привезенное ею богатство, о котором никто не спрашивал, большое венецианское зеркало в дорогой раме — тоже нарочно для царевны морем доставлено, стол покрыт тончайшей скатертью с золотой вышивкой, полог, что кровать защищает от нечаянного нескромного глаза, весь в золотом шитье…
Подсвечники многочисленных восковых свечей изящной ковки с позолотой, в окнах не слюда, а стекло, но прикрыты они тяжелыми, затканными сказочными птицами занавесями. Постель устлана простынями тончайшего полотна, все дерево резное… Киот в углу тоже богато украшен.
Всюду золото, серебро, самоцветы, бархат, шитье, все предусмотрено, никто случайно не подсмотрит за женой великого князя, никто не потревожит.
Все очень богато и очень для Софии скучно. Она, привыкшая делить небольшую комнату с беспокойной Лаурой, страдала в одиночестве. Иногда начинало казаться, что лучше сквозняки папского дворца, чем уютная опочивальня в Москве, что лучше не дающая поспать из-за больного зуба Лаура, чем услужливые девки, которые появляются и исчезают неслышно.
И только одно навсегда привязало сердце Софии к Москве и этой опочивальне — ожидание прихода великого князя Ивана Васильевича, ее супруга. София не желала признаваться самой себе, что по уши влюбилась в темные очи мужа, что готова на все, только бы его сильные руки снова подхватили и, обнаженную, положили на перины, чтобы потом ласкать почти до рассвета.
Но великий князь не сидел в Москве, уехала на богомолье свекровь, поспешил куда-то и он сам. Царевне оставалось скучать. Она пробовала читать, но и это быстро надоело.
София закрыла книгу. Эти стихи Петрарки она все уже знала наизусть. Княгиня Мария Ярославна не права, написано не на латыни, а на итальянском разговорном. При папском дворе официально этот язык не приветствовался, но все читали сонеты Петрарки, посвященные его Лауре. Иное дело «Покаянные псалмы», те на латыни и Церковью признаны, их позволялось не прятать от строгих глаз.
Но каяться вовсе не хотелось, София не знала за собой таких уж грехов. Потому и лежали открытыми в ее горнице две книги — одна на столе, с псалмами Петрарки на латыни, а другая на коленях, с его любовными сонетами на итальянском, который в Москве фряжским называли.
А еще в сундуке был спрятан «Декамерон», подаренный братцем Андреасом на свадьбу с самыми разными намеками. София знала многие из рассказов этого произведения Боккаччо, но ни читать книгу, ни даже вытаскивать ее из сундука не хотелось. Елена и Анна Траханиоты рассказывали о том, что и в Москве блуда немало, но он весь словно внутри дворов, скрыт от чужих глаз заборами, спрятан заговором молчания. Жены не против того, чтобы мужья себе девок дворовых на ложе брали, особенно когда сами в тяжести или не могут мужей ублажать. Одна забота — чтоб девки детей не рожали да здоровы были. Но поскольку все внутри одной семьи крутилось, то о втором можно не беспокоиться, а с первым научились справляться, хотя среди дворовых немало бегало детишек, подозрительно похожих на своих хозяев.
Для замужней женщины княжеского и боярского круга страх покрыть себя вечным позором из-за развода, если вдруг тайна откроется или, пуще того, дите родится, был столь велик, что об изменах мужу не думали. Девка еще по глупости да молодости могла согрешить, но замужняя женщина не рисковала, понимая, что лучшим выходом после того будет лишь монастырь, да и там от позора не отмоешься.
София быстро поняла, что никакие разговоры о любовных интригах с окружающими невозможны. Может, для них и существовала страсть не к своему, а к чужому мужу, но это либо была платоническая любовь на расстоянии, либо скрывалась так тщательно, что и ближайшая подруга редко знала о грехе.
Молодые боярышни бойко стреляли глазами из-под темных ресниц и улыбались как-то смущенно и зовущее одновременно, но София уже поняла, что это только видимость, редко какая перешагивала запретную черту, обычно все призывными взорами и заканчивалось. Даже боярышня не могла позволить себе оказаться «порченой» невестой, это означало бы поставить себя в зависимость от мужа (даже если простит и не отправит в монастырь) на всю жизнь. Окажись он у женки не первым, мужу будет чем попрекнуть ее при случае. Потому бушевавшие в молодых телах страстные желания оставались желаниями. Холопки в любви были вольней своих хозяек.
Будь у молодой княгини несколько иной характер, ей пришлось бы совсем плохо, почти монастырская строгость отношений могла довести до отчаяния, например, Лауру или любую другую из римских приятельниц Софии. Однажды подумалось: а как Андреас? Брат наверняка не ограничился бы девками-прислужницами, хотя и были те хороши собой, и на ласки господ падки, царевичу непременно понадобилась бы какая-нибудь бойкая боярышня и Андреаса не остановил страх перед разоблачением. Оставалось порадоваться, что брат далеко в Риме.
Сначала аскетическая скромность поведения окружающих женщин, да и мужчин Софии понравилась, это действительно пахло чистотой (думать о дворовых девках, ублажавших мужей вместо их жен, не хотелось), но потом стало скучно.
Однажды она приказала открыть сундук с римскими еще нарядами. В самом Риме было их немного, все же содержание у детей Фомы Палеолога не позволяло одеваться богато, но, когда уезжала в Москву, для путешествия по всей Европе сшили или переделали под нее немало платьев. Товар следовало показать лицом не только в Москве, но и во всех городах, которые проезжали. Дюжина богатых платьев у Софии имелась, только куда их здесь девать?
Все же приказала разложить по постели и лавкам, стояла, любуясь. Нарядилась в одно из них, в котором была на празднике в Нюрнберге, пурпурное платье с бархатной накидкой, отделанное горностаем. Пурпур издревле цвет правителей, потому София считала себя вправе носить его, еще не будучи московской правительницей, ведь в ней текла императорская кровь.
В Нюрнберге в ее честь устроили праздник с танцами и рыцарский турнир. Памятуя, что знатной даме, особенно невесте, не к лицу танцевать на виду у чужих, София (тогда еще Зоя) сослалась на нездоровье и сидела, с завистью глядя, как двигаются в танце ее придворные дамы. Как ей хотелось выйти в этот круг, поднять руки, звеня великолепными браслетами, особенно массивным золотым с огромным камнем — подарком будущего супруга!
А во время турнира не удержалась — подарила первому из победителей золотое кольцо, сняв его со своего пальца. В этом не было ничего необычного, рыцарь защищал ее цвет — пурпурный — и ни на что не претендовал, но первым возмутился епископ Бонумбре:
— Вы с ума сошли, царевна?! Дарить свое кольцо — значит обручиться, а вы уже обручены с правителем Московии. Я не удивлюсь, если послы немедленно уедут обратно, оставив вас посреди Нюрнберга глотать слезы.
София тогда ужаснулась сама себе: как же она могла не подумать, что только замужняя дама может дарить что-то победителю? Или не обрученная ни с кем девушка.
Попросила Настену позвать дьяка Мамырева, сбивчиво объясняла ему, что не хотела ничего дурного, что поняла ошибку и больше никому ничего дарить не станет. По тому, как коротко кивнул дьяк, она поняла, что московиты действительно недовольны и могли отказаться от невесты из-за неподобающего поведения.
Ей бы запомнить, что один неверный, глупый шаг может испортить судьбу, но продолжившееся путешествие, приветствия и подарки (например, нюрнбергские женщины вручили ей бочонок вина и двадцать коробок с самыми разными сладостями!), множество новых лиц и всеобщие уважение и восхищение затмили этот случай, урок из него София так и не извлекла.
И вот теперь она стояла в своем пурпурном наряде, никому не нужная во всей царственной красоте.
Но полюбоваться нашлось кому — к великой княгине пришли племянницы боярина Холмского Анна и Феодосия. Увидев алый бархат и множество украшений, ахнули, принялись рассматривать, расспрашивать. София поворачивалась к ним то одним, то другим боком, алея не столько от жары, сколько от удовольствия, объясняла, что носят в Риме. Проявленный интерес боярышень убедил ее, что не стоит скрывать в сундуках свои наряды, сначала можно надевать их вот так, для подруг, а потом и в свет выйти. Будет же тепло в этой Москве!
В следующий раз сестры привели с собой страшно смущавшуюся подружку — Прасковью Беклемишеву.
Снова рассматривали наряды, слушали объяснения великой княгини. Наконец, София предложила примерить на себя эту красоту. Первой на уговоры поддалась Прасковья. Ей очень шло золотистое платье, которое Лаура в Риме называла «нарядом для бочки». За подругой последовали и сестры. Теперь все трое отталкивали друг дружку, чтобы посмотреть в большое венецианское зеркало. Это было так необычно, особенно почти открытая грудь! Стыдливо прикрывая грудь руками, девушки недоверчиво ахали: в таком да на люди?!
Первая попытка представить себя римлянками закончилась простой примеркой. Но в следующий раз София принялась показывать разные фигуры в танце. Это было уж совсем необычно, но понравилось. Государыня учила своих подданных двигаться, поворачиваться, кланяться… Боярышни хихикали, но учились. Во-первых, это не на людях, во-вторых, учил не кто-то, а сама великая княгиня. С нее и первый спрос.
Девушки уже привыкли к полуобнаженной груди, необычным нарядам, непривычной вольности движений. Вместо степенности и скромности изящество и грация, вместо стеснительности разные ужимки.
Но танцевать без музыки неинтересно, и тогда на помощь пришел Розарио. Его лютня была при нем, а умение играть слуга пока не потерял. Девушки сначала страшно стеснялись чужого слугу, но когда к ним присоединились и приехавшие с Софией молодые римлянки и гречанки, веселье стало иным.
Теперь в самой большой комнате покоев великой княгини часто звучала итальянская музыка и слышался смех. А потом стало слышно и пение — София и Анна Траханиот решили научить своих новых подруг пению мадригалов. Те не понимали слов, но по ужимкам своих наставниц догадывались, что текст не слишком приличен.
Очарование добавляла и тайна, София решила пока не рассказывать о необычной учебе, а когда девушки перестанут дичиться и сумеют красиво исполнить песни и станцевать, пригласить гостей и продемонстрировать успехи.
Конечно, она понимала, сколь необычно такое выступление, но считала полезным научить придворных новым веяниям из Европы. В Италии женщины и девушки не сидят взаперти, они могут танцевать на приемах, открыто смеяться, играть на музыкальных инструментах, петь, носить одежду, подчеркивающую женскую привлекательность.
Почему бы ей, государыне, не внести эти новшества в московский быт? Она только начнет с танцев, а потом обучит своих дам итальянскому языку, они будут читать сонеты Петрарки, даже Боккаччо! Мужчины будут просто вынуждены присоединиться, вот и получится веселый двор с очаровательными беседами, музыкой, танцами, а не только пирами, где надутые разодетые мужчины много едят.
Идея облагородить московский двор таким способом очень понравилась римским подругам, они принялись разучивать положенные на музыку сонеты Петрарки, чтобы продемонстрировать свои таланты в ближайшее время.
От епископа Бонумбре подготовку тоже скрывали, София прекрасно понимала, что папский легат вовсе не одобрит ее начинание. Сам Бонумбре предпочитал проповедовать в Москве на площадях перед соборами, чем не раз навлекал на себя гнев священников и прихожан. Ему вслед плевали, а от благословения, как и от красной кардинальской мантии, шарахались, крестясь на свой лад. Бонумбре не унывал, Иисуса тоже не сразу поняли… Теперь он был совершенно уверен в своем предназначении — нести свет истинной веры заблудшим душам Московии.
Подготовка к будущему представлению была в разгаре, когда в Москву вернулась с богомолья великая княгиня Мария Ярославна. Конечно, ей нашептали о том, как ведет себя невестка. Когда открылась дверь и в комнату вошла мать великого князя, боярышни дружно ойкнули. Розарио прекратил играть, прикидывая, не пора ли удирать. Все поклонились старшей великой княгине, а та, не обращая внимания на невестку, подошла к Прасковье Беклемишевой, отвела руки, старательно прикрывавшие полуобнаженную грудь, и строго поинтересовалась:
— Ты никак в баню собралась? Тогда почему слуга здесь?
Обвела взглядом присевших с перепуга Анну, Феодосию и свиту Софии. Царевна решила, что пора вмешиваться:
— Мы готовим праздник, для чего разучиваем песни и танцы, как это делают в Риме.
Свекровь приподняла бровь (София поняла, от кого у Ивана Васильевича эта привычка):
— Здесь не Рим, а Москва. И здесь не будут ходить вот так! — Рука великой княгини рванула вырез платья на Феодосии, от чего ткань треснула. Боярышня, ойкнув, прикрылась руками.
Последовал приказ Розарио:
— Пошел вон!
Музыкант исчез, словно его и не было.
— Но… — София не знала, что скажет, но была возмущена. Сколько же Москва будет сидеть в этой дикости?!
— Всем по домам. Не переодеваясь, — с ехидцей добавила Мария Ярославна. Боярышни взмолились о пощаде, ведь появиться дома в этих нарядах значило опозориться навек. Одно дело рядом с государыней и в ее покоях, совсем иное — на улице и перед родней. — Ладно, наденьте свое. Вас еще порка ждет. А вас, — она повернулась к свите Софии, приехавшей из Рима, — чтоб больше в таком сраме не видела. Увижу — назавтра вместе с мужьями обратно отправитесь.
София снова попыталась напомнить:
— Им я разрешила. Я великая княгиня и…
Договорить не успела, Мария Ярославна сделала знак, чтобы все вышли вон, а Софии — чтобы следовала за ней в опочивальню. Там, плотно прикрыв дверь, буквально зашипела в лицо:
— Ты великая княгиня? Так не наряжайся как непотребная девка и боярышень так не наряжай! Здесь Москва, а не Рим! Здесь честь и свою, и мужнину блюдут. Покажись ты вот так на людях, навек князя позором покроешь. Завтра же, как князь приедет, всех вон выставлю. И тебя, ежели не поймешь, кто ты и как себя вести должна. Чтоб княгиня князя позорила — не бывать такому! Слуги уже по всей Москве болтают, что Римлянка со своими девками оргии в княжеских покоях устраивает. Ты этого добивалась? Так у Ивана Васильевича рука тяжеленька, не посмотрит, что ты цареградская царевна.
София не знала, что ответить. Вот тебе и подготовили праздник…
— Скучно тебе? Так дите роди, забот прибавится.
— Как?! — почти взмолилась София. — Великий князь ко мне не приходит, как можно родить?
Свекровь посмотрела чуть растерянно:
— Совсем не ходит?
Невестка вдруг разрыдалась:
— Совсем. Я хотела его порадовать, праздник устроить.
— Ты бы спросила сначала. Праздник она устроить хотела!.. От такого праздника только в монастырь уходить. И себя опозорила бы, и государя, и меня, старую, тоже. Какой дурак тебе негодный совет дал?
— Я сама. Хотела как в Риме… — София уже чуть пришла в себя, услышав нотки примирения в голосе Марии Ярославны.
— Здесь не Рим, — снова строго произнесла та. — У нас поговорка есть: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Ты в Москве и жена великого князя, ежели не хочешь, чтоб он тебя за непотребное поведение в монастырь услал, сначала думай, потом разные праздники готовь. А наряды все эти бесовские сожги сегодня же. Боярыни болтать не будут, слуги тоже — я прикажу. Но если князь узнает, не сносить тебе головы. Я с ним поговорю, чтоб мужнины обязанности выполнял.
София долго плакала той ночью, осознав, что никаких изменений в поведении придворных не будет, ни танцев, ни песен, ни пурпурных нарядов с открытой грудью. О последнем она жалела меньше всего, но вот перемен в скучной московской жизни все равно хотелось. Не только для себя — для всех княгинь и боярынь, боярышень и даже холопок.
— Ничего, я упрямая и терпеливая! — сжала кулачки София. — Не мытьем, так катаньем. Будет Москва другой, пока не знаю как, но я этого добьюсь.
Но еще обидней было понимание, что лишь по приказу своей матери мужчина, ради которого она сама была готова на все, будет приходить к ней в ложницу. Так же сильно, как в первое время желала объятий Ивана, теперь София их боялась. Боялась, что не сможет сдержаться, выдаст свое ожидание, свое нетерпение, свое желание. Почему-то это казалось унизительным, ведь муж довольно долго пренебрегал ею, выпрашивать любовь — хуже ничего быть не может.
Нет! Она гордая, обойдется. Пусть не приходит князь Иван Васильевич. Если начнет разговор о монастыре, она ответит, она так ответит, что и самому великому князю придется в обитель проситься. Где это видано, чтобы от жены дите ждали, а в ложницу ни ногой? Чем она плоха, что брезгует ею Иван Васильевич?
София знала, что имеет право на развод из-за поведения мужа, но также понимала, что требовать этого не станет никогда. Куда ей потом деваться? Только в монастырь, но туда можно и без скандала уйти.
Но ловила себя на том, что если бы сейчас предложили вдруг вернуть все на год назад и не приезжать в заснеженную Москву, не выходить замуж за великого князя Ивана Васильевича, то не согласилась.
Пусть было счастливых ночей у нее не так много, пусть не забеременела после этого, пусть вокруг дикость и замшелость, но за одну возможность хоть изредка встречаться с темными омутами Ивана и тонуть в них она была готова вытерпеть все, даже его равнодушие.
Нет, не терпеть, она все равно изменит окружающий мир, и Иван за это спасибо скажет!
Поговорить с сыном из-за его невыполнения супружеских обязанностей Мария Ярославна не успела: едва вернувшись в Москву, Иван Васильевич отправился в покои жены, но вовсе не для милования с ней.
По тому, как резко открылась дверь и сенные девки с мышиным писком бросились врассыпную, было понятно — идет князь, а по тому, как смотрел он сам, — что что-то случилось. Темные очи Ивана Васильевича метали его знаменитые молнии, которых не выдерживал никто.
Повинуясь приказу правителя «Все вон!», присутствующие исчезли, словно их и не было. София с тревогой смотрела на мужа, не решаясь спросить, чем тот разгневан. Неужели донесли о ее веселье? Иван сказал сам, вернее, сначала спросил:
— В Новгороде с боярыней Марфой Борецкой встречалась?
Княгиня изумилась: когда это было, да и что в том такого? Но ответила лишь кивком:
— Да.
— Из Москвы ей писала?
Ах, вот в чем дело — в письме в Новгород…
— Писала. — София выпрямилась, даже голову вскинула. Она не чувствовала за собой вины в том, что беседовала с боярами в Новгороде и в письме тоже. Что здесь дурного?
— О том, что Борецкие — главные враги Москвы в Новгороде, знаешь? — Глаза Ивана Васильевича уже не метали молнии, но прищурились, не суля ничего хорошего.
— Не враги они, просто унию хотят.
— От православия отложиться и к Литовскому князю Казимиру в услужение пойти! А Псков всем на разграбление сдать, чтоб не мешал. Ничего не знаешь и не понимаешь, так хоть не вмешивайся! Пригрел змею на груди, помощницу Борецких в собственном доме!
Иван Васильевич нависал над ней с высоты своего роста, но София, не чувствуя вины, смотрела прямо.
— Я никому против Москвы и тебя, князь, не помогала и помогать не буду. А что Борецкой писала, так чтобы передала от меня привет девушке, которая мне еще от Рима прислуживала.
Тон супруга стал ледяным:
— А того не ведаешь, что бояре в Новгороде письмом размахивают, мол, княгиня, которая здесь так милостива была, в Москве обижена и помощи просит? Не понимаешь, что каждый твой шаг, каждое слово против меня и Москвы использовать могут? Если не понимаешь — молчи и сиди в своей горнице. Хотя ты и без того носа из терема не суешь, по Москве уж болтают, что немощна великая княгиня.
Вот теперь и София разозлилась:
— Я должна думать не о том, что хочу сказать, а о том, как это кто-то истолкует?
Ей хотелось объяснить Ивану, что вовсе не желала ничего дурного, напротив, хотела бы примирить Новгород с Москвой, а наружу не выходит, поскольку не привычна к морозам… Но ничего этого сказать не успела, князь взревел:
— Должна! Ты не сенная девка, от болтовни которой немного убудет! Ты великая княгиня и царевна цареградская, о каждом своем слове и шаге думать должна и теперь, и впредь! А не можешь, так и впрямь скажись недужной и сиди в своих покоях.
Он шагнул к двери и уже оттуда приказал:
— Из терема ни ногой! Своих распутных баб приглашать не смей! Никому не писать и ни с кем не разговаривать! — Презрительно смерив жену с ног до головы, фыркнул: — Русский учи. Который месяц на Руси, а беседы на греческом ведем. Ты княгиня Всея Руси, а не римская шлюха!
Значит, все-таки донесли о танцах!
Дверь грохнула так, что открыли ее потом с трудом. И не сразу, перепуганные служанки долго прятались по углам.
У Софии в голове билась одна мысль: он больше не придет.
Немного погодя эта мысль сменилась другой: да кто он такой, этот «князь Всея Руси»?! Данник ордынского хана, княжество крошечное и нищее, того и гляди, одна Москва останется! Земля по полгода покрыта снегами, люди дикие, князья и бояре тоже! Латынь и греческий ему не нравятся… Ишь ты какой! Да на латыни вся Европа ученая говорит, а по-русски кто? Только вот эти дикари, что еще и лица воротят от византийской царевны и от всего римского.
Теперь София даже жалела, что не устроила праздник с танцами и песнями.
В Риме она гневаться просто не имела возможности, была приживалкой, которой сердиться не полагалось, а здесь стала великой княгиней и хозяйкой. Но первый же гнев выплеснулся страшными болями в висках и темени. Чем больше думала, тем сильней злилась и тем сильней становилась головная боль. Голову словно распирало изнутри.
София впервые столкнулась с особенностями своей головы, ее утолщенный череп давил на мозг, когда к тому приливала кровь, от этого появлялись страшные головные боли. Чем сильней гнев, тем больше приливало крови, тем больней становилось, боль вызывала новый гнев, и все повторялось по кругу. К счастью, за все следующие годы у нее не случилось разрыва сосуда в голове, не то умерла бы в мучениях. Но гнева великой княгини окружающие боялись до смерти, не умея справиться с ним и накатывающей болью, София становилась страшна и не жалела никого. Тараканы по щелям прятались, а уж о слугах и говорить нечего.
Один человек не боялся — ее муж Иван Васильевич, прозванный современниками Грозным и Великим. Великого князя жениной истерикой не проймешь, он и не такое видел.
Софию посадили под замок, позволяя выходить только в церковь, да и то под надзором. Гликерию убрали, девки вокруг княжьи и говорившие только по-русски. Из женской обители пришла монахиня, знающая греческий, принялась учить княгиню русскому. Инокиня Ефросинья строгая и неприветливая, но София поняла, что лучшей не будет. Нужно поскорей выучить основные слова, чтобы понимать и уметь говорить, тогда эту сухую колоду уберут.
И снова она клялась самой себе, что сумеет изменить этот мир на свой лад, все перетерпит, ей не привыкать терпеть и подчиняться, будет долго думать, но найдет способ встряхнуть это сонное боярское болото.
Много лет в Риме она училась и ждала, когда изменится ее судьба. Теперь тоже будет учиться, но ждать не станет, София уже поняла, что судьбу придется менять самой, только пока не знала как. Значит, следовало подумать. А это делать ей привычно, как и терпеть.
— Я еще приду к настоящей власти в этой сонной Москве! Будет по-моему, будет. — И неожиданно для себя добавила: — И Московия могучей станет.
Если бы она знала, как совпадают ее собственные устремления с желаниями и стремлениями Ивана Васильевича… Великий князь уже столько лет крепил свое княжество, утверждал право великого князя быть над остальными, объединял русские земли и подчинял новые. А уж о данничестве Орде и вовсе не помышлял, данником только числился, недаром ордынский наместник в Москве Мамат-хан на злость изошел, ведь великий князь войско свое крепил и собор новый решил строить, а дань уже много лет не давал, отговариваясь нехваткой денег.
Но об этом София не задумывалась: что ей старания мужа, если тот родился и вырос в русской глуши и новых веяний Рима не знал? Дикарь, что с него взять?
А вот упоминание о тяжелой руке Ивана Васильевича неприятно холодило душу. Неужели князь способен поднять на жену руку?
И без того не высовывавшая нос на мороз, София уже второй месяц сиднем сидела в своих покоях. Сундуки с книгами и римскими нарядами унесли, оставалось учить русский и вышивать. Сидя за пяльцами у покрытого морозными узорами окна или возле большого поставца с пятью восковыми свечами, от которых светло как днем, она делала стежок за стежком, повторяя при этом русские слова и фразы, которым учила еще Настена.
Где ты, Настена? Вот кого в собеседницы, та быстро научила бы всему…
В следующий раз в церкви, увидев дьяка Курицына, сделала знак, чтобы подошел. Попросила:
— Федор Васильевич, я в Новгород не самой Марфе Борецкой писала, а чтобы она весточку передала моей знакомой. Мне еще в Риме прислуживала русская Настена, она в Новгороде осталась. Хорошо прислуживала, многому научила, многое объяснила. Настена не униатка и не бунтарка. О ней у Василия Саввича узнать можно, ему до меня служила.
Курицын кивнул, не понимая, к чему княгиня все это говорит. А та продолжила:
— Настена в Новгороде должна была замуж выйти, потому и ушла от меня. Ее бы ко мне… Разумна, ловка, пользы много было бы. А муж у нее должен быть кузнец, тоже применение найдется. Я великого князя просить не могу, не верит. Узнали бы вы?
Дьяк снова кивнул:
— Поспрашиваю. Да только ежели замужем она, то не до прислуги будет, детки небось. Но узнаю.
Когда через несколько дней сенная девка вдруг сообщила, что княгиню требует к себе князь, София решила, что из-за этой просьбы. Но тут уж она за собой вины совсем не чувствовала. Просить самого князя не могла, тот в ее покоях давно не появлялся, потому и обратилась к дьяку Курицыну, всем известно, что это правая рука Ивана Васильевича.
Девка сказала, что наряжаться не надо, князь приказал прийти как есть.
Накинула шубку и большой плат, вышла на крыльцо. За ночь снега насыпало, дорожки протоптали и расчистили, но сугробы вокруг по пояс. Легкий морозец, яркое солнце, синее, словно чисто вымытое, небо с несколькими белыми кудряшками облаков… София вдохнула полной грудью и замерла от восторга. Хорошо-то как! Немного постояла и побежала в палаты, куда звал Иван Васильевич.
От солнышка, от чистого воздуха стало легко и весело, она не боялась гнева великого князя, поскольку вины за собой не ведала.
Иван Васильевич с изумлением окинул взглядом жену. Софии очень шел княжеский наряд, темные глаза под бровями вразлет и пушистыми ресницами весело блестели, на щеках от мороза легкий румянец, пухлые губы алы… Кажется, она ничуть не расстроена своим затворничеством.
Князь с трудом справился с желанием увлечь жену совсем в другие покои, только посмотрел зовуще, но тут же жестом пригласил к разложенным на лавкам богатствам:
— Легат папский Бонумбре и посол твоих братьев Дмитрий Грек завтра в Рим возвращаются. Дмитрия с удовольствием при себе оставил бы, но он сам вернуться хочет, семья там. А вот легата, не взыщи, взашей гоню. С нашим умником Иваном Поповым спорить отказался, мол, книг у него нет, словно без книг сам истины не ведает, а по церквам да площадям пошел проповедовать свою веру. К чему это? Раз предупредили, другой, а потом крыж снова отняли и пообещали самого побить. Все одно не понял, что я хоть и с почетом принимаю, но московитов будоражить не дам!
София слушала молча. Что она могла сказать? Бонумбре не спрашивал у нее разрешения и даже согласия на проповеди, они давно не виделись.
Но Иван Васильевич, видно, не ждал возражений, он показал на богатые дары:
— Выбери, что от твоего имени отправить папе Сиксту и твоим братьям.
— А что можно?
— Да хоть все! — усмехнулся князь.
Ах так?
— Тогда пусть все и отправят.
Снова хмыкнул Иван Васильевич — эта женщина его стоила.
— Добре, разбери, что для братьев будет. Дьяк Мамырев все запишет и отправит.
Сказал и ушел, словно остальное его не интересовало. Зато появился Мамырев. София обрадовалась старому знакомому:
— Василий Саввич!
Раскланялись, Мамырев тоже был рад встрече. Распределили дорогие дары пополам: одну половину его святейшеству, вторую — братьям на двоих. Все равно София усомнилась:
— А не много ли? Государь предложил хоть все, а я все и взяла.
— Раз согласился, значит, так и быть. Казна московская не обеднеет.
София спросила о Настене, сказала, что беседовала о ней с Курицыным, мол, вот кто хорошо мог бы обучить ее русскому. Василий Саввич нахмурился:
— Недужна Настена. Побил ее любимый муж, да так, кто едва ли выживет. А девку я тебе другую найду такую же — толковую и добрую. Завтра же пришлю Олену.
В тот же день София прощалась с Дмитрием Ралем и епископом Бонумбре. Просила передать, что у нее все хорошо, что счастлива, страдает только от холода, потому сидит взаперти в своем тереме, там тепло…
София очень ждала мужа вечером, надеясь, что его зовущий взгляд не был зряшным. Но Иван Васильевич не пришел. Над Москвой князь волен, над людьми своими, коих много, тоже волен, а вот над собой нет. И Москва, и люди, и ближние рубежи, и дальние забот требуют столько, что для себя и своей княгини времени не остается.
София обиделась…
Обиду не развеяла даже присланная дьяком Курицыным Олена. Она была и впрямь похожа на Настену: синие омуты, очень толстая коса, ловкость и приветливость. А еще толковость, обучение русскому языку пошло куда быстрей.
София допустила ошибку, она отказалась от Ефросиньи, присланной митрополитом, надменно объявив, что простая холопка и то толковей его инокини. Не стоило бы так с митрополитом Филиппом, но София не задумалась о последствиях. О том, что государыня не уважает митрополита, знала уже вся Москва. Иван Васильевич злился: одно дело, когда он спорил с митрополитом по делу, но совсем иное вот такая глупость со стороны княгини, которую народ и без того не государыней зовет, а Римлянкой, подчеркивая ее отстраненность.
Князя брала досада на заносчивое поведение жены, неужели не понимает, что делает зло и себе, и ему? Не желая выговаривать, он предпочитал находить повод не бывать у нее в покоях.
Митрополит же заболел, предчувствуя беду, он просил отпустить в обитель, но у Ивана Васильевича пока не было достойной замены митрополиту Филиппу, как ни спорил с ним, но договариваться удавалось, каков будет следующий? Московскому князю откровенно хотелось взамен ростовского епископа Вассиана, но остальные желали коломенского Геронтия, с которым у Ивана Васильевича взаимная неприязнь. Бывает такое, когда два достойных и сильных человека почему-то друг друга не любят.
Вот и тянул Иван Васильевич сколько мог. Дотянул до того, что Филиппа обездвижило. Лежал колода колодой — правая сторона не подчинялась, лицо перекосило.
И тут София допустила очередную ошибку, она не стала навещать больного митрополита, хотя и не была ему нужна.
А вот великая княгиня Мария Ярославна стала, почти каждый день бывала, подолгу подле постели сидела, прошлое вспоминая и успокаивая. Отогревалось митрополичье сердце от этих бесед, хотя сам говорить не мог.
И великий князь тоже приходил не раз.
Митрополит умер в начале апреля. Вся Москва хоронила, не было только… великой княгини. О Софии попросту забыли, а она сама не напомнила, вот и сидела в тереме, несмотря на теплую уже погоду. Чужая…
Вскоре в Москву приехала частая и желанная гостья — младшая из дочерей княгини Марии Ярославны Анна Васильевна, жена рязанского князя, любимая сестра Ивана Васильевича, хоть и на десяток лет его младше.
Анна Васильевна была хороша собой и очень похожа на старшего брата. Рослая, сильная, с достоинством несущая свою красоту, она всем взяла — была не просто разумна, а толкова, как не всякая женщина.
— Ну, братец, хвастай своей женкой-византийкой.
Иван чуть нахмурился:
— Нечем хвастать. Римлянка она и есть Римлянка! Что есть женка, что нет ее — все едино.
Он с досадой шваркнул кубок на стол, словно тот был виной его семейных бед.
Княгиня перекрестилась, прошептала молитву, потом крепкая ручка легла на рукав княжеского кафтана:
— Полно тебе, так Богу угодно было. Не ропщи, сын у тебя вона какой вымахал, я уж на что не мала ростом, а Ванюше твоему по плечо! Моим мальчишкам его не догнать.
Иван Васильевич усмехнулся:
— Ты только его Ванюшей не кличь, великий князь все же. Он у нас Иван Молодой.
— Чтоб соперничества не было, соправителем назвал?
— Все-то ты, сестричка, понимаешь. Где бы мне такую умницу взять в жены?
— У тебя же есть?! — ужаснулась Анна.
— Есть…
Анна заглянула в глаза брату:
— Рассказывай, что не так. Может, по-бабьи подскажу что?
Никогда Иван никому не жаловался, все брал на себя и все решал сам.
С детства был приучен советоваться, но советы лишь выслушивал, на то они и советы. А уж чтобы попечалиться кому — такого не бывало, а тут вдруг рассказал. Матери ни за что не смог бы, а сестре Анне мог.
Перед ним сидела мудрая женщина двадцати трех лет, у которой в жизни все хорошо: любимый муж, трое сыновей, свое княжество Рязанское, которое она успешно расширяла, уважение подданных… И любимый брат — великий князь Московский, сильный, умный правитель — открывал ей свои семейные тайны.
Говорил о том, что не ждал любви в этом браке, ведь женился по расчету, не на деньгах, но на крови, на имени. Когда соглашался сватать, рассказывали о византийской царевне как о скромной сиротке, которая из милости живет у богатого папы римского. Казалось, приедет настрадавшаяся девушка, сердцем в Москве отогреется, будет помощницей Марии Ярославне, но явилась заносчивая латинянка, пусть и крестившаяся заново. В Новгороде сразу же с Борецкими связалась, сначала подумал, что от незнания, но она и в Москве продолжила вмешиваться не в свои дела. Что ни день, то куда-то нос сунет — то ей не так, это не этак.
Привезла с собой толпу распутных языкастых баб, вызывающих одни нарекания, стала свои порядки заводить, не спрашивая о тутошних. Не знает, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят? Так ведь подсказывали — не слушает же!
— С митрополитом и без того каждый день сталкиваюсь, так еще жена помогала. Для своего приданого отдельное место вытребовала, словно для того привезла, чтобы обратно увезти.
— А ты и не против? — прищурила глаза Анна.
— Чтобы увезла? Не против, сам бы столько же дал, чтобы только избавила от своих глупостей. Не до нее, Аннушка. Сама ведаешь, сколько дел и забот у князя, особенно такого, как я, у которого кроме ордынцев, Казимира и новгородцев еще и собственные братья норовят если не нож в спину всадить, так подножку подставить, чтобы на лестнице свалился и шею свернул. Ты нашу семью знаешь, кабы не мать, давно в горло друг другу вцепились. А тут еще жена вместо помощи и приветливости вечно чем-то недовольна. Латинянка она и есть латинянка.
Анна поморщилась:
— Слышу только обвинения, братец. А хорошего что о ней сказать можешь?
— Есть и хорошее. Умна, грамотна, толкова во многих делах и суждениях. Решительна, за словом в карман не лезет.
Иван встал и стоял у небольшого окна, хотя ничего не было видно — темно на улице.
— Не ждал, что мачеха Ивану матерью станет, взрослый он уже, не нужны ему бабьи ласки, а до девичьих тоже пока не охоч. Но она и с пасынком не мирится, смотрят друг на дружку волками. Чего не хватает? Злата, серебра, мехов, шелков, слуг, каменьев драгоценных — всего же вдоволь.
— А ласки твоей?
— Что? — изумился брат.
Анна подошла, встала рядом:
— Знаешь, братец, женщине иногда мужниной ласки не хватает.
Иван дернул плечом:
— Я в тереме не сижу, не до того. А в опочивальне у нее бываю, как мужу положено.
— А когда приезжаешь, к кому первому идешь — к матери? К сыну?
— А к кому же?
— Ты от жены душевной близости ждешь, а откуда ей взяться, если ты за все время нашего разговора женку по имени не назвал? Как зовут-то хоть, помнишь?
Теперь князь замер, вдруг сообразив, что и впрямь никак не называет Софию. Анна поняла замешательство брата, продолжила давить на него:
— Вот то-то и оно! Сам как к чужой относишься, а ждешь, что любить будет.
— Она и есть чужая! И любовь мне ее не нужна, не мешала бы, — взъярился великий князь. — В Новгороде едва в ворота вступила, к Марфе Борецкой побежала, никого из моих людей с собой не взяв. Легата папского Бонумбре этого пока не выставил взашей, при себе держала. К чему ей латинский пастырь, ежели в греческую веру перешла? Братьев Траханиотов все науськивала, чтоб на унию меня уговаривали. С митрополитом в спор ввязалась. Какое уж тут доверие, ежели новообращенная княгиня с митрополитом о вере спорит? Никакого уважения ни к кому нет! Княгиню Марию Ярославну только и слушает, так ведь та все ее уговаривает, слова поперек не скажет. Предупреждал меня дьяк Курицын, что змея едет, надо было еще из Новгорода ее обратно вернуть, когда с врагами моими, еще женой не став, тайные беседы вела. А я решил, что дальше терема не пущу, потому мешать не будет. Но змея и есть змея — ее хоть как запирай, все одно в щель вылезет.
Анна покачала головой:
— Вижу, наболело у тебя на душе. Мать-то что говорит?
— Я с ней о том бесед не веду, не хочу волновать. Ни с кем не веду, только с тобой вот откровенно так. Устал кроме врагов Московии еще и со своими семейными воевать. А женка-змея под боком и того тошней.
Но что-то в этой обиде-досаде брата не давало Анне Васильевне покоя, что-то было не так. Решилась задать осторожный вопрос:
— А на ложе как?
И впервые увидела у Ивана легкое смущение, дернул плечом, но признался:
— Хороша. Горяча, отзывчива.
Взгляд князя невольно потеплел, а сердце сестры возрадовалось. Вот оно! Значит, тянет Ивана к жене-то, тянет. Этим и надо воспользоваться. Пусть деток нарожают, а там жизнь сама примирит. Но говорить об этом не стала, в таких делах торопливость ни к чему.
— Знаешь, я ныне ничего отвечать и советовать тебе не буду. Если позволишь, с женой твоей поговорю, но не о том, что услышала, просто попробую понять, что так, а что не так. Не может умная, толковая женщина так неразумно себя с мужем вести. Или она чего-то не понимает, или ты не видишь. Я ей твои жалобы передавать не стану, но сама поговорю.
Иван только коротко кивнул, соглашаясь, и перевел разговор на племянников. Княгиня Рязанская улыбнулась:
— Есть чем хвастать…
Это был куда более приятный разговор, чем о его неладах с женой. О княгине, которая сидела в одиночестве, обливаясь слезами, больше не вспоминали.
София действительно плакала в одиночестве и темноте. Она не желала, чтобы кто-то видел эти слезы отчаяния, а потому не жаловалась и прогоняла всех, даже ближних служанок. И старую няньку гнала, и верную Гликерию тоже. Сворачивалась клубочком на перине и тихо плакала.
Плакать так, чтобы назавтра не было видно следов, не распухал нос и не краснели глаза, София научилась еще в детстве. Любимой дочерью у Екатерины Заккария была старшая Елена. Красавицу царевну выдали замуж за наследника сербского престола рано, она уехала и увезла с собой материнскую любовь. Елена была высокой, стройной, черноглазой и рыжеволосой — такой, какой была и сама Екатерина, дочь последнего Ахейского князя Заккария.
Елена в письмах утверждала, что в браке счастлива, муж ее любит и уважает. Так ли это, никто не знал. Екатерина Заккария счастлива не была, Фома Палеолог вынудил ее отца, последнего князя Ахейского, отдать за себя дочь, чтобы получить право на Морею — полуостров Пелопоннес. Но Морею пришлось поделить с братом, а почти насильно взятая жена Фому ненавидела.
Ненависть Екатерины Заккария к мужу отразилась и на детях. Мануил оказался замкнутым, Андреас, наоборот, не знал удержу ни в чем дурном, рано пристрастился к вину и женщинам. София, тогда звавшаяся Зоей, мать не радовала, она была больше похожа на отца — крепкая, полноватая, совсем не изящная. А что умом Господь не обделил, так ведь для женщины не всякий ум хорош, у Зои он был скорее мужским, хотя хитрости не занимать. Но только хитрости, ни кокетничать, ни увлекать мужчин младшая дочь Палеологов не умела.
Мать жестко выговаривала дочери за любую провинность или неудачу. Они уже жили на Корфу, вокруг благодать, как в раю — лазурное море, зелень и над всем голубое небо, но в душе у девочки часто бывал мрак, вот и плакала тихонько. Нянька научила не тереть глаза и не всхлипывать, мол, пусть слезы сами текут, тогда и следов не останется. София запомнила…
Потом были годы жизни в Риме, когда плакать хотелось не раз, но София запретила себе даже думать об этом! И в Москве сначала не плакала, как бы ни было тяжело, а вот теперь, словно прорвало — уже которую ночь подушка мокрая…
Чужое все вокруг, совсем чужое. Даже больше, чем в Риме было, когда с Корфу приехали.
Тем неожиданней был приход золовки. Анна Васильевна оглядела опочивальню невестки, поморщилась: богато (князь расстарался с подарками), но душно.
— Ты недужна ли?
— Нет.
— Тогда на волю пора, нечего в темнице сидеть. Собирайся, покатаемся.
— Мне запрещено выходить. — Софие очень не хотелось признаваться, что всякий раз, кроме похода к службе в церковь, у мужа разрешения спрашивает.
Анна мысленно ахнула из-за глупости брата, но ответила весело:
— Кем, великим князем? А мы и его с собой возьмем, чтоб не сердился.
Пока Софию переодевали, искоса ее разглядывала, дивясь пригожести и тела, и кожи, и волос. Да уж, лебедушку из Рима привезли, с этакой и впрямь в постели утомишься.
Лукаво посоветовала:
— Знаешь, чем моего братца брать надо? Он сердитый, а ты с лаской, мол, Иван Васильевич, любый мой, только тебя ждала, а ты все не шел!
София не все поняла, но осознала, что эта веселая женщина с темными, лукавыми глазами, так похожими на глаза князя, может ей помочь. Рязанская княгиня совсем не боится сурового московского правителя и умеет управлять им, как малым дитем.
Совет Анны Васильевны очень пригодился Софие, особенно через десяток лет, когда оказалась она в страшной опале, и позже тоже. Много раз смирением и лаской возвращала царевна себе потерянную приязнь мужа.
Анна Васильевна не только заставила снять опалу с княгини, но и откровенно с ней поговорила.
— Муж голова, а жена шея. Знаешь, когда шея выше головы? Когда голова отрублена, только тогда и шея ни к чему. А когда шея сильней головы? Когда голова крепкая на крепкой шее, только вот поворачивается туда, куда шея велит. Поняла ли? Не поняла, так подумай на досуге. Братец мой ой какая крепкая голова, такую не каждая шея выдержит и не всякая сумеет повернуть в нужную сторону. Сумей — станешь государыней. Только не противься, помни, что голова все равно важней.
София поняла главное: чтобы стать великой княгиней и государыней, нужно сначала стать просто женой Ивана. Чтоб безо всяких престолов, знатности родов или римского воспитания, чтоб забыть о своем величии в жарких объятиях, чтобы детки рождались от этого жара. Просто мужчина и женщина, которых очень тянуло друг к другу.
Но кроме этой опочивальни были еще Москва, Московское княжество, на которое зарились многие, недоверие братьев к великому князю и его ответное к братьям, свекровь, больше любившая не Ивана, а Андрея Большого, и, главное, Иван Молодой — первый сын князя, безумно ревновавший отца к мачехе и не упускавший случая по-юношески уколоть ее чем-то.
И во всем этом Софие следовало как можно скорей разобраться, чтобы не наделать ошибок, не заронить сомнения и не вызвать в ком-то ненависть.
Это было очень трудно, но ради близости с Иваном она готова стать послушной, советоваться со всеми и подчиняться московским правилам пока без надежды что-то изменить. Пусть так, главное — сохранить любовь мужа к себе и родить много сильных детей. Дети — самое сильное связующее звено в любом браке.
Но, несмотря на горячие объятия в ночи, забеременеть не удавалось…
София с отчаяньем чувствовала, что муж отдаляется, у него свои заботы, заслоняющие тягу в ее опочивальню. А той самой связи все не было. Неужели она бесплодна?! Старая нянька твердила, что нет, но можно ли быть уверенной?
Фиораванти
Иван Васильевич чувствовал себя виновным в смерти митрополита Филиппа, пусть не прямо, но виновным.
Еще в начале апреля в воскресенье в ночь вдруг полыхнуло в Кремле у церкви Рождества Богородицы, давней, построенной еще женой Дмитрия Донского княгиней Евдокией. Но разве огонь спрашивает, кто и когда строил? Нет, он пожирает все, что может гореть, не разбирая, церкви то, хоромы или избы в посаде.
София навсегда запомнила этот ужас гудящего пламени, людских криков и паники. Большинство пожаров начинаются ночью, оттого они еще страшней.
В Кремле горело сильно — и боярские хоромы, и церкви, и амбары, занялись даже митрополичьи палаты. Князь никогда не оставался в стороне, если Москва горела, он не щадил ни себя, ни своих людей. Толково распоряжался, сам брал багор, чтобы рядом с дружинниками и дворовыми растаскивать загоревшееся строение. Иного выхода не было — воды из Москвы-реки, чтобы потушить большой пожар, не натаскаешь. Конечно, лили и воду, но главным было — не пустить огонь дальше. Ради этого и раскидывали по бревнышку то, что огонь успел зацепить.
На сей раз княжеский дворец спасти успели, а вот житные дворы его и всей Москвы выгорели дотла, сгорел двор князя Бориса Васильевича, пострадали верхи крепостных башен, но самое страшное — огонь начисто спалил митрополичий двор! Митрополит Филипп остался бездомным, в его покоях сгорело много святынь!
Самого митрополита, когда занялось, увезли из Москвы, как и княгинь, и домочадцев государя. Филипп вернулся на пепелище только утром, увидел погибель всего дорогого сердцу, не выдержал и долго лежал ничком в Успенском соборе. Не злато и серебро жалел, а святыни, узрев в пожаре гнев Божий.
Напрасно успокаивал великий князь, обещая и палаты каменные взамен сгоревших деревянных отстроить, и всего, что пропало, из своих запасов дать, и многим другим помочь, что понадобится, например на иконописцев денег дать… И без того больной митрополит вовсе слег, просил у князя об одном: отпустить его в монастырь, чтобы успеть причаститься и собороваться. Но Иван Васильевич испугался, что не успеют довезти в Троице-Сергиеву обитель, приказал доставить на подворье Троице-Сергиева монастыря в Кремле, где тот и скончался.
Наверное, князь жалел, что не отпустил митрополита из Москвы в обитель раньше, был бы Филипп жив. Но сделанного не воротишь. А по Москве расползся слух, что митрополит о том жалел перед смертью, что не воспротивился женитьбе государя на Римлянке. Это она навлекла беду на Москву, она виновата. Словно Москва до Софии не горела, словно ее присутствие высекло искру, от которой занялась церковь Рождества Богородицы.
Иван Васильевич не слушал эти глупости, но осадок все равно остался.
Особенно когда выяснилось, что митрополит долгие годы носил на теле под рясой вериги — тяжелые цепи, о чем никто не догадывался! Обнаружили только когда стали готовить тело к погребению. Это известие потрясло Москву, государь приказал повесить вериги над гробницей умершего митрополита, к ним тут же стали стекаться верующие, чтобы поклониться такому необычному святителю.
Любое упоминание о его недовольстве женитьбой великого князя и о Римлянке вызывало волну недовольства Софией, даже если та не давала никакого повода. Анна Васильевна подсказала, как вести себя с мужем, чтобы завоевать его расположение, но ей и в голову не пришло, что Софии нужно помочь завоевать расположение верующих в самой Москве. Не нашлось рядом умного человека, который посоветовал бы почтить память митрополита не дома перед своим киотом, не в дворовой церкви, куда хоть десять раз в день незаметно ходи через длинные сени (потому она звалась «на Сенях»), а прилюдно в Успенском соборе. Софии пасть бы ничком перед могилой митрополита, оплакать его смерть искренне, несмотря на его нелюбовь, повиниться, что была неучтива, не желала ума набираться с его помощью, попросить у святителя духовной помощи даже теперь, а она продолжала сомневаться в словах Филиппа, не простила ему несогласия с женитьбой Ивана Васильевича.
Была ли вина митрополита в том, что не сумел помочь Софии? Наверное, ведь в противостоянии всегда две стороны. Но и сама София шагу навстречу не сделала.
Не сделала она и полшажка навстречу другому своему противнику — младшему великому князю Ивану Молодому. С пасынком не сложилось с первого взгляда. Еще во время венчания в Успенском соборе Иван Молодой смотрел ревниво и недружелюбно, да и как радоваться появлению рядом с отцом Римлянки, которая могла завоевать любовь великого князя и лишить таковой его сына? Дети, даже повзрослевшие, всегда ревнуют своих отцов к мачехам.
На словах Иван Васильевич назвал сына соправителем рано, всем твердил, что Иван Молодой наследник и престола, и дел его. Все привыкли, даже братья великого князя, дядья Ивана Молодого: два Андрея Васильевича, Большой и Младший, и Борис Васильевич. Обижены были на старшего брата-государя, но волю его признавали, тоже звали племянника будущим правителем Московии. Но слова словами, и даже дела у Ивана Молодого были, заменял он отца, когда тот из Москвы уезжал, а вот грамотой своей Иван Васильевич сына пока соправителем не назвал. Почему?
Великий князь считал, что ни к чему это, а Ивану Молодому недруги Софиины с первого дня в уши нашептывать стали, мол, это все она, Римлянка, виной, она, змеюка подколодная, великого князя околдовала и как только сына родит, так и назовет ее щенка государь соправителем.
Но Софиины недруги зря волновались — не только сына, и дочери-то у великой княгини все не было. Беда бедой, другие в ее возрасте дочерей-невест имеют, когда Иван Молодой родился, его матери пятнадцать лет было, а Софии уже двадцать семь… Ее подруги римские и морейские в тринадцать-четырнадцать замуж выходили и к двадцати семи уже внуков ждали. Кто бы ведал, как это тяжко — каждый месяц убеждаться, что неплодна. Великая княгиня Мария Ярославна уже косилась, не корила, но спрашивала все чаще. Конечно, княгине-матери прислуживающие Софии девки исправно доносили о том, что «опять ничего». Однажды Мария Ярославна осторожно завела разговор о том, не было ли в роду у Софии бесплодных. У кого из родственниц сколько детей?
София называла своих братьев и сестру, своих дядьев и теток, своих двоюродных братьев и сестер. Мария Ярославна со вздохом кивала:
— Подождем.
Князь детороден, сына имеет, значит, в жене дело?
Мария Ярославна прислала к невестке опытную повитуху, Софию это страшно обидело, хотя она понимала, что княгиня имеет права волноваться, ведь царевна не юна, ежели сейчас не родит, потом поздно может оказаться.
Повитуха внимательно ощупала все, мочу на свет посмотрела, живот долго слушала, приложившись ухом, потом головой покачала:
— Ничего не понимаю, плодовита должна быть.
Старая нянька Софии Евлампия обиженно поджала губы:
— Да она, лебедушка, чище снега белого. Первый разочек бы только понести, а дальше удержу не будет.
Повитуха не обиделась:
— Я княгиню не хаю, понимаю, что после удержу не будет, только как первого-то родить? Засиделась в девках, заждалось нутро, вот и трудно теперь. — Потом решилась: — Питие дам одно, да пусть всякий раз, перед тем как с князем быть, пьет по глотку, пока не понесет. Не бойся, не отравлю. Да князю не говорит пусть, не то и меня, и вас со свету сживет. Ужас как не любит всяких зелий, слушать не станет, что оно не колдовское, сразу голову с плеч!
Опасно, но иного выхода не было, София стала глотать горькие капли, словно последнюю надежду.
Везде и всегда главная обязанность женщины — детей рожать! Ежели этого делать не может, кто с ней считаться станет?
Софии и объяснять не надо, сама прекрасно понимала, что уважения не добьется, пока двух-трех сыновей не родит. Потому об остальном пока можно забыть и горькое средство пить, если есть хоть маленькая надежда, что поможет понести…
Волновались за бесплодность царевны и греки. Прямо говорить не могли, новости через жен узнавать после наложенной великим князем опалы тоже. Но князь Константин (который после в монастырь постригся) однажды посоветовал:
— Съездила бы ты, царевна, в Троице-Сергиев монастырь, помолилась.
Объяснять не надо о чем, сама догадалась, полыхнула румянцем, горестно вздохнула:
— Сама о том думала…
Государю не до жениной опочивальни — в Москву на выборы нового митрополита спешно собраны епископы. Такова воля Ивана Васильевича — всем быть в Москве еще до окончания Пасхальной недели к весеннему Юрьеву дню 23 апреля. К чему такая спешка, если самого митрополита Филиппа похоронили 7 апреля? Словно князь боялся оставить Москву без митрополита и на месяц.
Но собрались, а кто недужен был (или не хотел, как тверской епископ), те свое согласие с любым решением грамотами прислали. Бодались меж собой долго, кажется, главным стало выбрать того, кто станет костью в горле великому князю. С митрополитом Филиппом спорил и даже ссорился, тот не мирился с московским духовенством. Теперь же нужен такой, чтоб и с московскими священниками не ссорился, и Ивану Васильевичу противился. Знали, что сам великий князь душой лежит к архиепископу Ростовскому Вассиану, старцу хоть и строгому, но что-то такое в Иване еще в его юности разглядевшему, а потому помогавшему князю по мере сил.
Избрания Вассиана не допустили, нечего духовнику великого князя на митрополичьем месте делать. Выбрали архиепископа Коломенского Геронтия. Геронтий не враг великому князю, но то, что они друг друга почему-то не любили, известно всем.
Вот и ошиблись недоброжелатели. Нет, не в будущем противостоянии великого князя и митрополита, а в роли архиепископа Ростовского Вассиана и благодарной памяти потомков, сохранившей его имя навсегда. Геронтий остался в памяти лишь митрополитом времен Ивана Васильевича, а Вассиан — автором знаменитого «Послания на Угру», когда архиепископ издали почувствовав мгновенные колебания великого князя, всей силой своего слова обрушился на эти сомнения, убеждая князя встать на бой с проклятой Ордой, не бояться хана Ахмата, благо Бог на стороне правого.
Это произошло через семь лет, в 1480 году, когда на берегах небольшой речки Угры в последней схватке сошлись силы Орды и Москвы. И хотя кровопролитного сражения не было, победила Москва, сумела сбросить тяжелую ордынскую длань со своей шеи, выпрямилась и уверенно пошла вперед. И не последнюю роль в этой победе сыграл архиепископ Ростовский Вассиан, пусть и не ставший митрополитом Руси.
Архиепископа Коломенского Геронтия выбрали митрополитом только в начале июня, а рукоположен он был только в самом конце июня, на праздник Петра и Павла.
Хорошо хоть Геронтий, а не новгородский Феофил, которого так и тянуло к унии и который Борецким лучший друг.
Теперь можно и в женину опочивальню. Только…
Софию ужасало количество «запретных» для такого посещения дней. Конечно, постились и в Риме, но не так же!
Помимо Четыредесятницы — Великого поста перед Пасхой — Москва свято блюла сорокадневный Рождественский пост, а также двухнедельный Успенский в августе и Петров пост после Святой Троицы, который тоже мог растянуться от восьми до сорока дней. И это не считая среды, пятницы, субботы и воскресенья, а также церковных праздников!
От каждой седмицы оставалось по три ночки, а если вспомнить о постах и праздниках, да еще и о бесконечных отъездах занятого князя, то получалось совсем мало.
Сначала София не понимала, почему здоровый, сильный мужчина так редко бывает у нее в опочивальне, винила себя, свое неумение, свою холодность. Но вовсе не была она холодна, напротив. Однажды не выдержала и с затаенной обидой спросила свекровь, чем, по ее мнению, так не угодила мужу, что тот уже третий день в Москве после долгой отлучки, а к ней в опочивальню ни ногой. Мария Ярославна широко раскрыла глаза:
— Да ведь пятница, суббота да неделя были. Князь не без греха, конечно, но коли желаете дите здоровое зачать, то должны правила блюсти.
София не поняла, но запомнила, а немного погодя спросила о запретах Олену. Та бойко перечислила. Вот тогда великая княгиня и поняла, что не холодность заставляет князя редко навещать ее по ночам, а воздержание богобоязненного человека.
Тогда услышала еще одно: от государя многое зависит на Руси, так много, что страшно подумать. Об этом спросила уже своего исповедника в Троице-Сергиевом монастыре. Тот головой покачал, ответствуя:
— Государи бывают добрые и недобрые. Первые по заповедям Божьим поступают, вторые по злому умыслу. Добрый государь пример являть должен веры и соблюдения правил. Не будет государь богобоязненным, не станет он законы веры блюсти, чего же от остальных ждать? Он за все отвечает. Тяжела доля государя, ох тяжела… С него особый спрос, он всякую минуту на виду. А Москва одна осталась защитницей православия. Не соблюдет государь веру, потеряет и народ, а там и до прихода Антихриста (спаси Господи!) недалеко. — Епископ несколько раз перекрестился, словно отгоняя страшное видение. Софии стало не по себе от его слов, его тона. — Выходит, не только Русь своей верой великий князь спасает, но весь христианский мир.
С того дня в Софии что-то изменилось. Она вдруг посмотрела на мужа и самое себя иными глазами. К страстному влечению к красивому, сильному человеку добавилось искреннее к нему уважение. И сама она уже не была той заносчивой византийской царевной, считавшей московитов ниже себя, что намеревалась научить Русь и склонить мужа к унии.
София еще не поняла всей глубины веры, не почувствовала вполне, как сильно влияет она на каждодневные поступки всех людей, а особенно князя, но понимать начинала. Не в том разница, с какого плеча крестятся, не в том, что в православных соборах и церквях на прихожан смотрят строгие лики святых, а в готовности за веру жизнь отдать, уверенности православных в том, что нарушение ими заповедей Божьих навлекло на Русь страшную беду — Орду неисчислимую. И что исправить можно только верой, а уж битвы дело второе.
А впереди всех — государь. Он защитник, он заступник, он и пример для всех.
Появилась еще одна мысль, вернее понимание: иногда Иван Васильевич вынужден поступать жестоко, чтобы добиться своего, но бывает, когда это же можно получить хитростью. Великий князь хитер, очень хитер, об этом твердят и его враги, и его друзья, но не везде он видит возможность перехитрить, не мудрствуя. Вот в чем пригодился женский цепкий ум Софии. Позже она не раз легко добивалась результата там, где муж мог и сплоховать. Добивалась всего лишь хитростью.
Но это будет позже, а пока главное для великой княгини — родить сына. Лучше дюжину. Только тогда ее признают и достойной почитания, и равной той же Марии Ярославне, и просто великой княгиней.
Умная женщина понимала, что просто родить сыновей мало, чтобы завоевать признание, уважение и любовь окружающих, придется немало потрудиться. Она еще поймет, что никогда не сможет занять достойного места в сердце другой умнейшей женщины — великой княгини Марии Ярославны, но тогда казалось, что рождение хотя бы первого сына изменит сразу все.
София думала только об этом — родить сына. Ждала мужа каждые понедельник, вторник и четверг…
Что помогло — снадобье повитухи, желание ли Софиино огромное, спокойствие, пусть и временное, великого князя, все ли вместе, или судьба такая, но к Рождеству Богородицы в сентябре Софья уже точно знала, что тяжела. И без того немалая ее грудь начала словно тяжелеть, по утрам мутило. Боясь даже невольно сглазить, София долго молчала и лишь когда во второй раз получила подтверждение своей счастливой догадке, с гордостью попросила утром соленый огурчик.
Гликерия, поняв причину странного желания государыни, ахнула:
— Неужто?!
— Да. Не болтай только, чтоб никто больше пока не знал!
Но разве можно утаить что-то от женщин, которые вокруг? Они нюхом почуяли, что счастливый блеск в глазах Софии и довольная улыбка, которую она так старательно прячет за нахмуренным видом, не зря.
Понимая, что великий князь не простит, если новость узнает от кого-то другого, даже от матери, сказала сама. Вечером, убедившись, что супруг в добром настроении, погладила свой несуществующий пока живот и смущенно произнесла:
— В тяжести я…
Иван ахнул:
— Ты?!
София с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться, мол, не ты же! Стояла, опустив голову, кивнула.
Муж осторожно приложил руку к ее животу:
— Сын?
В голосе было столько надежды, что очень хотелось согласиться, ведь София и сама так ждала сына! Но она честно пожала плечами:
— Не ведаю о том.
— Осторожно надо, чтобы плоду не повредить, — как опытный уже отец заявил Иван.
Они были осторожны, горячие ночи стали куда более прохладными, а потом и вовсе прекратились, князь заходил в опочивальню только поинтересоваться здоровьем да пожелать покойной ночи. София очень тосковала без него, без его объятий, но понимала, что это необходимо, и мирилась.
Понимала она и то, что чем чаще будет рожать, тем меньше жарких ночей с любимым мужем у нее будет. Но если рожать не будет, то еще хуже. Что ж, приходилось мириться и с этим. А также с тем, о чем, думая, что княгиня спит и не слышит, болтали меж собой девки: к князю водят отобранных лебедушек, не часто, но водят. Грех это, но тело своего требовало, вот и соглашался. И ничего с этим Софии не поделать… Ее женская доля такая — надеяться, носить, рожать, снова надеяться и терпеть.
Она уже поняла, что, чтобы стать правительницей, надо стать матерью, и чем больше будет сыновей, тем лучше. Пока не родит троих-четверых, будут смотреть как на пустышку. Терпела…
Срок приспел к Кузьме весеннему. Святитель Косьма, конечно, защитник, но давать это имя сыну (София была уверена, что носит сына!) не хотелось. Но через шесть дней Георгий Победоносец, ежели в его честь крестить, то мальчику счастливая судьба будет.
Но почувствовав первые схватки, она забыла обо всех святых, кроме Параскевы Пятницы и самой Богородицы, умоляя их помочь.
Ни великого князя, ни Марии Ярославны в тот день в Москве не было. Князь вообще редко на месте сидел, а вот свекровь не зря уехала. Почему? София не поняла, но и не до нее было. Мучилась недолго, но крепко, стискивала зубы, металась по перине, срочно постеленной в жарко натопленной мыльне и к утру родила.
— Дочка! — Повитуха Маланья Егоровна подняла на руках крошечное тельце. — Крепкая малышка.
— Как… дочка?
— Не то не видишь, княгинюшка? Раз кое-чего нет, значит, девчонка. Да ты не страдай, разродилась первый раз, и слава Богу! Теперь детки один за другим пойдут, только успевай подол под них подставлять. И сыновей будет много.
Девочку назвали Еленой.
Маланья Егоровна оказалась права: у Софии Фоминичны дети рождались один за другим, вернее, сначала одна за другой.
Хоть и надеялась София на сына, а родила дочь, но и это дитя было желанным. Великой княгине уже немало лет, не сейчас рожать, так когда же? Да и у князя давненько детей не было, Ивану Молодому уже шестнадцать, пора самому о семье и детях думать.
Конечно, рождение сыновей празднуют шире, даже если сын второй, но и за дочь князь осыпал жену подарками. Она в ответ обещала, что в следующий раз непременно будет сын.
Радовались все, даже Иван Молодой не смотрел волком, ведь сестренка не была ему соперницей. Он уже познал женщину, понял, что отец не может без жены, потому почти смирился с существованием мачехи, хотя представить отца в постели с вот этой… Но умный наставник напомнил, что и он сам родился так же, как все — от греха в опочивальне. Такие грехи между мужем и женой Господь прощает, чтобы род людской плодился и размножался.
Жизнь, кажется, начала налаживаться.
Но стоит только одному наладиться, как рушится что-то другое.
В этот раз действительно разрушилось.
20 мая 1474 года в ночь всю Москву словно «повело». Тем, кто не спал, показалось, что дрогнула сама земля.
София тоже не спала, поскольку беспокойной была дочка. Конечно, на то есть мамки-няньки, но ведь материнское сердце особенно чувствительно, а материнские руки ласковы. Только взяла дитя на руки, как…
Грохот из Кремля услышали и в посаде.
Княгиня на мгновение замерла, не понимая, что происходит. Нет, ничего больше не дрожало, но снаружи от площади все еще слышался затихающий грохот, словно камни падали. Наконец, не выдержав, она сунула Елену в руки няньке, накинула большой плат, чтобы не открывать чужим взорам волосы, и выскочила из опочивальни.
Снаружи уже кричали:
— Собор рухнул!
— Что?! — не поверила своим ушам княгиня.
Не только она, никто не верил ни своим ушам, ни своим глазам.
Стены нового Успенского собора мастера возвели еще прошлым летом. Заодно строили и каменный митрополичий двор. Весной начали аккуратно выкладывать своды, на которые должны опираться барабаны глав.
И вот теперь…
Северная и большая часть западной стены просто отсутствовали, превратившись в груду битых кирпичей. Где-то наверху от ужаса верещал мальчишка, привычно лазавший по строительным лесам. Сколько ни запрещали — как только строители уходили спать, на леса полюбопытствовать поднимались ротозеи. На сей раз Бог миловал, из всех любопытных наверху оказался только отрок, который теперь и голосил, умоляя помочь.
У Софии бились две мысли. Первая касалась Ивана: где он?! Прекрасно помнившая, что великий князь на любом пожаре первым хватается за багор и лезет в огонь, словно заговорен, она не сомневалась, что и теперь князь помчится выручать мальчишку и наводить порядок. С трудом сдержавшись, чтобы не заголосить, мол, не ходи, князь, без тебя сделают, София остановилась на крыльце, закусив губу и сжав руки.
Вторая мысль касалась крошечной деревянной церкви, в которой они венчались. Неужели камни недостроенного собора погребли под собой эту церквушку? Но не о могилах святителей, которые в церквушке, думала София, а о том, что погибло место их венчания. Это дурной знак!
Такого Москва не видела и больше не увидит. Когда забрезжил рассвет, стало ясно, что Господь сотворил чудо. Но не обрушением собора, который действительно перестал существовать, а чудесным спасением беззаботного отрока, отделавшегося парой царапин и выпоротым отцом задом, но более того — деревянная церковь внутри возводимых каменных стен осталась невредима! Не пострадало ничто, словно кирпичи, валясь с большой высоты, аккуратно выбирали место, где упасть, чтобы не повредить церквушку.
Не в силах сделать ни шагу, София стояла на крыльце, вглядываясь в полуразрушенное здание, словно там одновременно заключалась и беда, и спасение. Почему-то показалось, что и ее жизнь вот также…
Царевна не подозревала, насколько права.
Из покоев прибежала присланная нянькой девка, сообщила, что княжна вдруг враз успокоилась и заснула. София только кивнула.
Из-за беспокойства дочери она не раздевалась, несмотря на поздний час, и теперь стояла, кутаясь в большущий плат. Княгиню трясло, хотя майская ночь была теплой. Софию охватило чувство близких и хороших перемен, словно трагедия с собором была одновременно и бедой, и освобождением от этой беды. То, что церковь осталась цела, вселяло надежду, непонятно на что, но надежду.
— Следующим будет сын… — прошептала княгиня. У нее одна докука…
По щекам текли слезы, но на сей раз не горькие, а слезы радости и очищения.
Это увидел возвращавшийся в покои князь.
— Что ты? — более не нашел что спросить.
Она счастливо всхлипнула:
— Наша церковь цела осталась…
Иван внимательно посмотрел на жену, кажется, и он начал в ней что-то понимать, но ответил иначе:
— И люди не погибли.
— Мальчишку сняли?
— Сняли. Был порот. Это князя Федора Пестрого сынок.
— Что теперь с собором будет?
Иван несколько мгновений молчал, потом вздохнул:
— Этот приказал разобрать, дабы никто еще не покалечился. Быстро разберут, чтобы в церковь ходить можно было. А потом новый строить буду.
Ей хотелось спросить, кто будет строить, но минута взаимного доверия и теплоты и без того затянулась, Иван Васильевич, коротко приказав идти к себе, повернулся к подскочившему вездесущему Федору Курицыну. Дьяк докладывал о выставленной охране, которая должна отгонять любопытных.
Несмотря на трагедию и пережитой ужас, ночь оставила какое-то щемящее чувство благодарной грусти. София с изумлением понимала, что эта трагедия неожиданно хоть на маленький шажок сблизила их с мужем.
Да, видно только такими шажками и можно приближаться к великому князю Иван Васильевичу. А она попыталась все сделать с налета, вот и наткнулась на стену его непонимания.
Но теперь она знала, что между ними возможна просто беседа, без недовольства, без ожидания подвоха, не в постели накоротке, не чинно на виду у строгой Марии Ярославны, а вот так — наедине и по-человечески.
— Теперь все будет хорошо. Недаром наша церковь цела осталась, — заявила сама себе София и была с собой согласна.
Остатки строения действительно быстро и аккуратно разобрали, чтобы никто не пострадал.
А у князя с княгиней состоялся первый серьезный разговор на равных.
Странная это была беседа — в опочивальне, откуда няньки поспешно унесли маленькую Елену и плотно прикрыли дверь. Иван Васильевич сидел, устало откинувшись на стену и вытянув ноги в темно-красных сафьяновых сапогах, вертел большой перстень на пальце.
В опочивальне богато, как и в остальных княжеских покоях, на полу большой, заглушающий шаги шемаханский ковер, всюду серебро и злато, лавки красным сукном покрыты. Софии очень не хватало зеркал, но в Москве их не делали, а с собой взять большое не догадалась, имела только поясное — в половину роста. Одежда тоже богатая — сплошь золотая вышивка и самоцветы. Иван Васильевич большой любитель и ценитель драгоценных камней, знал в них толк и собирал украшения.
Но сейчас он крутил перстень не глядя. София ждала, что скажет. Что-то должен сказать важное, она это сердцем чуяла. Но услышала вовсе не то, что ожидала.
Начала разговор она сама, поинтересовавшись:
— На Руси не строят большие здания из камня?
О Новгородской Софии и прочих постройках упоминать не стала, слишком хорошо известно, как ревниво относится к любой похвале соперников Иван Васильевич. Даже теперь он позвал посмотреть на останки собора не новгородцев, а псковичей. Те приехали, походили кругами, поцокали, головами покачали и… похвалили строителей за ровную кладку. Но для псковичей все, что ровней простой кучи кирпича, — уже ровно. А про раствор сказали, что слаб.
Сами же строители твердили, что в Москве в тот день трус невиданный был — земля тряслась. Это знал и сам великий князь, а потому никого наказывать не стал, только следовало найти строителей, которые возвели бы новые стены, не боявшиеся такого «труса». Никто не произносил вслух, но все понимали, что разрушение собора — Божья воля, как и чудесное спасение церкви внутри него. Да и без жертв даже при разборке обошлось, знать, Господь так решил, чтоб собору таковому не быть, а людям страдать ни к чему.
На вопрос жены Иван не фыркнул, как делал раньше, а серьезно ответил:
— Строили и не только в Новгороде. Во Владимире собор куда больше Софии. Да много где.
— А почему сейчас не строят?
— Разучились.
— Как так?
И снова князь спокойно объяснил, не отмахнулся:
— Чтобы чему-то научиться, нужны двое — ученик и учитель. А ордынцы у нас год за годом лучших умельцев или забирали, или убивали. Чаще второе, потому как умельцы на врагов работать не желали. В Новгороде остались, но они в стороне. А если некому учить, то скоро и учиться некому будет.
Он со вздохом снял сапоги, отбросил в сторону, снял кафтан, оставшись в одной рубахе, потом потянул через голову и ее. София старательно отводила глаза, но взгляд упорно возвращался к гладким мышцам сильного торса.
Князь не замечал (или делал вид, что не замечает?) взгляда жены. Сама она уже была в тонкой рубашке, сквозь ткань которой проступали темные круги сосков.
Иван снова сел, задумчиво глядя куда-то в стену. Что он там видел, этот до сих пор загадочный для Софии князь?
— Говорят, что русские князья сами виноваты в приходе Орды, мол, звали друг против друга. Потом, может, и звали. Но Орда сильней, всегда была сильней. У них народа тьмы и живут войной и грабежом. Все, кто под Ордой, не только строить, все делать разучились. Пока там, — он кивнул куда-то неопределенно, — в Риме учителя ученикам знания и мастерство передавали и вперед шли, мы по лесам прятались. Отстали очень.
София замерла. Впервые муж раскрывал ей свое видение мира, пусть только кое-что, но это уже начало.
— Ты меня спрашивала, почему в Москве только иконы, а таких портретов, как твой, не рисуют. На Руси только церкви выстояли, только иконы и сохранились. Ордынцы чужих богов боятся обижать, потому редко церкви трогали и даже грабили не всегда. А других мастеров, чтобы не иконы, а портреты писали, у нас нет. Людей толковых много, но учиться не у кого. А сами будем придумывать долго.
Что-то подсказывало Софии, что в этой фразе и кроется главное, о чем хочет поговорить муж.
Москва действительно отстала, и не только в строительстве, за стеной лесов она словно спала столько лет.
— Многих ли в Риме знаешь?
— Кого? — удивилась вопросу София.
— Тех, кто строить умеет, пушки лить, монету чеканить, рудознавцев, мосты чтоб строили… Али неведомы такие, ты все танцами да песнями занималась?
София сумела скрыть легкую обиду из-за прозвучавшей в голосе Ивана насмешки, взяла себя в руки и спокойно ответила:
— Знаю такого.
— Чем знаменит?
— Колокольню в Болонье передвинул. Другую выровнял в Венеции, но она потом упала не по его вине. Много что умеет. Зачем он тебе?
— На Русь поедет?
Тут уж княгиня не смогла сдержаться:
— Куда?!
Теперь Ивану понадобилось усилие, чтобы спокойно ответить:
— В Москву. Ты же приехала и жива, медведи да волки не съели, от мытья не померла, от еды тоже.
— Не знаю, — честно призналась София. — Он старый уже.
— Я его не самого кирпичи класть заставлю, а надзирать, чтобы больше вот такого, — кивнул в сторону окна, София поняла, что имеет в виду Успенский собор, — не случилось. Откуда этого мастера знаешь?
— Аристотель Фиораванти с моим наставником епископом Виссарионом дружен был. Он много куда ездил мосты строить, только мастера к своим городам привязаны, просто так уехать не могут.
— Почему?
София была рада что-то пояснить мужу, теперь она благодарила судьбу за то, что нередко оказывалась рядом с епископом Виссарионом, когда тот беседовал со знающими людьми. А на память и сообразительность византийская царевна никогда не жаловалась, это Андреаса вовсе не интересовало, что там писал Плифон или о чем беседуют Виссарион с Фиораванти, София слушала и запоминала.
— В Италии мастера не сами по себе, а в гильдиях состоят. Гильдия убеждается, что мастер может хорошо работать, и только после этого выдает разрешение. Но гильдия и отвечает, если что-то не так. И если мастер состоит в гильдии в Венеции, то едва ли ему разрешат строить где-то еще. А Фиораванти мастер известный…
— Мне не известность его нужна, а опыт и умения. Чем больше умеет, тем лучше. Можешь ли ему написать, пригласить, чтобы приехал?
— Ему?.. Может, лучше кардиналу Виссариону, он скорее решит?
— Это тому, что мне тебя сватал? — Иван весело хмыкнул: — Толковый малый.
Хорошо, что такой отзыв не слышал сам епископ… Но София весело кивнула:
— Он.
Муж притянул ее к себе:
— Если твой Фиораванти так же хорош, как ты сама, то его нужно скорей привезти в Москву!
— В чем хорош? — поддержала шутку София, очень надеясь, что продолжение будет соответствующим.
Князь опрокинул ее на перину:
— Потом договорим. Хватит твоему лону отдыхать, мне еще сын нужен!
Царевна полыхнула горячим пламенем, в котором смущения и желания было поровну, но признаваться, что сама желает родить сына не меньше, не стала.
Ночь получилась бурной, а утром, одеваясь, Иван Васильевич напомнил:
— Про письмо епископу своему подумай.
— Я напишу, сегодня же напишу. А кто повезет?
— Есть у меня дьяк толковый, все что надо сделает. Где твой мастер служит?
— Не помню, кажется, в Венеции.
— Тем лучше, я у них мастера на Тревизана выменяю! Взамен дурня умницу получу, коли все так выйдет, — с удовольствием хохотнул Иван. — А епископу напиши, что мастера не обидим и хорошо заплатим. Ежели что не понравится, так он к тебе жаловаться прибежит, ты ведь у нас защитница знатная.
Он снова был насмешлив, даже задирист, но теперь София знала, что за этой личиной скрывается совсем другой человек. И еще понимала, как сможет выполнить совет мудрой Анны Васильевны Рязанской о голове и шее. Да, такую голову не всякая шея выдержит, но и не всякая голова такой шее, как византийская царевна, годится. Великий князь Иван Васильевич годился. Со всех сторон очень годился его супруге Софии Фоминичне Палеолог.
В итальянские города поехал опытный и хитрый Семен Толбузин. Он должен был отвезти подарки великого князя венецианскому дожу и нанять хотя бы одного (лиха беда — начало) мастера, лучше чтобы все умел, еще лучше, если будет сам Фиораванти, о котором княгиня столько хвалебных слов сказала.
У Толбузина были письма к дожу и к епископу Виссариону. София не знала, что ее наставника уже почти год нет на свете, епископ умер в тот же день, когда София венчалась с Иваном, став великой княгиней. Епископ словно выполнил свое обещание морейскому деспоту Фоме Палеологу выдать замуж его дочь и покинул этот мир.
Через несколько дней после отъезда Семена Толбузина приехал посол Андреаса и Мануила Дмитрий Грек, который и рассказал о епископе Виссарионе. Софья поплакала, все же епископ много сделал для нее и был заботлив, хотя излишне строг и скуп. Но именно это помогло ей в Москве жить под тяжелой дланью мужа, который тоже был очень строг и не менее скуп.
Да, великий князь, любивший драгоценности и знавший в них толк, окружавший себя и свою семью роскошью, при этом был необычайно скуп, София никогда не имела достаточно денег даже для раздачи милостыни и подарков московской знати, что совсем не добавляло ей популярности. Приязнь нередко просто покупается.
Привезенные от братьев подарки София поспешно забрала себе, зная, что если они попадут в руки Ивана Васильевича, то окажутся в казне, откуда все можно брать на время, а потом возвращать. Сам князь поступал так же. Но у великой княгини Марии Ярославны были свои города и земли, приносившие ей доход, в котором она не отчитывалась, доходы были и у Ивана Молодого, не говоря уж о братьях-князьях, а у Софии Фоминичны не было. Нет, князь не обделял ее ничем, он верно говорил сестре: всего у Софии Фоминичны было вдоволь — и еды, питья, нарядов, драгоценностей, но все данное мужем, чем распоряжаться нельзя. Позже она научилась обещать:
— Князь заплатит.
Верили, но мало кто осмеливался требовать платы у великого князя, чаще все поставленное великой княгине так и оставалось неоплаченным. Это не добавляло приязни к ней со стороны купцов. Только ли их? Не любили Софию в Москве, и ничего с этим поделать не удавалось. Она пока не придумала, как завоевать расположение москвичей, вернее, знала — родить сыновей, но пока не получалось.
Иван Васильевич был скуп не только по отношению к Софии, он и послов отправлял за их счет. Мог передать дары для правителей, но дорогу и прочее посол оплачивал сам. Потому бояре ужами вертелись, отлынивая от таких поручений.
Семен Толбузин был послом от бога, умел договариваться даже с теми, с кем договориться невозможно, и деньги добыть там, где их быть не могло.
В письме к венецианскому дожу великий князь сообщал, что простил незадачливого Тревизано и даже отправил его к хану Ахмату в Орду, дав немыслимую для Руси сумму — семь сотен рублей серебром для расходов и подарков. Откуда дожу знать, что в действительности дано было семь десятков рублей? Кому из этих двоих — великому князю или его послу — пришло в голову увеличить сумму в десять раз? А, может, вдвоем и придумали?
Дело в том, что деньги Иван Васильевич просил отдать Толбузину, а тому поручил на эти средства нанять мастера, не скупясь (чего жалеть чужие деньги-то?).
Семен Толбузин справился, хотя и не сразу.
Узнав о смерти епископа Виссариона, к которому адресовано письмо великой княгини, он расспросил о Фиораванти, услышал много самых разных отзывов, но понял главное: это дорогой мастер. То, что Венеция, заплатившая такие огромные деньги просто из-за глупости Тревизано, держала Фиораванти на службе и не желала отпускать, значило, что ему платят много. А кто же, получая много в благословенной Венеции, поедет в неведомую итальянцам Москву?
Сначала, отчаявшись заинтересовать мастера, Толбузин слегка приуныл, но потом сообразил разузнать, чего тот боится. И тут посла ждал подарок.
Фиораванти в своей жизни занимался много чем, как и большинство мастеров Возрождения, но чаще он исправлял чужие недочеты — выпрямлял грозившие рухнуть крепостные стены, перетаскивал башни и колокольни, наводил мосты или укреплял существующие, устраивал или чинил водопроводы и прочее… То ли мастеру надоело что-то достраивать, передвигать или перестраивать, то ли просто захотелось богатства, а может и не было ничего, но зимой предыдущего года он был обвинен в чеканке и распространении фальшивых монет, побывал не просто в тюрьме, но и в руках инквизиции, правда, пыткам не подвергался, но страха натерпелся сполна, был освобожден, вероятно благодаря заступничеству высоких покровителей, но потерял свое место архитектора в Болонье, приносившее неплохой постоянный доход. К его услугам старались не прибегать, опасаясь быть обвиненными в пособничестве.
Вероятно, у мастера хватало средств на жизнь, но вот еще раз объясняться с инквизицией он не желал, в следующий раз покровители могли не заступиться…
Второй разговор Семена Толбузина с Аристотелем Фиораванти был совсем другим. Понимая, что в итальянских городах над Фиораванти всегда будет висеть дамоклов меч внимания святой инквизиции, московский посол напрямик предложил ему ехать на Русь, чтобы строить для великого князя Ивана Васильевича.
Аристотелю Фиораванти было пятьдесят девять лет — возраст весьма почтенный, чтобы уйти на покой, но инквизиция… И тут Толбузин допустил оплошность, впрочем, не имевшую больших последствий: он показал Фиораванти письмо, написанное великой княгиней Софией Фоминичной епископу Виссариону. Показал как свидетельство того, что мастер будет в Москве под защитой самой государыни. Это сыграло свою роль, Аристотель Фиораванти согласился принять предложение государя Московии, но расценил заступничество государыни как свидетельство своей известности и запросил невиданные деньги за свою службу.
Десять рублей в год для Москвы были огромным состоянием, но Толбузин серебра не жалел (чего жалеть, платили-то венецианцы!), к тому же посол прекрасно понимал, что в Москве разговор будет совсем иной, с великим князем вольно не поговоришь, как глянет своим орлиным взором — сам от любых денег откажешься, только бы не приказал головы лишить. Конечно, об этом рассказывать мастеру Фиораванти Толбузин благоразумно не стал, напротив, сделал вид, что верит всем россказням, которые всю дорогу до Москвы слушал от итальянца. Пусть себе мелет…
А вот в Москве молол уже сам Семен Толбузин. Он такого порассказал и великому князю, и москвичам о мастере, о том, как трудно оказалось его заполучить, о собственной ловкости и догадливости, что казалось — у Италии похитили главную ценность. Об огромной стоимости работы Фиораванти было сказано, а вот о том, что сами венецианцы и заплатили, — ни слова. Зачем?
Аристотель Фиораванти со своим сыном и юношей-учеником отправился в Москву тем же путем, каким когда-то ехала София.
В Пскове, когда Толбузин посоветовал ему посмотреть на церкви внимательней, Фиораванти снизошел до вопроса, что же он будет передвигать в Москве.
— Чего это передвигать? Ты только двигать умеешь? Великая княгиня говорила, что ты и строишь тоже.
— Строю, — согласился мастер.
— Вот то-то и оно. Великий князь приказал найти мастера, чтобы новый большой собор выстроил взамен рухнувшего.
— А почему рухнул?
У Фиораванти был повод для беспокойства, однажды он выпрямил падающую колокольню Сан-Анджело в Венеции, но почва снова поплыла и здание рухнуло. Не хотелось бы снова испытать такое разочарование.
— А этого я не знаю.
Толбузин честно рассказал мастеру о том, как счастливо, никого не убив и не повредив церковь внутри своих стен, упал недостроенный Успенский собор, убедил его, что на то была воля Божья. Наверное, Фиораванти поверил, впрочем, что ему еще оставалось, находясь за тридевять земель от своей родины, он едва ли мог позволить себе капризничать. А вот цену набивать продолжил.
В Москву въехали 26 марта в двойной праздник — Гавриила Архангела и Святую Пасху, а потому колокольный перезвон услышали еще перед посадом. Мастер удивился и самому звону, и тому, как истово крестится Толбузин. По пути он уже кое-что успел понять, много поживший и много повидавший Аристотель Фиораванти понял, что его умению в Москве найдется достойное применение.
Поставить главный собор государства, в котором столь искренне верят, может ли быть достойней задача? Руки чесались приступить к работе, мастер истосковался по настоящему делу, а потому… Москвичи были несказанно удивлены, когда приехавший фрязин, как называли всех итальянцев, вылез посреди площади из кареты и отправился осматривать останки разрушенных стен Успенского собора.
За итальянцем последовал Семен Толбузин, пытаясь убедить странного гостя, что сначала не мешало бы вымыться с дороги, отдохнуть, потом попросить встречи с великим князем, а уж тогда что-то осматривать.
— Стены-то никуда не денутся. Все, что могло упасть, уже упало или разобрано.
Фиораванти отмахнулся от посла:
— Прежде чем соглашаться на такую работу, я должен осмотреть предыдущую, чтобы понять, почему рухнуло.
Он постукивал, поглаживал, похлопывал оставшиеся кирпичи, кивал или качал головой… Москвичи следовали за странным иностранцем уже толпой, но мастер не обращал ни них ни малейшего внимания. С каждым шагом и движением у него росла уверенность в том, что справится, и восторг перед грандиозностью задачи. Он был готов принять предложение великого князя, не торгуясь. Хорошо, что договор заключил еще в Венеции…
Ивану Васильевичу донесли о приезде венецианского мастера и о том, что Фиораванти ощупывает стены вместо отдыха. Князь хохотнул:
— Доброго мастера София Фоминична посоветовала. Ежели он первым делом своей будущей работой заинтересовался, значит, ею живет. Это хорошо.
Они подружились, Иван Васильевич был готов платить Фиораванти любые деньги не только за строительство или наведение мостов, не только за литье пушек, производство кирпичей или чертежи будущего Кремля, но и за умные беседы. Мастер много повидал и многое знал и своими знаниями и мыслями щедро делился.
София тоже радовалась приезду Фиораванти. Она ходила уже совсем круглая, переваливаясь уточкой, потому даже поговорить толком не удалось, но уже то, что муж доволен, грело сердце и ей.
Фиораванти поразил москвичей и великого князя не только тем, что, едва ступив в Кремль, бросился осматривать место будущей работы, но и тем, как быстро и ловко разрушил остатки строения. Венецианец использовал обыкновенный таран, но для этого пришлось разобрать внутреннюю деревянную церковь, выдержавшую прежнее разрушение собора, и перенести на время мощи святых и захоронения. Князь согласился на такое невиданное действо, чем вызвал сильнейшее недовольство митрополита.
Великий князь пришел понаблюдать за тем, как разваливают остатки стен. Мастер, с головой уйдя в работу, не замечал присутствия государя. Дьяк Курицын хотел было позвать Фиораванти, но Иван Васильевич сделал знак, чтобы не мешал:
— Он тут главный, он работает, а мы глазеем.
Дьяк один из немногих знал об откровенной беседе правителя с приглашенным мастером, потому как сам переводил. Иван Васильевич сначала долго выпытывал о том, что и почему строил Фиораванти в Италии, что хотел бы строить, что умеет и о чем мечтает. Трудно говорить о мечтах человеку на шестидесятом году жизни, но Фиораванти так истосковался по настоящей работе, которая осталась бы на века, что выложил все Ивану Васильевичу как на исповеди.
Под строгим, внимательным взглядом темных глаз мастер не стал юлить или преувеличивать, честно рассказал о неудачах, о том, что хорошо умеет и о чем мечтает.
Они нашли друг друга — величественный заказчик и гениальный исполнитель.
Во время третьей беседы Иван Васильевич откровенно признался итальянцу, что желает построить не просто собор, а средоточие новой духовной власти. Константинополь пал, Москва осталась не просто единственным оплотом православия, но последней надеждой, единственным оплотом истинного православия, незамутненного соглашательством с Римом. Собор должен показать, что это так, а для того быть похожим на великолепный Успенский собор Владимира и одновременно превосходить его.
Удивительная задача не для Фиораванти-строителя, но для Фиораванти-католика. Католику предстояло построить православный храм, который символизировал бы величие веры и самодостаточность государства, которое в Риме мечтали бы подчинить духовно!
Но мастер с воодушевлением взялся за дело.
Для начала он пожелал увидеть то, на что должен быть похож будущий собор. Иван Васильевич с готовностью отправил Фиораванти во Владимир. Поведение итальянца во Владимире князя немало позабавило.
Вечером, навестив жену, он со смешком рассказывал, что во Владимире мастер не просто похвалил умение русских зодчих, возводивших собор, но объявил, что это «наши строили».
— Ты скажи ему при случае, что фрязинов во Владимире до него никогда не видали. Или он нашими русских зовет?
Но София Фоминична не скоро сумела поговорить с приглашенным мастером, у нее были свои заботы, она на сносях…
Второй ребенок родился через два месяца после Пасхи. Это снова была дочь, которую назвали Феодосией. Радоваться бы, София и радовалась, хотя очень ждала сына.
Фиораванти, сам того не ожидая, помог Софии пережить эту «неудачу». То, что творилось на площади, где сначала невиданным способом разрушали стены прежнего собора, потом копали глубокие, куда глубже обычного, рвы под фундамент, забивали огромные сваи, отвлекло всех от рождения княжны и от самой княгини.
Осенью Иван Васильевич ушел в Новгород, нет, не войной, напротив, пошел суд рядить, как полагается государю. Фиораванти взял с собой, все равно зимой строительство невозможно, а в походе мастер пригодился — он построил наплавной мост через Волхов и следил за артиллерией.
А София снова носила ребенка и, конечно, снова мечтала о сыне…
В мае наконец на крепком фундаменте начали возводить стены. Все лето росли стены, рос и живот Софии. Она по-прежнему старалась не показываться на людях, Иван Васильевич приходил к супруге поговорить, да и то изредка, но София понимала, что надо вытерпеть и это. Присказка была одна:
— Ничего, вот рожу сыновей, тогда все и изменится.
Прикладывала руку к животу, вопрошала:
— Как ты там, родной?
И не было заботы важней, чем выносить вот это дитя.
Ей бы носить еще месяц, на Константина и Елену должна родить, Константином в честь деда-императора и назвали бы. Но ночью вдруг скрутила неведомая боль все внутри, заставив застонать. На схватки не похоже, да и рано. София испуганно терпела, покусав губы до крови, гладила живот, успокаивая дите и себя, но получалось плохо, ребенок рвался наружу.
Когда стало крутить поясницу, поняла, что все-таки схватки, но решила никому не говорить, свекровь не звать. Непохожесть этих родов на предыдущие внушала ей уверенность, что уж на сей раз сын! Да, конечно, именно так рождаются сыновья — с криками и болью, но София согласна вытерпеть все, только бы родился мальчик.
Великого князя привычно не было дома. Он не ездил на рати, как делали до него московские великие князья, но нередко уезжал на богомолье в монастыри либо просто в вотчины по делам, много и с удовольствием охотился.
Но то, что Ивана Васильевича с Иваном Молодым не было на Москве, к лучшему, мужчинам ни к чему присутствовать при родах, это женское таинство, и чем меньше людей знает о роженице, тем лучше.
София мечтала родить сына тихо, без звериных воплей, которые издают роженицы, потому все время схваток терпела, стискивая зубы.
Евлампия и сенные девки бестолково топтались вокруг, не зная, чем помочь. Одна из девок предложила истопить мыльню да отвести княгиню туда, но София категорически не желала, чтобы ее надежда и гордость родился в темной мыльне.
— Нет! Я рожу так, как это делают в Риме и делали в Константинополе.
Но шли час за часом, а родить легко и молча не удавалось. София теряла силы, чувствуя, что умрет вместе с ребенком.
Одна из девок вопреки запрету все же сообщила великой княгине. Мария Ярославна прибежала, отдала нужные распоряжения и через час в жарко натопленной мыльне на свет появилась девочка. Она была такой маленькой и слабенькой, что сумела лишь открыть глазки, на крик сил не осталось. Позови София на помощь сразу, все могло случиться иначе. А, может, и нет, слишком рано девочка попросилась на свет.
Мария Ярославна обнадежила:
— Бог даст, выживет, хотя слабенькая очень. Крестить успели бы, худо, ежели некрещеная в мир иной отойдет.
Крестить успели, назвав Еленой, но и только. Крошечный гробик и первое материнское горе. София ничего почувствовать не успела, лежала едва живая, почти ничего не понимая, не слышала, не чувствовала.
Уж после, когда плакала горькими обидными слезами в опочивальне, пришла великая княгиня, присела, погладила по волосам, пожалела:
— И-и… милая… Сколько их, детушек, рождается да умирает? К этой дочери ты и привыкнуть не успела, на руках не подержала, а у меня старшенький четырех лет умер, Симеон и двух не прожил, а дочка больше — десяти лет была, когда умерла от горячки. Вот когда тяжело — когда твое дитя, выстраданное и сил полное, недужит, а ты помочь не можешь. Вы молодые, сильные, будут еще детки, будут…
Мария Ярославна была права, у Ивана и Софии родилось еще много детей. А тогда София рыдала не только из-за умершей крошечной дочери, но куда больше, что это снова дочь, а не сын.
По Москве снова ползло: деспина сыновей рожать не способна. Что с нее возьмешь — римская жидкая кровь. О том, что царевна византийская, не вспоминали.
Одно хорошо: дочери царевны вместе с их матерью не были опасны никому. Даже Иван Молодой, уверовав, что брата-соперника не будет, смотрел с усмешкой, но не так зло и ревниво.
Ивану Васильевичу тоже не пришло в голову утешать: мало ли деток умирает, едва родившись?
А вот старый врач Софии Феодосий Христопуло решился на трудный разговор с великим князем. Понимал, что может головы лишиться, но он был стар, а княгиня еще молода, и если ценой собственной жизни Феодосий мог спасти ее жизнь, он был готов это сделать.
Иван Васильевич разговору удивился. Да и кто бы не удивился, услышав такое:
— Государь, царевна уже третьего ребенка рожает за три года. А ведь она еще не привыкла к здешней погоде, ей трудно. Если еще также часто дети будут, то она погибнет. И детей осиротит.
Глаза Ивана Васильевича прищурились, в них появился именно тот блеск, который не сулил ничего хорошего.
— Это княгиня тебя просила со мной поговорить?
Врач замахал руками:
— Что вы, государь! Если царевна узнает, она меня сама убьет. Нет, это я из своего опыта говорю. Надо немного подождать… потерпеть…
— Сколько ждать?
— Год… два…
Говорил старый грек и гадал: сразу его великий князь убьет или сначала в тюрьме подержит. Но тот пробурчал:
— Что ж мне, в опочивальню не ходить?
Христопуло набрался храбрости и пообещал:
— Зато после сыновья пойдут.
— Почему ты уверен?
И снова грек сказал то, в чем уверен быть не мог, но он спасал жизнь своей госпожи, своей любимицы, ведь лечил их семью еще в Морее, знал все их секреты, а царевна, уезжая из Рима, не бросила старика пропадать.
— Так всегда бывает.
— Ладно… иди…
Не сразу послушал грека Иван Васильевич, заглянул в опочивальню жены, да и остался. Не прошло из четырех месяцев, как случилась трагедия — у государыни начались страшные боли и рези, а потом и выкидыш.
На сей раз Иван Васильевич пришел проведать Софию, повздыхал рядом, а потом сообщил:
— Потерпеть нам с тобой надо. Ты отдохнуть должна, иначе и детки не выживут, и сама помереть можешь. Потерпеть.
София и сама понимала, что так, но как терпеть, если муж горячо любимый, а плоть с очередной беременностью не справляется? На странные слова Ивана только кивнула, закусывая губу, чтоб не расплакаться. А когда он ушел, поревела вволю.
Тяжелой была ее женская доля, не до правления Московией, не до умных книг, прочитанных в Риме, не до мудрых речей, услышанных от учителей, ей бы сына родить… Это стало смыслом существования, пока нет сыновей, остальное не важно.
Она великая княгиня, но если и появляется где, то стоит за спиной мужа, свекрови и пасынка. В покоях все богато — на полах шемаханские ковры, из-за которых шагов не слышно, теперь уже зеркала венецианские, злата и серебра достаточно, много драгоценностей в больших ларцах, слуг множество, наряды любые, от яств столы ломятся… Но все это словно дано на время, словно она ни на что прав не имеет. Пока сына не родила — не имеет.
София чувствовала, что начинает тихо ненавидеть свою жизнь и свекровь. С пасынком отношения не сложились с первого дня. Жизнь в Москве оказалась совсем не такой, какой виделась из Рима…
Княжич Василий
Жизнь в Москве действительно была иной.
София и в Риме никогда не стояла в первых рядах, всегда позади, всегда в стороне. Никогда не была богата и самостоятельна, всегда подчинялась и послушно выполняла все приказы. А как иначе, если ты нахлебница, бесприданница, сирота?
Никто не знал, каково это для девушки с сильным характером, сильной волей и огромнейшим честолюбием. Она была племянницей и внучкой императоров, дочерью правителя Мореи, но при папском дворе жила из милости. Мечтала стать королевой и правительницей, но один король, пусть и незаконный, ее замуж не взял, а в Москве София снова стала нахлебницей.
Как ни старалась, и она сама оставалась для москвичей чужой, и московские порядки для нее тоже.
Полнота княгини никого не ужасала, а вот ее нежелание сурьмить брови полосками, наводить свекольным соком яркие пятна на щеки и чернить зубы вызывало осуждение у боярынь. Сначала София ужасалась:
— Почему у многих черные зубы?! Так много выпало?
Она слышала, что при рождении детей женщины нередко теряют зубы и волосы, но черным-черно было и во ртах у молоденьких боярышень.
Евлампия разузнала и объяснила:
— Зубы чернят, чтобы все подумали, что они больные. Зубы то есть.
— Зачем?!
Услышав объяснение, не сразу поверила, поскольку звучало оно так:
— Зубы болят от сладкого, а сладкое едят те, кто богат. Значит, больные зубы у богатых. Вот и чернят даже здоровые, чтобы казались больными.
— А щеки зачем свеклой мажут даже те, у кого румянец свой?
— Мода такая. Как в Риме волосы надо лбом бреют и брови выщипывают, так и здесь щеки румянят.
В Риме София категорически отказывалась выщипывать брови и ресницы и брить волосы до самого темени, здесь она также отказалась сурьмить брови, румянить щеки и красить зубы.
— Ничего, я их изменю! Дайте только срок — заставлю вас стереть свеклу со щек.
Ошиблась, не удалось, хватило и других забот, не до борьбы с румянами, если ты и твои дети в смертельной опасности день за днем, год за годом. Даже ближние боярыни продолжали выглядеть раскрашенными куклами, что их совсем не печалило.
София нередко кручинилась, что не может помочь мужу.
Все твердили, что Иван Васильевич хитер, видела это и его жена. Мало того, великий князь старался везде, где только можно, обойтись без рати. Если можно договориться — договаривался, подкупить — подкупал, запугать — запугивал. Договаривался за спиной, соблазнял какой-то выгодой, даже подбивал на предательство и не сдерживал собственные обещания.
Иван Васильевич никогда не слышал о Макиавелли, но если бы прочитал его книгу «Государь», то поразился, насколько точно итальянец описывал его собственную стратегию. Николо написал это наставление позже смерти правителя Московии, едва ли даже слышал о нем, но суть настоящего государя ухватил и описал точно. Иван Васильевич был настоящим государем — очень разумным, сильным и властным, не всегда обремененным чувством справедливости и не всегда честным. Наверное, иначе нельзя.
Но Софья видела и другое: иногда можно было просто перехитрить, великий князь действует в лоб. Подсказывать значило унижать его, а к этому Иван Васильевич очень чувствителен.
И она решила действовать иначе — предлагать свою хитрость ему в помощь.
Повод представился вскоре.
Возвращаясь на княжий двор со строительства Успенского собора, они заметили крутившихся там же ордынцев, что со двора наместника. Все этот ханский баскак знает, все учитывает! Каждый кирпич на заметку взял, каждое бревнышко. Чуть что, сразу укоряет, мол, лжет московский князь, жалуется, что золота мало, а сам строит и строит…
Великий князь зубами заскрипел:
— Соглядатай в Кремле сиднем сидит! И ведь не выставишь, хоромины ордынские когда еще построили.
София задумчиво произнесла:
— Хоромы горят иногда.
Иван Васильевич вздохнул:
— Мы с дьяком Курицыным о том давно думали. Так ведь из-за пожара может половина Кремля сгореть. Не столь его накажем, как остальных.
— Государь, дозволь мне за дело взяться?
Иван скосил глаза на жену, хмыкнул:
— Удумала чего?
— Удумала. Могу я ордынского наместника к себе пригласить, попотчевать? Лучше, чтобы тебя в Москве в то время не было.
Князь изумленно уставился на супругу: да в своем ли она уме?! София поняла, рассмеялась:
— Не бойся, государь, не в опочивальню позову, но на княжий двор. А ты и впрямь поехал бы поохотиться.
Через два дня Москва наблюдала удивительное зрелище: к ордынскому двору быстрым шагом направлялась молодая великая княгиня, а за ней семенили, то и дело осеняя себя крестным знамением, еще с десяток боярынь, чуть поодаль слуги. На ордынском дворе засвистели, и охрана вмиг окружила дом, натянув луки.
Но София входить во двор не стала, она остановилась, указывая на что-то над крышей, дождалась, пока женщины согласно загалдели, истово перекрестилась, по-прежнему глядя вверх. Выскочивший из дома наместник тоже задрал голову, но ничего не увидел, даже привычных ворон не было. Что они там узрели?
Прогнать бы плетьми, да впереди бабьей толпы великая княгиня. А ко двору со всех сторон уже сбегались москвичи. Понимая, что может произойти столкновение, наместник сам шагнул за ворота, толмач протиснулся следом.
— Что надо?! — Ордынец вовсе не был вежлив, сказывалось беспокойство из-за странного поведения княгини.
София поняла, что достаточно напугала баскака, пора и переговоры начинать, отвела взгляд от чего-то над крышей, что не видел никто другой, смиренно объяснила:
— Не серчай, мурза. Видение мне — над твоим двором лик святого Николая.
— Что?! — ужаснулся ханский наместник. — Где?!
— Неужто не видишь? Вон он. Все видят. — Княгиня обвела рукой стоявших вокруг женщин. Те закивали, загалдели, мол, видим, видим!
Наместник невольно поежился, но держался:
— И что?
— Храму быть в этом месте! — Палец великой княгини решительно ткнул прямо под ноги наместнику, тот невольно отскочил, словно храм мог придавить загнутый носок его сапога. — Святой Николай место для храма своего указал.
— А я куда? — даже растерялся ордынец от такой наглости.
София обнадежила:
— И тебя поселим, Москва большая. Ты уж прости меня, не могу сейчас говорить. — Она кивнула наверх, словно там все еще виднелся образ святого. — Приглашаю в княжеские покои ныне отобедать да побеседовать о сем невиданном чуде. Это чудо — честь тебе, такая не каждому выпадает. Знать, заслужил чем…
Ордынец буквально раздваивался: с одной стороны, его славили, с другой — соглашаться на выселение вовсе не хотелось, ему удобно жить именно в том месте и пристально следить за всем, что происходит в Кремле.
Но женщина была настойчива, ордынец согласился прийти отобедать, правда, сделал это хмуро, словно чтобы отстала.
София махнула рукой:
— Пора возвращаться.
Бабья толпа двинулась в обратный путь. Семенившая рядом с Софией Олена осторожно поинтересовалась:
— А если не придет?
— Куда он денется!
Наместник пришел. Конечно, не один, но никто и не ждал одного. София яств не пожалела, а с порога поднесла чарочку с поясным поклоном. Ордынцу объяснила, что вино из Рима прислано, но о том, что верная Ксантиппа в него кой-чего добавила, говорить не стала.
Потчуя ненавистных гостей, рассказывала о своем видении, мол, святой Николай указал ей на место, где ему должна быть поставлена церковь, а святых надо слушать. Ордынцы, привыкшие чтить всех богов на землях, которые завоевывали, беспокойно ерзали.
Ласково, но твердо журчал женский голос, услужливые пышногрудые девки подливали и подливали вино, норовя прижаться всем телом, ордынцев разморило, и немного погодя княгиня получила согласие наместника переехать в другой дом. О том, где будет этот другой, конечно, не говорилось. А, может, и было сказано, да в голове от фрязского вина уж слишком сильно шумело, причем не у одного наместника, его сопровождающие тоже были согласны на все.
Откуда-то появился писец с бумагой, наместник, одной рукой обнимая хихикающую девку, другой приложил печать к воску…
Заснули там, где пили, хорошо, что лавки в Москве широкие.
Солнце уж давно поднялось в небо, когда наместник наконец разлепил глаза. В голове гудело, во рту гадко, никаких девок рядом, только спящие сотоварищи. Ордынцу было знакомо это состояние, похмельем звалось. Если пить русские меды, то голова не болит, а вот если вина заморские… Ох как теперь будет плохо!..
Слуги принесли опохмелиться. Это были просто холопы, но баскаку все равно. Немного посидел, приходя в себя. В голове все равно стучало и даже громыхало. Неужели так много вина вчера выпито?
Но стучало не только в голове.
С трудом придя в себя и добравшись до двора, он не поверил собственным глазам: дюжие молодцы попросту крушили его дом!
Подскочил помощник, сказал, что вещи уже перенесли…
— Куда?! — взревел ордынец.
— Как ты повелел. От княгини еще вечером люди пришли, показали твою печать на грамоте, всю ночь утварь носили, а с утра хоромы разметывать начали. Сказано, что здесь церковь их святому стоять будет.
Наместник застонал то ли от головной боли, то ли от того, что его обманула женщина! Но святой… Неужели она действительно видела что-то над этим местом? Ордынцы считались с местными верованиями, они знали, что хуже нет навлечь на себя гнев местных богов.
В конце концов наместник просто махнул рукой: ладно, он заставит построить куда больший и лучший дом, например, прямо на княжьем дворе!
Эта мысль так понравилась, что он невольно хихикнул. Успокоившись, ордынец отправился на новое место.
Когда через два дня князь Иван Васильевич вернулся в Москву, то застал на месте бывшего наместничьего дома только груду бревен, а злого как черт ордынца — в посаде. Оказалось, что для него нашелся лишь старый дом Беклемишева далеко за стенами Кремля.
Княгиня не собиралась строить наместнику новый рядом.
Зимовать в запущенном боярском доме, где из всех щелей страшно дуло, а печи дымили (нашлись старатели, сумевшие это устроить), оказалось тяжко, а княгиня ни к зиме, ни даже весной церковь не заложила, словно и не думала этого делать. На вопрос наместника, почему не возводит храм своему святому, как тот требовал, беспечно ответила:
— А он передумал. Видать, испоганили место-то?
Князю объяснила так:
— Какой же храм на месте поганом? Буде надобность в застенке или еще чем таком — теперь есть где.
Ордынец избил всех слуг, что не успели увернуться, переломал немало мебели и утвари, переколотил дорогой посуды. Горько было признавать, что его просто вышвырнули из Кремля, причем так ловко, что и винить некого. Сам согласился, даже печать поставил. Какими только ругательными словами не называл княгиню наместник, но поделать уже ничего не мог. Пытался вытребовать себе место в Кремле, но ответ получил:
— Самим мало!
Когда весной уезжал, с трудом дождавшись конца распутицы, Иван, глядя ему вслед, покачал головой:
— Хану поехал жаловаться. Теперь жди Орды на Москву.
— Ныне Ахмат уже не успеет, у тебя есть время с Новгородом закончить. Не зря же князь Оболенский грамоты прислал, — спокойно отозвалась София.
И в этом она была права.
На Руси не зря говорили, что ордынцы как лук — по весне тут как тут. В этот год Ахмату рати уже не собрать, значит, надо с Новгородом закончить. И про грамоты София верно сказала. Оставленный в Новгороде наместником князь Стрига Оболенский хоть и умер от моровой язвы, а подарок Ивану Васильевичу сделать успел — вызнал через своих людей где подкупом, а где и силой и раздобыл тайные новгородские грамоты, что бояре с Казимиром заключали против Москвы да спрятать сумели, когда Иван Васильевич их прижал.
Лучшего подарка не сыскать, теперь у великого князя против Новгорода не только слово сказанное было, но и написанное, и печатями закрепленное. Не отвертится Марфа Борецкая!
И расправиться со всеми виновными князь может по праву.
А сделать это надо немедля, чтобы еще раз ни с кем договориться не смогли и в спину не ударили, ежели Ахмат и впрямь придет на Русь.
Ивана Васильевича снова не было в Москве — отправился «добивать» Новгород. На сей раз окончательно. И хотя понадобятся еще несколько десятилетий и усилия не только его сына, но и внука, чтобы полностью согнуть шею вольного города, одолел Новгород все же Иван III Васильевич, а его внук Иван IV Васильевич лишь завершил дело деда.
На сей раз опала не миновала и Марфу Борецкую, и большой вечевой колокол. Колокол, как символ новгородской вольницы, сняли и увезли в Москву. Тут нашлась работа Аристотелю Фиораванти, великий князь вовсе не желал разбивать колокол на виду у новгородцев, он приказал сделать все аккуратно. Не то чтобы опасался задеть чувства новгородцев, но не желал бунта.
Уходя походом в Новгород, Иван Васильевич оставил вместо себя в Москве Ивана Молодого. За полгода отсутствия отца Иван Молодой почувствовал себя настоящим правителем. Ладно бы Москвы, но и хозяином всей семьи. Первой ощутила это София.
Она никогда и никому не жаловалась, как бы трудно ни было, не жаловалась и теперь, молча снося все придирки пасынка, но однажды огрызнулась, да так, что молодой князь опешил.
— Я тебе не девка дворовая по первому требованию прибегать! — Темные глаза мачехи не сулили ничего хорошего, казалось, вот-вот вцепится в горло. — Я великая княгиня! Мне твоя любовь ни к чему, но уважай то, что я жена твоего отца. Никогда князю против тебя слова худого не сказала, жаловаться и впредь не буду, но не искушай.
София сказала правду: как бы ни было ей тяжело, она никогда не жаловалась мужу и не сказала слова против его родственников.
А Иван Молодой вдруг осознал, что у мачехи есть средство против него, недаром говорят, что ночная кукушка дневную всегда перекукует.
Понимала ли София, какого врага нажила? Наверное, ведь пасынок мог наговорить о ее поведении отцу чего угодно, а великий князь на расправу скор, нередко сначала наказывал, а уж потом разбирался. И наказывал жестоко, в этом Софии еще предстояло убедиться. Отныне и на много лет им предстояло зорко следить друг за другом, ожидая нападения, и не раз расплачиваться опалой за это противостояние. Примирение невозможно, так будет до гибели одного из противников.
У Софии была почти всеобщая необъяснимая неприязнь, были невнимание мужа и нелюбовь свекрови, а теперь еще и пасынок из недруга стал настоящим сильным врагом. А пожаловаться некому, в Москве она одна. Братья далеко, Мануил вообще вернулся в Константинополь и стал магометанином, но и Андреас в Риме ничем помочь не мог, сам защиты искал.
Уйти бы в монастырь, но были еще две маленькие девочки, которым без нее будет очень тяжело в жизни, — Елена и Феодосия. Мать — единственная их защита.
Круг приехавших с Софией из Рима постепенно сужался — кто-то, как Дмитрий Грек, вернулся обратно, кто-то, как князь Константин, ушел в монастырь, кто-то, как Христопуло, умер…
Перед смертью старый грек повинился перед Софией, рассказав о своем совете великому князю. Та ужаснулась, так вот почему муж избегал ее опочивальни! Но мужчине нужна женская ласка, не жена, так другая подарит. А где ласка, там и сердечная приязнь возникнуть может. Она с таким трудом завоевывала внимание Ивана Васильевича, привечая его всякий раз, как приходил, а врач посоветовал не ходить!
Но, поразмыслив, она поняла, что нет худа без добра, раньше они разговаривали только урывками между ночными ласками, а теперь князь все чаще беседовал с женой просто как с умной женщиной, а не женкой на ложе. Хорошо бы и то и другое, но София не знала, как вернуть мужа в опочивальню. Просто просить великого князя не позволяла гордость, София тосковала по мужу, близости с ним и просто скучала от безделья.
В Риме у нее были книги, беседы, танцы и прочее, здесь не было ничего. Сплетничать о малознакомых ей людях не хотелось, книг не было («Декамерон» она сама сожгла во избежание неприятностей, остальные хранились в подземелье вместе с ее приданым). Раньше рукодельничала, но как стала детей носить, это запретили, мол, можно дите внутри так зашить, что не разродишься.
Но теперь, когда она не в тяжести, снова можно бы вспомнить свое немалое умение. София старательна во всем, хотя и нетерпелива. Ежели разозлится, то берегись, но способна часами что-то учить или вышивать. Учить нечего, оставалось вышивка.
Великому князю наушничали, что государыня в одной из горниц венецианские окна заказала чуть не в пол вместо обычных.
Он отмахнулся, велев оплатить, но дьяк головой покачал:
— Деспина уж сама за все заплатила, из своих денег. Только к чему это, из-за тех окон печи до сих пор докрасна топят.
— Дров мало? — хохотнул Иван. Настроение было хорошее, портить его такой ерундой, как топка печей, не хотелось.
— Что ты, государь, дров хватает. Только к чему это?
«А и правда, к чему?» — подумал Иван Васильевич, отмахиваясь от осторожного дьяка.
Добро бы дворецкий переживал, а то дьяк. Небось, митрополиту уже наушничали про дрова и венецианские окна. Света и тепла деспине мало? Наверное. Она в теплых краях родилась, к русским сумеркам и холоду не привычна, пусть себе окна увеличивает, небось не обеднеет казна оттого, что печи государевы и весной топить станут?
Но мысль засела, а поскольку срочных дел не было, вдруг отправился посмотреть на окна и горницу.
Сзади семенил верный Тихон. От остальных соглядатаев государь отмахнулся, мол, ни к чему сопровождать.
Перед Софииными хоромами остановился, вглядываясь. И впрямь к солнцу повернуты три больших окна, не в пол, конечно, но вполовину больше обычных. Светло в горнице, подумалось Ивану, усмехнулся и зашагал туда. В хоромах, словно мыши по щелям, метнулись в стороны девки-прислужницы, со всех сторон слышалось ойканье — не всякий день государь среди бела дня к жене наведывается. Да, по правде сказать, вовсе такого не было, только ночью и ходил, да и то редко. При дворе уж болтать стали, что Римлянка не к душе пришлась, а невдомек, что государю и себя вспомнить некогда.
Дверь в горницу низкая, а рост у государя высокий, пришлось поклониться. Невольно вспомнил загадку про то, чему и великий князь кланяется всякий раз, как видит. Отгадка простая — дверной притолоке. Попробуй ей не поклониться — лоб расшибешь.
В горнице светло и тепло, вся солнцем полуденным залита.
И здесь в стороны из-под ног метнулись девки, в поклоне согнулась боярыня, и еще несколько девок вскочили из-за больших столов, что перед окнами, и склонились, свесив косы в пол. Деспины в горнице не было, как не было и признаков того, что она здесь живет.
Иван с изумлением огляделся. Вовсе не жилая горница и не опочивальня, это мастерская, у каждого из трех окон по четыре вышивальщицы сидит за большим шитьем. Хорошо им работать — светло.
Только успел о том подумать, сзади раздался голос Софии:
— Здраве будь, государь.
Склонилась в поясном поклоне, как положено.
Он рассеянно ответил:
— И тебе здравствовать.
Скользнул взглядом, отметив ладную пригожесть жены, но сейчас Ивана больше интересовали сами вышивки. Шагнул к ближнему столу, девки опустили головы еще ниже. Посмотрел, хмыкнул с удовольствием: шито знатно, повернулся к Софье. Та выпрямилась, но стояла скромно в ожидании вопросов.
— Ты ради этого венецианские окна поставила?
— Да, государь. Чтобы красиво вышивать, надо света много. Да и мастерицам так легче, не слепнут.
Вышивали все княгини и княжны, рукоделие на Руси у женщин в чести, каждая боярыня имела рукодельниц, да и сама много работала иглой, но здесь что-то непривычное.
— Чудно шьют. Где таких мастериц набрала?
Софья полыхнула горделивым румянцем.
— Обучила, государь.
— Ишь ты! Покров шьют?
— Да. — И вдруг тихо добавила, чтобы слышал только муж: — О наследнике молю, вот и спешу подарить…
Где это видано, чтобы Иван Васильевич бабьих слов смущался? Но тут случилось, крякнул и заторопился вон. София досадливо кусала губы, ругая себя за последние слова. Хорошо, что никто не слышал, а если слышали? Завтра же вся Москва знать будет, что нелюбая Римлянка у государя милости в опочивальне выпрашивала. Из-за своей досады не заметила и внимательного взгляда, которым окинул ее Иван Васильевич, выходя из мастерской.
Он вернулся, и результат не замедлил появиться. Уже к началу осени к Новому году София Фоминична могла объявить мужу, что снова в тяжести. Но, понимая, что тот снова перестанет навещать по ночам, не стала этого делать, пока сам не заметил.
— Это что? — приложил руку к наметившемуся животику жены Иван Васильевич.
— Тяжелая я.
— А почему не сказала?
— Так в который же раз. Не хочу обнадеживать. Пусть как будет.
Он согласился, спросил только:
— Когда?
— В марте, в конце.
На том и успокоились. Мария Ярославна узнала нескоро, обиделась, что не доложили, но София и здесь ответила так же:
— Не хочу обнадеживать.
А ведь было чем.
Она много молилась не только перед домашними образами и в княжеской церкви, несколько раз отправлялась на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, там и дышалось, и чувствовалось иначе. Дух Сергия витал над обителью.
Игумен Паисий, почувствовав ее духовную нужду, принимал хорошо. У Софии даже исповедник в обители появился. В монастыре она успокаивалась, куда-то отступали страхи, уходила суета, душа отдыхала.
Но возвращалась в Москву и снова обступали неприязнь и недоверие.
Бывали минуты, когда хотелось постричься в монастырь по примеру князя Константина. Но были маленькими дети, а главное — был Иван Васильевич. София любила мужа и понимала, что не сможет жить без него, не сможет в монастыре, зная, что тот совсем рядом. София не могла жить без своего царственного супруга не потому, что тот правитель, а потому, что любила этого мужчину всем сердцем.
А Иван Васильевич?
Это был очень сложный человек, таким князя сделала трудная жизнь. Став очень рано взрослым, он еще в детстве утратил все иллюзии и доверие к людям. Это тяжело — к десяти годам понять, что большинство вокруг лжет, что верить нельзя никому. Он и не верил. В том числе не верил и Софие.
Согласившись на такой брак, Иван Васильевич не сразу осознал сложность будущих отношений, а когда понял, было уже поздно, князья от своего слова не отказываются.
В Москву приехала наследница императоров, царевна, у которой десяток царских колен за спиной. А он всего лишь князь, пусть великий, но один из многих. И великими князьями московские стали не так давно, и данниками Орды до сих пор считались. Это унизительно — каждую весну ждать набега, а к зиме облегченно креститься: пронесло!
Она была выше по крови, положению, пусть и не имела уже родственников на троне (не считать же никчемных братьев) и приданого. И Иван Васильевич поспешил в тот же день обвенчаться с незнакомкой, чтобы поставить ее на шаг позади себя.
На всю жизнь это осталось неразрешимым: София безумно волновала Ивана Васильевича как женщина, он признавал ум и практическую смекалку жены, ее образованность и способность легко постигать новое, но постоянно доказывал, что она ниже, слабее, никчемней. Иван Васильевич не мог без Софьи жить, но не желал не только ставить наравне с собой, но и признавать равенство.
Софие всю жизнь приходилось доказывать мужу, что она чего-то стоит, и одновременно убеждать его, что ни на что не претендует. Она любила Ивана, желала его не меньше, чем он ее, рожала детей и доказывала, доказывала, доказывала… Всем. Ивану — что не пытается встать впереди, Москве — что достойна быть великой княгиней, врагам — что может с ними справиться, и самой себе — что способна все это выдержать.
София не знала об истинных чувствах и причинах странного отношения к себе со стороны мужа, считая, что все из-за отсутствия сыновей. Она была готова рожать каждый год, но сыновей, сыновей, сыновей! Не скрывала этого и от духовника, тот вздыхал и обещал молиться за нее.
Что-то помогло…
В очередной раз идя часть пути к Троицкому монастырю (это считала обязательным даже когда была уже тяжела), София вдруг увидела старца. Тот вел себя странно — не говоря ни слова, вдруг бросил ей спеленатое дитя, которое держал на руках. Ахнув от ужаса, София ребенка поймала, почему-то поняла, что это мальчик, но в тот же миг и старец, и дитя исчезли, как не бывало.
Не сон, значит — видение?
Сказала об этом в обители, игумен ахнул:
— То был сам Сергий, княгиня! О сыне возвестил.
Она рассказала о знаке свекрови, но та только поморщилась. Сколько раз уже невестке обещали сына, лучше бы молчала о своих надеждах! Есть женщины, которым суждено рожать дочерей, как другим одних сыновей, так бывает. У Ивана Васильевича есть наследник, да еще какой! Рождение сыновей нелюбимой москвичами Римлянкой означало соперничество. Нелепое соперничество, потому как Иван Молодой уже взрослый, и великим князем назван, и соправитель отца, но все равно найдутся те, кто встанет горой за младших княжичей, если такие родятся.
А любое противостояние между наследниками всегда оборачивается для Москвы бедой, это великая княгиня Мария Ярославна по себе знала. Ее собственные сыновья все чаще головы поднимали против старшего брата.
Это беда Марии Ярославны.
Началось все после смерти Юрия Васильевича. Иван с Юрием были дружны более других, Юрий словно жил для старшего брата и не женился, чтобы не плодить соперников племяннику, и почти все завещал великому князю. Но все равно после его внезапной смерти в 1472 году остался выморочный удел, который Иван Васильевич не пожелал делить с братьями, забрав все себе.
Все понимали почему — Иван крепил Москву, но обида от этого меньше не стала. С тех пор недовольство Андрея Большого и Бориса Васильевича росло. Самый младший Андрей Меньшой не противился, ему хватало Вологды и любви матери и брата. Мария Ярославна знала, что Андрей Меньшой даже Софию Фоминичну поддерживает, даря ей не украшения, которых и без того вдоволь, а серебро. Своей семьи у вологодского князя не было, он и потакал племянницам и их матери.
Зато двое других братьев были готовы сговориться против старшего не только меж собой, но и с его противниками — новгородскими боярами и даже Казимиром. Вот и болело сердце матери: с одной стороны, старший Иван Васильевич, который уже государь крепкий, с другой — любимец Андрей с Борисом, старшим братом, обиженные. За кого из них встать, если обе стороны правы?
У Андрея с Борисом по сыну. Понимала Мария Ярославна, что не только между братьями, но и после них между двоюродными тоже борьба за престол развернется. А любая борьба — это потеря силы Москвой, ее ослабление, добыча врагам.
Понимать-то понимала, но поделать с собой ничего не могла, лежало ее сердце более к Андрею Большому, и к этой невестушке — Елене княжне Мезецкой — тоже более других лежало. Сердцу не прикажешь, оно не слушало разумных доводов и не желало любить Римлянку с ее дочерьми. Сама себе Мария Ярославна твердила, что будь у Софии сыновья, ценила и любила бы ее больше, но понимала, что это не так. Терпела, и только.
Правда, в последние годы стала относиться мягче, жалея неудачницу Софию, к тому же сама великая княгиня София Фоминична заметно изменилась. В первый год вон как нос задирала, все себя правительницей мнила, цареградской наследницей, пыталась свои правила в Кремле заводить. Да ее быстро на место поставили, Царьград давно под турками, никакого наследства не было, а что родилась племянницей последнего императора, так всего-то в том проку, что орла двуглавого привезла и трон костяной. Но не сам трон важен, а тот, кто на нем сидит!
Но потом с Римлянкой словно что случилось, стала держаться в тени, из своих покоев почти не выходила, но не как в первую зиму — из-за мороза, а просто не появлялась на людях. Мария Ярославна была довольна, теперь все внимание сына доставалось ей и Ивану Молодому. А София рожала девчонку за девчонкой… Пусть себе, девки не соперницы братьям, даже двоюродным, нет на Руси такого правила — дочерям в наследство престол оставлять. Конечно, бывали женщины, которые и мужчин разумней, мать Василия Темного Софья Витовтовна вон какая была, такая не только княжеством — королевством управлять могла бы. О самой себе Мария Ярославна скромно не думала, но вот младшая дочь Анна Васильевна тоже бой-баба, по-мужски умна и решительна, по-женски хитра.
Но то Анна Васильевна, дочь самой Марии Ярославны, — а то София Фоминична, которую в какой-то Морее родила какая-то Катарина Заккария!
Мария Ярославна понимала, что Софья тоже умна и толкова, что она более родовита, чем княжны московские и сама Мария Ярославна, но отказывала невестке в праве быть с великим князем и с собой на равных. Ее место в опочивальне, тем более пока сына не родит. Потому свекровь и радовалась рождению у Софии дочерей: пока нет сына, та словно на ступеньку ниже стоит и права подняться не имеет.
Понимала это и сама София, потому послушала совет мужа, отошла в тень в ожидании.
А ждать лучшего и готовиться к этому ей привычно. Столько лет в Риме ждала, столько лет уже в Москве! Ей очень понравилась русская поговорка о воде, которая и камень точит. Капля за каплей, капля за каплей разрушает крепкую стену, чтобы потом прорвать и потечь вольно и бурно, сметая все на своем пути. София верила, что так будет и в ее жизни.
И в знак, данный святым Сергием, она тоже верила: будет сын!
Только Иван Васильевич прав — об этом и многом другом следовало молчать.
К марту София ходила уточкой, тяжело переваливаясь, старалась не показываться на люди, боясь сглаза.
Иначе ходила, чем первые разы, как-то спокойней, уверенней. О приметах не спрашивала, даже пресекала такие речи, если заводили. И от себя мысли о будущем ребенке гнала. Почувствовав схватки, не стала скрываться, позвала повитуху, пошла в мыльню, кричала, когда было очень больно.
Великий князь старательно скрывал свой интерес к происходящему в покоях жены. Столько раз рождались девочки либо роды были неудачными, что сглазить боялись все, а Иван Васильевич даже мысленно. Потому, когда оттуда прибежали с известием, что началось, постарался заняться делами, чтобы только не думать.
Он сделал все, чтобы оградить жену от чужого недоброго глаза. София почти не появлялась на людях, изредка, только в самые большие праздники выходила в собор, всегда и везде держалась не просто позади мужа и свекрови, но старалась в глаза не бросаться. После того памятного разговора все, в том числе и Иван Молодой, решили, что великий князь и вовсе не ценит жену, ее место в опочивальне и рядом с детьми.
София правильно поняла заботу мужа, правильно себя повела. Пусть Москва и пасынок с его сторонниками думают что хотят, у нее свои заботы. Вот родит сыновей одного за другим и покажет себя во всей красе!
И вот 25 марта, на день Гавриила и Василия, исполнилась страстная мечта Софии — она родила сына!
Княгиня не слышала, как свекровь сказала своей ближней боярыне:
— И-и-и… что ни родится на Гавриила, все уродливо и неспоро.
Та угодливо закивала:
— Да, государыня-матушка, чего хорошего от такого дня ждать?
София этой приметы не знала, для нее первый сын был самым красивым и ладным. Дочери дочерьми, но сын!..
Примета не сбылась, княжич Василий Иванович родился крепким и красивым, таковым оставался всю жизнь. Не во всем счастливую, трудную и к концу осуждаемую подданными, но долгую жизнь.
В памяти людской он навсегда останется словно между двух Иванов Васильевичей Грозных — своих отца и сына. Запомнится москвичам тем, что после двадцати лет счастливого, хотя и бездетного брака отправит свою жену Соломонию Сабурову в монастырь, чтобы жениться на литовинке Елене Глинской, которая родит ему сына Ивана, будущего Ивана IV Васильевича Грозного.
Но тогда до этого было еще очень далеко, в колыбели лежал крепкий младенец, кормили которого две мамки, одна не справлялась. Великий князь радовался:
— Наконец-то! Прав был старый грек, советовавший «потерпеть».
Крестили младенца в Троице-Сергиевом монастыре, имя дали двойное — крестильное Гавриил и для остальных назвали Василием. София и сама не могла объяснить, почему упорно звала сына первым именем, когда все вокруг называли вторым. Это было ее право, она желала хоть чем-то отличаться. Василий Иванович воспринимал свое крестильное имя, как данное матерью, их тайну, это особенно роднила мать даже через много лет со взрослым уже сыном.
А через полгода София Фоминична снова сообщила мужу, что в тяжести…
Щедро одарил жену Иван Васильевич, но не деньгами или земельными владениями, как стоило бы, а украшениями. София вздыхала:
— Ларец полон, а денег даже на милостыню нет. Была в Риме нищей — и в Москве такой осталась. Живу словно из милости у собственного мужа.
Это была горькая правда, все княгини и даже княжны вокруг Софии имели земельные владения — деревни, села и даже города, приносившие им какой-то доход, у Марии Ярославны вон целый Ростов, а у великой княгини, кроме собственной опочивальни, в которой и ковер постелен с ведома мужа, ничего!
Иван Васильевич считал, что так и должно быть, ни к чему жене при живом муже заниматься хозяйством и свои деньги иметь. А о том, каково это — вечно ждать подачек и не подавать вида, что нуждаешься, не думал.
Понимала ли это Мария Ярославна? Конечно, понимала. Умная женщина, всегда имевшая собственные средства и щедро их раздаривавшая, не могла не знать о трудностях невестки, но это было еще одним средством давления на Софию, упускать которое княгиня-мать не желала. Она и внушала сыну, даже теперь находившемуся под сильным материнским влиянием, что женке достаточно мужниной любви и подарков, какие он сочтет нужным подарить. О себе почему-то не упоминала.
Зато понимал беду невестки младший из князей — Андрей Меньшой. Вологодский князь не забывал одаривать невестку и племянниц по праздникам, причем давал серебро или вещицы, которые советовал передарить в случае необходимости. Пусть немного, но это выручало.
Просить у мужа София считала унизительным, все надеясь, что догадается сам. Но Иван Васильевич был догадлив только в свою пользу, ждать от него милости не стоило.
Далеко не все радовались рождению сына у великой княгини, особенно недоволен был Иван Молодой.
Ивану двадцать один год, жениться самому давно пора, своих детей рожать, а он все позади отца. Тот назвал сына не только великим князем, но и соправителем, все время твердил, что следующее правление его, что никто не сможет перейти дорогу, но Иван Молодой все равно не был спокоен.
Почему? Что он предчувствовал? София никакого повода ненавидеть себя не давала, давно поняв правоту мужа, что гусей дразнить не следует. Но ее сын самим своим существованием был опасен старшему брату. Перед глазами Ивана Молодого разворачивалась трагедия отца и его братьев, когда Ивану Васильевичу никак не удавалось поставить «к стремени» желавших власти хотя бы в собственных уделах Андрея Большого и Бориса Васильевича. Не будет ли так и у него?
Иван Молодой не боялся, что не справится с младшим братом даже в будущем (расправа проста — в тюрьму неугодного или в монастырь, а то и вовсе казнить!), но не желал таких трудностей для себя. А потому злился на мачеху. Рожала бы девок и сидела в своих покоях!
Через год после первого сына София родила второго, названного Георгием (Юрием). Наверное, имя выбрал князь в честь своего любимого умершего брата. Этого мальчика крестили в Москве, София по-прежнему старалась не привлекать внимания к себе и к детям. Не время еще, а ждать и готовиться она умела.
Вокруг была не любившая ее Москва, равнодушная свекровь, скрипевший зубами уже взрослый пасынок, размалеванные боярыни, но был любимый муж и уже четверо маленьких детей. В том, что будут еще, София уже не сомневалась.
А к власти она еще придет…
Беда не приходит одна
Это был страшный год.
Сначала ничто не предвещало беды. Великий князь с октября был в Новгороде, оставив Софию уже круглой — она носила второго сына. К отъездам мужа жена привыкла, князь на коне чаще, чем на перине. В том, что будет сын, уверена. Девочки и Вася здоровы, сама София тоже.
Тревожные дни начались к февралю перед Масленой. Пришло известие, что недовольный расправой великого князя над Оболенским, перешедшим на службу к Борису Васильевичу, этот брат Ивана отправил семью в Ржев, ближе к литовской границе, а сам поехал к брату Андрею в Углич. Мятежные Борис и Андрей Большой в Угличе, при том что семья в Ржеве, это могло означать только повторение истории с Шемякой, когда тот метнулся из Углича на Москву, чтобы захватить ее.
Сначала гонец загнал трех лошадей, неся тревожное известие великому князю в Новгород, потом сам князь, возвращаясь в столицу. Иван примчался в Прощеное воскресенье, просил прощения у всех, даже у митрополита Геронтия, благословившего его сквозь зубы. И мать тоже словно окаменела, на вопрос, как быть, поджала губы:
— Умеешь обижать, умей и уступать.
На дворе февраль, летом хан Ахмат непременно на Русь пойдет, уже и с братьями своими договорился, и с Литвой тоже. Силищу поведет такую, какой Русь со времен Батыя не видывала, а братья на раздор решились. Неужто свобода боярина Оболенского стоила судьбы Руси?
Но братья припомнили Ивану все: и то, что после смерти Юрия Васильевича себе его выморочные города забрал, и что добычей разграбленного Новгорода не поделился, и что все решает советуясь, но советы не учитывая, и что вообще много воли себе взял…
Только сначала вовсе не желали с ним переговоры вести, собрались и отправились обозом в Ржев, а там?.. Неужели родные братья предадут и в Литву переметнутся? Раздерут Русь на части между Литвой и Ордой?
Иван не жаловался жене, он все еще считал, что не ее это дело, хватит с великой княгини забот с детьми. Было очень обидно, но София понимала, что ничего пока исправить нельзя. Она уже не сидела в тереме безвылазно, хотя по-прежнему боялась морозов. Однако и на людях появлялась редко, старалась просто уезжать куда-нибудь или гулять по двору, чтобы никто не видел. Москва так ее и не приняла, а она не приняла Москву.
Но были трое детей, и вот-вот родится четвертый. Может, Мария Ярославна и права — ее заботы в них, а остальное пусть князь решает? Но сама вдовая великая княгиня вмешивалась во все, София точно знала, что она поддерживает мятеж младших князей против старшего, даже подстрекает. Зачем? Неужели не понимает, что тем страшно мешает Ивану и ослабляет Московское княжество?
Все понимала Мария Ярославна, но вопреки всеобщему убеждению, что она добрая мать и прекрасная помощница, больше старшего из своих сыновей любила княгиня следующего — Андрея Большого, ему отдала многие из своих владений, но одного не могла — посадить своего любимца на московский престол.
И вот теперь бунт младших князей против старшего. Не время не только бунтовать, но и просто ссориться, вокруг Московии одни враги, к тому же между собой сговорившиеся. Если братья в Литву отъедут, совсем беда будет.
София не стала вмешиваться, все равно не послушают, но, прося прощения у мужа, мимоходом посоветовала:
— Примирись, лучше потерять меньшее, чем все.
Иван только метнул свой страшный взгляд на жену, но София уже научилась не обращать на его взоры внимания. Знала, что все понял, а раз понял, то учтет сказанное. Но если решит иначе, то ничем не переубедишь.
Беда вдруг оказалась на пороге, а отвести нечем. Одна надежда на разум супруга.
Иван смирился, отступил, отдал братьям все, что просили, выбив тем самым у них повод для возражений. Конечно, обиды остались, но в чем теперь винить?
К братьям ездил ростовский архиепископ Вассиан, митрополита Геронтия Иван Васильевич в помощники не позвал, не доверяя всевладыке. Обидно тому? А как же! Но когда судьба решалась, не хотел великий князь рисковать и сводить вместе своих соперников. Надо было братьев срочно из соперников в помощников превратить, чтобы не спелись с врагами. София права, лучше потерять малое, чем все.
А она в четверг (княжий день!) на шестой неделе поста ровно через год после первого сына родила второго. Георгий был не столь силен, как Василий, к тому же князь не рискнул выезжать даже в Троице-Сергиев монастырь, ребенка крестили в Москве, но разве это плохо?
Зато в Москву приехал долгожданный гость — Андреас!
София была несказанно рада.
В майских садах старательно гудели шмели, перелетая с цветка на цветок, было тепло и сухо. Андреасу понравилось в Москве, хотя нос воротил от деревянных зданий и пожарищ, без которых не обходился ни один год.
София старалась, чтобы брату было удобно, чтобы остался доволен приемом, просила остаться жить в Москве, но Андреас, сразу осознав, что воли здесь не будет совсем, торопился обратно. Он привез подарки великому князю и племянникам, получил ответные дары и засобирался обратно. В Москве уже знали тревожные новости — хан Ахмат собирается в новый поход. Примирение братьев Васильевичей произошло, но припозднилось, их противостояние подсказало ордынцам, что пора пытаться урвать свой кусок.
Оказываться в беспокойное время в чужой стране Андреасу не хотелось, Палеолог решил, что в Риме спокойней.
Перед самым отъездом в июне откровенно рассказал сестре о своем бедственном положении. София собрала все что смогла (своих средств у нее просто не было) и щедро сложила украшения в кошель брата. Что она еще могла?
А в ответ получила полный насмешек отзыв Палеолога о ее княжестве, о Москве и о ее житье-бытье. София сумела проглотить слезы и не подать вида, как это обидно — слушать полунищего братца, который ругает ее жизнь. Хотелось крикнуть, что у него и такой скоро не будет! Погряз Андреас в долгах, сестра понимала, что он быстро потратит все, что сумела собрать, снова влезет в долги и когда-нибудь просто поплатится за свои долги жизнью.
Но она ничего не могла поделать, не могла ни помочь, ни просто отругать Андреаса, он оставался единственным Палеологом: глядя на брата, София видела отца. Сам Андреас вдруг вздохнул:
— Одни мы с тобой на свете остались. Нет остальных Палеологов.
Они избегали упоминать Мануила, перешедшего в магометанство и служившего турецкому султану.
— Андреас, если будет трудно, приезжай, чем смогу — помогу.
— Ладно уж, — махнул рукой брат.
Андреас уехал, Иван Васильевич отправился с войском в Коломну.
Перед тем на совете с боярами, матерью, митрополитом и воеводами решал, как поступить. Слишком серьезной оказалась угроза: против Москвы шел не просто хан Ахмат, как в год приезда Софии, ныне он собрал большое войско, очень большое. И с Литвой сговорился, что вместе выступят, и ливонцы своего не упустят. По всему выходило: Москве либо окончательную победу над Ордой одержать, либо навсегда исчезнуть.
Был выход: покориться Ахмату, выслать послов вперед с богатыми дарами, на веки вечные данниками остаться, надеть еще более тяжелое ярмо на шею. Обобрать всех и выплатить многолетнюю дань, к тому же добавить за нанесенный неподчинением урон и впредь тоже платить куда больше, чем было когда-то.
Но это тоже погибель, Московия и без того небогата, злата своего и серебра, какие у других в земле есть, не имеет, самоцветов тоже, все богатство — меха да то, что горбом смердов выращено. А чтобы дань платить, надо те меха продать, значит, на поклон либо к Новгороду, либо, хуже того, к Литве идти.
Из ослабшего от дани княжества, неспособного защитить своих, побегут сначала князья, что покрепче, отложатся, уйдут в Литву, уйдет Новгород, ливонцы под себя заберут Псков. Побегут к богатым соседям бояре: своя рубаха ближе к телу, к чему им Москва без злата? И простой люд тоже от бесконечных поборов побежит, места на земле много, не у этого князя, так у другого, а не у князя, так и вовсе в глухомань заберутся.
И это погибель, ослабшее княжество соседи-враги растащат быстро.
Вот и получалось — куда ни кинь, всюду клин.
Все прекрасно понимали угрозу для Москвы: сопротивляться, значит, рисковать всем. Но не сопротивляться — заведомо все потерять. Только великий князь Иван Васильевич раньше смерти в гроб ложиться не собирался, пока живы, надо бороться.
Совет проходил тяжело, София обычно на таких собраниях боярских не присутствовала, не по ней дело, да там и княгини Марии Ярославны хватало. А тут попросилась, немало удивив и мужа, и свекровь. Великий князь знал, что женщины настроены по-разному. София все твердила, что ордынцев из Москвы гнать пора, и Мамата из Кремля прогнала. Мария Ярославна, видевшая, как разоряют города ордынцы, и понимавшая, что ждет в случае поражения Москву, стояла за то, чтобы Ахмата, пока не поздно, замирить — предложить выкуп, заплатить пропущенную дань, повиниться…
София не спорила, понимая, что не ее слово главное, но стоило только Ивану оказаться с ней наедине, заводила свою песню: уступишь сейчас Ахмату — не просто разорит Русь, а уничтожит, поделив с Казимиром. Говорят, ночная кукушка дневную всегда перекукует, но только не сейчас. Не было времени у Софии куковать, а вот у Марии Ярославны оно было. С ней, а не с женой считался великий князь, к ее словам прислушивался, ей доверял.
Тем более Марию Ярославну поддерживали многие бояре и воеводы. И сосед Михаил Борисович Тверской за замирение Орды стоял, и митрополит Геронтий тоже. Что против них голос Ромейки, которая в своих покоях сидит и ничего не знает?
София слушала речи князей да бояр и думала о том, на что те рассчитывают. Дань не плачена много лет, если ныне и отдать за все годы Ахмату, так завтра другая Орда придет себе требовать. Их сейчас много, каждый из пяти потребует, так совсем разорят Московию, а потом все равно на части растащат.
Но она понимала, что, скажи это вслух, решат, что вмешивается не в свое дело, не станут слушать князья да бояре ее рассуждения о том, что бедной Московии неоткуда столько злата и серебра взять. Скажут, что не надо было столько лет уклоняться от уплаты, посоветуют народ обобрать. София не задумывалась о смердах или купцах, но хорошо помнила рассуждения Плифона, что обобранный народ норовит или правителя скинуть, или к другому уйти.
Может, кто-то из бояр на это и рассчитывал?
А сказать об этом нельзя, значит, надо иначе, хитрей, чтобы не поняли суть ее размышлений бояре, но требование поняли.
— Дозволь, государь, и мне слово молвить, — попросила вдруг София, поднимаясь со своего стульца. И, не дожидаясь разрешения, заговорила, да как! — Слушаю я умные речи, да понять не могу, в чем их ум. Не бабье то дело, но вот вам наш бабий сказ. Сколько лет Русь под Ордой живет? Жизнь ли это? Один только раз князь Димитрий посмел отпор дать, и ведь прогнал проклятого Мамая. Чего вы все боитесь? Рати с ордынцами али просто зады с лавок поднять?
Собравшиеся возмущенно загалдели, Никита Косой даже запальчиво выкрикнул, что и впрямь не бабье это дело. Крикнул петушком и тут же за спину воеводы Данилы Холмского спрятался. Иван Васильевич поднял руку, делая знак, чтобы замолчали:
— Пусть скажет государыня.
Мария Ярославна в своем вдовьем одеянии (и к чему надела, словно заранее Москву оплакивая?) сидела с отрешенным видом, словно не слышала ничего. Обижалась на сына, что жену государыней назвал.
София благодарно глянула, продолжила:
— Орда била всех поодиночке, пора бы уж распри забыть да всем вместе отпор Ахмату дать. Он после Алексина сунуться долго не смел, а что сейчас рать большую собрал, так и вы не слабей стали. Не мое это дело — о рати судить-рядить, но одно скажу твердо: бабы русские не хотят больше в страхе за своих детей жить! Государь, коли мужи русские не могут нас защитить, то мы, бабы, сами рать соберем и на защиту земли Русской встанем!
Темные глаза великой княгини, казалось, метали стрелы огненные в бояр и воевод, чем дольше говорила, тем больше глаз в пол опускалось, а пятерней в затылки лезло. Кряхтели от суровых слов государыни, смущенно носами шморгали.
Митрополит метал гневные взгляды, а великая княгиня Мария Ярославна и вовсе губы поджала, но вся напряжена, вот-вот и сама с кресла поднимется, чтобы невестке на ее неразумные, обидные для князей да бояр речи ответить. Совсем ополоумела?! Столько лет сиднем сидела, а теперь вон вышла сказать! А что мужу за те речи от своих бояр да воевод придется много обидного выслушать в ответ, не подумала?! Римлянка, одним словом. Плюнуть бы в сердцах да прогнать дурищу строптивую, но это все после, а сейчас надо было как-то примирить бояр с глупостью Софииной, повиниться, чтобы не все на сына легло.
Но Мария Ярославна не успела.
София наконец рукой махнула:
— Дозволь, государь, удалиться. Тошно мне здесь.
Иван видел, как задели слова государыни надменных бояр, попытался чуть разрядить накал, усмехнулся:
— Куда, бабье войско собирать?
София, умница, вмиг все поняла, подыграла. Остановилась, подбоченившись, презрительно окинула взглядом притихшее собрание, фыркнула:
— А то! Мы супротив хана Ахмата пойдем, а вы, мужи храбрые, уж не взыщите, дома на хозяйстве останетесь. Надо же кому-то за детишками присмотреть, грязные пеленки стирать и пряжу на веретено мотать.
Развела сокрушенно руками и удалилась, гордо вскинув голову.
На мгновение установилась звенящая тишина, потом первым хохотнул князь:
— А ведь права государыня-то. Сберутся бабы в поход, придется нам вместо них на хозяйстве оставаться.
Его поддержал воевода Даниил Холмский, тоже хохотнул:
— Ахмат того бабьего войска вусмерть перепужается али со смеху помрет. Вот и выйдет победа.
Остальных словно прорвало: со всех сторон посыпались шуточки-насмешки, кого-то забавляла сама мысль о бабьем войске, кто-то признался, что ни в жисть с мальцом своим не справится, ежели хоть на час остаться придется, лучше супротив ордынцев воевать. Хохот стоял в покоях такой, что на дворе слышно.
Смех растворил обиду, но главная мысль государыни не забылась. Дав боярам и воеводам вволю порезвиться, Иван Васильевич вдруг хлопнул рукой по поручню своего кресла:
— Не в бабьем войске дело, а в том, что права государыня — хватит уже под Ордой ходить. Ежели сейчас Ахмату подчинимся — оберет до нитки и еще ярмо на шею наденет.
— А не подчинимся, так они с Казимиром и вовсе на части растащат, — поосторожничал Никита Косой и снова спрятался.
— Казимиру не до нас, его Менгли-Гирей по уговору с нами тревожить сильно будет, если Ахмат двинется.
Конечно, София не собиралась никакое бабье войско собирать, бабам ли против ордынцев воевать, те с удовольствием в плен захватят. Но чем еще укорить мужчин, как не такой угрозой?
Получилось, решили противостоять Ахмату, надеясь, что и Менгли-Гирей не подведет, нападет на Литву, чтобы Казимир не смог прийти ордынцам на помощь.
Опасно? Конечно. Не просто опасно, но смертельно опасно для Москвы и Ивана Васильевича. Но иного выхода не видно.
И вдруг…
— Поедешь с детьми в Димитров.
— Почему?! А в Москве кто останется? — София испугалась, как бы ни были ветхи стены Москвы, но ее будут оборонять до последнего, а Димитров — маленький город, и крепость там маленькая. Она не была, но знала. К тому же это совсем недалеко, зачем уезжать?
Иван ничего объяснять не стал, не до того:
— С собой возьмешь всю свою свиту. В Димитрове подождешь.
— Чего?!
— Дальше скажу, что делать. А на Москве великая княгиня Мария Ярославна останется, митрополит и Михаил Борисович. С тобой поедет боярин Андрей Плещеев. Не тяни, сразу как мы уедем, и вы должны отъехать. Два дня на сборы.
София ужаснулась, хотя вида не подала. Если муж вот так жестко приказывает покинуть Москву, значит, не верит, что столицу защитят.
Собиралась, глотая слезы, которых снова никто не видел. Москве не до сборов великой княгини было, София давно жила замкнуто в своих покоях, а в самой Москве сборы шли другие — с ханом Ахматом воевать. Шутили, бодрились, мол, когда-то и князь Димитрий Мамая бивал, да и мы подле Алексина уйти вынудили. Но все понимали другое: заставить уйти, конечно, хорошо, тогда и потерь немного, а еще лучше — не приходил бы, но ордынцы с места далеко в степи уже двинулись, значит, придут и на сей раз, как в Алексине, не поддадутся, а будет сеча, значит, будет много крови и вдов с сиротами. А помощи ждать неоткуда, растащили вороги половину Руси, сколько княжеств под проклятой Литвой сидит, которая что ни год с Ахматом против Москвы сговаривается.
Не на охоту или в гости собирали москвичи своих воинов, понимали, что, ежели сеча будет, многих потеряют.
Просили и землю Русскую защитить, и самим живыми остаться, обещали Москву крепко держать, если, не дай Господь, придется.
Иван Васильевич к жене только заглянул, и то скорей детей поцеловать на прощание. Ее тоже поцеловал — крепко, словно запоминая. Коротко сказал одно:
— Сбереги детей.
А с матерью, великой княгиней Марией Ярославной, прощался прилюдно перед тем, как на коня птицей взлететь. Здесь был троекратный поцелуй, поклоны и напутствия. София смотрела со своего крыльца, стараясь держаться в тени и слез не вытирать, чтобы никто их не заметил. Конечно, ближние боярыни и девки заметили, но не удивились. Как же жене не плакать, коли муж в трудный поход уходит?
Смолк стук копыт вдали, опустилось облако пыли, поднятое уходящим войском, разбрелись по дворам москвичи судить да рядить обо всем.
Занялась делами и София.
Иван Васильевич приказал ехать в Димитров. Как надолго — не сказал, видно, не знал сам. Забрать детей и весь свой двор. По тому, как отстраненно с ней прощались, а потом словно и вовсе забыли, стоило последнему всаднику из московских ворот выехать, София понимала, что приказ разумный. На нее в Москве и без того косо смотрят, а без княжьей защиты волками глядеть станут. На душе от такой мысли неожиданно полегчало: может, великий князь жену с ее придворными из столицы отправил, чтобы мать да митрополита с их сторонниками не раздражать? Потому не далеко, до Димитрова полсотни верст, не больше. Значит, для Москвы опасность не так велика?
Дьяк Плещеев, к которому обратилась, согласно кивнул головой, мол, все знаю, приказано, несмотря на нехватку, и лошадей выделить, и повозки, и кареты приготовить, и подводы тоже. Подсчитал, сколько сможет выделить, просил уложиться в эти. Все равно обоз получался немалый.
София со вздохом согласилась, принялась распоряжаться сборами.
Ее приказ среди придворных боярынь да многочисленных приживалок, которых со двора не гнала, обернулся паникой — завопили, заголосили, словно не повозки, а гробы предлагала и не в Димитров, а на кладбище везла. Пришлось прикрикнуть, да так, что ближние поприседали, а остальные быстро закрестились. И снова испытала сильнейшую головную боль. Досадуя на себя, разбила о стену два дорогих венецианского стекла бокала о венецианское же зеркало и о стену. Холопку оттаскала за косу из-за неповоротливости и непонятливости, еще троим досталось по спинам.
После выволочки свалилась с головной болью, и сборы организовали без нее. Получалось плохо — княгиня и здесь оказалась ненужной.
Пока София приходила в себя, лежа в темной опочивальне с прохладной повязкой на голове, обоз собрали. Ее удивили возы с теплой одеждой и множеством разной утвари, вплоть до кухонной. Сомнений добавил повар Афиноген, жаловавшийся, что никак не может оставить в Москве свои чугунки и поварешки, мол, как будет готовить для любимой княгини ее любимые блюда, а Плещеев не дает больше одной подводы. Махнула рукой:
— Грузи плотней. Сам же видишь, что ни подвод, ни лошадей нет.
Афиноген хотел спросить, почему вообще уезжают и куда, но, глянув в лицо государыни, не решился.
За сто лет до того великую княгиню Евдокию Дмитриевну, жену великого князя Дмитрия Донского, москвичи из города с детьми не выпустили, чтобы защищал князь Москву вместе со своей семьей. Не позволили уехать с шестью детьми, даже когда ворог под стенами стоял, княгиня с княжичами должны были разделить судьбы других матерей и детей.
А в 1480 году москвичи с удивлением, но не противясь, наблюдали, как из городских ворот выезжает обоз Римлянки, как по-прежнему называли Софию Фоминичну Палеолог в Москве. Княгиня покидала город не только со своими четырьмя детьми, но и со всем своим двором, хотя ни врага у стен Москвы, никакой угрозы пока не было. Князь уехал в Коломну, готовый двинуться туда, куда пойдет Ахмат-хан. Иван Молодой стоял с войском в Серпухове тоже в ожидании. В Москве остались великая княгиня Мария Ярославна, митрополит Геронтий и удельный князь Верейский.
Кибитка за кибиткой с закрытыми от дорожной пыли дверьми, подвода за подводой длинного обоза еще покидали город, а горожане и смотреть перестали. Уехала Римлянка — и ладно, пусть себе.
После девяти лет жизни в Москве София так и не стала своей.
Она могла креститься и молиться перед образами, могла позвать хоть всех итальянцев сразу, оставив в Риме одного папу Сикста, могла родить сколько угодно сыновей и потратить всю свою казну на сирых и убогих, построить сколько угодно соборов и выгнать хоть десяток ордынских баскаков, но русской от этого не стала.
Бабушка Ивана Васильевича София Витовтовна крестилась в православие после униатства, была женщиной резкой, вмешивалась в дела мужа и даже спровоцировала войну между двоюродными братьями, накликав на собственного сына Василия беду — ослепление.
Мария Ярославна тоже не сидела сиднем в тереме, и она вмешивалась в дела сначала мужа, потом сыновей, не всегда удачно и справедливо, не всегда помогая.
София же подчинилась обстоятельствам, она занималась только детьми, перестав даже давать мужу советы, редко появлялась на людях, жила тихо и замкнуто, а если что-то и делала, то только с согласия великого князя. И все же своей для Москвы, для Руси не стала.
Ей еще предстояло понять почему.
Предстояло осознать, как защитить себя и детей.
Но это было еще впереди, а пока не очень дальняя дорога, тревога и полная неизвестность…
Это для москвичей великая княгиня Римлянка удирала со своими домочадцами и слугами, для нее самой отъезд был ссылкой.
Чем больше думала, тем крепче утверждалась в этом мнении. Ахмат еще где-то в степи, дойдет ли до Москвы, пойдет ли на нее вообще — неясно. Конечно, не по грибы собрался, не ради прогулки Орду свою к Оке ведет, но все же. Угроза Ахматова не завтрашняя, ворога под стенами еще месяцы ждать, даже если дойдет, а княгиня удирает.
Все, кто это видел, смотрели косо. Не станешь же кричать, высунувшись в окно кареты, что поступает так по приказу великого князя?
Но для самой Софии страшно другое: куда едет! Димитров вовсе не защита от ордынцев, ежели Москву осадят, так полсотни верст пусть и по плохой, но все же дороге им не расстояние. Туда легко доберутся, а защиты в Димитрове и вовсе нет, разве что от соседей-бояр. Почему туда?
К чему зимняя одежда сложена? Это означало только то, что князь решил ее в Димитрове и на зиму оставить. А это ссылка. В монастырь упечь не может, четверо детей все-таки, так он всех вместе пусть недалеко от Москвы, но усылает.
И снова текли беззвучные слезы отчаяния. Вот чем обернулась резкая речь на совете! Войско против Ахмата выступило, а саму бунтовщицу из Москвы выгнали.
Все внутри сопротивлялось этой мысли. Может, не ссылка, может, действительно из-за опасности отправил семью прочь из Москвы Иван Васильевич? Вспомнила слова «пока в Димитров», значит, не насовсем? Андрей Михайлович Плещеев, которому обоз поручен, только руками развел:
— Остальное мне неведомо, государыня. Сказано обоз собрать да в Димитров привести.
— Почему зимнего столько, лето же?
И снова он пожимал плечами:
— Готовь сани летом…
От Москвы до Димитрова недалече, верховому быстрым скоком так и вовсе полдня.
Обоз тащился медленно, очень медленно, вызывая недоумение в попадавшихся по пути селениях. Было тех немного, Московия, как и вся Русь, лесами покрыта, летом мало кто ездит, стараются зимой по замерзшим рекам. Но на сей раз выбора не было, тряслись на ухабах, переваливаясь из одной ямы в другую.
Впереди боярин Андрей Михайлович Плещеев с небольшой охраной, остальные верховые вокруг да позади обоза. Воины были страшно недовольны тем, что другие воевать будут, а они баб царевниных охранять, словно это позорное поручение. Но возражать не смели.
В кибитке за закрытыми дверцами темно и душно, но иначе пыли наглотаешься. Пыль все равно проникала внутрь, набивалась в перины, обивку, ткани, в волосы. Было трудно дышать, сильно трясло.
София сидела, прикрыв глаза, и размышляла.
Давно ли к достойному сопротивлению ордынскому хану Ахмату призывала, бабье войско собрать грозила, а вот подошел Ахмат к границам Руси, и ехала она, великая княгиня София Фоминична, вместе с детьми и немалым своим двором в Димитров, спасаясь от возможного нападения ордынцев на Москву. А мать великого князя Мария Ярославна в Москве осталась, не испугавшись.
София ни с кем не разговаривала, никому душу не открывала. Приказал великий князь уезжать в Димитров — уехала, словно бы подчиняясь его воле.
Те, кто на совете был, либо уже на Угру с войсками ушли, либо в Москве остались, но никто не укорил за отъезд, словно и не сомневались, что удерет.
Большая колымага, выстеленная многими мягкими перинами, чтобы удобно ехать, все равно тряслась. Внутри сидели кроме Софии дети, их нянька, кормилица маленького Георгия и две служанки. Несмотря на тряску, утомленные сборами и отъездом, а также ощущением тревоги окружающих взрослых дети спали. Прикорнули и взрослые.
София тоже делала вид, что дремлет, чтобы не отвечать на расспросы, как надолго едут. Самой знать бы. Иван Васильевич приказал добираться до Димитрова, там, мол, скажут, куда и как дальше. Кто скажет? Почему не сразу в Москве? Но великий князь молчал в ответ на все расспросы, и это не добавляло спокойствия. Хуже нет неизвестности.
Сколько раз она переживала эту неизвестность, неуверенность в будущей жизни! Сколько раз подвергалась опасности, не ведая, что впереди… Но тогда она была сама за себя, а вот теперь с ней дети. Ее дети, их с Иваном дети. Провожая, просил об одном: сберечь детей.
София боялась всю жизнь. В детстве — понимая, что все благополучие и спокойствие основано только на надежде, что не придут страшные турки, не заберут в рабство.
Боялась, когда укрывались в стенах крепости еще на Пелопоннесе, потом на Корфу, после смерти матери боялась того, что останется с еще маленькими братьями без защиты, ведь отец в Риме и даже не узнает, что турки захватили его детей.
Потом боялась, что станет ненужной, потеряет защиту папского двора. Тогда хоть в монастырь иди или в прислуги.
Потом боялась, что утонет в бурю на море, что не доедет до Москвы, не понравится мужу, не родит детей, дети не выживут, что не будет наследника, а одни лишь дочери…
Теперь пришел другой страх — за четверых детей, которые мал мала меньше. Старшей Елене только шесть, Феодосии пять, Василию полутора нет, а Георгий и вовсе сосунок. Что с ними будет, если погибнет их отец или не сумеет удержать страшных ордынцев? Димитров от Москвы совсем недалеко, но там холодно и бедно.
Девочки и мальчишки меж собой погодки, видно, и дружить будут так же. Если, конечно, останутся живы. Дочери лежали обнявшись рядом с матерью, маленький на руках у кормилицы, а годовалый Вася — широко раскинув ручонки в беспокойном сне. Как она сможет вырастить четверых детей, которым все враги?
Единственной надеждой и защитой этих малышей были их отец и мать.
Что их ждет? Все вокруг враги, эти малыши не нужны никому, кроме нее и их отца. Старший брат не пожалеет, он волком смотрит с первого дня, а уж на Васю и подавно. Хотя какой тот старшему брату соперник, Ивану Молодому двадцать два минуло, а Вася только ходить научился.
Великая княгиня Мария Ярославна много лет за других сыновей стояла, часто против старшего, словно не понимая, что семейная распря может бедой обернуться. Где ее мудрость была, когда Андрею Большому и Борису бунтовать помогала? Потом убеждала эту распрю прекратить, но только когда поняла, что семейным разладом ордынцев на Русь накликала. Хан Ахмат недовольству братьев обрадовался, легче всего воевать тех, меж кем лада нет.
София была страшно сердита на свекровь за ее заступничество за младших сыновей и предпочтение Андрея Большого перед Иваном.
И внуков Мария Ярославна не всех одинаково любит. Конечно, сердцу не прикажешь, но видеть, как свекровь больше интересуется детьми Анны Васильевны Рязанской, обидно. Словно Софиины малыши ей не внуки вовсе.
Братья Ивана Васильевича и вовсе против племянников будут, но не всех, Ивана Молодого признают, а детей византийской царевны нет.
Вот и получалось, что одна у них защита — мать да отец. Но отец на брань уехал, выживет ли, спасет ли Москву, удержит ли ордынцев? Оставалась мать. Потому София и боялась. И в Москве оставаться страшно, и в Димитров ехать тоже. Но главный вопрос: дальше-то что? На что жить в Димитрове? Не меньше ордынцев она боялась голода, не для себя — боялась, что детей не сумеет накормить. Голод — это страшно, София с детства помнила, как обреченно выглядели жители Мореи, когда у них отняли все и нечем было накормить детей.
По пути следовало пропитание брать у жителей тех селений, через которые проходили. Но их мало, и они сами бедны! Как отнять последнее у местных, чтобы накормить не своей волей отправленных из Москвы людей Софии Фоминичны?
От разорения округу спасло только то, что обоз добрался в Димитров быстро. А вот там опустошили все. Для нужд княгини и ее сопровождающих были словно метлой выметены все дворы. Пребывание великой княгини надолго запомнили в Димитрове и окрест него. София об этом не знала и вообще не задумывалась, она ждала распоряжений от мужа, гадая, что будет дальше.
Ждать пришлось недолго, вскоре их догнал еще один обоз, возглавляемый дьяком Василием Далматовым по прозвищу Третьяк. Охрана этого обоза заставляла думать, что там что-то очень ценное. Дьяк передал княгине письмо, в котором Иван Васильевич велел следовать вместе с Далматовым куда тот скажет.
— Куда и когда?
— Завтра на Белоозеро.
София промолчала, понимая, что вопросы задавать глупо. Видно, очень опасно стало в Москве, если князь семью и казну (а София не сомневалась, что в сундуках на подводах казна) так далеко отправляет. Спросила только, взяли ли ее казну. Получила ответ, что не взяли, осталась в подполе храма.
Стало тоскливо: княжеская казна спасена, а она снова осталась без средств к жизни. На что у Белоозера жить и как долго?
В Белозерск требовалось добраться до холодов и распутицы, а она в этих краях начиналась раньше Москвы. Можно бы по воде, как делали это в теплое время, но где взять столько расшив? Вот и плелись конно-пешим обозом, останавливаясь для передыха и охоты. Охота выручала, хотя зверье, почуяв неладное, уходило подальше.
Далматов давно отправил в Белозерск людей с наказом рубить избы. Тут уж не до теремов, было бы где от стужи зимой прятаться. А еще приказал собирать припасы на зиму со всей округи, когда холода встанут, будет поздно.
Когда добрались наконец до Белозерска, дом для княгини с детьми стоял, а остальные пока только строились. София определила себе маленькую горенку, остальное отдала старшим женщинам и детям. Не до простора, всем нужна крыша над головой.
София всю дорогу не зря сидела с прикрытыми глазами и думала. К Белому озеру приехала внутренне подготовленной, пугайся не пугайся, а выжить до весны надо. Уже осень, значит, и времени для подготовки мало. Она словно проснулась, очнулась от долгого тяжелого сна, обнаружив, что жизнь вокруг этого сна не легче, но все равно это жизнь!
В первый же день София Фоминична собрала сопровождающих, которых приставил государь: дьяка Василия Далматова, боярина Василия Борисовича, Андрея Плещеева… Вопросов, как надолго они здесь и как жить, не задавала, принялась сразу распоряжаться:
— Здесь ли будем, уедем ли — все одно надо на зиму запасы сделать. Пока тепло, не дома стройте, а уток бейте, гусей, любую птицу, которая немного погодя в теплые края потянется.
Дьяк с изумлением смотрел на государыню:
— Да что ты, княгиня, сами справимся, твоей ли головушке о том болеть?
София резко осадила:
— Моей! Я здесь с детьми и людьми многими, значит, думать должна, как зиму пережить. Сейчас каждый день важен, пока ягоды да грибы еще есть, птицу и рыбу накоптить можно.
Она приказывала так, словно всю жизнь этим занималась. Никому не стала говорить, что на каждом привале по пути сердце от боли и тревоги замирало, понимала, что если не запасет еды на зиму, то будут ее дети голодать. Конечно, княжичам кусок хлеба нашли бы, но как остальные? Когда один ест, а другие вокруг голодные, то поневоле волками смотрят.
Тогда она и начала прикидывать, что и как можно запасти здесь в лесу на зиму. Осторожно расспрашивала, никто на те расспросы внимания не обращал, считая блажью княгини. Разве о грибах думать надо, если ворог на Русь идет страшный?
И теперь в Белозерске София распоряжалась уверенно.
Ее поддержали, часть прибывших по-прежнему занимались стройкой, согнав еще и местных, а другая била птицу и ловила рыбу. Маленький Белозерск никогда не видел такого числа гостей, и обеспечить всех ни едой, ни жильем не мог. Они старались сами.
Но набить уток и гусей и наловить рыбы мало, для копчения их надо ощипать и почистить. Соль уже доставили из Кириллова монастыря, отправили за ней на соляные варницы, что не так далеко, но не хватало женских рук. И тогда княгиня попросту согнала всех своих придворных и служанок и заставила работать! А чтобы не противились, встала сама. Объяснила коротко:
— Кто будет бездельничать — зимой еды не получит!
Сначала это вызвало женский бунт. Решившие высказать свое недовольство княгине нашли ее на берегу — София не очень умело, но потрошила рыбу, закатав рукава по локоть и подоткнув подол сарафана.
— Помогать пришли? Так переоденьтесь, здесь самоцветы и жемчуга ни к чему. А кто не желает, так я в третий раз повторять не стану: или рукава закатывайте, или вон отсюда!
— И пойдем! — уперла руки в пышные бока боярыня Евдокия Степановна.
— Так чего сюда пришли? Ступайте в Москву.
— Мы не своей волей, государыня, сюда приехали, ты нас привезла, ты и обратно вези.
София фыркнула:
— Вас не я везла, а лошади. Скажите дьяку Василию Третьяку, что приказала лошадей вам дать с повозкой и два человека в охрану, да пусть какой-никакой еды добавит, и пошли вон!
Боярыни топтались рядом, не зная, как быть. Похоже, государыня не собиралась дальше беседы вести, она ловко подхватила очередную рыбину, вспорола ее брюхо острым ножом и вывалила внутренности прямо под ноги Евдокии Степановне. Та на удивление шустро отскочила, несмотря на грузность.
Потоптались боярыни, да одна за другой и засучили рукава, София только искоса недовольный взгляд метнула. Она не собиралась никого уговаривать, стояла на своем: каждый, кто остается, должен работать. Не рыбу потрошить, так птицу ощипывать, не это, так грибы чистить, на нитки нанизывать или вовсе собирать.
От сбора грибов боярынь сразу пришлось отстранить, в первый же день к Софии прибежала девка из местных, которая помогать нанялась:
— Ой, государыня, да что ж они все поганки в лесу обобрали!
Собранные грибы пришлось выбросить, из числа служанок отобрать потолковей и поставить над ними главной ту самую девку, чтоб учили, что можно брать, а что нет. Сначала носом воротили — будет холопка им указывать, но та взъярилась, мол, не холопка я! А потом грибы собирать понравилось, даже сравнивать стали, кто больше наберет.
Но это все недолго, последние и грибы, и птица, и рыба, зима наступала ранняя и суровая.
Все чаще оставались в избах, все реже ходили в лес.
Княгиня не сдавалась до последнего гуся — ощипывала вместе со своими служанками. Руки покраснели и в цыпках, ногти обломаны, лицо обветрено, глаза от усталости слипались и слезились, но она понимала: каждая заготовленная тушка — это возможность прожить кому-то еще день-другой. Чем больше тушек птицы, чем больше рыбин, чем больше связок грибов будет заготовлено, тем меньше могильных холмиков появится к весне. Что бы ни случилось там, в Москве, они должны дожить до весны! А и без того сильно обобранные смерды не в силах прокормить такую ораву, какая из Москвы заявилась спасаться от ордынцев.
Потому княгиня на все вопросы отвечала:
— Мало! На зимнюю охоту надеяться нельзя, мы не знаем, что да как.
У Белого озера не знали, что творится в Москве и тем более на границах Руси. Опасность была очень велика, смертельно велика.
Ахмат-хан действительно собрал рать всех своих сыновей, привлек племянника и был готов не просто поставить Московию на колени, но разорить ее дотла! Однако он учел печальный опыт поражения у Алексина и не стал нападать в одиночку, договорившись встретиться с литовским князем Казимиром в устье Угры.
Московию обложили, словно волка при загоне: с юга Орда, с запада Литва, на севере ливонцы, на востоке Казань. Ливонцев удалось усмирить до начала основных действий, воевода Холмский сумел побить их так, что притихли на время. На Казань отправили тайную рать, вернее, не на саму Казань, а мимо нее, чтобы с той стороны Орду побеспокоить. Удалось, прошли расшивы мимо казанских стен, нагрянули на ордынские города по Волге и вернулись обратно, не будучи наказанными. Невелик урон, но не смог Ахмат привлечь к походу на Москву войска с Волги — боялись нового нападения и разорения.
Оставался литовский князь Казимир, этот готов вместе с татарами нож в спину соседям-москвичам всадить. И это при том, что у него половина княжеств русские и православные!
Против предателя можно бороться предательством, Иван Васильевич сумел договориться с крымским ханом Менгли-Гиреем, который большую силу взял, чтобы тот напал на южные границы Литвы, если Ахмат пойдет на Москву. Оставалось надеяться, что Менгли-Гирей не обманет, не то Ахмат и Казимир возьмут Москву в клещи.
Потом это назовут Великим стоянием на Угре.
Ордынцы подошли к Угре огромным войском, но переправиться не смогли, Менгли-Гирей не обманул и на литовские рубежи напал, из-за чего Казимир не смог прийти в устье Угры вовремя. Не получив подкрепление, зато получив серьезный отпор от войск московского государя, привлекшего и братьев, и смирившийся Новгород, хан несколько раз пытался перейти Угру, но только нес потери.
Когда река замерзла, обороняться стало трудней, теперь и брод не нужен, если лед крепок. Русские войска отошли от берега, но и Ахмат понял, что его ждет незавидная участь остаться без корма для лошадей с необходимостью осады Москвы зимой, бесконечные русские леса и снега, голод и постоянные стычки с оставшимися русскими войсками.
Когда ордынцы стали отходить от Угры в степь, даже разведка русских не сразу поверила. Стояние на Угре закончилось полной победой русских войск!
Но обо всем этом не было известно на заснеженных берегах Белого озера.
Где-то там, далеко за лесами и снегами, московское войско противостояло ордынскому. Там бились не на жизнь, а на смерть. Великий князь со своими воеводами делал все, чтобы не пустить хана Ахмата, а за ним и литовского Казимира, и ливонцев на Русь. Там решалась судьба Московии.
А далеко на заснеженном берегу Белого озера великая княгиня боролась за выживание своих детей и многочисленной свиты, которая была вовсе не помощью, а тяжелой обузой. И эта борьба шла тоже не на жизнь, а на смерть. Некому прийти на помощь так далеко от Москвы, некому накормить, напоить, обогреть. Местные и без того волками смотрели, твердя, что обобрала, объела, словно не видя, что приезжие и сами стараются запасы делать. А что по пути к озеру вычищали все, так где иначе взять было?
Как когда-то в Москве по совету разумной княгини Рязанской София решила стать прежде женой Ивану Васильевичу и матерью его детям, забыв о существовании внешнего мира, так и здесь она заботилась о выживании детей и подневольных ей людей, стараясь не думать о далекой войне.
— Вот переживем зиму, а там все и наладится.
Но чтобы пережить зиму среди снегов и в морозы, требовалось спешно приложить много усилий, и они прикладывали.
Это Москва-река и Ока встали льдом в Дмитриев день к Дедовой неделе в конце октября, а Шексна и все вокруг Белого озера заиндевело, а потом и обледенело за полторы седмицы до того, еще до Параскевы-Грязнухи. Рано зима пришла, и бывалые люди суровую обещали.
Уже лежали горы копченой рыбы, висели связки сушеной, птичьими тушами набиты все холодные места, а княгиня все требовала и требовала. Везли запасы овощей и муки из монастырей, соль из варниц, и особенно сена, своего-то накосить успели немного по последней траве. Не хватит сена падут лошади, а это беда.
Жители в округе возопили: мол, куда княгине столько, в три десятка глоток ест, что ли? Не думали, что не для себя старается. А если и понимали, то возмущались, почему они должны своих коровушек и лошадок на погибель обрекать, чтобы княжеские ели сена вволю. Об овсе речь не шла, нет его у Белого озера.
Понимала ли София, что это жестоко? Да, понимала, когда пришлось выбирать между своим и чужим, выбрала свое. Она должна сберечь детей и тех, кто оказался зимой в этом снежном плену. Об одном только думать не хотела — что придется выполнять второй приказ великого князя, тот, что отдал ей на Юрьев день на Белом озере дьяк Василий Далматов.
Со вздохом отдал, смурной. Когда спросила почему, глядя в сторону, ответил, что это письмо приказано дать великой княгине, ежели до Юрьева дня гонца не будет.
София сломала печать и развернула свиток дрожащими руками. Что там?! Буквицы прыгали, не желая складываться в слова. Только глубоко вздохнув, утишила руки, чтобы не тряслись, и сумела прочитать. Князь наказывал, если до Рождества гонца не будет, пробираться к Студеному морю. Как идти, Далматов знает. А там ждать.
Чего и сколько, не писал.
Конечно, от Юрьева дня до Рождества почти месяц, но князь все продумал — им надо подготовиться к далекому и трудному пути.
Некоторое время стояла молча, глядя вдаль на белые шапки снега на деревьях по берегу озера. Потом вдруг медленно разорвала грамоту, вскинула голову:
— Нет!
По тому, что дьяк не спросил, с чем не согласна, София поняла, что тот знает о содержании приказа.
— Что нет, княгиня?
— Никуда с места не двинусь, пока не узнаю, что там.
— Мне приказано везти казну к Студеному морю, — напомнил дьяк. Мог бы и не объяснять, София прекрасно помнила, что бывает за неисполнение приказов великого князя, тут не то что плетьми — головой не обойдется.
Все равно упрямо повторила:
— Будем ждать гонца. Али отправь кого из своих, чтобы разузнали. Вдруг с гонцом что случилось?
— Уже отправил, — вздохнул Далматов.
— Ты, Василий, ежели не можешь, уходи, как велено. А мы уж здесь останемся, может, переживем зиму, а там Бог даст…
Что — и сама не знала, но надежда в голосе слышалась.
Резон в словах княгини был, гонец — служба опасная, любая встреча в лесу — с человеком ли, со зверем — может гибелью обернуться. От Москвы до Белозерска шесть сотен верст лесом, на этом пути все есть, и снега, и реки, и болота, и волки, и люди лихие тоже.
София тешила себя надеждой, что тот мог просто сгинуть по пути.
Ни на одну минуту ни днем, ни даже в беспокойных снах Софию не оставляла мысль о муже. Даже не о Москве и княжестве она думала, а о самом Иване. Как он там, жив ли, не ранен ли, не занедужил? Помочь могла только одним — сберечь детей. И сберегла, никто не заболел, Вася первые слова сказал, Георгий вовсю ползал и норовил на ножки встать, да только не давали — рано еще. Девочки учились рукодельничать, младшая за старшей тянулась. А по вечерам, укладывая малышей спать, София подолгу рассказывала дочерям (мальчишки еще маленькие) вместо сказок истории из жизни императоров и императриц, стараясь не упоминать убийства и жестокость. Учила греческим словам, рассказывала о лазурном море и жарком солнце. Княжны хихикали и не верили.
Иногда казалось, так и должно жить — днем трудясь ради пропитания, а по вечерам заботясь о детях.
Но наступил день, когда птицы улетели, озеро замерло, а округа утонула в пушистом снегу. Заготавливать больше нечего, Софиина помощь не нужна, с остальным слуги справлялись сами. Боярыни смотрели на нее искоса, жаловались на боли в руках, на покрасневшую, потрескавшуюся кожу, стонали и охали, но княгиня не обращала внимания. Она трудилась не меньше и пострадала тоже, нечего жаловаться!
Слушая волчий вой по ночам и глядя на стоящий стеной лес вокруг, София понимала, в какую глушь забралась. Становилось страшно. Больше всего боялась пожара, вспоминая, как метался князь, стоило чему-то загореться в Москве. А ежели пожар тут? Останешься с детьми нагой на снегу волкам на добычу. Потому строго наказывала печи проверять, за лучинами следить, огонь гасить, но заслонки не закрывать.
Гликерия изумлялась:
— Откуда тебе, государыня, все это известно?
— Я не болтаю о пустяках, а дело спрашиваю. Если от моего знания зависит жизнь моих детей, значит, я должна знать все!
Многие только головами качали, мол, ну и государыня, работает за двоих, никакого труда не боится и не чинится перед теми, кто лучше знает.
Но так говорили те, кто рядом, кто видел, как валится она с ног от усталости, но пересиливает себя и вида не подает, чтобы и другие отлынивать не могли, как заботится о детях, да и об остальных вверенных ей людях. Большинство же говорили иначе, одни были недовольны необходимостью утруждать свои белые ручки, другие тем, что по приказу княгини со двора забрали корову и все сено, что на зиму заготовлено, дав взамен серебряные деньги, на которые ничего в лесной глуши не купишь. Софии не простили ни отъезд из Москвы, ни сидения у Белого озера, чего только не наговорили, но все в укор!
София придумала повод, чтобы не выполнять приказ князя. Заметив, как блестят ее глаза, дьяк Далматов только головой покачал: тоже мне повод!
— Да, я с детьми на Рождество в Кириллов монастырь уеду и пробуду там до Крещения. А как вернусь, тогда и поговорим про Студеное море.
Дьяку и самому вовсе не хотелось идти сквозь снега и метели невесть куда, он был рад отговорке княгини. Хитра! Одно дело просто ослушаться, совсем иное — в обители молебны стоять по святым праздникам. Согласился подождать до Крещения и выделить государыне охрану.
Но жизнь в очередной раз доказала, что загадывать и на вечер нельзя, когда утром глаза открыл.
С обозом великой княгини из Москвы ехал и грек Олеус. София не понимала, чем он занимается, подозревала, что просто шпионит для папы Сикста, но поделать ничего не могла, тот вел себя чинно, повода для придирок не давал. Деньги зарабатывал тем, что писал за неграмотных письма, переводил заезжим купцам и понемногу учил желающих греческому языку и латыни.
Многие его недолюбливали за скользкий, вечно утекающий в сторону взгляд, поймать который не удавалось.
София понимала, что никакой он не грек. Разве только по имени, но не обращала на соглядатая внимания, его никуда не допускали, тайн не открывали, а с остальным князь сам разобрался бы. Увидев Олеуса в обозе, она даже заподозрила, что отправлен самим Иваном Васильевичем шпионить за женой. Махнула рукой: пусть себе, не до грека, и без него хлопот полон рот. Чем занимается у Белого озера, не знала и не интересовалась. Слышала, что он за солью ездил да по округе меха скупал без счета, но не более того.
И вот теперь этот слизняк просил немедля поговорить, мол, сообщение важное есть, но только для княгини.
Гонца все не было, и София хваталась за любой слух, любое слово. Мелькнула мысль, что этот ушлый и скользкий человек что-то узнал, когда недавно в Кириллов монастырь ездил. Может, туда вести из Москвы или от Оки пришли?
Велела позвать Олеуса в свою комнату, где на кровати уже спали дети. Негоже княгине чужого мужчину в своей опочивальне принимать, да теперь не до правил, другого места все равно нет, а на улице метель третий день такая, что не выйдешь. Не на крыльце же друг дружке в ухо орать?
Грек пришел, но неуверенно топтался, не говоря, зачем встречу просил. Пришлось пригласить пройти к столу, хотя на нем никаких разносолов не было, княгиня и не собиралась ничем незваного гостя угощать.
К столу прошел, но, все еще сомневаясь, мялся. Софие надоело, прикрикнула:
— Сказать чего хочешь, так говори, не тяни. А нет, так ступай себе, и без тебя тошно да думы есть.
— Государыня, дозволь соображения высказать…
Покосился вбок на вход, словно проверяя взглядом, крепко ли дверь заперта. Она усмехнулась:
— Не подслушивают, не бойся. Я приучила, чтобы ничьих ушей рядом не было.
По его взгляду поняла, что не все так, но Софие и впрямь надоело хорониться, скрывать мысли и беседы. Еще чуть протянул бы в нерешительности Олеус — и отослала бы прочь. Наушничать тоже надо с умом.
Грек ловко раскинул на столе пергамент с чертежом:
— Изволь посмотреть, деспина.
Она только глазом повела:
— Знакомо мне сие. Что смотреть-то?
И сама не могла объяснить, почему на его греческий по-русски отвечала. Потом опомнилась, что прав наушник, греческий не всякая служанка поймет, повторила уже по-гречески.
Олеус тоже все понял, быстро закивал:
— Я знаю, что тебе этот чертеж знаком, еще в Риме показывали. Но сейчас хочу на нем другое пояснить.
София шагнула к столу, он поднял свечу повыше, высветив нарисованное. Пятна морей и озер, нити рек, города крестами и названиями обозначены. Много пустого, но это неудивительно, велика Московия, ох как велика, хотя и рвут со всех сторон куски у нее все кто горазд — и ордынцы, и Литва…
Палец Олеуса ткнул в надпись «Москва»:
— Это Москва. Князь тут. — Желтый ноготь с черной полоской невымытой грязи чуть сместился вниз и влево. Поднялся выше Москвы: — Мы тут.
Теперь перст указывал на пятно Белого озера. София не стала его осаживать, мол, и без тебя знаю, понимала, что не зря сей чертеж земли Русской развернул перед ней.
На душе было тревожно, так тревожно, что не передать, словно судьба решалась. Да и как не волноваться, если от князя все нет гонца? Снова всколыхнулись давешние тяжкие думы и сомнения. Неужто так дела плохи, что Иван даже весточку прислать не смог? Или с самим князем что случилось, а его наследник Иван Молодой рад ненавистную мачеху в лесу сгноить?
— Князь велел, если что не так, сюда через озера Вожу и Лачу к Двине, а по ней до самого Белого моря пробираться. Так?
Вот откуда он все знал, если князь только ей об этом написал? А может, не только? А если знают несколько человек, то почему бы не узнать и Олеусу? Но сейчас не то важно, откуда узнал, главное, что задумал. А он явно что-то задумал.
Как бы ни был мерзок ей Олеус, но тут он один из немногих, кто защита, Василий Далматов скорей казну спасать станет, чем государыню с ее детьми.
— Чего придумал-то?
Софии надоело, кроме того, не ровен час услышит кто.
Олеус кивнул, убедившись, что она все понимает, заторопился:
— По государеву измышлению, тебе с княжичами надобно уехать к морю и чего-то ждать там. А чего? Сколько в снегах у Студеного моря сидеть? Там золото цену малую имеет, а жизнь и вовсе ничего не стоит. Но есть другой путь, вот сюда. — Теперь его палец уверенно пополз вверх от Белого озера. — По Ковже до Вытегры и в озеро Онегу, а оттуда по Свири до озера Нево и по Волхову в Новгород.
София усмехнулась, вышло как-то хищно, недобро:
— Там сторонники Борецких все еще сильны, казне обрадуются…
Олеус кивнул:
— Обрадуются. Казне, которая у тебя есть, везде обрадуются. А Новгород никогда под ордынцами не был и сейчас выстоит.
А ведь прав, во всем прав. У Студеного моря как жить и сколько? Но главное — это безнадежно. Если Москва не выстояла, то и Московия тоже. Новгород ждать не станет, там бояре вольницу еще не забыли, и без Борецких обойдутся.
Но тут же одолели сомнения: Марфу Посадницу и ее сыновей жене великого князя Ивана припомнят.
Олеус сомнения Софии расценил по-своему, снова зачастил, только успевала за его мыслью следить.
— А не в Новгород, так можно дальше на Псков и обратным путем домой. Или вовсе, в Новгород не заходя, через Нево на запад двинуться, чтобы на Березовом острове свейский корабль нанять, а то и несколько. С таким-то богатством…
София прикрыла глаза, чуть устало помотала головой:
— Василий Третьяк не для того к казне приставлен, чтобы ее мне отдать.
И снова Олеус не сомневался:
— И на него управа есть. С Далматовым справимся, а остальным и знать ни к чему, куда князь двигаться повелел.
Впилась глазами в худое, желтоватое лицо:
— Кто справится, ты, что ль?
Он вильнул взглядом:
— Есть люди.
— Кто? Я знать должна, от них моя жизнь и жизни моих детей зависеть будут.
Олеус понял, что надо отвечать честно, назвал троих.
— И всего-то?
Он добавил еще двоих.
— Я к тому же, и ты, государыня, свое прикажешь, тебя не ослушаются. Скажешь, что Василий и еще трое, кого назову, супротив государевой воли пошли, потому их убрали.
Тяжело было на душе, ох как тяжело, словно гнусность какую совершить собралась. Так ведь и было, поперек мужниной и государевой воли идти решалась. Но кто знает, как правильно поступить?
Зачем-то спросила:
— Кто эти трое? Сейчас говори, не виляй, ты мне страшное предлагаешь, а доверия не будет, ежели юлить станешь.
Он назвал и этих. Как ждала, это оказались боярин Василий Борисович, Морозов и Андрей Плещеев.
София вздохнула:
— Может, ты и прав… Только куда двигаться и как?.. — Жестом остановила готовый излиться поток слов (пламя свечи качнулось, по стенам заметались огромные тени, мелькнула мысль, только бы кто из детей не проснулся, не испугался этих зловещих теней): — Не мельтеши, подумать должна. И Новгород, и свеи опасны, каждый по-своему. Иди пока, я к завтрему решу. Только сам ничего не делай, не то беду накличешь раньше времени. День-другой ничего не решат. Не то вдруг от государя гонец прибудет?
— Не прибудет!
Княгиня прищурила глаза:
— Откуда тебе известно?
Снова забегал взором Олеус, София прикрикнула:
— Не юли! Жизнью моей играешь, я все знать должна.
— У меня свои доброхоты есть. Сказывают, кроме ордынцев Литва пошла и братья государевы против него.
Она понимала, что не все сказал, что лжет, но понимала и другое: в его словах правда есть, опасная для нее и детей правда. Грек почувствовал ее слабину, поднажал:
— А если и получится что у государя супротив хана Ахмата, так в следующее лето другой придет, посильней да решительней. Неужто простит Орда грамоту разорванную? И Литва своего не упустит. Оно бы хорошо земли, что у Студеного моря да вокруг Белого озера, под себя взять, здесь мягкой рухляди столько, что никаким ковшом не вычерпаешь, но только тогда здесь и жить надо, а это не Рим.
— Да уж, здесь не Рим.
— То-то и оно! — обрадовался поддержке Олеус. И выложил последний довод: — Тебе в Москву нельзя. Если и одолеет ордынцев великий князь и на следующий год тоже одолеет, то при нем Иван Молодой есть, который супротив тебя и княжичей. Как только во власть войдет, так вам конец. И епископ ростовский Вассиан супротив тебя уж слово веское сказал.
— Какое слово?
— Что бежала, мол, из Москвы, когда никто не гнал, и казну с собой увезла. Теперь если и вернешься, скажут, что догнали и заставили воротиться. Все одно виновата будешь.
— Откуда знаешь? — ахнула София.
— Сказал же, что у меня свои доброхоты есть.
Вот на сей раз он не лгал и глаз не прятал. Значит, правда, значит, ее уже обвинили в бегстве и краже казны. А слово Вассиана крепкое, ему поверят больше, чем ей — Римлянке.
Желваки на лице заходили, так зубы стиснула, сдерживая готовые брызнуть из глаз слезы. Отчаянье брало, справиться не удавалось. Олеус это заметил, во взгляде довольство мелькнуло. Но Софии было все равно, кивнула:
— Иди до утра. Подумаю, куда стопы направить. Только сам ничего не делай и не болтай, не то беду накличешь. — Пока он шустро сворачивал чертеж, снова горестно вздохнула: — Знать, судьба моя такая — без своего угла жить, вечно чужой быть. Детей бы сберечь…
— С таким богатством можно не один дом купить, а целый город, — заискивающе пробормотал Олеус и скользнул в дверь, повинуясь жесту своей хозяйки.
Дверь отворилась и затворилась без скрипа, доброхот исчез, словно его и не было в опочивальне. София беспокойно оглянулась на детей — не проснулись ли, не забеспокоились? Но те сладко спали, утомленные своими детскими играми. Привычно раскинул ручонки в разные стороны Вася, прижалась к сестре Феодосия, словно Елена была ее защитой, мирно посапывал в своем гнездышке из одеял младший Георгий.
Она присела на лавку, надолго задумалась, глядя на розовые ото сна щечки, пухлые губки и темные, вздрагивающие от каких-то своих детских видений реснички. За последние месяцы не раз вот так смотрела, пытаясь понять, чем прогневила Господа, что такую беспокойную долю уготовил. Так ведь не одной ей — и ее детям тоже.
А у кого она спокойная? Все в мире в движении, все в борьбе. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает, один на коне, а другой у его стремени.
Эта мысль потянула за собой следующую.
Старший княжич Иван давно назван великим князем вровень с отцом, хотя ему и подчиняется. Он следующий правитель Московии, какой бы та ни была. Думать о победе ордынцев не хотелось, тогда и вовсе беда, потому как жизнь у Студеного моря не жизнь вовсе. Она у теплого моря родилась, снег только здесь увидела, обрекать себя и детей на вечные снега не хотелось.
Олеус прав, если и одержит на сей раз победу государь, то будет следующий год, следующий набег. Орда не остановится, и Литва тоже. Пока что? Пока не загонит их к тому самому Студеному морю либо в рабов не превратит. Так, может, лучше сразу туда бежать?
Нет, все нутро протестовало, не желая холода и снега.
Но не о том задумалась государыня.
Олеус предложил на выбор несколько путей. Хитер, знал, чем брать. С великокняжеской казной ей и впрямь везде рады будут, и дом большой купить у теплого моря можно, а то и целый остров, и жить с детьми спокойно. Но только что будет с самими княжичами, если удастся до этого благого места добраться? Она сама прожила без родины, чужой, что в Риме, что здесь. Ее дети рождены в Москве, в ином месте тоже будут чужими, как бы латынь или греческий ни знали. Они всегда и везде останутся русскими и душой будут рваться на родину, как рвется она сама в Морею, на Корфу, к лазурным волнам теплого моря.
Так спасение ли это — бегство в чужие края? Спасая от возможной гибели, она обречет детей на вечное скитание, даже если у них будут средства, в чем София сомневалась.
Вдруг подумалось, что, увезя казну, останется ли она жива сама? К чему Олеусу беглая княгиня с детьми? Если может убрать Далматова, так и ее сможет.
Вообще, к чему греку Олеусу побег? Он за это время столько мехов набрал, что до конца жизни хватит. София наслышана, как Олеус всех вокруг обирал, намекая, что подарки государыне и ее боярыням делать надо.
Несчастные охотники тащили связки соболей да куниц, надеясь на княжью защиту в будущем. София не спорила, понимая, что ей самой очень пригодятся меха — не носить, но продать, чтобы иметь свои средства.
Великая княгиня не жаловалась, но в действительности жила крайне скудно. Нет, в Москве отказа ни в чем не знала, еда, питье, одежда, украшения — всего было вдоволь, но своих денег не имела. Вдовы, которых поселила на княжьем дворе, получали лишь еду с ее стола да дрова для печей, большим одарить не могла. Милостыню на паперти подавала скудно, экономя каждую копеечку, отчего прослыла скупой.
Ивану Васильевичу в голову не приходило, что жена бедствует без денег, другие княгини имели деревни и целые города на свои нужды, у Марии Ярославны вон какие наделы богатые и от отца, и от мужа, и даже от сына, сама раздавать может, а у ее невестки ничего нет, кроме дареных украшений. И сыновья ее тоже ничего не имели. Боярские дети и то богаче…
Чтобы что-то выручить, она продавала подарки, полученные по пути в Москву. Но в Европе больше дарили вино да сладости, серебро, что в Пскове и Новгороде дадено, давно кончилось, София не берегла, полагая, что недостатка в средствах уж у великой княгини не будет. Пришлось взяться за содержимое римского ларца. Остатки отдала Андреасу, когда тот признался, что в Риме даже дочь одевать не на что.
Вот и получалось, что грек ныне куда богаче самой государыни. Не считая московской казны, конечно, но казна ей не принадлежит.
С кем еще Олеус договорится, чтобы уничтожить или попросту бросить в зимнем лесу уже ее с детьми?
Тяжелые мысли одолевали до самого рассвета.
Утром мужчин собрали подле крыльца княжьей избы. Олеус стоял чуть в стороне, окидывая цепким взглядом остальных, София поняла, что он готов. Сделала знак, чтобы не беспокоился. Грек кивнул.
Призвав к вниманию, великая княгиня начала говорить. Сказала об опасности, нависшей над Русью, о том, что вынужденное сидение на Белом озере скоро закончится и они двинутся в путь. На вопрос куда усмехнулась:
— Домой, куда ж еще?
Заметила недоуменный взгляд Олеуса и коротко приказала:
— Взять их!
Грек и трое им названные не успели даже понять, что произошло, как были скручены дюжими молодцами дьяка Далматова.
— За что?! — возопил Олеус.
— За предательство, за то, что сам предал и государыне предлагал, — гневно бросила София. — В кандалы их!
Грек кричал, что не по своей воле предлагал, а по приказу, но его быстро заставили замолчать. Связанный и избитый, Олеус валялся на снегу, выплевывая вместе с кровью зубы.
Оставался вопрос: что делать теперь? Не в Новгород с казной, не к Студеному морю, так куда податься?
Все решилось быстро, уже к обеду Василий Третьяк сообщил Софие, что один из подручных Олеуса признался в убийстве гонца, которого перехватили на подходе. Гонец вез прекрасное известие: хана Ахмата отбили и Москва спасена.
— А государь?!
— Государь жив-здоров, чего и тебе желает. Потерь мало, ордынцев даже через Угру не пустили, Ахмат без чести обратно в степь ушел!
Княгиня снова собрала людей, теперь уже всех без разбора, прибежали и белозерские. Стояла на крыльце, откуда совсем недавно приказывала схватить предателей и обещала двинуться домой, плакала счастливыми слезами, быстро отирая их платком, чтоб к щекам не примерзли, и вещала:
— Государь победу над Ордой одержал! Хан Ахмат с позором ушел, Москве ничего не угрожает. Мы возвращаемся домой!
После каждого предложения приходилось пережидать крики восторга. Немало людей в тот день простудились и голоса посрывали, вопя и бросая шапки в воздух. Пришлось разбиться на части, часть людей осталась, чтобы отправиться позже, кто-то и вовсе решил остаться, несмотря на снега и морозы, понравилось Белое озеро.
Половину запасов взяли с собой, чтобы снова не отнимать хлеб у местных, остальное раздали. Сено также поделили. Меха Олеуса София забрала себе, никто не противился. Теперь у нее была своя казна, отличная от московской, в которой все больше книги. Эту казну продать можно и много серебра выручить.
Сам предатель лежал связанным на подводе. Его сообщники тоже.
Но не успели добраться до Углича, как дьяк Далматов сообщил, что грек и его люди бежали!
— Как так?!
Василий смущенно пожал плечами:
— Охрана помогла. И его отпустили, и сами сбежали. А того, что нам про гонца рассказал, прирезали.
Снова стало тревожно.
Мало того, Далматов подсел в карету к Софии и еще более смущенно сообщил:
— Не врал грек-то, не по своей воле казну украсть предлагал.
— А по чьей?
— В Москве велели. Тебя проверяли, государыня.
Небо померкло, горло перехватило спазмом, а голова снова раскалывалась. Скорее прохрипела, чем спросила:
— Государь?!
— Нет, не он.
Большего Василий Третьяк не сказал, отговорился незнанием, но София видела, что лжет. Назвал Олеус того, кто такую проверку княгине устроил. И не сбежал он, а был прирезан, это княгиня по следам крови на санях, в которых связанный Олеус лежал, поняла. Сразу приметила, но, что к чему только теперь догадалась. Длинный язык не только до Киева, но и до ножа у горла довести может.
Ее проверяли, чтобы обвинить в случае согласия. Кто проверял: митрополит или свекровь? Дьяк догадывался или знал наверняка, но не говорил.
Знал ли о проверке великий князь? Если знал, то дело совсем плохо. Она испытание выдержала, обманула грека, сделала вид, что согласна, а сама назвала Далматову Олеуса и его людей. Но не был ли сам Василий Третьяк с ними? Может, тоже проверял? Нет, тогда к чему ей признаваться?
Предательство, недоверие, нелюбовь вокруг, а рядом дети, которых надо от всего этого уберечь, научить жить с таким, да не просто жить, а защищаться. Нельзя, чтобы единственной их защитой была мать, тогда одного глотка отравленного вина будет достаточно и для их погибели.
По дороге в Димитров, София размышляла о том, почему ее с детьми не любят и как жить в ссылке. Теперь она думала о другом: как помочь своим сыновьям стать настолько сильными, чтобы никому не пришло в голову устраивать проверки или не считаться с ними? Хватит сиднем сидеть в своих покоях! Это ни к чему хорошему не приводит, теперь она будет биться за своих детей, как волчица за волчат, и вырывать для них лучшие куски, даже если изо рта у других!
Когда-то в Москву приехала слегка заносчивая византийская царевна, которую быстро научили, что жена должна знать свое место в опочивальне, рожать детей и их воспитывать. Теперь от Белого озера возвращалась совсем иная София Фоминична. Она знала чего хочет — власти своим сыновьям! И знала, как этого добиться. А еще была готова идти по головам и трупам, не щадя никого.
На Руси есть пословица: как аукнется, так и откликнется. Согнутая ветка может поломаться, но если она гибкая, то распрямится и удар будет хлестким.
София Фоминична оказалась очень крепкой и гибкой веткой. Ее не сломил Рим, не сломила и Москва. Княгиня возвращалась с твердым решением добиться наследования трона Василием, хоть тот и много младше Ивана Молодого.
Для этого требовалось согнуться еще ниже, но она была готова жертвовать многим ради детей. Мать победила в Софии царевну. Теперь она будет биться не за свое положение, не за себя, а за своих детей, их признание!
Государыня
Великая княгиня заявила дьяку Василию Третьяку Далматову:
— На Крещение дома хочу быть! Потому вперед с княжичами уеду. А вы догоните.
София понимала, что огромный обоз будет тянуться слишком долго, потому разделила его: сама с сыновьями, дочерьми и малым числом слуг двинулась вперед, а остальных поручила заботам Плещеева, небось доберутся. Но и дьяк Далматов с ней двинулся, чтобы не тащиться с казной еле-еле. После убийства Олеуса они не разговаривали, Василий Третьяк, видно, понимал, что княгиня догадалась о том, что произошло в действительности, объясняться не хотелось. Был рад, что не спрашивает.
В Угличе встретили второго гонца — государь беспокоился, не получив весточки. София усмехнулась: за что беспокоился — за детей или все же казну?
Они успели к Крещению.
Москва стояла праздничная, но государыню никто не встречал — ни сам Иван Васильевич, ни бояре, ни великая княгиня Мария Ярославна. Стало не по себе, неужто гонцы подложные?! Но Москва не разорена, не сожжена, ордынцев не видно, значит, все хорошо?
Их обоз наконец заметили, грянул один колокол, за ним второй, третий… и покатилось: государыня с княжичами едет!
София снова въезжала в Кремль, как восемь лет назад, но теперь была совсем иной. Не надменной византийской царевной, хотя об этом не забыла, даже не правительницей, а просто мудрой женщиной, которой пришлось многое понять и бороться за жизнь своих детей и своих подданных.
Теперь она знала цену себе и своей жизни, но это была совсем иная цена, не из-за императорской крови в жилах, а из-за способности выжить и выбрать правильный путь.
Не спутать ценность золота с ценностью доверия и понимания.
И эта новая София не стала прятаться за занавеской кареты, наоборот, она вышла посреди площади перед возводимым Успенским собором и опустилась прямо на снег, отбивая поклоны. Увидевший ее митрополит Геронтий поморщился: все у этой Римлянки не так, крестится на неосвященный собор! Ему невдомек, что не куполам собора кланялась княгиня, а самой матушке Москве, всем ее церквам и соборам, всем жителям, даже тем, кто ее по-прежнему ненавидел.
Что-то дрогнуло в толпе, отозвался первый женский голос:
— Матушка-государыня вернулась!
Следом понеслось:
— Государыня с княжичами вернулась!
— Великая княгиня приехала!
А к ним от княжьего двора уже спешил Иван Васильевич. Помог подняться Софии с колен, она поясно поклонилась:
— Я сберегла детей, государь. — И тихо добавила: — И казну уберегли.
— Господь с ней, с казной, дети как?
Иван Васильевич поспешил к выбравшимся из кибитки дочерям, подхватил, расцеловал в обе щеки, они смущались, вцепились в его шубу, прижимались, кося взглядами на мать. Вася отца не узнал, дичился, но как только князь подбросил его в воздух, опомнился и закричал, как учила мать:
— Отче!
А вот Георгий разревелся, и успокоить его не удалось, так и унесли в княжий терем плачущего.
Эта сцена единения государя с его семьей никого не оставила равнодушной, женщины вытирали слезы с глаз, мужчины смущенно шморгали носами.
Но нашлись и те, кто зубами скрипел: не сгинула в снегах Римлянка, вернулась и щенков своих привезла! А что Москве поклонилась, так хитра она не в меру, да на всякую хитрость своя хитрость найдется.
Хмурился и Иван Молодой, за полгода просто забывший о существовании великой княгини Софии. Как же хорошо без нее было! И к чему отцу снова эту заносчивую бабу в Москву возвращать?
Потетешкав детей, особенно маленького Георгия, который успокоился и принялся таскать отца за бороду, великий князь отдал их нянькам и поспешил к жене.
Они оба не скрывали, что соскучились…
Через девять месяцев великая княгиня София Фоминична родила еще одного сына, названного Дмитрием.
Казалось, теперь установится мир на долгие времена, но не тут-то было…
Никто не знал, что главное противостояние и главные жертвы еще впереди. И жертвы эти вовсе не из-за нападений ордынцев или соседей литовцев и поляков, они будут из-за вражды внутри семьи государя.
Человек предполагает, а судьба располагает.
Никто не знает, как сложилась бы судьба самой Московии, а за ней и России, не будь этого предстоящего Великого противостояния в семье государя Московии Ивана III Васильевича. Никто не знает, какой она была бы, но что иной, несомненно.
Но об этом смертельном противостоянии двух княгинь следующий рассказ…




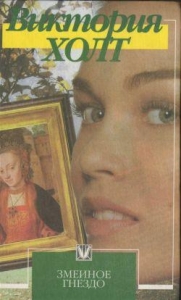
Комментарии к книге «София Палеолог», Наталья Павловна Павлищева
Всего 0 комментариев