М.М. Кайе В тени луны Том 1
Она почувствовала, как он освободил свою левую руку; его пальцы легли на основание ее шеи и стали медленно подниматься вверх, лаская ее сквозь густые и мягкие волны волос. Он крепко и властно прижимал ее к себе, его левая рука достигла нижних выступов ее затылка. Наконец он оторвался от ее рта и коснулся своей прохладной щекой ее теплой, гладкой кожи.
— Милая… милая… — его слова были почти беззвучны, но все же разбили страстную зачарованность, возвращая их в холодную реальность. Винтер отпрянула от него, высвобождаясь из его объятий, сотрясаясь от стыда и возмущения, шокированная внезапным откровением.
Книга первая ТЕНЬ НАКАНУНЕ
Посвящается
сэру Джону Вильяму Кайе, написавшему историю восстания сипаев, генерал-майору Эдварду Кайе, командовавшему батареей при осаде Дели, моему деду Вильяму Кайе, состоявшему на государственной службе Индии, моему отцу, сэру Сесилю Кайе, моему брату, полковнику Вильяму Кайе, а также всем остальным мужчинам и женщинам моей семьи и многих других британских семей, которые служили, жили в Индии и любили ее. Посвящается этой прекрасной земле и всем населяющим ее народам с восхищением, любовью и признательностью.
Глава 1
— Винтер! Вы когда-нибудь слышали такое имя? Это вообще не имя! Молю тебя, образумься, дорогой Маркос. Ведь ты не можешь назвать эту бедную крошку таким абсурдным именем.
— Она будет наречена Винтер.
— Ну, по крайней мере, дай ей подходящее второе имя. Существует так много прекрасных простых имен. У тебя широкий выбор.
— Нет. Только Винтер.
Миссис Грантам в раздражении всплеснула руками.
— Но, мой дорогой мальчик, ты только подумай как это абсурдно звучит! Винтер де Баллестерос де лос Агвиларес.
— Так хотела Сабрина, — упрямо настаивал смущенный молодой отец.
Миссис Грантам признала свое поражение. Нет смысла спорить с Маркосом, когда он находится в таком состоянии. Если только крещение удастся отложить, можно будет попытаться переубедить его. Однако ребенок был так слаб, а его шансы выжить были настолько малы, что крещение надо было провести не откладывая, и Маркос, будучи испанцем и католиком, согласился даже на то, чтобы церемонию провел английский пастор. Холера подкосила единственного имевшегося в округе священника, а мать ребенка принадлежала к англиканской церкви. В таком подавленном настроении Маркос был готов согласиться на что угодно, однако он оставался непреклонным в отношении имени своей дочери.
— Винтер! — повторила миссис Грантам, демонстративно прикрывая лицо руками. — Бедная Рина, должно быть, была не в себе.
Однако Сабрина, бедная прекрасная Сабрина, умирая от родов в безжалостной жаре индийского мая, вполне осознавала, чего хочет. Она думала об Уэйре…
Дедушка Сабрины со стороны отца, Генри Джон Хантли Вильям, пятый граф Уэйр, женился на Селине Эмили, младшей дочери сэра Артура Вайкомбра, баронета, в начале лета 1788 года. В этом году молодой наследник воспетого в песнях и легендах «Красавчика принца Чарли» умер в изгнании в нищете.
Их союз оказался коротким, но весьма плодотворным, и пунктуально каждую весну в течение пяти лет очаровательная Селина дарила своему мужу перевязанный ленточкой сверток с пищащей капелькой жизни. В быстрой последовательности Герберт, Чарльз, Ашби, Эмили и Джони пришли друг за другом в этот мир. Но Селина, никогда не отличавшаяся завидным здоровьем, не выдержала такой нагрузки, и вскоре после рождения последнего она стала быстро угасать и вскоре умерла.
Сам же граф, будучи резким и своенравным человеком, был искренне к ней привязан и, хотя ему ко дню ее кончины не было еще и тридцати, он так и не вступил во второй брак. Вместо этого он объявил, что его дочь Эмили может вступить в права хозяйки дома, как только закончит школу. Но поскольку этот день был еще довольно далеко, он пригласил пожилую женщину, свою родственницу, для присмотра за детьми и нанимал всех, с ее точки зрения, необходимых для воспитания и обучения его детей слуг, преподавателей и гувернеров. По мнению графа, сухого и лишенного сентиментальности человека, дети не только навевали на него смертельную скуку, но и просто раздражали его. По мере того, как росли его собственные дети, он так и не изменил себе, исключение делалось лишь для младшего сына Джона.
Его первенец, Герберт, виконт Глинде, родился слабеньким и вялым, таким он и вырос — флегматичным и молчаливым юношей. В Чарльзе рано проснулся азартный интерес к картам, лошадям и обществу театральных танцоров. Близорукий Ашби интересовался книгами и исчезнувшими цивилизациями Греции и Рима и этим утолял и раздражал своего отца. Эмили ему нравилась больше. Не унаследовав красоту своей матери, она рано проявила свойственную отцу твердость характера, в свои пятнадцать лет оставив школу, и, к немалому его удивлению, стала хозяйкой дома Уэйров. Она росла обычной девочкой, доброй и прилежной, однако ей не доставало того обаяния, которое помогло бы ей завоевать расположение отца. Так же, как и три ее старшие брата, она побаивалась его. Не испытывал этого чувства только Джони.
Только Джони, последний ребенок Селины, стоивший ей жизни, вобрал в себя красоту матери и характер отца, и граф любил его, как Иаков любил Вениамина.
Джони был всеобщим любимцем. Сообразительный, красивый и самоуверенный мальчик, он полон был жаждой жизни. Всеобщая любовь не избаловала и не испортила его. В нем было что-то возвышенно-неземное, и даже не любимые отцом остальные дети обожали его.
— Мой самый любимый очаровашка Джони, — обычно говорила старая няня, и это было истинной правдой. Это был неповторимый мальчик. К пятнадцати годам ему не было в округе равных среди юношей в верховой езде, стрельбе, фехтовании и боксе. Его отец часто сожалел (хотя в глубине души и стеснялся этого чувства), что Герберт, а не Джони был его наследником.
Если бы об этом спросили самого Джони, то, возможно, он выбрал бы для этой роли младшего из своих старших братьев, поскольку порывистый Чарльз всегда был его героем. Когда же Чарльз получил младшее офицерское звание в знаменитом полку и впервые въехал в поместье Уэйр во всем великолепии украшенной золотом позументом ярко-красной формы, позвякивая саблей, Джон почувствовал, как трудно ему будет дождаться того момента, когда он наконец сможет поступить на службу короля.
Однако Чарльз уехал на войну, навстречу собственной смерти, которую он нашел на голом и каменистом склоне испанского холма, в битве при Бароссе.
Двумя годами позже, в 1813 году, Герберт, полностью сознавая свой долг наследника, женился на леди Шарлотте Фрисби, дальней кузине матери. Молодая чета не стала обзаводиться собственным домом, а осталась в Уэйре, где на следующий год у них родился мальчик, первый внук графа. Это событие в некоторой степени было омрачено тем, что Джони добился долгожданного назначения и чина корнета кавалерии.
Год спустя, в письме, присланном из Брюсселя менее, чем через три недели после своего двадцать первого дня рождения, Джони сообщил о женитьбе на Луизе Коул:
«Пожалуйста, не думайте, — писал он своему отцу, — что, поскольку эта новость столь неожиданна для вас, мой брак связан с какой-нибудь тайной. Дело в том, что отец Луизы внезапно скончался на прошлой неделе, а ее мать пожелала сразу же покинуть Брюссель, и мне ничего не оставалось, как немедленно вступить с ней в брак…»
Естественно, граф мог бы возмутиться, однако его гнев в определенной степени смягчил тот факт, что он знал о хорошей репутации отца невесты. Мистер Вильям Коул входил в состав совета директоров почтенной Ост-Индской Компании, акциями которой владел и граф, и Луиза, будучи его единственным ребенком, была состоятельной наследницей.
«Я знаю, она тебе понравится, — писал Джони своей сестре Эмили, — потому что она добрая и нежная. Ты не можешь себе представить, как я счастлив. Мне не терпится привести ее к нам в дом и представить нашей семье. Как прекрасен будет этот день!»
Однако этому дню не суждено было наступить.
Вероятно, есть доля правды в поговорке, согласно которой любимцы богов умирают молодыми. Фортуна явно насмехалась над Джони. На балу у герцогини Ричмонд в Брюсселе он танцевал в последний раз. Стройный, весело улыбающийся, ослепительный в своем красном, обшитом золотом мундире, он танцевал кадриль со своей прекрасной молодой женой. Через два дня его не стало — он был убит в кровавой бойне на поле Ватерлоо.
На некоторое время жизнь для графа Уэйра потеряла всякий смысл.
Услышав эту новость, он излил свой яростный, бесполезный гнев на судьбу. Почему Джони? Пусть один из его детей, пусть все они, но только не Джони! Он отвернулся лицом к стене и ругал Бога. Однако дни шли за днями, недели складывались в месяцы, и первое острое ощущение горя сменилось сперва глубокой обидой, а затем оцепенением от свершившегося. Никто и никогда не смог занять место Джони в его сердце, но жизнь продолжалась, и впереди еще было много работы.
Однако был один человек, которому явно не хватало силы духа графа и для которого жизнь также потеряла всякий смысл, — жена Джони Луиза. Она переехала жить в поместье Уэйр и являла собой лишь тень того прекрасного создания, которое танцевало со своим красавцем-мужем на балу герцогини Ричмонд.
Дочь Джони, Сабрина, родилась в первый день нового 1816 года, а вечером того же дня Луиза ушла из жизни, чтобы уже никогда не расставаться со своим молодым мужем. У нее не было веской причины расставаться с жизнью, кроме, пожалуй, самой простой — нежелания жить дальше. После кончины Луизы ее двоюродная сестра Эмили стала для малютки Сабрины приемной матерью, защитницей и хранительницей ее покоя в своем поместье.
— Но почему Сабрина? — интересовались родственники и знакомые. — В прошлом в семье не было никого по имени Сабрина. Это вообще не наше имя.
А причиной была в Ашби, впервые увидевшем новорожденную племянницу. Робкий близорукий юноша, начитанный, неуклюжий и смущенный, стоял перед пышно украшенной колыбелькой в сумерках январского вечера. Крошечное создание, не более недели от роду, уже избавилось от послеродовых покраснений на коже и в холодном сумраке комнаты казалось невообразимо светлым. Молочного цвета кожа и светло-золотистые волосы, напоминающие первоцвет, делали малютку похожей на ее отца. Серые глаза цвета воды в зимнюю пору были глазами Джони…
Ашби, чья неуклюжесть уступила место очаровательному восхищению, процитировал стихи Мильтона:
«Белокурая Сабрина, где нам тебя найти, под стеклом прохладной и прозрачной волны». Мы должны назвать ее Сабрина.
Девочка росла быстро. «Слишком быстро», — сожалела Эмили. Сабрина с каждым днем все больше походила на Джони. Ее дедушка, считавший, что никто не сможет занять в его сердце место младшего сына, вдруг обнаружил, что внучка уже по праву заняла его. Всю любовь, гордость и нежность, которыми он щедро одаривал Джони, он обратил на его дочь. Это вызвало открытую неприязнь жены Герберта Шарлотты, считавшей несправедливым такое положение, при котором все внимание Грантамов и Вайкомбров доставалось, в ущерб ее детям, дочери младшего из них и поэтому (с ее точки зрения) наименее значимого сына в семье.
Сабрине было девять лет, когда она отправилась в дальнее путешествие навестить родственников своей матери. Эмили сопровождала ее, и эта поездка стала поворотным пунктом в их судьбах.
Англия менялась. Георг III, старый чудаковатый король, так надолго задержавшийся на этом свете, живой призрак Виндзорского замка, отправился, наконец, к праотцам, а вульгарный и скандальный принц стал королем. Регентство закончилось, и сама регентская Англия со всеми своими денди и красотками, Коритианами и Макарони, уже терялась в тумане истории, уходя в легенду.
Эмили уже исполнилось тридцать три, и по всем стандартам того времени она считалась девицей средних лет, обреченной навсегда остаться старой девой.
— Какая жалость, что наша дорогая Эмили никогда не была замужем, — говорили многочисленные тетушки, дядюшки и кузины. — Она могла бы составить кому-то прекрасную пару. Конечно, ей уже не выйти замуж.
Однако Эмили удивила всех.
Отец Луизы, матери Сабрины, и его отец, а до него и дед были богатыми купцами, торговавшими со странами Дальнего Востока. Популярная пресса называла их «набобами». И так случилось, что в доме тети Луизы, Хариет Соул, Эмили встретила сэра Эбенезера Бартона из почтенной Ост-Индской Компании, который как раз проводил свой отпуск на родине, вдали от своего дворца, расположенного на берегах Хагли.
Сэру Эбенезеру было в то время сорок пять лет. Это был коротконогий и толстый человек маленького роста с веселыми голубыми глазами, пышными бакенбардами и лицом, ставшим под солнцем Востока цвета красного дерева. Никто не мог понять, что Эмили нашла в нем, и он в ней, однако, это было именно так. Вероятно, нечто, спрятанное от чужих глаз. Эмили, спокойная, деловая преданная женщина, смущалась под его взглядом, как школьница, а Эбенезер, обычно молчаливый человек, прогуливаясь с ней по парку, вдруг заговорил с ней об Индии и своей работе, о странной, коричневой и коварной реке, возле которой он жил. Он говорил об охоте на тигров, о слонах, о восточных принцах и магараджах, увешанных сказочными драгоценностями и живущих в средневековом государстве в фантастических дворцах.
Эмили не была Дездемоной. Ей было бы все равно, даже если бы он рассказывал ей о бирже и акциях или о домашнем водопроводе. Ее интересовал не Восток, а только сам Эбенезер. Она находила его обаятельным и преданным. Она знала, что сможет любить его, заботиться о нем, сможет положиться на него. Ей он показался симпатичным.
Эбенезер, недавно вернувшийся после длительного пребывания в Индии, на двенадцать лет старше, нашел в ней свой идеал. Для него она была молодой приятной женщиной без каких-либо недостатков, уравновешенной и невозмутимой англичанкой. В компании женщин он всегда чувствовал себя неуютно, но не с Эмили. С ней ему было спокойно, с ней он чувствовал себя уверено, и он действительно считал ее прекрасной.
Они сыграли свадьбу в Уэйре осенью 1825 года, и Эмили с Эбенезером уехала в свадебное путешествие в Лейк Дистрикт, оставив на Шарлотту заботы хозяйки и домоуправительницы Уэйра, ответственной за воспитание и образование Сабрины.
Сабрине такие перемены пришлись не по нраву. Правда дедушка продолжал любить и баловать ее, однако она могла проводить лишь незначительную часть своего времени в его компании, поскольку большую часть дня она была вынуждена проводить в классной комнате под надзором служанок и гувернанток, подобранных ее тетей Шарлоттой.
В 1830 году принц умер. Страна не сожалела об этом. Никто не носил по нему траур, кроме его тучной и скупой возлюбленной, леди Конингем. Королем стал Уильям IV, прозванный «моряком Биллом». В пронизываемом сквозняками дворце Кенсингтон маленькая, серьезная и сдержанная девочка продолжала играть со своими куклами и ходить на прогулки с немецкой гувернанткой, не подозревая о том, что станет потенциальной наследницей английского трона, и что ей еще предстоит вытащить монархию из грязи и насмешек, в которые повергли Британию ее дяди, и вознести империю на невероятные вершины славы и могущества.
Когда Сабрине исполнилось семнадцать лет, дедушка устроил бал, чтобы отметить ее выход в свет, и сразу после этого Уэйр стал как магнитом притягивать к себе каждого молодого джентльмена из пяти соседних стран. Сабрина отвергла с дюжину вполне подходящих предложений, и Шарлотта была этим явно недовольна.
Шарлотта вообще редко была довольна Сабриной, теперь же она находила просто нетерпимым такое положение, когда ее собственные некрасивые, чопорные и манерные дочери оказались в тени золотистой прелести и веселого искристого обаяния девушки. Хуже того, юная леди отклонила все предложения, сделанные ей в последующие два года, хотя это и не означало, что она никогда не влюблялась. Напротив, она влюблялась даже слишком часто, но, к возмущению своей тети и к великому утешению своего деда, не была способна любить одного мужчину дольше недели.
Выдать Сабрину замуж и выдворить ее из дома Уэйров стало главной целью Шарлотты, но в конечном счете решить эту задачу ей неосознанно помогла Эмили. Эмили, граф и гусарский капитан…
Леди Эмили Бартон приехала домой навестить своего отца и уже собиралась возвращаться в Индию к своему мужу Эбенезеру, ставшему баронетом и назначенному в совет генерал-губернатора. Она уговаривала графа отпустить с ней Сабрину на год. В любое другое время он несомненно отказал бы ей, но случилось так, что просьба Эмили совпала по времени с появлением на сцене первого мужчины, к которому интерес Сабрины длился уже более трех недель.
Гусарский капитан Деннис Аллингтон был симпатичным, напористым парнем, знавшим толк в женщинах. Сабрина же, которая находила его до опасного восхитительным, продолжала танцевать с ним и уделять ему больше знаков внимания, чем кому-либо из прошлых своих ухажеров.
Граф не на шутку забеспокоился. Он знал, что капитан Аллингтон был игрок и мот, его репутация в отношении к женщинам не требовала комментариев. Естественно, такой человек не мог стать мужем его любимой внучки. Однако, когда он попытался вразумить Сабрину, то натолкнулся на резкое и даже дерзкое сопротивление. Приглашение Эмили подоспело как раз вовремя, и граф ухватился за него, как за единственное спасение. Он согласился послать Сабрину в далекую страну, по крайней мере, на год. Заботам Эмили, несомненно, можно было доверить его любимую внучку, а капитана Аллингтона, которого теперь не будет рядом, она скоро забудет.
Шарлотта с энтузиазмом поддержала этот проект. Сама же Сабрина не могла прийти к какому-то конкретному решению. Она любила тетю Эмили, перспектива посетить Индию возбуждала ее, однако оставался еще Деннис Аллингтон… Она не могла сказать однозначно, что не любит его, и подозревала, что вся эта затея с поездкой была специально разработана, чтобы разлучить их.
Пока она пребывала в растерянности, капитан Аллингтон сам решил эту задачу, а вместе с ней и ее будущее…
Это случилось на балу в Ормслей-Корт. У Сабрины порвалась кружевная отделка на платье во время контрданса, и она удалилась, чтобы подшить ее. Торопясь вернуться обратно в танцевальный зал, она выбрала самый короткий путь через боковой коридор, где неожиданно наткнулась на капитана Денниса Аллингтона, целующегося с миссис Ормслей.
Надо сказать, что капитан не имел намерения целовать миссис Ормслей, сопровождая ее в зал, где разносили прохладительные напитки. Но проходя по маленькому, оказавшемуся безлюдным в этот момент коридору, миссис Ормслей споткнулась о волочившийся край ее длинного кружевного шарфа и неминуемо упала бы, если бы капитан Аллингтон не подхватил ее. Будучи человеком, не привыкшим упускать такую возможность, он поцеловал даму, ответившую ему тем же с видимым удовольствием; он бы и не вспомнил больше об этом происшествии, если бы, подняв голову, не натолкнулся на ледяной пристальный взгляд достопочтенной Сабрины Грантам.
От каких поистине нелепых случайностей зависит порой судьба и будущее человека! Не порви Сабрина шесть дюймов отделочной каймы на платье или будь шарф миссис Ормслей на шесть дюймов короче, плыла бы Эмили в Индию одна, а не в сопровождении своей любимой племянницы.
Сабрина была очарована Индией. По природе она была веселой и жизнерадостной, и все, от утомительного и долгого путешествия вокруг Мыса Доброй Надежды до момента прибытия в многолюдный порт Калькутты — восхищало ее. Деннис Аллингтон и его вероломство вскоре были забыты, и задолго до окончания путешествия Сабрина с трудом вспомнила бы черты его лица.
Она наслаждалась привычным успехом в англо-индийском обществе, но не влюблялась вновь ни в одного из офицеров и чиновников, увивавшихся вокруг нее.
— Я, должно быть, становлюсь старой, тетя Эмили, — однажды вдруг заметила Сабрина, — я уже год ни в кого не влюблена!
Шел 1837 год, ей исполнился двадцать один год.
Дедушка в своем последнем письме уже требовал ее возвращения, но поскольку в последнее время здоровье Эмили было не в лучшем состоянии, Сабрина посчитала невозможным оставить ее. Да и сама она не хотела уезжать, так как Индия еще не потеряла для нее своего очарования. Будучи видным членом совета генерал-губернатора, ее дядя Эбенезер периодически совершал официальные поездки, особенно, в холодное время года, в сопровождении своей жены и ее кузины, в одну из таких поездок ко двору короля Оуда Сабрина встретилась с Хуанитой де Баллестерос.
Отец Хуаниты, граф де лос Агвиларес, был состоятельным и эксцентричным испанским вельможей. В молодые годы он много путешествовал по Востоку. Прибыв в королевство Оуд с полстолетия назад, он успел полюбить эту страну и ее народ, а более всего привязался к племяннику правившего в то время короля. Два молодых человека, испанец и мусульманин, крепко подружились. Они удивительно походили друг на друга и внешностью и характером. Возможно, это случилось потому, что кровь черноокой дочери ислама во времена покорения Испании маврами передалась через века сыну Кастилии и Арагона.
Рамон де Баллестерос, граф де лос Агвиларес, никогда не возвращался в Испанию. Оуд стал его домом, а богатое, варварское и сказочно красивое королевство — его родиной. Король Оуда сделал его владельцем земель по берегам реки Гумти. Там, среди рощ апельсиновых и лимонных деревьев, заботливо ухоженных садов, он построил дом — просторный испанский замок в сердце Индии.
Каса де лос Павос Реалес, Дворец павлинов, вписался в восточный пейзаж так же просто, как и его хозяин. Испанская архитектура с ее открытыми прохладными двориками и журчащими фонтанами, высокими потолками многочисленных комнат и скрытыми окнами балконов во многом являлись наследием покорителей с Востока.
В свое время граф женился, но не на одной из наследниц королевского дома Оудов, как многие предсказывали, а на единственной дочери французского эмигранта, который вместе со своей семьей спасался от кровавого круговорота революции и впоследствии поступил на службу в армию Ост-Индской Компании.
Анн-Мари де Селинкорт была нежным темноглазым созданием, совершенно не помнившим страны, где она появилась на свет. Ей исполнился только год, когда ее родители покинули Францию. С тех пор она жила на Востоке, и Индостан, и персидский двор Оудов с их разноязычием были ей так же близки, как английский язык и ее родной — французский. Она жила в сказочном мире — в огромном доме своего мужа на реке Гумти и никогда не сознавала этого. Ее подругами были хрупкие смуглые и темноглазые жены принцев и вельмож Оуда, а ее четвертый ребенок, Хуанита, родилась в доме Азизы Бегам, жены лучшего друга ее мужа, Мирзы Али Шаха.
— Она должна выйти замуж за сына императора, носить жемчужины в волосах и ездить на слонах в золотом паланкине, — говорила ей Азиза Бегам, качая своего маленького сына на руках, и обе молодые матери счастливо смеялись, склонив головы над своими спящими детьми.
Только двое из семи детей Анн-Мари выжили — сын Маркос и дочь Хуанита. Остальные умерли в раннем возрасте от холеры и тифа — смертоносной эпидемии Востока. Когда Маркосу исполнилось четырнадцать, отец отправил его в Испанию, чтобы сын мог завершить образование на родине. Маркос отсутствовал девять лет. Он вырос и стал стройным и смуглым юношей с несколько орлиным профилем, что зачастую отличало мужчин знатных семей Арагона и Кастилии. Его сестра Хуанита вышла замуж за друга детства Вали Дада, сына Али Шаха и Азизы Бегам.
Сперва этот брак столкнулся с упорным противодействием со стороны христианских и мусульманских священнослужителей, но в конце концов все закончилось согласием обеих семей. С течением лет Азиза Бегам стала грузной и неповоротливой дамой, в черных волосах засеребрилась седина, в то время как изнуряюще жаркий индийский климат иссушил Анн-Мари, превратив ее в хрупкую маленькую женщину с лицом щелкунчика и преждевременно поседевшими волосами. Их мужья обросли седыми бородами, их дети превратились в мужчин и женщин, а Азиза Бегам стала бабушкой полудюжины симпатичных смуглых детишек. Они сами и окружающий их мир изменились, чего нельзя сказать о старой дружбе между двумя семьями. Симпатичный юноша Вали Дад, первенец Азизы, влюбился в нежную темноглазую дочь Анн-Мари. Его родители никогда ни в чем ему не отказывали, могли ли они отказать ему в этот раз?
— Бог един, — сказал Али Шах священникам. — Разве Хасрат Иза (Иисус Христос) не принадлежит к числу пророков? Разве о христианах не говорится в Священном писании?
— В нашем роду течет кровь мавров, — заявил граф Рамон, — Али Шах мой старый друг, а страна Оуд усыновила меня. Если молодые люди желают этого, я не могу им отказать.
Во время поездки в Оуд со своим дядей и тетей весной 1837 года Сабрина Грантам встретилась на банкете с Хуанитой де Баллестерос, женой Вали Дада, на женской половине дворца Чаттер Манзил в Лакноу.
Странно, что две такие разные по воспитанию и характеру женщины не только нашли друг в друге много общего — между Сабриной и Хуанитой вдруг возникло и пышно расцвело чувство искренней привязанности. Обе были молоды, примерно одного возраста, обе находили друг в друге незнакомые романтические черты. Они подружились с первого момента встречи. Белокурая, с серыми глазами и молочного цвета кожей, Сабрина носила приталенные длинные платья, что соответствовало моде того времени, шляпы, украшенные фантастическими цветами, лентами и перьями, словно созданными только для того, чтобы еще больше подчеркнуть ее красоту. А сочетание европейской внешности и грациозного восточного костюма придавали ей особую пикантность.
В силу английского воспитания, Эмили поначалу была шокирована самой идеей замужества «белой женщины» с индусом и жизнью в «гареме». Однако она не устояла перед обаянием Хуаниты и ее веселого молодого мужа, ее пожилого эксцентричного отца и маленькой нежной матери. Когда же теплые длинные дни марта сменились жарким апрелем, Эмили позволила Сабрине проводить все больше времени в Каса де лос Павос Реалес, по-иному, в Гулаб-Махале, маленьком, украшенном лепниной дворце в тихом уголке города, где жила Хуанита.
Когда апрель сменился маем, и жара заструилась по стенам дворцов и минаретов Лакноу, сэр Эбенезер со своей женой и племянницей вернулся в горы и взял с собой Хуаниту. Это было сделано не потому, что жара представляла для нее какую-то угрозу, а потому, что она была беременна своим первым ребенком, который должен был появиться на свет осенью. А поскольку ее здоровье в последнее время слегка стало шалить, было решено, что ей лучше пожить в более мягком горном климате. Существовала еще одна причина: в городе назревали беспорядки.
Правители Оуда считались одними из самых коррумпированных представителей знати, что, однако, не помешало Ост-Индской Компании в обмен на значительную субсидию предоставить королю свои войска для усмирения его недовольных подданных. Нынешний правитель страны Нассеруд-дин Хидлер занимал ведущее место в шеренге негодяев, и сэр Вильям Бентинг уже делал попытки урезонить его. Но на короля не действовали ни предупреждения, ни угрозы, и в конце концов совет директоров Ост-Индской Компании перешел к действиям, направив пакет Джону Лоу, резиденту в Лакноу, и уполномочив его от имени Компании временно взять на себя правление Оудом. Однако полковник Лоу был уверен, что такой шаг будет неправильно понят и вызовет отрицательную реакцию во всей Индии, и настаивал на смещении Нассеруд-дина и назначении на его место другого представителя королевской семьи. Все это происходило под плотной завесой секретности, однако Восток обладает шестым чувством в делах тайной дипломатии. Возникло подозрение, поползли слухи, которые, множась, охватили весь Оуд…
В последние годы граф Рамон все более и более отходил от дел внешнего мира, находившегося за высокими белыми стенами, окружавшими его поместье, и, за исключением встреч с несколькими старыми друзьями, среди которых только часть была европейцами, он вел жизнь затворника. Однако даже в этой тихой заводи возникала тревожная зыбь страха и неуверенности. Поэтому, когда леди Эмили Бартон предложила забрать его дочь с собой в горы, он с благодарностью принял это предложение и уговорил своего молодого зятя согласиться на отъезд Хуаниты.
В горном лесу среди сосен и рододендронов было прохладно. По сравнению с многолюдными равнинами жизнь здесь протекала более спокойно и размеренно. За складками предгорий виднелись вершины гор. За несколькими линиями диких, покрытых джунглями холмов возвышались снежные пики; холодные, бесстрастные и неизменные в веках, они не поддавались влиянию времени и историческим катаклизмам. Однако времена менялись, и люди продолжали делать историю.
Вдали от этих мест, на небольшом дождливом острове на другом конце земли умер король, и маленькая девочка, только недавно вышедшая из-за парты, девочка, именем которой позже будет назван один из величайших периодов британской истории, а сама она будет объявлена Императрицей всей Индии, взошла на трон Великобритании.
Началась Викторианская эпоха.
Хуанита хотела успеть вернуться в Лакноу до того, как муссонные дожди зальют пылающие равнины Индии. Однако Вали Дад и ее свекровь Азиза Бегам запретили ей возвращаться. «Дорогая, побудь там еще немного, — писал Вали Дад. — В городе действуют злые силы, и я с ужасом думаю о будущем. Хотя мой дом опустел без тебя, однако мысль о том, что ты, мое сердечко, моя жизнь, находишься вдали от опасности, приносит мне успокоение. Когда зло будет уничтожено, я приеду и заберу тебя».
Итак, Хуанита оставалась в горах, а внизу в жаркой и влажной столице Оуда полковник Джон Лоу умолял в своих посланиях заменить Нассеруд-дина другим представителем королевского дома и избежать тем самым аннексии королевства Компанией.
Как и многие его соотечественники, работавшие в рядах «Компании Джона», полковник Лоу был крайне обеспокоен и удручен направлением деятельности Компании. Почтенная «Компания Джона» была союзом, объединявшим купцов и торговцев, пришедших в Индию, чтобы покупать и продавать. Их в этой стране интересовали только торговля и прибыль. Им не нужна была империя. Несмотря на это, медленно и коварно, или же им так просто казалось, империя все же была им навязана.
Во времена Великих Моголов врач британского корабля успешно прооперировал получившую сильные ожоги любимую дочь императора Шахжахана и, когда его спросили, какое вознаграждение он хотел бы за это получить, он попросил разрешения для Британии торговать с Бенгалией. Эти первые торговые посты процветали и приносили большую прибыль, однако их успех возбудил зависть и злобу торговцев из других стран за морями.
Французы, арабы, голландцы и португальцы тоже претендовали на прибыль от торговли с Индией, и тогда британским купцам для защиты своих факторий пришлось вооружаться и привлекать наемников. На некоторое время им удалось победить своих противников и установить монополию на торговлю, но по мере расширения круга их интересов и строительства все новых и новых факторий и складов, росла также и необходимость в военных силах для их защиты. Это были смутные времена. Индия была раздроблена на множество враждующих между собой княжеств, пронизанных коррупцией, предательством и интригами. «Купеческая компания» заключила договоры со многими из этих мелких королевств и от имени своих союзников воевала против других, приумножая, таким образом, свои барыши с помощью своего же оружия. Всемогущий джинн был выпущен из бутылки, и водворить его обратно уже не представлялось возможным. Вместо того, чтобы приумножать свои доходы, как это было в прошлые годы, директора Ост-Индской Компании вынуждены были вкладывать свои капиталы в огромную по тем временам частную армию, получая взамен защиты своей торговли громадную, все растущую империю. Роберт Клайв, работавший одно время клерком Компании, покорил Индию и провозгласил теорию о том, что, если страну отобрали у ее полноправных хозяев, то руководить ею надо во благо этих самых хозяев, а не только в интересах победителей, и прежние купцы-авантюристы были вынуждены, к большому неудовольствию некоторых своих собратьев, все больше и больше заниматься вопросами территориальной администрации и все меньше делами торговли Их армии контролировали страну, они назначали губернаторов, резидентов и политических представителей, чтобы установить закон и порядок в этой огромной стране, в которой первоначально они собирались поторговать, а стали ее правителями. Их доходы таяли прямо на глазах.
«Лишь тот заходит слишком далеко, кто не знает, куда он идет», — сказал Оливер Кромвель. Люди из «Компании Джона» не знали, куда они идут, и они прошли долгий и трудный путь, начиная с тех дальних дней семнадцатого века и первых маленьких торговых поселений на берегах Короманделя. Они нанесли поражение султану Типпу, правителю Мисора, разделили и присвоили его территорию. Они поделили династии Махраттов и Гуркасов, сместили Пейшву и присоединили его земли к округу Бомбей. Предстояло ли древнему королевству Оуд последовать теперь этим же путем? Перейдет ли власть над ним из рук королевской семьи в руки Компании? Полковник Лоу как раз намеревался сделать все, чтобы избежать этого.
Он считал, что ситуация в Индии выходила из-под контроля. Чем больше увеличивались территориальные приобретения и власть Компании, тем меньше становились прибыли от самой торговли. «Компания Джона» не только теряла деньги, она уже находилась в больших долгах, поэтому не могло быть и речи о том, чтобы она полностью приняла на себя управление Оудом. Кроме этого, он считал, что народ Оуда, как бы он не любил своих жадных королей и не желал бы низвержения Нассеруд-дина, он не одобрил бы правления иностранцев в своих землях. Жители Оуда будут рассматривать это, как еще один пример агрессии Запада и как неприкрытый захват новых территорий; начнутся волнения и бунты, и снова прибыли Компании уйдут на разорительные войны. И все же Нассеруд-дин должен быть низложен.
В то время как полковник Лоу бился над решением этой проблемы, один ее аспект отпал сам собою. Жаркой июльской ночью Нассеруд-дин был отравлен, и тут же все королевство Оуд пришло в движение. Всюду обсуждали, кто придет ему на смену. Улицы Лакноу заполнили толпы различных группировок, готовые сражаться в защиту своих кандидатов, и только твердость и смелость Лоу и горстки его британских помощников спасла бурлящий город от потока крови и насилия. В конце концов, с согласия лорда Окленда на трон Оуда взошел пожилой, немощный дядя прежнего короля. Город успокоился, и Хуанита возвратилась в розовый дворец в Лакноу.
Вскоре брат Хуаниты вернулся из Испании. Это был высокий незнакомец, веселый смех которого отдавался необычным эхом в тишине Каса де лос Павос Реалес.
Теплые всепроникающие дожди сентября дочиста вымыли город. С октябрем пришли ясные дни и прохладные ночи индийского холодного сезона. Бартоны вернулись в Лакноу, где они предполагали провести месяц. Сабрина, приехав в Дом павлинов вместе со своей тетей Эмили, встретила там Маркоса де Баллестерос.
И они, конечно же, влюбились друг в друга. Маркос был темноволосым, романтичным и очень привлекательным юношей, он заразительно смеялся и демонстрировал своими манерами человека, только что вернувшегося из одной из самой романтически-загадочной страны — Испании. Сабрина Грантам была маленькой, хрупкой и прекрасной блондинкой. Влюбчивая по натуре, она вот уже год как ни в кого не была влюблена.
— Моя племянница Сабрина…
— Мой сын Маркос…
Они стояли в прохладном белом зале Каса де лос Павос Реалес и смотрели друг на друга. Апельсиновые деревья росли в кадках, как в Испании, и солнечный свет, пробиваясь сквозь кроны лимонных деревьев, посаженных перед домом, наполнял зал водянистым зеленоватым светом.
Маркос тоже читал Мильтона, и те же строки, которые Ашби цитировал много лет назад перед колыбелью малютки Сабрины, всплыли сейчас в памяти молодого испанского гранда: «Белокурая Сабрина, где нам тебя найти, под стеклом прохладной и прозрачной волны?»
«Сабрина… — думал Маркос, глядя на нее зачарованно, — да, она похожа на русалочку, на водяную нимфу».
«Он похож на рыцаря Круглого стола, — думала Сабрина, — как на портрете сэра Тристрана из книги в дедушкиной библиотеке».
Они стояли и смотрели друг на друга… и, разумеется, влюбились…
Глава 2
Дочь Хуаниты появилась на свет, и старые, древние колыбельные Испании, Франции и Индостана звучали над ее колыбелью.
— О, господи, — вздыхала Азиза Бегам, беседуя со своей подругой Анн-Мари, — ты помнишь тот день, когда родилась твоя дочь? Я помню. Сейчас я уже старая, толстая и неповоротливая, а помню все, как будто это происходило вчера. Годы бегут быстро, слишком быстро. Но у нас с тобой будет еще много внуков, и, наверняка, следующим будет мальчик…
Для Сабрины это было волшебство, как страничка, вырванная из книги сказок. Эмили же была полна дурных предчувствий. Она была чистокровной британкой со всеми чертами, свойственными ее расе, долго жившей на изолированном острове. Оба ее ребенка, родившиеся в Индии, прожили свои короткие жизни и умерли на этой чужой, враждебной земле. Она не считала Индию прекрасной или интересной страной. Она рассматривала ее только, как кладбище своих детей, по ее мнению, это была нецивилизованная варварская страна со средневековым уровнем морали, санитарии и нищеты. Руководить ею и направлять ее жизнь по пути просвещенного Запада было задачей, определенной Богом, но весьма неприятной для таких людей, как Эбенезер. Не удивительно, что она отрицательно отнеслась к чувству, внезапно возникшему между ее кузиной Сабриной и Маркосом де Баллестерос. Она убеждала себя в том, что это лишь мимолетное увлечение, которое быстро пройдет, как у девушки это часто бывало в прошлом.
Но на этот раз Сабрина действительно влюбилась, влюбилась по-настоящему в первый раз в своей жизни. Любой, кто ее видел, не мог усомниться в этом ни на секунду. Когда она шла, ее ноги, казалось, едва касались земли, ее окружала невидимая аура счастья. Для Маркоса же, привыкшего к черноволосым красавицам Испании и Франции, а также страны, давшей приют отцу, белокурая прелесть Сабрины казалась чем-то неземным — хрупким и воздушным. В какой бы компании они ни находились вместе, казалось, что они не замечают и не слышат никого, кроме друг друга.
Эмили слишком поздно осознала всю опасность ситуации (хотя она все понимала с самого начала, но исправлять что-либо уже через секунду после первой встречи молодых людей было поздно) и настаивала на том, чтобы Эбенезер определил дату их отъезда из Лакноу. Бартоны планировали посетить старую Могольскую столицу — Дели перед тем, как отправиться дальше, в Калькутту, и остаться там до тех пор, пока весной Сабрина не отправится обратно в Англию. Однако девушка, которую прежде весьма прельщала такая перспектива, теперь возражала против отъезда и умоляла позволить ей остаться в Лакноу.
Эмили была непреклонна, Сабрина заливалась слезами. А четырьмя часами позже Маркос попросил аудиенции у сэра Эбенезера Бартона, с тем чтобы просить руки Сабрины.
Сперва сэр Эбенезер растерялся. Он любил и уважал графа де лос Агвиларес и считал его сына весьма приятным и воспитанным молодым человеком. Он также знал, что граф безумно богат и происходит из лучших семей Испании, а его жена Анн-Мари — родом из старой французской знати. Со всех точек зрения Маркос мог считаться наиболее подходящей партией. Однако были и сомнения. Дело в том, что, по мнению сэра Эбенезера, Маркос был из тех, кого сэр Эбенезер обычно называл «иностранец». Под этим он подразумевал не столько франко-испанское происхождение юноши, сколько его образ жизни по английским меркам казавшийся несколько странным. Многие, подобно сэру Эбенезеру Бартону, жили, работали и умирали в этой стране, которую покорили «Купцы Лондонской торговли с Восточными Индиями». Однако они никогда не считали ее своим домом. Для Маркоса же, да и для всей его семьи Индия, и в частности, королевство Оуд, была отчим домом. Маркос вернулся в Индию после девяти лет, проведенных в Испании и Европе, и для него это было возвращением домой. А его сестра вообще вышла замуж за индуса — человека другого вероисповедания.
— Вы просите позволения сделать предложение моей кузине, — задумчиво сказал сэр Эбенезер, — но разве вы уже не сделали этого без моего разрешения?
— Нет, — сказал Маркос и нервно сжал челюсти. — Я хочу сказать, я не мог этого сделать, предварительно не переговорив с вами, но, похоже, об этом можно и не спрашивать. Я знал ответ с первого момента нашей встречи. Я хотел поговорить с вами, но…
Сэру Эбенезеру был чужд далекий, полный романтики мир, в котором они с Сабриной, казалось, пребывали с первого момента встречи. Конечно же, в один прекрасный день они поженятся и будут жить счастливо. Что за глупый вопрос! Но Маркос — достойный сын своего отца, он ни за что не произнесет формальных и ненужных слов, пока не получит официальное и необходимое разрешение сделать это. А пока им достаточно сознавать то, что они нашли друг друга. В действительности же к решительным действиям их подтолкнуло желание Эмили незамедлительно уехать в Дели.
Сэр Эбенезер задумался, оттягивая время. А затем ответил, что не уполномочен давать или не давать разрешение на замужество его кузины — это зависит от ее дедушки лорда Уэйра. Маркосу следует подождать, пока не будет выяснено мнение графа, а это неминуемо займет несколько месяцев.
— Но Сабрине уже двадцать один год, — ответил Маркос. — Она уже взрослая. Я попросил встречи с вами только потому, что так принято. Если это правда, что вы не вправе давать или не давать свое позволение, значит, этого не может сделать и лорд Уэйр. Только сама Сабрина вправе решать за себя.
— Он может лишить ее наследства, — сухо возразил сэр Эбенезер. — Часть его собственности, не являющаяся майоратной, должна отойти Сабрине.
— Нам оно не понадобится, — ответил Маркос. — Вы знаете, что мой отец богат, а я его наследник. Сэр Эбенезер, я умоляю вас, разрешите мне сделать ей предложение.
— А если я откажу вам?
Внезапно Маркос весело рассмеялся.
— Тогда я сделаю это без вас. Простите, но я ничего не могу с собой поделать. Если бы вы в свое время не получили разрешения сделать предложение леди Эмили, чтобы бы вы предприняли тогда?
Сэр Эбенезер вспомнил то далекое лето в Хэмпшире, когда он влюбился в Эмили, и не смог сдержать улыбку.
— Я никогда не спрашивал разрешения, мой мальчик. Я обратился прямо к ней. Но это была совсем другая ситуация, ты же знаешь. Эмили не была вчерашней школьницей. Она была уже взрослой.
— Сабрина тоже.
— Есть большая разница между двадцатью одним годом и тридцатью тремя! — возразил сэр Эбенезер, на момент забыв о галантности.
— Только не с точки зрения закона, — возразил Маркос.
— Леди Эмили не захочет и слушать об этом, — сказал сэр Эбенезер, пытаясь изменить направление разговора. — Она приняла решение незамедлительно уехать в Дели. Она надеется решить эту проблему таким образом.
— Значит, я настолько нежелательная кандидатура? — с обидой в голосе спросил Маркос.
— Нет же, нет, — возразил смущенно сэр Эбенезер. — Не в этом дело. Просто она хочет… Дедушка Сабрины хочет, чтобы она вышла замуж за кого-нибудь, живущего в Англии. Твой дом здесь, и, если она выйдет за тебя, ей тоже придется жить здесь. Это будет большой потерей для тех членов ее семьи, которые ее искренне любят. Неужели ты не понимаешь, насколько глубоки чувства моего тестя к Сабрине? Если она останется здесь, для него это будет жестоким ударом.
— Но мы же можем время от времени бывать в Англии, — возразил Маркос со свойственным ему молодым темпераментом.
— Это далеко не одно и тоже. Видеть любимого тобой человека раз в шесть или восемь лет, и только на несколько коротких месяцев, этого недостаточно.
— Но я тоже люблю ее! — горячо сказал Маркос. — Должны ли мы с ней жертвовать своим счастьем, чтобы сделать счастливым ее дедушку?
— Ну, что же, — сказал сэр Эбенезер в заключение разговора. — Боюсь и предположить, что скажет на это мой тесть. Какие проблемы иногда создают нам женщины!
Он думал над тем, что сказать Эмили. Это будет трудный разговор.
На деле все оказалось еще сложнее. Эмили была вне себя:
— Ты должен был доказать ему, что это совершенно невозможно. Немыслимо! О, господи, что скажет папа? Как ты мог согласиться на это?
— Но, дорогая, я не давал своего согласия. Я не мог этого сделать, даже если бы захотел. Я же не ее попечитель, а только двоюродный дядя. Кроме того, она уже взрослая, и нам остается только надеяться, что она примет во внимание пожелания твоего отца. Ей следует подождать, пока не будет известно его мнение, по крайней мере.
— Мы немедленно уезжаем в Дели, — сказала Эмили. — И, если Маркос попытается последовать за нами, я тут же отошлю Сабрину к папе, даже если мне придется сопровождать ее.
— Но я не могу поехать с вами, — сказала Сабрина, сияя от счастья. — Я выхожу замуж за Маркоса.
— Ты не сделаешь этого! Я запрещаю.
— Вы не можете остановить меня. Дорогая моя тетя Эмили, не упрямьтесь. Я так счастлива! Я никогда не могла себе представить, что человек может быть таким счастливым. Разве вы не желаете мне счастья?
Эмили всплеснула руками и зарыдала.
Сабрина отказалась покинуть Лакноу, а Эмили не могла заставить ее сделать это силой. Как уже говорил Маркос, она была вполне взрослой и могла выйти замуж за кого хотела и когда хотела. Между тем, она согласилась отложить осуществление своих планов до тех пор, пока не станет известным мнение ее дедушки.
Эмили, сэр Эбенезер, Маркос, граф Рамон и Сабрина, — все написали графу Уэйру. Маркос написал в Рим, запросив разрешения на вступление в брак. Эмили отменила свои поездки в Дели и Калькутту и осталась в Оуде. Ее мужу пришлось отправиться в поездку одному.
Рождественская почта из Англии принесла новость о том, что Хантли, единственный сын Герберта и Шарлотты, вступает в брак с Джулией Райк, дочерью одного из старых друзей Шарлотты. Бракосочетание должно будет состояться весной, и граф требовал немедленного возвращения своей дочери и внучки для участия в свадебной церемонии его единственного внука. По словам графа, Сабрина провела уже достаточно времени на Востоке, и пришло время возвращаться домой. В постскриптуме он сообщал, что капитан Деннис Аллингтон недавно женился на дочери зажиточного хозяина хлопковой мануфактуры из Манчестера.
Хотя Эмили понимала, что в этих письмах не может быть ответа на их послания, отправленные домой менее двух месяцев назад, она виновато смотрела на листы бумаги, донесшие до нее почерк ее отца. С этими бумагами в руках она долго стояла, глядя в окно сквозь пелену листвы туда, где купола соборов и минаретов, блестящие крыши домов индийского города уходили в густо-голубое восточное небо, но мысленно она была очень далеко…
Хантли! Этот полный молчаливый ребенок, сын Герберта, родившийся за год до Ватерлоо… за год до смерти Джони… А сейчас Хантли женится на Джулии Райк.
— Ну что ж, если она хоть немного походит на свою мать, мне жаль Хантли, — сказала Эмили. — Сабрина, дорогая, согласишься ли ты отправиться домой весной? Только на церемонию? Твое отсутствие может вызвать разнотолки. Пользуясь случаем, ты могла бы обсудить свои дела с дедушкой. Так будет лучше для всех. Вы с Маркосом молоды. Вы не желаете подождать несколько месяцев, но как много это будет значить для твоего дедушки… и, конечно, для Генри.
— Бедняжка Хантли! Хантли наплевать на меня так же, как и мне на него. Дядя Ашби как-то назвал Хантли размазней, и он был прав. Нет, тетя Эмили. Я отправлюсь в Уэйр только как жена Маркоса. Я люблю дедушку. Он лапочка, но он — старый тиран, и я не доверяю ему.
— Сабрина, разве можно говорить такие вещи! — Эмили была просто шокирована.
— Но я же права. Вспомните, как он поступил с Деннисом Аллингтоном. Да, он был прав в отношении Денниса, я знаю. Но разве вы не видите, тетя Эмили, несмотря на свою любовь ко мне, он отправил меня в Индию только для того, чтобы все вышло по его желанию.
— Это несправедливо, Сабрина, — сказала Эмили. — Он сделал это для того, чтобы оградить тебя от большой ошибки. Он не хотел видеть тебя несчастной.
— Да, я знаю, тетя. Но он думал только не о моем счастье. А если бы я действительно любила Денниса? Этого не случилось, но если бы это было именно так? Я могла выйти замуж только с его согласия. Если я отправлюсь в Англию сейчас, он непременно постарается помешать моему браку с Маркосом. Он симпатичный старый средневековый тиран, и я его боюсь.
— О, моя дорогая, — вздохнула Эмили, — это все очень сложно. Надеюсь, что на этот раз ты не сделаешь ошибки. Сейчас тебе кажется, что эта страна прекрасна и романтична. Но как ты заговоришь, если тебе придется провести всю свою жизнь здесь. Жара, болезни, войны, голод…
— У меня будет Маркос, — заявила Сабрина.
Эмили сдалась. Оставалось, сдержав чувства, ждать почты из Англии, которая должна была принести ответ ее отца на их запрос о благословении на брак ее внучки и Маркоса де Баллестерос.
Новогодний рассвет покрыл Оуд шафранно-желтой дымкой. Наступившему Новому году предстояло увидеть коронацию молодой королевы Виктории, эвакуацию австрийцев из Папских государств, объявление Францией войны Мексике, отмену рабства в Индии и начало ужасной войны в Афганистане.
За пределами Оуда, на земле пяти рек Ранжит Синг, в Лахоре знаменитый «Лев Пенджаба» держал свой распутный двор, обирая несчастных крестьян, жестоко карая всех, кто ему не нравился, и осыпая щедрыми дарами тех, кто был ему симпатичен, заигрывая с англичанами и приближая себя к преждевременной могиле необузданным пьянством и обжорством.
На севере, среди голых холмов Афганистана эмир Дост Мохаммед, потеряв надежду на заключение договора с Британией, обратил свои взоры к России, в то время как британский посланник Александр Бернс, которому упрямая глупость лорда Окленда помешала привлечь Афганистан в число своих союзников, собирался вернуться в Индию с пустыми руками.
Сабрина Грантам отметила свой двадцать второй день рождения на пикнике в тени деревьев, на берегу реки, а потом на балу в Каса де лос Павос Реалес.
Вечером, в день рождения Сабрины, в саду были зажжены фонари. На балу в огромном доме звучали смех и музыка, шелестели веера, сверкали украшения и позвякивали сабли. На Сабрине было белое креповое платье с золотой окантовкой и прекрасная тройная нить жемчуга, подаренного Анн-Мари будущей невестке.
— Они принадлежали моей матери, — сказала Анн-Мари, закрепляя вокруг белой шеи Сабрины блестящие нитки. — Она получила их от своей матери в день бракосочетания. Она надевала их на свадьбу Луи XVI и Марии Антуанетты. Я всегда хотела подарить их избраннице Маркоса как свадебный подарок, но чувствую, что ты должна получить их сейчас, во время бала в честь твоего дня рождения. Ты наденешь их на свадьбу, не правда ли?
Однако этот год, начавшийся для Сабрины так ярко и счастливо, внезапно был омрачен несчастьем: Анн-Мари умерла в начале февраля. Возможно, какое-то предчувствие скорой беды заставило ее подарить жемчуг Сабрине в день рождения, не дожидаясь свадьбы.
Как принято на Востоке, похороны состоялись через несколько часов после смерти Анн-Мари, однако для графа, хотя он и был знаком с этим обычаем, столь небольшой промежуток времени между кончиной жены и ее погребением показался ему кощунственной несправедливостью. В Испании ее тело оставалось бы в родовом поместье в семейной церкви, в изголовьи и в ногах гроба горели бы свечи, пока мимо него проходила бы шеренга скорбящих, дымили бы кадила, священники пели бы молитвы за упокой ее души, и лишь через несколько дней похоронная процессия проводила бы ее к фамильной усыпальнице для вечного отдыха.
Дону Рамону казалось несправедливым, что Анн-Мари так скоропалительно предали земле, и, когда остальные домочадцы отправились спать, он взял свечи и огниво и ночью пошел к небольшому мраморному мавзолею, который построил несколько лет назад, как усыпальницу для себя и членов своей семьи. Пятеро его детей уже покоились там, и теперь к ним присоединилась Анн-Мари.
Никто, кроме ночного сторожа, дежурившего у дома, не слышал, как он ушел. Сторожу было приказано следовать за графом, который не смог бы сам открыть тяжелую дверь усыпальницы. Сторож, который не усмотрел ничего странного в такой дани уважения мертвому, никому не сообщил об этом, а пожилой граф зажег свечи и просидел всю ночь у пышного гроба с телом жены. Ночной ветерок был теплым и ласковым, однако мраморные стены все еще хранили зимнюю прохладу; и утром граф, продрогший и усталый, был не в состоянии преодолеть короткое расстояние между мавзолеем и домом. Его отнесли в постель, из которой он уже не поднялся. Холод проник в его легкие, на третий день он умер, и тем же вечером его тело уже лежало рядом с Анн-Мари в мраморном мавзолее в Каса де лос Павос Реалес.
— Теперь они снова вместе, — скорбно сказала Сабрина. Она оплакивала Анн-Мари, как будто это была ее собственная, горячо любимая мать. Частично ее скорбь относилась и к графу, одинокому и осиротевшему. Теперь, когда он умер, она не могла не оплакивать его. Но в то же время чувствовала успокоение. Где-то там они снова вместе, не в холодной усыпальнице, где уже побурели груды цветов, а в далекой и счастливой стране духов.
Яркие дни и прохладные ночи конца зимы уступили место более теплым дням индийской весны, дни стали жаркими, а ночи — теплыми. Теперь большую часть дня приятней было проводить внутри помещений с закрытыми ставнями и выходить на улицу только ранним утром или в конце дня.
Новая мода на платья с плотно прилегающими корсажами, скромными воротничками и длинными широкими юбками вполне отвечала вкусу Эмили, однако при наступлении жаркой погоды она с сожалением вспоминала менее официальные одежды, модные в Директории. Викторианская Англия, отказавшись от распущенности и фривольности прежних времен, направилась в сторону чопорной официальности, и веселые высоко приталеные наряды и полупрозрачные материалы начала столетия уступили место более плотным тканям, более сдержанной представительности. Сэр Эбенезер все еще был в Калькутте, и почта из Англии, хотя и нечастая, каждый раз присылала настойчивые требования графа о немедленном возвращении его внучки.
Март принес постоянно поднимающуюся температуру, пыльные бури и монотонный, сводящий с ума крик koil, птицы, которую англичане прозвали менингитной. Сэр Эбенезер вернулся, а Маркос получил из Рима разрешение на брак.
Сэр Эбенезер нашел свою жену бледной и измученной после стольких несчастий и переживаний. Ей явно требовалась смена обстановки. Про себя он отметил, что Эмили выглядела не только усталой и больной, но и внезапно постаревшей на десяток лет. Он был обеспокоен, рассержен этим и резко говорил с Сабриной, которую считал единственной виновницей переживаний и пошатнувшегося здоровья тети. Он сказал, что займется организацией ее немедленного переезда в более прохладную атмосферу гор, и на этот раз не будет слушать никаких глупых отговорок о том, что Сабрина с ними не поедет.
Сабрина, последнее время пребывавшая в состоянии влюбленности, почувствовала резкие угрызения совести, поскольку из-за эгоизма, присущего молодым и влюбленным, в последние месяцы уделяла слишком мало внимания состоянию души и здоровья своей тети. Тетя Эмили действительно выглядела плохо. Жара сделала ее вялой и апатичной, и несколько месяцев, которые она проведет в горах с прохладным целительным воздухом, пропитанным запахом сосен, несомненно укрепят ее здоровье и дух. Однако Эмили отказывалась оставить Сабрину одну в Лакноу.
Если бы Анн-Мари была еще жива, все обстояло бы по другому, поскольку для Сабрины было вполне благопристойно оставаться в доме своей будущей свекрови. Сейчас же она не могла оставаться в Каса де лос Павос Реалес. Эмили отказалась признать дом Хуаниты подходящим местом для проживания незамужней девушки. Она лишь могла провести там не более нескольких дней.
— Нет, я не забыла, что Хуанита сестра Маркоса, и если ты когда-нибудь выйдешь за него замуж (Эмили продолжала относиться к этому вопросу с определенной долей сомнения), сможешь сама решать этот вопрос. Но в настоящее время ты находишься под моим и твоего дяди присмотром и должна нас слушаться.
В этом деле совершенно неожиданно, и по мнению Сабрины, несправедливо, леди Эмили нашла союзницу в лице Хуаниты.
— Ты не понимаешь, дорогая, наши мужчины подходят к этому вопросу совсем по-другому. Нет, нет — у меня совершенно другое положение. Моя мать и мать моего мужа были подругами. Когда мы с мужем были еще детьми, мы играли вместе. Я принадлежу двум мирам, а ты — только одному.
— Когда я выйду замуж за Маркоса, я тоже буду принадлежать двум мирам, — возразила Сабрина, — Англии и Испании.
Хуанита отрицательно покачала головой:
— Даже когда ты выйдешь за Маркоса, ты все равно будешь принадлежать только одному, западному миру — Европе. Я принадлежу только Востоку, потому что родилась на женской половине индийского дворца, в доме Азизы Бегам, которая была ближайшей подругой моей матери и матерью моего мужа. Даже если я соглашусь оставить тебя здесь со мной, мать моего мужа не позволит этого. Она уже обеспокоена тем, что дядя моего мужа Дасим Али часто смотрит на тебя и находит предлоги навестить своего племянника, моего мужа, всякий раз, когда, по его сведениям, ты собираешься приехать сюда в Гулаб-Махал. Отправляйся в горы, дорогая Сабрина, и Маркос сможет навестить тебя там. Скоро придет письмо от твоего дедушки, вы поженитесь, и все будет хорошо.
— Но Маркос не может покинуть Лакноу, — сказала Сабрина удрученно. — У него сейчас столько забот. Так много нужно сделать… Он сможет отлучиться только на несколько дней, и я не вынесу разлуки.
— Это же ненадолго, — успокоила ее Хуанита, — время бежит быстро.
— Но не тогда, когда вы несчастны, — возразила Сабрина, выдавая эту старую, как вечность, истину за открытие.
Живущая в Лакноу родственница, некая миссис Грантам, уже уехала в прохладные места Симлы, в городе были и другие англичанки, но Сабрина никогда не была с ними близка. Хотя они и считали ее очаровательной, но не одобряли ее отношений с молодым графом из Каса де лос Реалес, который в конце концов был испанцем, «иностранцем», а его сестра была замужем за индусом.
Многие мужчины, служащие Компании, разлученные со своей родиной на долгие годы, женились на индусках, а гораздо большее число их поддерживали временные связи, что вызывало много толков и даже определенную враждебность. Британские матроны, которые со своими дочерьми разделяли компанию леди Эмили Бартон, вряд ли оказали бы ее кузине длительное гостеприимство, и поэтому Сабрине, похоже, ничего не оставалось, как отправиться в горы вместе со своей тетей. Подготовка к отъезду шла своим ходом, но проблема вдруг решилась самым неожиданным образом.
Однажды, жарким вечером в конце марта, когда сухой ветер шелестел умирающей листвой бамбука и других деревьев, а городские бездомные собаки выли на желтую луну, поднимающуюся в горячей дымке, из Англии пришло долгожданное письмо.
Оно было кратким и категоричным. Ни при каких условиях граф Уэйр не согласится на брак своей внучки с испанцем, покинувшим родину и осевшим на Востоке. Он не намерен отдавать Сабрину ни за какого мужчину, как бы богат он ни был, тем более, что он не только иностранец, но и избрал своим домом такую варварскую и отсталую страну. Что же касается Эмили и его зятя, на чье попечение он отдал свою внучку, то граф считает, что они просто сошли с ума, если позволили себе даже подумать о таком ужасном замужестве. Сабрина должна вернуться домой незамедлительно. В случае отказа и продолжения этого невообразимого безрассудства, он вычеркнет ее из своего завещания и лишит ее возможности каких-либо контактов с ним и членами семьи. Таково было его окончательное решение.
— Да, боюсь, все уже решено, — сказал сэр Эбенезер жене. — Нам придется отменить твою поездку в горы, и вместо этого тебе, любовь моя, придется сопровождать Сабрину домой. По крайней мере, эта поездка будет полезна для твоего здоровья. Жаль, что я не смогу поехать с тобой, работа не позволяет мне этого.
С Эмили, измотанной жарой, подготовкой к поездке в горы, волнением за Сабрину и страхом перед отцом, неожиданно случилась истерика, и она слегла в постель. «Она не покинет Эбенезера! Сабрина, конечно, не должна возвращаться в Уэйр. Что она говорила с самого начала? Но сама она отказывается оставлять мужа, чтобы выполнять роль конвоира племянницы. Миссис Толбут со своей дочерью, сэр Хаг и леди Брайан в ближайшее время уезжают в Англию, и она уверена, что любая из этих семей с удовольствием возьмет с собой Сабрину».
Однако Сабрина не намеревалась отбывать в Англию ни в сопровождении миссис Толбут, сэра Хага, леди Брайан, ни с кем-либо еще. Да, конечно, она обещала своим тете и дяде дождаться решения своего дедушки относительно ее брака с Маркосом де Баллестерос, но вовсе не обещала следовать его решению. Теперь, когда пришло, наконец, письмо, поставившее ее перед выбором — либо бросить Маркоса, либо быть отлученной от семьи и лишенной наследства, больше не было смысла откладывать. Она не может оставаться в доме Хуаниты, а поскольку здоровье тети Эмили требовало ее отъезда в горы, Сабрина решила эту проблему самостоятельно, давая согласие Маркосу выйти за него.
Конечно же, она хотела бы, чтобы на церемонии присутствовали тетя Эмили и дорогой дядя Эбенезер, но, опасаясь поставить под удар их отношения с дедушкой, она оставила записку в обычном месте, ускользнула из дома, велела оседлать лошадь и уехала к Маркосу.
Они обвенчались в маленькой церкви Каса де лос Павос Реалес в присутствии двух молодых офицеров сорок первого Бенгальского кавалеристского полка, друзей Маркоса, возвращавшихся в свой полк после отпуска, проведенного на охоте, и Хуаниты, которую в срочном порядке вызвали из ее городского дома.
Сабрина надела платье Анн-Мари, которое они с Хуанитой нашли в ее комнате в сундуке камфорного дерева, поскольку Сабрина не взяла с собой ничего, кроме того, что было на ней, и жемчужных бус, подаренных ей матерью Маркоса на балу в честь дня ее рождения.
— Мы не можем сыграть обычную свадьбу, — сказала, смеясь, Сабрина, — нам надо очень, очень спешить. Как будто мы совершенно неожиданно решили пожениться. Конечно же, мы знали с самого начала, что когда-нибудь поженимся, и только обстоятельства вынуждают нас делать все это в спешке.
Платье было прелестно и полностью соответствовало моде, принятой четверть столетия назад. Белый сатин слегка пожелтел от времени, и украшенные жемчугом кружева на юбке стали потоньше. Они нашли платье среди множества таких же, вышедших из моды и не знали, что это было подвенечное платье Анн-Мари. Хуанита добавила к нему белую полоску мантильи, которую Маркос привез из Испании в подарок матери, и обвила шею Сабрины тройной ниткой жемчуга.
— Теперь ты выглядишь как невеста, это прекрасно. Я знаю, что в связи с кончиной мамы и папы тебе не следует надевать белое платье, но уверена, что они не хотели бы видеть тебя в такой день в траурном платье. Мы не должны быть печальными на вашей свадьбе. Кюре ждет. Вперед, на свадьбу!
Кто-то принес в церковь жасмин и белые розы, и кюре зажег свечи на алтаре. Кольцо, которое принадлежало прежде Анн-Мари, украсило палец Сабрины — широкий золотой обруч, отделанный маленькими жемчужинами. Пальцы Анн-Мари были полнее, чем у Сабрины, и кольцо оказалось немного свободным и тяжеловатым. Сабрина посмотрела на него. Перешедшее от его матери к ней, оно стало символом ее брака с Маркосом. Когда она смотрела на него, у нее возникало какое-то странное чувство вечности. Похоже, впервые она поняла, что она и Маркос, молодые и веселые, полные жизни, однажды умрут, как и ее родители, как Анн-Мари и дон Рамон. Жизнь не так долга, как кажется молодым и нетерпеливым людям, она коротка и быстротечна, как тень облаков, плавно летящих по небосклону. Но это не вызывало печали, потому что время бесконечно. Казалось, она видела, что жизнь от нее простирается назад и вперед. Когда-то Анн-Мари была жива и носила это кольцо, а теперь ее нет, и кольцо носит жена ее сына. Через некоторое время его, в свою очередь, наденет дочь Сабрины. Анн-Мари все еще была здесь, она жила в Маркосе и Хуаните, и она будет жить в своих детях и внуках…
Генри и Селина, Джони и Луиза, Сабрина и Маркос… — все времена слились воедино, и Сабрину вдруг переполнило теплое чувство искристого счастья и уверенности в своем бессмертии.
«Tesu dominus ora pro nobis».
Слова молитвы мягко плыли под сводами небольшой церкви. Затем Сабрина поставила свою подпись на листе бумаги, текст которой не могла разглядеть при слабом свете свечи. Бумага была покрыта пылью, всепроникающей пылью индийских равнин, и неприятно резким в тишине казался скрип пера по бумаге. Свои подписи поставили Маркос, два молодых офицера, кюре и Хуанита.
— Теперь ты действительно моя сестра, — сказала Хуанита.
— Графиня Сабрина де лос Агвиларес, моя жена, моя супруга, — сказал Маркос смеясь, и поцеловал ее.
Они пили вино в огромном зале, где с развешанных на стенах портретов, привезенных из Испании, на них смотрели графы и графини из давно минувших времен. Они наблюдали за счастливой невестой и немногими гостями, собравшимися на торжество. Два молодых офицера поднимали тосты за жениха и невесту, а Вали Дад, который привез Хуаниту из города, но не присутствовал на церемонии, произнес речь на цветистом персидском языке. Кроме жены и кюре, его никто не понял, но все аплодировали.
Сабрина и Маркос прошли через внутренний дворик и, стоя на широкой террасе в теплом лунном свете среди теней лимонных деревьев, провожали уезжавших гостей. Луна, которая только поднималась над вершинами манговых деревьев, когда Сабрина отправлялась в Каса де лос Павос Реалес, начала спускаться к западной части небосвода. Несмотря на первые всполохи приближающегося рассвета, обещавшего жаркий день, воздух был прохладным и нежным, пропитанным запахом цветущих апельсиновых деревьев. Сабрину вновь охватило странное чувство ее единения со временем и всем живым. Когда-нибудь этот огромный дом превратится в руины, и груды изъеденных временем камней будут указывать место, где когда-то стоял забытый всеми город, подобно тем камням, о которые спотыкалась ее лошадь, когда она скакала по равнинам или вдоль реки. Однако Сабрина будет путешествовать дальше во времени, как она путешествовала по нему назад через Джони и Луизу…
«Я буду жить вечно, — подумала Сабрина восторженно. — Но никогда, как бы долго я ни жила, я не буду так счастлива, как сейчас».
Отец Вали Дада, друг графа Рамона, умер той же весной. Сэр Эбенезер и леди Эмили уехали в прохладу Симлы. Там здоровье Эмили улучшилось, а сэр Эбенезер все время участвовал в бесконечных конференциях, которые в конечном счете привели к ужасной первой Афганской войне.
В Англии, в поместье Уэйров, первоцветы, только пробивавшиеся во время свадьбы Сабрины, уступили место крокусам, нарциссам и тюльпанам. Боярышник побелил живые изгороди, а каштановые деревья в парке покрылись цветами, которые соперничали по своей красоте с флагами и вымпелами, украшавшими все подходы к замку в честь свадьбы Хантли. В день бракосочетания невеста Хантли Джулия выглядела классически прекрасной. Хантли тоже выглядел вполне счастливым. Со своей стороны Шарлотта испытывала злорадное чувство удовлетворения оттого, что Сабрина, постоянно досаждавшая ей, словно заноза, заключила мезальянс с каким-то там испанцем и была лишена родным дедом наследства. К сожалению, счастье ее было не совсем полным — три ее дочери все еще не вышли замуж. И, судя по их виду, предполагал дедушка, так они и останутся незамужними.
Граф сильно постарел за последнее время. Безусловно, сильный удар нанесло ему письмо Эмили, в котором она сообщала, что Сабрина взяла собственную судьбу в свои руки и вышла замуж за иностранца без благословения деда и вопреки его запрету. Он всю жизнь был автократом, и никто, кроме его сына Джони и Сабрины, не смел ему возражать. В результате ему и в голову не могло прийти, что кто-нибудь осмелится ему перечить.
Письмо от Эмили дошло до него наземной почтой через Египет всего за восемь недель и за несколько дней до свадьбы Хантли. Вскоре после этого пришло письмо и от Сабрины, однако гнев и печаль графа были еще так сильны, что он отправил его назад, даже не вскрыв печать.
Глава 3
Раскаленное, как печь, индийское лето окутало Оуд, подобно стальной клетке, из которой невозможно было выбраться. Однако высокие белые стены Каса де лос Павос Реалес, узкие, закрытые ставнями окна, дворики с фонтанами и апельсиновыми деревьями были созданы для того, чтобы сохранять прохладу, и в это первое лето Сабрина не очень страдала от жары. Она только слегка побледнела, скрываясь от солнца и от вынужденного бездействия, длившегося долгие месяцы.
Ранним утром до восхода солнца или поздним вечером после его захода они гуляли в садах с Маркосом или катались на лошадях по парку, окружавшему дом. Однако даже в ранние часы жара была невыносима, и она с удовольствием возвращалась в сумрачную, закрытую ставнями комнату, где колышащиеся опахала и тихое журчание фонтанов, по крайней мере, создавали иллюзию прохлады.
Маркос, рожденный на Востоке и обучавшийся среди обожженных солнцем равнин в такой же жаре Арагона, в меньшей степени реагировал на нее. Покойный отец оставил ему обширные поместья. Поскольку граф время от времени приобретал земли в отдаленных частях Оуда, Маркос проводил большую часть дня в седле, а Сабрина этим летом часто оставалась одна, в компании Хуаниты.
Хуанита вместе с маленькой дочерью и мужем Вали Дадом часто навещали Каса Баллестерос. Азиза Бегам не приехала ни разу.
— Я слишком стара и толста, чтобы выходить из дому, — сказала Бегам своей невестке, — а жена твоего брата плохо говорит на нашем языке. Кроме этого, мое сердце разрывается от печали, когда я прихожу в дом подруги моей молодости, которой уже нет на свете, как нет и моей молодости.
Однако, если Маркоса поздно не было, Сабрина часто проводила длинные жаркие вечера в Гулаб-Махале. Когда луна поднималась в сумрачном небе, женщины сидели на плоской крыше женской половины дома, глядя на минареты и белые крыши домов, зеленые деревья и золотые купола этого злого, прекрасного и сказочного города — Лакноу. Азиза Бегам шутила, всем телом сотрясаясь от бесшумного смеха, клала в рот странного вкуса ментоловые конфеты с серебряного блюдца или рассказывала длинные-длинные истории своего детства, о королях, принцах и знатных особах Оуда, которые давно уж покоились в земле.
Сначала из рассказов пожилой женщины Сабрина улавливала одно слово из десяти. Однако у нее был хороший слух и быстрый ум, и она, сидя под колыхавшимися опахалами, целыми часами и днями изучала язык. В этом ей помогали Хуанита или Вали Дад, или же старый сморщенный мунши, которого Маркос нанял для ее обучения. Азиза Бегам хвалила ее за успехи и в знак благодарности послала Сабрине женщину из своего окружения, Зобейду, в качестве личной служанки.
Зобейда была дочерью раба из гарема. Она была смуглой, крепкого телосложения, сообразительной, прилежной, быстрой и доброй женщиной. Сабрина привязалась к ней, как к преданной няне из своего детства, и полагалась на нее во всем. Зобейда тоже полюбила Сабрину и заботилась о ней, как мать заботится о своем ребенке.
С началом муссонных дождей смертоносная жара понемногу спала. Потоки теплого дождя низвергались с темного неба, превращая запекшуюся пыль улиц в реки грязи. Последовал фантастически зеленый взрыв. Там, где вчера еще была только выжженная трава, сегодня зеленела буйная растительность. Затем опять подуют жаркие ветры, грязь высохнет, солнце начнет нестерпимо жечь и сделает запекшуюся грязь твердой как камень. Все опять покроется толстым слоем пыли. Над опаленными равнинами снова будут виться маленькие пылевые смерчи. И так до следующего сезона дождей, которые размоют грязь, все зазеленеет и превратится в полные испарений джунгли.
Пока равнины задыхались в тисках жары, в горах, среди прохлады сосен и нарциссов Симлы генерал-губернатор, обнадеженный советами безответственных людей, чья жажда власти и денег сделала их глухими к голосу разума, справедливости и здравого смысла, решил объявить войну Афганистану.
Для лорда Окленда и его любимых советников не имело значения, что эмир Афганистана Дост Мохаммед был избранником народа, который однозначно предпочел его стареющему и слабеющему шаху Шуя, бывшему правителю, изгнанному из королевства много лет назад. Советники генерал-губернатора не доверяли таким людям, как эмир, способным думать и действовать самостоятельно. Важнейшим вопросом политики они считали присоединение Афганистана к союзу с Англией. Они подозревали, что Дост Мохаммед может начать переговоры с Россией, и решили насильно водворить на трон шаха Шуя, вопреки воле его народа, в надежде, что благодарность и личная заинтересованность тесными узами свяжут его с Англией. Желая заполучить Афганистан в качестве союзника, они сделали нынешнего эмира своим врагом и развязали с ним войну, предвосхитив смутную вероятность объявления им самим войны Англии. Задавшись такой целью, они заключили договор, который представлял собой пакт о союзе с умирающим Ранджитом Сингхом — «Львом Пенджаба» и правителем Сикха.
В ноябре, с наступлением прохладной погоды, так называемая «Армия индусов» собралась в Ферозероре для похода на Афганистан. Сэр Эбенезер Бартон, считавший войну беспрецедентной несправедливостью и глупостью и сильно переживавший это событие, оставил свое место в Совете и уехал в Лунджор, небольшой штат на западной границе Оуда, чтобы провести зимние месяцы в качестве гостя резидента, своего старого и близкого друга.
Дела, связанные с семьей его матери, заставляли Маркоса отправиться этой зимой на юг, а поскольку дороги были размыты и путешествие было связано с большими трудностями и неудобствами, он отправился один.
В любое другое время Сабрина настояла бы на том, чтобы сопровождать его, но сейчас она была беременна и испытывала частые приступы тошноты. Она понимала, что если будет настаивать на совместной поездке, то не только во многом осложнит положение мужа, но и, возможно, подвергнет опасности жизнь будущего ребенка. Тактично, как только могла, она уступила и согласилась провести несколько недель до приезда Маркоса с тетей Эмили и дядей в резиденции в Лунджоре.
Резиденция располагалась в несколько несуразном доме, составлявшем раньше часть большого здания прежней резиденции местного князька. Бывший сотрудник «Компании Джона» все здесь переделал, снес женскую половину, оставив только большие залы для приемов, в значительной мере их реконструировав. Здание занимало большой участок, служивший естественным препятствием и защитой извне. С трех других сторон старые ограждения форта были заменены высокой белокаменной стеной, в которой только старые массивные ворота напоминали теперь о прошлом почти королевской резиденции.
Несмотря на грусть расставания с Маркосом, Сабрина была рада вновь встретиться со своими дядей и тетей. Вскоре после свадьбы они расстались в некотором раздражении после довольно напряженного разговора, но восстановили мир путем переписки, когда прохлада и покой Симлы восстановили здоровье Эмили, и она стала более терпимой.
«В конце концов это личная жизнь самой девочки, — решила Эмили. — Она имеет право выбрать свой собственный путь в жизни. Папуля не Бог и не может повелевать жизнями других людей в угоду своей прихоти».
Она села и написала Сабрине теплое письмо, которое значительно смягчило обиду, нанесенную ей дедом, вернувшим девушке ее письмо нераспечатанным.
— Он не хотел этого, тетя Эмили, — говорила Сабрина, когда они обсуждали поступок ее дедушки, — просто он не терпит, когда ему перечат. Я такая же, и я его во многом понимаю. С Маркосом получилось по-моему, а не так как хотел он, вот он и рассердился. Как-нибудь я поеду в Уэйр, и, вот увидите, все снова будет хорошо. Я так люблю его и знаю, что он не мог разлюбить меня только из-за того, что я его ослушалась.
Эмили далеко не была в этом уверена, но промолчала. Внешний вид племянницы ее беспокоил. Сабрина похудела, щеки впали, под глазами появились темные круги, лицо побледнело. Ее кожа казалась полупрозрачной, что напомнило Эмили неприятную историю, которую она однажды слышала о Марии Стюарт, несчастной королеве Шотландии. По легенде, когда в конце жизни королева пила вино, было видно, как оно проходит через ее горло. Будучи разумной женщиной, Эмили никогда не верила в эту глупую историю, но сейчас ее уверенность пошатнулась. Нежная шея Сабрины, ее тонкие руки и узкие плечики выглядели хрупкими и прозрачными, и это очень не понравилось ее тете.
— Мы должны ее откормить, — уверенно заявил сэр Эбенезер, когда Эмили рассказала ему о своей племяннице. — Достаточно хорошей пищи и отдыха, это все, что ей нужно. В этом доме она найдет все необходимое, и через некоторое время все встанет на свои места.
Эмили вплотную занялась улучшением аппетита своей племянницы при молчаливом посредничестве повара резиденции, но первые дни беременности были довольно трудными для Сабрины, она почти ничего не могла есть. Роды ожидались в конце июня, а на дворе стоял только декабрь. Сабрину мучили частые приступы тошноты и слабости, и доктор почти ничем не мог помочь. Кроме того, ей не нравилась резиденция Лунджор.
Дурное состояние, вероятно, можно было списать за счет ее положения, однако этот огромный дом с широкими верандами и высокими гулкими потолками комнат казался ей не только недружелюбным, но в каком-то необъяснимом смысле враждебным. Он сильно отличался от других домов, но она не могла объяснить чем.
С первого момента, когда Сабрина переступила порог Каса де лос Павос Реалес, дом Маркоса, казалось, приветствовал ее. Неповторимыми чертами, определяющими личность дома, обладают почти все дома. Павос Реалес имел дружественный характер. Резиденция в Лунджоре действовала на нее отрицательно.
Может быть, ее нервы были на пределе, или же она скучала по Маркосу, а может быть, виной всему был ребенок, но она не только не любила этот дом, но временами даже боялась его. Пока в комнатах горел свет, и в них находились дядя и тетя, хозяин дома, слуги или гости, — это были просто комнаты, предназначенные для находящихся в них людей. Но когда, в некоторых случаях, приходилось оставаться одной, ей казалось, что эти пустые залы наполняются шепотом и тенями мертвецов.
В саду было не лучше, потому что тени мертвецов были и там. Однажды светлым утром, когда Сабрина после верховой прогулки по открытой равнине к отдаленной реке возвращалась домой, ей показалось, что она увидела фигуру девочки, которая резко бежала к ней по узкому деревянному мостику через овраг за домом. Она была в странной просторной одежде. Перои, спокойный пегий мерин, тоже ее увидел и задергался, чуть не сбросив Сабрину. Но это оказался просто обман зрения, игра солнца и тени в кустах бамбука…
Зобейда, чувствуя беспокойство своей хозяйки, стала спать на паласе в ногах ее кровати. Сабрина стеснялась своих страхов, однако присутствие Зобейды ее успокаивало, и она не отсылала ее прочь. Эмили, которая однажды застала ее в сумраке комнаты застывшей в испуге, она объяснила это так: «Здесь есть кто-то, кто очень несчастен. Мне кажется… это была я».
В начале января Маркос вернулся из поездки на юг и забрал Сабрину домой в Каса де лос Павос Реалес. Как и Эмили, его поразили худоба и бледность Сабрины. До последней поездки на юг он никогда после их свадьбы не покидал ее более, чем на двое суток. Поэтому он не замечал перемен в ней, они происходили очень медленно. Теперь же, увидев ее после нескольких недель отсутствия, он был поражен и не на шутку взволнован.
— Это только из-за ребенка, — успокоила его Сабрина. — Со мной все в порядке, уверяю тебя. Я чувствую себя гораздо лучше. Доктор сказал, что это вполне нормально, и тебе не стоит беспокоиться. Теперь, когда я дома, снова в дорогом Павос Реалес, я скоро поправлюсь, вот увидишь. Просто я очень скучала по тебе и по дому.
После возвращения в Дом павлинов ее настроение, естественно, улучшилось, и кожа приняла обычный цвет.
Хуанита редко навещала ее в эти дни, поскольку близилось время рождения ее собственного второго ребенка и она предпочитала оставаться дома. Но когда Маркос уезжал, Сабрина проводила много времени в Гулаб-Махале, болтая и смеясь с Хуанитой и Азизой Бегам, играя со своей кузиной, пухленькой черноглазой дочерью Хуаниты.
Она находилась там ранним золотым утром в начале февраля, когда у Хуаниты начались схватки. Она хотела остаться с нею, но Азиза Бегам и сама Хуанита не позволили ей этого.
— Отошли ее, мама, — шептала Хуанита, лоб которой был покрыт капельками пота, — англичане не такие, как мы. Они ничего не рассказывают своим девушкам о таких вещах. Ее роды будут тяжелыми, и мы можем ее преждевременно перепугать.
— Успокойся, кто лучше меня знает об этом? — кивнула Бегам. — Ей действительно придется трудно. Она не создана для того, чтобы рожать детей. Ой, ой, ой! Я ее отошлю, не беспокойся. Расслабься, дочь моя, через некоторое время сын моего сына будет у меня на руках.
Азиза Бегам сунула в рот лист бетеля и вышла, чтобы приказать заложить карету и успокоить взволнованную Сабрину:
— Не беспокойся, это время приходит для всех женщин, кто из нас может этого избежать? Никто, моя птичка, никто! Это говорю тебе я, родившая много детей.
Эта полная женщина, свекровь Хуаниты, всегда казалась Сабрине странной, но сейчас, совершенно неожиданно, она увидела ее совершенно в другом свете. Она увидела в ее ярких глазах доброту и мудрость, ранее скрытые от нее под полной и морщинистой маской лица. В этих маленьких пухлых руках таились сила и твердость духа. Внезапно она увидела исчезнувшие прелесть и обаяние этой пожилой бесформенной женщины, которая всю жизнь была подругой Анн-Мари.
Повинуясь внезапному порыву, Сабрина схватила ее руку и прижалась к ней щекой. Бегам обняла ее. Удивительно, как приятно и успокаивающе было положить свою голову на пахнущее сандаловым деревом мягкое плечо.
— Теперь поспеши, дочурка, и возвращайся в дом своего мужа. Я пришлю тебе весточку, когда сын моего сына появится на свет. — Пожилая женщина потрепала Сабрину за плечо и незаметно смахнула слезу, появившуюся в уголке глаза.
Сын Хуаниты родился до восхода луны: крепкий черноволосый малыш со светлой кожей матери и темными глазами отца.
— Он родился в хороший час, — сказала Бегам. — Ну, ну, не плачь, крошка! Ты будешь великим королем, и у тебя будет семь сыновей.
Когда прохладный сезон подходил к концу, и снова стала наплывать удручающая жара, Сабрина все реже и реже стала выходить из дома. Ее маленькая фигурка потяжелела, ее формы исказил будущий ребенок. Она испытывала значительные неудобства от модных в то время узких платьев с тесемками, и Хуанита уговорила ее носить дома свободные и более удобные восточные одежды. Эта новость крайне шокировала леди Эмили, но с наступившей жарой Сабрина нашла свободные, легкие шелковые восточные наряды невероятно удобными по сравнению с плотно прилегающими платьями с множеством нижних юбок, согласно европейской моде.
Бартоны снова отбывали в Симлу, и Эмили хотела, чтобы Сабрина отправилась с ними, но та наотрез отказалась покидать Павос Реалес, несмотря на то, что Маркос поддерживал тетю.
— Тебе нехорошо оставаться здесь в жару, дорогая, — увещевал ее Маркос. — Ночи уже становятся душными, а сейчас только первая неделя марта. Апрель — плохой месяц на равнинах, а май еще хуже. Поезжай сейчас со своей тетей в горы, и я приеду к тебе в конце мая, обещаю.
Но Сабрина стояла на своем:
— Твоя мама не уезжала в горы, когда готовилась рожать, Хуанита тоже. Кроме того, моему сыну предстоит провести детство в этой стране, как и тебе, поэтому он должен быть привычным к жаре. Тебя ведь жара не беспокоит. Только я ее чувствую, потому что родилась и выросла в холодной стране. Это твой дом, и я хочу, чтобы мои дети родились здесь.
Но в конце концов она согласилась уехать, но только не в марте. В связи со своими делами, Маркос должен был оставаться в Оуде до мая. Она останется в Павос Реалес, пока он не закончит их, и затем они вместе отправятся в горы.
Таково было решение, и Бартоны, которые гостили в Павос Реалес на пути в горы, тепло попрощались с ней и отправились в Симлу.
Сабрина уже не могла участвовать в верховых прогулках с Маркосом и часто чувствовала себя одиноко в Каса де лос Павос Реалес в первые недели наступившей жары. Эмили была в Симле, а Хуанита не могла покидать Гулаб-Махал, а в доме на берегах Гумти редко появлялись гости. И все же Сабрина не находила свое уединение утомительным. Она любила высокие белокаменные комнаты, прекрасные портреты, резьбу и ковры, привезенные старым графом из Испании, темную, мерцающую дьявольщину прекрасного Валаскеса, картины которого висели на стене огромной гостиной, запахи апельсиновых деревьев и фонтаны воды, плещущие во внутренних двориках. Она любила цокот копыт, предупреждавший ее о возвращении Маркоса, и их совместные прогулки поздним вечером по вымощенной камнем набережной.
Она была переполнена счастьем, не подвластным никому, и его никто не мог испортить. Ей казалось, что ее окружает стена, искристая прозрачная стена, сквозь которую она могла видеть посторонний мир, но которая защищала ее от агрессивной внешней среды, как стеклянные стены теплицы охраняют молодые побеги от холодного восточного ветра. Она любила, и все ей отвечало взаимностью. Ее обожали, пестовали и охраняли. Ей казалось, что весь мир вокруг прекрасен, жизнь простиралась перед ней, как покрытая зеленой травой тропинка, окруженная цветами, по которой она пойдет вместе с Маркосом, рука об руку, спокойно, счастливо, не торопясь…
К концу апреля далеко на севере шах Шуя в сопровождении британского конвоя Макнатена вступил в Кандагар. Эмир Дост Мохаммед скрылся со своими людьми, не дожидаясь прихода тяжело вооруженной «Армии Индусов», а население Кандагара горячо приветствовало стареющего шаха Шую, что заставило Макнатена ошибочно предположить, будто все население Афганистана с радостью встретит марионеточного эмира и смещение Дост Мохаммеда. Это его убеждение не поколебал даже тот факт, что «Приветственная демонстрация», организованная двумя неделями позже, полностью провалилась, ввиду абсолютного отсутствия на ней возмущенного афганского населения.
В последнюю неделю апреля Маркосу снова предстояло уехать на юг. Отец Анн-Мари после ухода со службы в Ост-Индской Компании приобрел земли на побережье Малабара и начал новую жизнь плантатора. Его поместье приносило большой доход, и он умер состоятельным человеком. Анн-Мари была его единственной наследницей, и после ее смерти вся собственность переходила ее детям, Маркосу и Хуаните. Старый управляющий их дедушки, заботившийся о поместье многие годы, умер прошлой осенью, и именно этот факт заставил Маркоса поехать туда в начале прохладного сезона. Он назначил нового управляющего и вернулся довольный — поместье осталось под надежным присмотром. Однако сейчас он получил известие о том, что новый управляющий умер от укуса змеи, а также о недовольстве, зревшем среди кули, нанятых для работы в поместье.
Обсуждая эту проблему, Маркос и Вали Дад решили, что целесообразнее всего будет продать поместье Малабар и вложить деньги в Оуд, поскольку эта собственность располагалась слишком далеко, и ею трудно было управлять через вторые руки и на большом расстоянии (что подтверждали последние новости). Пообещав вернуться в конце мая, они выехали на юг в конце апреля.
— Я не задержусь, дорогая, — успокаивал Сабрину Маркос. — Я вернусь до конца мая, обещаю.
Но Сабрину это не успокоило:
— Почему ты должен ехать? Почему Вали Дад не может поехать один? Маркос, ты не можешь оставить меня одну сейчас! Я этого не перенесу. Я боюсь.
— Что случилось? Чего ты боишься, сердце мое?
— Я не знаю. Я знаю только, что не могу тебя отпустить. Пусть Вали Дад едет один.
— Мы должны ехать, моя дорогая, — сказал Маркос, нежно обнимая ее. — Если в одиночку и поедет кто-то, то это должен быть я. Вали Дад едет только помочь мне. Если он поедет один, у него будут неприятности с местными властями, ведь он родом не с юга, а из Оуда. Когда мы избавимся от этих поместий, у нас не останется никаких дел на юге. Разве это тебя не радует? Я никогда больше не уеду от тебя дольше, чем на день.
— Ты больше думаешь о деньгах, чем обо мне, — заплакала Сабрина.
— Это не так, дорогая. Но эта недвижимость действительно дорого стоит, и половина ее принадлежит Хуаните. Если мы промедлим, плохое управление и другие возникшие проблемы могут снизить стоимость поместья. Неужели ты допустишь лишить Хуаниту значительной части наследства, оставленной ее матерью, только потому, что я предпочел остаться со своей женой и отказался от трудной и утомительной поездки для решения деловых вопросов? Я не верю в это!
На время своего отсутствия Маркос намеревался отослать Сабрину к тете, собирающейся отправиться в горы, чтобы она находилась под присмотром. Но, к сожалению, сэр Эбенезер написал из Симлы, что леди Эмили перенесла сильный приступ малярии, и хотя она уже пошла на поправку, состояние ее здоровья все еще внушает опасение. Прочитав письмо, Маркос понял, что сейчас бессмысленно посылать жену под присмотр больной женщины. Леди Эмили была бы не в состоянии приглядывать за ней. Сабрина также не смогла бы ухаживать за больной женщиной.
— Она должна переехать ко мне, — сказала Хуанита. — Я знаю, она не хочет покидать Павос Реалес, и здесь явно прохладней, но ее не следует оставлять одну. Сейчас одиночество ей противопоказано. Привези ее ко мне, Маркос. Это продлится всего несколько недель, а как только ты вернешься, мы отправимся в горы. Роды должны быть в конце июня, а до этого мы много дней будем на прохладном воздухе. Присмотри за моим мужем, и быстрей возвращайтесь.
Итак, Сабрина переехала из Каса де лос Павос Реалес в розовый дворец в Лакноу, откуда со слезами проводила Маркоса и Вали Дада, стоя под усыпанными золотыми соцветиями деревьями в саду Хуаниты.
Проезжая под аркой, Маркос обернулся в седле и увидел ее хрупкую фигурку под сенью тенистых деревьев, увидел ее белую кожу и золотистые локоны на фоне цветастого и пышного восточного наряда. В ту секунду он от всего сердца пожалел, что покидает ее. Но он был уверен, что это ненадолго…
Казалось, с его отъездом сверкающий мир, полный красоты и умиротворения, в котором жила Сабрина, лопнул, как лопается хрупкий, переливающийся всеми цветами радуги мыльный пузырь от прикосновения руки. Она скучала по нему, и эта тоска не уменьшалась, а росла с каждым днем. Ей также недоставало прохладных комнат Павос Реалес и спокойного простора парка, окружающего поместье.
Гулаб-Махал, Дворец Роз, был весьма шумным местом, а его комнаты, стены которых были выкрашены, покрыты резьбой или украшены разноцветным мрамором и сверкающим перламутром, а окна — резными каменными наличниками, были удушливо жаркими. Под многочисленными, украшенными резьбой балконами, располагались вымощенные дворики и сады апельсиновых, манговых и других деревьев. Все это ограждали высокие стены, расчленившие суетный город на шумные базары, мечети, зеленые сады и фантастической красоты дворцы.
День и ночь за стенами Дворца Роз шумел большой город, наполняя маленькие, душные и жаркие комнаты какими-то звуками, а мази и эссенции Азизы Бегам и женщин гарема добавляли к этому приторные запахи сандалового дерева, розового масла, с ними сливался запах перетопленного горячего масла из молока буйволиц, а также карри и асафетиды, идущий из кастрюль в кухонных двориках. Даже ночи не приносили долгожданной тишины: из лабиринта улиц слышалась дробь тамтамов, завывание флейт и треньканье ситар, лай собак париев, крики детей, бряцание вооруженных всадников, проезжавших по узким улочкам, или же пьяные крики гуляк, возвращавшихся домой после очередного дебоша во дворце короля.
С каждым новым, медленно тянущимся днем жара становилась все нестерпимее. В течение дня стены и крыши домов, камни, которыми были вымощены дворики, медленно впитывали в себя жгучие лучи солнца, а когда приходила ночь, каждый камень или кирпич в городе волнами отдавал хранимую им жару, как открытая дверца печки.
Сабрина научилась понемногу спать днем, когда часто дул горячий сухой ветер. Тогда открывали двери и окна и завешивали их своеобразными шторами из плотно сплетенных корней, постоянно смачиваемых водой. Теплый ветер, проходя сквозь смоченные шторы, охлаждал комнату и наполнял ее довольно приятным ароматом. Но часто ветра вообще не было, а к закату он всегда прекращался.
В такой жаре тело Сабрины становилось сухим и съеживалось. Она начинала мечтать о пропитанном сосновым ароматом прохладном воздухе гор, как человек, мучимый жаждой, мечтает о глотке воды, начала сожалеть о том, что в марте не уехала с Эмили в горы, как того хотел Маркос. Но в горы она больше уже никогда не поедет. Маркос отсутствовал уже больше трех недель. Была середина мая, когда пришло короткое письмо от сэра Эбенезера Бартона. Эмили скончалась. У нее случился второй приступ лихорадки, писал сэр Эбенезер, и она умерла через два дня. С ней была ее дальняя родственница миссис Грантам. Почерк сэра Эбенезера, всегда четкий и ясный, на этот раз был неровным и дрожащим, как у очень пожилого человека.
Держа в руках письмо, Сабрина молча смотрела в одну точку перед собой. Глаза ее были сухими. Мысленно она вернулась сквозь годы в поместье Уэйров, увидела лицо тети Эмили в залитой светом детской комнате, где она учила трехлетнюю Сабрину ее первым молитвам. Она вспоминала, как тетя Эмили завязывала ей ленты перед первым торжественным вечером, как защищала ее от бесконечных нападок тети Шарлотты, читала ей сказки и рассказывала истории о молодых годах ее отца… Вся жизнь тети Эмили прошла перед ее взором, словно бесконечная череда картинок, уходящих все дальше и дальше в прошлое. Все они светились добром, все были пронизаны любовью…
И вдруг Сабрине стало страшно, как бывает страшно человеку, который во сне входит в дверь знакомого дома и видит, что комнаты изменились, стали странными и пустыми, а его сон превратился в ночной кошмар.
От Маркоса и Вали Дада не было никаких вестей, кроме короткой весточки, посланной из деревни, где они провели первую ночь своей поездки. Отсутствие вестей не беспокоило Хуаниту и Азизу Бегам, которые хорошо знали состояние дорог и трудности, связанные с посылкой почты на перекладных с отдаленных станций. Однако это волновало Сабрину, которой длинными жаркими бессонными ночами представлялись ужасные, холодящие кровь картины. Она вспоминала управляющего, погибшего от укуса змеи. Маркосу тоже грозит много опасностей: его может укусить змея, на него может напасть тигр, его могут убить бродячие разбойники-душители, он может заболеть холерой, чумой, умереть страшной смертью от гидрофобии. Индия, которая всегда казалась ей такой прекрасной и экзотической страной, сейчас предстала перед ней совсем в другом виде. Она поняла, что под этой красотой и очарованием кроется немыслимая пропасть жестокости и ужаса, подобно тому, как великолепные минареты и позолоченные купола дворцов возвышаются над зловонными улочками и жалкими лачугами бедняков.
В дальнем конце высокой стены, окружавшей сад Гулаб-Махала, напротив окна ее комнаты стояла мечеть. Это была скромная маленькая мечеть, выложенная из кирпича и побеленная. Ее округлую крышу венчал железный полумесяц, символ ислама. Солнце вставало прямо за ней, и при каждом рассвете, когда воздух был еще немного прохладен после ночных часов, Сабрина видела его в рамке сводчатого открытого окна на фоне шафранового неба. Затем солнце быстро поднималось и отбрасывало изогнутую тень полумесяца на пол ее комнаты.
Эта тень медленно ползла по коврам, пока солнце поднималось по небу цвета меди. Иногда, проснувшись ночью, Сабрина видела такую тень, отбрасываемую луной. Она стала символизировать для Сабрины весь страх и одиночество длинных дней, проведенных в чужой стране, в окружении людей чужой расы. Это была угроза и предупреждение, символ надвигающейся нестерпимой жары грядущего дня. Эта жара вытягивала силы из тела Сабрины и лишала ее возможности связно мыслить.
Она не посещала Каса де лос Павос Реалес с тех пор, как уехал Маркос. Но однажды душным вечером после жаркого дня, когда вовсе не было ветра и шторы из корней кус-куса делали комнаты Гулаб-Махала только более душными, в ней неожиданно проснулось желание увидеть его снова, пройтись по саду вдоль реки. Май был самым жарким месяцем на равнинах, и ртутный столбик термометра неумолимо поднимался вверх. Но в Павос Реалес должно быть прохладней. Деревья, открытые пространства и террасы у реки не задерживают изматывающую беспощадную жару, как происходит в городе.
Хуанита предложила сопровождать ее, но Сабрина захотела поехать одна. Маркос оставил для нее карету в Гулаб-Махале, и в сопровождении Зобейды она поехала по узким душным улочкам, где жара струилась между домами, словно река меж своих берегов. Потом они выехали на открытое место, где располагался Дом Павлинов, окруженный парком и рощами деревьев.
Трава была выжжена, и деревья роняли свою умирающую листву на тропинки. Но лимонные, апельсиновые и манговые деревья еще сохраняли богатую зелень. Аромат поздно цветущих олеандров смешивался с запахом горячей пыли. Сумрачные комнаты с закрытыми ставнями окнами были душными, фонтаны не работали, однако после шума и жары суетливого Гулаб-Махала Сабрине показалось здесь гораздо прохладнее и спокойнее. Она шла по тихим затемненным комнатам, дотрагиваясь до тяжелой испанской мебели и хрупких французских орнаментов, как бы лаская их. Она обращалась с ними, как с друзьями, которых приветствовала… или с которыми прощалась.
На берегу реки еще сохранились несколько роз. Опавшие лепестки создавали яркие красочные разводы среди высохшей травы и на разогретой солнцем тропинке. Уровень воды в реке понизился, на отмелях искрились серебряные струи, длинноногие птицы, похожие на цапель, бродили по отмелям, словно призраки. В бамбуковых зарослях резко прокричал павлин. Его крик подхватило эхо изогнутой стены в дальнем конце террасы: Пи-оор! Пи-оор! Пи-оор!.. Сабрине всегда нравилось слушать крик павлинов, когда утренние или вечерние сумерки покрывали Каса де лос Павос Реалес. Но сегодня ей показалось, что в этом резком крике прозвучали какие-то странные и щемящие нотки печали.
Где-то далеко на равнинах, за темной рекой этот звук подхватил тоскливо воющий шакал. Это был дикий вой одиночества, и Сабрину внезапно снова охватил страх, который она недавно уже испытала, когда прочла известие о смерти Эмили. Страх перед Индией, перед этой дикой враждебной страной, которая простиралась на многие тысячи миль во все стороны, была наполнена темными, скрытными, косящими в сторону глазами, скрытными непонятными мыслями, ничего не выражающими лицами, невероятными жестокостями, творящимися во дворцах королей, о которых шепотом рассказывают женщины гарема; историями, поведанными Азизой Бегам, сидящей при свете звезд на плоской крыше, возвышаясь над суетой города, историями о борьбе, интригах и убийствах, о царевнах, танцовщицах и любимицах из гарема, сожженных заживо в ритуальных кострах на похоронах их властителей, историями о варварском разграблении великих городов:
«…Затем королева, другие жены и прочие женщины отправились в подземелье, чтобы совершить Джохар. Они были одеты, как на свадьбу, в золотых украшениях и драгоценностях. Они взяли с собой все сокровища города. Все выходы были запечатаны. Они развели большой погребальный костер и все там сгорели. Сокровища тоже были уничтожены. Тогда оставшиеся мужчины взяли оружие, распахнули ворота, пошли на бой и все погибли. Когда завоеватель Са-лах-уд-дин со своими воинами вошел в город, о, это был мертвый город! Ровный и гладкий, как моя ладонь…»
Или вот, к примеру:
«Сын Махмуда пленил Хана Фатеха и выколол ему глаза украшенным драгоценными камнями кинжалом, но тот все равно не показал места, где скрывался его брат. Тогда Махмуд и члены его семьи разрезали его на части. Сперва отрезали ухо, потом нос, правую и потом левую руку, но Хан Фатех ничего не сказал. Он только попросил поскорее убить его. И только когда ему отрезали бороду, которая является священной для последователей Пророка, он заплакал. Тогда они отрезали ему ступни, одну за другой, но он так и не предал своего брата. В конце концов они перерезали ему горло, и он с облегчением умер…»
Так Азиза Бегам рассказывала истории о залитом кровью прошлом своей страны. И хотя первая история произошла много веков назад, вторая относилась ко времени, в котором жила сама Сабрина. Она касалась убийства старшего брата того самого Доста Мохаммеда, на которого наступала посланная лордом Оклендом «Армия Индусов» в горах за Кандагаром. Индия мало изменилась с тех пор, как горстка лондонских купцов захватила большую часть ее территории. Ее уже много раз захватывали в прошлом, начиная с того времени, когда Сикандер Дулкхан (Александр Македонский) воевал на этой земле, строил дороги и бассейны и оставил после себя множество безымянных вице-королей. Греки, гунны, афганские племена патанов, персы, монголы — Индия видела их приход, наблюдая за ярко горящими огнями их власти, после которых оставались одни головешки, и продолжала идти своим путем…
О многом думала Сабрина, когда стояла у реки на террасе Каса де лос Павос Реалес и наблюдала за огромной желтой луной, поднимавшейся в неясном сумраке.
На Востоке закат не затягивается, как в холодных странах — это только мимолетное мгновение между днем и ночью. Одно мгновение река отливает золотом в последних отблесках заходящего солнца, и в следующий момент луна уже прокладывает свою искристую дорожку по ее черной поверхности, а тень Сабрины лежит черным пятном на залитой лунным светом террасе. Шакал завыл снова, теперь ближе. Хотя ночь не принесла почти никакого облегчения после яростной дневной жары, Сабрина поежилась, словно ей стало прохладно, завернулась в легкий марлевый индийский шарф и пошла в дом.
Знакомые белые стены, крученое железо балконов, глубокие амбразуры окон выглядели мирно и дружелюбно, как и в ту ночь, когда только что обвенчавшиеся, они с Маркосом стояли на террасе среди лимонных деревьев, провожая своих гостей, удалявшихся по освещенному луной парку. Здесь было жарче, чем там, у реки. Каменный пол террасы обжигал ноги Сабрины через подошвы тонких тапочек. Она услышала сухой тихий кашель старого извозчика и цоканье копыт о твердую землю и поняла, что становится поздно и уже пора возвращаться. Однако воспоминания о маленьких жарких комнатах женской половины Гулаб-Махала расстроили ее, и она бродила между деревьями, не желая возвращаться туда.
Рядом с ней промелькнула тень, и Зобейда робко коснулась ее руки. Вскоре они уже ехали по длинной, залитой лунным светом дороге, белые стены Павос Реалес скрылись за деревьями.
— Наверное, я никогда уже этого не увижу, — медленно произнесла Сабрина, не осознавая, что произнесла это вслух.
Город обдал их жаром, словно вырвавшимся из печи. Улицы и базары были необычно тихими. Было слишком жарко, чтобы говорить или двигаться. Мужчины повытаскивали свои плетеные подстилки на дорогу и лежали в ярком свете луны, неподвижные и молчаливые, словно жертвы эпидемии средневековой чумы.
Прямо в воротах Гулаб-Махала она увидела лошадь без всадника. Лошадь была усталой и покрытой пеной, голова ее была опущена, а на колышущихся боках белела дорожная пыль. Она стояла в густой тени серебристых деревьев, но Сабрина узнала ее. Она знала всех лошадей Павос Реалес. Это был Сулейман, на котором ездил один из слуг, сопровождавший Маркоса в поездке на юг.
Ее сердце учащенно забилось от внезапно нахлынувшего счастья, и она встала, пошатываясь в такт с ехавшей по неровной дороге карете.
Но это был не Маркос, а только посланец, привезший письма, сообщил слуга, который открыл дверь кареты. Сабрина отодвинула руку, протянутую Зобейдой, и спрыгнула на землю. Наконец пришло письмо от Маркоса! Возможно, там сообщается, что он вот-вот вернется. Неужели осталось ждать всего несколько дней?.. Она побежала по короткой дорожке вверх по плохо освещенной лестнице, ведущей в комнату Хуаниты, смеясь на ходу.
После сумрачной лестницы комната Хуаниты казалось ярко освещенной и была полна народу. Там была Азиза Бегам с двумя дочерьми и несколько служанок. Хуанита держала письмо в руках. Ее лицо было бледным и испуганным.
Сабрина остановилась на пороге. На ее лице застыла улыбка. Она замерла на месте, словно каменное изваяние, как будто увидела лицо не Хуаниты, а Медузы Горгоны. Чуть шевеля губами, она еле слышно произнесла: «Маркос?»…
Хуанита подбежала к ней, обняла и крепко прижала к себе.
— Не волнуйся, дорогая. Он не умрет. Многие выздоравливают. Не волнуйся!
Сабрина высвободилась из ее объятий, отстранила ее и обратилась к Азизе Бегам через всю душную, наполненную людьми комнату:
— Что случилось, скажите мне?
— Это холера, дочь моя. Один из слуг твоего мужа привез письмо моего сына. Он счел нужным сообщить нам, чтобы… — Бегам сдержала себя и потом продолжала: — Но твой муж молод и силен. Он поправится, вот увидишь. Нет нужды волноваться, сердце мое. Через несколько дней он снова будет здоров. Многие поправляются после холеры, даже не такие молодые и здоровые.
Но Сабрина не слушала ее. В голове ее звенело только одно слово — холера! Быстротечная устрашающая болезнь Востока. У Маркоса была холера. Может быть, сейчас он умирает… уже умер. Она должна ехать к нему. Ехать немедленно…
Жара навалилась на нее почти физической тяжестью, но ей казалось, что голова стала вдруг холодной и ясной. Это было единственное ясное пятно во всей этой странной жаркой комнате, наполненной какими-то расплывчатыми лицами и яркими мерцающими красками. Единственная холодная вещь в этом разогретом, как печка, городе. Она всматривалась в окружающие ее лица, пытаясь различить их. Темные взволнованные лица, взволнованные глаза. Щеки Хуаниты были бледны. Они все были добры к ней, она это знала, но они, конечно же, попытаются остановить ее. Они попытались оградить ее от Маркоса. Но Сулейман отдыхает у ворот. Если ей только удастся добраться до него, она поскачет к Маркосу, и они ее не поймают…
Она медленно попятилась. Хуанита протянула руку и направилась к ней. Наполненная какими-то лицами комната стала наплывать на нее. Сабрина резко повернулась и бросилась прочь. Крутая темная лестница мелькала под ногами. За собой она услышала топот многих ног. Она оглянулась и начала падать, падать, падать… Она падала в жаркую крутящуюся темноту, которая бесконечно долго неслась ей навстречу и наконец поглотила ее.
На рассвете у Сабрины после целой ночи страшных мучений родилась дочь. Хуанита, глядя на еле шевелящиеся губы, наклонилась ниже, чтобы понять неясный шепот:
— Не позволяйте… прикасаться…
— Нет, нет, — успокоила ее Хуанита, не понимая о чем идет речь.
— Тень… — настаивала Сабрина. Она была слишком слаба, чтобы повернуть голову. Она только повела глазами. Хуанита проследила за направлением ее взгляда и увидела странную изогнутую тень полумесяца, отброшенную на стену ранним утренним солнцем. Она быстро поднялась и закрыла тяжелые деревянные ставни: их следовало закрыть еще час назад, чтобы сохранить ту легкую прохладу, которую оставила в комнате прошедшая ночь.
Сабрина закрыла глаза и провалилась в забытье. Зобейда, склонившись над ней, неутомимо обмахивала ее веером весь долгий день. Во второй половине дня она пошевелилась и произнесла: «Воды». Она пила жадно, но с трудом. Азиза Бегам принесла маленький перевязанный сверток и положила возле нее, но глаза Сабрины были закрыты, и она не обратила на него внимания.
Она лежала без движения на низкой индийской кровати, и мысли ее витали где-то далеко, в зимнем Уэйре. Холодные ветры гуляли по покрытым снегом просторам и острым черным силуэтам елей и голых деревьев. С крыш домов свисали сосульки. С серого неба медленно падал снег. Мысленно она прикоснулась к снегу и ощутила его хрустящий холод. Она зачерпнула полные пригоршни снега и прижала его к своим пылающим щекам. Если только она сможет лежать тихо, совершенно тихо, если она не будет двигаться и дышать, может быть, ее мечты сбудутся.
Крохотное существо возле нее пошевелилось и запищало тоненьким голоском, который, похоже, проник сквозь туман, окружавший ее мозг. Она повернула голову, с трудом открыла тяжелые веки и посмотрела на лежащего возле нее ребенка.
Он был таким маленьким, что напоминал скорее куклу, чем живое существо. Он не был красненьким, как многие новорожденные. Его кожа была молочного цвета с черными шелковыми завитушками волос. Рука Сабрины прижала к себе этот маленький комочек, и она слабо улыбнулась.
— Разве она не прекрасна, твоя дочь? — спросила Хуанита.
— Как зима… — прошептала Сабрина.
— Как что, дорогая?
— Зима. В Уэйре. Снег и черные деревья… зима, — ее голос потух, и глаза закрылись опять, но она не спала.
Жара этой маленькой комнаты плясала над ней, как какое-то невидимое пламя. По другую сторону закрытых ставнями окон жара била по городу, словно огромный молот, а за пределами городских стен лежали выгоревшие равнины на всем бесконечном пространстве до самого пылающего горизонта. Где-то там далеко лежал Маркос. Маркос, Маркос! Может быть, он уже умер? Может быть, он никогда и не узнает, что у него родилась дочь… ребенок, который был таким белым и маленьким, как снежинка.
Внезапно Сабрину охватил страх, чисто материнский страх. Если Маркос умрет и если умрет она сама, что станет с ребенком? О нем позаботится Эмили!.. Но Эмили умерла. Хуанита? Нет, нет! Только не эту жизнь за жизнь моего ребенка! Такие мучительные мысли носились в голове Сабрины.
Дедушка! Он позаботится о ребенке. Он любил ее. Его раздражение и возмущение ничего не значат. Просто дедушка рассердился. Сабрина осознавала необходимость спешить. Время утекало как песок между пальцев. Она должна послать письмо в Уэйр, немедленно, пока еще не поздно. Она сжала зубы и, собрав всю свою волю, приподнялась на подушке. Послышался быстрый шелест шелка, и Хуанита была уже рядом с ней.
— Что случилось, моя дорогая? Лежи спокойно.
— Я должна написать письмо, — прошептала Сабрина. — Письмо в Уэйр… Я должна это сделать немедленно.
— Завтра, милая, завтра…
— Нет, — сказала Сабрина с отчаянием, слабо пытаясь вырваться из удерживающих ее рук: — Сейчас, немедленно.
— Тогда я напишу его за тебя, — сказала Хуанита успокаивающе. — Ты продиктуешь мне его. Я буду сидеть возле тебя и писать.
Так Хуанита написала письмо под диктовку Сабрины. Она записывала слова, которые давались с таким трудом и так медленно произносились еле слышным шепотом. Она писала по-французски, так как, хотя и бойко говорила по-английски, быстро писать не могла. И, глядя на лицо Сабрины, на лица Азизы Бегам и Зобейды, она чувствовала страх, а слезы, которые она тщательно скрывала от Сабрины, капали на бумагу, оставляя на ней кляксы.
«Позаботься о ней, — умоляла Сабрина своего дедушку, — если что-нибудь случится со мной или Маркосом, если нас не будет здесь, чтобы позаботиться о ней, я оставляю ее тебе. Мой дорогой дедушка, сделай это для меня. Я не знаю, как писать завещание, но это письмо и есть мое завещание. Если Маркос умрет, я оставляю все моей дочери, а ее оставляю тебе».
Когда она закончила, Бегам и Зобейда приподняли ее, Хуанита придерживала ее руку и письмо, на котором она с трудом вывела свое имя. Хуанита сложила письмо и надписала адрес. Когда она отложила его в сторону, Сабрина улыбнулась ей. Похоже было, что тяжкий груз свалился с ее плеч. Она закрыла глаза и заснула.
На закате Зобейда открыла ставни и полила водой каменный балкон за окном. Проснувшись, Сабрина услышала шипенье воды на горячем камне. Небо за окном было уже зеленым, и звезда низко висела над крышами домов. Однако воздух еще не был прохладным, и она с трудом сделала вдох. В комнате стемнело, и Хуанита зажгла небольшую масляную лампу. Тени заплясали под сводчатым потолком, как бы отдаляя его, а лепные изображения деревьев, птиц и цветов, украшавшие стены комнаты, похоже, задвигались под напором невидимого ветерка. Увидев, что она проснулась, Азиза Бегам снова принесла ей ребенка.
— Как ты назовешь ее? — спросила Хуанита. — Ей уже полдня, и у нее должно быть имя.
Сабрина посмотрела на крошечное белокожее создание, лежавшее возле нее, и вдруг вспомнила сказку, рассказанную ей однажды зимним днем в Уэйре. Может, ее рассказала тетя Эмили? Это была история о королеве, которая сидела у окна в зимний снежный день и пряла пряжу. Прялка ее была сделана из черного дерева. Она загадала, что у нее родится дочь с кожей белой, как снег и с волосами, черными, как это дерево.
— Винтер, — прошептала Сабрина.
— Винтер? Но это не имя, это слово по-вашему означает зиму. А у нее должно быть прекрасное имя.
— Это прекрасное имя…
Хуанита не понимала, как прекрасно оно было! Она никогда не видела снега и темного декабрьского леса. Ей были знакомы только яркие пылающие краски выжженной солнцем страны. Жара не казалась ей такой нестерпимой, как Сабрине, у которой она отнимала жизнь. Она не знала, что значит скучать по серому небу и свежему ветру, по холодному прикосновению падающих снежинок.
Сабрина повернула голову на горячей подушке и посмотрела на лунный свет за окном. Она смотрела, и ей казалось, что залитые лунным светом мечеть, стены, черные тени апельсиновых деревьев были на самом деле заснеженными зимними полями и лесами. Вдруг она заговорила. Голос был четким и спокойным.
Была зима и падал снег. Сабрина плакала, потому что Шарлотта заперла ее в жарком классе. Сквозь зарешеченные окна она могла видеть только белый парк, в котором ей было запрещено играть. Она видела его так четко — сугробы, утыканные черными голыми деревьями, уплывали вдаль, где натыкались на стену темного леса, окружавшего парк. Она пыталась дотянуться до него, но чьи-то руки держали ее. Внезапно руки исчезли, и открылась дверь. Она выбежала из комнаты и знакомым путем пустилась вниз по широкой лестнице. Ее обдавал ветер, пахнущий зимним лесом. Она наконец добежала до снега. Он был холодный, искристый и прекрасный, и ей наконец было холодно, холодно, холодно…
Зобейда и Бегам принесли одеяла и тщательно укрыли ее тело, сотрясаемое в лихорадке, жар возрастал, но Сабрина ничего этого не чувствовала. К утру она скончалась.
Небо за балконом посветлело, и вскоре взошло солнце. Оно наполнило тихую душную комнату ярким светом и отбросило на стену серповидную тень от мечети за садом Гулаб-Махала.
Хуанита, помня, как Сабрина боялась эту тень, поднялась с колен и, тихо подойдя к окну, закрыла тяжелые ставни перед надвигающимся жарким днем.
Глава 4
Маркос не умер от холеры. Он и в самом деле был, как сказала леди-магометанка Азиза Бегам, и молодым, и сильным. Он вернулся домой, однако к тому времени Сабрина вот уже две недели, как покоилась в могиле. Сэр Эбенезер Бартон, который, после сообщения о смерти племянницы, торопился в сопровождении миссис Грантам, в Лакноу, прибыл в Каса де лос Павос Реалес.
Сэр Эбенезер, тоже вдовец, с утратой Эмили мгновенно постарел. Расстроенный политикой генерал-губернатора и совета директоров, которую он не одобрял, он решил вернуться в Калькутту, чтобы свернуть свои дела перед окончательной отставкой и возвращением в Англию. Он сочувствовал Маркосу, который потерял отца, мать и жену за такое короткое время, и сейчас остался с малолетней дочерью на руках, однако его собственное горе от утраты Эмили не позволило ему уделить достаточно внимания соболезнованию другим и он даже не поинтересовался тем, что Маркос собирается делать с маленьким ребенком. Он просто предложил, по мере возможности, оказать посильную помощь, но фраза прозвучала чисто риторически и он искренне удивился, когда Маркос отнесся к его словам серьезно.
Однако молодой человек хотел нечто определенное — патент на офицерский чин в армии Компании.
Оставаться в Лакноу, в Павос Реалес, где он провел такой недолгий счастливый год, было для него невыносимо, и он пожелал покинуть Оуд, по крайней мере, на несколько лет. В армии всегда имелась работа, и Маркос тосковал по смене обстановки и тяжелой работе, напряженным боевым операциям. Пусть что угодно и где угодно, только не мучения от пребывания здесь, в Павос Реалес, где все напоминало Сабрину, ее милый образ преследовал его в каждой комнате, коридоре, дворике огромного дома.
Сэр Эбенезер не спрашивал о мотивах этого решения, а так как он все еще пользовался значительным влиянием в делах Компании и у генерал-губернатора, обещал выполнить его просьбу. Перед отъездом он ознакомился с завещанием Маркоса, которое взял с собой, а также обернутый парчой пакет, который Хуанита передала Маркосу и который содержал последнее послание Сабрины своему дедушке.
— Если что-нибудь случится со мной, — сказал Маркос, — я просил бы вас проследить, чтобы оба эти документа были доставлены лорду — хозяину Уэйра.
Сэр Эбенезер кивнул головой. За исключением своей Эмили, он всегда был немногословным. Однако он также был человеком слова. Он не забыл своего обещания Маркосу, и немного погодя Маркос обнаружил свое имя опубликованным в официальной газете по поводу своего назначения на почетную должность адъютанта к генералу сэру Уиллоуби Коттену, командующему войсками, продвигавшимися на Кабул.
Выше, к северу от Оуда, на земле Пяти Рек, Ранджит Сингх — «Лев Пенджаба» лежал при смерти. Свеча его жизни догорела дотла с обоих концов, и в ее ярком пламени выкристаллизовалась нация сикхов и возникла империя, простиравшаяся от Святого города Амритсара до Пешавара в тени перевала Кхибер. Однако в конце июня он скончался. Его преждевременно одряхлевшее тело было сожжено на ритуальном костре из редких деревьев, а четыре дамы сердца и семь его самых красивых девушек-рабынь последовали за ним в огонь. А вместе с ним погиб и договор лорда Окленда с сикхами, так как с его уходом среди них не осталось никого, кто бы позаботился о судьбе «Армии Индусов».
Маркос оставил дочь на попечение своей сестры Хуаниты. Зобейда была взята в качестве няни, а кормилицей девочки стала Хамида, сильная и физически очень здоровая рабыня, чей последний ребенок оказался мертворожденным. Маркос нанял надежного человека присматривать за домом и приглядывать за слугами в Каса де лос Павос Реалес, привел в порядок свои дела и уехал на север, чтобы присоединиться к «Армии Индусов».
А в том же месяце июле сошел на берег, следуя из Камдена, высокий, черноволосый кадет, курсант военного училища Бенгальской военной пехоты, которому не было тогда еще и семнадцати лет — Джон Николсон, которому судьбой было предначертано стать легендой еще при жизни и всеобщее поклонение, как Богу.
В начале августа «Армия Индусов» достигла Кабула, и после тридцатилетнего изгнания марионетка лорда Окленда, шах Шуя, въехал в столичный город Афганистана, в то время как его народ стоял в угрюмом молчании. Маркос прибыл в Кабул через перевал Кхибер с авангардом живописно разодетой армии под командованием сына шаха Шуи и по приезде попросил разрешения сложить с себя обязанности адъютанта, желая найти для себя более полезное применения. Этого он добился моментально, так как на протяжении всего того года и последующего Дост Мохаммед совершал грабительские набеги и против него проводились бесчисленные карательные экспедиции, так же как и против тех лидеров, которые отказывались принять верховную власть Шаха Шуи. Однако смерть, которую искал Маркос, обходила его стороной, а усталость, холод и нервное возбуждение после вооруженных столкновений часто отвлекала его от боли утраты.
В прекрасном, розового цвета мозаичном дворце города Лакноу дочь Сабрины росла и расцветала. Ее среди домочадцев прозвали «Маленькой жемчужиной» из-за белизны ее кожи и из-за имени Винтер.
Девочку укладывали в комнате, принадлежавшей раньше Сабрине, ее глаза скользили по ярко раскрашенным стенам, изображавшим деревья и цветы в Персидском стиле, рельефно выступающие на плоскости стены отлично отполированными фрагментами штукатурки, напоминавшими разноцветный мрамор. По мере того, как она подрастала и уже могла ползком передвигаться по комнате, она целые часы могла проводить, ощупывая своими маленькими ручками замысловатые фигуры цветов, прослеживая их стилизованные изгибы своим крохотным пальчиком. Они были ее первыми игрушками и ее первым воспоминанием, поэтому в последующие годы в ее воспоминаниях о своих ранних днях было ощущение, что она находилась в сказочном саду, в котором играла, ела и спала, окруженная чудесными цветами и удивительными, прекрасными птицами, настолько ручными, что она могла их касаться, ласкать и гладить.
Каждое животное и каждая птица на тех разноцветных фризах имели собственное имя, и среди них был один, который пользовался ее особой любовью — самый первый, до которого смогли дотянуться ее маленькие, любопытные ручонки. Стилизованный попугай с мудрым выражением глаз, держащий клюв открытым, привлекая к себе внимание. Его звали Фиришта по имени знаменитого мусульманского историка, который жил во дни Акбара и Джехангира, и Азиза, леди-магометанка делала вид, будто это Фиришта рассказывал девочке столько историй об умерших Моголах, потомках завоевателей Индии, и о многочисленных героях, о которых дети любят слушать. Леди-магометанка начинала их словами: «Фиришта говорит…», так что для дочери Сабрины Фиришта еще долго казался живым и способным разговаривать. Когда она стала старше и когда наступали жаркие дни, она подходила к замечательной лепной стене, прижималась своей маленькой щечкой к гладкой, прохладной, зеленой поверхности Фиришты и разговаривала с ним, как если бы он был ее другом или товарищем по играм.
Хуанита несколько раз пыталась надеть на свою племянницу европейскую одежду, однако по сравнению со свободными шелковыми и муслиновыми нарядами, в которые одевались другие дети Гулаб-Махала, европейская одежда казалась тесной и неудобной. Леди-магометанка настойчиво убеждала ее, что поскольку с ребенком обращались так же, как Хуанита со своей собственной дочерью, было бы неразумно так пеленать маленького ребенка на иностранный манер. Со временем настал момент, когда отец забрал ее из-под опеки и она переехала жить в Каса де лос Павос Реалес. Попытки одевать дочь Сабрины по европейской моде были в конце концов оставлены, и она стала носить свободные шелковые шальвары, тонкую, до колен, с короткими рукавами тунику и на голове тонкий, просвечивающий шарф, что было копией собственного костюма леди-магометанки, к которому Зобейда добавила серебряные украшения на запястьях, что было пределом мечтаний ребенка.
Зобейда обожала ее. Ее собственные дети, плоды раннего замужества с одним из домашних служителей под началом мужа леди-магометанки, оба оказались мертворожденными, а их никуда не годный отец был убит во время уличной драки. Она ухаживала за ребенком Сабрины, как если бы это был ее собственный ребенок и обратила на нее всю свою любовь и преданность, которую она испытывала по отношению к ее матери. Маленькая жемчужина стала всеобщей любимицей Гулаб-Махала, однако больше всего она любила «Беду», как она называла Зобейду, и это была именно Беда, к которой она прежде всего бежала, либо поранившись, либо нуждаясь в утешении.
Ее товарищами по играм стали двое детей Хуаниты, Кхалиг Дад и маленькая Анна Мари, бывшая старше нее на полтора года и названная по имени матери Хуаниты. Анна Мари Вторая, несмотря на свое имя, не унаследовала внешности со стороны материнской линии. Она была похожа на всех Вали Дадов: золотистый цвет кожи и глаза, как терновые ягоды, рот, как сложенные лепестки роз и волосы такие же черные, как черный янтарь. «Она точная копия своего отца, — такая же, как и я, когда была маленькой, — благодушно говорила леди-магометанка. — Мой сын был очень красивым, таким же, как и я, когда была в расцвете своей молодости. Увы, это было так давно, а я стала старой. Но как приятно видеть, как рядом со мной подрастают дети моих детей! Что касается тебя, Маленькая Жемчужина, ты для меня то же, что и родная внучка и, пусть это не будет дурным предвестием, я сказала бы тебе, что когда ты вырастешь, то будешь красива, как луна!».
Леди-магометанка брала обеих маленьких девочек на свои широкие колени, пела им песни, кормила неподходящими фруктами и леденцовыми конфетами, отчего те часто страдали приступами колик и расстройством желудка, к немалой озабоченности Хуаниты и Зобейды. Но пока их жизнь в Розовом Дворце протекала мирным чередом, над далеким Афганистаном собирались грозовые облака.
Эмир Дост Мохаммед добился победы в крупном сражении и затем добровольно сдался сэру Вильяму Макнатену, британскому посланнику, и тот с усиленным эскортом отправил его в Индию. Здесь его приняли с воинскими почестями, назначили солидную пенсию, а директорат Ост-Индской Компании, уверенный, что поскольку теперь экс-эмир в их руках, его страна будет менее беспокойной, решил сократить расходы на оплату преданности Афганского народа. Сэр Вильям был вынужден экономить, используя единственный возможный путь — сокращение или прекращение субсидий, которые помогали поддерживать спокойствие у племен и кланов — и, как результат этой политики, за несколько месяцев вся страна стала проявлять враждебность, и с каждого аванпоста начали поступать срочные предупреждения о злонамеренных настроениях в племенах и кланах.
В начале ноября разразилась буря. Александр Бернс и его брат были разрублены на куски визжащей толпой, и скоро весь Афганистан был охвачен пламенем восстания. Отдаленные аванпосты были атакованы, а их защитники вырезаны. Генерал Сейл был окружен в Джелалабаде, а полковник Палмер в Гхаце. Запасы еды подходили к концу, надежды на снятие осады не было, а лорд Элфинстоун, дряхлый и бездарный командующий, заменивший сэра Уиллоуби Коттена, по настоянию лорда Окленда, оказался абсолютно не способным на быстрые и смелые действия, которые единственно могли бы спасти обреченную Армию. Акбар Хан, сын Доста, убил сэра Вильяма Макнатена, а инертный генерал Элфинстоун не предпринял никаких действий, чтобы отомстить за смерть посланника. Вместо этого была достигнута договоренность с лидерами кланов, согласно которой Британским военным силам разрешалось покинуть страну под гарантию, что их вывод будет мирным, причем Акбар Хан обещал предоставить значительный эскорт, чтобы дать им возможность благополучно провести войска по перевалам.
Отвод войск начался в начале Нового года. Более четырех тысяч бойцов, а также двенадцать тысяч гражданских лиц, сопровождающих армию, включая множество женщин и детей, устало потащились из военных городков навстречу снегу и резкому холоду по бесплодным холмам, расположенным между ними и крепостью Джелалабад, где генерал Сейл по-прежнему держал в страхе осаждавших его. Однако, как только Армия достигла крутых ущелий на перевалах, Акбар Хан коварно отозвал весь эскорт, дав возможность воинствующим кланам продолжать свои злодеяния.
Сотни человек умерли, замерзнув на лютом холоде, а те, кто падал на дороге и не успевал замерзнуть, встречал еще менее милосердную смерть от рук нападавших афганцев. Вскоре, во время одного из переходов, Акбар Хан, с расчетом на будущее, предложил свою защиту нескольким англичанкам вместе с их мужьями и генералом Элфинстоуном. У них не было иного выбора, кроме как принять предложение, и они с помощью Акбар Хана вернулись назад. Оставшиеся с боем пробивались вперед через заснеженные перевалы, и на тринадцатый день января часовой на крепостном валу Джелалабада увидел одинокого всадника, изнуренного, одетого в лохмотья, запачканные кровью, изнемогающего от истощения. Это был доктор Брайдон — единственный выживший из шестнадцати тысяч, вышедших из Кабула в то трагическое отступление.
Где-то далеко позади, на тяжелых морозных перевалах, среди тысяч англичан, заплативших жизнью за глупость лорда Окленда, Маркос де Баллестерос умер, как и представляла себе Сабрина в ее последние часы — лежа ничком на холодном сверкающем снегу. И его тело вместе с останками тысяч других искалеченных тел, оставшихся гнить на перевалах, стали тем толчком, из-за которого поднялась огромная волна восстания, утопившая позднее в крови всю Индию. Так могущество и престиж Компании превратились в пыль. Ее войска были разбиты в сражениях, рассеяны и заколоты как бараны, а скелеты ее воинов лежали, побелевшие от солнца и ветра, свидетельствуя, что и могущественная «Компания Джона» оказалась простой смертной. Вдоль всей границы, а также вдоль и поперек всей Индии новости распространяются быстро, и множество индусов тайком стали точить свои мечи — и… выжидали!
В небольшом розовом дворце в Лакноу Хуанита оплакивала своего брата, крепко прижимая к себе его осиротевшую дочь. Тревога тети передалась и ей, и девочка громко расплакалась.
Когда первая печаль Хуаниты улеглась сама собой, она написала сэру Эбенезеру, адресуя письмо в его дом на Гарден Рич, недалеко от Калькутты, поскольку не знала его адреса в Англии. К письму она приложила бумаги, касающиеся владений семьи Баллестерос, которые Маркос оставил ей, проинструктировав, что если с ним что-нибудь случится, их нужно направить сэру Эбенезеру. Она написала в марте, однако сэр Эбенезер продал свой дом и отплыл в Англию почти за два года до этого. Минуло лето, и только когда уже качали опадать листья, письмо дошло до него.
Он прочитал его с трудом, так как зрение его ухудшалось, а знания французского языка были слабыми. Когда он закончил чтение, с трудом поднялся, подошел к массивной конторке из красного дерева, стоявшей у стены его кабинета, открыл небольшой выдвижной ящичек, вынул пакет, лежавший там, и постоял, взвешивая его в руке. Это был тот самый пакет, который Маркос де Баллестерос передал ему два с половиной года назад в Павос Реалес и в котором находилось завещание Маркоса и последнее письмо Сабрины. Зная характер тестя, он долго колебался, представив, как граф примет сообщение, что единственная дочь его внучки осиротела и ожидается, что он примет участие в ее судьбе.
Сэр Эбенезер только однажды встретился с отцом Эмили после своего возвращения из Индии, и старый граф совсем не вспомнил о Сабрине и был настолько молчаливым, что он воспринял это как проявление безразличия к семье дочери. Но сэр Эбенезер не знал своего тестя так, как знала своего деда Сабрина, когда рассказывала как-то Эмили о том, что бы она ни сделала и как бы сердит на нее он ни был, он не мог не любить ее.
Графу было далеко за семьдесят, однако он не выглядел на свои годы. Он прочитал краткое сопроводительное письмо сэра Эбенезера за обеденным столом, куда ему передали доставленный пакет, и его лицо приняло суровое выражение. Замужество Сабрины привело его в ярость, однако, хотя он и бушевал, и грозил наказанием, и клялся никогда не встречаться и не разговаривать с ней, в глубине души он таил мысль о том, что когда-нибудь однажды она вернется и попросит у него прощения, и что все опять будет в порядке.
Известие о ее смерти стало для него ужасным ударом. Это было, словно он опять пережил смерть любимого сына Джони, однако на этот раз окончательно и бесповоротно. Тот факт, что у Сабрины родился ребенок, для него ничего не означал, разве что увеличил его горечь и негодование. Ребенок был его правнучкой, однако он никоим образом не был ни его, ни Сабрины: он принадлежал тому незнакомому иностранцу, за которого Сабрина вышла замуж вопреки его категорическому приказу, и графу казалось маловероятным, что он увидит его или услышит о нем снова.
Он прочел сэру Эбенезеру письмо Хуаниты, рассказывающее о смерти ее брата на афганских перевалах, а также завещание, которое сделал Маркос в пользу своего единственного ребенка, и в котором он соглашался с желанием своей жены, чтобы ребенок находился под опекой ее дедушки.
Граф развязал тесемки маленького парчового мешочка, который все еще имел слабый запах сандалового дерева, и его губы скривились от отвращения. Письмо внутри было запечатано большой восковой печатью, содержащей оттиск закругленных букв, выполненных на санскрите; он сломал ее серебряным ножом для фруктов, смахнув кусочки сломанной печати так, будто они были нечистыми.
Письмо было написано по-французски, и чернила местами расплывались пятнами, как если бы автор плакал и слезы капали на бумагу. Эрл прочитал его медленно один раз, а затем другой. И внезапно по его щекам потекли слезы.
Он сидел, не обращая внимания на слезы. Не обращал внимания и на испуганные и смущенные взгляды членов его семьи и слуг, прислуживающих за столом.
Первой же реакцией графа было, чтобы кто-нибудь — предпочтительно невестка — сразу же выехал в Индию и привез ребенка Сабрины. Однако тут он встретил неожиданное противодействие. Шарлотта не имела ни малейшего желания предпринимать подобное путешествие и категорически заявила об этом.
Хорошо, тогда пусть поедут Хантли и Джулия. Они были молоды и им понравится путешествие и возможность посмотреть новые страны. Однако Сибелла, дочь Хантли и Джулии, родилась всего за один или два месяца перед рождением ребенка Сабрины, и родители не хотели оставлять ее из-за этой сумасбродной затеи — невесть зачем отправляться за тридевять земель.
Граф, планы которого были расстроены домочадцами, и которого доктора убедили в нежелательности предпринимать самому такое путешествие, был вынужден обратиться за помощью к своему зятю Эбенезеру, и тут сэр Эбенезер оказался оперативным и полезным. У него было много друзей в Индии, и он был уверен, что сможет организовать для какой-нибудь уважаемой дамы возвращение в метрополию с тем, чтобы по пути она сопровождала ребенка. Он активно взялся за исполнение взятого на себя поручения, однако почта оказалась медлительной, а связь со страной еще более сложной. Потеря морской почтой первых писем, а затем последующая смерть от тифа одной леди, согласившейся доставить девочку домой, значительно задержали ее возвращение, и поэтому дочь Сабрины, Винтер де Баллестерос, контесса де лос Агвиларес, прибыла в Уэйр лишь осенью 1845 года.
Ей исполнилось шесть с половиной лет. И с ней, к смешанному с любопытством страху Шарлотты, Джулии и всей прислуги, приехала темнокожая, сопровождающая ее спутница — Зобейда.
Первое впечатление, которое произвела на всех маленькая контесса оказалось неблагоприятным. Она была очень маленьким созданием, узкокостная и, как выразилась тетя Джулия, болезненного вида. Белая кожа, которая напоминала умирающей Сабрине о снеге в Уэйре, с возрастом под действием времени и солнца Востока стала теплого цвета слоновой кости, которую ее новые родственники описали как «желтая». Ее огромные глаза, как цветы анютиных глазок, темно-коричневого бархата и слишком большие для ее маленького личика, и волнистые, иссиня-черные волосы, которые уже опускались ниже талии, были названы «иностранными», и все дружно негодовали по поводу ее звонкого испанского титула.
Она была молчаливым ребенком, говорила по-английски с расстановкой и сильно выраженным акцентом. Полная смена обстановки и условий, контраст между теплой, разноцветной и яркой привычной жизнью Гулаб-Махала и холодными, унылыми комнатами, викторианской дисциплиной и величественным, строгим, полным достоинства укладом, установившимся в Уэйре, наряду с горькими приступами тоски по родине, любимым друзьям и единственному дому, который она к тому времени знала, привели ее в состояние молчаливого страдания. Если бы она плакала и делилась своими страхами и одиночеством, это могло бы вызвать сочувствие и понимание даже у такой лишенной воображения персоны, как леди Джулия. Однако девочка обладала чувством собственного достоинства и сдержанностью, развитыми не по годам, и никогда не стала бы плакать и искать сочувствия у этих незнакомых иностранцев. Ее молчаливое, с сухими глазами, страдание было принято за замкнутость, ее медленная речь — за глупость, так как ее родственники еще не знали, что ребенок говорит на четырех языках, из которых английский, в силу того обстоятельства, что обучала ее женщина французско-испанского происхождения, был для нее менее знакомым.
Шарлотте и Джулии тот факт, что дочь Сабрины оказалась туповатым, болезненным и молчаливым ребенком, доставил злорадное облегчение, ибо Шарлотта так никогда и не смогла преодолеть завистливой неприязни, которую она испытывала по отношению к Сабрине, и, сознательно или бессознательно, перенесла значительную долю этой неприязни на свою невестку. Ни одна из этих женщин не была особенно огорчена ни тем, что Сабрина совершила недостойный, по их понятиям, поступок, ни позже, когда они получили сообщение о ее безвременной кончине, однако, когда они узнали, что дочь девушки собирается приехать в Уэйр, обе ожидали ее появления с некоторым беспокойством.
Джулия, как и ее свекровь, обладала завистливым характером, и ее маленькая дочь Сибелла была для нее дороже всего на свете. Сибелла была красивым ребенком, и, похоже, могла остаться единственным ребенком в семье. Ей не хотелось появления соперницы, а тех рассказов о Сабрине, которые она слышала, было достаточно, чтобы посчитать дочь Сабрины грозной соперницей для своей дочери. Поэтому последовавший приезд такого явно непривлекательного ребенка успокоил ее нервозность. Однако ее успокоение длилось недолго, так как простейшее исключение из пренебрежительного отношения ее знатных родственников в отношении дочери Сабрины сделал сам граф.
Между пожилым человеком и маленьким молчаливым ребенком возникли прочные узы симпатии и взаимопонимания. Только он один смог понять, как ребенок может страдать от душевных переживаний и тоски по родине. Девочка была еще слишком мала, она особенно остро чувствовала одиночество и потребность в нежности, а она в избытке имелась у старика, глубоко упрятанная под внешней строгостью и вспыльчивым характером.
Джони, Сабрина, Винтер… Каждый из них, в свою очередь, был из всей семьи единственным, кто никогда не боялся его, и теперь здесь снова, в третьем поколении, он нашел того, кого можно полюбить, а Шарлотта и Джулия с ужасом увидели, что их худшие опасения сбываются.
Зобейда была еще одним, даже большим источником постоянного раздражения, и они прилагали все усилия, чтобы отправить ее обратно, на родину. Ее необычный внешний вид, иностранная речь, величавая молчаливость и прямодушная преданность дочери Сабрины невыносимо раздражали Шарлотту. «Постоянное неотступное прислуживание ребенку только создаст у него впечатление собственной значимости, что не годится для такой малышки. Все, что ей нужно, это английская гувернантка, которая будет строга и последовательна с ней», — говорила Шарлотта своему свекру. Прислуга тоже сторонилась молчаливой, темнокожей женщины и жаловалась, что она «вызывает у них страх».
Однако Эрл не позволил убедить себя отослать ее прочь. Ее любовь к его маленькой правнучке была настолько глубокой и сильной, что она отправилась в добровольную ссылку вдали от своей родины и своего народа, и он не мог не восхищаться этим. В любом случае, сказал Эрл, Винтер будет нуждаться в личной служанке, и, по его мнению, один добровольный помощник стоит больше, чем трое, работающих по принуждению. Таким образом, Зобейда осталась, становясь все более и более молчаливой с каждым прожитым годом и старея на удивление быстро, как это бывает у восточных женщин. Однако, будучи молчаливой с остальными, она часто разговаривала с Винтер на своем языке, и всегда о Гулаб-Махале: «Когда-нибудь, — обещала Зобейда, успокаивая одинокого и тоскующего по родине ребенка, — мы вернемся в Гулаб-Махал, и тогда у нас все пойдет хорошо».
Последующие несколько лет жизни Винтер не были полностью несчастливыми, так как, помимо своего прадеда и Зобейды, ей перепадало немного любви и внимания. Но только в обществе этих двух людей, которые любили ее, проявлялись свойства ее характера, заслуживающие нежность и внимание. Для всех остальных она оставалась простым и молчаливым ребенком, настолько ненавязчивым, что казался почти незаметным.
Ее новый родственник, брат ее деда, который был добрым и занятым наукой человеком, обнаружив, что она обладает определенными познаниями во французском и испанском языках, поощрял ее в изучении этих языков, но так как его выбор литературы был, как правило, ей не по силам, ей это не доставляло удовольствия.
Герберт, виконт Глайнд, умер, когда Винтер исполнилось девять лет. Он был нездоров уже несколько лет, хотя многие знали об этом, но когда до Шарлотты дошло, что ее муж серьезно болен, прогрессирующий рак, бывший причиной его недомогания, стал уже недоступен медицинскому вмешательству.
Шарлотта со свойственным ей деспотизмом, по-своему очень любила Герберта, и его смерть явилась для нее двойным ударом: и для ее сердца, и для амбиций. Она пришла бы в неподдельный ужас, если бы кто-нибудь обвинил ее в пожелании смерти своему тестю, но много лет с чувством приятного предвосхищения она ждала того дня, когда ее муж унаследует титул и состояние. Однако теперь этот день уже не наступит. Она никогда не станет графиней Уэйр: только у Джулии, теперешней виконтессы Глайнд, еще оставался шанс стать ею.
От сильного расстройства в связи с потерей мужа и несбывшихся надежд здоровье Шарлотты дало трещину, и врачи посоветовали ей поехать лечиться в Баден. Она выехала на континент в сопровождении своих трех некрасивых дочерей и не вернулась. Хантли, поспешно вызванный из Уэйра, приехал слишком поздно, чтобы застать в живых свою мать; он остался для участия в похоронах. По возвращении назад вместе со своими сестрами, он покинул Довер-Хауз, который занимал с женой и дочерью, и переехал в родовой замок, а Джулия смогла взять в свои руки бразды правления, ранее бывшие в руках Шарлотты.
В течение нескольких месяцев после смерти Шарлотты жизнь для маленькой Винтер показалась немного легче. Никто ее теперь не беспокоил, не придирался и не читал нотаций «для ее же собственного блага». Однако этот ее период затишья длился недолго, поскольку большая часть враждебности Шарлотты по отношению к Сабрине вызывалась материнской ревностью и теперь те же самые чувства начала проявлять Джулия.
Тот факт, что Эрл не проявлял никакого интереса к ее дочери, а только выказывал разочарование по поводу пола ребенка, ее не очень волновало, так как он был вначале огорчен «предательством» Сабрины, а позже был глубоко потрясен сообщением о ее смерти. Однако Джулия была уверена, что как только первая боль и горечь пройдут, он увидит, что ее любимая Сибелла обладает той же, если не большей, красотой, которую он так боготворил в своем сыне Джоне и своей внучке Сабрине.
Джулия сама боготворила своего единственного ребенка. Если бы у нее были еще и другие дети, вполне вероятно, что ее любовь оставалась бы в нормальных пределах материнской привязанности, однако роды Сибеллы оказались затяжными и трудными, Джулия медленно поправлялась и только потом узнала, что она больше не сможет иметь детей. Подобно своей свекрови Шарлотте, она была честолюбива, и для нее было тяжелым ударом узнать, что она уже никогда не сможет подарить своему мужу наследника и когда-нибудь графский титул и недвижимость перейдут к кому-нибудь из детей дяди ее мужа Эшби. Однако Эшби не проявлял интереса к женитьбе, и если он не преуспеет в этом, титул и часть наследуемой земли без права отчуждения от всей недвижимости покинут прямую линию наследования, хотя по-прежнему оставалась бы значительная часть наследуемого имущества, которая, как была убеждена Джулия, должна была отойти к Сибелле. Поэтому она огорчилась, когда между старым Эрлом и дочерью Сабрины возникли и установились прочные узы взаимной привязанности, она расценила это как предательство, в результате которого ее собственное прекрасное дитя не будет пользоваться преимуществом наследования в доме Уэйров из-за присутствия этого бледного, молчаливого, англо-испанского отродья.
Все, что задевало Сибеллу, задевало и Джулию, и все, что вызывало пренебрежение в Сибелле, находило отклик в ней самой. Она не могла простить дочери Сабрины то, что та отбирала себе заслуженное, якобы, ее дочерью по праву рождения, и ее чувство обиды начало проявляться в бесчисленных мелочах.
Сама девочка не понимала, чем вызывает у новой виконтессы такую нелюбовь к себе. Девочка просто осознавала это и старалась как можно реже попадаться на глаза тете, хотя это было трудно, так как она и Сибелла пользовались одной и той же классной комнатой, у них были одни и те же гувернантки, общие уроки музыки и танцев и еженедельные занятия с учителем рисования.
Винтер обладала большей смекалкой и более живым умом, чем дочь Джулии, но она заметила, что, если она готовит свои уроки быстрее и лучше, чем Сибелла, это по каким-то причинам раздражает леди Глайнд. Поэтому она нарочно отставала от своей менее сообразительной кузины, так что гувернантки и учителя, которые сначала восхищались преждевременно развитой скоростью восприятия ребенка, оказались разочарованы в ней и решили, что она в конце концов немного несообразительна.
Она чувствовала себя одинокой, ведомой по жизни складывающимися вокруг нее обстоятельствами новой жизни; ее единственными компаньонами были молчаливая индийская служанка и глубокий старик, подкошенный возрастом и подагрой. Поэтому было неудивительно, что в ее памяти жили воспоминания об Индии, как о стране чудес и красоты, где всегда светит солнце и где люди живут не в огромных холодных комнатах, заставленных безобразной темной мебелью, но в садах, полных удивительных и прекрасных цветов и прирученных птиц.
— Однажды, — говорила Азиза, леди-магометанка, нежно прощаясь с рыдающим ребенком, — ты вернешься в Гулаб-Махал, и мы снова все будем счастливы.
Зобейда тоже тосковала по своей родине и поддерживала ее живой образ в памяти Винтер, пересказывая сказки, которые Азиза, леди-магометанка, любила рассказывать ей по вечерам, сидя на плоской крыше-террасе женской половины дома и оглядывая окрестности прекрасного, яркого города Лакноу.
Эти сказки Винтер нравилось пересказывать старому Эрлу, сидя напротив него в высоком кресле с дубовой спинкой, ее маленькие ножки свободно свисали с кресла, не доставая пола и она легко и свободно переводила с языка Зобейды и Азизы, леди-магометанки, так что рассказы приобретали явно библейский аромат. Ее глаза становились невероятно большими, маленькое заостренное личико покрывалось румянцем от возбуждения, а теплый, хрипловатый, детский голос переходил в медленное, монотонное песнопение:
— «…итак, он построил ему большой город, весь из красного песчаника и белого мрамора из Джайпура, с дворцами и башнями и внутренними двориками; а вокруг него огромную стену, выше, чем самые большие пальмовые деревья. Однако боги отвернули свои лица от него, поэтому дожди прекратились, источники высохли, а река находилась далеко, много раз по две мили оттуда, поэтому стада пали от жажды, посевы в полях засохли на корню. Тогда сказал народ: — Давайте уйдем отсюда. Этот город проклят. — И они ушли прочь. И песок надвинулся на город и похоронил его под собой, и стало так, как будто его никогда не было…».
Однажды Джулия прервала одно из таких занятий, и старый Эрл, кивнув головой в сторону маленькой фигурки в большом кресле, неожиданно заметил: «Когда-нибудь однажды она станет красавицей: как ее мать».
Джулия быстро отвернулась, почувствовав внезапную боль в сердце. Однако краски погасли на лице Винтер и исчез блеск глаз, а все, что увидела Джулия, было простым, болезненного вида, ребенком, сидящим так же тихо, как какая-нибудь маленькая пташка, когда над ней парит ястреб. Джулия испытала чувство огромного облегчения и засмеялась своим отрывистым, металлическим смехом, который всегда напоминал Винтер звон сосулек, падающих на замерзшую землю, и сказала:
— Какая чепуха, дедушка! Она совершенно непохожа на Сабрину.
— Красота — это не только цвет лица или его правильные черты, — резко бросил пожилой человек. — Когда-нибудь ты узнаешь это, Джулия.
Он лукаво усмехнулся, рассматривая жену своего внука смущающе-проницательным взглядом. У него не было иллюзий по поводу Джулии, и он прекрасно знал об ее неприязни к ребенку Сабрины и причину этого.
В течение первых лет в Уэйре Винтер и ее кузина Сибелла ближе узнали друг друга; они играли, катались верхом, занимались на уроках, ссорились и мирились. Винтер откровенно восхищалась красотой своей кузины, Сибелла олицетворяла для нее принцессу из сказки — ее бело-розовый цвет лица, большие голубые незабудковые глаза, золотистые локоны и чудесные, светлых тонов, с оборочками и кружевами платья с сатиновыми шарфиками (так отличающимися от одежды из темных тканей, которые Джулия считала подходящими к сиротскому и болезненному виду и цвету лица Винтер) доставляли ей детскую, искреннюю радость. Это казалось правильным и вполне справедливым, чтобы таким неземным созданием восхищались все, кто общался с ней, и Винтер не было обидно, когда ее наказывали за тот проступок, который, соверши его Сибелла, остался бы просто незамеченным.
Она не была мрачной или безжизненно вялой. Она была дочерью Маркоса и Сабрины, каждый из которых никогда не страдал от недостатка мужества в признании своих ошибок. Но у нее было несколько конфликтов с Сибеллой в течение первого года пребывания в Уэйре, и она обнаружила, что, когда у Сибеллы в конфликте с ней не получалось настоять на своем, она немедленно прибегала к помощи взрослых и те, как правило, принимали ее сторону. Винтер могла бы в споре с Сибеллой добиться своего, однако она не могла себе позволить в таких случаях поступать, подобно Сибелле, ища защиты у взрослых. Если бы она обращалась к своему прадеду, без сомнения, все решалось бы более справедливо, но она презирала свою кузину за то, что та всегда готова была бежать к своим покровительницам с каждой жалобой, она презирала подобное использование свой слабости.
Сибелла знала, что она была красивой, талантливой и являлась наследницей, потому что ей часто это говорили или она слышала об этом от других. И по тем же самым причинам Винтер знала про себя, что она непривлекательна, скучна и что она «иностранка». Она не имела понятия о том, что является наследницей крупного состояния и носит испанский дворянский титул, поскольку никто и не думал рассказать ей об этом. Ее старая тетушка Шарлотта с самого начала дала указание называть ее «мисс Винтер», и она так и осталась мисс Винтер. Зобейда рассказывала ей о Каса де лос Павос Реалес, большом доме, расположенном в парковой зоне на берегах Гумти, но не задумываясь над тем, что сейчас он принадлежит Винтер вместе с огромным состоянием отца и собственным состоянием Сабрины, оставленным ей ее матерью Луизой Коул, единственной дочерью «набоба» Ост-Индской Компании.
Сначала Хуанита писала два или три раза в год, сообщая обо всех обитателях Гулаб-Махала, делая приписку для Зобейде, которая не умела читать. Но однажды, по прошествии нескольких лет, письма прекратились и не нашлось того, кто мог бы сообщить им, что холера промчалась, как лесной пожар, по скученным лабиринтам Лакноу и забрала с собой десять жертв из розового мозаичного дворца; среди них были Хуанита, ее муж Вали Дад и старая Азиза, леди-магометанка. Со временем прошлое стало стираться из памяти и казаться Винтер немного нереальным, как если бы это было только сказочной историей, рассказанной ей в детстве. Хотя навсегда остались, спрятанные в глубине ее сердца, надежда и обещание, что как-нибудь однажды она опять попадет в Гулаб-Махал — и тогда с ней все будет хорошо.
По мере того, как проходили годы, Зобейда все реже заходила к ней поговорить о своей родине, а дни Винтер были полностью заняты занятиями в классной комнате. Индия скрылась в глубине памяти, рассеясь, как золотистый туман, и она стала забывать многие вещи, настолько, что лишь осталось одно воспоминание о красивых розовых стенах, солнечном свете, цветах и ярко окрашенных птицах… и о счастье. Таком прекрасном, таком потерянном и таком же недосягаемом, как луна.
Глава 5
Винтер исполнилось одиннадцать лет, когда ее дальний кузен, Конвей Бартон, в сопровождении уже известного нам дяди Эбенезера посетил Уэйр.
Сэр Эбенезер становился старым и его контакты с Индией с годами ослабевали. Однако его влияние в этой стране было еще достаточным, чтобы помочь продвижению племянника, и старый лорд Уэйр, узнав, что молодой человек получил хорошо оплачиваемый административный пост в только что аннексированном районе, граничащем с Оудом, выразил желание встретиться с ним и попросить его разобраться в деле с недвижимостью семьи Баллестерос, которое могло быть решено только кем-то из родственников, находящимся в Индии.
Конвею Бартону в это время шел тридцать седьмой год и он обладал еще довольно привлекательной внешностью. Несмотря на намечающуюся тучность, он был достаточно высоким, чтобы казалось, что он имеет скорее мощное телосложение, чем избыточный вес, а его белокурые волосы и голубые глаза казались немного более светлого оттенка, чем они были на самом деле, благодаря загорелой коже, как у всех, кто только что прибыл с Востока. Он был честолюбивым человеком, не слишком щепетильным там, где затрагивались его амбиции, легким в общении и превосходным мнением о своих собственных способностях.
Граф, хозяин Уэйра, всегда считал, что хорошо разбирается в характерах и людях, однако ко времени их встречи он был достаточно стар и утомлен жизнью, поэтому его суждение могло быть ошибочным: его взгляд также потускнел, и ему не только не удалось отметить признаки слабости и рассеянности, которые уже отчетливо читались на лице Конвея Бартона, но он, к несчастью, чем-то напомнил ему Джони. Возможно, память или ухудшающееся зрение сыграли с ним злую шутку, а может быть, решающую роль сыграли белокурые волосы и светлые глаза на загорелом лице. Какая бы ни была причина, однако впечатление осталось, и оно исказило суждение старого Эрла. Ему очень пришелся по душе племянник зятя, он доверил ему поручения по делам Винтер и, когда сэр Эбенезер уехал, он заставил молодого человека продлить свой визит.
Именно во время этого визита некая идея пришла в голову мистеру Бартону, который уже был знаком с историей Винтер и теперь впервые услышал рассказ о ее владениях и недвижимости. Он осознал, что этот болезненный с виду и не производящий благоприятного впечатления ребенок мог бы когда-нибудь стать наиболее подходящей партией для какого-нибудь честолюбивого человека. Отсюда был всего один небольшой шаг до осуществления идеи Конвея Бартона занять место будущего мужа. Чем больше он обдумывал эту идею, тем лучше все вырисовывалось. Ему было всего тридцать шесть лет, и он вполне мог позволить себе подождать лет шесть или десять, если потребуется, однако если только он будет уверен в исходе дела.
Мистер Бартон тщательно разрабатывал план. В настоящий момент только немногие могли проявить интерес к судьбе англо-испанской сироты, но, определенно, наступит момент, когда вереница титулованных охотников за приданым потянется представляться в Уэйр, и тогда мистеру Конвею Бартону мало что удастся предложить в сравнении с другими более подходящими соискателями руки такой наследницы. Следовательно, нужно укрепить свои позиции заранее. Мистеру Бартону не понадобилось много времени досконально выяснить положение Винтер в Уэйре, и теперь он использовал этот удобный случай.
Судьба благоволила ему, так как он приехал с Востока — из Индии, Земли Обетованной. Он поговорил однажды с Винтер об этой стране, слегка приукрасив действительность, и заметил ее внезапное оживление. С этого времени он изменил свой тон и говорил об Индии так, как никогда и не думал о ней. Его личное мнение о стране и ее жителях было невысоким (он имел в виду низкую бытовую культуру и варварство в стране, нецивилизованность и низменность ее обитателей). Однако он быстро понял, что в Индии можно сделать себе состояние, и все свои помыслы направил именно на это.
Мистер Конвей Бартон начал разговаривать с одиннадцатилетней Винтер о жизни в Индии, описывая фантастические красоты, которые были по большей части плодом его фантазии. Индия, по его рассказам, была населена восточными королями и королевами, которые разъезжали на белых слонах, украшенных золотыми попонами, и жили в сверкающих красочных дворцах из белого мрамора на земле, где всегда светит солнце, а сады полны цветов, фонтанов и экзотических фруктов: все это так во многом совпадало с туманными воспоминаниями Винтер, что она слушала с восторгом.
Помимо ее прадеда и Беды, никто в Уэйре не брал на себя труда уделить ей немного внимания и доброты, а этот высокий, золотоволосый человек был добр к ней, заметил ее, разговаривал с ней, хвалил ее. Она нашла его замечательным, и граф, довольный, что его любимица проявила такое расположение к человеку, который ему так понравился, принял это как подтверждение правильности его собственных ощущений.
— Дети и собаки, — сказал старик, повторив банальность так, как если бы он сам придумал ее, — они все всегда чувствуют. Невозможно обмануть собаку, как невозможно обмануть и ребенка.
Конвей Бартон покинул Уэйр, получив настойчивое предложение еще раз приехать туда; и это случилось во время его последнего визита, когда он заговорил с Эрлом о Винтер. Он все тщательно обдумал и подбирал слова с большой осторожностью. Он очень привязался к девочке, однако сейчас возвращается в Индию на следующий срок, на восемь-десять лет, и когда наступит вероятность его возвращения, Винтер уже будет молодой женщиной. Он намекнул весьма деликатно, что поскольку он сам уже не так молод, а жизнь не вечна, то, если с ним случится нечто — э-э-э… — непредвиденное, то бедняжка Винтер останется на попечении леди Джулии, с которой девочка, как оказалось, не испытывает взаимных симпатий. Он понимал, конечно, что о формальном обручении с девочкой-школьницей не может быть и речи, однако ему хотелось бы надеяться, что по возвращении с Востока он мог бы с разрешения и одобрения лорда Уэйра сделать юной леди предложение в качестве возможного претендента на ее руку.
Мистер Бартон очень долго распространялся по этому поводу — все было хорошо сформулировано и рассчитано таким образом, чтобы оставить, по возможности, наилучшее впечатление — и старый Эрл был очень тронут. Он всегда знал, что Джулия недолюбливает дочь Сабрины и не питал никаких надежд на то, что после его смерти она будет либо добра, либо внимательна по отношению к ребенку. Ему было уже восемьдесят шесть лет и это — хотя он очень надеялся достичь столетнего рубежа — был сверхзрелый возраст для мужчины; очень немногие, достигшие его, могли рассчитывать на большее, чем просто рассматривать каждый прожитый месяц жизни как подарок, предоставленный временем, а не полученный по праву.
Лорд Уэйр иногда приходил в волнение, когда, проснувшись после недолгого старческого сна, думал о будущем Винтер. Может ли он доверить Джулии заботу о ней, когда его не станет? Он очень сомневался в этом. Все, о чем Джулия заботилась в этом мире, была ее хорошенькая, но пустая дочка и она сама, холодная и тщеславная, и на нее нельзя было положиться в том, что она защитит Винтер от охотников за приданым или мужчин с клеймом Денниса Аллингтона — мотов, распутников или азартных игроков. Теперь появился выход из всех этих затруднений. Замечательный молодой человек, напомнивший ему собственного, давно потерянного Джони, такой благоразумный и уравновешенный и так понравился самой Винтер он был, без сомнения, самым подходящим человеком, чтобы позаботиться о своей маленькой подопечной. Выйдя замуж за него, она оказалась бы в безопасности, а с ее расположением к нему она тоже могла бы быть счастлива, у него были все основания полагать, что ее детская привязанность с годами будет расти, а не уменьшаться.
Мысль, что Бартон вернется через несколько лет в Англию и только тогда будет просить руки Винтер, графа очень огорчила — к тому времени он вполне может умереть. Он вспомнил, как в его далекой юности детей часто объявляли помолвленными в очень раннем возрасте. А так как сам он не мог рассчитывать прожить достаточно долго, будущее Винтер должно быть гарантировано именно сейчас.
Загоревшись этой идеей, граф послал за Хантли и объяснил ему свое желание. Хантли засомневался, однако Джулия неожиданно поддержала графа, и, убежденный своей женой, он согласился, что помолвку между Винтер и Конвеем Бартоном следует признать всей семьей, хотя это, естественно, сугубо частное дело, решение которого определится в течение последующих нескольких лет.
Винтер была приглашена в комнату своего прадеда, ей объяснили ситуацию, и ее будущее было решено. Ей казалось, что с ней произошла самая чудесная вещь на свете, так как для одиннадцатилетнего ребенка возраст ее прадедушки был буквально пугающим. С момента смерти ее известных дяди Герберта и тети Шарлотты она жила в ежедневном страхе, что он тоже может умереть, и когда это случится, она и Беда останутся одни и совсем без друзей. Но сейчас дорогой мистер Бартон, который был так добр, как сам прадедушка, позаботится о них, и они не останутся совершенно одни в Уэйре. Он мог бы приехать за ними и забрать их отсюда назад, в ту золотую Землю обетованную, воспоминания о которой он снова разбудил в ней. Прочь от дракона с холодными глазами и с холодным сердцем, который именовался кузиной Джулией!
По желанию графа был составлен официальный контракт о помолвке, в котором он в качестве законного опекуна девочки дал свое согласие на возможный брак его подопечной с Конвеем Бартоном, и мистер Бартон отчетливо и аккуратно подписался своим именем собственной рукой под детской подписью Винтер. Этот контракт был оформлен по настоянию самого графа, он являлся его волеизъявлением и предусматривал, что в случае его смерти Конвей Бартон немедленно затребует свою невесту при условии, что она достигнет возраста, разрешающего бракосочетание.
На той же неделе, чуть позже, поверенные Эрла прибыли в Уэйр и составили различные официальные документы, к которым Винтер, как несовершеннолетний подросток, не имела отношения; ее прадед подписал их за нее. А в тот день, когда он покидал Уэйр, Конвей подарил ей кольцо.
Это была маленькая вещица, годящаяся по размеру для тонкого пальчика, но все же великоватая для детской руки Винтер. Скромная маленькая безделушка (мистер Бартон знал, что леди Джулия строго запретила что-либо более ценное), состоящая из маленькой жемчужины, вставленной в простое золотое колечко.
— Ты еще не можешь носить его на нужном пальце, — сказал Конвей Бартон, надевая его на средний палец правой руки Винтер, — но сейчас это только подарок на память. Однажды, когда ты вырастешь, я надену туда другое кольцо — самый яркий бриллиант, который я смогу найти для тебя в Индии. Ты должна быстро расти и не забывать меня все эти годы.
Ребенок обхватил его шею своими тонкими ручками в крепком объятии:
— Забыть вас? Неужели я бы смогла!? Я люблю вас больше, чем кого бы то ни было, за исключением прадедушки и Беды. Вы такой хороший и такой добрый, а я буду стараться и вырасту так быстро, как только смогу.
Конвей Бартон ободряюще похлопал ее, освободился из ее объятий и уехал прочь.
Он выглядел самодовольным и вполне удовлетворенным самим собой. Он всегда знал, что ему повезет, но такое счастье — такое невероятное везение — это сама судьба подбросила ему шанс приобрести огромное состояние таким несложным путем, а также дала голову, чтобы воспользоваться этим. Его довольная улыбка сменилась раздражением: на груди его безупречного костюма для верховой езды было пятно от джема. Отвратительно. Винтер, должно быть, ела хлеб с джемом. Он достал носовой платок из кармана брюк и начал им вытирать пятно, напустив на себя выражение крайнего отвращения. Конечно, было обидно, что она была таким тощим и непривлекательным созданием: сам он предпочитал полных красавиц, а его суженая с виду не обещала превратиться во что-нибудь более стоящее, чем простенькая, худосочная девица. Однако невозможно в этой жизни иметь все сразу. Что же касается поездки с ней в Индию, он не имеет никакого намерения делать подобные глупости. За шесть, самое большее за семь лет, он уйдет в отставку со своего поста, вернется и женится на ней. Как только ее состояние окажется у него в руках, ему не надо будет больше притворяться — он будет вести привольную и роскошную жизнь, и он не видит никаких причин, почему бы богатому и благоразумному человеку, пусть даже женатому на некрасивой жене, не продолжать наслаждаться прелестями жизни. Конвей Бартон принялся напевать что-то веселое: у него были причины быть довольным собой.
Винтер носила свое кольцо ровно два дня. За это время оно соскакивало и падало у нее с пальца раз двадцать, и Сибелла презрительно заметила, что это дрянная мишура и что она сама никогда бы не стала носить такую дешевую безделушку. Их гувернантка не разрешила носить его во время школьных занятий, а когда оно, надетое во время верховой езды под кожаную перчатку, врезалась ей в палец, Винтер отказалась от дальнейших попыток и, нанизав его на узкую ленту, отныне носила его на шее, спрятав под корсаж.
Годы, последовавшие за отъездом Конвея Бартона, тянулись для Винтер очень медленно и по мере того, как она становилась взрослее, она обнаружила, что ее кузина Сибелла проводила с ней все меньше и меньше времени вне их занятий в классной комнате.
Сибелла постоянно выезжала со своей матерью навестить друзей по-соседству или была занята чаепитием в материнской гостиной во время приемов, на которые Винтер не приглашали. В тринадцать лет Сибелла напустила на себя вид и манерность молодой светской леди, и ее единственным интересом стало следить за своей наружностью и эффектом, производимым ею на молодых сыновей и дочерей друзей ее матери.
Старый Эрл теперь редко покидал свою комнату, а его слух и зрение с каждым днем ухудшались. Винтер по-прежнему проводила в его компании все время, которое ей разрешали, однако он быстро утомлялся. Беседовать с ним становилось все более и более трудно, и одинокая, по большей части предоставленная самой себе, она находила успокоение в том, что сочиняла и рассказывала себе самой мечтательные истории о своем будущем: результатом всего этого было то, что по мере того, как она вырастала, ее воспоминания о Конвее Бартоне становились все более романтическими и далекими от реальности. Он превратился в высокого, широкоплечего, златоволосого рыцаря, красивого, доброго, одаренного всеми добродетелями, который однажды проедет на коне по дубовой аллее, с солнцем, сверкающем на его белокурой голове, и заберет ее и Беду далеко-далеко за моря в прекрасную страну, где она родилась и где, подобно принцессе из сказки, жила бы счастливо долгие годы.
Ей исполнилось четырнадцать лет, когда Зобейда умерла.
Сырой холод, туманы и морозы английских зим всегда были мучением для Зобейды, и за последние годы ее когда-то сильное тело, казалось, усохло и сморщилось. Однако она никогда не жаловалась и никогда не предлагала — и не мечтала предложить — чтобы ей разрешили вернуться на родину. Ребенок Сабрины с самого момента рождения завладел целиком ее преданным, любящим сердцем, и когда бы и куда бы этот ребенок ни направлялся, туда же следовала и Зобейда.
Она сильно страдала сухим кашлем, который нападал на нее в холодное время года. Однажды во время прогулки, где ее задачей было собирать в полях за пределами Хоум-Парка белые цветы буквицы, их внезапно застигла буря с дождем, и к тому времени, когда они добрались до дома, обе насквозь промокли. Для Винтер все закончилось простудой, но у Зобейды началось воспаление легких, и в течение трех дней она сгорела, бормоча на своем родном языке слова, понятные одной Винтер.
Некоторое время казалось, что потрясение от смерти Зобейды серьезно сказалось на здоровье девочки. Она с трудом бродила по замку, бледная, вся дрожа, и проводила долгие часы в комнате своего прадедушки, сидя на низкой скамеечке около него и почти не разговаривая. Сердце старика разрывалось от боли за свою любимицу, однако он знал, что печаль такого сорта можно пережить, и что в конце концов острота даже еще большего горя со временем притупляется. Не был ли он сам тому доказательством? Когда ему сообщили, что Джони умер, он подумал о себе, что стал дряхлым, преждевременно постаревшим от горя человеком, который уже больше ни о ком и ни о чем не сможет позаботиться. И вот Джони умер… как много лет назад? Он не смог бы вспомнить — кажется, целая жизнь прошла — и он полюбил дочь Джони, Сабрину; а теперь он ничего не может сделать, чтобы смягчить горе ее ребенка, опечаленного утратой своей приемной матери и друга.
После смерти Зобейды Винтер все больше и больше обращалась к придуманному ей мифу о своем будущем. Годы могут идти медленно, однако они, по крайней мере, проходят: еще совсем немного лет, и Конвей вернется домой и женится на ней. Она доставала свое маленькое колечко на потертой петле из ленты, смотрела на него и чувствовала себя спокойнее. Это был ее талисман и ее волшебная лампа, такая же, как мысль о Гулаб-Махале, о котором Беда так часто рассказывала и куда они однажды должны были вернуться, и где смогли бы и дальше жить счастливо. Однако Беда теперь уже никогда не вернется туда, и Винтер опасалась, что теперь, когда Беда умерла, она может забыть язык, который был для нее языком родной матери. Как жена Конвея она должна уметь говорить на нем, и тогда она сможет быть полезной ему в работе, а также для того, чтобы не оказаться чужим человеком в Гулаб-Махале. После этого она начала ежедневно разговаривать на хинди сама с собой, переводя на него целые главы из книг.
Она писала длинные письма Конвею Бартону, рассказывая ему о своих небольших делах и интересуясь сообщениями о нем и о его работе, однако ответы мистера Бартона были неутешительными. Почти все они были полны жалоб на его начальников, и Винтер пылала гневом против этих упрямых и неприятных чиновников, которые могли доставлять огорчения такому хорошему и доброму человеку. Начальники Конвея были, казалось, злобной кучкой людей, которые завидовали его выдающимся талантам и делали все от них зависящее, чтобы отказать ему в повышении в должности.
Мистер Бартон по-прежнему занимал пост специального уполномоченного, комиссара Лунджора, района, прилегающего к Оуду, этот пост он получил благодаря влиянию и репутации своего дяди Эбенезера. Он ожидал получить повышение до этого времени на более важный пост, и не колебался, чтобы обвинить нескольких важных политических деятелей и некоторых членов Совета в зависти, преступных намерениях и во всех неблаговидных делах, в которых он, в свою очередь, не был замешан.
Это было время, когда влияние в высших сферах могло заменить отсутствие деловых качеств и таланта для служебной карьеры. Однако сэр Эбенезер не смог бы, да и не хотел больше ничего делать для своего племянника, так как Конвей Бартон имел две слабости, которым предавался с чрезмерной страстью. Вино и женщины.
Какое то время его сильное тело и природное здоровье помогали ему выстоять, однако постепенно потакание своим слабостям и беспутный образ жизни начали брать свое. Только перспектива возможности ухода в отставку, возвращение в Англию и получение огромного состояния не спасали его, так как конечная цель заключалась единственно в накоплении богатства и она уже была так близка, что можно было достать рукой. Он получит все, чего хотел всего лишь с помощью свадьбы, и поэтому нет больше необходимости затруднять себя работой. Время — вот и все, что теперь лежало между ним и исполнением его желаний, и он ждал.
Конвей Бартон презирал все цветные расы и имел обыкновение всех цветных называть «ниггерами». Но отвращение к коричневой коже, как оказалось, не распространялось на женщин этой страны, поочередно менявшихся в маленьком публичном доме, который он построил позади резиденции. Он не отдавал себе отчета, что с каждым прожитым днем тело его все отчетливее отражало его невоздержанность в пьянстве и разврате. Он растолстел, стал тучным и ленивым оттого, что перестал следить за своей физической формой; его когда-то загорелая кожа стала бледной и одутловатой, а некогда золотистые волосы поредели.
Изредка он поглядывал на выступающий живот, сокрушался, что прибавил в весе, но быстро успокаивался, обещал, что он возьмет себя в руки и со следующей недели начнет опять приходить в форму. Однако первые шаги так и не были предприняты, и нездоровый жир накапливался на плечах, животе и щеках, как снег, который скапливается кучами на острых углах конька крыши и фронтона, растягивая их контуры в большие округлые формы.
Его достижения на работе ухудшались вместе с фигурой, но тот факт, что он был племянником сэра Эбенезера, спасал его от активного вмешательства вышестоящих властей. А судьба была благосклонна к нему в том, что послала ему в помощники Алекса Рэнделла, одного из молодых людей, протеже и учеников сэра Генри Лоуренса, бойцов, которые по необходимости становились администраторами — и некоторые из них наилучшими администраторами, которых когда-либо видел свет.
Рэнделл с удовольствием выполнял работу, что позволяло его шефу получать похвалу; такая постановка дела очень устраивала мистера Бартона. Комиссар все глубже предавался пьянству и разврату, его иллюзии о величии и могуществе, которые принесет ему богатство маленькой Винтер, с каждым днем все дальше отделяли его от реальности происходящего: он начал баловаться наркотиками, опиумом и гашишем. Из этого мира мечтаний его неожиданно вернуло к реальности получение письма от графа из Уэйра.
Винтер исполнится семнадцать лет следующей весной, писал граф дрожащей старческой рукой, и хотя он не имел в виду, что ей следует выйти замуж в ближайшие годы, он чувствовал, что сам он быстро слабеет. У докторов есть только слабая надежда, что он проживет еще один год, и он хотел, чтобы Конвей вернулся как можно быстрее с тем, чтобы он мог иметь счастье видеть свою дорогую девочку благополучно вышедшей замуж до того, как он умрет.
Итак, этот день настал! Удача была от мистера Бартона на расстоянии вытянутой руки и все, что от него требовалось, это подать прошение об отставке или, для ускорения дела, запросить отпуск по болезни из-за расстройства здоровья (и в самом деле, он неважно себя чувствовал в последние дни), и как только это будет улажено (а упрашивать его остаться явно не будут), возможно, не ранее начала холодного сезона, он смог бы сесть на корабль, отплывающий в Англию.
Комиссар с трудом выбрался из кресла и покачиваясь направился через апартаменты в свой офис. И лишь приблизившись к двери, он увидел лицо…
Это было толстая физиономия, болезненная и одутловатая со свисающими щеками и большими темными мешками под белесыми, опухшими глазами, волосы на голове были редкими и торчали в разные стороны, такими же были длинные, неопрятные усы, сильно окрашенные никотином. Его собственное лицо, смотрящее на него из остекленной двери кабинета!
Мистер Бартон намертво прирос к полу, уставившись на отражение в каком-то ужасе. Он редко видел себя в зеркале — пустая, роскошная восточная жизнь сделала это ненужным, так как его брили, мыли и одевали, его волосы расчесывали, подстригали ногти ловкие, искусные слуги, одетые в мягкие бесшумные тапочки. В те редкие случаи, когда он смотрелся в зеркало, он видел только отражение того, что он и ожидал там увидеть. Конвей Бартон двенадцать или даже четыре года назад: возможно, немного постаревший — это не удивительно — но все же не слишком дурной. Но сейчас он был захвачен врасплох, и оттого, что он не ожидал увидеть своего отражения, он в какой-то момент подумал, что увидел в доме какого-то незнакомца и не сразу сообразил, что смотрит на собственное лицо.
Он стоял, слегка покачиваясь и тяжело дыша, пристально глядя на остекленную дверь кабинета. Спустя пять минут он нетвердым шагом пересек комнату, направился в свою спальню и, сняв с крючка зеркало, которое висело на стене над туалетным столиком, поднес к окну и уставился в него.
Мысли вихрем проносились у него в голове. Некоторые из них были ему знакомы. «Если я брошу пить и есть эту дорогую жирную пищу, начну принимать холодные ванны, ходить пешком и ездить на лошади каждый день, то опять смогу войти в норму к началу холодного сезона», — сказал он себе. Однако он прекрасно отдавал себе отчет, что не смог бы сделать этого никогда. Он знал, что, у него больше не осталось силы воли. Он понял также, пока смотрел на свое отражение в зеркале, что предстань он сейчас в таком виде перед своей суженой и ее опекуном, они почти наверняка указали бы ему на дверь. Он впервые смотрел на себя так, как смотрели на него другие, как будет смотреть на него семнадцатилетняя Винтер, и даже дряхлый, полуслепой граф из Уэйра.
Каким же он был дураком! Каким невыразимым глупцом надо было быть, чтобы испытывать судьбу, когда такое блестящее будущее было поставлено на карту. Если бы ему пришлось сейчас вернуться в Англию, он мог бы потерять все. И в то же время, если он не поедет… Конвей Бартон отшвырнул зеркало в порыве бесполезной ярости, и оно вдребезги разбилось о стену и усыпало ковер множеством мерцающих осколков, которые подмигивали ему, отражая множество толстых, среднего возраста мужчин с жирными, белыми лицами и выпуклыми глазами, окруженными красными мешками.
Он не мог ехать в Англию! Поехать, это значит потерять состояние, на которое он уже смотрел, как на собственное. И все же как мог бы он, по возможности, проигнорировать вызов графа? Решение появилось само, и он громко рассмеялся. Кудахтающий, полуистерический смех облегчения. Конечно! — если гора не идет к Магомету, Магомет должен идти к горе. Он снова громко засмеялся этой шутке.
Девушка должна выйти за него замуж здесь. Он напишет в Уэйр. Он придумает какой-нибудь благовидный предлог. Только дать ей приехать в Лунджор, одной и без друзей, и бракосочетание нужно будет быстро организовать, прежде чем у нее будет время подумать. Она будет далеко от Уэйра, и ей не к кому будет обратиться, за исключением, возможно, случайных знакомых из пассажиров на корабле. Ничего сложного. Она молода — ей едва будет семнадцать — и вернуться одной в Уэйр, незамужней, когда она уезжала оттуда со свадебным нарядом и со своим приданым, это будет немыслимо. Он сейчас же напишет письма в Уэйр и своему поверенному. Алекс Рэнделл возьмет их. А еще лучше, капитан Рэнделл сопроводит невесту в Лунджор, хотя можно найти респектабельную женщину, возвращающуюся на Восток, чтобы она выступила как сопровождающая молодую девушку на свадьбу, но все же мужской эскорт для ее защиты будет более внушительным. А кто мог бы тут выступить лучше, чем его доверенный личный помощник?
Комиссар Бартон отправился в свой офис и взбодрив себя стаканом рома вперемешку с бренди, спокойно принялся писать. Сжатое, выразительное письмо его поверенному; более длинные послания и с объяснениями — одно лорду Уэйру; другое, с просьбой о содействии и с надеждой на ее любезность, — леди Джулии, и, наконец, нежное и любящее письмо самой Винтер, намекающее на подорванное здоровье, имевшее место из-за служебного рвения, направленного на выполнение возложенных на него обязанностей, и на патриотическую необходимость оставаться на своем посту в тревожные и неспокойные времена, когда было бы нежелательно, чтобы руководящий работник на какое-то время оставил бразды правления.
Мистер Бартон рассматривал свое последнее послание с большим удовлетворением. Оно передавало нужную ноту пафоса и мужественную преданность долгу и должно было послужить напоминанием суженой о том, что женская обязанность, а также расположение должны были бы заставить ее поспешить к нему.
Уже стемнело, когда письма были закончены и запечатаны, и комиссар вызвал слугу, который, по национальному обычаю, сидел на корточках непосредственно за дверью, и приказал ему направить посыльного в бунгало капитана Рэнделла с просьбой о немедленном прибытии. После чего, очень довольный собой, он потребовал еще бренди и хорошо выпил, поздравив себя с тем, что, хотя его внешний вид мог претерпеть временные изменения к худшему за последние пять лет, все же, слава Богу! с его мозгами ничего плохого не случилось.
Глава 6
Холодный ветер, гнавший по небу тучи, закрывавшие бледную луну, принес неожиданно пренеприятную смесь дождя с мокрым снегом. Ветер раздувал длинный походный плащ, в который пытался укутаться одинокий всадник, так, что полы плаща поднялись в стороны, подобно крыльям огромной летучей мыши.
Капитан Алекс Рэнделл выругался и снова закутался в плащ, стараясь удержать узду. Он приподнялся в седле, пытаясь разглядеть что-нибудь во тьме, но не видно было ни огня, ни признаков жилья. Проглянувшая сквозь тучи луна освещала все ту же болотистую местность, по которой вилась единственная дорога, похожая в лунном свете на след корабля на воде.
Новый порыв ветра заставил Медузу скользить на неровной дороге, беспокойно дергая головой. Капитан отпустил поводья и поскакал дальше навстречу ветру.
Только из-за Медузы капитан оказался в пути в столь поздний час. Он хотел достичь Уэйра засветло, но за Хайгельмом кобыла потеряла подкову, а так как проезжий мужик сказал, что ближайшая кузница за десять миль отсюда, то ему ничего не оставалось, как вернуться в Хайгельм к тамошнему кузнецу.
Конечно, на то, чтобы подковать Медузу, ушло время, а кузнец, узнав, куда капитан держит путь, посоветовал не ехать на ночь глядя. В городке, сказал он, есть хороший постоялый двор, а дорога на Уэйр лежит через глухие болота, места эти и днем неприятны, а уж ночью, да еще когда непогода начинается и ветер вон какой, туда ехать точно не стоит. Может, ночью и снег пойдет. Еще на прошлой неделе, рассказывал кузнец, один доктор из Лондона спешил к его милости графу, но его застала в дороге ночь, и он был вынужден ночевать на болотах в своей карете, так как потерял колесо, в темноте не разобрав дороги. А ведь мог доехать благополучно. «Помнится, в четверг, что ли, туда много народу ехало».
Но Рэнделл не послушал совета доброжелательного кузнеца провести ночь в «Георге». Ему было так неприятно возложенное на него поручение, что хотелось поскорее спихнуть это дело без задержек. Он поблагодарил кузнеца, но продолжил путь сразу, и ночь застала его милях в восьми от замка Уэйр. Дождь и снег сыпали капитану Рэнделлу в лицо и за воротник. Капитан уже жалел, что не остался в теплом уютном «Георге», и уже не был так уверен, что достигнет Уэйра этой ночью. Его ноги и руки, несмотря на сапоги и рукавицы, закоченели от холода.
Сколько раз за последние одиннадцать лет мечтал он о сером небе Англии и о ее суровых восточных ветрах! Сколько раз во время немилосердного летнего зноя в Индии, когда опахало могло вызвать лишь легкий ветерок, не принеся прохлады, мечтал он о холодной английской зиме. И вот теперь он дождался всего этого, но не был рад. Может быть, палящее индийское солнце за все эти годы сделало его слабее, так что он теперь весь промерзает до костей, до боли во всем теле на ледяном ветру. Чтобы отвлечься от этих неприятных ощущений, он вспомнил снова о своей, также неприятной миссии и, в который раз, с возрастающей неприязнью, стал вспоминать обо всем, что привело его сюда, в буранную ночь, на дорогу среди болот, ведущую к замку Уэйр.
Почти 12 лет назад, осенью 1844 года, Алекс Мэлорм Рэнделл окончил военный колледж Ост-Индской компании в Аддискомбе и отметил свое восемнадцатилетие, после чего отплыл в Индию. Он служил отлично, а в те времена способный молодой человек в этой большой и беспокойной стране мог найти применение своим талантам, участвуя в кипучей деятельности «Компании Джона», быстро расширявшей пределы империи.
Алекс участвовал в битвах в Ферозесахе и Собраоне, и в страшной бойне в Хилианваллахе, которая стоила лорду Гоу почти двух с половиной тысяч жизней, и которую как англичане, так и сикхи считали своей победой. Ему довелось видеться с самим грозным командующим, и ему был пожалован чин лейтенанта. Вскоре он был переведен из полка на административную работу под начало крупного администратора Генри Лоуренса.
Лоуренс очень любил и хорошо знал эту страну, его не мучила жажда завоевателя, и он сурово требовал от подчиненных такой же самоотдачи на работе, какая была у него самого. Под его руководством Алекс был то контролером, то строителем дорог, то чиновником магистрата, помогая управлять, в то время, когда многие его ровесники работали почтальонами или курьерами.
Его поведение во время быстрого и тяжелого кризиса на северо-западной границе принесло ему новое повышение, но в полк его не вернули, и снова его служба стала скорее политической, чем военной.
Его прямым начальником стал теперь Конвей Бартон, комиссар Лунджора, но новый начальник не пришелся Алексу по душе. Слишком многое в его характере не устраивало капитана, но все же они мирно уживались и работали вместе. По возможности, Алекс избегал общества шефа, а так как тому было нужно только спихнуть на помощников побольше работы, то капитан мог действовать более или менее самостоятельно.
Накануне отъезда подчиненного в отпуск, мистер Бартон вдруг возложил на него неприятное поручение, и Алекс теперь удивлялся, до чего ясно помнил он тот вечер. Он уже совсем собрался к отъезду, когда вдруг получил вызов от начальника, и в душную лунную ночь отправился в его резиденцию, гадая с беспокойством, что бы это могло означать. Он уже нанес официальный прощальный визит, оставив преемнику дела в образцовом порядке.
Он не мог представить себе, в чем тут дело, а думать, что отпуск отсрочен из-за какого-то нового кризиса, ему не хотелось. Назавтра ему следовало ехать в Калькутту, а оттуда морем и сушей — в Англию. Что там теперь, в Англии, как там?.. Так ли там прохладно, такая ли ароматная зелень, как представлялась ему в эти бурные и жаркие годы? Неужели две такие страны, как Англия из его воспоминаний и Индия его настоящего, существуют в одном мире?
Он шел по пыльной дороге среди тенистых деревьев, и шаги его были бесшумными из-за толстого слоя пыли. Белая луна светила в небе стального серого цвета. За воротами резиденции было несколько прохладнее, и Алекс постоял там, с удовольствием ощущая приятный холодок. Стоя в тени ворот, в удивительной ночной тишине, он вдруг услышал слабые звуки из тени большого баньяна во дворе, слева от ворот. Там, под этим деревом, стоял каменный идол, символизировавший мужественность, грубо вырезанный из глыбы, по праздникам украшаемый гирляндами из цветов. Когда глаза Алекса привыкли к темноте, он различил несколько фигур у главного ствола, где стоял божок. Один из них говорил шепотом, но все же слышалось, что говорит он быстро и энергично, так что оставалось неуловимое ощущение властности говорившего. Первым подозрением Алекса было, что перед ним шайка дакоитов-бандитов, готовящих нападение на кого-то. Но, рассмотрев их получше, он оставил это подозрение: один из них оказался привратником Акбар Ханом, а другой, Кансама, поваром комиссара. В лунном свете он различил и повернувшегося в профиль третьего, в котором узнал Хавильдара — сержанта туземного полка в Лунджоре. Всего в тени огромного дерева было с дюжину мужчин, преимущественно, как он понял, из дворцовой прислуги, в основном — мусульман, но также — и индусов других, низших каст. Впрочем, Хавильдар был брамином. Ну и что они здесь делают, что за секреты у них в такой час у подножия идола, зачем им разговаривать шепотом?
Он услышал, как главный оратор умолк, бормотание под деревом прекратилось, одна из фигур отделилась от группы, и в свете луны Алекс с удивлением увидел, что это был садху, индусский священник. На нем не было ничего, кроме набедренной повязки, и его покрытое коркой грязи тело и нечесанные, посыпанные пеплом волосы придавали ему сходство с призраком. Он повернул на тропу к воротам и пошел прямо на Алекса, бесшумно ступая по земле босыми ногами. Алекс ждал, глядя на его костистое лицо со знаком касты на лбу и с удивительно живыми для этого лица глазами, как этот человек поведет себя при встрече. Вдруг, прежде чем Алекс успел отреагировать, индус молча прошел мимо него и исчез за воротами. Алекс изумленно посмотрел ему вслед, на дорогу, которая тянулась за ворота резиденции. Но она была обсажена тенистыми деревьями, посеревшими от пыли в знойные дни, и их тень словно поглотила фигуру садху. Тут только Алекс понял, что индус, должно быть, его не заметил, так как вышел на лунный свет из густой тени баньяна, а Алекс стоял в тени у ворот, а его белый костюм сливался с фоном белого камня. Он, очевидно, был так же невидим, как темно-серая фигура самого садху среди игры лунного света и теней на дороге.
Услышав позади себя какой-то звук, он быстро обернулся и увидел приветствовавшего его привратника Акбар Хана, тоже похожего на тень.
— Где ты был? — строго спросил Алекс на местном наречии. — И что вы все там делали с садху? Какое зло готовится?
— Никакого зла, хузоор, — спокойно ответил Акбар Кан, — мы только молились о дожде.
— Глупости! Ты — приверженец Пророка, как и Имал Дин с Устадом Али. С каких пор мусульмане стали молиться вместе с индусами и их священниками? И что общего у Хавильдара Рама с каким-то метельщиком вроде Булаки?
— Хузоор, в трудное время, когда нет дождя, мы все страдаем. Ветер не несет дождь, и зерно гибнет. Если долго не будет дождя, придет великий голод, и многие умрут, мусульмане и индусы, сикхи и бенгалы. Этот факир просит своих богов о дожде, а мусульмане молят о дожде Аллаха.
— Гм, — сказал Алекс, — в этих обстоятельствах то, что ты говоришь, похоже на правду. Но я не верю этому, и мне это не нравится. И не оставляй больше ворота без присмотра, старый мошенник.
Акбар Хан, которому последнее замечание, сказанное по-английски, было непонятно, низко поклонился и отступил к стене, а капитан пошел по извилистой дорожке к белому одноэтажному зданию. Во внутреннем дворе пронзительный женский голос пел индийскую песню, которая вдруг, как по приказу, прекратилась, когда капитан Рэнделл взошел по ступенькам веранды, стуча сапогами по камню. Человек в белой одежде поднялся с циновки, поклонился и пробормотал что-то, повернувшись к прикрытой бамбуковой занавесью освещенной двери, которая вела в гостиную. Алекс различил фигуру слуги, сидевшего в тени, скрестив ноги, и приводившего в движение подвешенное подвесное опахало. Из комнаты доносился звон стаканов и бормотание слуги индуса.
— Ч-что там еще?
Комиссар говорил хрипло и сбивчиво, и губы капитана презрительно поджались.
Слуга поднял занавес, и в дверях появилась громадная фигура комиссара.
— Вы, Алекс? Давайте заходите… Вас-то тут нам и не хватало. Садитесь. Выпейте. Знаете, зачем вы мне нужны, а?
— Нет, сэр. Надеюсь, с моим отпуском нет изменений?
— Да нет. Полный порядок… Но я прошу вас об одной… услуге. Долгая история. Это… насчет моей будущей жены…
Он еще отхлебнул из стакана. Его бледное одутловатое лицо покрылось потом. Алекс уселся, не зная, как выслушать его до конца. Он знал, что комиссар — зануда и сноб, а это делало разговоры с ним почти невыносимыми. Капитан также знал, это все знали, что комиссар обручен с дальней родственницей, кажется, правнучкой графа Уэйра.
Конвей Бартон гордился родством с графом, пусть и очень дальним. Единственная дочь графа была замужем за пожилым англичанином, разбогатевшим в Индии, чей младший брат был отцом Бартона. Племянница этой леди вышла замуж за испанского дворянина, с дочерью этой племянницы и был помолвлен мистер Бартон. Это случилось лет пять назад, во время последнего отпуска Бартона в Англии, и, как он сам объяснял, столь долгий срок помолвки не был делом необычным в таких обстоятельствах. Предполагалось, что свадьба произойдет в следующий отпуск жениха, но теперь прадед и опекун невесты, граф Уэйр написал мистеру Бартону настоятельное письмо, с требованием приехать и немедленно жениться на его нареченной. Пришлось что-то придумать, так как с наскока выполнить это решение нельзя…
Капитан, подавив зевок, беспокойно заерзал на стуле. Он изнывал от страшной жары. Опахало перестало ритмично двигаться, так как усталый слуга вздремнул. Алекс не понимал, почему бы комиссару самому не съездить домой. Для чиновника его ранга это не так уж сложно. Повсюду, конечно, очень были нужны люди, но репутация Бартона не была столь высокой, чтобы он считался незаменимым. И зачем комиссару потребовалось вызывать Алекса в такой час — не для того же, чтобы обсуждать свою будущую свадьбу?
— Пусть… гора придет к Магомету, — сказал мистер Бартон, и сам от души засмеялся своей шутке. — И… д-до-рогой Алекс, туда вы… и поедете…
— Я, сэр? — Алекс чуть не подпрыгнул на стуле, пробуждаясь от спячки.
— Да, д-дорогой друг. Никому бы больше не доверил… Что там говорить… И, хоть вы и красавчик… или будете, если ус-сы отрастут… и чего люди бреются… как какие-то черномазые, а?.. Но с бабами у вас большого опыта нет. Н-не то, что кое-кто… Нормально. Ну я и решил: Рэнделл — парень, что надо. Больше никто не справится. — Комиссар замолчал, словно все уже объяснил, откинулся на стуле и сделал новый большой глоток бренди.
— С чем, сэр?
— Как так — с чем? Да привезти ее сюда, мой мальчик, а вы что думали? Г-гору к Магомету. Надеюсь, н-не гору. Полуиспанка, знаете… Они бывают слишком толстыми. Гора к Магомету, ха-ха.
Сначала Алекс было подумал, что комиссар шутит, но нет! Он был вполне серьезен. Он все думал над этим делом, а сегодня весь день работал над письмами. Вот они лежат на сандаловом столике. Все ясно: капитан должен отвезти письма графу Уэйру, невесте Бартона, его адвокатам, его дяде и его банкирам. Кроме того, он должен объяснить лично графу, что контесса де лос Агвиларес должна отплыть в Индию на будущий год, под охраной капитана Рэнделла и с подходящей компаньонкой, когда капитан будет возвращаться из отпуска.
— Полагаюсь н-на вас, — живо заявил комиссар. — Оч-чень способный парень. Всякий скажет. Я подумал: молодец. Они там только увидят его — с-сами поймут: с этим можно от-пустить ее. Д-джентльмен, не кто-нибудь…
Алекс пытался спорить, не соглашаться, но бесполезно. Комиссар был упрямым, и не из тех, кто отступается от своих решений, ничего с этим не поделаешь. Наживать врага в собственном начальнике — величайшая глупость. Работа — первое дело, а их противостояние сделало бы ее почти невозможной.
Алексу и так постоянно приходилось бороться за вещи, совершенно, казалось бы, понятные и справедливые, но которые надо было доказывать начальникам, а им очень не нравилось и его раннее продвижение, и его служебное рвение. Он давно понял необходимость быть сдержанным с начальством, но все же это было для него самым трудным делом. Нельзя ссориться с Бартоном, а потому придется взяться за неприятнейшее дело, которое тот спихнул на него. Про себя же капитан соглашался на это, но с некоторыми оговорками.
Алекс с тех пор не раз обдумывал эти свои оговорки, но так ничего путного и не придумал. Было тут две стороны, и обе — одинаково плохие. С одной стороны, он должен был взять на себя ответственность за доставку знатной девушки в далекую страну, полную волнений и испытаний, не говоря о таких вещах, как антисанитария, жара, эпидемии; да еще передать свою подопечную человеку, который был ему известен, как горький пьяница и грязный распутник. С другой стороны, предупреди он об этом графа Уэйра — и он предаст доверие старшего командира.
Может быть, правда, нареченная Бартона и сама сознает «выгоды» своего брака. Ведь если с того дня прошло пять лет, а обручена эта леди была лет в семнадцать, то сейчас она, хотя бы совершеннолетняя. А может быть, она намного старше и вовлечена в какую-то сделку, и даже родными, желающими ее пристроить, подготовлена к перспективе жизни на Востоке с морально неустойчивым пьяницей, что для нее меньшая неприятность, чем остаться старой девой? Решение лучше принять после визита и беседы с пожилым, а может быть, престарелым графом. Невесте, конечно, не нужно ничего говорить, но если ее опекун — человек толковый, то он сам разберется, и комиссару Лунджора придется ожидать напрасно.
Медуза споткнулась, потом продолжала идти вперед, и капитан Рэнделл стряхнул с себя воспоминания, возвратясь к малоприятному настоящему. Снег прекратился, снова шел просто дождь, не тот сплошной, тропический, а ледяной, жалящий дождь севера. Последнюю милю Медуза двигалась шагом, неуверенная из-за темноты и снегопада. Но сейчас она перешла на рысь. Болотистая местность заканчивалась, перед ними лежали поля и перелески, и Медуза мотала головой и фыркала, точно зная, что где-то впереди ее ждут теплое стойло и овес.
Дорога пошла вниз, и теперь она была защищена от ветра деревьями. Впереди возвышалась высокая стена, которую можно было скорее почувствовать, чем увидеть, так как ветер вдруг утих, а стук копыт Медузы стал глухим: они выехали на дорогу. Стена тянулась вдоль дороги примерно на милю, а у поворота большие ворота наверху были украшены геральдическими волками Уэйров.
Окна в домике привратника были освещены, и, видимо, капитана ждали, так как железные ворота были открыты. За ними лежала аллея, обсаженная дубами, а по обе стороны ее простирался парк, в котором бушевал ветер, не сдерживаемый там высокой стеной. Медуза помчалась галопом, и через десять минут они доскакали до крыльца большого старинного дома. Верхнее окно было слабо освещено, но дом был погружен в темноту.
Капитан Рэнделл спешился, привязав лошадь к какой-то каменной фигуре, похожей на грифона, и поднялся по широкой лестнице к парадной двери. Он дернул за цепочку звонка и стал ждать, переминаясь с ноги на ногу, чтобы размять затекшие во время езды ноги. Ему показалось, что ждал он страшно долго, прежде чем услышал шаги, и дверь со скрипом отворилась. Старый слуга, согбенный, с морщинистым лицом, посмотрел на него и, открыв дверь пошире, отступил, чтобы пропустить гостя.
Капитан очутился в большом холле, который казался еще больше в тусклом свете единственного канделябра. Он оглянулся с удивлением: обычно в таких залах на стенах висели фамильные портреты, старое оружие, охотничьи трофеи, украшающие стены, но здесь ничего этого не было. Ничего не было, кроме темных стен, как бы колеблющихся в неверном свете свечей из-за полуоткрытой двери. Высокий слуга в черной ливрее с трудом пытался закрыть тяжелую дверь, вопреки дувшему ветру. Капитан Рэнделл с удивлением оглядывался вокруг. Что это такое с ним? Усталость ли и холод или разыгравшееся воображение причиной тому, но ему показалось, что темные стены зала колеблются!
Старик слуга высоко поднял канделябр, и тут пораженный Алекс разглядел, что стены зала от пола до потолка задрапированы черной материей, которая и колебалась из-за ветра на дворе.
Старик стукнул жезлом об пол, и из темноты возникли еще два лакея в темных ливреях.
— О вашей лошади, сэр, также надо позаботиться, и Том сделает все, что надо. Вы ведь один из членов семьи? Я не могу вспомнить вашего имени. Простите, сэр, милорд… мы не ожидали… — Старик запнулся, и Алекс вмешался:
— Вы ошиблись. Я — капитан Алекс Рэнделл. Лорд Уэйр назначил мне встречу на эту дату. Я задержался в дороге, иначе бы приехал засветло. Моя сумка приторочена к седлу.
— Его милость назначил вам этот день?.. — в голосе слуги было некоторое недоверие, и Алекс достал из-за пазухи листок бумаги, исписанный неровным почерком, словно дрожащей рукой.
— Я получил это письмо неделю назад и послал ответ, где сообщил лорду Уэйру, что сочту за честь посетить его. Получено ли мое письмо?
— Я… мы… было так много писем. Может быть, мы его просмотрели. Неделю назад?..
Алекс с удивлением заметил слезы на глазах старого слуги. И вдруг он вспомнил все, чему раньше не придавал большого значения. Вспомнил, как кузнец говорил: «В четверг туда много народу ехало». Вспомнил доктора, который задержался в дороге, и как будто снова увидел настежь открытые ворота, слуг в черных ливреях, траурную драпировку на стенах. Он резко спросил:
— Граф?..
— Его светлость скончался пять дней назад, — ответил дворецкий.
Утро было пасмурное и холодное. Ночью снова пошел снег, потом опять растаял. Ветер гулял в коридорах огромного дома, раздувая траурные драпировки на стенах. Капитан Рэнделл проснулся с головной болью и почувствовал раздражение. Спал он беспокойно, потому что проблема, которую он хотел переложить на старого графа, теперь вновь давила на него. Лорд Уэйр, думал он сердито, не имел права умирать, не решив этого дела. И что теперь делать? Одно дело — изложить все старому, опытному светскому человеку, другое — разговаривать с самой нареченной мистера Бартона. Какого черта ему тут делать? Просто передать письма, выполнив роль курьера, и пусть эта женщина гибнет? Да ведь это не его дело — за кого она выйдет замуж. Кто он такой, чтобы вмешиваться в дела Провидения? Кажется, это — неоспоримый довод.
После завтрака его нашел старый секретарь с посланием от молодого графа. Лорд Уэйр, загруженный работой, сможет принять капитана Рэнделла только вечером. Он надеется, что капитану будет удобно еще одну ночь переночевать в Уэйре, так как дело, по которому он прибыл, не терпит спешки.
— Чертовски неудобно, — сказал капитан огорченно, — но, кажется, делать нечего.
Предоставленный самому себе, он пообедал в компании, не доставившей ему удовольствия. Кроме него самого, все гости были родственниками или свойственниками графа, собравшимися на похороны главы дома, которые должны были состояться завтра. Все они были в глубоком трауре и говорили тихо, как подобало, но это, кажется, не повлияло на их аппетит. Еда была обильной, обед казался бесконечным, а разговор, конечно, не мог быть оживленным. Большую часть дня Алекс провел, хмуро наблюдая за потоком гостей, одетых в черное, которые, несмотря на непогоду, все шли и шли по дубовой аллее, в караульную комнату, где стоял гроб. Скорее, не зная, чем заняться, нежели из уважения к незнакомому усопшему, он решил присоединиться к скорбной процессии.
Они медленно дошли до крылечка у входа в самую старую часть замка и вошли в длинный коридор, ведущий в караульную комнату. Здесь было холодно, и воздух был тяжелым. По ступенькам они спустились в комнату, где стоял катафалк.
Алекс отошел в сторону, глядя на впечатляющую картину. Стены здесь были задрапированы той же черной материей, ею же были покрыты и пол, и сам катафалк, освещенный четырьмя огромными свечами. Но в остальном то, что он увидел, было многоцветным и живописным, смотрелось вызывающе по контрасту с трауром и скорбью.
Декоративная мемориальная табличка в изголовье гроба сверкала всеми цветами, а под ней дубовый гроб был задрапирован пурпурным бархатом, на котором на бархатной подушечке лежали графская корона, звезда и орден Подвязки. Алмазы сверкали в свете свечей, переливаясь всеми цветами радуги. Нагрудник украшали различные ордена и почетные знаки, а ниже, рядом с рыцарскими шпорами, лежали два скрещенных меча: меч кавалера Подвязки, и, как подумал Алекс, меч какого-то ополчения.
В изножье висела золотая рыцарская цепь, а по обе стороны гроба — рыцарская мантия, бархат и горностай рыцаря Подвязки, шляпа и шарф полковника ополчения. По обе стороны гроба стояли слуги в черных ливреях, пока траурная процессия проходила мимо катафалка. Алекс поймал себя на том, что он читает про себя вспомнившиеся стихи: «Блеск власти, славы, денег, внешней силы — в урочный час ведет на край могилы». Но в этом случае престарелый граф двигался к могиле в том же блеске, что окружал его при жизни.
Смеркалось. Поток прощавшихся постепенно уменьшался. Какая-то женщина в траурных одеждах прошла мимо капитана Рэнделла, слегка задев его. Толстая и длинная черная вуаль не позволяла рассмотреть ее лицо, не видно было даже, какого цвета ее волосы. Но ни юбка с кринолином, ни черный креп, ни мантилья, украшенная бахромой, не могли скрыть юности их хозяйки. Видно было и другое: она переживает неподдельное горе. Алекс сам не мог бы объяснить этого впечатления, так как она стояла спокойно и прямо, подняв голову; но он даже ощутил вдруг чувство вины, словно подслушал чужой личный разговор, и поскорее вышел.
Было уже темно, когда явился секретарь, чтобы пригласить капитана Рэнделла в покои его милости, куда, в новую часть здания, он и проводил гостя по бесконечным коридорам. Они вошли в просторную комнату с высоким потолком, явно времен Регенства, но обставленную во вкусе Большой выставки 1851 года. Но здесь его ждал не граф, а графиня.
Леди Уэйр поднялась ему навстречу, шурша шелками. Джулия, недавно виконтесса Глайнд, а теперь графиня, была высокой женщиной с холодным и красивым лицом; ее светло-каштановые волосы были уже тронуты сединой. Она протянула ему руку почти королевским жестом, он наклонился и поцеловал ее. Взгляд ее синих глаз был холодным и оценивающим. Она молча изучала его и, кажется, осталась довольна, потому что улыбка появилась на ее несколько тонких губах.
— Дорогой капитан Рэнделл, — сказала она, — простите, что мы не смогли принять вас раньше, но в этих печальных обстоятельствах… Ну, я уверена, вы поймете, как это для нас тяжело. Прошу вас, садитесь. Мой муж просил передать вам свои сожаления, что не смог сегодня найти для вас времени. Он надеется сделать это позднее.
Графиня уселась сама и жестом пригласила капитана сделать то же самое. Он неохотно сел. У него не было большого опыта общения с женщинами, не считая тех легких и приятных дам, которые давали ему развлечение и замену любви. Было это не только от недостатка возможностей. Капитан не был девственником, но две вещи владели им в первую очередь: Индия и Ост-Индская компания. Блеск Индии — огромной, таинственной, полной красоты и насилия и прозаическая романтика купеческой компании, покорившей субконтинент и теперь располагавшей собственной армией и администрацией, наказывавшей и миловавшей шестьдесят миллионов индийцев. Вот что занимало его прежде всего, на другое же оставалось мало времени.
Сейчас, рядом с импозантной графиней Уэйр, он чувствовал этот свой недостаток. Лучше для него было вести дело с мужчиной, а не с женщиной.
— Простите за то, что я приехал не вовремя, — сказал он неловко. — Я не представлял себе…
Леди Уэйр перебила его:
— Дорогой капитан Рэнделл, не нужно никаких извинений. Мы весьма благодарны вам за беспокойство, связанное с передачей этих писем. Нам, конечно, писал о вас мистер Бартон. Мы получили от него и другие письма, в которых он предупреждал о вашем визите и давал понять, в чем состоит ваша миссия, хотя, конечно, он не писал так полно, как в письмах, доверенных вам лично. Вы должны знать, что мы ожидали вас несколько месяцев назад.
— Да, простите, мне следовало прибыть много раньше, но я по пути заехал в Крым, и вышла задержка. Я писал об этом мистеру Бартону и покойному лорду Уэйру.
— Мы вполне понимаем. Вы ведь, кажется, были ранены. Много довелось сражаться?
— Что было, то было, — ответил Алекс неохотно.
Леди Уэйр потеряла интерес к Крыму и вернулась к мистеру Бартону.
— А теперь, когда мы с вами смогли увидеться, и ознакомились с доставленными вами письмами, вопрос вполне ясен, — заключила она.
Она взяла со столика одно из писем, написанное тем же странным почерком. Листы бумаги похрустывали, вторя треску поленьев в большом камине. Одно из писем так и осталось невскрытым.
— Мы, — сказала она, — не передавали Винтер письма для нее. Я сделаю это сейчас, при первой возможности. — При этих словах она слегка нахмурилась.
— Винтер? — удивленно переспросил капитан.
— Моя кузина. Контесса, — произнесла она испанский титул с явной неприязнью. — Конечно, ей будет позволено выразить свое мнение. Но я убеждена, что она согласится с планом дорогого Конвея. Очень жаль, что он не смог приехать, но при нынешних обстоятельствах откладывать свадьбу на какой-то неопределенный период было бы недопустимо. Это не нужно ни дорогому Конвею, ни самой Винтер.
«Винтер!», — подумал Алекс, — какое странное имя. Наверно, уменьшительное от какого-то испанского».
— Бывают моменты, — продолжала леди Уэйр, желая продемонстрировать и широту мысли, и великодушие, — когда нужно жертвовать личными желаниями ради счастья других. Я уверена, что вы согласитесь с этим.
Капитан не очень хотел соглашаться, так как думал, что «дорогой Конвей» пятилетней давности был мало похож на нынешнего знакомого ему комиссара. Пять лет на Востоке сильно меняли людей, а людей, подобных Бартону — не в лучшую сторону.
— Знаете ли вы Восток? — спросил он прямо.
Леди Уэйр была слегка удивлена:
— Если вы хотели спросить, была ли я там, то нет. Почему вы спрашиваете?
— Я только хотел спросить, знаете ли вы, какая жизнь, какие условия ожидают вашу кузину? Это не та страна, которая подходит молодой леди, воспитанной в такой среде.
— Ерунда, — отчеканила графиня. — Тысячи англичанок, многие из них хорошего рода, прекрасно приспособились там. Я сама знакома кое с кем. Леди Лоуренс, жена сэра Генри…
— Она умерла, — перебил Алекс. — Вы не знали? — Ему казалось невероятным, чтобы человек, знавший Гонорию Лоренс, не знал о ее смерти.
— Господи, — удивленно воскликнула графиня, — я не слышала об этом! Бедный сэр Генри. От чего она умерла?
— Индия, — ответил он лаконично.
Графиня была, кажется, возмущена.
— Я не понимаю вас, капитан Рэнделл. Вы сами провели несколько лет в этой стране…
— Двенадцать, — перебил он.
— И были ведь знакомы с живущими там женщинами. Не хотите ли вы сказать, что все они не могут там жить нормально? Я не верю, что вы это говорите серьезно.
— Да, — ответил он. — Многие из них предпочли бы те края, имей даже они выбор. Но это относится к двум типам: первые — остаются там и терпят лишения, болезни, оторванность от родины ради любви к мужу или отцу. Вторые — чье социальное положение здесь заставляет их искать в Индии благ и почета, которых они здесь не имеют. Остальные ненавидят ее. Контесса вряд ли относится ко второму типу, но есть ли у вас уверенность насчет первого? Ведь, кажется, она уже лет пять не видела мистера Бартона?
— Этот вопрос следует оставить моей кузине, — сказала графиня ледяным голосом. — Мы не должны вмешиваться. Несомненно, она сама решит это дело. — Она поднялась и протянула ему руку. Капитан встал и поцеловал ее.
— Надеюсь, — сказала графиня снова любезным тоном, — что вы не будете возражать остаться здесь еще дня на два? Мой муж надеется увидеться с вами завтра. Большинство гостей уедут после похорон, и мы сможем уделить вам персональное внимание.
Капитан пробормотал благодарность и собрался уходить, как вдруг заметил большой портрет, висевший над резной каминной полкой. Милое создание, почти дитя, с золотистыми локонами и с розой в ручке, глядело на него с полотна. Оригинал он видел сегодня за обедом. Ему вдруг представилось, что станется с этим существом после нескольких лет палящего зноя, трудных родов, эпидемий холеры и тифа, в обществе пьяного и распущенного мужа. Кажется, она не из выносливых. «Нежизнестойкая», — подумал Алекс, чувствуя злость и жалость. Как можно обречь такое беззащитное существо на жизнь, которая только и могла ожидать жену Конвея Бартона, комиссара Лунджора?
— Моя дочь Сибелла, — сказала довольная графиня, и Алекс вздохнул с облегчением. По крайней мере, будущее этой хрупкой девушки — не на его совести. Он улыбнулся графине. Редкая женщина могла устоять против улыбки Алекса Рэнделла, и Джулия Уэйр не стала исключением. Она явно подобрела.
— Такой милый ребенок. Вас надо с ней познакомить, капитан Рэнделл. Герр Винтерхальтер говорил мне, что из всех его моделей Сибелла…
Ее речь прервал внезапный приход пожилой женщины, видимо, компаньонки.
— Что такое, миссис Барлоу?
— Леди Августа. Вы просили…
— Да, да, сейчас. Доброй ночи, капитан Рэнделл. Я получила большое удовольствие от нашей беседы.
Она грациозно кивнула ему на прощание и занялась пожилой компаньонкой.
За ужином он не видел молодой леди с портрета. Наверное, подумал он, она ужинает с родителями. Он оказался в обществе представительного священника и леди Вайкомб, которая заинтересовалась его присутствием в замке, заметив:
— Сразу видно, что вы не из этой семьи.
— Почему? — заинтересовался Алекс.
— У них обычно светлые волосы, а у вас темные. И потом, вы так удивительно загорели. Из Индии?
Алекс представился и объяснил, зачем он приехал. Он не входил в детали своего поручения, просто сказав, что у него было поручение к покойному графу.
— Понятно. Он ведь был акционером? Я говорю об Ост-Индской компании. Очень интересная страна — Индия. Но слишком жарко. Вы, ведь, кажется, кого-то ищите? Кого вы ожидали здесь увидеть?
— Никого особенно, — улыбнулся Алекс. — Но здесь, напротив, за обедом сидела молодая леди. Я заметил, что ее сейчас нет.
— А, вы, должно быть, о Сибелле. Она ужинает у себя в комнате. Неужели и вы пали жертвой ее чар? Если так, должна предупредить, что у вас нет никаких шансов. Белла выйдет замуж только за наследника большого титула или большого богатства. Или — того и другого вместе.
— Я познакомился с леди Уэйр, — веско сказал Алекс.
— Ну, о Джулии я не говорю, — рассмеялась соседка. — Конечно, она считает, что никто ниже принца крови недостоин ее доченьки. Но она склонна выполнять требования своего чада. Нет, сама Сибелла высоко держит себя, и она добьется своего, если избавится от кузины. Винтер может испортить все дело.
— Винтер. Странное имя. Это по-испански?
— Вы еще не знакомы с ней?
— Нет. Что она такое?
Леди Вайкомб как-то странно рассмеялась.
— Ни одна женщина не сможет описать вам ее беспристрастно. Но я сожалею о Джулии и о Сибелле. Сибелла — испорченная, эгоистичная девчонка, которая станет столь же испорченной эгоистичной женщиной. Но она способна внушать сильные чувства. Видите вон того молодого человека, между леди Парбери и Камиллой Грантам, у которой рыжие волосы? Это наследник рода Амберли, лучшая партия в Европе. Он — двоюродный брат Сибеллы, хотя это их не остановит. Кое-что раньше мешало достичь цели, но теперь Генри умер, и будут предприняты нужные шаги. Да, они постараются избавиться от Винтер.
— Я боюсь показаться тупым, — сказал Алекс, — но не забывайте, что я здесь человек новый. Я ни с кем из них не знаком, и не представляю, что вы имеете ввиду.
— Да и откуда вам, в самом деле, это может быть известно.
— Простите меня, пожалуйста.
— Вы найдете все это скучным. Что вас интересует?
— Контесса с зимним именем; леди Сибелла. И чем им мог мешать покойный граф? И зачем им нужно после его смерти избавляться от Винтер? Поймите, вы вызвали во мне живейшее любопытство.
— Подождите, пока узнаете их получше, и вам самому все станет ясно.
Леди Вайкомб явно потеряла интерес к беседе и отвернулась. Капитану пришлось выслушать монолог духовного лица, сидевшего справа, о том, что железные дороги, со зловещей быстротой распространяясь по стране, наносят большой ущерб природе и уменьшают нужду в благородных животных — лошадях.
Число гостей за столом уменьшалось, леди сразу удалялись в свои комнаты. Вскоре и джентльмены последовали их примеру, и капитан, возвращаясь к себе, заблудился, свернув не туда, и стал свидетелем странной сцены.
Он вошел в длинную полутемную галерею, в дальнем конце которой, на фоне света из холла, виднелись силуэты обнимающихся людей. Он уже хотел ретироваться, как вдруг понял, что это — не любовная сцена. Женщину держали в объятиях насильно. Захватчик так крепко сжал ее, что она не могла сопротивляться, и только уклонялась от его губ, искавших ее губы. Алекс бросился вперед. На полу галереи лежали толстые ковры, а те двое были так поглощены борьбой, что не обратили на него внимания.
— Одну минуту, — громко сказал Алекс. Он схватил мужчину за плечо и рывком повернул к себе, так что леди освободилась и, тяжело дыша, прислонилась к стене, держась руками за шею. Ее тонкая одежда сливалась с сумраком галереи, и только лицо и руки белели на темном фоне.
Алекс обратил внимание на джентльмена, но прежде, чем он успел заговорить, на сцене появилось новое лицо, которое, должно быть, побежало к месту борьбы из холла почти одновременно с Алексом, но из-за длинной кашемировой шали, мешавшей бежать, женщина эта появилась минутой позже.
— Эдмунд! — воскликнула она в ярости.
Капитан Рэнделл отпустил пленника, который поспешил отступить, оказавшись в освещенном холе. Капитан узнал в нем молодого джентльмена, о котором леди Вайкомб говорила, что он — лучшая партия в Европе.
Новоприбывшая несколько секунд глядела на него, прерывисто дыша, потом вдруг, не обращая внимания на капитана Рэнделла, бросилась к той, что стояла в тени.
— Ты! — выдохнула она, полная гнева. За этим возмущенным восклицанием последовал другой звук, шокирующий своей неожиданностью, звук пощечины, нанесенной со всего размаха. Вторая женщина вытянула вперед руку, словно защищая себя от нового удара, а потом повернулась и побежала по темной галерее, подобрав широкие юбки. В ту же минуту, увидев в нескольких шагах в холле открытую дверь, выбежал и Эдмунд, и капитан остался один на один с дамой в кашемировой шали.
Она медленно повернулась и, видимо, впервые поняла, что здесь незнакомец, это капитан понял по удивленному возгласу. Свет упал на ее лицо, и он узнал девушку, которую видел за обедом и на портрете Винтерхальтера, леди Сибеллу Грантам. В следующее мгновение она также бросилась бежать по холлу и исчезла в каком-то тускло освещенном коридоре.
Вся сцена заняла не более двух минут. Капитан также покинул место происшествия, и, найдя какого-то лакея, узнал дорогу и вернулся к себе.
Утро дня похорон также было ненастным. Холодный ветер гнал по небу бесконечные серые тучи, шел мокрый снег, ложившийся на дорожки парка.
Граф был похоронен в семейной усыпальнице, примыкавшей к домовой церкви. Когда окончилась служба, капитан Рэнделл снова оказался рядом с леди Вайкомб.
— Давайте подождем на крыльце, пока толпа схлынет, — сказала она. — Тут хоть ветра нет. Пока разъедутся кареты, пройдет время, а идти пешком я не хочу.
Толпа и вправду быстро таяла, так как резкий ветер подстегивал людей. Те, кто пришел пешком, уже поторопились уйти. А кареты, ждавшие хозяев в длинной аллее, отъезжали одна за другой.
Одинокая женщина стояла в стороне под тисом, используя могучее дерево, как укрытие от ветра и, как и капитан с леди Вайкомб, ожидая, когда люди разойдутся. Она показалась капитану странно знакомой, несмотря на густую вуаль. Но это была не Сибелла. Она была пониже, и волосы ее были темные (золотистые кудри Сибеллы можно было разглядеть даже под траурной вуалью). Она стояла не шевелясь, и тут капитан понял, где видел ее: вчера, в караульной комнате она стояла в такой же напряженной позе у гроба. Он глядел на нее, удивляясь, как полная неподвижность может выражать несомненное чувство скорби. И в этот момент порыв ветра, достигший ее укрытия, вдруг сорвал вуаль с ее лица.
Ее лицо формой походило на сердечко, прекрасная белая кожа и огромные темные глаза. Волосы ее были густые, иссиня-черные, так что траурная шляпка и весь наряд рядом с ними выглядели серыми; и, хотя рот у нее был слишком велик по принятым стандартам красоты, он выглядел красиво и выразительно.
Девушка поймала свою вуаль, чтобы закрыть лицо, при этом повернувшись так, что двое на крыльце смогли лучше ее рассмотреть. На левой щеке ее краснело пятно — от ожога или пощечины.
Алекс понял, что это и есть та самая девушка, которую он вчера в галерее спас от навязчивых ухаживаний достопочтенного Эдмунда Ратли. Значит, ручка леди Сибеллы, которую герр Винтерхальтер так грациозно запечатлел на портрете с розой, была довольно сильной.
— Кто это, — спросил он соседку, — вон та девушка под деревом?
— Эта? Мы говорили о ней вчера. Это — контесса де лос Агвиларес, малютка Винтер.
Алекс не знал, что не только мистер Бартон сильно изменился за прошедшие несколько лет. Винтер также переменилась. После смерти Зобейды она похудела, побледнела и стала необычно молчаливой. Щеки ее ввалились, а рот стал казаться еще больше. Глаза также казались слишком большими для ее личика.
Испанская кровь могла привести к более ранней зрелости, чем бывает у англо-саксонских женщин, но потрясение и горе после смерти Зобейды сказались на ней и физически, и душевно, и если Сибелла в пятнадцать лет выглядела избалованной и самолюбивой маленькой женщиной, то Винтер производила впечатление тощего подростка, неуклюжей школьницы.
Но все же, несмотря на горе, причиненное тяжелой утратой, природная сила и юность брали свое, и Винтер переменилась. Почти за один день (или так всем просто показалось) дочь Сабрины превратилась из угловатого подростка в юную, странно привлекательную женщину. Эту красоту женщины не могли ни принять, ни понять. В тот сентиментальный век в Англии понятие красоты было связано с овальным лицом, розовым и бледным, не больше и не меньше, чем нужно, маленькими розовыми губками, ясными голубыми глазами и длинными волосами a la Стюарт, причесанными так, чтобы подчеркнуть овал лица.
Сибелла была воплощением викторианского идеала красоты. У Винтер же ничего этого не было и, конечно, по мнению большинства женщин, она ничего собой не представляла. Совсем не так было с мужчинами, которые не сводили с нее глаз, когда она появлялась, и провожали ее взглядом, когда она уходила.
Это была изящная девушка, чью хрупкость не могли скрыть даже вошедшие в моду юбки с кринолинами. Лицо же ее стало несколько полнее, а черты его стали более пропорциональными. Кожа приобрела оттенок слоновой кости, а округлость грудей не имела своим источником набивки и складки, к чему нередко прибегали викторианские девицы. Выразительные темные глаза были слегка раскосыми, что также не одобрялось женщинами, но нравилось мужчинам. Но даже самые суровые из женщин находили красивыми ее длинную шею и густые черные ресницы. Появилась у нее и грация, характерная для многих испанских женщин; впрочем, может быть, это было у нее всегда, только раньше не замечалось.
Только летом 1855 года леди Глайнд обнаружила, что этот гадкий утенок превратился в лебедя. Джулия устраивала тогда летнюю танцевальную вечеринку для Сибеллы (она не называлась «балом», так как официальный дебют Сибеллы еще только предстоял будущей весной, но по сути это был бал). Приглашены были знатные и богатые юные леди и джентльмены, и подбор гостей был довольно тщательным. Джулия следила за тем, чтобы никто не мог соперничать с Сибеллой, хотя она была не так глупа, чтобы приглашать только невзрачных девушек.
В последние годы Джулия составила секретный список, который держала в ящике своего бюро. В список входили несколько имен молодых людей, с титулами и состояниями или наследников титулов и состояний, которых она считала более или менее подходящей парой своей драгоценной Сибелле. Был и другой список с именами людей, которые по своему положению не годились для этой роли, но так как любой девушке не помешают поклонники, их умело держали на некотором расстоянии, и они должны были повысить ценность Сибеллы в глазах нескольких избранных. Из списка изымались имена молодых людей, уже женившихся на девушках, чьи дебюты были позади. Вечеринка для Сибеллы должна была стать чем-то вроде светских смотрин, предваряющих ее дебют и несущих известность ее красоте. И у Джулии были основания гордиться своей дочкой.
Сибелла была в бальном с кринолином платье из белого гроденапля, убранном цветами примул, вереска и ландыша. Ее золотистые кудри были убраны венком из тех же цветов, а ее юный возраст должно было подчеркнуть простое ожерелье и браслет из мелких жемчужин.
Гораздо меньше уделили внимания наряду Винтер. Это было поручено домоправительнице, миссис Флекер, которой было сказано, что Винтер должна быть прилично одета, но попроще, так как она младше леди Сибеллы. Миссис Флекер обеспечила Винтер платьем из белого индийского муслина и услугами старого городского парикмахера с рынка. Но эффект оказался самым неожиданным. Сказалась ли здесь кровь бабушки Винтер, Анн-Мари де Селинкорт, или что-то еще, но в своем простом, без украшений платье, она выглядела на редкость привлекательной. Ее густые тяжелые волосы были откинуты назад, так что она приобрела горделивую осанку. Украшений Винтер еще не носила, не зная даже, что имеет на это право, но миссис Флекер, готовя ее к выходу, высунувшись в окно, где под самым подоконником росли вьющиеся розы, сорвала одну белую розу и украсила ею черные волосы девушки.
Винтер имела удивительный успех, а Джулия была рассержена и сбита с толку. Она не могла понять, почему мужчины уделяли такое внимание Винтер, а не одной только Сибелле, как она предполагала. Нельзя сказать, чтобы Винтер затмила кузину, это было и невозможно, и Сибелле досталась львиная доля мужского внимания, но Джулия сразу заметила, что люди постарше и посолиднее все время посматривали на дочь Сабрины. Лорд Кэрилон, богатый, представительный скучающий тридцатипятилетний холостяк, спросил у Сибеллы, что это за красивое создание в белом. Сибелла не узнала кузину по описанию, и он указал на нее.
— Вы — о Винтер? — спросила Сибелла изумленно.
— Винтер?
— Винтер, моя кузина. Странное имя, правда?
— Винтер, — повторил он почти благоговейно. — Но что за прелесть.
— Что вы хотите этим сказать? — мелодичный голосок Сибеллы вдруг стал резким.
— Я хочу сказать, что это — удивительное сочетание. Она похожа на снег, на который легла черная тень. Что-то холодное и таинственное, и при этом… — Он как-то странно усмехнулся. — Так это и есть та восточная кузина? Говорили, что она «гадкий утенок». Прошу вас, представьте меня, леди Сибелла.
Артур Кэрилон был не пылкий юноша, но опытный повеса. Мамаши, желающие выгодно выдать дочек, привлеченные его состоянием и не обращавшие внимания на его репутацию, не раз с надеждой поглядывали в его сторону, но его, как всегда, интересовали любовницы, а не женитьба. Он посетил бал Джулии больше от скуки, а отчасти — любопытствуя увидеть наследницу Уэйров, по слухам, замечательную красавицу. Но Сибеллу, которую он окинул взглядом опытного сердцееда, он нашел избалованной и пресной. Других же молодых женщин здесь он уже знал и не находил в них ничего интересного.
Его доверительная манера говорить и красноречие не произвели впечатления на Винтер, которая даже не поняла, что его внимание — честь для нее, и Кэрилон, решивший, что неопытная девушка будет легкой добычей, был поставлен на место с холодной грацией, которая сделала бы честь опытной лондонской хозяйке дома. Он сглупил, решив, что это вызвано девичьим кокетством, и Винтер вынуждена была резко дать ему понять, что у него нет никаких шансов. Это был редкий и неприятный урок для лорда Кэрилона.
Но не он один обратил внимание на Винтер.
— Что за девушка! — сказала престарелая леди Грантам, сопровождающая внучку Камиллу. — Кажется, раньше ее не видела. Кто это, Джулия? Кто? Неужто дочка Сабрины? А, ну, конечно! Видела я ее. Уродина была. Тощая, маленькая, одни глаза, как у совенка. А теперь! Ну, ее мать тоже была красотка, и какая замечательная перемена. И еще, если унаследует материнское состояние… Ее надо бы познакомить с Гарри.
Вечер все же удался не так, как хотелось Джулии, и она решила не повторять ошибок. Винтер больше не посещала балов, но множество молодых людей, приглашенных посмотреть на Сибеллу, теперь интересовались также ее кузиной. Заходил даже лорд Кэрилон, который напрямик спрашивал о контессе. Но леди Глайнд холодно отвечала, что Винтер — еще школьница и слишком юна, чтобы принимать гостей, а ее появление на том вечере было особой милостью этому ребенку. Кэрилон не имел оснований упорствовать, но у других они были. Сибелле вполне хватало поклонников, но Джулия заметила, что это — в большинстве молодежь помельче. Те же, на кого она рассчитывала, как на возможных женихов, проявляли больше интереса к юной контессе, которая не обладала модной внешностью и мало интересовалась этими джентльменами с положением. То и другое было новым и потому — привлекательным. Но, кроме того, в ней была еще какая-то «изюминка», как говорят, когда не знают, как это назвать. И, когда жертвами ее обаяния стали некоторые из наследников титулов и больших поместий, Сибелла была выведена из себя, а Джулия почувствовала холодную ярость.
Оставалось последнее средство: Конвей Бартон должен поскорее вернуться домой и жениться на девчонке. Будущей весной ей исполнится семнадцать, вполне достаточно.
— Я уже написал ему, — сказал старый граф.
На самом же деле он не спешил с этим. Лучше подождать, пока Винтер исполнится лет восемнадцать, а может быть, и двадцать. В прошлом году ему самому исполнилось девяносто, а чувствовал он себя на удивление хорошо. Он еще может дожить до ста лет… спешить некуда.
Но осень в том году была затяжной и промозглой, снег выпал поздно. Холод и сырость, которые он прежде переносил, казалось, хорошо, измучили старика, он никак не мог согреться. Ему казалось, что бесконечный дождь уносит его жизненные силы — и он написал Конвею.
Старому графу мало было знать, что Винтер будет пристроена после его смерти, он хотел увидеть это прежде, чем уйдет, чтобы, увидев снова Джони и Сабрину, сказать им, что с ребенком все в порядке. Граф не считался религиозным человеком, его вера (или ее отсутствие) вызывали даже нарекания священника, но он верил в загробную встречу с умершими, причем в их земном виде, как он запомнил дорогих ему людей: жену Селину, свою гордость — Джони и свою дорогую Сабрину…
Летом здоровье графа поправилось, и он уже жалел, что написал Бартону, но надо было готовиться к свадьбе. В июне Конвей получит письмо, и ему потребуется время на оформление отставки и возвращение в Англию (в планы графа не входила поездка Винтер в Индию), чтобы он мог посвятить себя семье и управлению хозяйством. Жених вряд ли сможет прибыть раньше Нового года, а это достаточное время, чтобы подготовить свадьбу, которую можно будет сыграть в мае, когда Винтер исполнится семнадцать. С помощью докторов он надеялся дожить до этого события.
Письмо из Индии пришло ранней осенью. Мистер Бартон сожалел о болезни графа и надеялся, что он к настоящему времени вполне уже выздоровел. Конечно, он мечтает жениться на воспитаннице графа, но разные непредвиденные обстоятельства заставляют его сейчас оставаться на своем посту. Но он надеется, что граф одобрит его, Бартона, план: он изложит все в письме, которое пришлет с надежным человеком, своим подчиненным капитаном Рэнделлом, осенью приезжающим в Англию. Он думает, что это будет вернее, нежели довериться почте, и капитан уполномочен обсудить это дело с лордом Уэйром.
Но получилось так, что капитан Рэнделл очень задержался. Он встретил друзей в Александрии и вместо того, чтобы продолжить путь, отправился с ними в Крым, где нелегально пристроился при штабе генерала Вайндхема, участвовал в Севастопольской битве и был ранен в кровавом бою за Редан Он достиг Англии только в конце февраля, и лишь в середине марта попал в Уэйр…
Книга вторая Кишан Прасад
Глава 7
Большинство гостей покинуло Уэйр в день похорон, остальные сидели по своим комнатам. К вечеру того ненастного дня шестой граф послал слугу за капитаном Рэнделлом, и снова Алекса провели по коридорам в западное крыло здания. Но на этот раз — не в гостиную, а в маленькую комнату, где новый граф грелся у очага.
Хантли, лорд Уэйр, полный, невзрачный мужчина, маскировал недостаток воли бесстрастно-важной манерой говорить. Он любезно приветствовал капитана, выразил сожаление, что не принял его раньше, и надежду, что приезд в замок доставил ему не слишком большие неудобства. Затем он поговорил о будущем браке мистера Бартона с юной кузиной, и в заключение сказал, что, как он понял, капитан в июне возвращается на Восток, и что он (граф) сделает распоряжения, чтобы контесса отправилась в путь на том же судне.
Алекс посмотрел на него изучающе. Перед ним было пустое место. Последний из Уэйров! У старика, которого похоронили сегодня, была более горячая кровь.
— Я слышал о вас, капитан Рэнделл, — любезно сказал Хантли. — Я знаю, что вы получили повышение по службе за личную храбрость в Хилианваллахе, а потом новое, через несколько лет. Замечательные успехи!
Казалось, коричневые от загара щеки капитана покраснели. Он бесстрастно сказал:
— Для таких успехов в Индии много возможностей, сэр. Со стороны мистера Бартона было очень любезно хорошо отозваться обо мне.
— О, это — не Бартон. Один джентльмен, с которым я встречался в гостях, недавно из Пенджаба. Бредит Индией из-за наших связей с Ост-Индской компанией. Я сожалею, что не имел возможности обсудить с вами этот важный предмет, но я, увы, очень занят. Вы уезжаете завтра? Надеюсь, смогу еще раз увидеться с вами перед отъездом.
Это было прощание, но Алекс проигнорировал его. Он не мог прямо разговаривать с графиней, но сейчас такая щепетильность не имела значения. Этот человек, ставший опекуном контессы, должен знать правду. Мало надежды, что это изменит его решение, но попытаться стоит.
— Позвольте мне, сэр, сказать вам, что было бы желательно отложить отъезд контессы на несколько лет, пока ситуация в стране не станет спокойнее. Очевидно, вы не имеете полного представления об угрозе волнений в этой стране. Может быть, это — мнение меньшинства, но его разделяют такие люди, как сэр Генри Лоуренс и генерал Джекоб. В последнее время появились тревожные признаки. Сэр Генри и другие предупреждают о возможности серьезных беспорядков в связи с аннексией суверенных государств, особенно в деле Оуда. Индия и Бенгальская армии отнюдь не спокойны, как кажется кое-кому, и я должен предупредить, сэр, сейчас не время посылать туда молодую женщину, тем более — девушку.
Хантли холодно заметил, что капитан ошибается, ему не так уж плохо известно о положении в Индии. Только в августе прошлого года он был на банкете Ост-Индской компании в Лондонском ресторане в честь назначения лорда Каннинга генерал-губернатором, и тогда получил заверения, что наши индийские владения еще никогда не были такими мирными и процветающими. Он берет на себя смелость считать, что ораторы, там выступавшие, знают страну, по крайней мере, не хуже капитана.
— Я не ссылаюсь на авторитеты, — ответил Алекс, — все же говорю на основе опыта, так как по необходимости имел тесные контакты с местным населением, больше, чем многие старшие офицеры или чиновники, которым, по их положению, это труднее делать. Но политика лорда Долхаузи, политика аннексий и изъятий, хотя и принесла нам огромные территориальные приобретения, но вызвала и крайнюю враждебность местной знати, которую лишили владений. Агенты этой знати активно интригуют нас, а число их растет. Известно, что лорд Долхаузи и директора с Лидентал-стрит выступают за аннексию Оуда, но если Оуд также станет собственностью компании, опасность значительно возрастет.
— Думаю, вы преувеличиваете, — сказал Хантли, которому все это уже надоело. — С некоторыми директорами я знаком, а мой кузен Грантам говорил мне, что многие представители княжеских домов даже стали офицерами Бенгальской армии.
— Это правда, — хмуро сказал Алекс. — Но чего не видят ваш кузен и такие, как он — это целей такой службы, что им дает несравненную возможность сеять семена недовольства и беспорядков там, где это всего опаснее — в армии, среди сипаев[1], индийских солдат. Крупномасштабный бунт в частях Бенгальской армии стал бы серьезной угрозой для нас, а до этого вполне может дойти дело.
— Было бы жаль считать, что вы говорите серьезно, капитан. Подобных паникерских взглядов трудно было ожидать от человека с вашей репутацией. Я могу лишь предположить, что на ваш дух повлияли переутомление и суровость климата.
Алекс саркастически улыбнулся, но голос его оставался почти таким же ровным.
— Возможно, они и повлияли, сэр. Но не на мой ум. Всему есть предел, и самоуправный захват Оуда будет означать еще одну покоренную провинцию с разоруженным войском и обозленными дворянами, для которых это означает потерю власти, а то и просто средств существования. Кроме того, Оуд, хотя там много индусов, одно из последних мусульманских государств, так что его аннексия вызовет враждебность всех мусульман, а также подозрения, что мы хотим захватить всю остальную Индию, и не одно государство не будет чувствовать себя в безопасности. Кроме того, у нас сейчас нет достаточного числа английских гарнизонов для охраны новых территорий, и придется использовать для этого туземные части, не поддерживающие подобные захваты.
— Все эти аспекты, конечно, представляют власть имущие, — высокомерно сказал Хантли, — и не следует забывать, что основная масса населения должна смотреть на нас, как на своих избавителей от угнетения и злоупотреблений со стороны местных правителей. Мы не только даем им лучшее управление, но и несем блага прогресса и цивилизации, за что они должны быть нам благодарны.
— Это всего лишь обычные для нашей среды взгляды, — сухо ответил Алекс, — удобные, чтобы оправдать завоевание, но увы, совершенно ошибочные. Блага цивилизации редко принимаются покоренными народами, особенно, когда они вбиваются прикладом. Заверяю вас, сэр, что я не паникер. И мне не изменяет выдержка. Мы удержим Индию. Но все, что мне известно в последнее время, доказывает, что мы слепо движемся навстречу беде. Конечно, я уверен, мы выстоим. Но не время посылать туда девушек, не знающих Востока.
Хантли поднялся, глядя на собеседника свысока.
— Дорогой капитан Рэнделл, если бы был хоть какой-то риск посылать мою кузину в Индию, можете быть уверены, что мистер Бартон никогда бы не предложил подобного. Как ваш начальник, он должен знать дела лучше вас. Я могу лишь заключить, что вы излишне тревожитесь.
— Я вижу, — грустно сказал Алекс, — что мне придется говорить прямо, сэр. Я понимаю, что при этом я рискую подвергнуться обвинению в неверности командиру, но обстоятельства достаточно серьезные вынуждают меня. Это, конечно, конфиденциально, но, как родственник и опекун контессы, вы должны знать это. — И он бесстрастно и четко рассказал все, что знал о мистере Бартоне…
Лорд Уэйр, округлив глаза, заговорил слегка нервозно, что он, конечно, не предполагал… это все весьма беспокоит его, но… Не преувеличивает ли капитан? Трудно поверить…
— Прошу вас поверить, сэр, — перебил капитан Рэнделл. — То, что я рассказал про комиссара — еще не вся правда. Я не мог бы со спокойной совестью сопровождать вашу кузину, не предупредив вас, но после этого у меня нет больше обязательств на этот счет. Теперь вам решать, поедет ли она. Ваш слуга, сэр. — Он слегка поклонился и вышел.
Снова, как и в тот вечер, когда он прибыл, капитан ужинал в одиночестве, а потом появился секретарь с посланием от леди Уэйр. Графиня желала видеть его как можно скорее, чтобы познакомить с контессой. Капитану нужно было захватить с собой небольшой пакет, который доверил ему комиссар для передачи невесте. После этого он последовал за секретарем в покои графини.
— Как хорошо, что вы пришли, капитан Рэнделл, — сказала графиня. — Надеюсь, за вами тут хорошо ухаживали? Я знаю, вы извините нас за такой сдержанный прием — он связан с семейным трауром. Вы ведь встречались с моим мужем? Это — моя дочь Сибелла. А это — будущая жена дорогого Конвея, Винтер де Баллестерос. Винтер, это — капитан Рэнделл…
Алекс поклонился, испытывая неловкость. Лорд Уэйр не смотрел ему в глаза, а леди Уэйр улыбалась с красноречивой холодной вежливостью. Значит, думал он, муж рассказал ей. А она решила не обращать на это внимания. Видно, эта Вайкомб права. Тут он заметил, что Сибелла улыбается ему, и вспомнил о приличиях. Он пробормотал что-то условно любезное и перевел взгляд на невесту комиссара. Он долго смотрел на это юное лицо, выражавшее настороженность и скованность.
На бледных щеках появилось подобие румянца, и капитан вытащил из кармана небольшой пакет с печатью, тот, что дал ему комиссар. Он сказал только:
— Мистер Бартон велел мне передать это вам.
Девушка схватила пакет, румянец на ее щеках стал еще ярче, а лицо оживилось, так что она вмиг удивительно похорошела. Ей как будто хотелось спрятать пакет, но леди Уэйр властно сказала:
— Вскрой его, дорогая. Там — твой свадебный подарок.
Винтер посмотрела на пакет. Она и так знала, что там. Она помнила все, что говорил Конвей, а он говорил ей некогда, что придет день, и он подарит ей алмаз, «самый красивый, который я найду в Индии, чтобы ты носила его на пальце вместо золотого с жемчугом кольца, которое долго носила на ленточке на шее». Ну, вот он и прислал алмаз. Все ее мечты, наконец, становятся явью. Ей не хотелось вскрывать посылку при Джулии и этом чужом человеке, который смотрел на нее с холодным любопытством. Это — слишком личное.
— Мы ждем, — сказала Джулия.
Румянец исчез с лица Винтер и она нетвердыми пальцами сломала печать. В свете каминного пламени сверкнул огромный изумруд в искусно сделанной золотой оправе. Алекс, узнав его, почувствовал внезапный гнев и отвращение. Он не раз прежде видел этот камень. Три года назад он красовался на руке члена княжеского дома, Рао Кишан Прасада. Алекс давно интересовался Кишаном Прасадом. О нем нашептывали странные вещи, и то, что его камень достался комиссару Лунджора, заставило Алекса задуматься, какого рода взятку он собой представлял. Потом он видел этот камень у одной индийской танцовщицы, развлекавшей гостей на одной из сомнительных вечеринок у комиссара; Алекс, кроме того, недавно встретил Прасада при неожиданных обстоятельствах, и капитан теперь взирал на драгоценный камень с отвращением.
Сибелла же смотрела на него с восхищением и завистью, и даже во взгляде леди Уэйр отразилось невольное восхищение. Но для Винтер это было чем-то вроде холодного ветра, задувшего огонек, вспыхнувший в ее душе после письма Конвея. Он забыл про алмаз? Но почему он должен был буквально воспринимать слова, сказанные ребенку? Он лишь имел в виду, что пришлет ей красивый и драгоценный камень, чтобы она носила кольцо с ним на руке, вместо скромного подарка при расставании. Он помнил об этом и прислал ей его.
Она надела азиатское украшение на средний палец левой руки, подумав, что скоро Конвей наденет на тот же палец обручальное кольцо. И тогда она будет любима, защищена и освобождена от вечного одиночества. Она слегка улыбнулась и тут, подняв голову, увидела злость и неприязнь в глазах капитана Рэнделла. На мгновение это озадачило ее. Этот человек по непонятной причине враждебен ей. Нет, не ей, Конвею. Но это казалось невозможным, ведь сам Конвей послал сюда этого человека, как свое доверенное лицо, чтобы сопровождать свою будущую жену в Индию. Если Конвей доверяет ему, он не может быть врагом. Наверное, она ошиблась. И вправду, выражение злости исчезло с лица капитана, и оно вновь стало бесстрастным.
Молчание нарушила графиня, попросившая капитана сесть и начавшая рассказ о том, как будут проходить сборы перед отплытием. Ясно, что ни она, ни новый граф не собирались медлить, так же как и беседовать в дальнейшем приватно с курьером мистера Бартона. Оставалось только поблагодарить капитана за службу и заверить, что и контесса, и ее компаньонка будут счастливы вверить себя его покровительству.
— Простите, но теперь я должна проститься, — сказала леди Уэйр. — Боюсь, я не из тех, кто встает рано, а вам надо будет собираться. Вы, кажется, плывете на «Сириусе»? Я, конечно, напишу вам о приготовлениях, сделанных нами для дорогой Винтер.
Ясно было, что и приватной беседы с самой контессой у него не будет.
Все это вызывало у него досаду, раздражение и неприязнь. Он не мог не проинформировать опекуна Винтер о некоторых сторонах характера и образа жизни капитана, но теперь совесть его была чиста, и все же он сердился.
Ведь такому, как комиссар, предназначалась не зрелая женщина, а девушка, почти ребенок. И эта сплетница Вайкомб оказалась права: родственнички готовы причинить ей зло, не предупредив ни словом о нем.
Конечно, капитан понимал всю несообразность такого сообщения, если бы он сам передал это девушке. Грубая прямота времен Регентства уступила место своей противоположности — лицемерной фальши, так что девиц оберегали в незнании от грубых сторон мужской жизни. Но двенадцать лет жизни на Востоке лишили Алекса всякого уважения к вежливым условностям, и вдруг он упрямо сказал себе, что невеста комиссара не должна вслепую идти навстречу своей судьбе, если он может помешать этому. Вернувшись в свою комнату, он быстро написал записку, сложил ее и запечатал, потом позвонил.
На звонок явилась служанка, юная и романтического вида, как с облегчением отметил Алекс, который был рад, что не явился человек более пожилой и консервативный. Она взяла записку и золотой, и, явно сгорая от радостного любопытства, заверила заговорщицким шепотом, что мисс Винтер несомненно получит ее. Алексу осталось только лечь спать.
Следующее утро также было ненастным. Туман окутал парк. В окно ничего не было видно. Слуги в коридорах снимали траурные драпировки, а у парадного входа конюх чистил Медузу. Наконец, капитан Рэнделл с облегчением уселся в седло, довольный, что прощается с Уэйром.
В густом тумане деревья казались похожими на призраки. Сначала Алекс пустил кобылу во весь опор, наслаждаясь скоростью и встречным ветром. Прислушиваясь к стуку копыт Медузы, он вдруг услышал что-то похожее на эхо этого стука, и заставил ее перейти на рысь, а потом поехал шагом. На дороге появился другой всадник, и Алекс воспринял это одновременно с досадой и облегчением, останавливая лошадь. Еще через минуту лошадь и всадник материализовались из тумана и поравнялись с ним.
Капли дождя блестели на черных волосах Винтер, как лунные камни, щеки ее раскраснелись от холода и езды верхом. Ее огромные глаза, как у отца, Маркоса де Баллестероса, наследовавшего эту черту от мавров, настороженно смотрели на него, и он снова вдруг почувствовал злость и тоску. Наверное, это как-то можно было прочесть на его лице, потому что она спросила его с беспокойством:
— У вас… письмо для меня, капитан Рэнделл? От Конвея… мистера Бартона?
Алекс покачал головой.
— Но… вы писали…
— Простите меня за мою хитрость, — ответил он, — но я должен был поговорить с вами наедине. Мне необходимо сказать вам нечто такое, что ваши родственники предпочитают скрывать от вас.
Он видел, как она напряглась, а выражение глаз стало неприязненным.
— Что вы хотели сказать мне?
Алекс посмотрел на нее хмуро.
— Сколько вам лет? — вдруг спросил он.
Вопрос был для нее неожиданным, но она ответила, послушная его властному тону:
— Шестнадцать, но скоро…
— Шестнадцать! — воскликнул он, пораженный. — Но так нельзя! Имеете ли вы представление о той стране, куда вы собираетесь, о той жизни, которая ждет вас?
Винтер посмотрела на него с удивлением:
— Вы так добры… — проронила она, и Алекс по ее интонации понял, что доброта в ее короткой жизни встречалась не так часто.
— Так вы, — сказала она, наклонившись к нему, — думаете, что я собираюсь в чужую страну, где буду несчастна? Вы ошибаетесь. Я возвращаюсь на родину. Разве вы не знали, что мой отец, испанец, родился в Оуде, и я родилась там же? Индия даже больше родина для меня, чем эта страна, и моя приемная мать была индианка, пахари (горянка) из Кафри. Я научилась говорить на их языке раньше, чем на английском, и не забыла его. Смотрите: (она перешла с английского на хинди) «Чего мне бояться, если я возвращаюсь к моему народу в отцовский дом?»
Алекс услышал знакомую речь с раздражением, и, видя это, она спросила едва слышно:
— Что случилось? Конвей болен? Вы это хотели сказать мне?..
— Нет, — ответил Алекс с усилием. — Он не болен, в том смысле, в котором вы говорите. Но он теперь стал другим.
— Конечно, стал другим. Я сама изменилась. Тогда я была ребенком, а сейчас выросла. А у него было несколько лет тяжелой работы, лишений, ответственности, которая на нем лежит. Он писал мне о своих трудностях. Он постарел, наверное, но это неважно.
— Вы не так поняли. Я счел своим долгом сообщить правду вашему кузену лорду Уэйру, но он, видимо, не счел удобным сообщить вам это или не желает предотвратить ваш брак.
— Предотвратить? — она побелела и в тревоге уставилась на него.
— Да, я не знаю, каким был мистер Бартон лет пять назад, но я знаю его теперь, и должен предупредить вас, что лучше не ездить в Индию, а повременить со свадьбой до того, когда он приедет сюда, чтобы вы имели возможность сами судить об этом.
Взгляд Винтер вдруг стал гневным, голос задрожал:
— И это говорите вы, вы, его доверенный подчиненный? — Она заметила, как он покраснел, и голос ее стал презрительным. — Так я была права! Вы — один из его врагов, которые из зависти интригуют против него за его спиной! И вы смеете говорить все это мне! У вас все?
— Да, — ответил Алекс, стоя на своем. — Я не могу ожидать, что вы поверите чужаку, пусть и «доверенному подчиненному», но могу лишь повторить совет повременить до его приезда сюда, тогда вы сами все узнаете.
— Этого мало. Я должна спросить вас прямо, сэр. Или вы предпочитаете сплетни прямым словам?
— Нет, — ответил он медленно. — Но я не хочу оскорблять ваш слух вещами, которых вы еще не поймете. Но, если хотите, ваш жених — неподходящий муж для девушки из приличной семьи и…
Он увидел, что ее лицо стало таким же белым, как туман вокруг, она сжала в руке хлыст — и понял, что она сейчас сделает. Но почему-то он не попытался уклониться от удара. Хлыст обжег его лицо, и из рассеченной губы пошла кровь; но он неожиданно рассмеялся:
— Женщины из семьи Уэйр, как я вижу, скоры на руку. Как понимаю, я вас недооценил. Вы вполне сможете составить ему пару.
Ее щеки снова вспыхнули, и она снова опустила хлыст, на этот раз — на лошадь, которая помчалась вскачь назад и исчезла в тумане.
Капитан вытер кровь с лица и снова рассмеялся. Вот чего стоят расхожие мнения о благородных юных леди, нежных и хрупких, как тепличные растения! Интересно, в последний ли раз видит он Винтер? Скорее всего, после того, что случилось, она не захочет в его сопровождении ехать в Индию. Она, скорее всего, отправится на другом корабле и, конечно, расскажет о нем своему жениху. За этим, скорее всего, последует его увольнение из Лунджора. Единственное, чего он здесь добился — запятнал себя, как нелояльного офицера, нажил врага в юной контессе и ее влиятельных родственниках, испортил себе служебную карьеру — и все. Рубец на его щеке вздулся и болел. «По заслугам», — заметил он философски и поскакал вперед.
Уверенный, что никаких новых вестей от Уэйров не поступит, Алекс был удивлен и раздражен, когда месяца три спустя получил письмо от графини. Она сообщала, что ее юная кузина готова к отплытию на пароходе «Сириус», который отбудет из Лондона в Александрию первого июня. Мистер Бартон будет встречать невесту в Калькутте, и свадьба произойдет сразу по ее прибытии в порт. Компаньонкой будет миссис Эбатнот, направляющаяся в Индию к мужу, командиру бенгальского полка в Дели. Леди будут рады вверить себя опеке капитана Рэнделла. Графиня надеялась, что капитан в добром здравии, и под его присмотром ее молодая родственница безопасно доберется до Индии.
Капитан хмуро посмотрел на письмо, скомкал его и бросил в мусорную корзину, мысленно посылая подальше всех женщин (кроме, разве что, нескольких милых и нестроптивых артисточек). У него были сейчас заботы поважнее. В конце марта распространилось известие, что великие державы, вместе с Турцией и Сардинией, после одной из самых бесплодных войн, наконец, договорились о мире. В воскресенье, чтобы не нарушать вечерних церковных служб, салют в честь мира был дан в десять часов вечера. Алекс вышел прогуляться под залпы салюта и игру военных оркестров в парке Сент Джеймс и ответные залпы из Тауэра. Слушая их, он думал о мертвых, которые остались на Севастопольских сопках, и вспоминал улыбающегося Кишана Прасада, смотревшего на деморализованную английскую армию, обратившуюся в бегство после неудачной попытки взять Редан. Он не знал, почему таким, как Прасад, разрешали посещать Крым, но это было, и Алекс не ждал от этого ничего хорошего. В начале марта ему попалась на глаза небольшая газетная заметка, где прямо говорилось: «Оуд будет аннексирован, а генерал Аутран станет главным комиссаром». Неделей позже появилась новая: «Армия из 16000 человек собирается в Ковенпоре для выступления в Лакноу. Сопротивления не ожидается, но лорд Долхаузи всегда старается быть предусмотрительным. Князь будет низложен с пенсией в сто тысяч рупий».
Лорд Долхаузи, прежний генерал-губернатор Индии, имел все основания гордиться. Он присоединил к Британской империи Пенджаб и Нижнюю Бирму, Кохинорскую жемчужину британской короны, обеспечил безопасность на западной границе Индии и принес в страну блага цивилизации в виде железных дорог и телеграфа. Его преемником должен был стать лорд Каннинг, который перед отплытием напомнил директору Ост-Индской компании, что «на ясном сегодня небе Индии может появиться небольшое облачко, но оно будет расти и расти, и может обрушить на нас грозу».
Но это облачко, мрачно думал Алекс, прислушиваясь к праздничному салюту, уже появилось на небе Индии. Он и многие из таких, как он, уже давно заметили это. Всего два года назад сэр Генри Лоуренс писал лорду Стэнли:
«Вы спрашиваете, сколько продержатся Оуд и Хайдарабад? Стало модно кричать об их аннексии… я думаю, что при всех наших недостатках мы все же можем управлять лучше любых нынешних туземных правителей. Но это не оправдывает того, что мы их обираем. Оудское соглашение предполагает, если потребуется, управления их страной. Но мы можем защищать крестьян, не кладя их ренту в свои карманы… Увы, я в незначительном меньшинстве. Военные и гражданские власти, пресса, генерал-губернатор — все они против меня. Я снова напоминаю о наших договорах. Нельзя заключать их сегодня, чтобы нарушить завтра».
Алекс бродил по улицам среди толпы, праздновавшей окончание долгой и дорогой Крымской войны, и вспоминал слова Лоуренса, а также слуг и сипаев, собравшихся под деревом в ланджорской резиденции. Ему было страшно.
Прошел март, потом апрель, а беспокойство не оставляло Алекса, он с нетерпением ждал возвращения. Лунджор граничит с вновь обретаемой провинцией, и предстоит много работы, которую комиссар Бартон совершенно неспособен выполнить, потому что его район полон мелких царьков, вовлеченных в беспорядки еще лет двенадцать назад. Волнения были подавлены, район возвращен под контроль Компании, политикой которой являлось подавление крупных землевладельцев, что находило полное одобрение Конвея Бартона. Капитан Рэнделл со своей стороны делал все, чтобы смягчить издержки и неприятности, которые влекло за собой близорукое проведение этой политики. При всех этих заботах, ему некогда было думать о невесте комиссара, почему он и отправил в корзину письмо леди Уэйр.
И Винтер также о нем не думала. Не задумывалась она и о возможных трудностях в будущем. Долгое ожидание окончилось, она, наконец, выросла, и Конвей послал за ней. Она снова увидит прекрасную Индию, и навеки расстанется с холодными стенами Уэйра и ледяными глазами Сибеллы и Джулии. Уэйр для нее ничего не значит теперь, когда два человека, которых она любила, умерли. Граф лежит в фамильной усыпальнице, а Зобейда, которой викарий отказал в праве на освященную землю, лежит в тихом углу парка, где ее оплакивает только дождь.
Кузина Джулия с неожиданной для нее добротой поручила Винтер заботам лондонской родственницы, которая согласилась помочь собрать невесте приданое. Пожилая леди Аделаида Пайк была женщиной добродушной и очень общительной, а Винтер не знала, что желанием Джулии было не столько обеспечить ее приданым, как поскорее сплавить ее из Уэйра. Винтер была еще в трауре по прадеду, но леди Аделаида считала, что это не должно быть препятствием для светской жизни.
— В конце концов, дорогая, вы же не из Грантамов. И если у вас скоро свадьба, а в приданое черных цветов покупать нельзя, то я не вижу, почему бы вам не отдохнуть и не развлечься? На Востоке вы не найдете таких развлечений.
Она водила Винтер послушать Гризе в итальянской опере, или отрывки из «Отелло» в исполнении миссис Кембл, или Мариетту Альбони в театре ее величества. Они посещали обеды и музыкальные вечера, ездили в Парк. Винтер, пышно одетую в белый тюль, с муаровым шлейфом, с тремя страусовыми перьями в волосах, возили во дворец Сент-Джеймс приседать перед невзрачной, коренастой, безвкусно одетой женщиной — Викторией, божьей милостью королевой Великобритании и заморских владений.
Англия в тот год веселилась. Война закончилась, был заключен Парижский мир, королева провела смотр армии и флота. Отравитель Вильям Палмер был публично повешен в Стаффорде, при большом стечении народа, а духовенство атаковало кринолины, напоминая женщинам, «обременяющим себя пышными одеждами, что ворота царства Небесного узки».
Леди Аделаида, не думавшая об этих воротах, подбирала в приданое Винтер самые широкие юбки. Тут были бальные платья из тарлатана, белого тюля, белого муслина с кружевами муара антик; дневные платья из муслина, шерсти, тафты, легкого французского «бареж» нежных тонов; утренние — из кашемира, батиста, поплина, жаконэ. К этому следует добавить перчатки и шляпки всех видов и цветов, украшения для волос — цветы, жемчуг, ленты с кружевами, а также десятки нижних юбок, панталон и прочих предметов дамского туалета.
То был век роскоши, больших обедов, огромных семей, огромных юбок и огромной, расширяющейся империи. И — век грубых нравов, тяжкой бедности, ханжества, самодовольства и поразительного авантюризма. Десятки женских нижних юбок были одновременно символом и роскоши, и тяжелого труда в трущобах, где другие женщины, не щадя своих пальцев, своего зрения, своей молодости, шили все это, получая плату в несколько пенсов.
В начале июня Винтер отправилась в Соффолк в сопровождении мрачной миссис Барлоу, компаньонки новой графини, чтобы попрощаться с дядей Конвея, старым сэром Эбенезером Бартоном.
Сэру Эбенезеру исполнилось в этом году семьдесят семь, его зрение и слух слабели. После долгой жизни на Востоке, английские холодные ветры и зимы принесли ему ревматизм и ишиас. Он обычно жил в одной из комнат ставшего ветхим дома, куда он примерно четверть века назад привел Эмилию, и редко выходил из нее. Он также начал заговариваться и жил прошлым. Винтер он совсем не помнил, а когда ему напомнили о племяннике Конвее, он сказал дребезжащим голосом:
— Дурная кровь… дурная… с материнской стороны… Мальчик мог избегнуть этого, сын Джозефа как никак, но все же… Такой уж род.
Потом он не вспоминал о своем племяннике, но бормотал что-то малопонятное. Однажды в сумерках он стал называть Винтер Маркосом, так как ее лицо напомнило ему тот забавный вечер…
— Знаешь, Маркос, Эмилии это совсем не понравится… Нет. А если ты думаешь так про деда Сабрины, то… очень ошибаешься. Видеть того, кого любишь, раз в шесть-семь лет — мало. Нет, из этого ничего хорошего не выйдет…
А перед ее отъездом сэр Эбенезер вручил ей старую шкатулку с драгоценностями Эмилии.
— Она хотела их отдать Сабрине, — сказал он, поднимая крышку дрожащей рукой. — Но и Сабрина умерла.
Старческие слезы потекли по его щекам. Плакал ли он об Эмилии или о Сабрине?
— Мне сказали, что ты ее дочь, — продолжал он. — Ты не похожа на свою мать. Золотая была девочка. Должно быть, по отцовской линии. Так ты собираешься замуж за Конвея? Ага. Тебе ведь нужны будут всякие безделушки. Я сберег их. Я говорил: пусть девочка подрастет. Не доверял этой ведьме, Джулии. А, что? Эмилия эти штуки не очень ценила, но я любил дарить их ей. Она собирала их для Сабрины. Сабрина уже не будет их носить. Но ты будешь. Будешь.
Он подтолкнул к ней шкатулку и грустно сказал:
— Будь я лет на десять моложе, поплыл бы с тобой. Как я хотел бы снова все это увидеть. Замечательная страна. Богатая и замечательная… Кольцо Пир Хана, Маркос… Я устал.
Камни в старинных оправах были великолепны, все эти изумруды, бриллианты, кольца, броши, браслеты, драгоценные заколки, в своей азиатской красоте; все это Эбенезер покупал для Эмилии, а она так редко носила.
Джулия смотрела на все это с молчаливым неодобрением, а Сибелла — с нескрываемой завистью.
— Совсем не подходит молодой девушке, — сказала, наконец, Джулия. — Тебе лучше было бы положить их на сохранение в банк. Подобные ценности в доме — приглашение к грабежу и насилию.
Но Винтер взяла их с собой, драгоценности Эмилии и жемчужное ожерелье, которое мать Маркоса подарила Сабрине лет восемнадцать назад — жемчуга, которые виконтесса да Селинкорт надевала на свадьбу Людовика XVI и Марии Антуанетты.
Джулия решилась на отчаянный шаг — отправилась в Лондон, чтобы передать юную родственницу под опеку миссис Эбатнот. Она провела там всего одну ночь, а на следующее утро уже уехала к друзьям в Сюррей. Но она успела посмотреть вслед кэбу, увозившему дочь Сабрины на пароход «Сириус», который должен был доставить ее в Александрию, для дальнейшей поездки в Индию.
Глава 8
Миссис Эбатнот была добродушная разговорчивая толстушка. Примерно в возрасте Винтер, она вышла за своего Георга и впервые отплыла на Восток. Ей еще не было сорока, но долгие годы в Индии и рождение семерых детей, из которых пятеро умерли, сказались на ней, так что она выглядела лет на десять старше.
— Девяносто дней, дорогая, — рассказывала она Винтер о первом путешествии. — Мы плыли вокруг Кейптауна. Кажется, это было так давно, но тогда на корабле была мисс Маршалл. Она собиралась выйти замуж за человека по фамилии Лоуренс… Теперь сэр Генри. Год назад она умерла… Такая утрата… А вот теперь опять еду туда, и на этот раз — с двумя взрослыми дочерьми. Как летит время!
Лотти и София были совсем не похожи на свою маму (она была брюнетка): тонкие, светловолосые, молчаливые, небольшого роста. Надо думать, они пошли в отца.
София (она была на три года младше) осталась в каюте с матерью, а восемнадцатилетняя Лотти стала соседкой Винтер. Первые дни путешествия никак нельзя было назвать приятными.
Начало лета было дождливым и холодным, дождь преследовал их еще по пути в порт. Миссис Эбатнот, София и Лотти пошли в свои тесные каюты, а Винтер стояла на палубе и смотрела, как в серых сумерках исчезал английский берег. За кормой корабля тревожно кричали чайки, а впереди сильный ветер гнал ревущие волны, и брызги смешивались с дождем. Вот и в тот далекий день, думала Винтер, шел дождь и было холодно, когда они с Зобейдой, промокшие и продрогшие, высадились в Саутгемптоне. Ей тогда не было и семи… А сейчас ей семнадцать, и она вновь плывет на корабле, навстречу замужеству и семейному счастью…
Корабль качало, холодные брызги обжигали лицо, и она почувствовала себя нехорошо. Но ей никак не хотелось спускаться в душную каюту, где Лотти уже мучилась на койке от морской болезни. Свежий воздух все-таки был предпочтительнее, и, стиснув зубы, она стала прохаживаться по палубе.
А пустынная палуба продолжала уходить у нее из-под ног, и она уже стала жалеть, что не ушла. Лучше было спуститься в каюту, пока у нее еще хватало сил: теперь она вдруг поняла, что не может сдвинуться с места. Она могла только стоять, вцепившись в перила и бессильно наблюдать, как ветер раздувает ее плащ наподобие паруса; шляпка была сорвана ветром с головы и держалась теперь только на лентах. Голова словно распухла, перед глазами появились и запрыгали искорки, она почувствовала тошноту. Винтер не слышала шагов за спиной, а если бы и услышала, не обратила бы внимания. Она стала ко всему безучастной и лишь почувствовала, как ее подхватили чьи-то руки, и уже не надо держаться за перила.
Кто-то вдруг поднял ее легко, как ребенка, и слегка насмешливый мужской голос проговорил: «Наверно, это входит в обязанности курьера». А потом ее понесли в темноту, в каюту. Она слышала, как открылась дверь каюты, слышала стоны Лотти, которую рвало. Она отвернулась и уткнулась лицом в плечо мужчины, который ее нес. Он с деланным ужасом сказал «О, Господи!», потом закрыл дверь. Через минуту он положил девушку на койку, и она, открыв глаза, увидела лицо капитана Рэнделла. Ему, видимо, было весело, и она снова закрыла глаза. Зажав рот рукой, она огромным усилием воли заставила себя сказать:
— Пожалуйста, уходите. Я… боюсь, мне сейчас будет очень нехорошо.
— Я видел вещи и похуже, — философски заметил капитан, нагибаясь за тазом.
А Винтер было уже все равно, уйдет он или нет. Капитану же не пришло в голову уйти, так как, честно говоря, он не смотрел на нее, как на взрослую. Он еще удивлялся, что ей уже семнадцать, и она едет на собственную свадьбу с комиссаром Бартоном. Маленькая, промокшая, мучимая морской болезнью, она была сейчас больше похожа на семи-, чем на семнадцатилетнюю.
Проснулась она утром. Было пасмурно и шел дождь. Пароход продолжал свой трудный путь по волновавшемуся морю. Каюта поднималась и опускалась перед глазами Винтер, и она, вздрогнув, закрыла глаза. И вдруг странная мысль заставила ее открыть их вновь. Это была не ее каюта. Обстановка была ей не знакома. Должно быть, каюта капитана Рэнделла. Значит, он принес ее сюда вчера вечером, потому что Лотти было слишком плохо, а сам ночевал где-то еще, может быть, в кают-компании. Удивительно, что он так беспокоится!
Винтер лежала, с ужасом вспоминая подробности вчерашнего неприятного происшествия. Как она могла так себя вести? Вместо того, чтобы настоять на том, чтобы остаться одной, она не только приняла помощь от капитана, но даже как будто была рада этому! Она помнила, как он держал ее голову над тазом, когда она уже обессилела и не могла сама себя обслуживать. Потом он положил ее на подушку и умыл холодной водой, снял с нее мокрый плащ и влил в рот бренди, со знанием дела и совсем без смущения.
Винтер не знала, что жизнь офицера на государственной службе требует гораздо большего числа навыков и большей готовности к неожиданным обстоятельствам, чем у среднего человека. Чем только не приходилось заниматься Алексу Рэнделлу сверх прямых служебных обязанностей: ампутировать ногу человеку, покалеченному тигром, вешать убийцу, обеспечивать кров и стол для тридцати семи маленьких детей, принимать роды, вытаскивать кричащую женщину из погребального костра ее мужа, где она должна была быть принесена в жертву по обычаям своего народа, вопреки новому закону Компании. Так что не приходилось удивляться тому, что он так легко справился с помощью девушке, страдавшей морской болезнью. Удивительно, как он еще не снял с нее платье. Она осторожно пошевелилась, и вдруг поняла, что он так и сделал. Ее тяжелое батистовое дорожное платье вместе с кринолином из китового уса висело на стуле, а она, укутанная одеялами, была только в нижней юбке и панталонах. А затем она с ужасом обнаружила, что капитан также распустил ее корсет.
От негодования она села на койке, но это было неосторожно. У нее вдруг все поплыло перед глазами, и она прислонилась головой к полированным доскам. Кто-то осторожно постучал в дверь, а через минуту она открылась, и появился сам капитан Рэнделл, причем, с недовольством отметила Винтер, очень хорошо выглядевший. Увидев ее враждебный взгляд, он улыбнулся. И эта улыбка была обезоруживающе приятной, а тот факт, что она даже в таком состоянии это признает, рассердил Винтер еще больше.
— Я принес вам поесть, — сказал он, — разрешите войти?
— Это ваша каюта, — зло ответила она, — и я не могу вас сюда не пустить. Только прошу вас хотя бы не упоминать о еде.
Алекс рассмеялся и вошел с небольшим подносом, который поставил у койки.
— Вы почувствуете себя намного лучше, если чуть поедите. Здесь только суп и печенье.
Винтер посмотрела на них и вздрогнула. Качка продолжалась в мерном тошнотворном ритме, и суп из миски пролился на поднос.
— Уходите, — прошептала она хрипло, — забирайте это и уходите!
Алекс сел на край койки.
— Если вы намерены продолжать переносить морскую болезнь, — заметил он прозаически, — то уж лучше и стараться не зря. — И прежде, чем она сумела что-нибудь сообразить, он поднял ее за плечи и стал кормить супом и сухим печеньем, как ребенка, как в таком случае сделали бы это старая няня или домоправительница Флекер. Суп был горячим и питательным, она даже смогла съесть большую часть печенья и действительно почувствовала себя намного лучше. Она прислонила больную голову к плечу капитана, это показалось ей очень уютным, успокаивающим. Она напоминала сама себе, что этот человек предал Конвея, что она однажды заслуженно ударила его хлыстом. Но все это сейчас не имело значения, все, кроме удивительного чувства покоя и безопасности. Этого чувства она не знала с детства, это напомнило ей заботливые руки Хуаниты и Азизы Бегам в знакомых стенах Гулаб-Махала. Она не понимала, почему на нее так действует враг Конвея, а значит, и ее, — но ее силы были слишком истощены, чтобы удивляться. Она чувствовала себя несравненно лучше, и ей не хотелось двигаться.
— Хорошо, — сказал капитан, ставя на место пустую миску, — что ваша компаньонка, как и большинство женщин здесь, лежит с морской болезнью, а то я боюсь, ваша репутация была бы навсегда испорчена. Леди имеют обыкновение щадить лишь свои чувства. Но пока вы можете безопасно оставаться здесь.
— Не могу. Я должна вернуться в свою каюту.
— Не советую. Ваша соседка пока далека от выздоровления, и десять минут пребывания там сведут на нет благоприятное действие еды и сна.
— Откуда вы знаете? — спросила Винтер, заинтересованная. — Вы ухаживали и за ними?
— Да, — заметил он, чуть усмехнувшись. — Если бы я знал, что сопровождение будет включать в себя обязанности сиделки, в жизни не согласился бы на это. Служители делают все, что могут, но у них только две ноги, а ваша компаньонка с дочерьми также на моей ответственности. Уверен, что когда миссис Эбатнот будет чувствовать себя лучше, она не простит мне этой помощи, но сейчас она очень нуждается во мне.
— Если вы развязали и ее корсет, я думаю, она никогда вам этого не простит. — Винтер сказала это не подумав (ее всегда учили обратному), и сама теперь рада была взять эти слова обратно. Она дернулась, стряхивая поддерживающую ее руку капитана, и густо покраснела. Упоминание о белье в те времена считалось неприличным, а она сказала это постороннему мужчине! Мужчине, который имел нахальство ухаживать за ней, словно горничная. Кузина Джулия упала бы в обморок. Но капитан, словно не замечая ее замешательства, серьезно продолжал.
— В этом не было необходимости. Она смогла это сделать сама.
Говорил он совершенно спокойно, потому что служба в значительной мере избавила его от ханжества Викторианской Англии, опутавшего частную жизнь множеством табу. Его, видно, не очень интересовало то обстоятельство, что женщины носят нижнее белье, и тем более это не возбуждало его воображения. Так что раздеть ее, снять промокшее верхнее платье было для него просто делом здравого смысла, раз она сама не в силах была этого сделать. Он, конечно, знал о практике тугого шнурования, и это казалось ему смешным и мучительным делом, но не больше, чем мундиры с тугими воротниками, аксельбантами и тяжелыми эполетами, вроде тех, что носил и он сам, как парадную форму, несмотря на страшный зной.
То, что Винтер покраснела и глаза ее стали испуганными, наверное, впервые навело его на мысль, что его действия могут кого-то шокировать. Он веско сказал:
— Разрешите дать вам совет, контесса. Здравый смысл принесет вам больше пользы, чем слепое следование условностям. Оставь я вас на ночь в мокрой и неудобной одежде, — я избавил бы вас от минутного смущения, но для вашего здоровья это было бы пагубно. А вы не можете себе позволить болеть, отправляясь жить в Индию.
Винтер успокоилась, а испуг ее сменился заинтересованностью. Слова его насчет здравого смысла были прямо противоположны поучениям кузины Джулии и всяких гувернанток. На мгновение его слова показались ей ересью, но, если подумать, они ведь были справедливы. Она даже почувствовала облегчение, словно была развязана какая-то тугая психологическая шнуровка. Она не очень высоко ставила мнение Джулии, но в области приличий считала ее авторитетом. А ведь кузина Джулия даже в таких условиях сочла бы помощь Рэнделла совершенно неприличной, а самое Винтер — почти что падшей женщиной. А ведь если бы капитан оставил ее на произвол судьбы, ее бы ожидала тяжелая простуда, а то и пневмония, хотя были бы соблюдены светские приличия.
Винтер, подумав, пришла к выводу, что подход капитана Рэнделла несравненно практичнее. Она улыбнулась, и ямочки появились на ее щеках. Алекс, кажется, впервые заметил ее улыбку, но не улыбнулся в ответ. Он смотрел на нее, впервые видя в ней не беспризорного ребенка, а женщину. Он как бы заново увидел лицо «сердечком», бледность которого сделала ее глаза еще больше, чем они были, голые руки и плечи цвета слоновой кости, густые, распущенные, иссиня-черные волосы. Потом он вдруг с неприязнью представил влажные дрожащие руки комиссара Бартона, трогающие эти голые плечи, и нахмурился. Он встал и сказал:
— Капитан полагает, что эта скверная погода сегодня ночью переменится. Вам лучше побыть здесь хотя бы сегодня. Эта каюта остается за мной до Гибралтара.
— Но… как же вы? — спросила она нерешительно.
— Обойдусь, — кратко ответил он.
Дверь каюты закрылась за ним, и вновь Винтер увидела его нескоро. В обед в дверь постучался принесший еду служитель, а к вечеру она почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы одеться и вернуться к себе в каюту. Но это оказалось ошибкой. После покоя и уединения в его каюте, нескольких минут в обществе Лотти оказалось достаточно для возобновления тошноты. Тут было душно, воздух был кислым и спертым, а Лотти постоянно жаловалась на плохое самочувствие.
Оптимизм капитана насчет погоды оказался необоснованным, но миссис Марта Холи, оправившаяся от приступа морской болезни, пришла на помощь семье Эбатнот. Это была полная, общительная, по-матерински заботливая женщина, прежде — детская няня. Она потеряла нескольких детей в Индии, но горе и лишения не сломили ее дух, и, проведя год в Англии, работая сиделкой при немощной жене и двух детях одного полковника, она возвращалась в Индию к мужу.
— Не то, что мне эта страна по душе, мисс, — говорила она, — жару я терпеть не могу, да и чужой народ мне ни к чему. Но Олли всегда был мне хорошим мужем, а без меня он там пропадет. Эти черные ни постирать, ни починить ничего не умеют. Да, шестнадцать лет я провела в Индии. Это немало. Что-нибудь это да значит. Ну, мисс Лотти, съешьте супчику, пока я присмотрю за вашей бедной мамой. Съешьте, а то хуже будет. Я сама заставила себя съесть ихнее печенье, и вот, бегаю, как видите.
Ее энергичные хлопоты возымели нужное действие, и через четыре дня, когда, наконец, небо стало ясным, а море — спокойным, даже миссис Эбатнот вышла на палубу.
Среди пассажиров было еще несколько дам, два генерала, судья, много офицеров всех чинов, большинство — возвращались из отпуска, все хорошо известные капитану Рэнделлу: полковник Мулсон из Лунджора, закадычный друг мистера Бартона, и элегантный, хорошо воспитанный индус, прекрасно говоривший по-английски, ехавший с несколькими индийскими слугами. Это был Кишан Прасад, которого Алекс в последний раз видел под Севастополем.
Он и его слуги сразу привлекли внимание Винтер, которой их лица и знакомая речь напомнили детство и дорогое ей смуглое лицо Зобейды.
Кишан Прасад познакомился с ней однажды вечером, когда она стояла под навесом на задней палубе, глядя, как солнце садится в океан. Внезапно подул ветер, и край ее легкой шали запутался вокруг пилерса. Кишан Прасад, оказавшийся поблизости, пришел на помощь. Она мило поблагодарила его, и он уже хотел уйти, но его взгляд упал на ее левую руку. Она носила кольцо Конвея с изумрудом, то, что капитан привез из Индии. Он обратился к ней с вопросом, и только напевные интонации выдали, что он не англичанин:
— Это очень необычное кольцо. Позвольте спросить, откуда оно? Похоже, что этот камень из моей родной страны, из Рохильканда.
— Может быть, — ответила она, показывая ему кольцо, — его прислал мне мой жених, мистер Конвей Бартон.
— А, мистер Бартон! Очень интересно. Он ведь комиссар Лунджора?
— Да. Вы знаете его?
— Мы немного знакомы с мистером Бартоном. У меня есть поместье в Лунджоре.
Прасад оказался человеком приятным в обращении и интересным собеседником. Вскоре он завязал хорошие отношения с большинством пассажиров, и даже миссис Гарденен-Смит, которая считала, что индусы не должны свободно общаться с молодыми европейками, нашла его манеры очень приятными.
— Кто это? — спросила она капитана судна.
— Не из важных людей, — ответил он. — Просто богатый индус, который путешествует по всей Европе, видимо, для развлечения.
— Интересно, что ему это дает, — заметила миссис Эбатнот. — Контраст между нашими большими городами и нищетой Востока должен поражать таких людей. Лотти, дорогая, пожалуйста, отойди под навес. Веснушки — это так некрасиво.
— Да, мама, — пробормотала Лотти, глядя на компанию офицеров в дальней части палубы. «Может быть, думала она, веснушки и не идут женщине, но мужчину они могут украсить».
Лейтенант Эдвард Инглиш был крепкий молодой человек, со множеством веснушек, рыжих волос и обаяния. Его голубые глаза с восхищением смотрели на хрупкую Лотти, которая пришлась ему по душе. Он, не теряя времени, познакомился с ней, но ее мама, считавшая, что поощрять такие контакты пока преждевременно, старалась держать его на расстоянии. Конечно, ей хотелось выдать свою дорогую Лотти за достойного человека, но был ли таковым Эдвард Инглиш? Надо еще посмотреть. Времени впереди много, много и других мужчин на борту.
Среди других молодых леди следовало упомянуть мисс Делию Гарденен-Смит. Она претендовала на звание красавицы, что тревожило сердца мамаш, имевших девиц на выданье. Она была высокая, голубоглазая, склонная к полноте, с красивыми густыми каштановыми волосами. Ее мать утверждала с гордостью, что ей говорили, будто таких красивых волос не было даже у императрицы Евгении.
Гарденен-Смит — старшая, дальняя родственница одного пэра, была очень высокого мнения о своей породе, но, узнав, что с миссис Эбатнот едет девушка с титулом, родственница графов Уэйров, решила познакомиться с ней. Она сказала, что Лотти — славная девушка, а София — очаровательный ребенок, но она не знала, что сказать о контессе де лос Агвиларес. Как и другие женщины, она не могла восхищаться ее необычной красотой.
— Так ее отец был испанец? Жаль, у нее какая-то желтая кожа, и уж слишком черные волосы. А глаза! Боюсь, на востоке ее примут за свою. И по-моему, она очень скрытная.
— Пожалуй, застенчивая, — сказала миссис Эбатнот. — Она, бедная, сирота. Но она милый ребенок, и совсем не зазнается. По-моему, мистер Бартон просто счастливчик.
Зато необычный стиль Винтер пришелся по вкусу пассажирам-мужчинам. Особенно, кажется, полковнику Мулсону. Он был холостяком и бабником, и считал себя знатоком женщин. Постарев, он был вынужден платить за то, что раньше давалось само, но тщеславие не позволяло ему признать этого. Он особенно любил молоденьких, и ни одна девушка не была в безопасности от его назойливых ухаживаний. Неопытных и робких Лотти и Софию он просто запугал, но холодные темные глаза Винтер смотрели сквозь него, что никак не могло ему понравиться. И это несмотря на заверения, что он чувствует за нее особую ответственность, как за невесту лучшего друга.
Винтер удивлялась, как такой неприятный человек может быть другом Конвея, но думала, что тот по долгу службы может быть в дружеских отношениях с людьми, с которыми не стал бы дружить по личному выбору. Ради Конвея она была с ним вежлива, тем более, что здесь было нетрудно не оставаться с ним наедине, а другие мужчины также были рады пообщаться с ней.
И только один джентльмен не интересовался ею: капитан Рэнделл сказал ей не больше десяти слов, после того как она стала выходить из каюты, и, хотя он приятно общался с миссис Эбатнот, заслужив самое лестное мнение этой доброй женщины, — он ни разу не присоединился к компании вокруг невесты Бартона, и она решила, что он сознательно ее избегает.
Открытие это было для нее не из приятных, и ей пришлось напоминать себе, что он враг Конвея, и что если бы он не избегал ее, она сама была бы вынуждена это делать. То, что он в начале путешествия помог ей и ухаживал за ней с фамильярностью, извинительной только для брата, не должно перевешивать его неверности комиссару. Наверное, он и сам понимает это, потому и держится в стороне. Она не понимала лишь, какое ей до этого дело? Она даже стала сравнивать его с Конвеем, чтобы убедиться, что тот лучше.
Алекс Рэнделл был тонок, смугл и, конечно, хорош собой. Остро глядящие серые глаза были обрамлены ресницами, почти такими же длинными, как у нее самой. Хотя он был не выше среднего роста (Конвей был, по ее воспоминаниям, необычайно высок), капитан выглядел благодаря стройности и осанке, несколько выше. Но рядом с синеглазым здоровяком Конвеем Алекс казался невидным, а роскошные пшеничные усы Конвея делали его мужественнее, и он очень выигрывал рядом с немодно выбритым капитаном. К тому же Конвей великодушен, честен, и не станет, уподобляясь Рэнделлу, плохо говорить о человеке за его спиной.
И все же непонятное чувство недовольства оставалось. Мог бы он в конце концов хоть поговорить с ней? Ведь его же послали охранять ее и заботиться о ней. Тут не было кузины Джулии, с ее вечными нотациями, миссис Эбатнот была сама доброта, и Винтер должна была быть счастливой. Но этого не произошло. Несмотря на доброту новых друзей, внимание пассажиров, ее беспокоили какие-то смутные страхи и сомнения. Она не понимала саму себя, ругала себя за это, но продолжала искать глазами Рэнделла со смешанным чувством неприязни и невольного любопытства.
Однажды вечером она встретилась с ним в темном коридоре, который вел в каюту. Он посторонился, пропуская ее. Она уже собралась пройти, прижав свои широкие юбки, так как коридор был узким, но вдруг остановилась, и ее кринолин, расправившись, коснулся обеих стенок коридора, так что капитану невозможно стало пройти. Она сказала, запинаясь:
— Я… я так и не поблагодарила вас за… помощь. Вы были так добры, и я не хочу казаться неблагодарной.
Алекс молча поклонился. Бледные щеки девушки вдруг вспыхнули румянцем, и она сказала очень тихо:
— Сожалею, что… ударила вас тогда хлыстом. Это было совершенно непростительно.
— Но вполне понятно, — серьезно ответил Алекс.
Она ожидала, что он сам извинится за то, что говорил тогда, или возьмет свои слова назад, но он молчал.
Она покраснела сильнее и высокомерно подняла голову, после чего снова взялась за юбки, как вдруг корабль качнуло от внезапного порыва, и на минуту она упала на него и снова оказалась невольно в его объятиях, и снова ощутила чувство надежности, как уже было в начале путешествия. Она подняла голову с его плеча, увидела в его глазах что-то не очень похожее на злость и поспешно удалилась восвояси.
Больше Винтер не пыталась с ним заговорить. Они время от времени обменивались учтивыми репликами, и трудностей с ним у нее больше не возникало.
Глава 9
«Сириус» делал недолгую остановку на Мальте, и большинство пассажиров готовилось устроиться в гостинице, радуясь возможности отдохнуть от корабля. Но неполадки с машиной задержали их на несколько часов, и, когда они вошли в гавань Карантин, уже всходила луна.
Миссис Эбатнот ввиду позднего часа была склонна остаться на борту, но дочки уговорили ее все же сойти на берег, куда и отвезла их портовая шлюпка. Ужин и номера были приготовлены в отеле «Империал», и после ужина миссис Эбатнот сразу отошла ко сну.
Винтер снова оказалась соседкой Лотти. И, несмотря на поздний час, спать ей не хотелось. Как приятно было снова стоять на твердой земле и вдыхать запах цветов. Сам ночной воздух полутропического Юга волновал ее кровь, так что она и не думала ложиться.
Их комната выходила в пассаж, обрамлявший внутренний дворик, где росли роскошные тропические растения. Дверь, ведшая в пассаж, была открыта, и Винтер, отодвинув тяжелую штору, выглянула наружу.
В дальней части дворика, там, где светился крошечный огонек, курил сигару высокий молодой человек. Винтер с минуту вглядывалась в него, а потом тихо позвала:
— Лотти?
— Да?
— Тебе нравится мистер Инглиш?
Та слегка ахнула.
— Винтер! Как ты можешь?.. Ну, я… Конечно, он очень приятный, но мама…
— Он сейчас там, во дворике. Смотрит на нашу комнату.
Винтер услышала шуршание платья позади, и вот уже Лотти стояла рядом. Винтер сказала:
— Я не думаю, что ты себя скомпрометируешь, если выйдешь… ну, посмотреть на цветы. Они так прекрасны!
— О, нет… мне нельзя, — пролепетала Лотти.
— Почему? Твоя мама ничего не имеет против мистера Инглиша. Я слышала, она говорила миссис Гарденен-Смит, что он очень приятный молодой человек и родственник Гринвуд-Темпестов.
— Да, — сказала Лотти грустно, — мама не против него, но…
— Но что?
— Но… она считает, что я слишком молода, чтобы решать сама то, что касается джентльменов. Она говорит, что у меня будет еще не одна возможность встретить и более подходящего джентльмена, и она не хочет, чтобы я делала выбор, прежде, чем… чем такая возможность появится.
— А ты сама как думаешь? Изменит ли такая встреча твои чувства?
— Нет! — вскрикнула Лотти после некоторого молчания. — Но мама не разрешает мне говорить с ним иначе, как в ее присутствии. И… я не могу выйти. Это будет неприлично и как не подобает леди.
Винтер помолчала немного. Потом сказала:
— Один человек недавно дал мне совет. Он… Говорят, что здравый смысл почти всегда предпочтительнее, чем рабское следование условностям. Я часто об этом думала, и мне кажется, в этом есть смысл. Я думаю, что выйти во двор для тебя — значит, не следовать условностям.
— Мама… мама увидит…
— Но окна ее спальни выходят не сюда. — Винтер посмотрела на Лотти и вдруг рассмеялась. — Нет, Лотти, ты права. Никуда не надо ходить. Я сама не знаю, что со мной сегодня. Я ввожу тебя в искушение, а тебе следует сказать: «отыди, Сатана», помолиться и лечь спать. А потом ты когда-нибудь выйдешь замуж за какого-нибудь почтенного джентльмена с огромным состоянием и скажешь: от какой напасти я спаслась на Мальте!
— И это — здравый смысл? — спросила Лотти, также рассмеявшись.
— Думаю да, но точно не знаю.
— А я знаю. Точно знаю. — Она быстро чмокнула Винтер в щеку и выскользнула в пассаж.
Винтер наблюдала, как она появилась из темноты в свете луны, и как высокая фигура из дальнего конца дворика направилась к ней. Потом заросли олеандра скрыли их от ее глаз. Она снова засмеялась, потом вздохнула и вернулась в комнату. Однако желания спать у нее не было. А жаркая ночь и яркий лунный свет постоянно беспокоили ее, словно звали куда-то.
Повинуясь внезапному импульсу, она подняла широкие юбки и сняла кринолин, упавший на каменный пол. Затем она нашла среди своих вещей, принесенных с корабля, черную кружевную шаль, накинула ее на голову и на цыпочках вышла на улицу. Пассаж был темным, его лишь пересекали полосы света, выходившие из окон и дверей. У стен стояли каменные скамейки, и одна из них была занята. Винтер подумала, что лейтенант хорошо проводит время. Ей самой не хотелось оставаться во внутреннем дворике, и через несколько минут, не встретив никого, кроме нескольких заспанных слуг, она вышла с территории отеля и быстро пошла куда-то по темной улице.
Там было немного людей, а те кто был, не смотрели на нее.
Прошла компания подвыпивших моряков, распевающих «О Полли, попробуй со мной…», и потом появилась еще группа военных, распевающих душещипательную песенку «Плыли по небу…», жалобу о потерянных грезах и надеждах, и о бедном, милом Чарли.
Улица вывела на пустынную площадь, засаженную деревьями и окруженную домами с глухими стенами и плоскими каменными крышами, и Винтер пересекла ее, стараясь держаться в тени, не привлекая внимания, а ее легкие туфли позволяли ей бесшумно ступать по пыльной мостовой. Она увидела высокую стену, всю увитую пахучими ползучими растениями, цвет которых трудно было разобрать в лунном свете. Над ней возвышались вершины двух кипарисов и оранжевых деревьев, а рядом росло причудливо искривленное фиговое дерево. Винтер поглядела на него и подумала, что оно представляет собой прекрасную лестницу. Еще через несколько минут она, смеясь и слегка задыхаясь, достигла широкой вершины стены.
По другую сторону ее был большой сад, примыкавший к частному дому где-то за апельсиновыми деревьями и алоэ, по ту сторону широкой лужайки. Ночь была такая тихая, что еще слышен был слабый звук голосов, певших «Плыли по небу…», а где-то там, в доме кто-то играл грустную мелодию на гитаре и пел песню на не известном ей языке. За садом и домом с плоской крышей открывался вид на гавань и отсюда местами была видна темная гладь Средиземного моря. Южная ночь была по-прежнему тихой, лунной, таинственной и манящей, как все южные ночи.
Захваченная этим очарованием, Винтер вздохнула полной грудью и уселась в тени фигового дерева, прислонившись к какой-то удобной ветке, росшей параллельно стене, с трех сторон скрытая листвой и побегами вьющихся растений. Она почувствовала, что в ее душе что-то освободилось, словно бы раскрылась по весне почка. Лед в ее сердце растаял, и кровь молодого де Баллестероса пробудилась к жизни в его дочери.
…Огни в домах гасли один за другим, луна опускалась все ниже, тени в саду меняли очертания. Ночная бабочка, привлеченная запахом цветов, пролетела совсем рядом. Певец в доме за деревьями умолк, и ночь стала тихой-тихой. Винтер даже слышала постукивание копыт небольшого стада коз, прошедшего по пустынной площади. А затем она услышала тихие шаги человека, шедшего к ее стене. Потом вдруг этот человек остановился у старого фигового дерева, а затем она услышала скрип, и ветка, к которой она прислонилась, слегка дрогнула. Кто-то карабкался по дереву, как она сама только что это сделала…
Винтер съежилась в своем укрытии, затаив дыхание. Ее черное платье не видно было в темноте, и ей стало ясно, что человек, влезший на стену на расстоянии протянутой руки от нее, ее не заметил. Он был в темном бесформенном одеянии (может быть, закутался в плащ), и лица его она не видела, но слышала частое дыхание. Затем он нагнулся, видимо, заглядывая в сад, и осторожно спрыгнул вниз, в заросли олеандра и герани у стены внизу, и там точно растворился.
Звуков больше не было, но Винтер была уверена, что он где-то поблизости. Кто это, вор, который собирается вломиться в дом в саду? Или какая-то мальтийская Джульетта ожидает своего Ромео в тени деревьев? Это — ночь любви и любовников, но в этом безмолвном, быстро двигавшемся незнакомце было что-то такое, отчего по спине у Винтер побежали мурашки, и она застыла, боясь пошевелиться, чтобы не привлечь внимания притаившегося человека. Потом в доме за деревьями открылась дверь, и на темном фоне возник желтый прямоугольник света. Винтер вздохнула с облегчением и чуть не рассмеялась над собой. Наверное, тот кто перелез через стену, обошел сад и постучался в дверь, а в этом нет ничего страшного. Она услышала донесшиеся от двери приглушенные голоса и звук шагов по мощеной дорожке. А еще через минуту в сад из тени алоэ вышли три человека.
Они остановились в месте, освещенном луной, и тут заговорили так тихо, что и в ночной тишине она слышала лишь отдельные слова. Они говорили по-английски, но звучание их речи было совершенно не английским, очевидно, они говорили на этом языке просто потому, что он был единственный для них общий. Тут до нее донеслась одна фраза, странная на островке в Средиземном море.
— …как перед выступлением марахтов. Только тогда было просо, а теперь бакри.
Один из них усмехнулся.
«Бакри, — подумала она, вспоминая недавно прошедшее по площади стадо коз. — Кто это говорит здесь про нападение марахтов и употребляет слово «козел» на хинди?»
Один из троих курил сигару, до нее донесся запах табака. Это был высокий, богатырского сложения человек с бородой, рядом с которым казались низкорослыми двое собеседников — маленький толстяк и стройный мужчина среднего роста, и Винтер решила, что это он перелез через стену — он был в темном плаще, к тому же высокий был слишком здоровый, а толстый — слишком низкий.
Она почувствовала, что ее ноги затекли, но не двигалась. Она не думала, что должна бояться, но не хотела, чтобы ее заподозрили в покушении на частную собственность, тем более, что по необычному пути, которым проник в дом третий человек, было ясно, что он не хотел, чтобы о его визите знали.
Высокий сказал громко что-то вроде: «Kogo Bog zakhochet nakazat, togo sperva lishit razuma»[2], но она не знала, что это значит и не узнала языка, на котором он говорил. Потом вдруг трое пошли по лужайке прямо к ней, она подумала, что ее заметили. Но они остановились ярдах в пяти от места, где она сидела, и только тут она поняла, что в стене была дверь, которой с этой стороны было не видно в тени большого дерева. Потом она услышала, как ключ повернулся в замке, заскрежетал болт, и невидимая дверь открылась. Она видела лица двоих, но человек в темном плаще стоял спиной, и голос его был смутно знаком ей.
— Нам будут нужны деньги, много денег.
Высокий коротко рассмеялся:
— Вечно эти деньги! Одна и та же песня. Мы, богатая страна, остаемся бедными, потому что тратим свои богатства на других.
— Подкупаете, друг мой, — сказал тихо толстяк. — Вы пускаете хлеб свой по водам, разве не так?
— Конечно, — сказал здоровяк и снова рассмеялся. — Мы не дураки. Год ли, сто, двести лет, все одно. Мы умеем терпеть и ждать. Наш хлеб вернется к нам рано или поздно.
— Но цены растут, — пробормотал тонкий. — Тридцати серебреников теперь уже недостаточно. Теперь надо триста, три тысячи, а там — и триста тысяч.
Винтер видела, как высокий нахмурился, затем снова рассмеялся и сказал:
— Будьте довольны, что за это платят. Значит, через четыре месяца. Do svidanija[3].
Маленький толстяк вышел в дверь, а за ним, с восточным жестом прощания — и тонкий, в темном плаще, и тут лунный свет упал на его лицо. Винтер узнала в нем пассажира с «Сириуса». Это был Кишан Прасад.
Дверь снова скрипнула, потом загремел болт и повернулся ключ. Высокий подождал, пока шаги стихли и снова нахмурился. Он откашлялся и сплюнул презрительно, затем повернулся и зашагал к дому. Через пару минут светлый прямоугольник исчез, звякнула цепь, и снова наступила тишина.
Винтер вздохнула с облегчением и собралась слезать, но ее остановил какой-то звук. Внизу зашуршали листья, и кто-то вздохнул, словно вторя ей. И тут она в страхе поняла вдруг, что тот, кто перелез через стену, был не Кишан Прасад, и он не ушел. Он все время был внизу, затаившись в кустах, так близко, что она могла бы слышать его дыхание, И вот он выбрался из своего убежища на свет. Он был без шляпы, но голова его была на восточный манер обернута материей — странный наряд для душной ночи, но понятный при желании скрыть лицо.
«Если он полезет обратно через стену, — в тревоге подумала Винтер, — то не сможет меня не заметить». Ветви и вьющиеся растения закрывали ее с внешней стороны стены, но с этой ему придется подпрыгнуть и он может ее увидеть. Может быть, удастся сообразить, можно ли без шума спрыгнуть на землю. Здесь всего футов восемь, а внизу можно будет пробежать по площади, быстрее, чем он ее увидит.
Она осторожно пошевелила ногой, но недооценила того, что она затекла. Она почувствовала в онемевшей ноге сильную боль и невольно охнула. Человек внизу молниеносно дернулся, и лунный свет осветил пистолет, внезапно появившийся в его руке.
Винтер не стала ждать. При виде оружия она впервые испугалась по-настоящему. Она вскочила, одной рукой придерживая юбки, а другой — хватаясь за ненадежную ветку. Но затекшие ноги мешали ей. Человек внизу разбежался, подпрыгнул и схватил ее за ногу. Ветка в руке обломилась, и Винтер, вскрикнув от страха, обрушилась вниз вместе со своим захватчиком.
Тот подмял ее под себя, захватив мертвой хваткой так, что казалось, ее ребра вот-вот хрустнут. Лицо ее было прижато к его плечу, так что она не могла закричать. Она отчаянно сопротивлялась, извиваясь под ним, но тяжесть его тела и сила рук лишили ее возможности дышать, и она прекратила свои попытки и замерла. Он немного ослабил хватку, и она смогла вдохнуть глоток воздуха.
Он не двигался, и она поняла, что он прислушивается к каким-то звукам в саду. Может быть, звуки, вызванные их падением, услышали в доме и вернулся тот здоровяк. Если она сумеет закричать, то привлечет его внимание.
Она тихо лежала, собирая силы, потом открыла рот, чтобы заорать. Но вдруг она словно онемела, так как неожиданно, хотя и не видела его лица, она поняла, кто он, и пораженная, произнесла его имя:
— Капитан… Рэнделл?!
Рывком высвободив одну руку, он провел ею по лицу Винтер.
— Проклятие! — скорее выдохнул, чем произнес он.
— Что…
— Молчите! — ответил он свирепым шепотом.
Действительно, где-то поблизости был слышен слабый звук, но она не могла понять где, из-за собственного тяжелого дыхания. Она попыталась проконтролировать его, чтобы услышать то, что слышал он. И услышала едва различимые мерные звуки, казалось более слабые, чем ее собственное сердцебиение. Она почувствовала, что Алекс напрягся, стараясь не дышать. Звуки приближались, и тут она вспомнила, как звякнула цепь, и поняла, что тот высокий, очевидно, спустил собаку, и это ее лапы ступают по сухой земле. Потом она услышала фырканье, и в тишине вдруг раздался кошачий вой, а потом кусты затрещали и ночная тишина взорвалась лаем.
Почти тут же Алекс вскочил, поднял Винтер и подсадил на стену. Он не тратил время на слова, да это было и не нужно. Она ухватилась за ветвь фигового дерева. Взмахнув ногой, она обрела равновесие, услышав позади проклятие, произнесенное сдавленным голосом, — и почувствовала себя в безопасности.
Глава 10
Она обернулась, увидев, как Алекс разбежался и снова подпрыгнул, затем схватила его за плечи и потянула изо всех сил. Через минуту они были уже внизу, с внешней стороны стены. Алекс схватил ее за руку, и они побежали, держась в тени от стены. Он протащил ее через площадь, и они свернули в узкую улочку между домами, после чего, свернув резко направо, они оказались на площади поменьше, где над широкими каменными ступеньками возвышался резной фасад церкви. Тут Винтер, переставшая поддерживать юбки, запуталась в них и упала бы, если бы Алекс не держал ее за руку.
Она схватилась за бок, чувствуя, что ей нечем дышать из-за корсета, который свел ее и без того тонкую талию всего к восемнадцати дюймам, и сказала, задыхаясь:
— Плохо… не могу бежать…
Выдернув свою руку, она, спотыкаясь, дошла до ступеней церкви и села на теплый камень, прислонившись спиной к перилам.
Алекс подошел, хмуро поглядел на нее, и она с минуту смотрела на него, глубоко дыша, чтобы набрать воздуха в легкие. Затем вдруг она неожиданно рассмеялась.
Это был радостный, веселый смех, полный отчаяния юности и сродни очарованию лунного света. Алекс слушал его с восхищением. Он ожидал слез, истерики, но не смеха. Он несколько мгновений удивленно смотрел на нее. Потом вдруг тоже сел с ней рядом и рассмеялся.
Они сидели рядом и смеялись, и их смех эхом отзывался среди каменных построек.
Первым перестал смеяться Алекс и резко спросил ее:
— Что вы делали там?
— Смотрела на луну, — ответила Винтер.
Алекс схватил ее за запястье:
— Говорите правду, пожалуйста.
— Но это правда, — возразила она, все еще смеясь. — Я думала, это все из-за корабля и из-за этой тесной каюты, где мы были с Лотти. Так славно было вновь оказаться на берегу, вдыхать запах земли и деревьев. И ночь была удивительная. Ложиться спать мне не хотелось. Мне захотелось погулять, и я стала бродить по городу. На стену было легко залезть благодаря дереву, а я хотела только посидеть наверху, посмотреть на луну и подышать запахом цветов.
Его пальцы сильнее сдавили ее руку, он долго изучающе смотрел на нее и наконец спросил:
— Так ли это?
— Да. Я хотела убежать, когда вас увидела, но у меня онемели ноги. Поэтому вы поймали меня.
Алекс отпустил ее руку и напряженное выражение на лице исчезло. Он посмотрел куда-то в сторону темных домов, окружавших церковь, видя, что он снова нахмурился, она спросила с любопытством:
— А вы что там делали? Следили за Кишаном Прасадом?
Алекс никак не отреагировал, но она заметила происшедшую в нем перемену. Он молчал так долго, что она даже подумала, что он не ответит. Но он повернулся, взглянул ей в лицо и сказал:
— Да. Мне нужно было знать, с кем он встречался. И теперь я знаю это.
— Кто они, те люди? — спросила Винтер. — Что они делали там?
— Дьявольский заговор. Один из них русский, другой — перс, третий — человек, которого я знаю уже три года.
— Кто он? Расскажите мне о нем.
— Кишан Прасад? Выходец из знатнейшей семьи Рохилькида. Очень умен и очень озлоблен, а это весьма опасное сочетание. Учился в лучшем колледже в Индии и получал высшие оценки по всем английским предметам. Изучал инженерное дело для службы в Компании и был лучшим на курсе, имея оценки выше, чем европейцы. Но так как он не европеец, он смог стать всего лишь джема даром, — это в Компании самое младшее звание для индуса, и оказался в подчинении у сержанта-европейца, человека, уступавшего ему во всех отношениях, но при этом — тщеславного, наглого, тупого, и тот не упускал случая оскорбить его. Цивилизация индусов насчитывает тысячи лет, они уже писали книги, когда мы в Европе жили в пещерах. А Прасад был гордым уроженцем княжеского рода. Он нашел свое положение унизительным и уволился со службы. А мы, допустив это, потеряли хорошего работника и нажили опасного врага… Год назад он отправился в путешествие по Европе. Странное для такого человека дело, ведь он заплатил большие деньги своим браминам, чтобы вернуть положение в касте, потерянное таким образом. Я последний раз видел его в Крыму, где он был свидетелем нашего поражения под Севастополем, и, вероятно, познакомился там с русскими агентами… а сейчас он возвращается на родину. Никому из индусов не следовало бы разрешать видеть британскую армию в Крыму. Или — потом возвращаться и рассказывать, что они видели… — Алекс, кажется, обращался больше к самому себе, потому что голос его становился все тише.
Ветер подул вдруг с моря, поднимая пыль. Винтер поежилась. Но не от теплого ветра, а вспомнив про оружие в руках Алекса. Она спросила сдавленным голосом:
— А вы его… хотели убить?
— Убить? — Алекс вдруг засмеялся. — Нет, к сожалению, легкое отношение к убийству чуждо британскому темпераменту. А иногда об этом можно пожалеть.
— Пожалеть? Но ведь убивать нельзя!
— Вы говорите, как христианка или как человек?
— Разве это не одно и то же?
— Да нет, не совсем. Пятая заповедь гласит «Не убий». Но что, если, подчиняясь ей, мы обрекаем на смерть тысячи невинных?
— Не понимаю, — задумчиво сказала она.
— Да? А я видел многих людей в Индии, и в Крыму тоже, чью тупость превосходило только их самодовольство, но при этом они имели власть только благодаря рождению или богатству. Их преступная глупость не только может обречь на гибель тысячи людей, но посеять семена вражды, отравляющей жизнь нескольких поколений. Если вы видите сумасшедшего с факелом, который хочет поджечь дом, где сгорят сотни беззащитных детей и женщин, и убить его — единственный способ предотвратить это — то будет ли это убийством или гуманностью?
— Нельзя оправдывать убийство, — сказала Винтер.
— Я не оправдываю. Но о каком убийстве вы говорите? Об убийстве сумасшедшего или людей в доме?
Он заглянул в ее испуганные глаза и рассмеялся.
— На это нет ответа, правда? Может быть, есть на небесах, но не на земле. Вот почему я иногда сожалею, что британцы находят убийство социально неоправданным. — Он вдруг грустно улыбнулся и добавил: — Не знаю, почему я вам все это говорю — наверное, чтобы оправдать свою неспособность совершить убийство.
Он встал, и луна осветила пистолет, который он заткнул за пояс.
— Пора возвращаться в отель, — сказал он. — Мисс Лотти уже наверное, подняла тревогу, и мне очень сложно будет объяснить все вашей компаньонке.
Винтер улыбнулась:
— Не думаю, чтобы Лотти сегодня заметила мое отсутствие.
— Если так, я надеюсь также, что она не заметит синяка, который утром, несомненно, будет у меня под глазом.
— О! Я лягнула вас? Я боялась, что… вы…
— Ну, если оценить ситуацию, то я еще легко отделался, — усмехнулся Алекс. Он помог ей подняться, и они пошли по тихим улицам.
В отеле было темно, и луна больше не освещала дворик. Но в окне их с Лотти спальни все еще горела лампа. Винтер остановилась у входа и повернулась к спутнику, похожему на тень.
— Капитан Рэнделл…
— Контесса?
Формальное обращение удивило ее, она помолчала немного, пытаясь в темноте различить выражение его лица. Ей показалось, что он улыбался, но она не была уверена, а все, что она хотела сказать, вылетело из головы. Луна уже опустилась к горизонту, а звезды стали светить ярче. Падающая звезда прочертила яркий след в темном небе. В тишине ночи был слышен далекий рокот волн, спокойное дыхание Алекса и стук ее сердца. Она вдруг поняла, что ждет чего-то.
В ночном аромате смешались запахи цветов, земли, моря, и был он удивительно пьянящим и похожим на чарующую музыку. Винтер вдруг почувствовала фантастическое и необъяснимое побуждение: коснуться руками головы Алекса и привлечь его к себе. Она словно уже ощутила его густые волосы под своей рукой… погладила по голове и коснулась его теплых губ. Но тут, где-то за отелем, раздался крик петуха, и этот неожиданно громкий звук разрушил очарование ночи и стряхнул с Винтер навеянный этой ночью сон. Она вдруг почувствовала ужас и стыд, повернулась и побежала через пассаж, словно ее преследовали фурии.
Лотти не спала. Винтер погасила лампу, разделась и улеглась, дрожа от непонятного потрясения. Она сама себя не понимала. Ведь не была же она влюблена в капитана Рэнделла! А как может нравиться человек, который так говорил про Конвея? Но минуту назад, сделай он малейшее движение к ней, она была бы в его объятиях. Она с дрожью вспомнила, что только крик петуха, давний символ измены, спас ее самое от измены Конвею. Она не лучше какой-нибудь Эммы Болтон, служанки, которую выгнала домоправительница.
Считалось, что Винтер и Сибелла не должны знать о причинах этого, но Сибелла рвала тогда розы под открытым окном миссис Флекен и слышала ту драматическую беседу разъяренной домоправительницы с невменяемой горничной. «Она целовалась с Томпсоном, — взахлеб рассказывала потом Сибелла, — и миссис Флекен сказала, что она — плохая женщина и плохо кончит».
«И я не лучше», — думала Винтер, сгорая от стыда. — Только нехорошей женщине могло прийти в голову такое!..»
Она уткнулась лицом в подушку и заплакала.
Алекс после ее бегства еще немного постоял, глядя ей вслед, затем, привалившись к стене, стал смотреть в темноту невидящими глазами. Мысли его были неприятными, но думал он не о Винтер. И когда он вернулся в свою комнату, заснуть не мог.
Он лежал и думал об Индии, о напрасных предупреждениях таких, как Генри Лоуренс, о страшной глупости таких, как Конвей Бартон, о шепоте шпионов, об индийском жреце, которого видел в резиденции комиссара, о лице Кишана Прасада, наблюдавшего поражение британской армии под Реданом во время Севастопольской битвы.
Он вспоминал тех троих, которых видел недавно в саду, понимая, что утром надо будет поговорить с губернатором. Хотя ясно, что толку от этого будет немного: в Париже заключен мир, и нельзя запретить Григорию Спаркову, купцу, гражданскому лицу, приезжать на Мальту, Мухаммеду Раширу, сыну француженки и отпрыска персидского вельможи, жить в доме мальтийского еврея, а Рао Кишану Прасаду, уроженцу Индии и пассажиру «Сириуса», разговаривать с любым из них или с ними обоими.
Есть в Индии немало служащих из «Молодых людей Лоуренса», которые знают многие языки и наречия, пытаются понять людей, среди которых живут и работают, и относятся к ним с симпатией, и они чуют приближающуюся бурю. Но их гораздо меньше, чем самоуверенных, склонных к иллюзиям или просто тупых. А сановники Компании пресекают всякие разговоры об угрозе общего восстания, как истерию или необоснованные страхи впечатлительных людей. Командиры полков, связанные со своими людьми годами службы, воспринимают разговоры о мятеже, как оскорбление, а тех, кто их предупреждает, считают трусами и провокаторами. Самодовольство царит наверху, а те, кто не хочет видеть — хуже слепых.
Алекс беспокойно вертелся, словно надеясь стряхнуть с себя тревожные мысли. Кишан Прасад… Еще одна жертва психологии Конвеев Бартонов. Человек умный, образованный, одаренный, талант которого пропал даром просто из-за цвета кожи, а честолюбие и энтузиазм были сломлены злобным болваном, уступавшим ему во всем, кроме грубой силы. Алекс давно подозревал, что Прасад участвует в мятежной деятельности, и докладывал об этом мистеру Бартону. Комиссар требовал доказательств, которых не было: Алекс основывался на интуиции, опыте, слухах, а не на фактах. Он пытался принять свои меры, ограничивающие активность Кишана Прасада. Но все это игнорировалось. И было это вскоре после того, как сказочный камень, который Алекс видел на ручке Винтер, стал собственностью комиссара. Может быть, совпадение, а может, и нет.
Кишану Прасаду позволили беспрепятственно везде разъезжать, побывать в Крыму, встречаться с русскими и персидскими агентами. И Алекс ничего не может с этим поделать, если только не совершит убийства. Почему человек убивает человека в жаркой битве или по холодному повелению закона, но не может просто хладнокровно убить типа, который опасен, как заряженный пистолет в руке ребенка или (о чем он говорил Винтер) — как горящий факел в руке сумасшедшего… Алекс слышал часть истории Винтер от комиссара и теперь вспомнил, что ее отец погиб во время злосчастного отступления из Кабула. Его смерть на совести безответственных поджигателей Афганской войны, а также — на совести старого маразматика, командовавшего войсками в Кабуле. Тупость и бездарность лорда Элфинстоуна была очевидна всем в его штабе. Но не существовало законной возможности убрать его и обезопасить себя от его идиотских приказов. Не могла ли вовремя посланная пуля спасти тогда шестнадцать тысяч человек от мучительной смерти? Это, думал Алекс, споря сам с собой, как тогда с Винтер, запрещено делать людям. Но почему? Не потому ли, что тогда это было бы Евангелие насилия, что вызвало бы худшие последствия, чем гибель невинных? А тот же Кишан Прасад — изменник, с одной точки зрения, но достоин похвалы, с другой. Бритон, восставший против римлян, был героем для соотечественников, но был повешен римлянами, как преступник, а Кавальер, шпионивший в пользу короля Карла, был предателем для людей Кромвеля… Если Прасад участвует в заговоре против правителя, поставленного Компанией, кто он — изменник или патриот?
Но до каких пор он, Алекс, будет рассматривать все «с одной стороны и с другой стороны»? Разве нельзя просто верить, как Лоуренс, Николсон или Эдвардс в божественное право англичан править другими? Лоуренс и Николсон были кумирами Алекса, но верить, как они, он не мог. Он работал так же, но по другой причине: будет, думал он, лучше для англичан, для индусов и для мира в целом, если англичане, а не русские будут править Индией.
Хотя об этом мало кто знал, его имя было производным от русского. Его отец бывал в молодости в Петербурге и подружился там с русским офицером. Много лет спустя, уже в Индии, он назвал сына в честь друга. Алексей Ланович считался крестным отцом мальчика. Но местный священник не смог или не захотел ломать язык ради странного заграничного имени и окрестил ребенка «Алексом», а не «Алексеем». Так он и был зарегистрирован в индийском поселке, где родился.
Когда Алекс был уже подростком, отец возил его в Россию, и эта огромная загадочная страна поразила тогда воображение мальчика. Россия была для него врагом номер один, которого следовало бояться больше других даже из-за огромности ее пространств, неуязвимых для нападения, что на своем опыте узнал Наполеон. Россия могла, отступая, завлечь вражескую армию в свои бескрайние просторы, на свою безмолвную, таящую что-то землю, распростершуюся от границ Польши до Берингова пролива, омываемую шестью морями: Беринговым, Ледовитым океаном, Балтийским, Черным, Каспийским и Охотским. Она превосходит по территории все известные государства Европы и Азии, Россия с холодными глазами, терпеливо ждущая, затаившая пламя своей веры в предначертанное ей судьбой господство над миром…
Алекс всегда помнил год, проведенный в России. «Мы должны удержать Индию, — думал он, — должны удерживать ее до тех пор, пока она не укрепится и не сможет держаться сама, по этой причине, а не потому, что говорят дураки вроде Бартона».
Бартон… сколько уже вреда принес он в Лунджоре за последние годы? Такие, как он, вообразили, что сама их принадлежность к расе завоевателей — основание, чтобы на них смотрели с рабским страхом и почтением. Им и в голову не приходило, что их жестокость, распутство, взяточничество воспринималось местными жителями с гневом и презрением, ибо эти чувства не отражались на непроницаемых восточных лицах.
И тут Алекс впервые вспомнил о Винтер де Баллестерос, невесте Бартона. Редкая девушка, подумал он с улыбкой. Когда он схватил ее на стене — не закричала, не лишилась чувств, а стала бороться с ним, как тигренок, и спокойно лежала, когда приближался тот сторожевой пес. Потом бежала вместе с ним, пока хватило сил, потом не заплакала, не раскричалась, а засмеялась. Куда там до нее этому пройдохе Конвею Бартону.
Алекс уже не очень верил в эту свадьбу. Эта девушка явно живет воспоминаниями детских лет, а Конвей Бартон в 1856 году должен очень мало напоминать тогдашнего. Так что ее должно ждать тяжелое разочарование. Раньше Алекс думал, что в чужой стране без близких друзей у Винтер может все же не остаться другого выбора, нежели это крайне неприятное замужество. Но теперь он так не считал. Девушка с таким характером могла отказаться от своего решения даже перед алтарем. Во всяком случае, он на это надеялся.
Может быть, сегодня ночью надо было поцеловать ее? Там, у входа, был момент, когда, это он точно знал, достаточно было лишь коснуться ее, чтобы это произошло. Он не знал, что удержало его, но, конечно, не преданность комиссару. Было ли тут смутное чувство самосохранения, боязнь сделать шаг, после которого возврата назад уже не будет?
Алекс заметил, что звезд уже не стало в небе за окном, и забрезжил свет, знаменующий новый день. Из порта и города донеслись первые утренние звуки. Он повернулся на бок и заснул.
Глава 11
На следующее утро Винтер проснулась поздно и обнаружила, что Лотти уже встала и оделась, оробевшая и охваченная трепещущей тревогой при воспоминании о своем безрассудстве прошлым вечером.
— Просто представить себе не могу, как я могла себя вести настолько не похоже на леди, — выдохнула Лотти, прижимая ладони к пылающим щекам.
— Как ты думаешь, Винтер, он знает? Что я выходила из-за того, что он там, а не для того, чтобы посмотреть на цветы?
— А ты сожалеешь о том, что выходила? — задала Винтер прямой вопрос.
— О, нет! — душераздирающе вздохнула Лотти. — Он сама доброта и благородство. Я знаю, что не ошибаюсь. И… он любит меня! Он сказал мне это и собирается поговорить с мамой при первой же возможности и, разумеется, с папой, как только мы достигнем Калькутты. Как ты считаешь, правильно ли быть такой счастливой, ведь он не должен был вести себя так дерзко?
— Ты просто прелесть, — проговорила Винтер, целуя ее, — но боюсь, что порицания достойна, в первую очередь, я, и, если ты выйдешь за Эдварда и потом будешь всю жизнь мучиться, это будет целиком на моей совести. Я вела себя вчера вечером просто ужасно. Понять не могу, почему, но я слышала, что люди бесятся оттого, что спят при лунном свете. Как ты думаешь, это возможно?
— Вероятно. Я думаю, мы обе немного свихнулись вчера вечером, поскольку у меня в голове не укладывается, как ты осмелилась расхаживать по улицам без сопровождения. К тебе ведь могли пристать. Просто подумать страшно! У тебя в городе не было никаких происшествий?
— Нет, — кратко ответствовала Винтер.
Она надеялась, что Лотти не станет продолжать расспросы, что та слишком занята собственными чувствами и многочисленными совершенствами лейтенанта Эдварда Инглиша и не ошиблась.
— Он всего лишь второй сын, — пустилась объяснять ей девушка, — но у него неплохие перспективы и более чем достаточные знания вдобавок к хорошему жалованию. Конечно, это слишком торгашески — даже думать о деньгах, но я знаю, что в глазах мамы и папы это будет иметь вес, и я не могу не радоваться тому, что Эдвард вполне обеспечен. Он говорит, что влюбился с первого взгляда, когда увидел, как мы сходили с корабля на пристань. Странно, но я даже не заметила его. О, я уверена, что с мамой не будет никаких трудностей! А вдруг я сегодня вообще его не увижу?
Но лейтенант Инглиш, как оказалось, обладал решительностью, часто сопровождающей рыжеволосых и веснушчатых, и вскоре после завтрака семейство Эбатнот совершало прогулку под его руководством.
Винтер видела капитана Рэнделла за этот день всего лишь дважды. Она надела широкополую шляпу от солнца и в холле присоединилась к миссис Эбатнот, чтобы осмотреть город. Миссис Эбатнот в подобной же шляпе, сжимая в руках большой солнечный зонт, ридикюль и веер, беседовала с капитаном Рэнделлом. На секунду Винтер остановилась, когда увидела его, и он, вероятно, заметил эту невольную нерешительность, так как, когда она присоединилась к ним, он неулыбчиво наклонился и, осведомившись, хорошо ли она провела ночь, извинился и вышел на солнцепек.
Яркий свет обнаружил темный синяк у него на скуле, и миссис Эбатнот сообщила Винтер, что дорогой Алекс наткнулся в темноте ночи на открытую дверцу комода и что она посоветовала ему немедленно приложить арнику.
Позже тем же утром они еще раз мельком увидели, как он выходил из боковой двери губернаторского дворца в сопровождении дородной и довольно помпезной личности в военной форме, которая сильно потела от жары. На палящем солнце капитан выглядел усталым и хмурым и слушал собеседника с явным нетерпением. Он не видел группы Эбатнот и, резко поклонившись, поспешил в направлении Страда-Реаль.
Миссис Эбатнот сделала несколько покупок на случай, если это потребуется до того, как они прибудут в Александрию, и они вернулись в отель на ленч. Остаток дня прошел без каких-либо событий и, когда в этот вечер взошла бледная и огромная луна, чтобы повиснуть над сверкающей гладью Средиземного моря, напоминая очаровательный китайский фонарь, Винтер отвергла ее чары и спозаранку отправилась спать.
На следующий день они встали чуть свет, съели сдобу и выпили кофе под прекрасными сводами Коммерчи перед тем, как вновь погрузиться на «Сириус». И теперь островок исчезал в горячем мареве, вновь оставляя вокруг лишь синее небо сверху и еще более синее море вокруг, да белые барашки, бегущие за кормой.
Для Винтер долгие жаркие дни едва тащились, но Лотти и Эдвард находили, что они летят слишком быстро. Лейтенант, верный своему обещанию, в первый же день по выезде с Мальты подошел к миссис Эбатнот и попросил ее разрешения в присутствии отца Лотти сделать предложение ее дочери, не забыв добавить хотя и робкий, но вполне удовлетворительный отчет о своем финансовом положении, и был столь искренен и обаятелен, что сердце матери совершенно растаяло и она заверила его, что, хотя последнее слово, несомненно, за отцом Лотти, но, если дочь разделяет его чувства, она не будет препятствовать ее счастью.
И действительно, благодушно думала миссис Эбатнот, хотя ее дорогая Лотти могла бы сделать более блестящую партию, Эдвард Инглиш происходил из хорошей семьи и, по-видимому, имел как перспективы, так и достаточно нежные и искренние чувства. Так что все могло вполне хорошо уладиться.
По мере приближения корабля к берегам Египта жара усилилась. Море из синего стало зеленым, и нетерпеливые пассажиры толпились у гребного винта или свешивались с леера палубы, чтобы посмотреть на минареты и верхушки крыш, поднимавшиеся, казалось, прямо из воды. На борт был взят широкобородый мусульманин — лоцман, а часом позже на корабль взошли разнообразные египетские чиновники, и пассажиры сошли на берег, чтобы проехаться и полюбоваться гигантскими пальмами, белыми домами и стилизованными александрийскими экипажами.
Они покинули «Сириус» и добрались до Каира на поезде. На следующее утро и они вернулись, чтобы провести последнюю ночь на борту. Но спать могли лишь немногие, если вообще можно было уснуть, так как раскаленная земля отдавала им порывы ветра, напоминающие жаркое дыхание огромного зверя, а шум и гам арабов, грузивших на корабль уголь, продолжался при свете факелов всю ночь.
Винтер довольно легко переносила жару и могла бы немного поспать, если бы не шум. Но Лотти совершенно задыхалась и беспокойно металась по койке или ходила и смачивала лоб и руки водой, такой же теплой, как и сама ночь, пока Винтер решительно не поднялась.
— Я иду на палубу, — заявила она. — Не хочешь пойти со мной? Там будет прохладнее. Думаю, никто не может спать в таком шуме.
Но Лотти только покачала головой и растянулась на койке, а Винтер, взяв шаль, накинула ее и вышла из каюты.
Палуба представляла собой движущуюся мозаику черных, как деготь, теней, ярких оранжевых огней горящих факелов и мерцающих масляных ламп на подвозящих уголь лодках, но на первый взгляд, казалась совершенно пустынной, и Винтер осторожно отвернулась в сторону, укрывшись в густой тени, чтобы глянуть вниз на суетящихся угольщиков, которые копались в мрачном свете факелов; с согбенными, почти голыми телами, перемазанные угольной пылью и блестящие от пота, они выглядели, словно персонажи дантовского «Ада». За ними лежало, как черное маслянистое озеро, море, в котором отражались огни Александрии, едва подрагивающие на вялой, застывшей водной поверхности. Горячий воздух пахнул угольной пылью, потными телами, машинным маслом и Ближним Востоком.
К шумам ночи вдруг добавился взрыв хохота, и Винтер, быстро обернувшись, увидела спускающуюся с полуюта группу мужчин, отрезающую ей путь к отступлению. Они, очевидно, кутили на берегу и были изрядно под хмельком, и один из них рассказывал историю, которая, к счастью для нее, была ей большей частью непонятной, но тем не менее достаточно скабрезной, чтобы заставить ее покраснеть от стыда. К группе присоединился еще один мужчина, Винтер распознала в нем майора Реттрея, офицера en route[4] в Китай.
На майоре, тучном джентльмене, в этот момент не было ничего, кроме некоего рода набедренной повязки, и Винтер вдруг осознала, что остальные были одеты под стать ему. При этом открытии она явно осознала всю неуместность своего присутствия здесь. Это наполнило ее стыдом и страхом, и она начала пробираться в тени, чтобы укрыться подальше, как вдруг услышала за собой быстрые шаги. Сильная рука схватила ее за плечо, повернула к себе, и сердитый голос капитала Рэнделла проговорил:
— Что, черт подери, вы делаете на палубе! Что-нибудь случилось?
— Н-н… нет. В каюте было жарко, и я думала…
— Вы что, совсем очумели? Здесь не место для женщин. Половина мужчин праздновала на берегу, остальные почти раздеты, и все кишит арабами-кули. Немедленно в каюту! Ну, марш!
Он развернул ее и подтолкнул в направлении к сходящему вниз трапу, но как раз в тот момент, когда они подходили к нему, на палубе появился еще один человек. Это был полковник Маулсен, заметно навеселе.
Он и трезвый-то был не особо приятным, но под воздействием хмеля становился просто несносным. Алекс оттолкнул Винтер назад, пытаясь заслонить ее от пошатывающейся фигуры. Но оказался недостаточно проворен. Полковник, хотя и был пьян, но не настолько, чтобы ничего не замечать. И он разразился пьяной тирадой.
— Юбка, язви меня в корень! — завопил он. — Притащил с собой веселую пташку, Рэнделл? Дай-ка мне глянуть!
— Извините, что вынужден вас разочаровать, сэр, — твердо проговорил Алекс, — но леди, которая пришла со мной, желает спуститься. Не будете ли вы любезны пропустить нас вниз?
— Леди!? — взвыл полковник. — Отлично. Если бы это была леди, она не поднялась бы сюда наверх. Не будь собакой на сене, парень. Кто она? Цыганка, арабка? Выходи-ка, голубушка, дай нам глянуть на тебя!
Он неуклюже попытался заглянуть за Алекса, который отразил эту попытку и достаточно терпеливо повторил:
— Я вынужден попросить вас пропустить нас, сэр.
— Черта с два, разрази меня гром!
С этими словами он сделал шаг-два назад и загородил трап, раскрыв руки и издавая призывные крики. Гуляки в дальнем конце палубы, привлеченные шумом, двинулись к ним, и Алекс, не поворачивая головы, приказал девушке:
— Бегите!
Он резко шагнул вперед, правой рукой схватил полковника за шиворот и крепко тряхнул так, что пьяное мычание прервалось, а левой дал под дых в жирное брюхо. В следующий момент полковник тяжело рухнул, распластавшись на палубе. Винтер оказалась на трапе, исчезнув из вида гуляк, а Алекс и лежащий Маулсен — в центре заинтересованной группы зрителей.
— Что здесь происходит? — потребовал объяснения майор Реттрей.
— Удар кулаком, разрази меня гром! — жизнерадостно объявил господин специальный уполномоченный Феррингтон. — Кто-то здорово ему выдал.
— Позвольте мне, сэр, — заботливо проговорил Алекс, помогая полковнику встать.
Маулсен неуверенно встал на ноги и отшвырнул руку капитана. Он рванул свой ворот, лицо его горело от гнева — он задыхался в состоянии среднем между бездыханностью и апоплексической яростью.
— Черт подери, Рэнделл, вы мне за это заплатите на дуэли!
— С превеликим удовольствием, — с готовностью ответил Алекс.
Физиономия у полковника в значительной мере побледнела так же, как и умерился его гнев. Он хмуро посмотрел на капитана, и дыхание его стало менее напряженным.
— Что такое? Что такое? — допытывался тощий седой джентльмен, всю одежду которого составляли полотенце и пара вышитых шлепанцев.
— Нельзя драться с младшими офицерами, это абсурд. Дуэли незаконны.
— Он ударил меня. Этот щенок ударил меня!
— Бог мой! Это чертовски серьезное нарушение — дать по зубам старшему по чину офицеру, — заявил майор Реттрей.
— Но он же не в форме, дорогой мой, — пробормотал одетый в турецкие шаровары и монокль апатичный джентльмен.
— Ведь не назовете же вы это формой, а без нее это всего лишь личное дело. Недоразумение между джентльменами.
— Я должен извиниться за то, что поспешил, — спокойно проговорил Алекс. — Одна из леди в нервном расположении и испуганная огнями факелов и шумом, решила, что корабль горит и выбежала на палубу. Я предложил проводить ее назад, но полковник Маулсен, вообразив, что это женщина совсем иного сорта, стал загораживать путь, и я был вынужден совершить некоторую грубость. Надеюсь, он примет мои извинения за ту боль, которую я ему причинил.
Полковник хмуро посмотрел на капитана, но глаза того выражали далеко не то смирение, которое звучало в его словах и, поскольку пары принятого спиртного стали улетучиваться, полковник начал осознавать, что версия капитана Рэнделла может оказаться верной; у леди, о которой шла речь, может оказаться ожидающий ее в Калькутте муж, и тогда роль самого Маулсена в этом деле будет довольно сомнительной. Поэтому он прорычал, что принимает извинения и, пошатываясь, удалился.
Алекс задумчиво смотрел ему вслед. Очень жаль, что эта история случилась именно с полковником Маулсеном… Он всегда недолюбливал этого человека и считал его достойным компаньоном Конвея Бартона. И капитан пожалел, что обстоятельства вынудили его нажить в полковнике врага, это могло значительно затруднить его дела в Лунджоре. Почетное сопровождение контессы Агвиларес оказалось вовсе не таким уж приятным времяпрепровождением, раздраженно подумал Алекс.
Винтер без каких-либо дальнейших сложностей достигла своей каюты и, поскольку было темно, она лишь на следующее утро, проснувшись от вскрика Лотти и после беглого взгляда на свое отражение в зеркале, обнаружила, что руки ее были черны, а лицо изрядно измазано угольной пылью.
— О! — со злым вздохом вскрикнула она. — Что он обо мне подумал?
Казалось, такова была ее судьба — постоянно появляться перед капитаном Рэнделлом в невыгодном свете: то потерявшей контроль над собой и отстегавшей его словно фурия своим хлыстом, то выбивающейся из объятий Эдмунта Ратли, то в жалком состоянии из-за морской болезни, то лазающей на стены и падающей с них, словно девчонка-сорванец, а теперь еще она оказывается на палубе в самый неподходящий час, да еще вся перемазанная сажей, как какая-нибудь чумичка! Каким-то образом (до конца она и сама не понимала каким) виноват во всем этом был, конечно, сам капитан. И, яростно оттирая лицо мылом и холодной водой, она — к великой тревоге Лотти — высказалась довольно резко на четком испанском языке и впредь решила обращаться с ним со всей возможной холодностью. Но возможностей у нее для этого оказалось весьма мало, так как в последующие дни она почти не видела его.
В роли сопровождающего группы миссис Эбатнот Алекс организовал отправку багажа и перевозку самих дам до вокзала, но сам не поехал в том же вагоне, и Винтер не виделась с ним, пока они не выехали из Каира в Суэц на «пустынном» омнибусе, запряженном мулами и лошадями. Но и тогда он не заговаривал с ней. Он сидел напротив, и Софи уснула, положив голову ему на плечо.
Винтер изучала его в ярком свете звезд и мерцании масляной лампы, болтавшейся рядом с возницей. Ее лицо было спрятано в глубокой тени, и он не мог этого заметить. В те дни, когда пышные бороды, усы и часто сопровождающие их бакенбарды украшали почти каждое мужское лицо, Алекс Рэнделл выделялся своей безукоризненно выбритой и почти женственной внешностью. Его густым ресницам могла бы позавидовать любая девушка, но твердые черты лица, как и упрямый контур подбородка говорили о мужественном характере. Загорелая кожа была темной, как у арабов, но даже при этом тусклом свете Винтер все еще могла видеть слабый след синяка, который она поставила ему каблуком в тот вечер на Мальте. Казалось, это было так давно, а ведь прошло меньше десяти дней после того, как она помогла ему влезть на стену и бежала с ним по пустынным улицам и сидела в лунном свете, говоря ему так, словно она знала его всю жизнь.
Взгляд ее перешел с Алекса на Софи. Софи было всего пятнадцать лет, но она уже была женщиной: довольно милое создание, тонкокостная и хрупкая, с тихими карими глазами и застенчивой, очаровательный улыбкой. Она сильно напоминала Винтер одну из белых мышей, которых Билли Уилкинз, мальчишка-новичок держал в ящике на дворе конюшни в Уэйре. Фургон накренился, так как внешние колеса наткнулись на валун или побелевшие кости верблюда, и головка Софи соскользнула с плеча Алекса на грудь, но она не проснулась.
Винтер ощущала острое и совершенно неразумное раздражение. Просто смешно, что Софи уснула таким странным образом! Хотя, по-видимому, большинство других пассажиров фургона также спали мертвым сном. Но ей совсем не хотелось спать, и она не понимала, как разумный человек может уснуть в таком грохочущем, тряском и неудобном экипаже. Кроме того, если Софи должна была уснуть, ей следовало бы наклониться более пристойным образом, чтобы ее поддерживала миссис Хиллинуорт, уютная жена майора бенгальской артиллерии, а не падать в объятия капитана Рэнделла. Она видела, как Алекс приподнял голову Софи и лицо его скривилось в гримасе неудобства, и поняла, что он страдает от приступов судороги.
«Так ему и надо», — мстительно подумала она.
Закрыв глаза, Винтер заставила себя думать о Конвее. Но по какой-то непонятной причине не смогла ясно представить его. Раньше ей это всегда удавалось. Она ясно видела Конвея, который дал ей, двенадцатилетней девочке, золотое кольцо с жемчужиной. Он стоял на Лонг-Вок в Уэйре, солнце сияло на его светловолосой голове, отбрасывая тень на бархатный газон. Высокий, широкоплечий, с золотистыми волосами и очень красивый сияющий рыцарь. Теперь видение впервые ускользнуло от нее и она видела перед собой уже не живого человека, а картинку из детской книжки — плоское, двухмерное изображение, грубо нарисованное, одеревенелое и нереальное. Пустое лицо, голубые глаза которого были стеклянными и невыразительными, как у куклы, а рот был скрыт под обвислыми пшеничными усами.
Два дня спустя путники сели на пакетбот «Глэморген-Касл» и отплыли по Красному морю, оставляя за собой пыль и мишуру Суэца. И снова дни превратились в монотонную череду приятного пребывания на борту.
Через три дня после Адена они попали в шторм, который утих только после двадцати четырех часов бешеной качки, и наконец в последний вечер перед тем, как вновь установилась прекрасная погода, они миновали давно затонувший корабль без мачт, с вымытыми тяжелыми волнами палубами.
Капитан Росс провел корабль очень близко от затонувшего судна и спустил парусную шлюпку под командой первого помощника с группой пассажиров. Они вернулись мокрые и усталые с новостью, что судно, очевидно, было транспортным военным кораблем, направлявшимся в Китай, но на борту никого не было, и они нашли лишь очень немного бумаг и предметов обихода. Они решили, что все, кто был на борту, уплыли на шлюпках, так как ни одной шлюпки тоже не осталось. Часть капитанской кабины была снесена, портовый якорь и катбалка исчезли и, судя по разорванным парусам и сломанному рангоуту, можно было решить, что внезапный порыв урагана снес все снасти одним разом. Вряд ли люди, покинувшие его, сумели добраться до берега, но теперь уже ничего нельзя было сделать, и «Глэморген-Касл» продолжал свой путь в быстро густевших сумерках.
Винтер, вскарабкавшись на продуваемую ветром палубу, всматривалась в покинутые обломки, исчезающие в бурном сумраке. По спине у нее пробежали мурашки. Несмотря на непогоду, то, что она была уже в Индийском океане и сама Индия наконец лежала перед ней, наполняло ее ощущением счастья. Но видение разбитого и брошенного корабля, дрейфующего в морских просторах, омрачило ее радость, и на нее повеяло холодным предчувствием чего-то дурного.
Услышав рядом чей-то вздох, она быстро повернулась и увидела стоящего рядом Кишана Прасада. Его глаза тоже были прикованы к останкам кораблекрушения. И вдруг его вежливое, непроницаемое лицо потеряло обычную для него осторожность, словно с него была сорвана маска, и оно осталось неприкрытым. Казалось, он не замечает Винтер. Он не двигался и не говорил, но вдруг она отчетливо прочла его мысли, как будто он их прокричал, и ей стало страшно.
Он думал с пламенным, радостным удовольствием о людях, которые были на этом корабле, он видел их своим мысленным взором, погружающихся в холодную пучину, затягиваемых весом их намокшей одежды, задыхающихся и тонущих, борющихся за жизнь и разрываемых на части акулами и барракудами. Он вздохнул снова. Тот же долго сдерживаемый вздох ненависти и удовлетворения, и Винтер сжалась и попятилась от него, обернулась и побежала, спускаясь по крутой лестнице и путаясь в своих юбках.
По коридору навстречу ей шел Алекс Рэнделл и, поймав за руку, спросил:
— В чем дело? Опять плохо себя чувствуете?
— Нет, — выдохнула Винтер. Она забыла, что собиралась избегать всяких разговоров с капитаном, кроме тех случаев, когда того требовали приличия и, уцепившись за его руку и с расширенными от ужаса глазами проговорила:
— Это был Кишан Прасад…
Она увидела, как у Алекса изменилось лицо и сжался рот.
— Он смотрел на этот корабль. И был рад! Он ненавидел их и хотел, чтобы они утонули… Он был рад, что они утонули… Я видела это.
Алекс заметил:
— Ничего удивительного. Все люди на этом судне были солдатами. Британскими солдатами. Если бы он мог потопить их своими руками, он, вероятно, так бы и сделал.
— Почему? Они… они ненавидят нас?
Алекс нетерпеливо продолжил:
— А ты полагаешь, они должны нас любить? Блага западной цивилизации не обязательно рассматриваются как непреложные благодеяния, особенно, если они навязаны Востоку иноземным завоевателем.
Он глянул на ее побелевшее лицо и увидел, какое потрясение она перенесла сейчас от этого открытия. Она, вероятно, никогда не думала об Индии, как о завоеванной стране. Она воображала, что возвращается домой, и сознание, что многие жители этой страны могут ненавидеть британцев с дикой и непримиримой страстностью, оказалось для нее, как удар по лицу доверчивого ребенка. Поэтому ему хотелось сказать ей:
«Да не гляди так! Плохо быть столь ранимой и ожидать слишком многого от жизни».
Но вместо этого он с какой-то усталой злостью проговорил:
— Я предупреждал вашего кузена Уэйра, что сейчас не время посылать молодую женщину в Индию, но он не слушал. Никто из них не захотел меня даже выслушать!
И, резко отвернувшись, он спустился по проходу на мокрую палубу.
Но лишь два дня спустя, когда Кишан Прасад свалился за борт, именно Алекс бросился за ним…
Глава 12
Алекс не знал, что за бортом оказался именно Кишан Прасад. Возможно, если бы он это знал, течение многих жизней могло бы измениться.
День был жаркий и тихий, и от шторма осталось только долгое, едва ощутимое волнение, из-за которого лениво хлопали двери, да горизонт поднимался и падал в медленном ленивом ритме. Море вновь обрело ту интенсивную полуночную синеву, которая характерна для Индийского океана, и стало таким ясным, что проплывающая в глубине стая медуз казалась пузырьками в синем стекле, а солнце, сияющее с безоблачных небес непрерывно целый день, делало доски палубы слишком горячими, чтобы их касаться.
Все случилось после четырех часов, когда палубы были относительно пусты, так как пассажиры переодевались к обеду. Лотти поднялась наверх рано, намереваясь встретить своего Эдварда и, поглядев вверх, увидела Кишана Прасада, стоящего на кожухе гребного колеса, глядя на море. Как раз, когда она смотрела, корабль резко качнуло, и Кишан Прасад, ничего не подозревая, поскользнулся, упал и проскользнул под леером. В следующий момент он исчез из виду, а Лотти вскрикнула и побежала.
Двое матросов-индусов вместе с корабельным офицером и полковником Маулсеном тоже видели, как кто-то упал, и с криком побежали по палубе. Полковник Маулсен с быстрой сообразительностью подобрал два стула и бросил их в пенящийся кильватер, за ними почти сразу же последовала клетка для кур, брошенная индусами.
— Человек за бортом! — завопили полковник Маулсен и корабельный офицер.
Спавший в тени лицом вниз, уткнувшись в руки, Алекс проснулся от крика Лотти и вскочил на ноги. Она налетела на него с белым, как мел, лицом, крича и указывая на море, он повернулся и поспешил по палубе в направлении, которое она указывала.
— Все в порядке, Рэнделл, — огрызнулся полковник Маулсен. — Всего лишь один из этих темнокожих. Он уже утонул — они не умеют плавать.
Алекса вдруг охватила вспышка гнева. Он скинул обувь в следующее мгновение перешагнул через леер и, прыгнув ногами вперед, погрузился в сомкнувшееся над его головой море.
Вода оказалась неожиданно холодной и пенящий воду кильватер засасывал его все глубже и глубже, пока он не почувствовал над собой тонны воды. Но как раз в тот момент, когда ему казалось, что легкие его должны взорваться, вес исчез, и его пробкой выбросило на поверхность, и он вновь оказался на воздухе. Он сделал глубокий вдох и быстро поплыл, чему помогало кручение кильватера. После удушливой жары «Глэморген-Касла» холодная струя пенящейся воды была невероятно ободряющей, и он, стряхнув волосы с глаз, засмеялся.
По-видимому, решил он, это был один из слуг Кишана Прасада, так как, если бы это был член команды, Маулсен сказал бы, что утонул «ласкар»[5].
— Чертовский идиотизм! — подумал Алекс, предавая анафеме свое поведение.
— Что за глупость жертвовать жизнью ради какого-то лакея-язычника, проявлять донкихотство, пытаясь выудить его? Почему в критические минуты человеку отказывает здравый смысл?
Он увидел перед собой борющуюся с водой фигуру, а в следующее мгновение она исчезла. Алекс наполнил легкие воздухом и нырнул. Тонущий слабо сопротивлялся и с минуту, которая казалась вечностью, они тонули вместе. Затем Алекс ухватил его за волосы и, сильно оттолкнувшись ногами, они снова поднялись на свет и воздух.
Но и теперь он еще не понял, кого держит. Он схватил наполовину утопленника под мышки и поплыл к тяжелой клети для кур, которая виднелась на гребне волны не более чем в двадцати ярдах. После нескольких бесплодных попыток водрузить бездыханную ношу лицом вниз на крепко сбитую клеть, это ему удалось, он держал его так, пока из него изрыгалась вода.
Гребень волны скрыл от них удаляющийся «Глэморген Касл». Следующий вал поднял их, и где-то вдалеке, за много миль отсюда, корабль выглядел маленьким на фоне неба. Им потребуется много времени, чтобы развернуться назад, подумал Алекс. Отдаленный корабль вновь исчез; когда клеть оказалась опять внизу между валами, индус кашлянул, рыгнул, поднял голову и слабо шевельнулся.
— Лежи тихо, дурень, — проговорил Алекс на туземном языке.
Человек повиновался, но теперь он повернул голову и Алекс впервые увидел, кого он спас.
Оба долго смотрели друг на друга, и Алекс почувствовал бесполезную, тщетную, нездоровую злость на судьбу, на себя за происходящее сейчас с ним.
Винтер однажды спросила его, не собирается ли он убить этого человека, и он с горечью ответил, что убийство не в характере британца. Он знал, что не сможет хладнокровно убить Прасада, хотя, если бы он смог доказать свои подозрения и тем законно приговорить его к виселице, он сделал бы это без малейшего колебания. Но он не смог этого сделать и из-за тупой слепоты тех, кто не желает этого видеть; он знал, что никогда не получит доказательств, которые удовлетворили бы их. И вот вмешалось само Провидение и сделало все, чтобы покончить с Кишаном Прасадом, а он, дурак, рисковал своей шеей, чтобы спасти человека, которого считал одним из опаснейших врагов британского владычества в Индии.
Если бы он только замешкался! Если бы он задал несколько вопросов перед тем, как прыгнуть. А все это дурацкое заявление Маулсена. Он сказал:
— Это всего лишь один из этих темнокожих…
И Алекс сразу потерял голову, а в результате попал в ловушку и спас Кишана Прасада. Морская вода горчила во рту, он посмотрел на черное лицо индуса и рассмеялся.
Губы Кишана растянулись в усталой ухмылке. Хриплым голосом он проговорил, борясь с затрудненным дыханием.
— А ты считал, что спас… саиба? — обращение было скорее оскорблением, чем знаком уважения. — Одного из своих? Возможно, большую шишку?
— Нет, я думал, что это один из твоих нукеров.
Он увидел удивление и недоверие в его темных глазах.
— Мой слуга?
— Да, — отрывисто ответил Алекс. — Если бы знал, что это ты…
— То позволил бы мне утонуть, — докончил Прасад, борясь с каждым вздохом.
— Да, — просто подтвердил Алекс. — Молчи или устанешь, а бот еще не скоро подплывет.
Индус долго молчал. Медленные валы лениво поднимали их, и в интервалах они видели далекий корабль и маленькую точку стремящейся к ним шлюпки, затем они опять опускались в долгую синюю пустоту, когда все исчезало и оставались лишь два человека и деревянная клеть для кур, одни в бесконечном океане.
Кишан Прасад смотрел на прозрачную воду и думал о невообразимых глубинах, что лежали под ними, вплоть до слизистого дна, и пальцы его конвульсивно сжимали грубое дерево, поддерживающее их.
Наконец он тихо заговорил, вопреки всем усилиям едва справляясь со своим голосом:
— Вы сказали, что, если бы знали, кто упал, то оставили бы меня умирать. Но кажется, что и так одного из нас здесь ждет смерть. Посмотрите туда.
Алекс повернул голову, у него подвело живот и сердце похолодело — на гребне за ними лежало длинное серебристо-коричневое тело, из воды высовывался лишь треугольный плавник. Акула!..
Под ними темнело море, а по воде палило низко висящее солнце, окрашивая гребень золотом и очерчивая хищницу огнем. Она не двигалась, но висела неподвижно, словно муха, застывшая в янтаре.
Алекс, казалось, потерял всякую способность двигаться. Он держался за край клетки одной рукой и смотрел назад в маленькие холодные глаза. Они наблюдали за ними с ленивым любопытством.
Индус хрипло прошептал:
— Эта деревяшка не выдержит двоих на поверхности, и моя жизнь — расплата за твою.
С этими словами он начал соскальзывать с клети, и Алекс настойчиво проговорил:
— Не будь дураком! Забирайся обратно, ты не умеешь плавать.
При первом же движении акула вильнула в сторону, и они увидели только ее плавник на приличном от них расстоянии. Они опять оказались на вершине вала, и снова стала видна шлюпка. Низкое солнце сверкало на лопастях весел, но шлюпка все еще была слишком далеко.
Алекс вспомнил, что слышал где-то про нелюбовь акул к шуму и начал бить по воде ладонью. Плавник исчез, сделал круг и вернулся назад. Кишан, спустившись в воду, держался за клеть одной рукой, и Алекс снова сказал:
— Забирайся назад, дурень!
Он схватил индуса за талию, поднял и водрузил на клеть, а затем затолкал на нее и его ноги, и тот оказался теперь на этой деревянной конструкции на четвереньках, держась за край. Куриная клеть была ненадежной и опасной, и теперь, когда на нее давил весь вес Кишана, она возвышалась над водой всего на один-два дюйма. Но, по крайней мере, все тело было над поверхностью.
Плавник медленно разрезал воду, курсируя по волне параллельно с ними, и вызвал у Алекса спазм холодной, лишающей возможности двигаться паники.
— О, Боже, если бы только у меня был нож, — прошептал он, не сознавая, что говорит вслух.
— Вот, — выдохнул Кишан. Он порылся в своей мокрой одежде — утлый плот под ним угрожающе закачался, и, вытащив нож с тонким грозным восьмидюймовым лезвием, сунул его в руку Алексу. Это было совсем не то орудие, которым можно было бы справиться против двадцатифутового чудовища, осторожно кружащегося около них, но ощущение его в руке вселило вдруг в Алекса чуточку надежды. Это было уже кое-что. Он читал о ловцах жемчуга на побережье Цейлона, которым удавалось отделаться от акул с помощью ножа.
Он снова стал бить ладонью по воде и шуметь, и акула уплыла вновь, подождала вдали и вернулась. Казалось, она зависла над ним, и он вдруг понял, что, если она нападет на него, когда он держится за клеть, толчок этого огромного тела опрокинет так называемый плот, и Кишан также окажется в воде.
Он забыл, что индус был врагом, смерть которого он только приветствовал бы и всего несколько минут назад сожалел, что не позволил ему утонуть. Человек на плоту был товарищем по несчастью перед хладнокровным морским убийцей.
Он разжал кисть и отплыл, не отрывая глаз от спинного плавника. Алекс поднялся на гребне, и акула еще раз зависла над ним. Она приближалась очень медленно и при этом переворачивалась. Алекс сверхчеловеческим усилием уклонился от нее, оттолкнувшись и вновь повернувшись к ней лицом. Он услышал хриплый, предупреждающий крик Кишана Прасада, и у него мелькнула мысль, что прибыла шлюпка.
— Как раз вовремя, — хмуро подумал Алекс. Но затем увидел быстрое движение слева… еще плавник. Вторая акула… третья. Они кружили около него словно из простого любопытства, а он почувствовал тяжесть воды под собой, когда первая вернулась для повторного нападения, но он снова как-то сумел его избежать. Теперь они устремились к нему все вместе. Он не стал ждать, когда они разорвут его на куски, а сжал в руке нож и поплыл на ближайшую из них.
Движение его, очевидно, оказалось неожиданным для рыбины, так как она исчезла со скоростью света, а он быстро обернулся, увидел в лениво катящемся водяном валу приближающееся к нему проворное туловище другой и на секунду отчетливо разглядел тоненькие полосатые тельца рыб-пилотов, плывущих впереди и рядом, затем нырнул, чтобы встретить ее, когда она нависла над ним со своими острыми челюстями, и что было силы всадил в нее нож.
Нож скользнул по подреберью и выскользнул у него из руки, а в воде медленно появилось облако крови. На мгновение две другие акулы замерли, но в следующее мгновение вода вскипела, они набросились на раненую подругу, разрывая ее на куски. Вода покраснела от крови, Алекс повернулся и поплыл прочь. Он все еще отчаянно плыл, как вдруг почувствовал, как кто-то схватил его за плечо и закричал, а потом его втащили в шлюпку, и он бездыханно и беспомощно упал к ногам команды.
— Прошел по лезвию, — проговорил первый помощник, хлопая его по плечу. — Бросился в пасть смерти и отделался испугом. Вот! Гляньте, мистер Прасад. Святые угодники! Что за скотины, они опрокинут нас. Веслами, веслами ее, стервозу!
Лодка опасно закачалась, так как десятифутовая акула, привлеченная кровью, столкнулась с килем, а океан вдруг ожил, как будто состоял из треугольных плавников и гладких перекатывающихся тел… А затем они поплыли к кораблю, и путь их озаряло заходящее солнце, а море было уже не синим, а черным под ними и золотым впереди.
Алекс сидел и ухмылялся Кишану Прасаду, голова кружилась, а Кишан Прасад смеялся, подняв голову в кратком жесте приветствия. На какое-то время они больше не были врагами, так как только что были перед лицом неминуемой смерти и все же каким-то чудом избежали ее и остались целы и невредимы. Они пили горячий грог, предложенный первым помощником, слегка улыбались друг другу и с изумленной благодарностью смотрели в ясное небо над головой в то время как ласкары болтали и налегали на весла, а «Глэморген-Касл» с возбужденными, приветствующими их пассажирами становился больше и ближе и наконец повис над ними — такой прочный и безопасный.
Алекс плохо воспринимал шум, крики, как и людей, пожимающих ему руки и хлопающих по плечам. Он едва держал голову и изо всех сил не давал глазам слипаться, зевая прямо в лица поздравляющих его пассажиров и, спотыкаясь, прокладывал себе путь в каюту, где рухнул на койку, а корабельный доктор, следующий за ним, нашел его так крепко уснувшим, что он не проснулся даже, когда его раздели и прикрыли одеялом.
На следующий день он проснулся рано утром, чувствуя себя бодрее и лучше, чем все последнее время. Долгое плавание, большое напряжение прошлого вечера с последующим почти двенадцатичасовым непрерываемым сном, оказали на него явно более благотворное влияние, чем ленивые жаркие дни и знойные беспокойные ночи с тех пор, как они покинули Мальту. Его компаньоны по каюте, по-видимому, были на палубе, и Алекс лежал, глядя на тесное пространство и низкий потолок над головой со странным, новым для него чувством иного миропонимания и удивления оттого, что он жив. Сойдя с койки и одевшись, он поднялся на палубу подышать предрассветным воздухом.
Солнце еще не взошло, но небо уже было ярким, палуба блестела от ночной росы и соленой воды и группа ласкаров мыла корабль. В предрассветном сумраке море было бесцветным, лишь вблизи корабля оно казалось холодно черным и прозрачным, как стекло. Решетки и крышки люков на палубе были заняты пассажирами, которые предпочли прохладу ночи под звездами жаре закрытых кают, и проснулись пока только ласкары.
Алекс пошел на корму и наклонился над леером, лениво разглядывая белый след кильватера. Услышав за собой шаги, он повернулся и увидел Кишана Прасада. Мгновение они смотрели друг на друга холодным оценивающим взглядом противников, измеряющих мечи, затем Кишан Прасад медленно проговорил:
— Я хотел бы поблагодарить вас…
— Вам не за что меня благодарить, — резко прервал его Алекс.
— Вы хотите сказать, знай вы, что это я, вы не стали бы меня спасать? Это действительно так? Зная, что я не умею плавать, вы не попытались бы помочь мне?
Алекс твердо посмотрел ему в глаза.
— Вот именно. Я и пальцем бы не пошевелил.
Кишан Прасад хмуро поклонился, получив ответ, которого ожидал, продолжил:
— Именно поэтому я и пришел поблагодарить вас. Не за то, что вы сделали для меня, но за то, что вы сделали бы для одного из моих слуг. Немногие бы рискнули жизнью ради… темнокожего и слуги темнокожего.
— Вы переоцениваете меня. Никакого риска не было — я сильный пловец.
— А акулы? — мягко спросил Кишан Прасад.
— Вы заставляете меня признаться, что я начисто забыл об их существовании. Если бы я об этом помнил, даю вам слово, я бы не прыгнул. Так что видите, вы мне ничем не обязаны.
— Тем не менее, — улыбаясь продолжал индус, — волей-неволей вы вернули мне жизнь, которую боги отобрали бы у меня. В прошлом я был врагом вашего народа…
Он увидел внезапный блеск в глазах англичанина и, подняв руку, как бы защищаясь, засмеялся.
— О, нет! Это не признание… я не скажу вам ничего, что не было бы вам известно. Да к тому же здесь никого нет, чтобы это подслушать. Мы говорим наедине. Ваш комиссар не выдвинет против меня никакого обвинения, я это знаю.
— И я тоже, — с горечью проговорил Алекс. — Не хотите ли вы мне сказать, что сменили гнев на милость оттого, что я рисковал сломать себе шею, чтобы вытащить вас из моря?
Кишан улыбнулся и покачал головой.
— Увы, нет. Я не изменил своего отношения к англичанам. Во имя моей страны, народа и богов, я сделаю все, что в моих силах, чтобы скинуть иго вашей Компании.
— А я, — заявил Алекс, — сделаю то же, чтобы повесить вас или сослать на каторгу ради моих соотечественников, которые управляют вашей страной.
— Хорошо, — печально проговорил Прасад. — Мы понимаем друг друга, ведь мы не дети.
Он снял небольшое кольцо, которое носил на правой руке, и протянул Алексу. Эта была мишурная вещица, не имеющая ценности, сделанная из серебра, с тремя красными камешками, которые могли сойти за бракованные рубины. Странное украшение для такого человека.
Индус проговорил:
— Не согласитесь ли вы принять его ради меня? В знак моей благодарности? Оно не стоит и десяти рупий, но это талисман, который может когда-нибудь избавить вас от многих бед. Когда настанет день, о котором я молю богов, посмотрите на это кольцо и вспомните Кишана Прасада. Ибо в тот день, кто знает, я смогу оплатить часть моего долга.
Алекс посмотрел на протянутую руку, колеблясь. Затем он взял его, надел на мизинец правой руки и сказал:
— Я не помнил, что существуют акулы, когда прыгал через леер вчера вечером. Но вы уступили мне место на этом чертовом курятнике, когда заметили их появление, и я буду носить его, как подарок храброго человека.
Кишан Прасад сложил руки вместе, торжественно поклонился, повернулся и ушел.
Глава 13
— Завтра мы будем в Калькутте, — думала Винтер. — Еще день, и я увижу Конвея!
Казалось невероятным, что долгое ожидание, начавшееся шесть лет назад в Уэйре, наконец закончится, и через два дня она уже будет не «мисс Винтер» или графиня де лос Агвиларес, а станет миссис Конвей Бартон, и покинет церковь вместе со своим красивым мужем, чтобы жить счастливо, как принцесса в сказке.
«Глэморген-Касл» встал на якорь, ожидая первого свистка и прилива, когда с лоцманом на борту он начнет движение по реке к Калькутте, и Винтер, лежа без сна на койке, думала о том, встретит ли Конвей ее в устье реки или взойдет на борт корабля на пути к Калькутте. Полковник Маулсен считал это возможным.
Какое-то время назад она еще не могла четко представить себе Конвея, и образ его стал нереальным и безжизненным — тенью, лишенной сущности. Она не могла объяснить, чем это вызвано, и смутно винила в этом капитана Рэнделла, хотя и не могла сказать, в чем собственно заключается его вина. Но, по крайней мере, он нес ответственность за то, что восстановил образ Конвея в его первоначальном блеске. И сделал он это столь же неподдающимся объяснению способом. Все это было связано с драматическим спасением индуса Кишана Прасада…
Винтер была в своей каюте, когда закричала Лотти. Звук был гулким и неясным. Она услышала топот ног по палубе у нее над головой и ощутила беспокойство и замешательство, а потом через иллюминатор услышала крик «человек за бортом!» и, побежав наверх на палубу, обнаружила толпу возбужденных пассажиров и громкие крики приказов: «Спустить шлюпку… занять на ней места…»
Свистки, пронзительные крики мужчин и продолжающийся вопль Лотти… Винтер взяла ее за плечи и энергично встряхнула, что произвело немедленный эффект. Лотти сглотнула, сделала вдох и буквально выплеснула на нее свой рассказ. Кишан Прасад упал за борт… Лотти видела это… а он не умеет плавать, и капитан Рэнделл последовал за ним.
Винтер почувствовала вдруг, будто ее ударило чем-то твердым и тяжелым, ледяной кулак скользнул по ней и исчез. Она отпустила Лотти и побежала посмотреть с леера, но толпа была слишком плотной и она ничего не увидела и со странным замиранием сердца ожидала, как ей показалось, целую вечность, пока корабль замедлит ход и повернет назад.
— Хорошо еще, что мы не под парусами, — заявил полковник Маулсен. — Если бы был ветер и у нас были поставлены паруса, мы промчались бы несколько миль, прежде чем смогли бы затормозить. Клянусь святым Георгием, пар — отличная штука!
— Вы их видите? — настойчиво спрашивала Винтер.
— Никаких признаков, но обнаружим, как только спустим шлюпку. Море спокойно, как бильярдный стол. Никакой опасности, если они остались на плаву и, конечно, если рядом не окажется акул. Иначе им крышка. Я видел однажды человека, выпавшего за борт у Адена. Акулы набросились на него раньше, чем мы спустили шлюпку. Его разорвали на куски. Ужасное зрелище!
Миссис Эбатнот слабо вскрикнула, а Винтер так побледнела, что полковник, испугавшись, что она потеряет сознание, поспешно извинился и поспешил прочь, посмотреть, как спускают шлюпку и отправляют ее с первым помощником.
Последовавший час тянулся бесконечно. Солнце спускал лось, и она следила за тенью гребного колеса, которая все удлинялась и удлинялась на палубе. Затем с вершины бизань-мачты впередсмотрящий, сообщавший время от времени, что все в порядке, прокричал:
— Акула!
И палуба снова наполнилась криками.
Женщины визжали и плакали, а Софи, вдруг испытавшая страстное, хотя и тайное чувство к капитану Рэнделлу, упала в обморок, и ее отнесли вниз. За нею последовала миссис Эбатнот, которой нравился Алекс, и мысль о том, что его в эту минуту разрывают на части и пожирают акулы, вызвала у нее сильную истерику.
Лотти разразилась слезами, и ухаживать за Софи и ее матерью выпало Винтер и всегда полезной миссис Холли. Но когда Лотти принесла весть, что оба спасены и их везут на корабль, миссис Эбатнот остановилась лишь для того, чтобы еще раз вдохнуть sal volatile[6] и, захватив его с собой, поспешила на палубу. За ней последовала Винтер. Покидая палубу, она услышала крики и приветственные возгласы, Апекс спотыкаясь спустился по лестнице и прошел мимо, не видя ее.
Лицо его было бледно, он шел словно пьяный или обкурившийся наркотиками. За ним шел корабельный врач, и Винтер пошла вверх на палубу, где первый помощник и пассажиры соревновались друг с другом, пересказывая происшедшую историю так, как они слышали ее от Кишана Прасада, расцвечивая и украшая ее собственными подробностями.
Винтер села в кресло, ноги у нее вдруг подкосились, и она вспомнила, как Алекс однажды выразил сожаление, что не убил этого человека, ради спасения которого только что рисковал собственной жизнью, и ее залило теплое, радостное восхищение, стершее воспоминание о его нападках на Конвея.
Восхищение, однако, длилось менее двадцати четырех часов.
У нее не было возможности поговорить с ним раньше, чем на следующее утро, когда миссис Эбатнот настоятельно попросила его присесть рядом с ней на палубе в тени и ответить на многочисленные вопросы.
— Конечно же, это невероятно благородно, дорогой мой, но совершенно непостижимая опрометчивость. Вы могли бы утонуть!
— В совершенно спокойном море? — лениво полюбопытствовал Алекс. — Чепуха. Если хоть чуть-чуть умеешь плавать, в таком море не утонешь, а я сильный пловец… Могу вас заверить, что это было очень приятно после жары на палубах.
— Я вижу, вы намерены свести это приключение к развлечению, — с одобрением проговорила миссис Эбатнот. — Но я этого не допущу, — продолжала она. — Не колеблясь, прыгнуть в кишащее акулами море, чтобы спасти тонущего, — поступок героический и заслуживает высочайшей похвалы.
— Миссис Эбатнот, я не могу рядиться для вас в тогу героя, хотя с радостью бы это сделал. Но, как я уже не раз повторял, я начисто забыл о том, что существуют акулы. Мне и в голову не приходила возможность встретиться с ними, а если бы пришла, то, уверяю вас, я не бросился бы за этим человеком, а успокоился бы на том, что бросил бы еще одну клеть для кур и молился.
— Я этому не верю, — энергично запротестовала миссис Эбатнот.
— Увы, но это так. Вид акулы вызвал у меня самый большой шок в моей жизни и, надеюсь, другого такого не будет.
Оторвавшись от рукоделия, Винтер глянула на него и впервые заговорила.
— Возможно, вы и не думали об акулах, но бросились спасать человека, которого… о котором у вас не было причин хорошо думать. Это, по крайней мере, благородно.
Алекс иронично посмотрел на нее.
— Боюсь, что нет. Понимаете, я не знал, за кем прыгаю.
— Не знали?
— До тех пор, пока не настиг его.
Винтер уставилась на него, широко раскрыв глаза.
— Но… а, если бы вы знали, то дали бы ему утонуть?
— Да, — хмуро проговорил Алекс. — Этот поступок был с моей стороны непоправимой ошибкой, о которой я весьма сожалею.
Он встал улыбаясь, раскланялся и отошел от них.
— Все это, конечно, не так, — уверенно проговорила миссис Эбатнот. — Просто он очень скромен, а это и есть истинный героизм!
— Да нет, вовсе нет, — скорбно возразила Винтер. Глаза ее горели гневом.
— Он говорил то, что думал. И он абсолютно прав — в этом нет ничего героического, так как он знал, что не утонет, а об акулах он и не думал. Он не знал, кто упал, и мог полагать, что это вы или Софи, а если бы он знал, то дал бы ему утонуть!
— Как ты можешь так говорить, Винтер? — голос Софи дрожал от возмущения.
— Потому что это правда, — огрызнулась Винтер. Сознание того, что она сама была близка к тому, чтобы рассматривать поступок капитана Рэнделла почти с таким же восхищением, как Софи, если не с большим, наполняло ее злостью, а то, что она забыла и простила ему нелояльность к Конвею, безмерно увеличивало ее злость.
Конвей, думала она, прыгнул бы спасать утопающего, даже зная об опасностях, и не стал бы смотреть безучастно на тонущего, даже, если бы это был враг. И вдруг при мысли об этом Конвей вновь стал живым и реальным, перестав быть муляжем из соломы и краски.
Остаток путешествия прошел без приключений. Они видели школу китов у Коломбо и обогнали шедший на всех парусах при луне индийский корабль, казавшийся чем-то сказочным, сделанным из лунного серебра, и были совсем близки к завершению своего долгого пути.
Прибой плескал и журчал о борт остановившегося корабля, и в открытый иллюминатор Винтер видела низко над морем огромную звезду, которая раскачивалась, как алмаз на невидимой цепочке, из-за легкого покачивания судна. Одна из служанок в Уэйре сказала ей, что, если загадать желание на звезду, то оно сбудется, и с тех пор каждую ясную ночь Винтер загадывала желание на звезду. Всегда одно и то же. Чтобы годы пролетели быстро, и Конвей приехал к ней. Теперь в этом не было надобности и яркая звезда, казалось, знаменовала различие между этой и всеми остальными ночами и блистала предзнаменованием, отмечающим начало новой жизни и такого большого счастья, что ей никогда больше не придется загадывать на звезду, разве что, чтобы Конвей никогда бы в ней не разочаровался.
Пока она смотрела, небо стало черным и на камбузе запел петух. Скоро солнце позолотит море, прозвучат свистки боцманов, вызвав топот ног на палубе и лязг якорной цепи. Последний день!..
Кроме последних необходимых предметов, Винтер уже упаковалась предыдущим вечером, так как не хотела терять ни мгновения этого чудесного дня. Она с восторгом впитывала в себя каждую пядь расстилавшегося ландшафта: запутанные заросли бамбука, лачуги с крышами из тростника или пальмовых листьев и окруженные рощицами тамариндов, джекфрута[7] и кастард-апл[8], бурой земли, храмов и широкую мутную Хугли с ее предательскими блуждающими мелями и непредсказуемыми течениями. Все это было удивительно и возбуждающе для девушки, которая прошла ребенком по этому же маршруту почти двенадцать лет тому назад, тогда ее вела за руку Зобейда, рыдавшая, видя в последний раз свою родину.
В каждом приближающемся судне, в каждом экипаже, едущем по берегу, в каждом всаднике, мог находиться Конвей.
Алекс Рэнделл, видя, как она бежала к лееру, наклоняясь, чтобы рассмотреть приближающийся корабль, снова ощутил нечто наподобие злости, не лишенной отчаянного желания сказать ей, чтобы она не тешила себя столь глупыми ожиданиями и не выдавала окружающим своей радости, так как не пройдет и дня, как она увидит, что годы сделали с комиссаром Бартоном, и лицо ее уже никогда не обретет радостного выражения. И глядя на это восторженное, ранимое существо, ему отчаянно хотелось задушить Конвея.
Небо полыхало закатом, когда «Глэморген-Касл» достиг стоянки в Калькутте и с берега начали одна за другой отходить шлюпки с родственниками и друзьями пассажиров, или же с перевозчиками, чтобы доставить прибывших в город. Миссис Эбатнот, всего лишь днем раньше заявившая Лотти, что публичное проявление привязанности не только неприлично, но и неделикатно, отбросила всю свою сдержанность и бросилась в объятья коротконогого, толстого джентльмена с ангельским лицом, серебристо-седыми волосами и кроткими голубыми глазами, оказавшегося полковником Эбатнотом, и воссоединившееся семейство со слезами радости удалилось в свою каюту.
Винтер стояла в стороне от прощальной суматохи и с волнением огладывала каждую шлюпку, но ни в одной из них не было знакомого лица. Она видела, как уезжал Кишан Прасад, увешанный душистыми гирляндами цветов и украшений, привезенными приветствующими его друзьями, лодку с двумя гребцами, которая привезла индуса, одетого в странную, песчаного цвета одежду, и поспешившего ему навстречу Алекса Рэнделла.
Как только прибывший поднялся на палубу, он быстро откозырял, затем лицо его расплылось в улыбке, Алекс, улыбнувшись, крепко обнял его. Какое-то время они смотрели друг на друга без слов, как встретившиеся после долгой разлуки братья, с чувством облегчения при виде друг друга. Затем Алекс разжал объятия, оба они рассмеялись и, быстро разговаривая, куда-то пошли.
Заполненные людьми палубы опустели, и Винтер с тревогой смотрела, как лодка за лодкой, нагруженные пассажирами, направлялись на берег. Наконец кто-то тронул ее за руку, и она быстро обернулась. Но это был лишь капитан Рэнделл. На лице его было выражение, опасно напоминающее жалость. Она была очень юной и, несмотря на гордо поднятую голову, казалась очень испуганной и озабоченной.
Он сказал лишь:
— Ваш жених не смог приехать. Прибыл мой ординарец и привез письма из Лунджора.
Слегка дрожащей рукой Винтер взяла протянутый ей пакет. Она сжала его так, что затрещала плотная бумага, и почувствовала, как слезы навертываются на глаза, но с трудом сдержала их. Если бы она позволила Алексу Рэнделлу увидеть эти слезы, она никогда бы себе этого не простила, да и ему тоже.
Она холодно поблагодарила его, и он, резко повернувшись, оставил ее.
Винтер ухватилась за леер, ее била дрожь, и слезы, сдерживаемые при Алексе, полились так, что она видела реку, деревья и дома на берегу, словно сквозь колеблющуюся дымку. Горечь разочарования была почти непереносима. Сегодня должен был настать конец долгого путешествия, а оно вовсе не окончилось. Посмотрев на письмо, которое сжимала в руке, сорвала печать.
Масса работы, писал Конвей, сделала невозможным для него встретить ее в Калькутте. Она должна знать, какое это для него разочарование, не менее сильное, чем оно будет и для нее. Но долг превыше всего, и он уверен, что она не захочет, чтобы он забывал свой долг ради нее. Он написал Рэнделлу и просил его обеспечить ее поездку на север, а так как он слышал, что Эбатноты, столь любезно сопровождающие ее, направляются в Дели, ей лучше остаться под их попечением и тоже ехать в Дели. Это немного не по пути, но поскольку он сам в ближайшем времени будет иметь возможность приехать туда, их встреча там наконец-таки состоится. Они смогут там обвенчаться и провести медовый месяц в этом историческом городе, посещая различные интересные места, которыми изобилует древняя столица Великих Моголов. Конечно, это означает отсрочку их встречи еще на несколько недель, но что это по сравнению со всей оставшейся жизнью?..
Почерк был беспорядочным и неровным, строчки разъезжались. Вероятно, он писал это очень уставший, сочувственно подумала Винтер. Усталый и разочарованный. И она устыдилась своих эгоистичных чувств. Как это благородно и похоже на него — ставить долг выше личного счастья!
Она прижала письмо к груди и боролась с желанием положить голову на фальшборт и заплакать. Но этого не следовало делать здесь, на открытой палубе, а на корабле весь день некуда было укрыться. Если позволить другим увидеть горечь ее разочарования, это могут неправильно понять. Она повернулась и с гордо поднятой головой спокойно пошла в свою каюту.
Миссис Эбатнот по-матерински посочувствовала ей. Алекс уже предупредил ее о положении вещей и вручил ей весьма милое письмо мистера Бартона. Какое разочарование! Но ведь жизнь в Индии, к сожалению, полна ими. Офицеры на службе Компании не принадлежат самим себе, а Индия не Англия, заявила миссис Эбатнот. Естественно, дорогая Винтер останется с ними, это для них такая радость! Но она боится, что это вызовет некоторую задержку, так как у полковника Эбатнота есть еще официальные дела в Калькутте и Бараккпуре, которые могут задержать его здесь. Он договорился, что они остановятся у его друга, мистера Шедвелла, калькуттского купца. Он, была уверена миссис Эбатнот, с радостью примет Винтер в качестве долгожданной гостьи, так как хорошо знал ее дядю. А Лотти будет просто в восторге от перспективы совместной поездки в Дели!
Дом Шедвеллов оказался двухэтажным дворцом на Гарден-Рич, окруженным лужайками и садами, выходящими на реку.
К великому облегчению Винтер, ей дали отдельную комнату.
Она закрыла за собой дверь и устало прислонилась к ней, избавившись от необходимости проявлять спокойствие и улыбаться. Теперь, когда ее никто не видит, она могла наконец поплакать, сняв напряжение и боль разочарования сегодняшнего дня.
Но она не плакала, а смотрела на большую комнату с высоким потолком и французскими окнами[9], открывающимися на большую веранду. Она была так же непохожа на английскую спальню, как широкая, медленно текущая Хугли на английскую речушку. И пока она смотрела, тугой узел, затянутый у нее на сердце, ослабевал, спадала лихорадка возбуждения и тяжкий груз разочарования.
Она медленно пересекла комнату и вышла на веранду. Крутой откос между группками деревьев спускался туда, где, золотясь в кратком закате, лежала река, зеленела лужайка. Небо казалось бледно-зеленым размывом, на котором начинали призрачно поблескивать первые звезды. Вечерний воздух наполняло множество звуков: полузабытых и все же столь знакомых. В храмах запели трубы, слышался дальний звук тамтамов, крики павлинов и вой шакалов, тявканье собак париев и все многообразие шумов индийского города. Воздух пахнул прокопченной солнцем пылью и кострами из коровьего навоза, дымом древесины, бархатцев и жасмина, сильным запахом реки, а в густевших сумерках горели мириады крошечных огоньков в бамбуковой поросли и над головой метались через сад темные тени — светлячки и питающиеся плодами летучие мыши, которых сэр Эбатнот хотел бы увидеть еще раз…
На следующее утро путешественники проснулись от щебета птиц. Небо начало окрашиваться зарей, а воздух был все еще прохладным, летучие мыши-фруктоеды отправлялись на покой, подвешивались в самой густой тени манговых деревьев, толкаясь и хлопая крыльями, чтобы занять удобное место для сна. Река тоже просыпалась и превращалась в оживленную трассу. Пароходик спешил в Аллахабад, туда-сюда сновали скифы, местные лодки и тонкие дингхи, толкаемые лодочниками при помощи длинных бамбуковых шестов. Маленькая полосатая белочка возмущенно верещала в душистых, обильно цветущих и вьющихся растениях, обвивающих один из столбов веранды; на карнизе ворковали голуби, и попугаи сделали несколько стремительных виражей, резко крича над головой.
На их крики отозвалась Лотти, чья комната выходила на ту же самую веранду, а еще через мгновение она сама, одетая в розовый пеньюар поверх батистовой ночной рубашки и с рассыпанными в беспорядке мягкими кудряшками, появилась в спальне Винтер. К ней в комнату вошел индус, в волнении объявила она.
— Мужчина! Он даже не постучался, Винтер… просто вошел. Я думала, что упаду в обморок от страха.
— Что ему было нужно? — поинтересовалась Винтер.
— О, ему ничего не было нужно. Он принес мне чай и фрукты, поставил их на столик рядом с моей кроватью и снова вышел. Не смейся, Винтер! Я никогда еще не была так напугана.
— Это всего лишь разносчик, — проговорила Винтер, продолжая смеяться. — Он и мне принес кое-что. Ты привыкнешь, Лотти, дорогая! Не думаю, чтобы слуги в Индии когда-нибудь стучались.
— Я никогда к этому не привыкну! — с содроганием объявила Лотти.
— Еще как привыкнешь. Предсказываю, как через год ты обнаружишь, что не можешь жить или вести простейшее menage[10] без помощи, по крайней мере, дюжины слуг и еще десяти для Эдварда. Миссис Шедвелл сообщила мне вчера, что они живут здесь весьма скромно — всего тридцать пять слуг!
Но упоминание имени Эдварда сразу же отвлекло Лотти, которая, ярко зардевшись, выдохнула:
— Винтер, Эдвард сегодня едет к папе. Мама ему все рассказала, и папа был так добр. Только подумать, он знал дядю Эдварда! Они вместе учились в школе. Он не принял решения, но не казался недовольным и сказал только, что для отца трудно, только что обретя свою дочь после стольких лет разлуки, снова потерять ее, не успев даже как следует с ней познакомиться. Это ведь не похоже на отказ?
— Конечно же, нет. А какие у него могут быть возражения? Эдвард весьма подходящий жених. И такой красивый, — добавила Винтер, подмигнув.
— А ведь правда он красив? — вздохнула Лотти, принимая это как факт. И действительно, в ее любящих глазах коротковатый нос, голубые глаза, веснушчатое лицо и пламенно-рыжие волосы Эдварда воплощали мужскую красоту, хотя всего лишь месяца два назад ее легкомысленное видение идеального мужчины напоминало покойного лорда Байрона, у которого не было ни малейшего сходства с лейтенантом Эдвардом Инглишем.
— Ты такая счастливая, Винтер, — вздохнула Лотти. — Я считаю, это несправедливо. Ты на целый год моложе меня, а уже через несколько недель выйдешь замуж, тогда как я должна ждать по крайней мере полгода, а, возможно, и больше. Мама говорит, что помолвка, длящаяся всего шесть месяцев, должна считаться скандально короткой, но Эдвард надеется убедить папу разрешить нам пожениться весной. Как ты думаешь, он согласится? Приятно, конечно, быть с папой опять, но…
Но вышло так, что ей не пришлось ждать так долго.
Лотти обвенчалась через несколько недель по прибытии в Дели, так как Эдвард получил из надежного источника известие о том, что его полк, который был королевским, а не войском Компании, может быть послан для укрепления сил адмирала Геймура в Китае уже в начале следующего года. Поэтому он хотел жениться как можно скорее на случай, если произойдет такое несчастье. Он сказал, что знает Лотти два месяца, в течение которых виделся с ней ежедневно, а это, несомненно, долгое знакомство, так как, будь они в Англии, он виделся бы с ней самое большее раз-два в неделю, даже если бы они были помолвлены. Нет смысла, чтобы они были разлучены еще на несколько месяцев, доказывал он, чтобы обвенчаться лишь накануне отправки с перспективой долгой разлуки. Дайте им насладиться хотя бы кратким счастьем, а там, если случится худшее и он действительно получит приказ отправиться в Китай, они смогут встретить это несчастье спокойнее, как муж и жена. И если он будет убит, твердо добавил Эдвард, его жена будет хорошо обеспечена, так как его состояние перейдет к ней.
Лотти, услышав о возможной скорой отправке Эдварда в Китай, лишилась чувств, и только обещание раннего венчания смогло вновь вернуть ее к жизни и предотвратить повторный обморок.
Миссис Эбатнот, напуганная отчаянием дочери, прекратила всякое сопротивление, и вся группа отправилась в гостиную, а мистер Шедвелл, послал за шампанским, чтобы все могли выпить за здоровье и счастье помолвленной пары.
И как раз в этот момент слуга объявил о приходе капитана Рэнделла, который сердечно приветствовал миссис Эбатнот, его представили Шедвеллам, а полковник Эбатнот лично поблагодарил его за неоценимую помощь, оказанную его семье в пути. Узнав о помолвке и свадебных планах Лотти и Эдварда, он озабоченно поздравил их и сказал, что пришел только, чтобы попрощаться. Он сожалеет, что не может сопровождать их в Дели, но не в состоянии откладывать больше свое возвращение в Лунджор.
Винтер проговорила несколько чопорных официальных слов благодарности, на которые Алекс, глянув на часы в дальнем углу комнаты, сухо ответил, что был счастлив оказать ей помощь. Он явно торопился и, проглотив полбокала шампанского, пожал руки всей компании и вышел. Шум его экипажа замолк вдали, а Винтер почувствовала себя одинокой и беззащитной. Хотя почему, разве не было здесь полковника Эбатнота, чтобы побеспокоиться о ней?
Но когда медленно потянулись дни, она с удивлением обнаружила, как ей его недостает. Не самого Рэнделла, но того ощущения, что он давал ей, — пока он был здесь, она чувствовала себя в безопасности. Она не переставала вспоминать его. Но тот факт, что он ушел и никогда уже не будет следить за ее удобствами и безопасностью, не приносил ей никакого облегчения, а наоборот, создавая ощущение нестабильности и утраты. Вероятно, решила она, потому что он был ее связующей нитью с Конвеем.
Глава 14
На следующий день после краткой беседы с полковником Эбатнотом Эдвард Инглиш уехал в Мерут, и Лотти начала готовиться к свадьбе, которая должна состояться в конце октября. Время проходило быстро, так как добрые Шедвеллы организовали для своих гостей многочисленные развлечения и приглашения на балы и ассамблеи, включая Государственный бал в Доме Правительства.
Миссис Гарденен-Смит и Делия также оказались в Калькутте, так как полковник Гарденен-Смит получил трехмесячный отпуск, и они решили остаться там на неделю-другую, чтобы отдохнуть и восстановить силы после долгого путешествия. Они несколько раз наносили визиты всем дамам семейства Эбатнот и сопровождали их в походах за покупками по городу.
Калькутта как столица и ставка генерал-губернатора и совета и место пребывания Верховного правительства, была очень оживленным городом. Государственный бал оказался для Лотти и Софи открытием, так как до этого они никогда не посещали подобных торжеств. Даже Винтер, привыкшая к монотонным черно-белым нарядам мужчин, танцующих в Уэйре и в лондонских бальных залах, подумала на мгновение, что генерал-губернатор дает костюмированный бал.
Мужчины в пышных формах полков, названия которых редко можно было услышать за пределами Индии: бледно-голубая с золотом — легкой кавалерии, канареечно-желтая — Нерегулярной конницы, зеленая — компании Рифл и алая — полков инфантерии, соперничали с мерцающими шелками и пенящимися кружевами и кисеей бальных платьев по богатству красок и блеску украшений и превосходили женщин числом шесть к одному.
Среди них в более скромных нарядах встречались и богатые калькуттские купцы, такие как Шедвелл или украшенные лентами и орденами члены Совета генерал-губернатора и высшие офицеры Ост-Индской Компании. Попадались и индийские гости, многие из которых блистали драгоценностями и носили яркую парчу и муслин; их темные лица, часто не темнее загорелых англичан под тучными воротничками военных униформ, сливались с этой компанией, Лотти с удивлением отметила отсутствие на балу индусских женщин.
— На востоке женщин держат на должном месте, — подмигнув, сказал полковник Эбатнот. — Индусский джентльмен считает крайне неприличным позволять женщинам шляться на публике полуголыми… А уж о том, чтобы держать их за талию в танце руками незнакомого мужчины, нельзя и подумать.
— Боже, как ты можешь так говорить! — миссис Эбатнот была шокирована. — Неужели ты действительно не одобряешь танцы? Что же до полуголых, это просто немыслимое преувеличение, и я удивляюсь, что ты такое говоришь при дочерях.
— Я не говорю, что я не одобряю танцы, любовь моя, — мягко возразил полковник. — Но думаю, что наши западные танцзалы опустели бы, если бы на них смотрели глазами Востока. И ты должна признать, что современные фасоны раскрывают достаточную часть женского тела.
— Ничего подобного, — с раздражением заявила его жена. — Почему, если учесть, что наши бабушки считали простого куска муслина достаточным для вечернего платья, ты рассматриваешь нынешние фасоны, как нескромные.
— Да, я замечаю прогресс по сравнению с модой Регетства, — согласился полковник, — но никогда не перестаю удивляться, почему женщина, считающая необходимым скрывать себя ниже талии широким кринолином с китовым усом, находит возможным спокойно открывать руки, плечи и грудь. Нет, как европеец, я не жалуюсь. Я просто размышляю, что об этом думают наши восточные друзья.
Миссис Эбатнот собиралась было возразить, но слова замерли у нее на устах при виде Делии Гарденен-Смит, проходящей в этот момент под руку с офицером в алой форме и в избытке подтверждающей справедливость утверждений мужа. На ее кринолине было ярдов двадцать тафеты цвета лиловых лепестков, и ее широкие юбки позволяли увидеть лишь быстрые мелькания маленьких атласных туфелек, но туго затянутый, сильно декольтированный лиф позволял любоваться плечами и большей частью груди.
Миссис Эбатнот, почувствовав себя неловко, вспыхнула, натянула на плечи кружевную шаль и бросила озабоченный взгляд на дочерей. Но ни Лотти, ни Софи, мелкокостные и хрупкие, не могли так выглядеть даже в самых раскрытых нарядах, а лифы их скромных платьев с розовой и голубой кисеей были прикрыты, в отличие от наряда Делии, пристойными feihu[11] и маленькими рукавчиками.
Винтер надела бальное платье, выбранное леди Аделаидой для ее приданого, из белого муара, задрапированное оборкой брюссельских кружев, через определенные интервалы, перехваченных жемчугом. Его лиф был декольтирован так же сильно, как у Делии, но ее тонкие плечи, гордая осанка и врожденное достоинство исключали какое-либо сравнение с мисс Гарденен-Смит.
Миссис Эбатнот со своей дородной фигурой чувствовала себя вполне уверенно в gris-vert[12] тафте с черной отделкой, но слегка смущенным шепотом заявила матери Делии, что нынешние обстоятельства весьма необычны и то, что казалось вполне обычным нарядом на Западе, здесь могут счесть весьма вызывающим.
— Полагаю, это потому, что сегодня так много индийских гостей, — с несчастным видом заключила она.
Миссис Гарденен-Смит обиделась и заявила, что со своей стороны считает нынешние фасоны очаровательными и несколько человек сделали ей комплименты о внешности ее Делии. Леди Кантинег, например, была более, чем добра. Такая милая особа! Хотя и жаль, что она выбрала алый наряд, от этого она выглядит слишком бледной. Вероятно, климат слишком труден для нее, ведь это ее первый визит на Восток. Что же до генерал-губернатора, то, хотя миссис Гарденен-Смит еще не разговаривала с ним, но, по ее мнению, он выглядит тоже не совсем здоровым.
Здоровье лорда Каннинга было прекрасное, но у него были трудные времена. Он надеялся на тихое пребывание у власти после динамичного правления Долхаузи, чьи реформы, как говорили, начали в Индии эпоху просвещения и прогресса, но Индия оказалась устланной не розами, а терниями.
Новый генерал-губернатор был весьма красивым мужчиной, ему было немногим за сорок. Он принял бразды правления от лорда Долхаузи всего лишь восемь месяцев назад и быстро обнаружил, что официальные сообщения, будто в Индии все в порядке, не соответствовали действительности. Долхаузи расширил пределы Империи до невообразимых ранее размеров, но за этим не последовало соответствующего увеличения штатных сотрудников Компании, требуемых для управления и администрирования. Бенгальскую армию лишили офицеров, которых отослали на особую службу управлять вновь приобретенными районами, действовать в качестве судей, строить дороги и мосты или усмирять восставшее население; от этого пострадала эффективность выучки в армейских полках. Генерал-губернатор не был силен в создавшейся ситуации и не знал, как с ней справиться.
Одним из последних деяний лорда Долхаузи была аннексия Оуда, но усмирение этой области пришлось на долю лорда Каннинга.
Назначение мистера Каверли Джексона на должность главного комиссара Компании оказалось неудачным. Мистер Джексон, казалось, был больше заинтересован в проведении оживленной бумажной войны со своими подчиненными, Габбинзом и Оммани, чем делами Оуда. Мистер Габбинз, вспыльчивый и раздражительный, с энтузиазмом принялся за борьбу, и несчастная провинция, основное, место рекрутирования сипайской армии Компании, осталась в состоянии хаоса, в то время как главные британские администраторы тратили большую часть своего времени и энергии на взаимные обвинения, измышления, ежедневно бомбардируя своими депешами Калькутту.
К довершению забот лорда Каннинга, над Персией нависли тучи войны, и он знал, что, если она будет объявлена, придется посылать войска из Индии, что окажется совершенно разорительным. Есть также проблемы с Ваджидом Али, низложенным царем Оуда, обосновавшимся в Калькутте и привезшим с собой родственников и вассалов, живущих в праздности и занимавшихся интригами и составлением бесконечных жалоб на британских офицеров, которые, как они утверждали, причиняли страдания и унижения низложенной знати, грабя их добро, преследуя их женщин, используя их дворцы для содержания своих лошадей и собак.
Лорд Долхаузи, отплывая из Индии навстречу преждевременной смерти, воображал, что оставляет после себя мирные сельскохозяйственные акры, отвоеванные у диких лесов средневековья и варварства. Но посеянные им зубы дракона взошли под ногами его преемника, и лорд Каннинг смотря на беззаботно вальсирующих гостей, мысленно был весьма далеко от них.
Полковник Эбатнот, не будучи хорошим танцором, оставил жену сплетничать со старшими женщинами и присматривать за Лотти, Софи и Винтер и удалился в более близкую ему по духу компанию нескольких джентльменов, его единомышленников, раскуривающих сигары в холле на некотором отдалении от танцзала. Его появление приветствовал дородный штатский.
— Привет, Эбатнот, тебя-то я и хотел видеть, Фоллон много болтал здесь всякой чепухи о недовольстве среди армии вокруг Дели. Это ведь твой район? Я сказал ему, что не верю этой болтовне и наполовину. Армия абсолютно здорова!
— Ну… слухи такие действительно были, — осторожно подтвердил полковник, — но у меня не было неприятностей с моими людьми. Мое почтение, генерал. Привет, Фоллон.
— Ха… слухи! — фыркнул тучный штатский. — Всегда слухи. Разве Индия может жить без них. Но только паникеры трясутся и принимают их всерьез.
Бронзовое лицо полковника Фоллона приобрело багровый оттенок.
— Я отвергаю эту клевету, сэр! Я не паникер, но и не правительственный страус, зарывающий голову в пески благодушия и самодовольства. Я говорю вам, что у сипаев появились опасные идеи. Идеи, которые мы заронили в них сами или не сделали ничего, чтобы их предотвратить. У них созрели обиды, на которые мы не обращали должного внимания.
— Какие например, сэр? Сипаи получают питание более хорошее, обращение более вежливое и жалование более высокое, чем когда-либо раньше.
— В этом-то и сложность, — вмешался в разговор пожилой мужчина с седыми усами, одетый в голубую с серебром форму знаменитого полка бенгальской кавалерии.
— В дни моей юности они привыкли быть стойкими, как палки из орешника, но теперь мы избаловали их. Да, черт подери! Мы избаловали и изнежили их, словно ведем школу для девиц, а не армию. Все размякли.
— Не размякли, — огрызнулся полковник Фоллон, — а все прогнило с ног до головы. Половина молодых офицеров даже не знает своих людей, а остальные оторваны от дел в армии специальными назначениями на гражданские посты. К тому же этот проклятый брахманизм. Надо его как-то ограничить.
Высокий красивый мужчина с холодными глазами тоже решил вступить в дискуссию.
— Брахманизм? Прошу просветить мое невежество, полковник Фоллон. Я не знал, что в этой стране существуют партии.
— Это не политическая партия, лорд Карлион, это одна из форм индуизма. Брамины — дважды рожденная жреческая каста индусов, которая почитается всеми остальными. Одно время была предпринята попытка ограничить набор браминов на службу, но они записываются как раджпуры и кшатрии, но все же сохраняют свои священные права и привилегии, что разрушает дисциплину.
— Как, сэр? Вы хотите сказать, что Компания зачисляет священников в ряды военных?
— Они не являются священниками в обычном смысле, — пояснил мистер Холливелл. — Это наследственные члены высшей касты. Брамином можно родиться, но не стать. И индусы низших каст не осмеливаются оскорбить их из страха ужасных наказаний, которые выпадут им не только на этом свете, но и в следующем.
— Что приводит к бесконечным затруднениям в войсках, — вставил полковник Фоллон, — потому что они держатся друг за друга, как члены тайного общества. Брамин никогда не донесет на другого, и не так уж редки случаи, когда индус-офицер из низшей касты пресмыкается перед рядовым сипаем, принадлежащим к браминам. Это полностью уничтожает дисциплину, и надо было бы уже давно набирать армию только из низшей касты. Именно брамины сейчас и мутят поду.
— В чем это выражается, сэр? — осведомился лорд Карлион. — Я так понял, что мистер Холливелл сказал, будто сообщения о беспорядках не имеют никаких оснований.
— Так оно и есть — фыркнул мистер Холливелл. — Никаких оснований. Много трусливой болтовни.
— Генри Лоуренс совсем не похож на труса, — пробормотал тощий мужчина с темным, птичьим лицом в серебристо-голубой форме пенджабской кавалерии.
Мистер Холливелл повернулся к говорящему, лицо его угрожающе побагровело:
— Я весьма уважаю сэра Генри как способного администратора, — гневно проговорил он, — но он чертовски любит этих темнокожих! Он был против аннексии Оуда и так настаивал на этом, что Дел вынужден был довольно резко поставить его на место.
— Сэр Генри не единственный, кого его светлость поставил на место, — сухо проговорил тощий мужчина. — Мне помнится, то же было в пятидесятом году с Нэпиром и по той же причине.
— Одного поля ягоды, — огрызнулся мистер Ходсон. — Паникеры оба. Сэр Чарльз заявил, что бенгальская армия на пороге восстания, и Империя в опасности. Чистая фантазия, и он-таки оказался неправ!
— Вы считаете, что благодаря быстрым действиям, предпринятым сэром Чарльзом, опасность была временно предотвращена, — так же зло возразил полковник Фоллон. — Но остается фактом, что вся армия заметила и обсуждала разногласия между главнокомандующим и генерал-губернатором. Это стало предметом всеобщих обсуждений и оказало нам медвежью услугу, так как солдаты увидели, что их главнокомандующий был вынужден подать в отставку, а также поняли, что в верхах произошел раскол. Они узнали и кое-что еще более опасное. Хочу напомнить вам, сэр, что недовольство, которого опасался сэр Чарльз Нэпир, могло привести к волнениям в связи с низким жалованием, и он пытался устранить его сам.
— И напрасно! И напрасно! — вскричал мистер Ходсон. — Это не тот вопрос, который должна решать армия. Это в компетенции правительства, которое…
— Не знает, что думают сипаи! — гневно возразил полковник Фоллон. — Мы никогда не научимся, если будем учиться на собственных ошибках!
Его прервал крупный светловолосый джентльмен, украшенный роскошными бакенбардами, бывший член Палаты Общин. Мистер Леджер-Грин, потерявший свое место на последних выборах, только что прибыл в Калькутту. Он собирался сделать короткую остановку на Востоке, чтобы написать книгу «Наши колониальные владения» и уже собрал немало материала.
— Могу я спросить, о каких ошибках вы говорите? Я, честно говоря, в полном неведении.
— Извините, сэр, но эта дискуссия может быть для вас слишком утомительной. Давайте оставим ее.
— Нет-нет, полковник. Я крайне заинтересован, так как хочу изучить весь вопрос о наших иностранных владениях. Что за вопрос о жаловании и привилегиях, на который вы ссылались?
Полковник сделал еще один большой глоток и иронически посмотрел на своего собеседника. Он не особенно жаловал журналистов и политиков, приезжающих в Калькутту ненадолго, в бархатный сезон, и по возвращении на родину считающих себя экспертами по всем вопросам, касающимся востока; но тема дискуссии была из тех, в которых он чувствовал себя уверенно, и он проговорил:
— Сипаям, сэр, были гарантированы особые привилегии за службу на внешних британских территориях. Мы использовали их, чтобы завоевать обширные новые провинции, которые, однажды аннексированные, мы провозглашаем британскими и отбираем их у сипаев, которые нам служили за «морские» премиальные. Сипаи и так противились аннексии, но с утратой этих добавок их сопротивление очень сильно возросло. Они противились в Синде, позднее в Пенджабе и наконец начались волнения, их было усмирили, но при этом сделали значительные уступки, а так как они были сделаны в результате волнений, у сипаев возникло впечатление, что они выиграли, и дало им ощущение собственной силы…
— Несчастья Афганской войны подорвали веру в несокрушимость британцев, а открытая ссора главнокомандующего и генерал-губернатора показала сипаям, что в британских верхах — раскол, а уступки, последовавшие за волнениями сорок девятого и пятидесятого годов породили веру, что мы боимся их силы. Лорд Долхаузи, как другие, вообразил, что раз на поверхности все тихо, то под ней не существует сильных подводных течений. Но я рискну утверждать, что его светлость не так близко знал сипаев, как сэр Чарльз Нэпир, и меньше понимал восточный ум, чем сэр Генри Лоуренс!
— Чушь! Как генерал-губернатор его светлость имел преимущество наиболее информированных в Индии мнений. Кроме того, сэр Генри общеизвестный мечтатель и непрактичный идеалист. Его брат Джон стоит дюжины таких, как он. Меньше сентиментальности и больше здравого смысла. Эти люди не ценят сентиментальности. Они принимают ее за слабость и, черт возьми, они правы. Сильная рука — вот что им надо.
— О, я согласен с вами, сэр, — проговорил полковник Фоллон. — Самая большая глупость, которая произошла в армии — это ужасная ошибка Бентинка, запретившего телесные наказания. Если что-то и могло способствовать ослаблению дисциплины, так лучшего и выдумать невозможно. Наши индийские офицеры больше всего возражали против этого… У меня были депутаты от них, которые заявили, что если мы отменим телесные наказания, солдаты перестанут бояться и в один прекрасный день восстанут. И в то же время мы продолжали порки в британских войсках и, более того, позволяем солдатам-сипаям быть свидетелями таких наказаний. Мы, вероятно, спятили. А теперь последняя глупость с Оудом…
— Сэр! — начал было с жаром мистер Ходсон, но не смог закончить, так как снова вмешался мистер Леджер-Грин:
— Я крайне заинтересован в том, что относится к Оуду. У меня было несколько интервью с экс-королем. Почему вы считаете это глупостью? Принимая гуманитарную точку зрения…
— Я говорю как военный, — нетерпеливо прервал его полковник. — Мы рекрутируем основную часть сипаев из Оуда, имевших в этом государстве привилегии, как слуги Компании. Так, они имели право выбирать в качестве третейского судьи британского резидента, поэтому индийский судья знал, что адвокатом сипая будет резидент, и судил осторожно. Эта привилегия столь ценилась, что почти каждая семья в Оуде имела по крайней мере одного члена, служащего в бенгальской армии… Но теперь, когда любой гражданин Оуда получил равные права перед законом Компании и эта привилегия отпала, как и многие другие, не стало никакого смысла оставаться на службе у Компании.
Полковник Эбатнот, до этого не принимавший участия в дискуссии, кашлянул и уверенно вмешался:
— Я согласен, что недавняя аннексия вызвала много недовольства, и все же, по моему мнению, это дело иностранной службы. Но пока к этому надо относиться с осторожностью.
Мистер Леджер-Грин обернулся к говорящему и вынул маленький блокнотик, в котором сделал несколько торопливых заметок.
— Закон об общей воинской повинности, вы сказали? И что это означает?
— Служба за морем, сэр. Сипай-бенгалец записывается в армию, зная, что ему не надо будет ехать за море.
— Опять все дело в кастах, — ввязался полковник Фоллон. — Они уверены, что поездка за море лишит их касты и им по возвращении придется дорого заплатить священникам за очищение от скверны. Но генерал-губернатор с одобрения мистера Ходсона и его друзей в Совете недавно издали «Общее Положение», в котором говорится, что ни один рекрут в будущем не будет приниматься на службу, если он не согласен нести ее, где бы она ни потребовалась. А это значит Бирма, сэр! Или Персия, или Китай. Разве не понятно, что сдерживаемые кастами, фанатичные и суеверные люди охотно поверят любому агитатору, разъясняющему, что британский план предназначен для уничтожения их каст, чтобы они были слепым орудием Компании, готовым выполнять все, что ей угодно и где угодно, ради ее ненасытной жажды завоеваний?
— Чушь! — взорвался мистер Ходсон. — Вы ужасно преувеличиваете, полковник.
— Полагаю, что нет, сэр. Мне кажется, я встречался и разговаривал с гораздо большим числом людей, чем вы здесь в Калькутте. Магометане и индусы одинаково подозрительно относятся к постройке железных дорог и телеграфа, а когда мы позволили Миссионерскому обществу опубликовать манифест о том, что наши поезда и пароходы, облегчая материальное объединение всех человеческих рас, явятся инструментом духовного союза при единой вере (нашей!), неудивительно, что они верят самым глупым и диким слухам.
— Должен ли я заключить, полковник Фоллон, — презрительно проговорил Ходсон, — что вы рассматриваете собственный полк как рассадник подстрекательств и беспокойств?
На загорелом лице полковника выступили темно-красные пятна, и он инстинктивно схватился за оружие, но затем рука его снова упала, и он с жаром проговорил:
— Нет, сэр. Благодарение Богу, мои люди лояльны! Но я не слеп к нападкам на их лояльность и доверчивость со стороны агитаторов и смутьянов. Мы сделали все, что могли, чтобы дать сипаям гордое ощущение их собственной значительности, но в то же время подорвали их уважение к нашей власти. Командир полка, который должен быть конечным судьей их судьбы, не может ни поощрить их, ни наказать согласно тому, что они заслуживают. И мои друзья-полковники сведены до положения телеграфной ленты, а наши решения переигрываются в Ставке. Единственное продвижение индус может получить только на основании выслуги и возраста, заслуги же не имеют значения…
Высокий седобородый мужчина со знаками различия бригадного генерала холодно проговорил:
— Вы забываетесь, полковник.
Полковник Фоллон обернулся и побледнел, поняв, что позволил себе дойти до открытой критики военной политики, но его возмущение было поддержано вином, и он ни в коей мере не был трусом, он твердо встретил холодный взгляд генерала и ответил:
— Возможно, сэр. Но я не забываю, что туземные войска насчитывают двести тридцать три тысячи человек, тогда как европейцев во всей армии не более сорока пяти тысяч. Весьма отрезвляющие цифры, сэр.
— Я так не считаю, — заявил мистер Ходсон. — Всем известно, что британец стоит пятидесяти азиатов. Вы не согласны, джентльмены?
Послышался одобрительный хор, и полковник Фоллон резко заключил:
— Да, насколько я могу судить, на такие заявления способны лишь штатские и политиканы! Мне в их компании делать нечего. Всего хорошего, сэр. — И натянуто поклонившись, он рассерженно вышел.
— Какое бесстыдство! — негодующе выдохнул мистер Ходсон. — Он просто опасен! Разносчик слухов. Баба какая-то. Он не достоин командования войсками, если прислушивается к подобной чепухе.
— Двести тридцать три тысячи!..
Это произнес экс-член парламента от Чилбери и Хайерфорда, в его голосе прозвучали нотки страха.
— И сколько он сказал британцев? Сорок пять тысяч? Действительно отрезвляющая мысль. Вы в самом деле уверены, что нет никакой опасности? Я собирался посетить Дели и внутренние районы, но…
— Уверяю вас, сэр, — проговорил Ходсон, — нет никаких причин для беспокойства. Страна, умиротворенная от края до края, радуется нашему благодатному правлению. Что же до бенгальской армии — она лояльна до мозга костей. Уверен, что вы, джентльмены, согласны со мной.
— Несомненно, — согласился седобородый бригадный генерал. — Лучшая армия в мире! Естественно, когда вспоминаешь, что она служит нам уже столетие, то, надо думать, за это время могли случаться иногда неприятные инциденты. Они ничего не значат — всего лишь рябь на поверхности. Основные массы страны и армии удовлетворены. Можно смело утверждать, что сейчас положение лучше, чем когда-либо. Те, кто болтает о недовольстве, психи и паникеры, но к счастью их немного. Если вы, сэр, собираетесь посетить Дели, полковник Эбатнот расскажет вам больше, чем я. Его полк располагается там, и я уверен, что он не считает его на грани восстания.
— Совершенно верно, сэр, — с улыбкой подтвердил полковник Эбатнот, — иначе я не собирался бы взять туда жену и дочерей.
— Правда? Это очень успокаивает. Я не думаю, что вы хотели бы подвергнуть их какой-либо опасности. А если это безопасно для дам, то, вероятно, нет оснований для тревоги. Я собираюсь заехать в Оуд, если позволит время, чтобы получить информацию из первых рук. У меня есть рекомендательное письмо к мистеру Каверли Джексону…
— Что там о Каверли Джексоне? — поинтересовался новый голос, и группа, обернувшись, увидела приближающегося к ним хозяина. — Вы предполагаете визит в Лакноу, мистер Леджер-Грин?
— Если только позволит время, ваше превосходительство. У меня есть туда письмо от общего друга.
— Ах, да, — проговорил лорд Каннинг. — Компетентный господин, если бы только он так не любил скандалы.
— Ты выглядишь утомленным, Чарльз, — заметил лорд Карлион. — Индия, кажется, не очень тебе подходит. Слишком много обязанностей и слишком много жары.
— И слишком много работы, — с улыбкой проговорил генерал-губернатор. — Тебе надо бы тоже попробовать, Артур. По крайней мере, в этом была бы прелесть новизны.
— Ну зачем так, Чарльз. Я работаю как проклятый негр.
— Ты меня удивляешь. И что же ты делаешь, позволь тебя спросить?
— Борюсь со скукой. Ношусь по свету, чтобы справиться с ней.
— Останься пока здесь и попытайся вместо этого поработать по-настоящему, — посоветовал лорд Каннинг. — Мы могли бы использовать даже нечто столь бесполезное.
— Ну, тогда это значит, что у тебя чертовская нехватка рук, Чарльз.
— Именно так или так будет, если разразится буря в Персии. Аннексия Оуда напрягла наши ресурсы до предела… Но нет времени для такого скучного разговора. Вы, джентльмены, пренебрегаете своим долгом — вам надо танцевать.
— Мы оставим это тем, кто помоложе, ваше превосходительство. У каждой леди танцы расписаны не меньше, чем на три вперед, и такие старые сычи, как мы, не имеют никаких шансов.
— Говорите за себя, Ходсон, — заявил бригадный генерал, выпячивая грудь вперед. — Я собирался танцевать лансье[13] со своей женой, если бы смог уговорить ее оставить карточный столик.
— Браво, генерал! — похвалил лорд Каннинг. — Я уверен, что и остальные собираются последовать столь похвальному примеру. Словечко за тобой, Артур…
Генерал-губернатор взял лорда Карлиона за руку и пошел к танцзалу.
— Что у тебя на уме? — полюбопытствовал лорд, в нем проявилась неожиданная наблюдательность. — Неужели ты говорил все это серьезно?
— Когда предлагал, что могу взять тебя на службу? Абсолютно серьезно.
— Мой милый Чарльз! В каком же качестве? Танцевать с дамами, которые посещают твои приемы? Это самое большее, на что я способен, да и то, если они хорошенькие. Я не могу танцевать с дурнушками, сразу теряю чувство ритма и сбиваюсь.
— Ты недооцениваешь себя, Артур. Я знаю, что ты отличный наездник и первоклассный стрелок.
Более молодой из лордов вдруг остановился и пристально посмотрел на хозяина. Затем он медленно проговорил:
— Что ты хочешь в конце концов? Ты тоже, как и этот полковник, полагаешь, что ожидаются трудности?
— Какой полковник? Кто-то предрекал здесь затруднения?
— Фоллон, если не ошибаюсь. Пожилой человечек с лицом цвета кирпичной стены. Скажи, Чарльз, что это за правило в индийской армии, чтобы для получения командирского поста надо быть, по крайней мере, дедом? Разрази меня гром, если я когда-либо видел столько седобородых. Твои полковники балансируют между подагрой и могилой, а генералы, кажется, в ней уже обеими ногами. И еще говорят, что это страна молодых людей!
— Так оно и есть, но для тех, кто использует все свои возможности.
— Но не в том случае, если они остаются в армии, как я понимаю! Я не военный стратег, но сейчас не время Компании проводить повышение по служебной лестнице лишь за старость, не так ли? Я вижу, что в бенгальской армии никто не может стать старшим офицером, пока не состарится и, следовательно, станет бесполезным. Не удивительно, что те, кто еще на что-то годен, каркают, предрекая несчастья.
— А Фоллон каркал?
— Как ворон, — с легкостью проговорил Карлион. — Но он оказался в меньшинстве. А что ты сам думаешь? Ты тоже предвидишь потоп?
— Нет, конечно же, нет. В стране все в порядке. Некоторым нравится каркать о грядущих несчастьях. Это результаты пророчества, как я полагаю. Просто удивительно, как суеверны могут становиться даже самые уравновешенные головы.
— Какое пророчество? — с интересом спросил Карлион.
— О, это древняя история. Оно возникло после Пласси[14]. Владычество Компании продлится сто лет после битвы, которая его установила. А битва при Пласси произошла в 1757 году.
— То есть, в следующем году исполнится сто лет. Очень интересно. Но ведь ты не принимаешь это всерьез?
— Конечно, нет. Я хотел бы, чтобы ты был серьезнее.
— Тогда что тебя тревожит?
— Ничего, ничего. Просто… ну, мне хотелось бы, чтобы ты, если это возможно, продлил свой визит. Ты согласен?
— Зачем?
Генерал-губернатор посмотрел на переполненный танцзал и заговорил вполголоса, так что его едва было слышно из-за болтовни вокруг и веселой музыки:
— Мне было бы полезно, если бы ты проехал по всей стране, разумеется, совершенно неофициально, как простой путешественник, и рассказал мне о своих впечатлениях. Я обнаружил, что слишком многие говорят мне лишь то, что считают для меня приятным. Вопрос идет об Оуде. Экс-король и его приспешники сидят здесь, в Калькутте и донимают меня своими жалобами на поведение наших в Лакноу. Я посылал туда наших представителей, но ответы комиссара Каверли Джексона очень уклончивы.
— Уволь его, — скучающим тоном порекомендовал Карлион.
— Я не могу этого сделать, не ранив его чувств, — печально проговорил лорд Каннинг. — Обвинения, вполне возможно, не имеют оснований и, наверняка, сильно преувеличены. Но они наносят большой вред нашей репутации и дают пищу для недовольных. Если бы я мог снять комиссара без прямой отставки… Я надеялся…
Он помолчал, хмурясь, и Карлион глянул на него с дружеским сочувствием, но без сострадания. Он знал о способности Каннинга избегать резких, неприятных мер и о совестливости, не позволяющей ему принимать каких-либо осуждающих решений без самого тщательно расследования. Менее терпеливый Карлион не слишком одобрял такую нерешительность и не имел намерения продлевать свое пребывание на Востоке. Он собирался к Новому году вернуться в Англию. Он поехал в Индию, чтобы сделать перерыв в своих любовных делах, поэтому принял так кстати пришедшее приглашение Каннингов посетить Калькутту. Он решил, что уже достаточно долго пробыл вдали от дома, и ему вовсе не улыбалась перспектива поехать в Лакноу расследовать обоснованность обвинений против британской администрации вновь приобретенной провинции со стороны низложенного короля.
— Конечно же, ты не можешь ехать прямо отсюда, — продолжил лорд Каннинг, — но, отправившись сначала в Дели, вернешься через Лакноу и тогда это будет выглядеть, как туристическая поездка…
Он вдруг увидел, что Карлион перестал стоять лениво и, ухватившись за балюстраду, с живым интересом рассматривает кого-то в танцзале.
— О, черт! — проговори Карлион себе под нос. — Это же тот гадкий утенок!
Он обернулся к своему другу с неожиданно оживленным блеском в скучающих глазах.
— Извини меня, Чарльз. Я увидел знакомую. Мы продолжим разговор чуть позже.
Он повернулся, чтобы спуститься по убранной цветами лестнице, и исчез из вида.
Лорд Каннинг немного устало вздохнул. Он действительно хотел точного и беспристрастного отчета о состоянии дел в Лакноу, минуя официальное расследование, которое могло заставить его отправить комиссара в отставку, а ему совсем не хотелось отправлять из страны вполне работоспособного англичанина. Он не обладал особым воображением, но не благоволил и даже не имел терпимости к тем, кто предрекал грядущие неприятности. А были времена, когда огромное пространство этого незнакомого субконтинента, доставшегося ему в управление, угнетало его огромным пространством и миллионами индусов. Такой огромный и удерживаемый небольшой горсткой…
Взглянув вниз, он поймал высокую фигуру Карлиона, расталкивающего гостей, чтобы проложить себе путь к темноволосой девушке в белом бальном платье, окруженной молодыми офицерами.
Генерал-губернатор повернулся и удалился в свой кабинет бороться с делами, оставив жену оказывать почести гостям. Он вышел оттуда, когда лампы и свечи пригасили и экипажи начинали разъезжаться, увозя зевающих мужчин, сонных вдовствующих леди и возбужденно смеющихся девиц, и нашел Карлиона, сопровождающего дородную матрону в алом плаще в закрытый экипаж. Лицо леди было ему незнакомо, и она была совсем не в стиле Карлиона, как ее костюм и прическа, что мог заметить даже генерал-губернатор, отнюдь не гоняющийся за модой.
Однако лорд Карлион усадил ее в экипаж и жестом, несвойственным ему, поцеловал руку, выразив намерение навестить ее при первой возможности, и пропустил в экипаж коротенького толстяка в форме полковника инфантерии, вероятно мужа этой леди. На лестнице толпилось с полдюжины молодых офицеров, разошедшихся, когда уехал этот экипаж.
Лорд Карлион медленно вернулся к хозяину дома.
— О, Чарльз, я-то думал, что ты вполне разумно решил удалиться в постель.
— Кто это? — без особого интереса спросил Каннинг.
— Ничего интересного. Некая миссис Эбатнот, — молодой лорд глянул на увядший цветок в петлице, вынул его и бросил на полированный мраморный пол.
— Между прочим, Чарльз, если ты хочешь знать, я решил последовать твоему совету и продлить пребывание в Индии. Я посещу Дели и, возможно, вернусь через Оуд.
Глава 15
— Можно ли нам самим выбрать, какой дорогой уехать отсюда? — спросил Нияз Мухаммед.
Алекс повернулся от окна их скудно обставленной комнаты в гостевой части дака[15] и вновь задернул камышовую занавеску.
— А что, это так необходимо?
— Крайне необходимо, — ответил Нияз, не поднимая глаз от пыльного чемодана, с застежками которого как раз возился.
— Говорить в ту минуту, когда нас многие могли подслушивать, было неблагоразумно, впрочем, сейчас уже поздно жалеть.
— Здесь тоже есть любопытные уши, — сказал Алекс, и кивком головы показал на внешнюю веранду, откуда виднелась тень человека. Это был отдыхавший от работы слуга, который праздно развалился прямо на согретых солнцем камнях.
Алекс и его ординарец покинули Калькутту поездом. Новая железная дорога, олицетворявшая собой один из самых замечательных шагов лорда Далхаузи в направлении «вестернизации» восточной империи, была проведена аж до Ранигаджа, который находился в ста сорока милях к северу от Калькутты. Там рельсы заканчивались, а это означало, что путешествие придется продолжать по обычной дороге. Алекс и Нияз слезли с душного и пыльного, покрытого сажей и песком поезда и переночевали в Ранигадже. Компанию им составили солдаты и разношерстные путешественники, которые также двигались на север. Среди них оказался и полковник Маулсен. Утром Алекс с Ниязом и их попутчики двинулись в дальнейший путь, — направление взяли на Бенарес, — на дак-гари[16], на которой и тряслись вот уже несколько суток.
В результате мощных ливней дорога совсем раскисла и пребывала в самом отвратительном состоянии, какое только можно было себе представить. Полуголодные низкорослые лошаденки плелись еле-еле. Вдобавок ко всему присоединившийся к Алексу в Рениганже некий мрачного вида майор, который говорил, что возвращается в свой полк, расквартированный в Бенаресе, казалось, вовсе не хотел скрашивать своим обществом долгие и скучные часы дороги. Пространство между сиденьями было выложено досками, которые были покрыты постельным бельем, чтобы путешественники имели возможность отдохнуть прямо в пути. Основное время майор неподвижно, с закрытыми глазами пролежал на своей лежанке, проявляя признаки жизни только тогда, когда хотел в очередной раз на что-нибудь пожаловаться. Нияз сидел рядом с кучером на козлах, а слуги майора следовали за дак-гари на экке. Это была расшатанная, жалкого вида повозка на двух колесах, которую тянула одна-единственная лошаденка. Лошадей меняли на каждом перегоне. Частенько приходилось останавливаться для того, чтобы провести текущий ремонт сбруи или самой гари. Мало того, дважды в пути пассажирам приходилось слезать и вручную помогать кучеру вталкивать дилижанс на дорогу, когда его колеса, подпрыгнув на очередной кочке, теряли колею.
На четвертые сутки наконец случилось то, что казалось неизбежным: дилижанс перевернулся около какой-то насыпи. Пассажирам, как и кучеру, удалось соскочить вовремя и не получить никаких травм. Однако оглобли хрустнули так, будто были сделаны из хвороста, а постромки лопнули, как прогнившие веревки… Словом, изнуренные и норовистые лошаденки остались целы, получили свободу и, недолго думая, во весь опор унеслись прочь по равнине.
Сам дилижанс пребывал в таком состоянии, что на него было больно смотреть. Во всяком случае, сразу становилось ясно, что сегодня его служба человеку бесславно закончилась.
Кучер потратил непростительно много времени в попытках собрать свои пожитки, валявшиеся на дороге и в канаве, а также в различных живописных ругательствах, которые он отпускал по адресу сбежавших лошадей. Наконец Нияз заставил его отправиться в погоню за лошадьми. Кучер пошел, да только было видно, что особенного воодушевления он не испытывает. Не желая попусту терять своего драгоценного времени, майор властно приказал своим слугам слезть с экки и дальше сопровождать его пешком. Сам он взобрался на их место, посадил также своего носильщика и Алекса и приказал своему кучеру гнать в сторону ближайшего же дака, который, на счастье, находился всего в двух милях от места аварии. Нияз предпочел остаться у насыпи с багажом, и на постоялом дворе появился спустя два с половиной часа, когда ему удалось остановить на дороге проезжавшую мимо крестьянскую телегу, запряженную волами.
На постоялом дворе при почтовой станции было несколько своих дак-гари. Впрочем, путники решили немного передохнуть и настроились хорошенько подкрепиться всем, что мог им предложить местный кансама[17]. Мрачный майор, не теряя времени, подозвал его и велел обслужить их. Затем из конюшен вывели свежих лошадей, путники вновь взобрались в почтовый дилижанс. Поначалу кобылы не хотели идти, но после продолжительной обработки плетью они, наконец, сдались и галопом унесли дак-гари прочь с постоялого двора. За дилижансом быстро поднималось облако пыли. Это видели Алекс и Нияз, которые пожелали остаться на почтовой станции еще на некоторое время.
Нияз сказал, что новый транспорт подадут не сразу, что уже садится солнце и им следует здесь заночевать. Он добавил также, что снял на постоялом дворе комнату и узнал о том, что при желании тут можно задешево приобрести верховых лошадей и тем самым избавить себя от хлопот, связанных с дак-гари.
— Когда людей ждет работа, им лучше путешествовать без попутчиков, — сказал Нияз. Его смуглое лицо оставалось бесстрастным. — В деревне у меня есть один приятель. В свое время я оказал этому человеку одну небольшую услугу. Когда я ехал на юг, то остановился у него в доме на ночлег. Думаю, он поможет нам найти верховых лошадей.
Алекс молча кивнул и вошел в комнату, находившуюся в самом конце длинной веранды. Там стоял его чемодан, и уже была приготовлена ему постель. Со времени своей высадки в Индии у Алекса практически не было возможности нормально поговорить наедине с Ниязом. Гостиница в Калькутте была до отказа забита народом, и он вынужден был делить свой номер с другим офицером.
Нияз был пенджабским мусульманином и происходил из одного местечка, которое было немного севернее Карнала. Они с Алексом были одногодки. Нияз родился в семье преуспевающего землевладельца, обладавшего определенным влиянием. Сестры Нияза были выданы замуж далеко от отчего дома, таким образом, он имел родственников почти в половине всех провинций Индии. Нияз служил в полку вместе с Алексом Рэнделлом, сражался с ним плечом к плечу при Мудки, а затем при Ферозешахе. В бою при Мудки под Алексом зарубили его лошадь. Это сделал раненый сикх. Атака противника была неожиданной и заставила замолчать стволы Кальсы. В самую отчаянную минуту к Алексу подскочил Нияз, приподнялся в стременах и каким-то чудом сумел выдернуть его из седла под заваливающейся лошадью. Нияз посадил Алекса на свою лошадь, а сам спрыгнул на землю и, держась рукой за кожаный ремешок стремени, продолжал биться рядом со спасенным товарищем. Рубка была страшная. То и дело Нияз орал безумным голосом клик атакующих:
— Шабаш, байан! Дауро! Дауро! (Хорошая работа, братья! Марш! Марш!)
Спустя четыре дня при Ферозешахе Алексу довелось оплатить свой долг… Нияз рухнул на землю с пулей, пробившей грудь. Под Алексом убили лошадь. Он подбежал к раненому другу и своим клинком защищал его от наседавших сикхов. С тех пор Нияз по-настоящему привязался к Алексу, стал его ординарцем и телохранителем. А когда Алекса перевели на особую службу, он употребил все свое влияние и добился того, что Ниязу разрешили остаться рядом с ним. В прошлом году Ниязу был предоставлен долгосрочный отпуск. Уезжая в Европу, Алекс оставил ему некоторые неофициальные распоряжения, будучи уверенным в том, что Ниязу будет вполне по силам позаботиться об их выполнении.
…Слуга-бездельник так и продолжал валяться на веранде. Тень его, отбрасываемая заходящим солнцем, не шевелилась. Алекс, глядя на нее, задумчиво проговорил:
— Принеси мое ружье. Здесь, наверное, полно перепелов и куропаток. Меня окончательно выбила из равновесия эта идиотская тряска на дак-гари. Необходимо размяться.
Нияз понимающе улыбнулся и ушел. Он позвал повара и сообщил ему о том, что сахиб[18] желает пойти поохотиться, а потом вернется к ужину. И не дай Бог, еда ему не понравится. Тогда, мол, Ниязу придется познакомиться с поваром поближе…
Алекс сбежал по мелким каменным ступенькам веранды и медленно стал пересекать рощу манговых деревьев, которая раскинулась по левую сторону от постоялого двора. Меж стволами пробивались пыльно-золотистые лучи заходящего солнца; в густой листве щебетали и ссорились обезьяны. За рощей открывалась относительно открытая местность: поля с маисом и сахарным тростником были уже засеяны, за ними виднелись пастбища. Вдали можно было различить блеск воды, который указывал на то, что, если не полениться пройти еще вперед, можно выйти к джилю[19], на котором, возможно, водятся разные птицы. За озером стелилась до самого горизонта равнина.
Земля в манговой роще была задубелой и сухой. Повсюду она была заляпана пометом зеленых голубей. Теплый луч вечернего солнца раздвигал лесную тень и освещал каменную плиту, на которой был вырезан лингам — древний восточный символ плодородия. Плита опиралась о ствол толстого дерева. Святой знак был выкрашен в красное, и перед ним на земле были разложены подношения. Весьма скромные дары: пригоршня сухого зерна, букет цветов-бархатцев, нитка красных бус и кусочек чуппатти[20]. Две маленькие полосатые белочки ссорились из-за куска чуппатти, а зерно клевали семь «сестричек» — серо-коричневые, мало примечательные птички, которые всегда жили небольшими стайками и почему-то напоминали нервических старых дев.
Алекс приостановился и стал с интересом рассматривать священный символ. В самой находке не было ничего удивительного, ибо он знал, что вся Индия завалена таким добром. Его удивили подношения. Цветы еще не увяли, да и зерно и чуппатти были положены, видимо, сравнительно недавно, иначе от них давно бы уже ничего не осталось, учитывая активность лесных обитателей. В то же время Алекс не мог понять, кто положил эти скромные дары к камню в такой час. Жители деревни? Маловероятно. У крестьян нынче в самом разгаре сельская страда. Внимание священным знакам они могут уделять лишь поздним вечером или ранним утром, когда землепашцы и пастухи идут на работу или возвращаются с нее.
Из состояния задумчивости Алекса вывел звук шагов за спиной. Он обернулся и увидел Нияза, который нес дробовик и наполненный патронташ. Нияз бросил быстрый взгляд на раскрашенную красным эмблему Махадео и весело воскликнул:
— Ох уже мне эти незаконнорожденные нечестивцы! — Он плюнул перед собой и показал большим пальцем себе через плечо, указывая в сторону постоялого двора, откуда он только что появился. — Подношения принесли кучеры двух дак-гари и тот бездельник, который правил эккой. Здесь было, разумеется, и послание, но его что-то не видно… Вот их следы, смотри!
На сухой земле не отпечаталось человеческих следов, но день был безветренный, поэтому пыль, ветки и опавшая листва лежали неподвижно и там, где их разгребли, становилось ясно, что проходил человек. Более того, можно было догадаться, что этот человек пришел со стороны пастбища и открытой равнины, а потом туда же вернулся.
Нияз медленно шел по следу до тех пор, пока не вышел на опушку рощи. Повернувшись к Алексу, он сказал:
— Тут он повернул обратно в деревню. А послание… Его запихивают в тесто для чуппатти и пекут вместе с ним, чтобы, таким образом, получше спрятать. Старый трюк. Впрочем… кучер экки ведь мусульманин, а не индуист.
Алекс молча кивнул и повернулся лицом к равнине. Прищурив глаза, он стал смотреть на заходящее солнце. Над головой послышался звук куропатки, и он потянулся за ружьем. Алекс был отличным стрелком. К тому времени, когда они подошли к берегу заболоченного озерца, в руках Нияза было уже больше полдюжины тушек пернатых. Мелководный джиль был окружен со всех сторон густым камышом, островками слоновьей травы. Невдалеке стояло несколько пальм, на которых почти не было листвы. На фоне яркого заката они походили на старые метловища.
Алекс прошел по узкой каменистой косе, которая врезалась в джиль, опустился на кочку сухой травы спиной к воде и, достав из кармана листочки бумаги и щепоть табака, ловко свернул две самокрутки. Этому искусству он научился во время Крымской кампании. Покончив с этим, он передал одну самокрутку Ниязу, присевшему рядом.
Нияз зажег серную спичку о каблук своего башмака, и они закурили, медленно выпуская изо рта после каждой затяжки порцию дыма. Сгоревшая спичка полетела в спокойную, как зеркало, воду.
— Здесь нас точно никто не подслушает, — одобрительно заметил Нияз. — И никто к воде не подойдет незамеченным. Со спины — озеро. Приблизиться можно только по берегу, но на берег мы как раз смотрим. Хорошее местечко, ничего не скажешь.
Он сделал сильную затяжку, глубоко забрал дым в легкие и медленно выпустил его через ноздри. Вечер был очень теплый и спокойный. Время от времени они слышали только слабый плеск воды в десятке ярдов от себя, когда бока заходящему солнцу хотела подставить какая-нибудь проворная рыбешка, кряканье речных птиц в камышах да шелест небольшой змеи, которая прокладывала себе дорогу в сухой траве.
Алекс многому научился у Востока, в частности, терпению. Он сидел молча, расслабившись, наблюдая за тем, как удлиняются вечерние тени, как спокойно поднимается в неподвижном воздухе дым от самокрутки, и ждал. Он знал, что Нияз все равно заговорит только тогда, когда сочтет нужным. А пока можно было наслаждаться покоем и вдыхать знакомые ароматы индийского вечера, наблюдать за яркими отблесками зацепившегося за верхушки пальм заходящего солнца. Какой замечательный закат! Зрелище просто необыкновенное, особенно для тех, кто живет на Западе.
Наконец Нияз раздумчиво проговорил:
— Я сделал все, что ты просил. Я взял отпуск, сел на коня, как и подобает риссале[21], и отправился навестить родственников в Оуде, Роилкенде и Джанси. От них я много чего узнал. Покончив с этим, я спешился и дальше шел пешком. Уже не как Нияз Мухаммед Хан, солдат кавалерийских частей Компании, а как Рахим, никчемный человек, бродяга без роду без племени. Я прошел дорогами родной илаки[22], взял направление на север и побывал в сикхской Лудиане, затем нанес визит в Бенарес, который находится в руках нечестивцев. Пошел на юг и попал в Бурдван. Во время своих странствий я держал ухо востро и много чего услышал на базарах и на ночных привалах на дороге…
Он сделал паузу, чтобы несколько раз как следует затянуться. Закатное солнце окрасило его лицо яркими красками, и стало казаться, что на нем — маска из полированной бронзы. Потом он продолжил:
— Так вот, ты прав, брат. Затевается дьявольская заваруха. Только на этот раз эпидемия не будет локализована в каком-нибудь одном месте, не затронув другие. На этот раз инфекция распространится на север и на юг, ибо на этот раз ее переносчиков будет намного больше. Этот мор понесут по стране все! Даже эти наши кучеры дак-гари! По всей Индии, во всех деревнях заговорили о знамениях с неба, о чудесах, о пророчестве — о «Ста Годах».
— Все это разговоры, — лаконично ответил Алекс, не спуская глаз с высоко летящего гарганийского чирка, который казался маленьким темным пятнышком в спокойном небе.
— Правильно, разговоры. А где ты видел беду, которая начинается иначе? Впрочем, на этот раз речь идет не только о разговорах. Ты не помнишь тот год, когда английское правительство приказало армии идти на Кабул? Тебя еще здесь не было. Так вот, среди индусов в армии стало накапливаться недовольство после того, как войска форсировали Инд. Все помнили и рассказывали друг другу историю другого похода. Тогда раджа Маун-сингх также переправился через эту реку с большой армией, намереваясь затеять войну с афганцами. Он еще сказал всем, что индуистская религия не распространяется дальше Инда и что это плохо. Он выстроил на противоположном берегу храм и приказал всем брахманам оставить в нем свои священные нити, которые являлись символами их касты. Так вот, когда армия Компании подошла к Афганистану, наступили холода. Такие холода, которых невозможно было себе представить. Солдаты не имели возможности совершать омовения перед принятием пищи, нарушая тем самым древний и священный обычай. Они были вынуждены одеваться в поштины[23], поскольку стояли лютые морозы и непрерывно валил снег. А ведь уважающий себя человек никогда по своей воле не коснется шкуры мертвого животного! Словом, когда армия вернулась в Ферозепур, солдаты-индусы обнаружили, что их соплеменники не желают общаться с ними и говорят, что они стали отщепенцами, что они замарали себя. Мусульмане также были разгневаны тем, что Компания заставила их воевать с единоверцами, что запрещено Кораном.
— Я все это знаю и слышал, — терпеливо проговорил Алекс. — Все это старые песни. Конкретнее есть что-нибудь?
— Конкретнее? Пожалуйста: среди сипаев растет недовольство, жажда отмщения. Эта старая их печаль, которая до поры до времени дремала, а теперь вот проснулась и снова становится предметом разговоров. Они говорят, что Компания унижает их достоинство и делает их отщепенцами в родной стране. Потеря касты для индуса — вещь очень тяжелая. Именно это они и приписывают Компании. И железные дороги, и телеграф, и больницы, не говорю уж о тюрьмах — все это, по мнению сипаев, есть всего лишь хитроумные орудия для уничтожения касты. А глупости вроде миссионерского движения только подливают масла в огонь. Миссионеры и офицеры Компании постоянно твердят индусам о том, что их обычаи и традиции — от лукавого и должны быть уничтожены. Возможно, это так, но и обычаи, и традиции имеют глубокие корни. Компания хочет срезать стволы и думает, что на этом все закончится. Как бы не так!
Нияз аккуратно взялся за остаток самокрутки, сделал глубокую затяжку и стал медленно выпускать дым через нос. Алекс сидел рядом и молчал. Нияз, в сущности, до сих пор не сказал ему почти ничего, чего он и так не знал. Впрочем, Алекс решил не торопить своего друга.
— В Индии есть такой древний обычай, — продолжал между тем Нияз. — Если у человека нет наследника — сына, он вправе взять в дом чужого, усыновить и сделать из него своего преемника. Нечестивцы верят в то, что сын — родной или нареченный, неважно, — избавляет своего отца от ада, который они называют Пат. Если нет сына, который позаботится о похоронах отца, тогда тому не видать вечного блаженства. Так говорят нечестивцы. Поэтому их священники и законники всегда разрешали усыновление чужих детей в семье, где некому продолжать мужскую линию. И вот откуда ни возьмись появляется приказ Компании, в котором говорится о том, что если в родовитой семье нет кровного наследника, отец не имеет права передавать свои земли и титул приемному сыну. Вместо этого вся собственность переходит к Компании, а род со смертью отца прекращается. Таким способом Компания завладела уже не одним состоянием и из-за такой политики не один славный род уже навечно канул в Лету, превратился в прах…
Голос Нияза постепенно приобрел плавные, напевные оттенки. Зрачки его глаз увеличились, словно от наркотического воздействия табака. Казалось, он забыл сейчас о том, что сам является мусульманином, а не индуистом, и помнит только о том, что Индия — его родина.
— Сатарах… Нагпур… Самбалпур… Величие этих имен — уже история. Раджи Сатарахи происходили от Шиваджи, основателя империи Махратта. Они не совершили никакого преступления перед Компанией. Вся их беда была в том, что у последнего раджи не родилось сына. У них отняли их состояние. То же самое стряслось и с Пейшва. Нана Сахиб унижен несправедливым отношением к нему Компании, которая отказала ему в том, что принадлежало ему по праву согласно дедовским обычаям…
Алекс тихо проговорил:
— Это все индусы, а ты ведь последователь Книги Пророков.
— Это так. Но Компания добралась и до Оуда. В прежние времена короли Оуда всячески помогали английскому правительству и Компании. В результате был заключен договор, который гласил: «Никогда состояние королей Оуда не будет конфисковано англичанами». И что же? Его конфисковали. Да, возможно, за этим состоянием плохо присматривали, но это ничего не значит. И об этом говорят все. Говорят, что Оуд принадлежит Ваджиду Али и его роду. Плохо он управляем им или хорошо — неважно. Главное, что он ни разу ни нарушил свою клятву верности Компании. А если Компания обирает тех, кто ей служит, кто ей предан, что уж тут говорить? Каждый князек, каждый сирдар[24], да просто любой другой, кому есть что терять, — неважно, маленькое ли это хозяйство или огромные владения в много коссов[25], — трясется от страха. А тот, кто боится — опасен! Страх и ненависть могут сплотить между собой индуистов, мусульман, нечестивцев, богоизбранных. Сейчас страх и ненависть начинают распространяться из конца в конец по всей земле Индии.
— Что говорят?
— Говорят, что ферингисов[26] мало, что они разделены, что недавно северный народ, руссы, нанесли им такой удар в Крыму, что никто на помощь Компании оттуда не придет. Говорят, что Дост Мухаммед Хан, эмир Афганистана, поднимает восстание. Говорят, что персидский шах поддержит его и общими усилиями они опрокинут англичан в море. Последнее, на мой взгляд, конечно, чепуха, — добавил Нияз после паузы и презрительно сплюнул на землю. — Дост Мухаммед скорее согласится подержать на ладони живую кобру, чем примет в союзники персов! Однако многие этому верят. Слух распространяется по стране с невероятной скоростью, проникает в города и деревни сотнями разных способов. Его несут от пултона[27] до пултона, от риссалы к риссале бродяги-паломники, идущие к гробницам Каши и Харамук, торговцы, муллы, священники-индуисты, мусульмане, брахманы, сикхи, джайниты. Этот слух разносит и женщина, которая несет воду из колодца, и мужчина, который тянет на своем поле плуг. Каждый индус, мусульманин, нечестивец может стать разносчиком заразы. Каждый! Порох рассыпается по всей стране. Понадобится всего лишь искра, чтобы зажечь его.
Алекс щелчком послал окурок в воду, куда он упал, слабо зашипев и вспугнув маленькую птичку, которая до этого плавала всего в ярде от них, не обращая внимания на голос Нияза. Она вспорхнула, махая крыльями. Это была красношеяя брахманская утка. Она пронеслась над головами людей. Звук очень походил на тот, который издает рвущийся кусок шелковой материи. Птица перелетела на противоположный берег и села там. Розовый и шафрановый оттенки заката уже исчезли, небо окрасилось зеленоватым светом. Над головами Алекса и Нияза проступила лишь одна-единственная звезда, которая мерцала, будто драгоценный камень.
Алекс свернул еще самокрутку и спросил:
— И как отыскать эту искру? Она уже есть?
— Пока нет. Заговорщики ищут ее. Они понимают, что нужно дать только первый толчок пожару. Они ищут повод, но не простой, а который заинтересовал бы в равной степени мусульман, индуистов и всех других. Ибо если одно племя восстанет без поддержки другого, Компания, какой бы слабой и малочисленной она ни была, сумеет одержать верх. Поэтому заговорщики не торопятся, ищут повод с крайним прилежанием, выжидают.
— Понятно, — задумчиво сказал Алекс, передавая Ниязу самокрутку. — Но им очень непросто будет найти мотив, который объединил бы мусульман, индуистов и сикхов, заставил бы их забыть хоть на время о различиях.
— Компания, разумеется, не преминет помочь им в этих поисках, — со злой иронией в голосе проговорил Нияз. — Я что-то не пойму… Твои соотечественники слепы? Глухи? Безумны? Почему они не могут разглядеть очевидного?
— Нет, видят и слышат они хорошо, — возразил Алекс. — Дело в другом. Они самонадеянны. Это наша национальная черта, понимаешь… Мы привыкли рассматривать себя лишь в качестве… благодетелей что ли, перед которыми такие, как ты, — Алекс поддразнил Нияза злорадной усмешкой, — могут испытывать лишь восхищение и преклонение.
— Значит, прошлые волнения так и не стали для вас уроком? — презрительно фыркнул Нияз.
— Увы. Мы, англичане, — ангрезис, как вы нас называете, — такие, какими нас создал Господь. Нас уже не изменить. Все то, о чем ты мне сейчас рассказал, в точности, произошло лет сорок назад в королевстве, которое принадлежало Хайдару Али. Даже тогда у нас были люди, которые имели острые глаза и чуткие уши и умели пользоваться ими. Но над ними издевались, их предостережения высмеивали. То же самое происходит и сейчас.
— Я слышал о тех волнениях, — пробурчал Нияз. — Тогда возникли проблемы с выплатой жалованья. Как и сейчас, тогда нужна была всего лишь искра, чтобы зажечь пожар. Англичане поднесли эту искру недовольным на блюдечке. Они приказали индусам надевать кожаные головные уборы, сделанные из шкур коров, которые в Индии почитаются, как священные животные. Мусульманам было приказано носить шляпы из свиной кожи, а тебе известно, как мы относимся к этому нечистому животному. Тогда солдаты-индусы и солдаты-мусульмане восстали и перебили своих офицеров. Тогда все говорили о том, что необходимо избавить землю предков от тех, кто уничтожает касту. Сегодня по стране ходят те же самые разговоры. Только на этот раз пожар не удастся погасить так быстро, потому что на этот раз он вспыхнет не только на юге, но также на севере, западе и востоке. И многим суждено будет сгореть в этом адском пламени! Это я тебе говорю точно. Не зря весь прошедший год я подслушивал, о чем говорят по дорогам, по базарам, в городах, в караван-сараях, на привалах!
Алекс беспокойно задвигался. Мягкие тропические сумерки почти угасли, и он уже нечетко различал лицо Нияза.
— Все это разговоры, не больше! — резко проговорил он. — Какие доказательства заговора?
— Доказательства? — переспросил Нияз и зло хохотнул. — Это слова настоящего сахиба! — Он произнес слово «сахиб» с таким выражением, с каким произносил его Кишан Прасад.
— Я тебе солгал хоть раз? Как ты можешь требовать доказательств? Разве тебе недостаточно того, что говорит тебе не кто-нибудь, а я. Я тебе друг, а не адвокат в суде.
— Гулам, — тихо проговорил Алекс. — Ты мне брат, хоть и не кровный. И если бы ты мне не был братом, за такие слова я швырнул бы тебя в воду!
Нияз в притворном страхе выставил перед собой руки.
— Марф каро, сахиб[28]!
Алекс поймал Нияза за руку и прижал ее к земле. Наступила напряженная пауза. Они сидели друг против друга. Нияз пытался оторвать руку от земли, а Алекс не давал ему это сделать. Так они молча боролись с минуту или больше.
— Значит, все-таки хочется искупаться? — тихо, но твердо спросил Алекс.
— Нет, хватит, Марф каро, бай[29].
— Так-то оно лучше, — отпуская его руку, проговорил Алекс.
Нияз потер запястье и усмехнулся.
— Что ж, хорошо, по крайней мере, то, что твое пребывание в Белаите[30] не лишило твои мускулы прежней силы. Кстати, что за побрякушку ты носишь? Любовный амулет, да?
— Это?.. — Алекс кинул взгляд на изогнутое серебряное кольцо с тремя небольшими красными камнями и покачал головой. — Нет, это подарок от человека, за удовольствие увидеть труп которого я много бы дал.
Он обо всем рассказал ему, а когда назвал имя, то Нияз с каким-то зловещим присвистом и шипением выпустил изо рта воздух.
— Кишан Прасад! — воскликнул он. — Я слышал об этом человеке. И если все, что я слышал, правда, то лучше бы уж ты отрубил себе правую руку, чем подарил ему жизнь.
— Как по-писаному говоришь, — философски заметил Алекс.
— Бешак[31]! — мрачно проговорил Нияз. — Впрочем, думаю, это колечко еще сослужит тебе службу в свое время. Возможно, с его помощью ты получишь то доказательство, которого требуешь.
— Мне это доказательство не нужно, — сдержанно сказал Алекс. — То, о чем ты мне рассказал, я знал и без тебя. Ты это властям расскажи и попробуй их убедить. Недавно генерал-губернатор уехал в Англию и заявил там всем, что здесь все мирно, все хорошо, все спокойно, народ Индии доволен и все такое прочее.
— Какой же он дурак! — фыркнул Нияз.
— Поэтому в Англии никто не прислушивается к предостережениям, — закончил свою мысль Алекс, внешне проигнорировав реплику Нияза.
— Перед резней в Веллоре вы тоже ни к чему не прислушивались, — буркнул Нияз.
— Верно. Сейчас обстановка похожа на ту, которая была перед Веллором. У нас есть одна поговорка… Тех, кого Бог хочет наказать, он лишает его рассудка.
— Как точно! — воскликнул Нияз. — У тебя будет доказательство, брат, только вряд ли от этого тебе станет получше.
— Да? — внезапно заинтересовавшись, переспросил Алекс. — Я знал, что ты чего-то не договариваешь. Хватит выписывать круги на воде и давай прямо к делу!
Нияз рассмеялся.
— «Мы такие, какими нас создал Господь», — передразнил он. — Нас уже не изменишь. Вот в этом вы все, англичане. Беретесь сразу за главное, не оглядываясь по сторонам. Да, я умалчивал до сих пор об одной вещи. Я бы не стал тебя беспокоить одними базарными слухами.
Он тревожно оглянулся через плечо, словно хотел точно убедиться в том, что их никто не подслушивает. Впрочем, место для разговора они выбрали действительно удачное. Даже шакал не смог бы подобраться к ним ближе, чем на пятьдесят ярдов, не будучи обнаруженным. Нияз наклонился к уху Алекса, решив быть осторожным до конца и, понизив голос почти до шепота, произнес:
— Я узнал, что в одном месте близ Канвая назначена одна встреча. Это к северу от Битаура, в пределах Оуда. Те, кто знает об этой встрече, очень рискуют. Но таких мало. Может, сотня во всей Индии. Не больше.
— Как же ты узнал? — тихо спросил Алекс.
Нияз поднял руки ладонями вверх в каком-то непонятном жесте.
— С помощью женщины, как же иначе? Ее муж стар и много пьет. Книга Пророков запрещает пить вино, и правильно, ибо это зелье развязывает языки. Многие тайные планы были разрушены, как только их доверили пьяницам. А женщины любопытны на чужие тайны. А еще больше любят рассказывать их. Из праздности ли, из злости ли, или… — Нияз усмехнулся, — из любви.
— Значит, об этой встрече тебе рассказала та женщина. Она не солгала?
— Конечно, нет! Клянусь жизнью! Я не знаю, о чем будут говорить те, кто придет на встречу. Я не знаю, что они будут там делать. Но знаю одно наверняка: эта встреча не сулит ничего хорошего. Поэтому я решил, нам было бы неплохо узнать, что конкретно затевается. Встреча состоится ночью через двенадцать дней. В самый разгар ярмарки в Канвае. Мне пришлось побывать в развалинах старого богатого дома. От него почти ничего уже не осталось. Куча камней да пробитая стена, почти уже проглоченная подступающими джунглями. Неприятное место, впрочем, и те, кто там будет встречаться — безумцы. С точки зрения конспирации, все, однако, продумано неплохо. К развалинам ведет всего одна дорога. Со стороны фасада. С других сторон — непроходимые джунгли. Дорога идет по дну оврага. Заканчивается она там, где раньше был вход в дом, теперь совсем разрушенная. Дорога узкая. Одновременно по ней может пройти только один человек. И каждый проходящий обязан назвать пароль. Он мне известен.
И снова Нияз стал тревожно озираться в опустившихся сумерках. Со всех сторон их обступала темная тишина. И только откуда-то издали еле доносился вой шакала, которому, видно, так же светила одинокая вечерняя звезда. Затем Нияз вновь повернулся к Алексу, и даже тьма не могла скрыть блеска его глаз и сверкающих зубов.
— Чертяка! — воскликнул Алекс по-английски, точно так же сверкая глазами. — Нияз, такие, как ты, заканчивают свой жизненный путь в петле палача, учти! Представляю, как ты рисковал! Слушай, а наша перевернутая дак-гари, небось, тоже твоя работа?
Нияз только отмахнулся.
— Я посчитал, что без этого не обойтись, — беззаботно ответил он. — И потом, кучер мой недруг. Он оскорбил меня, и я чувствовал, что нужно вернуть должок. Он увлекается опиумом, так что быстро задремал на дороге. Оставалось только чуть дернуть в сторону поводья и — дело сделано.
— А если бы я свернул себе шею, о, сын Иблиса?!
— Да, ну, вас прямо! Ну, пара царапин, ну, синяк-другой — это максимум. Нам необходимо было как-то отделаться от попутчиков. Так что? Пойдем в Канвай?
— Разумеется, — тут же ответил Алекс и рассмеялся.
Такой мужской смех можно было услышать порой на поле боя, когда отдан приказ к кавалерийской атаке. Так смеются только мужчины. Женщинам этот смех кажется демоническим. Нияза он не смутил, так как он ответил на смех Алекса точно таким же смехом.
Над их головами в темноте прошелестели крылья птицы. Не долго думая, Алекс вскинул ружье и выстрелил. Раздался плеск воды, затем еще один, футах в двадцати от них. Спокойная поверхность воды тут же разошлась кругами. Нияз мгновенно вскочил на ноги и пошел за подбитой птицей. Алекс сломал ствол ружья пополам и вынул из дымящихся каналов гильзы.
— Новая игрушка, — сказал вернувшийся Нияз. — Я раньше не видел ружей, которые заряжаются таким способом.
Он внимательно осмотрел зарядный механизм двустволки, напрягая зрение в густом полумраке, затем резким движением выпрямил ружье и подобрал с земли подстреленных птиц.
— Пора нам. Пошли в дом.
Они покинули берег джиля и направились через темную равнину обратно, к огоньку дака. Небо над их головами зацвело звездами, где-то за пастбищем подняла зловещий вой стая шакалов. Когда они вошли во тьму манговой рощи, Нияз чуть поотстал. Он должен был исправно играть роль исполнительного ординарца, которому разрешено следовать за английским офицером не ближе чем в шести шагах.
Алекс тут же лег спать, у Нияза были еще дела. С ними он справился как надо, доказательством чему служило появление ранним утром около веранды дака старосты деревни и трех лошаденок. Нияз сообщил:
— За эту жалкую троицу, произведенную неизвестно от какой мамаши, староста заломил непомерную плату в сто пятьдесят рупий!
Эти слова вызвали у старосты бурю протестов. Он заявил, что по деревенским меркам сто пятьдесят рупий за трех «скакунов» — это почти что даром.
— Убери его, пока я не оглох! — взмолился Алекс. — Очень хочу надеяться, что эти красавцы не рассыплются под нашей тяжестью в пыль, хотя и сомневаюсь в этом.
— Лучше уж попытаться что-нибудь выжать из них, чем отдаваться на милость даки-гари, которые либо пьяницы, либо наркоманы, — сказал Нияз, подавая старосте серебряную монету. — Надеюсь, Господь не допустит, чтобы кто-нибудь из нашей риссалы увидел нас на отчаянных конягах! Вон та дальняя… она способна разве на то, чтобы везти наши пожитки. Если она, конечно, вообще на что-либо способна.
Они выехали с постоялого двора в то же утро; их поглотила обширная, полная загадок земля, и они затерялись среди миллионов разноязычных индусов, словно две песчинки на бесконечных равнинах.
Глава 16
Спустя десять дней на пыльной дороге, ведущей из Каунпура в Оуд, появился странствующий торговец игрушками. Мешок его был наполнен всякими безделицами. У него не было помощника, но сам он был весел, отличался на редкость общительным характером, и легко вступал со своим братом-путешественником в беседы либо прямо в пути, либо на привале. На одной из таких остановок он познакомился с группой фокусников, ехавших на ярмарку в Канвай — небольшую деревеньку, находившуюся на границе Оуда недалеко от Битаира.
Его остроумие и величавость, которые он проявлял, продавая свои игрушки, очень пришлись по душе руководителю группы фокусников, и тот предложил Джату в свободное от торговли время быть зазывалой у фокусников. За это ему обещали харчи и, — если выручка будет солидной, — небольшой процент от нее. Такой разговор вполне устроил обе стороны.
С противоположной стороны, из Фатигара, к Канваю приближался стройный и жилистый патанец. Он сидел верхом на костистой и норовистой крестьянской кобылке и вел на поводу еще двух весьма жалких лошаденок. Он также направлялся на известную ярмарку. Его одежда, речь, тяжелый взгляд светлых глаз на смуглом от загара лице говорили о том, что это сын пограничного племени из Усафзая. Он отличался веселым нравом, по дороге постоянно распевал во весь голос песенки всякого рода, — в том числе и весьма легкомысленные, — а также был не прочь завязать дружеский разговор с любым человеком, встретившемся ему на дороге.
Всякому, кто желал его послушать, он рассказывал о том, что его кузен Ассад Али привел с севера табун лошадей, намереваясь продать их с большой выгодой для себя в Пенджабе или Рохилкенде. Торговля шла очень бойко, но кузен вдруг ни с того ни с сего загнулся от холеры в какой-то деревеньке около Дели. Когда он умер, все его помощники разбежались из страха подцепить заразу. При этом они прихватили с собой всю выручку. В результате он, Шередил, остался один. В Карнале он поймал трех последних захудалых лошаденок из табуна кузена, которых тот не успел продать. Теперь вот приходится тащиться с ними по пыльным дорогам. Впрочем, он все еще надеется, что ему удастся сбыть их с рук где-нибудь южнее. А недавно он услышал от кого-то о ярмарке в Канвае и решил попытать счастья там.
В его широкий пояс был заткнут длинный патанский нож, через плечо висел старый, но еще исправный жезаил[32], имелось и приличное количество патронов. Шередил предпочитал ехать по самой середине дороги (Алекс всегда верил в присловье о том, что лучше всего прятать вещь, положив ее на самое видное место).
Канвай в народе называли городом, но на самом деле это была обычная деревенька, известная лишь своей ежегодной ярмаркой, которая устраивалась в честь договора, заключенного между двумя враждовавшими кланами, пытавшимися много лет назад уничтожить друг друга. Причем последние поколения врагов уже даже не знали, в чем кроется причина их вражды. Просто убивали друг друга потому, что так делали их отцы и деды.
Ярмарочная площадь была окружена рядами торговцев сладостями, игрушечных дел мастеров, лошадников. Здесь можно было как следует поразвлечься: фокусники, акробаты, факиры, глотающие огонь; потрепанный и жалкий, но хорошо дрессированный мишка; укротители ядовитых змей и наконец предсказатели. А по ночам группа пиротехников устраивала мощные фейерверки, запуская в воздух ракеты, которые лопались с резким треском, приводя в суеверный ужас жителей.
В первый вечер ярмарки пиротехники устроили настоящее представление. Огни, рассыпавшиеся в ночном небе, освещали лица завороженно запрокинувших головы зрителей красным, зеленым и янтарным цветом. Казалось, все неотрывно смотрели на зрелище. Однако при внимательном наблюдении, в неровном свете взлетающих огней можно было заметить, как то и дело из толпы по одному или по двое выходят какие-то люди, и, пробираясь полями за деревней, выходят на невспаханную землю, за пастбища, скрываясь во тьме плотной стены джунглей…
Шередил из Усафзая пошел тем же путем, но зацепился в темноте за какой-то корявый сучок шипового дерева. Тихо выругавшись на пушту, он освободился и тут же замер в напряжении. Тень, которая следовала за ним по пятам, увеличила шаг, и вскоре раздался шепот:
— Ага! Ты с севера… — При этих словах незнакомца Алекс весь напрягся и его рука легла на рукоять ножа, заткнутого за пояс. — Что ты здесь делаешь? Ты патанец, а не индус!
— Я пришел сюда для того, чтобы донести слово истины до моих людей за границей, — зашептал Алекс на хинди. — А ты?
— Я пришел сюда с той же целью. Я должен донести слово истины до Бенгалии, до Берхампура и Муршидабада. Ты из какого пултона?
— Ни из какого. Но зато зять моего кузена служит даффадаром[33] в Гидесе, — солгал Алекс. — Он думает так же, как и мы. А у тебя какой полк?
— Девятнадцатый Бенгальский Пехотный.
Алекс понял, кто перед ним стоит. Это был сипай в отпуске, копейщик, который к тому же пользовался большим влиянием в своем полку, раз был послан сюда представителем. Познакомившись с Алексом, он прошел вперед и скоро растворился во тьме.
Свет от фейерверка то и дело вспышками освещал тропу. Напрягая зрение, Алекс мог заметить, что впереди и позади него в одном и том же направлении идут люди. Тропинка была очень узкая и извилистая, она огибала каждый кустарник шипов, заросли бамбука, дак-деревья и слоновью траву. Люди шли быстро, строго соблюдая приличную дистанцию друг от друга. Нияз осмотрел окрестность острым взглядом опытного разведчика. На пыльной дороге он набросал примерную карту местности, но она не содержала ни единой фактической ошибки или неточности. Поэтому даже ночью Алекс, зная обо всех особенностях рельефа, не мог заблудиться и знал, что его может ждать впереди.
Тропинка, — это была козлиная тропа, — тянулась в джунгли как будто совершенно бессмысленно, между зарослями высокой травы и бамбука. Наконец, она вывела к песчаному склону, по которому можно было спуститься в глубокий овраг. Если посмотреть направо, то было видно, что овраг заканчивается тупиком, но налево он сужался и уводил куда-то вдаль. Алекс следовал за сипаем, с которым повстречался несколько минут назад, держась от него всего в десятке ярдов. Сипай повернул в овраге налево. То же самое сделал и Алекс. Ему показалось, что овраг перегорожен какой-то каменной плитой. Сипай шел впереди, не замедляя шага. Он словно исчез в этой каменной стене! Алекс всю дорогу благодарил про себя Нияза за то, что он так хорошо разведал обстановку. Вот и сейчас он не растерялся, так как знал, что в каменной стене есть узкий ход. Две каменные глыбы, перегородившие овраг, как бы «находили» одна на другую, если смотреть на них прямо. К тому же проход был скрыт от любопытного глаза лесными растениями и корнями деревьев. Только при внимательном взгляде, при свете дня, можно было увидеть проход.
Вид этого оврага неожиданно и неприятно напомнил Алексу о другом овраге, который находился в сотне миль к северо-западу от Оуда. Однажды жарким и солнечным утром семь лет назад какой-то черт дернул Алекса спуститься туда. Тот овраг также был завален скалой. Алекса охватило праздное любопытство, и после недолгих поисков он отыскал в камне небольшую дыру. Когда он пролез в нее, то оказался лицом к лицу с огромным тигром, приближавшимся к скале с противоположной стороны. Ему до сих пор помнились дикие желтые глаза на огромной, покрытой черными полосами морде… Он до сих пор помнил, как дрогнули густые бакенбарды зверя, как он страшно оскалился, как напряглись мускулы перед прыжком… Вдвоем они никак не могли ни развернуться, ни разойтись на узком дне оврага. С Алексом, охотившимся тогда на куропаток, был только его дробовик. Он выстрелил из обоих стволов в упор. Падая, тигр успел задеть его своей огромной лапой, увенчанной острыми когтями. Отметина у Алекса осталась на всю жизнь.
Сейчас старый шрам горел так, будто появился только что. Он знал, что за скальной плитой на этот раз лесного зверя не будет, но знал также и то, что там его подстерегает опасность куда более страшная — человек.
Дыра в каменной плите была такая узкая, что одновременно в нее мог пролезть только один человек. Нияз сообщил ему, что за дырой лежит узкий сводчатый туннель — остатки внешнего входа в крепость, полуразрушенные стены которой были справа и слева, заросшие деревьями и кустарником. Алекс услышал за спиной шорох шагов. Это еще один конспиратор пробирался через завал в овраге. Стиснув зубы, Алекс пошел вперед по туннелю.
Не пройдя и четырех шагов в темноте с вытянутыми перед собой руками, он уткнулся в древко копья, загородившего дорогу. Копье тут же исчезло. Помедлив с пару секунд, Алекс вновь двинулся вперед и услышал, как копье вновь поднялось за его спиной. «Следит за тем, чтобы одновременно проходил только один человек», — понял Алекс.
Он не видел впереди света, и его руки беспокойно скользили по грубой каменной стене. Нияз говорил, что туннель внешнего входа длиной не более десяти шагов. Алекс знал, что на выходе из туннеля его опять проверят. Впереди немного посветлело, черная темень стала сереть… И тут он почувствовал, как что-то коснулось его груди. Это была окованная железом латьи[34], какими обычно вооружены ночные часовые. Почти в ухо Алексу кто-то прошептал:
— Пароль.
— Белый козленок для Кали.
— Проходи, брат.
Латьи освободила путь, и Алекс вышел из туннеля на открытое пространство.
Здесь склоны оврага были круче и уже. Джунгли зловеще нависали над оврагом, вплотную подступая к нему. Здесь было почти так же темно, как и в туннеле. Затем темнота стала постепенно слабеть, и вскоре Алекс увидел впереди свет факела, светивший сквозь кустарник. Внезапно овраг кончился, и Алекс вышел на открытое место перед развалинами древней крепости-дворца.
Свет звезд, полумесяца, зажженных факелов и отблески все еще взлетавших вдалеке ракет фейерверка неровными вспышками освещали стены без потолка и давно рухнувшие колонны, полузаросшие кустами и лианами. Гигантское пипул-дерево расщепляло своим стволом камни помещения, которое когда-то, возможно, было залом для приемов. При таком слабом освещении очень трудно было определить, что за тени попадались под ногами тут и там: то ли лежащие колонны, то ли огромные корни этого лесного гиганта. В Индии полно таких развалин, которые олицетворяют собой останки городов и династий, давно канувших в Лету и в забытье. Теперь здесь были норы змей, лисиц, обезьян и логовища диких кабанов.
Алексу показалось странным, что организаторы встречи заговорщиков решили собраться именно здесь. Впрочем, атмосфера у этого странного места была под стать их зловещим замыслам. И хотя развалины находились меньше чем в полумиле от Канвая и от дороги, найти их случайный человек не мог. Через минуту Алекс понял, что поляна, на которой он оказался, не естественного происхождения — это были остатки каменного двора под открытым небом. Ощетинившиеся шипами кусты и жесткая трава пробили себе дорогу в песчаных плитах двора, но джунгли не смогли пока поглотить его целиком и только окружили плотной стеной, через которую даже лучи солнца не пробивались.
Двор был заполнен тенями людей. В воздухе стоял приглушенный гул разговоров. Алекс стоял рядом с копейщиком из 19-го пехотного Бенгальского полка, который тяжело и шумно дышал. В дальнем конце двора, где можно было увидеть полуобвалившиеся ступени разрушенного крыльца, ведущего в холл дворца, стояли два факельщика. Их факелы, сделанные по-крестьянски из высушенной травы, сука и смолы, отчаянно чадили. Факельщики стояли неподвижно, словно кого-то ожидая. Оранжевый свет факелов отбрасывал какие-то жуткие блики на их глаза навыкате, на их словно каменные лица, а также на волнующуюся и шепчущуюся толпу и кидали гротескные тени на стену обступивших двор джунглей.
Вдруг за спиной Алекса ощутилось какое-то движение и толпа стала расступаться. Алекс обернулся и увидел шестерых мужчин в темных плащах, вышедших из туннеля. Кажется, именно их и ждали собравшиеся. Шестеро молчаливых мужчин, словно ножом разрезали толпу, и она расступилась перед ними. Все шестеро прошли к крыльцу, где стояли факельщики, и остановились там. Их ждала уже какая-то маленькая группа людей. Они обменялись между собой вполголоса несколькими фразами. Толпа между тем прекратила шорох и разговоры. Все стали отчаянно прислушиваться к тому, что говорилось на крыльце. Впрочем, вряд ли бы он понял что-нибудь, даже если бы стоял совсем близко, так как именно в ту минуту пиротехники на ярмарке в деревне выпустили в воздух целую очередь ракет, огласивших своим лопающимся треском все окрестности.
— Слишком все легко… — бормотал себе под нос Алекс. Он думал, что пришедшие последними люди в темных плащах поднимутся сейчас на последнюю ступеньку крыльца и оттуда начнут «накачивать» толпу. — Слишком все просто… Должно быть что-то еще…
Ни с того ни с сего вдруг в его голове завертелась строчка из детского стишка: «Заходите ко мне в гости, — мухе предложил паук»…
«Я вошел сюда легко. Удастся ли так же легко отсюда выйти?..»
Наконец люди в темных одеяниях, стоявших рядом с факельщиками, повернулись, и стали подниматься по ступеням крыльца, как ожидал Алекс. Они прошли мимо факельщиков и… просто исчезли! Будто земля разверзлась под их ногами и поглотила их!
С того места, где стоял Алекс, иллюзия исчезновения была настолько полной, что он услышал, как стоявшие рядом с ним ахнули и отшатнулись. Краем глаза глянув в сторону пехотинца-сипая, Алекс увидел, как тот схватился рукой за тайный амулет, который носил под рубашкой.
Затем толпа зашевелилась, и все медленно стали подаваться вперед. Вскоре Алекс понял, что факельщики стоят по обеим сторонам шахты, уводившей вглубь земли, и каждого проходящего мимо них они останавливают на несколько секунд и внимательно рассматривают.
Вдруг кто-то коснулся его руки. Алекс резко обернулся и увидел перед собой Джату, продавца игрушек.
— Меня не пустят.
— А ты попробуй кольцо! — горячо прошептал Джату Алексу на ухо и тут же растворился во тьме.
Алекс медленно, шаг за шагом, продвигался вперед. Между лопатками противно покалывало, во рту пересохло. На какую-то долю секунды ему явилась страшная мысль: «А вдруг кольцо ничего не будет значить в глазах факельщиков?.. Что произойдет? Меня, наверное, отодвинут в сторону или…»
Свет факела ударил ему прямо в лицо, и нервы его мгновенно натянулись, словно струны, готовые лопнуть, но рука, которую он протянул вперед, не дрожала.
Три маленьких камешка на перстне Кишана Прасада излучали красноватое свечение под огнем факела. Само кольцо показалось маленьким и невзрачным. Но люди, державшие в руках факелы, тотчас узнали и признали его. Один из них наклонился вперед и стал внимательно рассматривать перстень. Потом он пробормотал какие-то слова, которых Алекс не разобрал. Затем Алекса официально поприветствовали и дали пройти. Он прошел мимо факельщиков и оказался возле отверстия в земле. Вниз вела узкая лестница. Ступив ногой на первую ступеньку, Алекс ясно почувствовал, как на лбу выступил холодный пот и увлажнились ладони.
Вход в шахту обычно закрыт огромной каменной плитой, которая сейчас была поднята канатами вертикально. Для того, чтобы сдвинуть этакую махину, понадобится напряжение всех сил двух крепких мужчин, если не больше, машинально подумал Алекс. Стены шахты были гладкие и сухие, а обшарпанные ступени лестницы — такие крутые и узкие, что по ним мог одновременно спускаться только один человек, да и то очень медленно. Алекс не подозревал, что шахта ведет так глубоко под землю. У него появилось ощущение, что это ловушка. Вдруг возле самого лица пролетела летучая мышь, коснувшись своим крылышком его щеки. Это означало, что в подземелье где-то есть еще один вход…
Спустившись по лестнице до конца, Алекс оказался в большой комнате. Грубые каменные колонны поддерживали сводчатый потолок.
Было трудно оценить размеры помещения, ибо дальние стены, скрывавшиеся за колоннами, терялись во тьме. Свет исходил только из жаровни, установленной на железной треноге в дальнем конце комнаты. Неровный огонь, трепетавший на жаровне, повсюду отбрасывал зловещие блики. Каменный пол и колонны были на ощупь скользкими и влажными, в отличие от стен шахты. При свете жаровни, подняв глаза кверху, Алекс увидел, что меж каменными плитами сводчатого потолка прорастают корни деревьев. Понятно тогда, почему здесь относительно легко дышится и почему здесь обитают летучие мыши. Возможно, когда-то эта потайная комната служила хранилищем сокровищ царька этого дворца или использовалась для отправления зловещих религиозных обрядов. Последнее предположение подкреплялось наличием каких-то надписей, вырезанных на стене позади жаровни.
На каменном полу между колоннами уселось тридцать-сорок человек. Впрочем, Алекс не исключал того, что многих он не видит из-за слабого освещения. Он пробрался к одной из колонн и сел рядом, по-индусски, прислонившись к ней спиной. Вокруг него сидели тяжело и шумно дышавшие люди. Омерзительно воняло немытым человеческим телом. Глаза постепенно привыкали к полумраку, и Алекс стал рассматривать собравшихся. Здесь были, в основном, священники, представлявшие, казалось, все возможные секты и направления. У всех были дикие глаза, многие были измазаны сажей от костров, кое на ком не было одежды, на других были накинуты плохо выделанные шкуры животных. В глаза бросались отливавшие матовой тусклостью волосы, безобразные прически. Здесь присутствовали байрагисы, бикшусы, париараджака, агорины, в привычках которых было воровать и есть трупы. Были здесь и те, кто поклонялся дьяволу, — монахи нищенствующего ордена Мистики.
Алекс содрогнулся, его тело стало покрываться мурашками. Он про себя благодарил Бога за то, что догадался прислониться спиной к прохладному камню колонны. Впрочем, его испугало вовсе не присутствие рядом с собой индуистских аскетов. Испугало то, что здесь они были не одни. Это казалось невозможным, немыслимым, невероятным. В этом мрачном подземелье собрались не только сикхи, но и мусульмане, последователи Книги Пророка, которые считали всех индусов собаками и неверными. Здесь были те, кто поклонялся Шиве-Разрушителю, Вишну, Брахме, Ганешу с головой слона, многорукой Матери Кали-кровопийце. Казалось, здесь собрались представители всех религиозных направлений и сект, какие только существовали в мире в данный момент.
Значит, это правда… Значит, мусульмане и индуисты и вправду решили соединиться в борьбе против Компании, против белолицых иностранных завоевателей, которые властвовали в этой стране вот уже сотню лет. Алекс понимал, что это сборище возможно только при наличии общих мотивов и общей ненависти.
В дальнем конце комнаты над сидевшими возвышалась высокая фигура какого-то человека. Он мрачно смотрел на море голов, заполнивших собой пространство между каменными колоннами. Жаровня горела за его спиной, и поэтому Алекс не мог видеть его лица, но по голосу и одежде догадался, кто это мог быть.
Это был мусульманин. Возможно, представитель Оуда. Он был высок ростом и на удивление красноречив. Он говорил спокойным тоном, напевно, словно читал молитву. Это был голос либо священника, либо искусного рассказчика. Он читал проповедь об угнетаемом, покоренном народе. О народе, который подвергался всевозможным притеснениям, был обманут, ограблен, и до сих пор хищнически эксплуатируется пришельцами с Запада, из страны, лежащей за Черной Водой. Он рассказывал о королях и принцах, которые погибли как герои, сражаясь с Компанией, или пострадали и были лишены всех прав. Он называл знаменитые фамилии, знаменитые дома, которые исчезли, словно песчаные барханы в пустынях Биканера. Он рассказывал о прежних законах, традициях, обычаях, религиозной терпимости. Говорил о том, что все это теперь либо отменено, либо урезано. Он рассказывал о простых женщинах, о королевах и принцессах, которых люди с Запада лишили всего и вынудили зарабатывать себе на жизнь на панели.
Его голос все повышался. Говорил он неровно, меняя тембр. Люди, сидевшие перед ним, медленно раскачивались из стороны в сторону и стонали в унисон проповеди. Создавалось такое впечатление, что все они марионетки, которые приводятся в движение одной веревкой, конец которой находится в руках говорившего. Даже Алекс… Алекс, который знал, что здесь правда, а что ложь, преувеличение и грязная фальшивка, почувствовал на себе гипнотическое воздействие этого гневного голоса… Он был против своей воли тронут до глубины души этой дикой, горькой и скорбной сагой о страданиях индийского народа. Он даже забыл на минуту о том, что он англичанин, что служит Компании… Он стал раскачиваться и стонать вместе со всей этой раскачивающейся и стонущей толпой…
Он не помнил, сколько времени длилась речь первого оратора. Может, час, может, два или даже три. Огонь в жаровне трепетал и танцевал, тень говорившего все время была в движении. Она то прыгала на стену, то вновь отшатывалась назад. Это заводило пеструю толпу сидевших перед ним людей еще больше. Эффект оказывало гипнотический, такой же, как и удивительный голос оратора. Алекс только помнил, что речь была закончена страстной мольбой, просьбой к единению:
— Эти из Компании… Их мало! Горстка! Они рассеяны по всей земле! Мы, те, для кого Индия является Родиной, не раз уже восставали против них, но всегда терпели поражение. Мы не могли до сих пор победить из-за того, что были разделены и враждовали друг с другом. Но ведь всем известно, что десять мужчин с одним сердцем могут сломить сопротивление ста мужчин с сотней сердец! Нам нужно только одно: чтобы мы объединились в едином сердце! Тогда мы избавим Родину от захватчиков навсегда! Давайте отбросим все наши различия и недоразумения и ударим единым махом!
Он вскинул руки над головой в диком жесте, толпа охнула и отхлынула назад, ибо в эту минуту с рук говорившего сорвался зеленый огонь, с каждого оттопыренного пальца. Эффект чуда не произвел впечатления только на Алекса. Ему приходилось наблюдать, как точно такой же трюк выполнял довольно средний иллюзионист в Лондоне. Постепенно осознание реальности вернулось к нему. Он успокоился, стряхнул с себя туман гипноза и почувствовал… холодок страшной опасности. Если этот человек смог так быстро и круто завести это безумное, фанатичное, деклассированное и разношерстное сборище, то он олицетворял собой самую страшную опасность, какая когда-либо вставала перед Компанией.
К жаровне вышел другой человек и тоже стал говорить. Это был индуист. Тема была та же, но в его резкой, истерично-страстной речи явно не хватало той гипнотической силы, которой была исполнена проповедь предыдущего выступавшего. Алекс позволил себе немного расслабиться и стал оглядываться по сторонам, стараясь запомнить и удержать в памяти как можно больше лиц присутствующих. Освещение было слабое, и Алексу оказалось нелегко справиться со своей задачей. Впрочем, ему показалось, что несколько лиц он хорошо запомнил.
Речь все продолжалась и продолжалась. Алексу стало неуютно. Он беспокойно заерзал на своем месте. В первые годы своей службы в Индии, когда они с Ниязом брали отпуска и уходили на охоту, Алекс научился сидеть по-индусски. Его забавляло это занятие: учить и копировать обычаи и привычки, а также речь местных жителей. Это было хорошим развлечением, даже какой-то игрой. Нияз был прирожденным артистом-мимиком, и он талантливо помогал Алексу. Впрочем, Алекс знал, что совершенства ему никогда не достигнуть. Сейчас он старался изо всех сил вписаться в тот образ, который для себя создал, и молил Бога, чтобы ни у кого из окружавших его не закралось в голову подозрение. Когда у Алекса в прежние годы бывали какие-нибудь важные переговоры, он умел терпеливо часами сидеть в позе индуса, не испытывая неудобства. Но весь последний год он провел в Европе. Мышцы отвыкли от этой причудливой позы, и теперь он расплачивался за это. Вся нижняя часть тела у Алекса отчаянно ныла. Он уже стал подумывать о том, чтобы встать и уйти отсюда. Он ведь не знал, когда этот ужасный спектакль наконец закончится. А уйти можно было относительно легко. Да и услышал он уже достаточно для того, чтобы полностью оправдался риск его появления здесь. Лестница шахты была от него не дальше, чем в полдюжине шагов. Никто ни в чем не заподозрит его, если он сумеет придумать убедительный предлог, чтобы покинуть это сборище.
Но он продолжал неподвижно сидеть на месте, привалясь спиной к колонне.
Заговорил уже третий человек. На этот раз к жаровне вышел священник-индуист, садху. Он говорил конкретнее тех, кто выступал до него. Основной мыслью его речи было: несите слово истины! Его необходимо принести в каждый город, в каждую деревню! Каждый человек должен пребывать в полной готовности. Необходимо раздобыть оружие и надежно укрыть его до поры. Где взять оружие? Украсть, если нельзя иначе! Каждый должен заточить свой меч, топор, нож, оковать железом свою латьи. Грядущий год должен стать Годом Пророчества, в который придет конец Ста Годам Притеснений!.. Захватчиков необходимо истребить. Всех до единого. Мужчин. Женщин. Детей. Чтобы до Запада не добрался ни один из них и не рассказал своим соотечественникам о том, что произошло в Индии.
— Несите слово истины! Несите слово ненависти! Несите слово! — вновь и вновь эхом по комнате разносился хрипловато-истерический крик говорившего. — А теперь мы приготовим знак для всего нашего народа! Как в прежние, дедовские времена!
С колен поднялся бритый монах и бросил что-то на жаровню. Пламя на секунду вспыхнуло с невиданной силой, на мгновение залив все помещение ярким светом и выхватив из тьмы все лица собравшихся. Вспышка была коротка. Когда она угасла и на жаровне остался прежний слабый и трепещущий огонек, комната вновь погрузилась во тьму. Второй монах затянул молитву, которую вскоре подхватили все собравшиеся.
Свет вспыхнул снова, но уже в тумане. Вокруг жаровни торжественно двигались два монаха. Люди тянули шеи вверх, стараясь увидеть самое главное. Алексу очень хотелось подняться на ноги и посмотреть на все свободно, ибо в сидячем положении головы и спины других все заслоняли ему. Но он оставался на месте, не желая привлекать к себе ненужное внимание. Он видел то, что происходит вблизи жаровни, лишь урывками. Монах что-то плеснул или высыпал на блюдо, установленное в жаровне. Похоже это была ата[35]. Человек, сидевший недалеко от жаровни, стал размеренно бить в небольшой барабан. Поначалу несильно, как бы аккомпанируя напевной молитве, которая неслась над головами людей. Но постепенно удары становились все громче, все неистовее. Голос монаха, читавшего молитву, также все повышался. Наконец, все это превратилось в какую-то дикую, безумную какофонию звуков. Собравшиеся все до единого во весь голос выкрикивали заклинание, в котором Алекс признал гимн во славу Кали:
— Кали! Кали! О, страшная зубастая Богиня! Пожри! Отруби! Уничтожь зло! Ударь своим топором! Схвати! Свяжи! Выпей кровь! Защити! Защити! Слава Кали!
Ряд мужчин, сидевших перед жаровней, вдруг вздрогнул. Один из монахов что-то швырнул на жаровню. Но на этот раз вспышка огня сопровождалась еще густым, чадящим дымом, он клубами взвился вверх, наполнил собой помещение и стал воздействовать на присутствующих. Алекс почувствовал удушающий запах какого-то курения: тяжелый, одуряющий, наркотический аромат, который, однако, наполнял душу безумным весельем. Другой монах на минуту ушел в тень и потом снова показался оттуда, таща за собой какое-то маленькое существо, которое слабо упиралось и издавало какие-то тоненькие, нечленораздельные звуки.
«Жертвоприношение, разумеется, — подумал Алекс. — Белый козленок во славу Кали. Они полоснут по горлу несчастного животного особым ритуальным ножом…»
Он увидел блик огня на длинном лезвии ножа. С того места, где сидел Алекс, видно было плохо, но он почувствовал, как вдруг отшатнулись и охнули первые ряды. Этот тяжелый вздох перекрыл на секунду даже оглушительный бой барабана. Дрожь волной пронеслась назад и докатилась до Алекса. Даже те, кто сидел на последних рядах, ощутили на себе весь ужас, который испытали первые ряды. Алексу стало страшно. Это был безотчетный, суеверный страх, парализовавший его на минуту. Он не понимал, что происходит. Только чувствовал, что от ужаса у него на мгновение пересохло во рту, встали волосы дыбом и выступил пот на лбу.
В ту минуту самым лучшим было встать и уйти, но Алекс просто физически не мог шевельнуться. Все мускулы свело судорогой от страха, прежде ни разу не изведанного им. Он был беспомощен, поражен примитивным, каким-то средневековым ужасом… И это был страх не перед смертью, это был страх от встречи лицом к лицу со Злом… Он слышал, как шумно и прерывисто дышат вокруг него люди. Ему казалось, что это волки. Они и внешне напоминали волков: бешено вращали обезумевшими глазами, высунули языки… Они окружали Алекса, совсем как стая ночных шакалов окружает раненую антилопу…
Дым наконец перестал срываться с жаровни, и пламя вновь очистилось. И как только это произошло, человек, сидевший прямо перед жаровней, вскочил на ноги и издал хриплый крик. Это был тот высокий мусульманин, который говорил на сходке первым. На какую-то долю секунды его лицо осветилось огнем жаровни. Это было грубое, с ястребиным носом лицо, с глубоко посаженными глазами и побелевшими от ужаса зрачками. Он выкрикнул что-то. Алекс не понял смысла. Барабан продолжал греметь, молитва превратилась в какую-то исступленную песнь. Кто-то из толпы оттолкнул мусульманина назад. В следующую секунду над жаровней чья-то рука взмахнула ножом, блеснувшим в неровном свете длинным лезвием. Затем рука резко опустилась. Раздался захлебывающийся крик агонии, резкий и высокий, он почти сразу же потонул в стоне, который издала толпа.
Этот крик не был похож на крик животного. Алекс вскочил на ноги и, увидев того, кто издал этот душераздирающий крик, бессильно отклонился назад, прижавшись спиной к скользкому камню колонны.
На каменной плите было распластано отнюдь не тело козленка. В лужице крови, стекавшей ручейками с плиты, лежал ребенок. Белый ребенок. Алексу бросились в глаза пшеничные волосы и маленький ротик, раскрытый последним криком ужаса и боли. Горло было перерезано, и в нем зияла огромная дыра. Это был мальчик. На вид ему можно было дать не больше трех-четырех лет. Его маленькое тельце неестественно белело на камне, залитом яркой алой кровью.
Слепая, безумная ярость охватила Алекса. На минуту он потерял рассудок и всякую мысль об осторожности. Рука его скользнула за отворот свободной патанской рубахи и пальцы сомкнулись на рукоятке нагревшегося от его тела пистолета. С такого расстояния он просто не мог промахнуться по тому монаху, который стоял над растерзанным ребенком. Алекс знал, что убьет и его помощника, который держал чашу. И еще троих. А потом у него останется нож…
Он выхватил пистолет и навел его на убийцу. Алекс только начал прицеливаться, как вдруг прямо перед ним кто-то поднялся на ноги, загородив обзор. Этот человек, разумеется, не видел Алекса и его пистолета. Просто ему тоже захотелось увидеть все без помех. На какие-то доли секунды пришлось задержать исполнение приговора монахам. И этих секунд оказалось достаточно для того, чтобы вовремя прийти в чувство и образумиться. Ослепляющий туман бешенства схлынул, и Алекс вновь почувствовал способность разумно мыслить. Да, месть за убитого ребенка была необходима. Но, с другой стороны, Алекс не имел сейчас права совершить глупость. Ставки в этой дьявольской игре были слишком высоки. От него сейчас зависели жизни и безопасность сотен и тысяч других детей, уже не говоря об их матерях и отцах… Он обязан был выйти из этой берлоги невредимым. Если он погибнет сейчас, то не сможет спасти своих соотечественников. Пусть даже перед смертью ему удастся отправить на тот свет несколько человек из этой дьявольской компании, игра не стоила свеч. Он понял, что здесь рождалась зараза, которой суждено распространиться на всю страну, если о ней вовремя не предупредить. Если его убьют, соотечественники не услышат его голоса. Нияз? Он тоже погибнет, так как обязательно полезет в драку, если услышит, что Алекс обнаружил себя.
Алекс быстро убрал пистолет обратно под рубаху и вытер рукой пот с глаз. Страшный ритуал жертвоприношения приковал к себе взгляды и внимание всего сборища. Никто не обратил на Алекса никакого внимания. Алекс бессильно опустился на свое место и только сейчас почувствовал, что его всего колотит. Человек, который невольно уберег его от совершения трагической ошибки, ушел куда-то в темноту и освободил Алексу обзор.
Один из монахов вновь кинул что-то на жаровню, и она в очередной раз взорвалась ярким, шипящим пламенем, выхватив из полумрака несколько лиц сидевших поблизости людей. Одно лицо особенно привлекло внимание Алекса. Смуглая, злорадно ухмыляющаяся рожа, искаженная ненавистью и возбуждением. Глаза были широко раскрыты, блестели и были кровожадно устремлены на страшное место жертвоприношения. Красные камни, видимо, рубины, украшали его уши и сверкали на дрожащих руках.
«Эту рожу я навеки запомню!» — подумал с ненавистью Алекс.
Затем состоялся ритуал, который Алекс мог наблюдать свободно, но смысла которого не понимал. Затем он увидел, как теплую кровь принесенной жертвы влили в блюдо с мукой. Один из монахов стал замешивать тесто. Алекс рассеянно следил за привычными движениями его рук. Сколько раз он уже видел, как замешивают тесто на дорогах, у костров, на базарах… Он догадался, что монах готовит чуппатти. Под оглушающий аккомпанемент каких-то хриплых голосов, выкрикивающих заклинания, и под грохот барабана тесто было замешано. Ему придали нужную форму, умяли и бросили на металлическую тарелку, укрепленную над жаровней. А толпа все продолжала безумно раскачиваться из стороны в сторону, кланяться и биться об землю в состоянии гипнотического исступления.
Наконец тарелку сняли с огня, и служители Кали разломали хлеб, от которого исходил дымок. Делая это, они непрерывно бормотали себе под нос молитвы богам и заклинания дьяволу. Эти заклинания были древними, как само Зло, как те заклинания, которые произносились в храмах Молоха. Человеку с рубиновыми серьгами передали квадратный отрез шелка. Он принял на него куски чуппатти от монахов.
— Да разнесется этот знак по всей земле нашей! — возопил самый высокий из монахов, вскинув руки над головой. — Пусть о нем узнают в каждом уголке страны! От севера до юга, от запада до востока! Куда бы ни попал кусок чуппатти, тут же сердца будут загораться священной ненавистью к захватчикам! Это поветрие, это зло, эта кровь англичанина! — Казалось, глаза его вот-вот вылезут из орбит. На губах выступила пена. — Услышь меня, Кали! Услышь меня, о кровопийца! С севера на юг! С запада на восток!
Он рухнул на землю и стал корчиться в судорогах на каменном полу. Второй монах подлил масла на жаровню, и скрипучее пламя вновь взвилось до потолка на пару секунд, а потом опало. Барабан ударил в последний раз и смолк. Молитва оборвалась на длинной, ноющей ноте. Сводчатая комната вдруг погрузилась во мрак и тишину. Только буро-красные уголья жаровни тлели, словно зловещий глаз дьявола.
В темноте раздался негромкий голос:
— То, чему все вы стали свидетелями, накрепко повязало вас всех. Если слух об этом дойдет до англичан, каждый из вас будет повешен. В глазах Компании и ее правительства все, кто был здесь сегодня и видел все, будут признаны виновными в смерти того, чья кровь пролилась на камень. Хорошенько запомните мои слова и не соблазняйтесь предательством!
Голос смолк. Прошла еще минута, и люди стали молча один за другим подниматься со своих мест и проталкиваться к лестнице шахты, стремясь побыстрее выйти на свежий ночной воздух.
Они появлялись из глубины шахты по одному, словно муравьи, выползающие из норы. Никто не останавливался. Все, стремясь избежать встречи друг с другом, старались поскорее исчезнуть в ночной тьме.
Факельщики ушли. Мощеный камнем двор, окруженный стеной джунглей, сумрачно освещался только звездами да убывающей луной. Алекс вступил в черный коридор оврага. Путь ему освещал один-единственный шираг[36], который был оставлен на выступе у выхода из узкого туннеля. На секунду огонек исчез — его заслонил человек, идущий впереди Алекса. Вот он скрылся в туннеле. Через минуту туда же вступил и Алекс.
Глава 17
Спустя несколько минут Алекс уже карабкался вверх по козьей тропке в дальнем от развалин конце оврага. Поднявшись, он оказался в зарослях высокой травы, росшей на краю открытой равнины.
Когда он проходил мимо нависающей тени шипового дерева, кто-то схватил его за руку. Алекс услышал шепот:
— Это я, брат.
— Назад! — тут же сориентировался в обстановке Алекс.
Он схватил Нияза за руки и силой утащил обратно в заросли высокой травы, откуда тот появился на тропинке. Сам Алекс тоже спрятался. Через полминуты из оврага появился очередной участник тайной встречи, который торопливо прошагал мимо того места, где прятались Алекс и Нияз. Это был садху. Его измазанное сажей тело серело под лунным светом.
— Ложись! — прошептал Алекс Ниязу, вытянувшему было шею, чтобы рассмотреть получше индуса. — Ложись, тебе говорят!
Они вжались в сухую землю, надежно укрываемые шатром пыльной и острой травы, и молча следили за тем, как мимо них один за другим торопливо проходили люди, появляющиеся из оврага. Все они направлялись в деревню, огни которой мерцали вдали. Каждый человек строго держал дистанцию между собой и предыдущим, то и дело воровато оглядывался по сторонам и через плечо назад. Мимо Алекса и Нияза проходили в темноте садху, сипаи, торговцы, горожане и фермеры, последователи Книги Пророка, обладатели святых нитей — брахманы, ученики Баба Нанака, фанатики Кали…
— Разделяй и властвуй, — прошептал про себя Алекс, наблюдая за проходящими из своего укрытия.
Участники встречи быстро шли мимо, бесшумно ступая по тропе. В тишине поздней сентябрьской ночи было отчетливо слышно только их взволнованное, прерывистое дыхание.
Алекс думал о том, что пока эти люди будут разделены кастами и религиями, судьба их всегда будет зависеть от милости победителя, но стоит им объединиться, как они подомнут под себя кого угодно, хотя бы одним своим численным превосходством.
— Но они никогда не объединятся, — думал вслух Алекс. — Никогда. Они же ненавидят друг друга больше, чем нас. Такой союз — химера…
Нияз толкнул его в плечо и прошептал:
— Чего мы ждем? Нам нельзя здесь долго оставаться. Пойдем лучше.
— Тихо, — шикнул на него Алекс. — Мне еще нужно вернуть один должок. Когда все они пройдут, мы вернемся туда, откуда я появился. Там останется несколько человек. Монахи. Они уйдут последними, так как им нужно еще кое-что доделать… Они же не могут оставить тело непохороненным.
— Значит, там все-таки кого-то убили?
— Да. Тихо… еще один идет.
На этот раз прошли сразу двое. Один — высокий, в чалме. Его ястребиный нос четко выделялся на лице под светом звезд. Второй был приземистый. Он был завернут в шаль, которой даже голову накрыл, словно боясь ночного воздуха. Высокий шел, не пригибаясь и не оглядываясь украдкой по сторонам, как остальные. Он ни от кого не скрывался. Решительно ломал ветки, попадавшиеся под ноги, не боясь шума. Говорил он вполголоса, но его слова легко можно было разобрать:
— Собаки! Слуги дьявола! — яростно шипел он. — Обязательно им было вляпываться в такую грязь?! И только для того, чтобы подстраховаться на случай предательства! Теперь все мы можем поплатиться жизнью за участие в сегодняшней оргии!
— Тише, тише же! — жалостливым шепотком умолял его коротышка, то и дело оглядываясь назад через плечо. — Между прочим, что касается тебя, то считай, что ты уже сложил свою голову, Мулла Сахиб. Ангрезис не пожалеют тебя, ибо ты сегодня про них такое говорил!..
— За слова не вешают, — презрительно усмехнувшись, проговорил высокий. — Тщеславие этой нации делает англичан слепцами. Они не боятся таких разговоров. По своей глупости, очевидно. Но если они вдруг прознают об убийстве, за нами начнется охота, как за дикими шакалами. Они не успокоятся до тех пор, пока всех нас не перережут. Всех. Собаки! Слуги дьявола!..
Голоса высокого и коротышки затихли вдали. Оба участника тайной сходки исчезли во тьме.
— Это был Ахмед Улла, крупный землевладелец из Файзабада, — прошептал Нияз. — Он один из самых активных подстрекателей к мятежу против господ Компании. Его называют в народе муллой из Файзабада.
Наконец прошел человек, после которого в течение десяти минут никто больше не появлялся на тропинке.
— Тридцать семь, — сказал Нияз. — Я считал. На встрече было больше людей, но не все прошли мимо нас. Некоторые ушли по северной стороне оврага. Там тоже есть тропинка, которая ведет к развалинам.
Алекс осторожно поднялся из травы, замер и целую минуту, не шевелясь, прислушивался к ночной тишине. Вокруг все было вроде бы спокойно. Нияз тихо проговорил:
— Возвращаться в берлогу тигра через полчаса после того, как нам повезло каким-то чудом оттуда выбраться… Извини, но это глупо. Забудь свою месть и пойдем отсюда. Человека убили, так что же? У нас есть дела поважнее мести за одного убиенного.
— Это был ребенок, — сказал Алекс. — Англичанин.
— А, понятно… — протянул Нияз изменившимся голосом. — Тогда веди.
К развалинам можно было вернуться только той дорогой, какой Алекс шел раньше. Они, стараясь не поднимать шума, скатились по песчаному склону в овраг, замирая при каждом звуке упавшего камешка или осыпавшейся под ногами сухой земли. Дно оврага было окутано непроницаемой тьмой. Но у Нияза было зрение, как у кошки. Алекс не мог в этом сравниться со своим другом, но у него глаза были достаточно острые, чтобы не испытывать проблемы с темнотой.
Огромный, мощеный камнем двор был освещен тусклым светом звезд. Клочки высокой травы, шиповые кусты и карликовые деревца выглядели в сумерках похожими на залегших в засаде врагов. Впрочем, все было тихо, только изредка налетавший порыв ночного свежего ветерка колыхал траву.
Алекс и Нияз осторожно пробирались вперед, делая короткие перебежки от куста к кусту. Вскоре они добежали до пипул-дерева, возле которого находился вход в полуразрушенный дворец и вход в шахту.
Каменная плита, которая в обычное время скрывала шахту от любопытных глаз, все еще была приподнята вертикально и прижата к первой ступеньке узкой и крутой лестницы, уводившей вниз. Из глубин самой шахты исходил слабый свет и доносились голоса. Алекс по-пластунски переполз от пипул-дерева до входа в шахту. Он замер и стал прислушиваться.
Внизу как раз начал говорить какой-то рассерженный человек странно знакомым голосом:
— …Всех подвергли смертельной опасности!
— Зато теперь все друг с другом повязаны неразрывными, смертельными узами! — ответил ему другой, резко-истеричный голос. — Теперь, когда все несут ответственность за пролитую здесь кровь, никто не посмеет предать нас! Ты же сам все это придумал! Не волнуйся, теперь они все проглотят свои языки! Не понимаю только, чего ты беснуешься? Ведь это был твой план! Уловка! И какая замечательная уловка! Человек — существо ненадежное, но ты придумал, как укрепить его дух и не дать поддаться соблазнам. Это было целое представление. Чего стоит только зеленый огонь из твоих пальцев! А молитва, поднимающая дух? А бой барабана? Хорошее начало для всей нашей священной работы! И пойми, в такие минуты жертвоприношение — вещь обязательная! Просто необходимая!
— В жертву должны были принести козла! — рявкнул первый голос. — Если бы я знал, что вы тут задумали…
— Правильно, — прервал его второй голос. — «Белый козленок за Кали»! Ты сам придумал этот пароль. Мы сделали все так, — голос стал истерично повышаться, — чтобы эффект был удвоен! Зачем Матери Кали паршивая кровь полудохлого бакри[37], когда мы можем предложить ей кровь тысячи… нет, сотни тысяч ферингисов?! Этим жертвоприношением мы дали клятву исполнить то, что грядет. С помощью этого жертвоприношения мы изготовили священный знак! Да, нам нужен ребенок! Ребенок тех, кто погряз в грехе! Ребенок тех, кто пожирает мертвых животных, кто разрушает наши устои! Ребенок мужского пола! И это только начало! Ах, как бы я хотел, чтобы его горло олицетворяло собой горло всех детей, мужчин и женщин! С каким наслаждением я перерезал бы его! Одним единственным ударом!
Голос все повышался и повышался, пока не превратился в истеричное завывание.
— Я также жажду смерти захватчиков, — сказал первый голос. — Но убивать беззащитного ребенка в такой форме… Это грех перед Богом и людьми.
— Ты что, хочешь сказать, что предпочел бы сохранить жизнь тому змеенышу? Фу! Это глупо! Ведь ясно же, что если бы мы не прервали его существование сегодня, через десять-пятнадцать лет он без всякой жалости убил бы многих наших! Их нужно уничтожать, истреблять! Листву и ветви, корни и семя! Никого не щадить! Никого! Никого!
Алекс услышал, как говорящий затопал ногами по земле с такой силой и яростью, что по всей сводчатой комнате загуляло эхо. Наступила короткая пауза, после которой первый голос проговорил лаконично:
— Ладно, что сделано, уже не поправить. Но я тебе вот что скажу: если для крестьян нашего представления будет достаточно, то этого же нельзя сказать о сипаях. Нам нужно что-то такое, что глубже проникает в сердце, что не оставит равнодушным никого. Сипаи, например, уже готовы к выступлению, но им нужен первый толчок. Искра, которая способна была бы воспламенить их. Мы должны найти ее.
Алекс почувствовал, как Нияз взял его за руку и прошептал ему на ухо:
— Давай опустим камень. Не думаю, что им удастся поднять его изнутри. Они будут заживо похоронены и умрут медленно, как крысы!
Глаза Алекса поначалу загорелись, отражая свет звезд. Он порывисто поднялся на ноги, но тут же остановился и отрицательно покачал головой.
— Нет. Я думаю, им все-таки удастся найти выход. Я видел там внизу летучих мышей. Значит, у них есть какая-то своя мышиная дверь. А при большом желании в мышиную дверь сможет пролезть и человек. Подождем лучше. Они станут выходить один за другим, и мы…
Нияз кивнул и стал вынимать из ножен длинный нож. Вдруг он насторожился, рывком повернул голову назад и замер, словно пойнтер, почуявший зверя. Он с пару секунд внимательно прислушивался к ночным шорохам, а потом вдруг хрипло шепнул:
— Назад! Под дерево! Там кто-то идет!
Нияз и Алекс отбежали от входа в шахту и вновь укрылись среди толстых жгутов корней пипул-дерева.
Слух не обманул его. Со стороны густых джунглей, обступивших полуразрушенные стены дворца, кто-то явно приближался. Хрустнула опавшая ветка, зашелестела трава, и вскоре Алекс и Нияз услышали приглушенный звук шагов по камням двора. Двое показались из темноты со стороны туннеля, прошли под сенью пипул-дерева и остановились у входа в шахту. На фоне полутемного, тускло освещенного звездами каменного двора они казались всего лишь двумя силуэтами. В руках у них что-то было. Какое-то оружие. В неровном свете оно напоминало… напоминало топоры с короткими рукоятками… Из джунглей раздался крик козодоя. Спустя секунду с противоположной стороны леса ухнула сова. Один из подошедших проговорил тихо:
— Пилао и Тибоя! Оба подали свои голоса! Это хороший знак, хоть он и пришел очень поздно. И бхил[38] хорошо спрятана.
Этот человек опустил свое оружие лезвием вниз на камни двора, и раздался металлический лязг. Алекс и Нияз непроизвольно содрогнулись. Кроме того Алекс почувствовал страх, который исходил от Нияза. Его другом овладел ужас. Это было невероятно. До этой минуты Алекс считал Нияза бесстрашным бойцом. Но теперь он ясно чувствовал, что Ниязу страшно. Плечо его касалось плеча Алекса, и тому передавалась дрожь Нияза. На лбу Нияза выступил холодный пот. Он весь трясся от суеверного ужаса, подобного тому, который охватил Алекса час назад, когда он был на страшном сборище.
Человек, который сказал до этого о могиле, опустился на одно колено над входом в шахту и тихо позвал:
— Охе, такур! Все сделано.
Снизу ему ответили, и спустя минуту из шахты показалась голова поднимающегося человека. Пальцы Нияза непроизвольно свело судорогой, и руке Алекса стало больно. Из шахты один за другим вышли четыре человека. Слабый свет, исходивший снизу, отражался на рубинах одного из них, которые тот носил в ушах. Все стали о чем-то перешептываться, а тот, который был с рубиновыми серьгами, сердито проговорил:
— Уже поздно. До рассвета мне нужно проделать большой путь. Там внизу остались двое. Они выйдут и закроют шахту, а нам пора идти.
Это был голос человека, который истерично кричал о смерти пять минут назад там, внизу…
Один из них повернулся к шахте и крикнул вниз:
— Мы уходим. Когда закончите и выйдете, закройте вход.
Слабый свет из шахты на секунду ярко вспыхнул, как бывало, когда один из монахов во время сходки кидал на жаровню какой-то порошок. Эта вспышка хорошо осветила лицо человека, сказавшего последние слова. Нияз больно схватил Алекса за руку, а другой рукой принялся вытирать пот со лба.
Этим человеком был Кишан Прасад.
В следующую секунду вся группа повернулась и скрылась во тьме. Ночь снова была спокойна.
Двое людей, спрятавшихся в тени пипул-дерева, лежали неподвижно в течение, по меньшей мере, пяти минут, боясь пошевелиться.
— Значит, дядя моего отца говорил правду, — дрожащим шепотом проговорил наконец Нияз. — Они не все погибли!
— Кто?
— Те, кто несли топоры… Эти двое были лугаи[39]… Копатели бхила, убийцы-гробовщики… Ты знаешь, как называются те топоры, которые были у них в руках? Кхуссе! Это их оружие. Они фансигеры! Разбойники-душители[40]! Последователи Бховани! Душители! — Голос Нияза утих, и Алексу было слышно, как стучат зубы у его друга. — Теперь я точно сознаю, что здесь затевается страшное Зло, раз в нем участвуют слуги ада, воскресшие из мертвых! Сорок лет назад за душителями устроил настоящую охоту Солиман Сахиб. Дядя моего отца помогал ему. И он сказал мне… — Голос Нияза дрожал от ужаса. — Пойдем отсюда! Быстро!
— Пожалуй, задержимся еще на пару минут, — прошептал Алекс. — Вернем должок оставшимся двум.
Он поднялся на ноги и вышел из тени пипул-дерева. Через пару секунд к нему присоединился Нияз. Они осторожно подобрались к камню шахты с разных сторон и стали прислушиваться к слабым звукам, доносившимся снизу. Через минуту съежившаяся луна закатилась за горизонт, и стало гораздо темнее. Со стороны равнины, которая начиналась по ту сторону джунглей, доносился скорбный вой шакала. Легкий ветерок шуршал в кустах, шелестел в кроне пипул-дерева и наполнял спокойную ночь еще сотней слабых, приглушенных звуков.
Наконец внизу потушили свет и на лестнице послышались чьи-то шаги. Спустя минуту из отверстия шахты показалась голова поднимающегося человека. Алекс подождал, пока покажутся и плечи, а затем перегнулся из-за камня и схватил человека за горло. Тот придушенно охнул и стал отчаянно сопротивляться, барабаня руками по воздуху. Его голые пятки отбивали дробь на крутых ступеньках лестницы шахты. Напрягши силы, Алекс одним мощным рывком выдернул монаха из отверстия шахты, словно тот весил не больше мешка с овощами.
— Что там такое? Ты упал, что ли? — спросил голос снизу.
Через пару секунд из шахты показалась голова второго монаха. Длинные, стальные пальцы Нияза тут же сомкнулись на его горле и дернули монаха вверх. Тот перевалился через край шахты на камни двора и ударился головой о булыжник. Звук был такой, словно разбилось яйцо. С него было достаточно.
— По крайней мере, этот уже никому не перережет глотку, — тяжело дыша, проговорил Нияз. — А как твой?
— Готов, — проговорил Алекс и отпустил своего врага, который, обмякнув, свалился ему под ноги.
Руки Алекса были липкими от крови, хлынувшей изо рта и ноздрей монаха. Он наклонился и вытер руки о робу убитого.
— Что теперь? — спросил Нияз.
— Скинем их вниз. Если кто-то придет сюда их искать, ему не придется долго аукать их.
Они общими усилиями свалили трупы обратно в шахту, а потом подступились к каменной плите, которая должна была закрыть отверстие. Они не знали, каков механизм действия этой плиты, а времени на то, чтобы отгадывать загадки, у них не было. Они надавили плечами и нажали изо всех сил. Когда казалось уже, что все это бесполезно, каменная плита вдруг рухнула и закрыла собой шахту. Шум взорвал тишину, словно пушечный выстрел на тихой поляне, и пробудил многоголосое эхо, загулявшее в полуразрушенных стенах крепости.
— Быстрее, черт! — шепнул Нияз. — Вдруг они услышали и вернутся?!
Они бросились бежать через широкий старый двор и вскоре окунулись во тьму оврага. Через несколько минут они уже достигли края пастбища и опушки леса, где Алекс оставил лошадей.
— Куда теперь? — шепотом спросил Нияз, лихо вскочив на беспокойного жеребца, что никак не вязалось с его еще недавним образом Джату, продавца игрушек. — Вместе мы не можем.
— Я прямиком еду в Лунджор. Через Пари.
— Было бы лучше поехать по дороге, которая пролегает к югу от Гунги, — сказал Нияз. — Там, по крайней мере, очень мала вероятность встречи с «соотечественниками»-патанцами. Да и потом показываться тебе на дорогах Оуда… совсем небезопасно.
— Сейчас везде небезопасно, — мрачно возразил Алекс.
— Это верно. Давай поторапливаться, потому что уже через час станет светать. О, как бы я хотел сейчас сидеть на моей верной кобылке, а не на этом гремучем мешке с костями!
К первому лучу утреннего света они выбрались лишь за десять миль от Канвая, так как дороги были очень плохие, а с заходом луны стало совсем темно и поэтому пришлось пустить лошадей шагом. Когда стало светать и первый утренний туман розово-шафранового оттенка сменил серебристо-серый ночной, когда по всей равнине расползся низкий дым от костров на коровьих «лепешках», которые жгли в деревнях, Нияз покинул своего друга, и Алекс поехал по открытой местности дальше один. С урожайных полей доносился крик павлинов, а капельки росы искрились бриллиантовым светом на каждой травинке и каждом опавшем листе в первых лучах утреннего солнца.
От Канвая до Лунджора было не больше сотни миль — расстояние, которое ворона пролетает легко и без отдыха. Поначалу он думал, что сможет покрыть эти мили до следующих сумерек, но потом понял, что лошади, хочешь не хочешь, а придется дать отдых. При необходимости Алекс мог спокойно вздремнуть в седле, но он понимал, что просто обязан сделать днем где-нибудь остановку. Ради лошади. Мысль о привале была ему ненавистна, так как инстинкт подсказывал ему, что он должен удалиться как можно дальше от Канвая и тех развалин, если хоть немного дорожит своей жизнью. Он чувствовал, что не пройдет и часа-двух, как за Шередилом из Усафзая будет снаряжена нешуточная погоня. Факельщик, конечно же, вспомнит патанца, который показывал ему в качестве пропуска перстень Кишана Прасада.
Алекс опустил глаза на свою руку, бросил на минуту поводья, сорвал с пальца кольцо в минутном припадке ненависти и далеко зашвырнул его в придорожные заросли травы.
Человек, который протестовал против убийства там, в сводчатой комнате, был Кишаном Прасадом, в этом Алекс был уверен. Он узнал голос. Конечно, главная ответственность за это злодейство ложится на двух монахов и человека с рубиновыми серьгами. Но Кишан Прасад организовал это дикое сборище, и поэтому на нем лежала прямая вина за все, что там произошло. Он вполне заслужил виселицы за то мероприятие, в котором принял активнейшее участие минувшей ночью.
Алекс оглядывался сейчас на прошлое и не мог понять, почему он не дал этому человеку тогда умереть? Он умер бы, если бы в Алексе не проснулось на минуту что-то абсурдное, необъяснимое, связанное, видимо, с происхождением и воспитанием… И он спас Кишану жизнь. А всего несколько часов назад Алекс безо всяких колебаний убил монаха, и его высохшая кровь до сих пор была на его руках, под ногтями и на одежде… А ведь тот монах был в тысячу раз менее опасен, чем спасенный Алексом Кишан Прасад! Значит, минутная ярость, а вовсе не здравый рассудок, является подлинным мотивом убийства?
Алекс опустил глаза на свои запачканные руки и поморщился. Восстания не должно быть! Его необходимо предотвратить любой ценой, во что бы то ни стало! Ведь если оно случится, если вспышка насилия, которую он наблюдал всего пару часов и кровавый туман которой до сих пор застилал ему глаза, вырвется наружу, — накроет собой всю страну и это может иметь следствием ответную, непредсказуемую реакцию англичан. Узнав об убийстве ребенка, англичане вознегодуют, но если начнется полномасштабное восстание, они потеряют разум и в припадке ярости могут подавить вооруженный мятеж страшными средствами, не щадя ни правых, ни виноватых! Алекс чувствовал это на собственном примере. Ведь он, который не дал Кишану Прасаду умереть, несколько часов назад охваченный бешенством и ничего не соображая, голыми руками задушил монаха… Он мстил ему за смерть белого ребенка, и чувство мести затмило разум. Алекс понимал, что если страх и ненависть, которые разжигаются в народе такими людьми, как Кишан Прасад, выльются в мятеж, сотни и сотни белых детей умрут смертью, которая будет еще хуже!
«Этого не должно произойти, — отчаянно молился про себя Алекс. — Если это случится, то ненависть и недоверие останутся в потомках, и в один день…
Кобыла под ним взбрыкнула и дернулась в сторону, когда почти под самыми ее копытами дорогу перебежал заяц. Это вывело Алекса из состояния задумчивости и заставило подумать о проблемах, которые в данную минуту были более насущными.
Вскоре после полудня он напоил лошадь, спутал ей ноги и оставил пастись в сотне ярдов от опушки леса. Сам он прилег на землю и заснул.
Спустя час в этом месте дороги как раз проезжал Нияз вместе с несколькими вооруженными людьми, с которыми он познакомился в пути. Он заметил, что следы кобылы Алекса внезапно оборвались на пыльной дороге, и понял, что Алекс свернул в сторону, чтобы дать своей кляче отдых. Это хорошо. Днем ему ехать было бы опасно. Ночью же как-то спокойнее…
Глава 18
Низко висевшее солнце просвечивало сквозь траву и бамбуковые заросли, когда Алекс проснулся. Невдалеке протекала речка, где в камышах надрывался лесной петух. Алекс пошарил у себя за пазухой и вытащил остатки чуппатти, на которые тут же с жадностью набросился. Он решил напиться из речки и тронуться в путь. В следующий раз он поест и отдохнет уже только в Лунджоре.
Глотая сухие куски, он вспомнил тот дикий ритуал приготовления чуппатти, свидетелем которого он был прошлой ночью. Чуппатти монахов было провозглашено каким-то особым знаком. Алексу был известен один индийский обычай. Во времена мора чуппатти готовится с особыми заклинаниями, а затем куски разбрасываются на дороге в надежде на то, что прохожий подберет их и унесет заразу из той местности. В чем был смысл вчерашнего чуппатти? Символ избавления жителей Оуда от неудач, которые связаны с присутствием и правлением англичан?..
Когда Алекс показался из леса у воды, оттуда вспорхнула стайка попугаев, они укрылись в деревьях и стали оттуда недовольно цокотать. Алекс присел у берега на корточки и стал руками зачерпывать воду для питья. Над головой в синем небе пролетел косяк белых цапель. Они направлялись на водопой к дальней реке. Словно меловая полоска прочертила ясный небосвод… Алекс напился, вытер руки о широкие патанские шаровары, поднялся с корточек, сел на отдохнувшую лошадь и выехал из джунглей на вечерний свет. Было тепло.
Следующие двадцать миль он проехал без приключений. Солнце постепенно закатилось за горизонт, с равнины потянуло острым и сладковатым древесным запахом. Вскоре поднялся прохладный ветерок — предтеча похолодания и морозных ночей… Алекс завернул шею и плечи в кусок хлопчатобумажной ткани. Сумерки сгущались над джунглями и равниной. Поначалу бледный, словно призрак, месяц постепенно набирал силу в темноте.
Алекс пришпоривал свою захудалую клячонку, осторожно и умело выжимая из нее все, на что она была способна.
Была уже поздняя ночь, и дорога стала белой под лунным светом, когда он приблизился к маленькому городишку Пари. К этому времени он уже проскакал от Канвая больше восьмидесяти миль. До реки, которая обозначала собой границу между Оудом и Лунджором, оставалось от силы шесть-семь миль. Он знал, что стоит переправиться через реку, как уже через час езды он подъедет к военному городку и городу Лунджор, находившемуся от границы в каких-нибудь десяти милях.
Вот уже около часа он ехал по дороге, которую с обеих сторон обступали густые джунгли, деревья нависали над ним почти шатром. Наконец он выехал на открытое место. Тут и там виднелись участки высокой травы, призрачные тени шиповых деревьев. Впереди поблескивали огоньки пригородов Пари. Равнина казалась облитой молоком под лунным светом. Тут и там виднелись неровные тени травяных зарослей и кочек, кое-где из земли вылезали скальные камни, причудливые силуэты которых отчетливо отпечатывались на фоне черного ночного неба. Вскоре Алекс почуял какое-то движение за ближайшей черной скалой. Он пришпорил свою лошадь и увидел, как навстречу ему выехал Нияз.
Нияз молчал. Он только схватил лошадь Алекса за узду и завернул ее с дороги. Он выглядел очень утомленным. Тяжело дышал. Бока его лошади раздувались и были покрыты пеной. Лошадь была практически уже загнана.
— Дальше ехать нельзя, — сказал наконец Нияз хриплым шепотом, как будто боялся, что даже здесь, на открытой равнине, их кто-нибудь может подслушать. — О тебе уже прознали и ищут. В Пари разъезжают вооруженные люди, которые расспрашивают о патанце, который торговал лошадьми. Ищут Шередила из Усафзая. Говорят, что ты украл чью-то лошадь… Я проехал через весь город, а потом сделал большой крюк в два косса по полям и пастбищам и незаметно вернулся сюда. Впрочем, это стоило мне моей лошади. Она уже еле дышит. Если твоя еще ничего, то поворачивай и езжай до деревни, которая расположена около водоема с насыпью. Увидишь три могилы при дороге. Там начинается другая тропа на юг. Через джунгли. Займет много времени, но…
Он внезапно осекся, повернул голову и стал напряженно прислушиваться. Откуда-то издалека до них донесся слабый, но ритмичный звук.
— Лошади! — в ужасе прошептал Нияз.
Он слез из седла, и Алекс сделал то же самое. Они бегом бросились к тому месту, где дорога проходила через лощину. Лошадей они тащили на поводу, хотя те и упирались. Они стали быстро карабкаться вверх по склону лощины, спотыкаясь на мелких камешках и сглаженных водой булыжниках. Наконец они поднялись из лощины и залегли.
Алекс сорвал шарф с шеи и завернул им голову своей лошади. Нияз сделал то же самое, только со своей чалмой. Им казалось, что их тяжелое дыхание разносится эхом по всей равнине. Нияз отпустил у своей лошади постромки и кинул поводья в руки Алексу.
— Подержи пока. Я сбегаю посмотрю, кто это.
Он повернулся и стал спускаться обратно в лощину. Алекс ясно услышал шум обваливающейся земли, скоро, однако, утихший. Наступила тишина, которая нарушалась только сдавленным хрипом полупридушенной лошади и позвякиванием сбруи. Кобыла Алекса подняла голову, и уздечка вновь звякнула. Алекс схватил ее рукой за шею и прижал к земле. Лошадь успокоилась. Вскоре стук копыт приближающихся лошадей стал громче. Наконец копыта застучали по сухим камням лощины. Всадники с разгону выехали вновь на открытое пространство на противоположном склоне и быстро исчезли в темноте. Вновь Алекса со всех сторон обступила тишина.
Спустя несколько секунд он освободил морду своей лошади от шарфа, и та сразу стала шумно дышать, раздувая во всю трепетные ноздри. Она поднялась и зашаталась, как пьяная, на неровных камешках. Сбоку послышался звук какого-то движения. Это вернулся снизу Нияз.
— Мы опоздали, — объявил он спокойно. — К трем могилам нам уже не выехать.
Алекс молчал. Он только достал маленький пистолет, который носил за пазухой, под светом луны проверил канал ствола, зарядил его и заткнул за широкий кожаный пояс так, чтобы в нужный момент быстро выхватить его оттуда и произвести выстрел. Освобождая голову своей лошади, Нияз глянул на действия Алекса и одобрительно кивнул.
— Не думаю, что мы еще встретим погоню на дороге, — сказал он. — Они поджидают тебя возле города. Предлагаю проехать вперед еще милю, а потом свернуть с дороги и дать крюк по полям. Сейчас-то нам, пожалуй, ничто не угрожает, но потом… Ведь речку можно перейти только в одном месте: там, где мост из связанных лодок. А за ним, конечно, приглядывают в оба глаза.
— Ладно, о мосте потом будем думать. Когда оставим позади себя город, — решил Алекс. — Как твоя клячонка? Потащит еще?
— Нужда заставит, — со смешком ответил Нияз.
Они вывели лошадей обратно на дорогу, сели в седла и неспеша направились под светом луны в сторону города. Спустя пятнадцать минут они свернули с дороги, перешли на шаг и отпустили поводья. Лошади устало брели сами собой, выискивая дорогу между камней и травяных кочек. Таким образом они решили обогнуть Пари по вспаханным полям.
Не успели они как следует потоптать крестьянский урожай, как вдруг на них залаяла бродячая собака. Они пришпорили лошадей, но тут, как назло, подвернулась ирригационная канава, где лошадь Нияза споткнулась и едва не кинула седока на землю. К лаю одной собаки присоединились другие. Алекса и Нияза окружила целая собачья свора. Нияз яростно ударил пятками по бокам кобылы и пустил ее спотыкающейся рысью по пыльной тропинке, огибающей кактусовые заросли. Алекс слышал, как его друг вполголоса крыл свою клячу последними словами.
На тутовом дереве на краю поля была установлена особая платформа. Там сидел сторож, в обязанности которого входило отпугивать оленей и кабанов, норовивших поживиться крестьянским урожаем. Собачий лай встревожил сторожа. Он стал кричать удаляющимся всадникам и сорвал с плеча охотничье ружье. Прозвучавший выстрел срезал листву с деревьев над головами всадников, и тут Алекс почувствовал, как его руку словно резануло раскаленным ножом. Теплая кровь стала быстро стекать на ладонь.
Впереди под лунным светом блеснула вода. Через минуту всадники выехали на узкую тропу, ведущую по краю заболоченного озерца, которое тянулось вперед и влево.
Бешеный лай собак постепенно стал затихать за их спинами. Они повернули на север, в тень крутой насыпи, на верхушке которой густо росли кактусы. Вскоре, однако, они оказались в тупике. Насыпь с кактусами делала резкий поворот, загораживала проход и тянулась дальше к поблескивавшей воде озера. Нияз остановил лошадей и спрыгнул с седла.
— Впереди дорога, — прошептал он. — Ты не видишь отсюда, но я знаю… — Он вдруг осекся. — Тебя что, задело?
— Кость целая — это самое главное, — сквозь зубы ответил Алекс и неловко слез с лошади.
Нияз закатал рукав патанской рубахи. Корявый, с острыми краями кусок железа, которым сторож заряжал свой дробовик, проник в мясистую часть руки между плечом и локтем, образовав отвратительный, рваный шрам, из которого свободно сочилась кровь. Нияз разорвал на две полоски шарф Алекса, из одной половинки сделал что-то вроде тампона, а другой умело замотал раненую руку.
— Так что твоя дорога? — спросил Алекс.
— Она сворачивает направо, а затем идет вдоль насыпи. Когда я возвращался из Пари сюда этим путем, она не охранялась, но сейчас… кто знает. Ты подожди здесь, а я сбегаю погляжу, что и как.
Он исчез в темноте, а Алекс остался и стал ждать, прислушиваясь к многоголосью ночи и пытаясь подсчитать шансы на удачу. Порывами ветра несло по земле мертвый и высушенный кактусовый лист. Где-то выла на луну стая шакалов. По краям джиля квакали лягушки шумным и монотонным хором. С середины озера изредка доносилось чье-то кудахтанье — это кормились птицы.
Нияз вернулся так же бесшумно, как и ушел. Его обутые ноги не производили почти никакого звука при ходьбе по земле, покрытой толстым слоем пыли.
— Тропа закрыта, — еле слышно проговорил он. — В дальнем конце они перегородили ее телегой. Там дежурят, по крайней мере, двое. Может быть, есть и третий.
Алекс спросил:
— А джиль?
— Переправляться мы будем до утра. Если, конечно, не потонем, запутавшись в водорослях. Да и потом, в этом случае нам придется расстаться с лошадьми.
— Ну и что? Так даже лучше. Ведь ищут-то не просто патанца, а верхового патанца. Лошадь может выдать. Впрочем, на своих двоих далеко не уйти…
Алекс молчал минуту-другую, посматривая на насыпи с растущими там зарослями кактуса. Берега джиля были очень крутые, а через такие густые кактусовые изгороди могла продраться, пожалуй, лишь мангуста. Алекс кинул поводья Ниязу и проговорил:
— Стой здесь, я пойду гляну.
Алекс, стараясь ступать как можно осторожнее, пошел по насыпи вдоль берега, который резко завернул влево. Там была еще одна насыпь. Обе насыпи тянулись параллельно в сторону города на протяжении тридцати ярдов, образуя узкую лощину с крутыми склонами. В дальнем конце этой лощины она была перегорожена крестьянской телегой. Алекс стал приближаться. Вскоре он различил шум голосов и свет костра. Он подполз ближе и замер на месте, когда до телеги оставалось не больше десяти футов. Приглядевшись, он с удовлетворением отметил, что под днищем телеги, между неуклюжих колес привязан мешок с фуражом, а между оглоблей свисало одеяло, которое должно было закрывать собой костер, разведенный из навозных «лепешек». Пламя было низким, дым стелился по земле. У костра сидело двое часовых, которые увлеченно резались в карты. Третий сидел чуть в сторонке, привалившись спиной к колесу телеги и, по-видимому, спал. Между краем телеги и левой насыпью было как раз достаточное пространство для того, чтобы мог пройти человек. Но не лошадь.
Алекс стал осторожно отползать назад и вскоре присоединился к Ниязу.
— Не так уж и сложно.
Он изложил свой план в нескольких коротких фразах. Нияз кивнул.
— Попробуем. Если не повезет, повернемся к ним лицом. Нас двое, а их всего трое. К тому же из троих один всегда убежит.
— Мы не должны позволить кому-либо из них убежать. Он поднимет тревогу. Ладно, начали. Дай мне пять минут времени.
С этими словами Алекс повернулся и ушел туда же, откуда только что пришел.
Глава 19
Тропа была покрыта слоем пыли в несколько дюймов. Она была вся завалена мертвыми кактусовыми листьями с длинными шипами, которые полностью утопали в пыли, когда Алекс наступал на них. Легкий треск, издаваемый при этом, заглушался бульканьем кальяна и шлепками карт. В десятке ярдов от телеги Алекс прижался к земле и дальше продвигался уже медленнее, — дюйм за дюймом, — и по-пластунски. Предварительно он обернул нос и рот своей чалмой, закрывая их от пыли. Вскоре он достиг телеги и залез под нее. Часовые его не могли видеть из-за мешка с фуражом и свешивавшегося с оглоблей одеяла. Голова Алекса, между тем, находилась меньше чем в футе от ног третьего сторожа, который привалился к колесу телеги. Примерно в ярде от телеги болтали, ругались, кашляли и попеременно прикладывались к кальяну игроки.
Пыль и гадкий дым от навозного костра проникал в ноздри, несмотря на чалму, и это раздражало Алекса. К тому же страшно ныла раненая рука. По ногам у него проползла целая рота муравьев, а мошка, привлеченная сюда светом костра, вилась перед самыми глазами, то и дело норовя сесть на лицо.
Минуты тянулись ужасно медленно и казались долгими часами. Алекс уже стал было отчаиваться и думать, что с Ниязом что-то произошло, когда наконец услышал тот звук, которого ждал. Это был голос. Грубый, немелодичный голос, который выводил в ночи слова неприличной песенки, в которой подробно описывались прелести одной делийской куртизанки.
Песня то и дело прерывалась громким иканием. Голос становился громче. Человек приближался к сторожам. Те, бросив карты, стали прислушиваться. А дремавший до той минуты сторож встрепенулся, сорвал с плеча мушкет и наставил его на дорогу.
— Какой-то пьяница из города, только и всего, — пробормотал один из картежников. — Охе! Кто идет? Здесь проход закрыт! Дорога закрыта! Проваливай обратно, о слуга Бхайрона!
— Проваливать обратно? — икнув, переспросил пьяница. — Куда это, интересно? И с каких это пор дорогу стали закрывать перед честными людьми?
— Это приказ нового правительства, — крикнул обладатель мушкета.
— Что за насилие! Сначала тебе попадается по дороге свинья-патанец, лошадь которого сталкивает тебя в вонючий джиль, откуда ты вылезаешь весь в грязюке, а теперь вот еще и дорогу закрыли!
Человек с мушкетом подбежал к Ниязу, схватил его за руку и силком подтащил к костру.
— Что ты сказал? Какой патанец?
— Да там, на дороге. Чтобы его кляча упала в джиль и утонула! Кстати, он спрашивал, где бы тут можно было раздобыть свежую конягу, потому что его совсем сдохла. Но я-то тут при чем? Я что, лошадник, что ли? Я пою песню, вот и все. Давайте-ка, ребята, вместе со мной, подтягивайте. Ну? «О луна моих очей…»
— Тот самый! — крикнул убежденно сторож с мушкетом. — Вот дурак! Ну и что? Он сюда идет? Пьянь, я к тебе обращаюсь!
— Кто?
— Да патанец же, олух царя небесного!
— Откуда я знаю? Он сидит при дороге, а лошаденка его щиплет травку. Слушай, вы меня серьезно хотите завернуть назад, или как? А вдруг он меня побьет? Патанцы все отличаются скверным характером, а этот попался особенно злой.
— Надо сходить проверить, — сказал один из картежников, кладя руку на рукоять большого ножа. — За его голову назначена хорошая цена. Оставайся у телеги, Дунно, и никого не пропускай. А ты, сын безносой матери, будешь сидеть у костра до самого нашего возвращения и, не дай Бог, ты солгал нам! Если мы не обнаружим патанца, тебе придется по-настоящему худо!
— Кто солгал-то?! — вызывающе крикнул Нияз. Он оступился на ровном месте и тяжело осел прямо в пыль. — Все так, как я сказал. Он сидит у берега джиля и проклинает своих богов. Если вы мне не даете пройти, пожалуйста, я заночую здесь. Мне все равно.
Он с трудом вновь поднялся на ноги и широко зевнул, а потом громко икнул.
Двое сторожей ушли в темноту, а третий присел у костра рядом с Ниязом. Почти тут же в ночи раздался звук глухого удара, приглушенный всхлип и шум падающего тела.
Из-под телеги вылез Алекс и стал отряхивать от пыли свою одежду.
Человек, которого сторожа назвали Дунно, лежал ничком у самого костра, а Нияз спокойно убирал в ножны нож на длинной рукоятке.
— Я же говорил, что хватит с нас убийств, — рассерженно воскликнул Алекс.
— Он не умер, — ответил Нияз, перевернув безжизненное тело ногой. — Я саданул его рукояткой. У этих свиней головы, что твое дерево. Вряд ли у него в черепушке даже трещина будет. Очухается. Ну, что, пошли? Пешком далеко придется топать.
— Тем более мы должны остаться и дождаться лошадей, — сказал Алекс. — Даже загнанная лошадь идет быстрее, чем человек. Подождем тех двоих. Они скоро вернутся и наверняка приведут наших лошадей.
Он наклонился над сторожем, потерявшим сознание, и стал быстро раздевать его. Пока Алекс облачался в его одеяние, Нияз связал беднягу, заткнул ему на всякий случай рот и затащил под телегу.
Спустя минут десять вернулись двое сторожей, которые уходили искать «патанца». Как и предполагал Алекс, они вели в поводу лошадей, которых беглецы оставили пастись на берегу джиля.
— Патанца мы не нашли. Зато мы захватили его лошадей. Пешком ему далеко не уйти, — сказал тот, что был с мушкетом, проходя между телегой и насыпью.
Алекс встретил его прямым в подбородок. Обладатель мушкета дернулся и без звука стал заваливаться на землю. Придушенный вопль донесся сзади телеги, где Нияз расправлялся со второй жертвой.
— Действительно, несложно, — презрительно ухмыльнувшись, проговорил Нияз. Он слазил под телегу и вынул оттуда мешок с фуражом. — Скормим это нашим клячонкам, иначе они далеко не пройдут.
Потом они откатили телегу с дороги, связали двух сторожей (третий еще не очнулся) и швырнули их в телегу, откуда доносились их приглушенные стоны.
— Вообще лучше было бы убить их, — рассудительно заметил Нияз. — Они слишком много знают.
— Повторяю, с нас убийств достаточно. Их найдут не раньше утра, а к тому времени мы уже успеем переправиться через речку.
— Возможно, — с сомнением ответил Нияз. — Но не забывай: через реку ведет только мост, за которым, несомненно, хорошо приглядывают.
Короткий отдых и кормежка словно вдохнули новую жизнь в измученных лошадей, которые довольно бодро понесли своих седоков по залитой лунным светом дороге в сторону реки. Но рука Алекса стала неметь и по тому, как сильно она ныла, он понял, что в ней все еще сидит кусок железа. Он также понял, что чем быстрее он его вытащит, тем больше будет у него шансов избежать заражения крови.
Меньше чем через час езды до них стало долетать дуновение реки. Они спешились, увели лошадей с дороги, стреножили их в джунглях, а сами отправились пешком на разведку. Дорога стала более грубой, песчаной. В лицо подул свежий ветерок, принесший с собой запах мокрого пляжа и застоявшихся отмелей. В конце дороги располагалась пошлинная застава, забрызганная со всех сторон речной грязью. За ней в плантанах и бамбуке скрывалось несколько жалкого вида лачуг, где жили, видимо, семейство таможенника и охрана моста. С простых прохожих пошлина не взималась. Только с повозок и других колесных транспортов, чье приближение было, как правило, слышно издалека. Здание заставы было погружено в темноту. Алекс и Нияз старались держаться в тени деревьев, приближаясь к реке чуть в стороне от дороги и не подходя к заставе.
Берег реки был низкий, заросший кустами казуарины, засыпанный песком. Тут и там под луной поблескивали отмели. Но сама река была широка и глубока. Противоположный берег был высок, крут и зарос сплошной стеной джунглей. Этот берег был очень труден для подъема. Но там был Лунджор. А сейчас они стояли еще на берегу Оуда. К воде сбегала каменная гать. Там, где она кончалась, начинался мост из лодок, связанных между собой веревками. Вокруг стояла тишина. Мост был совершенно открыт и, казалось, свободен. Освещенные тусклой луной лодки покачивались, и весь мост выгибался небольшой дугой под воздействием течения.
— Нас поджидают на той стороне, — сказал Нияз мрачно.
Алекс кивнул, нахмурившись. Ему был хорошо знаком противоположный берег реки. Джунгли там стояли густой, практически непроходимой стеной. Лошади нечего было и думать продраться сквозь сплетения деревьев, лиан и густых кустарников. Да и человеку сделать это было бы затруднительно. Особенно если учесть, что там не было никаких дорог, кроме потаенных тропинок, по которым ходили звери на водопой. В город Лунджор от реки вела единственная извилистая дорога длиной в десять миль, — какие-то десять миль! — начинавшаяся после моста. Они понимали, что, даже если им удастся переправить на тот берег лошадей вплавь, они просто не смогут их высадить из-за крутизны берега и густого, подступающего к самой воде леса. Течение подмыло противоположный берег, который нависал теперь над водой под отрицательным углом. Лесная вырубка была только там, где заканчивался мост из связанных между собой лодок и где начиналась дорога на Лунджор. Только там можно было высадиться на дальний берег. Дорога взбегала по длинному и некрутому склону. Там стояла еще одна застава, а к опушке джунглей жались несколько лачуг.
Значит, лошадей в любом случае придется оставить.
— Надо плыть, — медленно, с расстановкой проговорил Алекс.
Нияз на это ничего не ответил, а только показал на реку рукой. Алекс посмотрел в том направлении, куда он показывал, и увидел в воде какой-то длинный и серый предмет, напоминавший сплавлявшееся бревно. Но это было не дерево. Это был маггер, тупорылый крокодил-людоед индийских рек.
— Если уж мне и придется скоро умереть, то я все-таки предпочитаю умереть на суше, — сказал Нияз, — а не в пасти этой уродины. Да и потом, какой из меня пловец? Я уж не говорю о тебе. Как ты собираешься грести против сильного течения с твоей-то рукой? Нет. Решим так. Я пойду вперед со своей лошадью. Они не тронут меня. За что? Им нужен патанец. А там я посмотрю: если их немного, я убью всех и вернусь за тобой.
— А если их будет много? А если тебя задержат до рассвета? Те ребята, которых мы связали в Пари, утром будут обнаружены. Они приедут сюда и споют вместе с тобой ту веселую песенку…
— Я же говорил: их надо было убить, — поморщившись, сказал Нияз. — У меня появилась отличная мысль… Давай, я съезжу назад и все-таки перережу им глотки, а?
— Нет времени.
— Тогда делаем, как я сказал. Скоро уже будет светать. Каждая минута дорога.
Алекс помолчал и согласился:
— Хорошо, попробуй. Вдруг получится? Возьми мою лошадь, она будет посвежее твоей. Если их будет слишком много, езжай в Лунджор и скажи Гарденену, чтобы он немедленно прислал сюда роту солдат.
Они вновь зашли в кусты казуарины, вышли по осыпающемуся песку к дороге, отвязали лошадей и уже стали было прощаться, как вдруг Нияз поднял палец и стал прислушиваться к чему-то. Алекс, следуя его примеру, также напряг слух и услышал слабый и отдаленный звук. Точно такой же, какой им уже приходилось слышать этой ночью. Это скакали во весь опор кони. Стук копыт становился громче и быстро приближался. Всадники скакали со стороны Пари.
Алекс и Нияз остались у дороги в тени деревьев. Дорога была хорошо освещена луной, и они увидели проскакавших мимо всадников, которые подняли за собой удушающее облако пыли. Всадники остановились у будки заставы, там загорелся свет, с минуту был слышен звук оживленного разговора, потом лошади поскакали по мосту на дальний берег.
Нияз медленно выдохнул.
— По крайней мере, один из них тот, который подстерегал нас у Пари. Мне надо было, конечно, посильнее ударить его. Ну, все… Мост для нас закрыт. Может, попытаться вернуться на Канвайскую дорогу? Там нас уже не будут искать. У нас есть пока лошади. Давай вернемся.
— Вернуться в Оуд? Это загон, где нас очень быстро поймают. Нет, мы должны идти вперед или умереть.
— Тогда, видимо, придется умереть, — мрачно проговорил Нияз.
— Главное, добраться до начала моста, — задумчиво сказал Алекс. — Мы не будем подниматься на него, а переправимся вплавь, держась за него руками.
— Нет, ничего у нас не выйдет, — сказал Нияз. — Даже по-пластунски мы не сможем подползти к мосту незамеченными. Здесь даже крысе негде укрыться.
Алекс вынужден был признать правоту этих слов и вновь задумался. Основание каменной гати было заметно шире верхушки. Подходы к реке с обеих сторон на протяжении двух сотен ярдов были абсолютно открытыми. Песчаный пляж да лужи, которые затопляются рекой во время дождей. Высота гати не позволяла спрятаться за ней человеку. Спина и зад все равно видны при такой яркой луне. Но с другой стороны, луна скоро зайдет. Будет несколько минут до рассвета. Станет темнее. И тогда можно будет попытаться, укрываясь за бортиком гати, подползти к началу моста и соскользнуть в воду. Нияз уже говорил, что он плохо плавает, но даже он сможет переправиться на тот берег, держась рукой за мост… Впрочем, сначала до моста еще нужно добраться…
За последние двое суток Алексу удалось сомкнуть глаза всего на пару часов, поэтому сейчас голова у него гудела и раскалывалась на части. Раненая рука дико ныла, горела и кровь в ней билась гулкими ударами. Через минуту ему показалось, что эти толчки крови в руке и висках отдаются на дороге каким-то дальним эхом. Постепенно это эхо стало приближаться и перекрыло толчки крови. Тогда Алекс понял, в чем дело. К мосту приближался длинный караван скрипучих крестьянских повозок. Повозки были запряжены волами. Этот вид транспорта был типичен для Индии, и его можно было встретить на дорогах страны в любое время дня и ночи. Кучера спали на козлах, а терпеливые и выносливые животные медленно тянули повозки вперед час за часом в кромешной темноте.
Алекс схватил Нияза за руку и, кивнув в сторону каравана, сказал тихо:
— Отвяжи лошадей, они нам больше не понадобятся. Не думаю, что нам придется расстаться с жизнью сегодня. Видишь повозки? На них-то мы и переправимся на тот берег.
Они отпустили лошадей свободно пастись в джунгли, сами, держась в тени, бросились навстречу каравану. В нем было девять телег, которые медленно катились по залитой лунным светом дороге, скрипя и переваливаясь на кочках. Волы тащились по дороге, словно черепахи, опустив морды почти к самой земле и покачивая рогами. Кучера дремали на козлах, каким-то чудом удерживая равновесие и не сваливаясь с них. Горящий фонарь, заправленный маслом, покачивался на передней телеге. При свете луны Алекс и Нияз увидели, что четыре передние повозки нагружены доверху сахарным тростником, а последние пять — мешками с бхузой[41]. Алекс и Нияз выбежали с обочины на дорогу между телегами. Подбежав к одной из них, Нияз быстро скинул на землю несколько мешков. Алекс в это время следил за клевавшим носом кучером, про себя моля его не просыпаться.
— Готово! — шепнул Нияз.
Алекс прыгнул в образовавшуюся щель и стал отчаянно пробиваться дальше. Когда Алекса снаружи уже не было видно, Нияз для верности закупорил отверстие двумя-тремя мешками, затем отбежал к телеге, груженной сахарным тростником, и зарылся в него со сноровкой земляной змеи.
В пыльной, сладковато-пахнувшей темноте Алекс пробирался все дальше и дальше, расталкивая мешки в разные стороны. Наконец он успокоился и замер в самой глубине груза.
Волы не замедлили хода, видимо, не почувствовав прибавления в весе. Повозки продолжали приближаться к мосту, подскакивая на кочках и отчаянно скрипя. Наконец колеса зашелестели по прибрежному песку. Со стороны будки заставы караванщиков окликнул заспанный, сердитый голос, и повозки остановились.
Кучеры от внезапной остановки проснулись и тут же вступили в ожесточенные пререкания с зевающим таможенником. После некоторой задержки тот махнул рукой и телеги вновь тронулись. Кучеры стали хлестать волов по бокам плетьми, орать и ругаться. Караван миновал пески и въехал на каменную гать. Один за другим волы вступали на мост, который качался и стонал под тяжестью повозок. На несчастных животных обрушивался град ударов и ругательств, призванных подбодрить их. Наконец мост был преодолен, повозки въехали по подъему противоположного берега и вновь оказались на дороге.
Алекс не слышал, как каравану приказали остановиться, так как скрип телег просто оглушил его. Но он почувствовал, как его телега опять остановилась, и почти сразу же поблизости раздались рассерженные голоса кучеров, охрипшие со сна:
— Да что же это такое, а?! Опять остановка! — кричал один из них. — Патанец?! Никаких патанцев не знаю и не видел!.. Смотри сам… Смотри-смотри! Лошади? Лошади? Какие лошади? Это тебе что, дак-гари, что ли? У нас волы только. Везем фураж и тростник в Лунджор. Первый раз что ли? Вы прямо как, я не знаю, иностранцы какие-то!
Другой кучер также что-то сердито вставил, но его прервал громкий мужской голос:
— После того, что он сделал, любому дураку было бы ясно, что мы станем следить за мостом. А человек, которого мы ищем, не дурак. В Гангис ему пришлось бы делать двойной путь. К тому же Нарайн Дасс говорит, что у него загнана лошадь. Охе! Эй ты, на телеге! Не видел случайно на дороге лошадей?
— Я уже сказал тебе, что не видел никаких лошадей! И патанцев тоже! Другое дело, что я немного вздремнул по дороге… Но если ты думаешь, что мы везем в телегах лошадей и патанцев, пожалуйста, смотри, проверяй! Может, и найдешь что-нибудь. Конечно, мы же всегда зарываем в сено лошадей! Да и слонов тоже! И турков! Смотри, проверяй, мне не жалко! Только побыстрее, нам нужно до утра попасть в город.
Кто-то зажег факел, и охрана пошла вдоль каравана, щупая телеги и заглядывая в них. Впрочем, всем было ясно, что разгружать их сейчас просто невозможно.
— Ткни копьем, — хрипло предложил кто-то.
— А кто мне будет платить за мешки? — взвился тут же какой-то кучер.
С другой телеги зло крикнули, что не появилось еще на свет то копье, которое способно пробить насквозь груз с сахарным тростником.
— Чем тыкать-то будешь? Этим колышком от палатки? Ну-ка, давай! Попробуй!
Чье-то копье застряло в мешках. По всему каравану начался обыск. Наконец кто-то взобрался на телегу, где прятался Алекс. Он почувствовал и услышал, как копье стало с хрустом пробиваться вниз, к нему. Острие задело повязку на руке. Кровь вновь выступила на ней. Рана открылась. Но то ли копье поднялось раньше, чем появилась кровь, то ли оно обтерлось о верхние мешки, но охранник ничего не заметил и спрыгнул с телеги, направившись к следующей.
Алекс прижал раненую руку к неподатливому боку мешка и попытался закрыть рану другой рукой. Но кровь вскоре стала просачиваться между пальцев. Он боялся, что она станет вытекать на дорогу и, когда караван тронется опять, охрана заметит кровавый след и забьет тревогу.
Наконец, — казалось, прошла целая вечность, — телеги вновь двинулись. Алекс со страхом ждал окрика, но его так и не было. Значит, прорвались. Теперь все позади.
Пыльная, душная темнота вновь сомкнулась над ним, и он заснул. Алекс плохо помнил, как при свете желтого рассвета Нияз вытаскивал его из этой пыльной берлоги.
Спустя три часа принявший ванну, побрившийся и накормленный, одетый во все чистое и с обработанной раной, с рукой, подвешенной на перевязь через плечо, Алекс появился в резиденции.
У комиссара был посетитель, и капитану Рэнделлу было приказано подождать. Сказали, что визитер уйдет максимум через полчаса.
Алекс вышел на веранду, опустился на стул, вытянул перед собой натруженные ноги и стал ждать. Канвай он покинул больше чем тридцать часов назад, так что несколько минут задержки роли не играли. До него доносились приглушенные голоса из гостиной, которая располагалась в дальнем конце офиса комиссара. Из этого можно было заключить, что мистер Бартон принимал сейчас не официального посетителя, а по личному делу. Спустя некоторое время разодетый в пух и прах чупрасси[42], который сидел в дальнем конце веранды, вдруг резво вскочил на ноги, подбежал к двери гостиной и откинул в сторону тростниковую занавеску, загораживающую выход. Алекс теперь яснее мог слышать голоса. Комиссар с кем-то сердечно прощался. Мимо вытянувшегося по стойке «смирно» вестового торжественно прошел высокий человек, индус, который направился к противоположному концу веранды, прямо навстречу Алексу.
Это был Кишан Прасад!
Алекс продолжал сидеть неподвижно. Ни один мускул не дрогнул у него на лице. Он не изменил своей свободной позы. Словом, ничто не выдало тот шок и то несказанное изумление, которое испытал он при виде Кишана Прасада. Кишан расслабленной походкой подошел к Алексу, остановился и отпустил вежливый поклон. Алекс не ответил на приветствие, продолжая неподвижно сидеть. Он только поднял взгляд на Кишана Прасада и уставился прямо в его ледяные, тяжелые и страстные глаза, над которыми нависали густые черные брови. Помедлив несколько секунд, Алекс улыбнулся с усмешкой.
Кишан Прасад невольно отшатнулся и на какую-то секунду, казалось, потерял часть той уверенности, которая до этого сквозила во всей его позе… Уголки рта на мгновение сдвинулись. Затем он взял себя в руки и подчеркнуто вежливо проговорил:
— А, капитан Рэнделл. Приятно удивлен нашей встрече. Комиссар сказал мне, что не ожидает вас до следующей недели, когда должен будет уехать мистер Парбери, который сейчас подменяет вас здесь. У вас травма руки? Как жаль. Сочувствую. Надеюсь, ничего серьезного?
— Нет, ничего серьезного, — с ледяной ухмылкой, ответил Алекс. — Как хорошо, что вы сами пришли. Значит, мне не придется посылать за вами.
— Посылать за мной? — спросил Кишан Прасад, изображая вежливое удивление.
— Да. Вас ведь необходимо доставить в тюрьму. А потом и на эшафот.
— Мой дорогой капитан Рэнделл! Должен признаться, что не понимаю вас. Это что, какая-то английская шутка?
— Вы прекрасно меня поняли, — тихо ответил Алекс. — Убийство всегда считалось преступлением, за которое наказывают смертью.
— Убийство?
— Что же еще? «То, чему вы все только были свидетелями, связывает вас всех одной ниточкой. Если все откроется, то никому из вас не удастся избежать петли». За точность цитаты не ручаюсь, но смысл передан верно, — сказал Алекс. Он заметил, как он вздрогнул и зрачки расширились от ужаса. — Да, да, именно так. Я как раз и есть тот человек, которого ваши головорезы ищут по всему Оуду. Вы проявили осторожность в организации той тайной встречи.
— Н-не понимаю… — заикаясь, протянул Кишан Прасад.
Алекс сказал:
— Зато я понимаю. У меня было много косвенных свидетельств, но до позавчерашней ночи я не располагал твердыми доказательствами. Теперь они у меня есть. Считайте, что вы, — как и все те, кто присутствовал на встрече, — уже дважды приговорены к смерти. Один раз за подстрекательство к бунту, второй — за убийство.
Кишан Прасад медленно выдохнул и потом тихо проговорил:
— Я был против этого убийства. Я не воюю с малыми детьми. Если бы мне было заранее известно, что именно затевается, я бы не дал этому свершиться. Только слуги дьявола способны на такую мерзость. А я не служу дьяволу. Что же касается остального, то я уже имел честь говорить вам раньше, что имею сильнейшее желание свергнуть господство вашей Компании. Это моя цель, претворяя в жизнь которую, я положу на ее осуществление все свои силы и средства, которыми располагаю. Впрочем, повесить вам меня не удастся. У вас нет доказательств. Есть только ваше слово, которому никто не поверит. Никто, — он поднял руку, чтобы остановить уже открывшего было рот Алекса, и продолжил: — Выслушайте меня до конца. Не знаю, как вам удалось узнать о встрече и как вам удалось пройти на нее, но я знаю наверняка, что если бы не допустил в свое время одной большой глупости и не дал бы вам один знак, вы не увидели бы того, что увидели позавчера ночью. Вы показали этот знак в качестве пропуска, не так ли? Это — мне наказание за глупость. Мне передали, что какой-то патанец показывал этот перстень. Я не мог поверить, хотя, впрочем, понимал, что в принципе тут нет ничего невозможного. За патанцем началась охота. Но мы допускали возможность того, что его не поймают. На этот случай были предприняты кое-какие предосторожности. Так что если вы сейчас отправите людей в Канвай на поиски вещественных доказательств, вы там ничего не найдете. Что же касается меня, то я найду сотню свидетелей, которые присягнут в том, что в ту ночь меня в Канвае никак не могло быть.
Алекс мрачно проговорил сквозь зубы:
— Надеюсь, вы понимаете, Рао Сахиб, что мое слово перевесит показания всех ваших липовых свидетелей?
— Вы так думаете? Вы полагаете, что ваше слово перевесит даже показания комиссара Лунджора? — вежливо спросил Кишан Прасад.
Лицо Алекса окаменело, и только в уголках его рта появилось два небольших белых пятнышка. Он так резко встал со стула, что Кишан Прасад инстинктивно отклонился назад от возможного удара. Алекс хрипло прорычал:
— Я вам не верю!
— Но это правда. Он солжет, сам не зная того, — сказал Кишан Прасад. — Понимаете… в тот вечер в доме нашего общего друга была вечеринка, на которой господин комиссар отдал должное ароматному бренди… Пожалуй, даже слишком увлекся. Он не совсем точно помнит, что там происходило и абсолютно убежден в том, что я там был. Ему от моего имени подарили забавную вещицу, которую я привез из Франции. Он любезно согласился принять подарок и думал искренне, что принимает его из моих рук. Он даже успел уже рассказать об этом полковнику Маулсену, который сейчас с ним. Так что, видите…
Кишан Прасад сочувственно развел своими мускулистыми смуглыми руками, и Алекс все понял. Кишан Прасад на все сто процентов использовал склонность мистера Бартона к пьянству и его тщеславие. Все оказалось для него так просто, так удивительно просто!.. Заранее организованная вечеринка в доме одного из индийских вельмож самой сомнительной репутации, пьянка, танцовщицы, шампанское, в которое подмешивали бренди и, возможно, опиум… И наконец человек, похожий внешне на Кишана Прасада, несколько раз произнесенное вслух его имя, пока не дойдет до помутившегося сознания комиссара. Подарок из Франции…
Алекс слишком хорошо знал своего шефа. Если комиссар уже вслух признался кому-то, хотя бы полковнику Маулсену, в том, что лично видел на той вечеринке Кишана Прасада, он уже не возьмет своего слова назад ни при каких обстоятельствах, не желая признавать, что из-за пагубного пристрастия к алкоголю его легко провести…
— Скажут, что вы обознались, — проговорил все так же тихо Кишан Прасад. — Что же касается самой той встречи, то скажут, что это была самая обычная сходка, каких много. Да, собрались недовольные, ну и что? Какой вред от того, что они немного поплачутся друг другу в жилетку на свою плохую жизнь? И знаете, почему еще вам не поверят? Потому, что англичане не хотят верить в это. Полковники, которые командуют здесь сипайскими частями, подозревают, что у них в подразделениях зреют зерна бунта. Индийские офицеры в последнее время ведут себя все более оскорбительно со своими английскими начальниками. Но полковники старательно закрывают на это глаза, никогда не признаются в существовании этих брожений в войсках и будут говорить, стараясь перекричать друг друга, что у них в полках все хорошо, все в лучшем виде. Видите, я с вами откровенен. Зачем нам притворяться друг перед другом, раз нам обоим известно то, что неизвестно еще никому?
Он пристально взглянул Алексу в глаза и понизил голос почти до шепота:
— Вы отлично знаете, что эту битву вам не выиграть. У Компании есть только горстка вооруженных людей. Власть Компании — иллюзия. Я видел сражение у Севастополя и ответственно заявляю вам: у английской королевы больше не осталось полков, которые бы она могла прислать вам на помощь. Не противьтесь. Присоединитесь к нам! Ведь уже есть примеры, когда люди с Запада достигали величия в индийских армиях. Возьмите Авитейбла, Джорджа Томаса, Ваентуру, Поттера, Гардинера…
Алекс расхохотался, и этот смех вызвал краску гнева в лице Кишана Прасада. Тот уронил руки и отступил назад:
— Прошу прощения, — проговорил он. — То, что я сказал, глупость.
— И еще какая! — согласился Алекс.
Кишан Прасад горько улыбнулся.
— Мне очень жаль, что принадлежность к разным нациям сделала нас врагами, может быть, в своей следующей жизни вы родитесь индусом.
— Может быть, — ответил Алекс. — Но в этой жизни я еще должен успеть отправить вас на виселицу.
— Возможно, что когда-нибудь вам это и удастся, — сказал Кишан Прасад. — Но сейчас еще не подошло время.
Он еще раз вежливо поклонился Алексу и сбежал по ступенькам крыльца в сад, залитый ярким солнцем. Там его ждала открытая коляска и слуги.
Встреча с комиссаром подтвердила слова Кишана Прасада. Мистер Бартон с нескрываемым недоверием слушал доклад Алекса. Он сказал, что Алекс обознался и что в этом нет ничего удивительного: так как, мол, «эти черные все похожи между собой, как обезьяны»! Предположение капитана о том, что, может быть, это не он, а господин комиссар обознался, привело того в такую ярость, что, казалось, он вот-вот рухнет в апоплексическом ударе. Подобные инсинуации абсурдны и возмутительны! Сам Рао Сахиб подарил ему игрушку, которую привез из Парижа, вот, не угодно ли видеть: музыкальная шкатулка с обнаженной танцовщицей, которая двигает ручками в такт легкой мелодии. Вот оно, доказательство правоты слов комиссара, стоит на столике. Кишан Прасад умолял его принять этот скромный дар, а вот только сейчас зашел затем, чтобы передать второй ключик от шкатулки. И правильно сделал, потому что первый запросто может потеряться. Все эти мелкие вещицы всегда куда-то пропадают…
Рэнделл жестко вернул разговор в прежнее русло. Это еще больше рассердило комиссара. Очевидно, говорил он, что Алексу довелось быть свидетелем обычного в этих местах, но, безусловно, экзотичного для англичанина, религиозного обряда. Комиссар, между прочим, посоветовал Алексу больше не соваться в такие дела. «Каждый сходит с ума по-своему», — таков был его вывод. На таких сходках черные неизбежно порют всякую будоражащую нервы чепуху. Это еще ничего не значит. Что же касается слов Алекса о том, что там был принесен в жертву английский ребенок, то тут господин комиссар мог предположить только одно… Алекс… э-э… слишком увлекся, что неудивительно было в подобных обстоятельствах. Возможно, он наглотался наркотического дыма с той жаровни, может быть, очень устал, словом, на какую-то минуту потерял чувство реальности. Господин комиссар, конечно, далек от мысли о том, что Алекс был пьян, хотя эти чертовы индусы гонят весьма крепкую водочку… Жертвой был, разумеется, белый козел. Самая обычная жертва в подобных обрядах. И если Алекс последует его совету и воздержится впредь от этого маскарада с переодеванием в патанца, то ему это пойдет только на пользу. И вообще не стоит совать свой нос в такие мутные делишки. Это недостойно в конце концов звания офицера Компании и может завести куда угодно. Пусть рана в руке послужит Алексу хорошим уроком на будущее!
А теперь, когда с этим покончено, господину комиссару хочется узнать, какие новости Алекс привез о контессе. Господин комиссар надеется, что с ней все нормально. Некрасивая, так что же? Красота — не самое главное. Доброе дитя, хоть и излишне простенькая. Жаль, тысячу раз жаль, что сам он не смог поехать в Калькутту, но ведь ему нездоровилось. Простуда все… Он, конечно, понимает, что поездка в Дели — не вполне приятное путешествие, но надеется, что под присмотром миссис Эбатнот все пройдет хорошо. А потом он и сам приедет в Дели по делу, заодно и… Словом, убьет сразу двух зайцев.
За прошедший год мистер Бартон не стал здоровее и внешне привлекательнее. Он-то, может быть, и хотел взять себя в руки и путем ежедневных физических упражнений и воздержания от спиртного и женщин улучшить свое состояние. Но по здравому размышлению решил, что все это необязательно. Наоборот, ведь это его последний год свободы и надо получить от него максимум удовольствий. Через год придется связать свою судьбу с некрасивой, постоянно ноющей, костлявой девчонкой. Ей, конечно, не понравится образ его жизни, и она поднимет по этому поводу дикий шум, призовет на помощь всех своих влиятельных родственников. Но господину комиссару плевать. Главное, добраться до венца, а значит и до ее денежек, а там уж будь что будет, ничего не страшно. Жизнь, конечно, пойдет совсем не та, что сейчас, поэтому-то и необходимо вовсю насладиться напоследок. Прийдя к такому выводу, господин комиссар выкинул из головы все мысли о каком бы то ни было воздержании и упражнениях, удовлетворенно вздохнул и предался удовольствиям. И сейчас перед Алексом Рэнделлом стоял тучный, лысеющий, шлепающий губами человек со стаканом в подрагивающей руке и с усами и подбородком, залитыми бренди.
Алекс покончил с вопросом о контессе одной короткой репликой и с мрачной решимостью опять вернулся к вопросу о Кишане Прасаде и сходке заговорщиков в Канвае. Алекс спорил, разъяснял и умолял, но мистер Бартон оставался непреклонен. Алекс ничего с ним не мог поделать. Господин комиссар признал, что все это очень печально, но добавил, что самое лучшее сейчас — обо всем забыть, как будто ничего и не было. Нет смысла ворошить корявым сучком осиное гнездо.
То же самое мнение было выражено полковниками Маулсеном и Паккером, которые командовали двумя из трех полков местной национальной пехоты, квартировавшейся в Лунджоре, а также майором Беквитом, который в отсутствие полковника Гарденен-Смита временно командовал третьим полком.
Полковник Маулсен, который не забыл и не простил капитану Рэнделлу его поведения в Александрии, приложил особые старания, чтобы подвергнуть его рассказ оскорбительному осмеянию. Он сделал все от него зависящее, чтобы комиссар не предпринимал каких-то официальных мер по этому докладу и едва из кожи вон не вылез в стремлении поставить под сомнение рассказанное Алексом. Полковник Паккер, фанатичный христианин, заявил, что все находится в руках Божьих и нужно только почаще молиться. Майор же Беквит, будучи человеком, весьма неуверенным даже в себе самом, был убежден, однако, в нерушимой преданности Компании каждого сипая в его полку. Он с охотой выслушал разгромную критику из уст полковника Маулсена, не возразил, когда тот назвал Алекса выскочкой и карьеристом-любимчиком на государственной гражданской службе и в конце концов укрылся за тем обстоятельством, что в отсутствие полковника Ганденера-Смита он самолично не может ничего сделать. К тому же Алекс был армейским офицером, которого перевели на гражданскую должность, где и платили гораздо больше, чем в армии, и власти было не в пример полковой «свободе». Очень часто таким, как Алекс, их прежние сослуживцы остро завидовали. И майор Беквит в этом не был исключением.
Тогда Алекс выставил вперед свою раненую руку на перевязи, попросил недельное продление отпуска по ранению и тут же уехал в Агру к губернатору Северо-Западной провинции господину Джону Колвину. Впрочем, поездка оказалась безрезультатной.
Этот губернатор был тем самым господином Колвином, который двадцать лет назад, будучи личным секретарем лорда Окленда, явился одним из главным инициаторов чудовищной глупости — Афганской войны. С тех пор он потерял уверенность в себе, перестал доверяться собственному суждению и стал бояться брать на себя какую бы то ни было ответственность. Господин Колвин принял и выслушал Алекса. Но он не поверил в то, что вся страна пропитана духом недовольства и мятежа, мысль же о брожениях в армии он полностью и категорически отверг. Он согласился с тем, что повсюду ходят тревожные слухи, но заметил, что слухи были и будут всегда, однако это еще ничего не значит. Он заявил, что не может взять на себя ответственность за арест таких людей, как Кишан Прасад. Это влиятельные вельможи, которых нет оснований подозревать в нелояльности. Тем более что, — Алекс вынужден был рассказать об этом губернатору, — сам господин комиссар Лунджора готов подтвердить алиби индуса и присягнуть, что того не было на канвайской сходке в указанную капитаном Рэнделлом ночь. Губернатор тоже предположил, что капитан Рэнделл обознался в отношении Кишана Прасада и вообще преувеличивает опасность сложившейся ситуации. Он также заметил, что офицеру Компании не пристало лично заниматься расследованиями подобного рода. Среди местного населения есть немало шпионов, которые находятся на содержании у Компании. Им вполне можно доверять, и потом, внедриться во вражескую среду им намного легче, чем белому человеку. Губернатор пообещал, что он, конечно, пустит информацию капитана Рэнделла вверх по команде, но в данное время…
Алекс, стиснув зубы, со все возрастающим чувством раздражения и горечи слушал губернатора. Он находился в положении человека, которого признали сумасшедшим и заперли в одиночную палату с обшитыми ватой стенами, чтобы он не разбил себе голову. А человек этот мечется и никак не может доказать, что он — нормальный, а его надзиратели — психи!..
Алексу следовало немного раньше вспомнить о генерале Джоне Джейкобе, которого записали в паникеры. Когда таких больших людей не слушают, что уж говорить о простом капитане? Может, не стоило и начинать это безумно-безнадежное предприятие?
Наконец он решил, что, если ему удастся раздобыть убедительные доказательства, ему все же поверят. Еще два дня назад он наивно полагал, что его собственные свидетельские показания будут достаточно убедительным аргументом, но… Кишан Прасад был прав, когда говорил, что англичане не поверят, потому что не захотят поверить. Властям удобнее закрывать на это глаза и упорно смотреть в другую сторону. Очевидно, в надежде на то, что если они не тронут улей, пчелы их не покусают.
Максимум, что удалось выколотить Алексу, это разрешение взять с собой шестерых пехотинцев и трех английских офицеров и прочесать место происшествия в поисках вещественных доказательств убийства, свидетелем которого он, как утверждает, был. Господин губернатор с неохотой признался, что примерно с неделю назад было подано заявление о пропаже ребенка. Исчез трехлетний сын рядового английского полка, расквартированного в Каунпуре. Так что есть вероятность того, что… Хотя, нет, в это решительно невозможно поверить!..
Алекс выбрал шестерых солдат и трех скептически настроенных, но исполнительных офицеров и уехал с ними в Канвай. Ничего они там, конечно, не нашли. Отверстие, ведущее в шахту, где проходила зловещая сходка, было открыто и доверху завалено всяким мусором. Казалось, этот мусор лежал там всегда. Недавно произошел обвал на том месте, где пускало свои мощные корни пипул-дерево. Было ясно, что сводчатая комната находится в аварийном состоянии и спускаться туда просто опасно для жизни.
В десяти шагах от каменного двора в лесу была обнаружена могила, в которой валялись гниющие останки белого козла.
Книга третья КОНВЕЙ
Глава 20
Вот уже больше шести недель Эбатноты покинули Калькутту и направились в долгое путешествие в Дели. Их сопровождали Гарденены-Смиты и, — что было неожиданностью, — лорд Карлион.
Лорд Карлион решил посетить древнюю столицу Моголов Дели и попросил позволения составить компанию этим двум семьям. Иначе, как он выразился, ему пришлось бы страдать от скуки и одиночества. Просьба, выраженная в галантно-вежливой форме, просто не могла встретить отказа. Миссис Эбатнот была искренне рада такому попутчику, однако ее весьма раздосадовало то обстоятельство, что и семейство Гардененов-Смит, в самую последнюю минуту, изменив свои планы, решило отправиться на несколько недель в Дели, присоединившись к ним.
Мама Делии объявила, что зной и влажность Калькутты уже невозможно выносить, но миссис Эбатнот, — хоть и не хотела выглядеть злючкой, — заподозрила, что на изменение планов миссис Гарденен-Смит повлияло известие о том, что лорд Карлион выразил желание присоединиться к компании. Она понимала, что такой приятной просьбой со стороны лорда Карлиона обязана отнюдь не достоинствам своим или мужа. Продолжая рассуждать, миссис Эбатнот сразу же отмела вариант с Лотти и Винтер, поскольку они уже были обручены. Неужели?.. Неужели ему приглянулась Софи?!.. Софи еще совсем ребенок, но зато уже такая миленькая и хорошенькая!.. Неужели все-таки Софи?!
Миссис Эбатнот некоторое время потешила себя мечтами счастливой матери. То, что она без особого воодушевления восприняла присоединение к их поезду семьи Гарденен-Смит, было вполне объяснимо, ведь Делия… Со вздохом миссис Эбатнот признавала про себя, что Делия — настоящая красавица, способная вскружить голову любому мужчине и затмить бедняжку Софи.
Полковник Гарденен-Смит, впрочем, как и полковник Эбатнот вынужденно отправились в эту поездку. Их женам и дочерям путешествие казалось на редкость некомфортным, утомительным и, если бы не присутствие лорда Карлиона, смертельно скучным. Что касается самого Карлиона, то Индия не произвела на него впечатления, если не считать великолепных условий и свободы охоты для путешественников. Одна Винтер с интересом и восхищением преодолевала каждую милю дороги. Она любовалась каждым рассветом, и который поднимался над равниной или над джунглями в шафраново-желтом зареве, каждым вечером, когда солнце закатывалось на покой, окрашивая местность то в бледно-золотистое, то в розовое, то в янтарное свечение. Она приветствовала одинокую луну в небе, которая походила на мускатный орех… На тот самый серебристый орех, который ехала посмотреть «дочь испанского короля».
Пейзажи раскрывались перед ней во всей своей непередаваемой красоте. Спутавшиеся в тугом клубке джунгли, низкие холмы вдали и ровные равнины. Широкие, причудливые изгибы индийских рек, их серебристые песчаные пляжи, белые стаи цапель, ищущих корм на отмелях. Поблескивающие в сумерках джили, с поверхности которых поднимались в зеленое вечернее небо косяки диких уток. Пальмовые деревья и желтые, похожие на мимозы, цветы шиповых кикар-деревьев. Тишина обожженных солнцем пыльных дорог и веселая суматоха параос[43]. Небольшие села с крохотными базарами, скрипучие крестьянские телеги и повозки, водоемы, храмы. Крик павлина в сумерках и гиканье диких гусей и журавлей на рассвете.
Винтер не могла понять, как человек, путешествующий по такой сказочной стране, мог, как, например, сестра лорда Окленда Эмили Иден, называть ее «краем золы и мусора» или «на редкость отвратительным местом». Она не понимала, почему в одних глазах одна и та же вещь кажется образцом красоты, вызывающим только восхищение, а в других — отвратительной, обескураживающей и отталкивающей?
Все нравилось ей в этой поездке в Дели. Все, кроме одного. Радость омрачалась присутствием лорда Карлиона.
На Винтер Карлион не произвел благоприятного впечатления еще во время их первой встречи на летнем балу Сибеллы в Уэйре. И несмотря на то, что с того времени, как они покинули Калькутту, он вел себя с ней исключительно вежливо, она, внутренне съеживаясь, чувствовала к нему антипатию.
Часто бывало, что томно-ленивый взгляд Карлиона подолгу задерживался на ней. В этом оценивающем взгляде было что-то оскорбительно очевидное, как будто он рассматривал молодую рабыню или чистокровную кобылу, думая, купить ее или не купить. Во всех его словах и фразах, несмотря на их внешнюю легкость, таился какой-то скрытый смысл. Наконец, он по всякому поводу и без повода дотрагивался до нее. Она не могла отказать ему в этом, не желая показаться неблагодарной или по-детски резкой. Когда к ней прикасались эти белые, ухоженные, как у женщины, руки, — хоть и необычайно ловкие в обращении с поводьями или ружьем, — по всему ее телу пробегала брезгливая дрожь, и ее охватывало нехорошее предчувствие.
Карлион чувствовал ее состояние, но истолковывал его по-своему. Это был эгоистичный человек, привыкший благодаря своему высокому титулу, богатству и внешней привлекательности добиваться у женщин неизменного успеха. В серьезные отношения он старался не вступать — его вполне устраивали легкие «амурные» победы. Причем с одинаковой поразительной ловкостью он стрелял, скакал по пересеченной местности или соблазнял очередную чужую жену. До сих пор он никогда не проявлял интереса к одиноким молодым леди. Еще ни разу он не удостаивал таких женщин знаками своего внимания. Но Винтер де Баллестерос совсем не походила на них и ярко выделялась в общем ряду притворно застенчивых, постоянно краснеющих светских дебютанток.
Ее неординарная внешность заинтриговала его. Он решил чуть «подзаняться» ею и был застигнут врасплох тем, как она отреагировала на его, якобы блестящий комплимент. Его поставили на место и наградили решительным отказом во взаимности. И кто отказал?! Такая молодая и такая еще в светском отношении неопытная девочка! По своей новизне это ощущение уязвило и одновременно заинтриговало его. Он увеличил натиск, но намеченная жертва все никак не попадала в его силки и неизменно ускользала. И тогда здравый смысл на время взял в нем верх. Действительно, преследование незамужней девушки из хорошей семьи могло привести либо к скандалу, либо к алтарю, а ему не улыбалось ни то, ни другое.
Сейчас, однако, ситуация была совершенно иной. Здесь, на пыльной дороге, не было рядом влиятельных родственников, которые своим вмешательством могли бы устроить для Карлиона серьезные неприятности. Эбатнотов не стоило рассматривать в качестве серьезного препятствия. А что касается того олуха-комиссара, за которого девушка должна выйти замуж, Карлион вообще не брал его в расчет. Он цинично считал, что, если человек служит в Индии, он уже заведомо ничтожен как в духовном, так и в социальном плане. Иначе он нашел бы себе место и в Англии.
Карлион был продуктом своей эпохи, когда богатые члены аристократического клана ставили себя над законами, общими для всех, но подходящими лишь для среднего и низшего класса. Карлион всегда преклонялся перед так называемым «Правом сеньора», считал это прекрасным обычаем и горько сожалел о том, что он уже отжил и не может быть восстановлен. Ведь как было бы приятно преподать этому очаровательному юному и невинному существу пару-другую уроков на тему приятных сторон супружеской жизни. Ведь познакомившись с радостями нежной страсти под руководством признанного знатока, она бы потом терпимо относилась и к убогим объятиям того ничтожества, которое должно было стать ее мужем. Он чувствовал, что девушка с таким чувственным ротиком и такой соблазнительной фигуркой должна оказаться весьма способной ученицей в любовной науке. А путешествие длиной в несколько недель, казалось, представляет уйму великолепных возможностей для того, чтобы развлечься таким способом.
Но несмотря на все тщательные маневры, ему все никак не удавалось поговорить с малышкой Баллестерос наедине, ибо всегда рядом с ней оказывались либо Лотти, либо Софи. Было ясно, что она вовсе не желает уединиться с ним для интимной беседы. И Карлион, который отправился в путешествие, заранее уверенный в своих силах и возможностях, постепенно начал терять терпение.
Господи, сколько своего обаяния и слов он уже растратил на то, чтобы развлечь этих скучных мещанок! Уже не говоря о том, что из-за этой поездки ему пришлось отложить свой отъезд из Индии! Ради чего? Ради того, чтобы трястись по этой пыльной дороге, ежедневно терпя лишения и неудобства? Ведь даже до сих пор преданный ему слуга наотрез отказался сопровождать своего господина в этой поездке. И все это зря?! Он просто не мог в это поверить! Но день проходил за днем, путешественники приближались к Дели, а Карлион все топтался на месте, не имея возможности хоть на шажок сократить расстояние до так самонадеянно поставленной цели. Все относились к нему хорошо, кроме Винтер. Жены полковников находили его приятным и обаятельным. В особенности этого мнения придерживалась Делия. Сами полковники считали, что Карлион отличный парень, невысокомерный и первоклассный стрелок. Но Винтер… она оставалась холодна, чем полностью оправдывала свое имя, и все так же далека.
Вместе с терпением Карлион растерял и осторожность. Миссис Эбатнот уже подозрительно косилась на него и тревожилась за свою подопечную, по отношению к которой поведение лорда Карлиона начинало казаться странным. Впрочем, миссис Эбатнот все время старалась себя чем-нибудь успокоить. Она говорила себе, что лорд Карлион не имеет в мыслях ничего серьезного, а те дополнительные знаки внимания, которые он уделяет Винтер, объясняются просто тем, что она из родовитого дома и все такое. Все же… Миссис Эбатнот стала повнимательнее приглядывать за Винтер. Закончилось все тем, что рассерженный, раздраженный и уязвленный лорд Карлион сделал то, что он всегда раньше называл «верхом глупости»: он влюбился.
Карлион так долго играл в прятки с этим чувством, что поначалу даже не сообразил, что произошло. Любовь была развлечением и наградой за сильноразвитый сексуальный голод, но ни сердце, ни душа никогда не знали этого чувства. И он уже был уверен в том, что обладает иммунитетом от этой особой формы безумия. Осознание же того, что он, — Артур Верайан Сент-Мор, десятый барон Карлион, — по-настоящему влюбился в какую-то семнадцатилетнюю девчонку, изумило и взбесило его. Он не мог в это поверить! Этого, казалось, не могло быть! Наверно, это все влияние отвратительного климата и того обстоятельства, что он вот уже в течение восьми месяцев, — беспрецедентный факт! — был лишен женщины.
Тем не менее он влюбился. И оказавшись в роли влюбленного, он потерял голову, он также потерял способность рассуждать здраво и рационально.
Он обнаружил, что не может спать по ночам. Что изящество, благодаря которому он выходил невредимым из десятков переделок, покинуло его. Он стал вести себя грубо и знал об этом. И зная, ничего не мог с собой поделать. Миссис Эбатнот испугалась, а миссис Гарденен-Смит оскорбилась. Только полковники, обладавшие большим пониманием, в отличие от своих жен, кидали на Карлиона сочувственные взгляды. Делия дулась и хмурилась. А Винтер оставалась все такой же совершенно погруженной в себя.
Настойчивые ухаживания Карлиона вызвали у Винтер неприязнь, больше похожую на страх. Она молила Господа о том, чтобы это невыносимое путешествие, отравленное присутствием лорда Карлиона, поскорее закончилось. Как только она выйдет замуж за Конвея, она перестанет бояться всех и вся. О, скорее бы выйти замуж за Конвея! Скорее бы защититься этим браком от холодной недружелюбности Джулии, зловредности Сибеллы и от похотливых взглядов таких людей, как полковник Маулсен и Карлион! Дни путешествия, начавшиеся так радостно, теперь превратились в пытку постоянного напряжения и смущения.
Когда в конце пути показались розово-красные стены Дели, один Карлион из всей компании не выразил радости.
Домик Эбатнотов располагался в военном городке на каменистом взгорье примерно в четырех милях от обнесенного стеной города. Карлиону удалось без труда добиться приглашения на время поселиться у Эбатнотов. Таковы были правила вежливости.
В глубине души миссис Эбатнот возражала, ведь еще в дороге она все поняла. Но лорд Карлион как-то беззаботно сказал о «недельке-другой» и она, вздохнув, согласилась. Ее утешала только мысль о том, что комиссар Лунджора, которого известили о дате приезда Эбатнотов в Дели, конечно же, будет уже ждать свою невесту в городе, и свадьба состоится в ближайшие же дни. С другой стороны, она немного даже жалела о том, что теперь уже поздно девушке порывать с комиссаром. Лорд Карлион был гораздо более привлекательным и во всех других отношениях, — особенно в имущественных, — больше подходил на роль жениха Винтер. Но теперь уже ничего не поправишь. Разрыв с комиссаром накануне свадьбы породит нежелательные разговоры. Да и потом сама Винтер вроде бы не показала ничем, что с симпатией относится к лорду. Скорее, наоборот. Можно было даже подумать, что он вызывает у нее неприязнь. Хотя любая девушка почла бы за великую честь удостоиться знаков внимания со стороны такого красивого и богатого мужчины. Даже если эта девушка уже обручена с другим.
Привязанность лорда Карлиона настолько уже пустила глубокие корни и была настолько очевидна для всех, что миссис Эбатнот горько сожалела о том, что у нее не хватает морального мужества подойти к нему и решительно посоветовать, учитывая сложившиеся обстоятельства, максимально сократить свое пребывание в их доме. Может быть, Джордж сможет провести с ним такой разговор… Впрочем, она и сама не понимала, отчего вдруг так обеспокоилась. Не могут же в самом деле одни лишь взгляды, которые лорд Карлион бросает на Винтер, быть серьезной угрозой… Хотя в последнее время поведение лорда Карлиона было таким, что не могло не встревожить кого угодно. В Калькутте она ни о чем не догадывалась, как и на протяжении всей первой половины их путешествия в Дели, но потом… потом ей стало казаться, что под внешней маской этих томно-ленивых манер и обаяния скрывается опасная и эгоистическая натура. А, может, она это все просто выдумывает?..
Какое облегчение настанет, когда она увидит мистера Бартона! Он, конечно же, до свадьбы будет жить в Лудлоу-Касл у господина Симона Фрейзера, комиссара Дели, и в первый же вечер появится у них дома. Миссис Эбатнот надеялась, что он не объявится сразу, дав тем самым невесте время принять ванну и сменить платье. Девушка несомненно захочет предстать перед ним в самом лучшем виде. Шесть лет, Бог ты мой!.. Миссис Эбатнот сентиментально вздохнула и утешила себя мыслью о том, что уже через полчаса их утомительный переезд подойдет к концу.
Впечатляющий строй домашних слуг, выстроившихся на веранде дома для встречи Эбатнотов… Была здесь и Кунти, нянька миссис Эбатнот, которой нездоровье помешало приехать в Калькутту встречать свою хозяйку. Она прослезилась от счастья, когда увидела двух взрослых девушек, которых помнила совсем еще детьми: одну в носочках и с пояском, а другую — грудной малышкой. Она по очереди сердечно прижала их к груди.
Лотти поджидало дома не меньше семи писем, каждое из которых было толстым пакетом. Таким же толстым, поддразнивая ее, заметила Софи, как романы миссис Хейман. Все послания были, разумеется, от Эдварда Инглиша. Для контессы де лос Агвиларес, однако, не было ничего.
«Да и откуда? — мысленно утешала себя Винтер. — Конвей уже наверняка находится в Лудлоу-Касл. Зачем ему оттуда писать? Всего миля расстояния». Через час, — а может, меньше, — она увидит его. Надо поторопиться и надеть свое самое лучшее платье. Господи, в каком она диком виде! Волосы покрылись пепельно-серым налетом от дорожной пыли, осевшей также на ресницах и в уголках носа и рта. Ужас! Немедленно в ванну и переодеваться! Быстро, быстро!..
Тину, молодую родственницу Кунти, которую приставили к девушкам в качестве няньки, послали за водой. Винтер пока снимала с себя дорожное платье, а Софи и Кунти распаковывали чемоданы с одеждой. Вот Софи достала яблочно-зеленое бареж с атласными полосками и стала встряхивать его. Одного из домашних немедленно послали за прачкой и приказали передать ей, чтобы не забыла утюг.
Спустя час Винтер в последний раз придирчиво осмотрела себя в зеркало, лишний раз пожалев, что не имеет синих глаз и золотистых завитков Лотти, затем прошла через коридор в гостиную и села ждать Конвея. Из окон ей были видны ворота, значит, она не пропустит его появления. Слуги уже накрывали стол для обеда. Уже около пяти часов… конечно, он будет вот-вот!
Она услышала, как кто-то подходит к комнате, и повернулась, ожидая увидеть в дверях миссис Эбатнот.
— Кого ждем? — спросил Карлион. — Видно, наш счастливый избранник запаздывает, а?
Винтер вся словно окаменела. Ее темные глаза широко раскрылись, на шее забилась учащенным пульсом какая-то жилка. Достаточно было бросить на лорда Карлиона один-единственный взгляд, чтобы понять, что он выпил и находится навеселе. Нет, он не был пьян, но разрумянившееся лицо, ярким блеском горевшие глаза и не вполне четкая речь указывали на то, что он также и не совсем трезв.
Винтер проговорила решительно и холодно:
— Я жду господина Бартона. Лучше, наверное, будет ждать его в саду. Сегодня приятная, прохладная погода, и солнце заходит…
Она подхватила полы своего кринолинового платья и медленно стала приближаться к дверям. Карлион стоял неподвижно до тех пор, пока она почти не поравнялась с ним, а затем с неожиданной прытью преградил ей путь.
— Не думаю, что там будет лучше. Наконец мне выпала редкая возможность! Вы старательно избегали меня, не правда ли? И надо признаться, делаете это очень умело. Почему вы не позволяете мне поговорить с вами?
Винтер с трудом взяла себя в руки и как можно более спокойным голосом сказала:
— Неправда. Вы часто разговаривали со мной.
— Всегда в присутствии посторонних и ни разу наедине! Вы задумывались над тем, что мне никогда не удавалось уединиться с вами? Даже на секунду! Почему вы так поступаете со мной? Вы делаете это для того, чтобы уязвить меня, Винтер? Нет, вы никуда не пойдете! Я попросту не пущу вас!
Она попыталась обойти его, но он снова сделал шаг и снова загородил ей проход. У Винтер перехватило дыхание, она прошептала:
— Лорд Карлион… Пожалуйста, дайте мне пройти. Я… Я слышу в холле миссис Эбатнот…
— Никакой миссис Эбатнот там нет. Кстати, меня зовут Артур. Я вам должен это сказать. Я также должен сказать вам, что вы самое милое, самое очаровательное и самое желанное для меня существо на всем белом свете! Я должен сказать вам, что…
— Лорд Карлион, прошу вас!
— Артур! Меня зовут Артур! И я люблю вас! Это абсурд, не правда ли?
— Лорд Карлион, вы не можете говорить со мной так, — прошептала Винтер в отчаянии. — Вам известно, что я выхожу замуж и…
— Замуж? За кого? За этого ничтожного комиссаришку? Чепуха! Это смешно! Черт возьми, это просто бред! Вы же сами это понимаете! Понимаете, не правда ли, моя красивая лебедушка, моя снежная дева… Я должен растопить этот лед и научить вас быть теплой, как лето, а не холодной, как ваше имя. Я должен, должен…
До Винтер донесся стук лошадиных копыт на подъездной аллее у дома. Конвей! Она снова попыталась миновать лорда Карлиона, но он поймал ее за руку. Прикосновение этих горячих пальцев отозвалось в ней чувством отвращения, но даже в таком состоянии она понимала, что не должна вырываться. Это будет невиданным позором, если сейчас откроется дверь и они войдут, и увидят… Не дай Бог, Конвей найдет ее здесь вырывающейся из объятий другого мужчины!.. Что он подумает? Он может подумать, что она поощряла лорда Карлиона каким-нибудь образом!.. Она подумала, что не имеет права терять спокойствие…
Довольно ровным голосом ей удалось произнести:
— Если вы меня сейчас же не отпустите, я закричу.
Карлион тихо рассмеялся.
— Нет, дорогая, не закричите. Или вам хочется положить начало вульгарному скандалу? И именно в минуту прибытия сюда этого избранного вами в женихи комиссарика? Ладно, поскольку у нас мало времени…
Прежде чем она сумела сообразить, что он хочет сделать, он рывком притянул ее к себе, с силой прижал ее руки к телу и впился в нее крепким поцелуем, от которого перехватило дыхание. Она стала молча и отчаянно сопротивляться. Гнев, боль и отвращение лишили ее разума. Жадные губы вжимались в ее рот, подбородок, впадинку шеи, спускались к плечам.
Она попыталась закричать, но смогла лишь придушенно застонать. Вдруг дверь из холла в комнату отворилась. Лорд Карлион тут же отпустил Винтер, она инстинктивно отшатнулась назад и схватилась одной рукой за спинку стула, а другой за шею, на которой после этих нечеловеческих поцелуев наверняка должны были остаться синяки. Но в дверях стоял не Конвей, которого она ждала с желанием и одновременно страхом. Она изумленно смотрела в лицо капитану Рэнделлу…
— Алекс! — еле слышно прошептала она, даже не подозревая в то мгновение, что называет его по имени.
Карлион обернулся к дверям. Он полностью овладел собой и казалось немыслимым, что именно этот человек всего несколько секунд назад пытался совершить над девушкой насилие в приступе дикого физического желания.
— А, — равнодушно произнес лорд Карлион. — Мистер Бартон, если не ошибаюсь?
Взглядом своих тяжелых серых глаз Алекс молча и внимательно смерил лорда Карлиона с головы до ног. Брови его чуть приподнялись в недоумении. Он проговорил:
— Нет, сэр. Насколько я понимаю, вы ожидали увидеть именно его? — Затем Алекс глянул через плечо Карлиона на Винтер и поклонился: — К вашим услугам, контесса.
Краска внезапно залила щеки Карлиона, в то время как губы его, наоборот, напряглись и побелели. Он выпрямился, вздернув подбородок и, медленно растягивая каждое слово, проговорил:
— Вы ошиблись дверью, сэр. Полковника Эбатнота вы найдете сидящим в своем кабинете.
С этими словами он кивком указал Алексу на дверь. Странно, но эта высокомерная манера говорить, с помощью которой раньше лорд Карлион легко и быстро ставил выскочек на место, сегодня не сработала.
— Очень возможно, — сказал Алекс, проходя в комнату. — Но я пришел сюда не для того, чтобы встретиться с полковником Эбатнотом. Я уполномочен передать контессе де лос Агвиларес одно сообщение.
— В таком случае передавайте и уходите, — рявкнул лорд Карлион. — Вы мешаете нам.
— Это я заметил, — проговорил Алекс, задержав взгляд на красных пятнах, которыми были покрыты шея и плечи Винтер. — Однако это сообщение носит личный характер. Оно от будущего мужа этой молодой леди. Надеюсь, вы позволите мне передать его контессе наедине. Я долго ее не задержу.
Лорда Карлиона настолько явно выпроваживали, что он даже растерялся. Надменно-ленивое выражение исчезло с лица. Он зло проговорил:
— Да как вы…
В ту же секунду Винтер, шурша полами платья, подбежала к Алексу и взяла его за руку. Не глядя на Карлиона, она тихо, но твердо проговорила:
— Проводите меня, пожалуйста, в сад, капитан Рэнделл. Там вы и передадите мне свое сообщение. Там лучше, право… Прохлада…
— Там слишком шумно, — улыбнувшись, ответил Алекс. — Уверен, что здесь будет лучше.
Он прошел к двери, открыл ее и с улыбкой обернулся к лорду Карлиону. Те, кто знал Алекса, знали и эту его улыбку. Карлиону она была незнакома. Гнев утих и сменился презрением во взгляде. Лорд оглянулся на Винтер и сказал:
— Я вернусь через пару минут, дорогая. — С этими словами он вышел в холл. Алекс закрыл за ним дверь и повернулся к Винтер.
Девушка как-то бессильно опустилась на диванчик. Она ощущала сильную слабость в коленях. Страшно захотелось разрыдаться:
— Кто это? — заинтересованно спросил Алекс.
Винтер отвернулась от него и изменившимся голосом проговорила:
— Лорд Карлион. Он… сопровождал нас из Калькутты и теперь вот… остановился здесь. Но вы не подумайте только, что я… Я бы не хотела, чтобы вы…
Она осеклась и прикусила губу. С какой это стати она должна оправдываться перед капитаном Рэнделлом. Он, конечно же, не думает, что она была добровольной участницей сцены, которая предстала его глазам, когда он вошел в комнату?!.. Что он успел увидеть, интересно?.. Карлион отпустил ее настолько быстро… К тому же она не кричала… Впрочем, последнее может свидетельствовать именно против нее… Алекс знал, что если бы она закричала, то он услышал бы ее. Неужели он может предположить, что она?..
Залившись яркой краской, она порывисто подняла на него глаза и проговорила:
— Понимаю, что эта сцена могла показаться вам необычной и даже странной, но… — Тут она в первый раз заметила повязку на руке Алекса и, тут же позабыв о предмете разговора, воскликнула: — Вы ранены?! Что случилось?
— Несчастный случай на охоте, — равнодушно ответил Алекс.
— Несчастный случай? — Она вдруг вспомнила слухи о разных восстаниях, о том, как убивают людей в отдаленных районах этой страны. Побелев, она поднялась с диванчика и быстро проговорила: — Конвей… С ним что-то случилось в Лунджоре?! Поэтому вы приехали сюда?! С ним что-нибудь стряслось?! Он заболел?!
— Насколько мне известно, нет, — бесстрастно ответил Алекс.
— Тогда почему вы приехали?
— Комиссар не смог лично приехать в Дели. Он попросил меня объяснить вам ситуацию, а также устроить ваш переезд в Лунджор с Гарденен-Смитами, которые скоро туда отправятся.
— Но… — Винтер нащупала рукой спинку стула и оперлась о нее. — Но они поедут туда только через три недели!
— Это мне известно. Сочувствую. Но кроме них в ближайшее время туда больше никто не поедет, а одну вас отпустить не могу.
— Почему бы вам не поехать со мной?
— Комиссар полагает, что так делать не стоит, — сухо ответил Алекс. — И потом я сам буду возвращаться не раньше чем через пару недель. У меня здесь есть кое-какое дело, с которым комиссар попросил разобраться.
Винтер молча опустилась опять на диванчик. Яблочно-зеленые полы платья, которым она так хотела порадовать Конвея, шатром опустились вокруг нее. В эту минуту она показалась маленьким, заброшенным всеми ребенком. И снова, — как и тогда на палубе «Глеморген-Касл» в Калькутте, — Алекс подумал о том, что господина Бартона удавить мало. С другой стороны, он задавался вопросом: а на самом ли деле это юное и хрупкое создание столь невинно, каким внешне выглядит? Ему было очень интересно узнать, в чем был смысл той сцены, которая разворачивалась здесь в момент его появления. Молодые леди, особенно те, кто помолвлен и вот-вот собирается выйти замуж, обычно не уединяются с нежелательными поклонниками. Если бы ей было неприятно общество Карлиона, ей ничего не стоило крикнуть и позвать на помощь. Дом кишел слугами, уж не говоря о членах семейства Эбатнотов.
Лорд Карлион, на беспристрастный взгляд Алекса, относился к тому типу необычайно красивых мужчин, какой пользуется большим успехом у всех женщин, — и молодых, и пожилых. Контесса сказала, что он сопровождал ее и семью Эбатнотов всю дорогу из Калькутты в Дели. Значит, у него было полно возможностей произвести впечатление на нареченную невесту комиссара. Если у него это получилось, то Алекс не имел оснований сожалеть об этом, так как искренне полагал, что абсолютно любой человек в качестве жениха Винтер выглядит предпочтительнее господина Бартона.
Ему было жаль только одного: он не мог избавиться от внутреннего ощущения, что он несет ответственность за эту девушку. Это было абсурдное чувство, которое порядком раздражало Алекса. К тому же оно казалось безосновательным. То, что должно было случиться с ней, не должно было волновать его. Да и вообще, если здраво рассудить, этой молодой женщине удивительно повезло в жизни. Ее участи многие позавидовали бы. Она титулованная особа, обладающая множеством связей в аристократических кругах, значительным состоянием и, наконец, необычайной внешней красотой. Тем не менее он никак не мог стряхнуть с себя это досаждающее ему чувство ответственности. Оно угнетало его со времени той самой прошлогодней ночи, когда комиссар попросил его отвезти домашние письма в Уэйр и сопровождать его невесту в Индию. Это чувство утвердилось тогда и осталось в нем до сих пор. Оно вспыхнуло с неожиданной силой год назад, когда он узнал о том, что ее августейшим родственникам в общем-то нет дела до бедняжки и они озабочены только тем, как бы поскорее сплавить ее с рук.
Алекс опустил глаза на ее склоненную голову и маленькие руки, которые она отчаянно сцепила, положив на складки красивого платья, неуместно лезшего в глаза Алексу. Он нахмурился. Он чувствовал, что на душе у нее плохо, и одновременно думал о том, что Индия — не место для таких невинных созданий. Если здесь вдруг разразится мятеж или восстание, таким, как она, придется особенно худо.
Как раз в ту минуту, когда Алекс задумался, Винтер неожиданно подняла на него глаза, поймала его сдвинутые брови, это заставило ее очнуться, взять себя в руки и даже рассердиться. Она поднялась, выпрямилась и проговорила сдержанно и весьма холодно:
— С вашей стороны было очень любезно побеспокоиться обо мне. Надеюсь, что не покажусь вам неблагодарной. Скажите, а не прислал ли господин Бартон вместе с вами письмо?
— Времени не было. Изменения в планах господина комиссара произошли в самую последнюю минуту. Я сам отправился в дорогу уже через полчаса после того, как мне были даны указания, — объяснил Алекс.
Не мог же он в самом деле сказать, что господин комиссар, отправляя его в дорогу, еле держался на ногах. Какое уж тут письмо, если и устная-то речь в ту минуту давалась ему с трудом?..
Дело было в том, что когда время отъезда мистера Бартона приблизилось вплотную, его одолели те же страхи, которые не дали ему в положенное время самому отплыть в Англию за своей невестой.
Поначалу он только воздерживался от длительного, знойного и лишенного комфорта путешествия в Калькутту. Воздерживался только потому, что уж очень не хотелось ему терпеть дорожные неудобства. Рассудив, он решил, что ничего такого не случится, если он женится в Дели. Но по мере приближения даты выезда, энтузиазм его угасал. Он вспомнил о том, что сейчас в Дели как раз начинается зимний светский сезон. Господин комиссар чувствовал, что на фоне подтянутых военных офицеров будет смотреться невыгодно и может произвести на невесту неблагоприятное впечатление. Да и потом еще эти Эбатноты, которые, наверное, успели крепко подружиться с ней, могут выкинуть какую-нибудь подлость. Допустим, что он ей не понравится при встрече. Что тогда? Посмеет ли она, опираясь на поддержку Эбатнотов, пойти на разрыв помолвки?..
Нет, уж лучше доставить ее прямо в Лунджор, где ее окружат абсолютно незнакомые люди (не считая полковника Маулсена и Гарденен-Смитов). Прибыв сюда, она уже не сможет ничего сделать. Уж об этом-то он позаботится!
Эти беспокойные раздумья были, в частности, вызваны докладом полковника Маулсена, который сообщил комиссару о том, что его невеста хоть и не в его вкусе, — полковник любил пышных блондинок, — но, несомненно, является очаровательной малышкой. Несмотря даже на все свое жеманство.
Таким образом, мистер Бартон решил не рисковать, бить наверняка и потому отбросил всякую мысль о поездке в Дели.
Свое решение он отметил тем, что крепко напился. В то утро, на которое первоначально был назначен его собственный отъезд, он смог лишь заплетающимся голосом передать капитану Рэнделлу инструкции, суть которых заключалась в том, что Алекс должен был заняться вплотную Делийским делом, — то есть найти относящиеся к нему документы в бумагах офиса, — а также извиниться перед Винтер за отсутствие ее жениха. Вынужденное отсутствие. Ей предписывалось прибыть в Лунджор вместе с семейством Гарденен-Смитов.
Сам господин комиссар решил, что будь он проклят, если сам потащится на свадьбу в Дели. Невеста должна приехать сюда. Если Магомет не идет к горе, гора идет к Магомету… Алекс должен все устроить. А господин комиссар, конечно, черкнет девчонке пару строчек, когда почувствует себя лучше. Где, черт возьми, эта черная скотина-поставщик достал последнюю партию бренди?!
Описание Винтер этой сцены, как подозревал Алекс, лишь усугубит недоразумение. А если невесте комиссара и впрямь приглянулся лорд Карлион, то это хорошо. Это означало, что все проблемы могут быть решены уже без участия Алекса. Он горячо надеялся на такое развитие событий, понимая, что если девушка по какой-нибудь причине не выйдет замуж ни за Карлиона, ни за Бартона, ему, Алексу, придется взвалить на себя неблагодарную задачу подыскать ей попутчика для возвращения в Уэйр.
Он проговорил:
— Комиссар просил меня передать вам, что он скоро напишет. Полагаю, вы получите письмо уже завтра или послезавтра, хотя… Почта в нашей стране работает иногда так, что на нее нельзя положиться…
От неприятной необходимости отвечать Винтер спасло появление миссис Эбатнот, которая горячо обняла Алекса, запричитала и несколько раз всплеснула руками, увидев его рану, и сказала, что он должен отобедать у них и что она ничего больше не хочет слышать.
— Я пошлю одного из слуг к господину Фрейзеру, и он, я уверена в этом, отпустит вас к нам на часок-другой, — твердо заявила миссис Эбатнот. — Нет, вы просто должны остаться, милый мальчик. Лотти и Софи так обрадуются вам! Полковник Эбатнот только сейчас передал мне, что вы пришли, иначе я появилась бы здесь гораздо раньше. Совсем замоталась. Только приехали, суматоха. Разбираю вот чемоданы и мешки. А где господин Бартон?
— В Лунджоре, — ответил Алекс. — Он не смог приехать.
Миссис Эбатнот торопливо повернулась к Винтер, — отчего у той взвились полы кринолина, — чтобы выразить свое сочувствие.
— О, моя дорогая, представляю, какое это для тебя разочарование! Мне кажется несправедливым, что у мужчин работа всегда должна быть на первом месте, а мы, бедные женщины, только на втором. Но ты быстро привыкнешь к этому, милая. Бывают времена, когда мне за день удается обменяться всего какой-нибудь парой слов с полковником Эбатнотом. Впрочем, я понимаю тебя. Конечно, обидно, когда работа вытесняет даже такое событие, как свадьба. Когда приедет господин Бартон? Надеюсь, он не болен, Алекс?
Слово «болен» миссис Эбатнот поставила под особое ударение.
— Нет, — ответил Алекс и вкратце и, насколько мог, убедительно рассказал о неожиданной перемене в планах господина комиссара.
Миссис Эбатнот очень огорчилась, когда узнала, что Винтер будет не здесь выходить замуж, но обрадовалась, что благодаря этой задержке Винтер не пропустит свадьбы Лотти. Гарденен-Смиты решили дождаться этого праздника, а отъезд в Лунджор назначили на следующий день.
Алекс остался у них обедать. Ничего тут не поделаешь, он не мог отказаться. Карлиону это очень не понравилось. Он не привык к тому, чтобы его оттесняли в тень и играть вторую скрипку. Ощущения были неприятные, это усиливало раздраженное состояние. Все закончилось тем, что он выпил больше, чем следовало в таком обществе, и растерял значительную часть своего аристократического лоска. Он полагал, что Эбатноты неоправданно много носятся с этим весьма посредственным и, по его мнению, нежелательным гостем. Сам он вел себя по отношению к капитану Рэнделлу оскорбительно-холодно. Но никакие ухищрения не помогали ему поставить Алекса на место. Карлион начинал уже горячиться. Его презрение увеличивалось вместе с раздражением.
Ему не раз приходилось слышать, с какой пренебрежительностью отзывались высокопоставленные офицеры Конной Гвардии об офицерах, служащих в индийской армии. Он знал, что во многие английские полки отказывались зачислять тех, кто переводился из Индии. Должно быть, потому, что они разделяли его собственную точку зрения, которая состояла в том, что все те, кто находится на индийской службе, суть мещане и ничтожества. Он не понимал, как граф Уэйр позволил девушке из столь уважаемой семьи отправиться в эту экзотическую и дикую страну, чтобы выйти там замуж за какого-то мелкого чиновника из Ост-Индской Компании.
Карлион хотел сесть за обедом рядом с Винтер, но она проскользнула мимо него и опустилась на стул между полковником Эбатнотом и капитаном Рэнделлом. Лорду Карлиону нашлось местечко между миссис Эбатнот и Лотти. Обе соседки, — проклятье! — на протяжении всего обеда обращали внимание только на этого капитана. Лорд Карлион утешал себя лишь тем, что Винтер, кажется, не проявляла признаков интереса к этому человеку и даже не говорила с ним, если не считать нескольких ответов на его вопросы, обращенные прямо к ней. Софи же, которая всегда была застенчиво-вежливой с лордом Карлионом, просто глаз не спускала с Рэнделла и покрывалась румянцем каждый раз, когда он заговаривал с ней или просто поворачивался в ее сторону.
Все это вместе превратилось в скучнейший вечер. Лорда Карлиона обрадовало только известие о том, что жених контессы не сможет сам приехать в Дели. Лорд Карлион тут же принял решение остаться в доме Эбатнотов на все три недели, вплоть до отъезда Винтер в Лунджор. Судьба, похоже, благоволила ему. Он понял, что совершил сегодня в гостиной непростительную глупость, от повторения которой он предостерег себя на будущее. Да, он сегодня сорвался. Почему? Выпил немного, переволновался, да и Винтер сама виновата. Такие красивые девушки всегда мутят головы мужчинам. В следующий раз необходимо быть осмотрительнее. Лорд Карлион понимал, что если он позволит себе подобную «бетиз»[44], полковник Эбатнот вежливо попросит его оставить их дом.
Полковник был веселый и дружелюбный коротышка, думающий о других только хорошо и сам старался поступать так, чтобы всем было хорошо. Но Карлион чувствовал, что при случае полковник вполне способен будет повести себя достаточно жестко. Во всяком случае лорд Карлион не хотел проверять это на себе.
Да и потом он далеко не был уверен, что в отношении Винтер действительно перешел какую-то границу. Да, она сопротивлялась ему, но это, возможно, являлось только следствием ее невинности. Ведь она не позвала на помощь. Это обнадеживало.
Как, интересно, будет в следующий раз?..
Глава 21
Лотти должна была венчаться в делийской церкви Св. Джеймса двадцать шестого числа этого месяца. Все последние дни перед этим событием в доме Эбатнотов шли приготовления, царила радостная суматоха, перетрясались в который раз шелка и миткали, оживленно обсуждались варианты свадебного платья. Время проходило в интересных экскурсиях, пикниках, вечеринках и балах.
Карлион, выполняя поручение полковника Маулсена, посетил военный гарнизон, где ему оказывались самые лестные знаки внимания, и был даже приглашен нанести визит старому косматому святому, жившему во дворце внутри крепостных стен Дели, называвшихся Красным Фортом. Это был Бахадур Шах, происходивший из рода Тимура, он был последним из живущих в мире великих моголов.
Впрочем, Винтер оставалась по-прежнему недосягаемой, и раздражение Карлиона росло день ото дня.
Не прибавляло ему веселья и то обстоятельство, что во всех семейных мероприятиях неизменно принимал участие капитан Рэнделл. Та неприязнь, которой лорд Карлион проникся к этому молодому человеку, не только не исчезла, но наоборот, с течением времени все усиливалась. В холодном, безразличном взгляде капитана Рэнделла и во всей его бесстрастной манере держаться было что-то такое, что сбивало с толку и часто выводило из себя лорда Карлиона, но не мог же он ссориться с человеком, у которого одна рука была на перевязи?! Капитан Рэнделл благодаря своему ранению был практически неуязвим для рассерженного аристократа. Более того, казалось, он не обращает никакого внимания на состояние лорда Карлиона. Равнодушно он относился также и к светским развлечениям. Карлион видел, как отчаянно скучает капитан Рэнделл на различных вечеринках и балах, и не мог понять, зачем капитан принимает приглашения на них.
Алекс и сам не смог бы объяснить этого. Дело, которое привело его в Дели, состояло, главным образом, в разрешении спорного дела об ошибочном присоединении каких-то территорий. Он организовал работу так, что всю гору документов по нему взялись обработать клерки из офиса господина Фрейзера и сэра Теофилуса Меткальфа. Таким образом, у Алекса появилось много свободного времени. Эбатноты постоянно его куда-то приглашали. Обычно он привык отказываться от участия в не интересных для него мероприятиях, но от участия в делах, где принимало участие семейство Эбатнотов, он почему-то отказаться не мог.
Может быть, это все из-за ложного чувства ответственности, от которого он никак не мог избавиться?.. Или, может быть, оттого, что он чувствовал, как Винтер испугана и несчастна, хотя и сам не понимал отчего?.. Внешне она не показывала этого, но в ней произошла какая-то перемена, не укрывшаяся от Алекса. В глазах уже не было прежнего блеска. Она снова ушла в себя, была встревоженной, беспокойной… Эта девушка походила на дикого зверька, замирающего при малейшей опасности.
Он ничего не мог поделать, чтобы вернуть ей улыбку и счастливое состояние ожидания. Но он также чувствовал, что в его присутствии она становится более спокойной и уверенной в себе. Почему? Может быть, потому что она продолжала рассматривать его как нить, связывающую ее с Конвеем Бартоном?
Он не ошибался в своих ощущениях. Его присутствие успокаивало Винтер. Она простила Конвею то, что он не смог встретить ее в Калькутте, так как в то время капитана Рэнделла не было в Лунджоре, и комиссара некому было подменить. Но она не понимала, почему Конвей не приехал в Дели. Ведь он мог не посылать сюда капитана, а оставить его на время вместо себя.
Почему же он этого не сделал?
У Конвея, очевидно, были серьезные основания для того, чтобы остаться. Нельзя быть такой эгоисткой! Важная работа, конечно, должна быть на первом месте, а личное счастье только на втором. В своих редких письмах он постоянно обращал ее внимание на это обстоятельство. И все же, несмотря на эти аргументы, которыми она пыталась себя успокоить, она чувствовала, что ему следовало бы все-таки пожертвовать несколькими днями ради того, чтобы приехать сюда к ней. Если бы он был болен, это было бы еще понятно. Но в письме, которое Винтер получила через несколько дней от самого Бартона, также говорилось только о «завале» работы. Он писал, что должен разделаться с какими-то важными для региона делами, чтобы иметь потом право получить продолжительный отпуск для проведения медового месяца. Письмо было более нежным, чем все предыдущие, и оно заметно приободрило ее. Все же она чувствовала, что ее вновь начинают тяготить мрачные ощущения полного одиночества, сопровождавшие ее на протяжении всех детских лет и исчезнувшие было, когда в Уэйре появился капитан Рэнделл с письмами от Конвея.
Она была благодарна ему за то, что он был рядом с ней в Дели и не исчезал. Ведь его присутствие было полезным уже потому, что ограждало ее от нежелательных знаков внимания со стороны лорда Карлиона. Когда Алекс был рядом, она могла на время забыть о его назойливости и немного расслабиться. Она знала, что, если поделится с миссис Эбатнот о произошедшем инциденте, лорду Карлиону придется покинуть этот дом, но… Винтер не находила в себе мужества смутить свою добрую хозяйку таким откровением. Она молчала и страдала, будучи не в силах оградить себя от возможности повторения случившегося тогда в гостиной.
Карлион видел, что она продолжает старательно избегать его. Наконец он понял, что тщеславие и самоуверенность заставили его совершить огромную тактическую ошибку. Он не только не пробудил в Винтер женского интереса к себе, но, наоборот, вызвал отвращение и испугал ее. Он понимал, что если не будет впредь максимально осторожен, то может потерять ее навсегда. Но он знал также, что не найдет в себе мужества извиниться перед ней в присутствии окружающих. С другой стороны, он боялся, что у него не будет больше возможности уединиться с ней.
Случай, однако, скоро представился на балу — он пригласил ее на вальс. Она не могла отказать из вежливости, а он уж постарался использовался эту возможность. Вину за свое непростительное поведение в день приезда он возложил на бренди и настойку опия, принятую, как он объяснил, в качестве профилактики против начинающейся простуды. Унизительно извиняясь, он в то же время употребил все свое дьявольское обаяние и чувство такта, умоляя о прощении.
После того, как это прощение было ему наконец даровано, он самоуверенно, без лишних церемоний предложил Винтер стать его женой.
Карлион осознает, сколь неуместным выглядит его предложение, ведь он делает его чужой невесте. Но вместе с тем, добавил он, горячо надеется на скидку для человека, пылающего страстью глубокой любви. Тот факт, что Винтер не виделась со своим нареченным много лет, дает ему основание надеяться на то, что она сможет, по крайней мере, отложить свадьбу и подумать. А уж он позаботится в это время о том, чтобы она изменила свое решение. Объяснялся лорд Карлион униженно и пылко, но в ответ получил самый решительный отказ. Музыка прекратилась, и Винтер не наградила лорда Карлиона вторым танцем.
Она была тронута униженностью, с какой он умолял ее о прощении, но неприятно удивлена последующим за тем предложением. Она не оставила ему своим отказом никаких надежд и была уверена, что он немедленно покинет Эбатнотов и Дели. Ведь он говорил, что кроме нее его здесь ничего не держит.
Но не таков был лорд Карлион. Он и не думал уезжать. Вместо этого он написал тщательно продуманное письмо, переданное ей его носильщиком, в котором заверил, что вовсе не хочет расстраивать ее, обещал, что больше никогда не станет возвращаться к предложению, но робко надеется на то, что она хотя бы наградит его своей дружбой. Если ей когда-нибудь понадобится его помощь, она может располагать им. Ну, и так далее.
Винтер, прочитав письмо, решила, что превратно судила о душевных качествах лорда Карлиона. При следующей встрече она ему даже робко улыбнулась. Но, увы, где ей было знать об истинных причинах, побудивших его написать это письмо?!.. Если бы она была чуть более опытной, то не на шутку встревожилась бы. Ибо Карлион находился в очень опасном состоянии, а письмо написал только для того, чтобы оттянуть свой отъезд из Дели. Он, кстати, не собирался надолго задерживаться в этом городе и действительно хотел уехать. Но только вместе с ней.
Не сразу он понял, что действительно хочет жениться на этой девушке, настолько абсурдной еще так недавно казалась ему мысль о браке. Но, разобравшись в своих желаниях, он совсем не подумал о чувствах Винтер. Ему и в голову не могло прийти, что она будет так упряма в своих обещаниях Бартону. До сих пор он еще ни одной женщине не делал предложения, но, по своему тщеславию и слепой самоуверенности, искренне полагал, что ни в коем случае не получит отказа. Это казалось ему немыслимым. Он и мысли об этом не допускал.
Когда же она объяснилась с ним во время танца, он… просто не поверил в то, что она отказала всерьез. Он подумал, что таким образом она завлекает его… Хотя… Девушки обычно завлекают мужчин до определенной границы, до алтаря. А он сам предложил ей это…
Внезапное осознание серьезности отказа Винтер, в которое Карлион долго просто не мог поверить, вызвало у него приступ ярости. За его внешней томно-ленивой маской скрывался пылкий и неуравновешенный характер. Теперь Карлион внезапно потерял контроль над собой. Он безумно жаждал эту девушку. Раньше он даже никогда не подозревал о том, что человек может с такой силой чего-то желать. Он хочет ее и, черт возьми, получит! И пусть только посмеет этот олух с индийской службы встать у него на дороге!
План его был прост: помириться с Винтер, сделать необходимые приготовления, а затем в благоприятный момент увезти ее куда-нибудь и скомпрометировать так, чтобы после этого ей ничего не оставалось, как только выйти за него замуж. Этот чиновник-жених может, конечно, устроить ему некоторые неприятности, но Карлион был уверен, что он всегда сможет с ним договориться. Ведь Бартон много лет не видел своей невесты и просто не может испытывать к ней какие-либо чувства. Впрочем, как и она к нему. В случае осложнений Карлион пользуясь своим влиянием, добьется для него повышения по службе.
Поскольку обстоятельства вынудили Винтер задержаться в Дели, было решено, что она вместе с Софи будет выступать в роли «подружки невесты» на свадьбе Лотти. Им приготовили к церемонии миткалевые платья, щедро украшенные атласными бантами и рюшками, а также миниатюрные соломенные шляпки голубого цвета, украшенные розами. Свадебный наряд Лотти был ей очень к лицу. Глядя, как старшая дочь примеряет свадебное платье перед зеркалом, миссис Эбатнот пролила немало счастливых материнских слез, но сокрушалась, что не сможет жить без своей милой, доброй Лотти.
— Но ведь я останусь с тобой, мама, — желая утешить ее, сказала Софи.
Миссис Эбатнот с благодарностью обняла ее и со слезами на глазах проговорила, что скоро и Софи придется примерять свадебный наряд.
— Наверно, я никогда не выйду замуж, — ответила Софи, печально вздохнув. — Я до конца жизни останусь одинокой и буду утешением тебе и папе.
— Чепуха! — решительно возразила миссис Эбатнот. — Лотти, дорогая, мне кажется, нужно немного поправить прическу. Я думаю, будет лучше подвинуть челку чуть вперед, чтобы на ней хорошо держался венок.
— Давай я это сделаю, — вызвалась Софи. — Не дергайся, Лотти! Какая же ты дурочка! Сомнешь платье!
Софи поднялась на маленькую табуретку и укрепила на золотистой головке сестры венок с прикрепленной к нему длинной, прозрачной, как паутинка, фатой. Делая это, Софи с тоской думала-гадала о том, настанет ли время и ей когда-нибудь надеть фату… Посмотрит ли капитан Рэнделл когда-нибудь на нее так, как Эдвард смотрит на Лотти?.. Или как лорд Карлион, — Софи была наблюдательной девушкой, — смотрит на Винтер?.. Софи очень в этом сомневалась. Капитан Рэнделл обращался с ней так, как будто она была еще ребенком в классной комнате, или даже хуже того: он обращался с ней, как с младшей сестренкой!
— Но я повзрослею! — с надеждой воскликнула Софи. — Может быть, на следующий год и мне повезет.
В коридоре послышался какой-то шум, а вслед за этим раздался пронзительный голос миссис Гарденен-Смит, предупреждавшей о своем появлении. В следующее мгновение дверь в комнату отворилась, и мать семейства Гарденен-Смитов вплыла внутрь в сопровождении своей дочери Делии. Она тут же скороговоркой попросила у миссис Эбатнот прощения за внезапное вторжение. Сказала, что привратник передал ей, что мем-сахиб[45] примеряют наряды для шади[46] и очень заняты.
— Мне было стыдно отрывать вас от этого ответственного занятия, поэтому я решила сама присоединиться к вам.
Тут миссис Гарденен-Смит остановила взгляд на Лотти и нервно вскрикнула:
— Господи, дорогая! Как вы можете! Снимите скорее, прошу вас!
— Почему? Что такое? — растерянно переспросила Лотти. — Вам не нравится платье?
— Очень нравится, дорогая. Оно очень хорошенькое. Но нельзя надевать свадебное платье и фату за несколько дней до венчания. Это ужасно плохая примета! Неужели вам про это ничего не известно? Скорее снимите! Хотя бы фату. Если вы останетесь в одном платье без фаты или в одной фате без платья — это еще можно. Я же понимаю, что примерка необходима. Но надевать все сразу… это немыслимо!
Миссис Эбатнот резковато заметила:
— Глупости! Я сама сто раз примеряла свой свадебный наряд до свадьбы — и ничего не случилось.
Но Лотти страшно побледнела и торопливо сдернула венок с фатой.
Лотти пребывала в той стадии влюбленности, когда кажется, что такое большое счастье не может длиться долго, что оно слишком необыкновенно, слишком волшебно, чтобы быть настоящим. Она чувствовала, что должна вести себя крайне осторожно, ходить едва ли не на цыпочках, иначе какая-нибудь ревнивица-судьба лишит ее счастья. По ночам ей становилось страшно за Эдварда, так как она знала, что в этой жестокой стране с человеком может произойти все, что угодно. Столько уже мужчин, еще вчера смеявшихся и шутивших, сегодня мертвы! Ах, если бы только можно было все устроить так, чтобы она завтра же вышла за Эдварда замуж!.. Каждый час, который он проводит вдали от нее, вселяет в нее страх. Господи, ну почему дни тянутся так медленно?!..
Винтер почувствовала, как дрожат руки Лотти. Она забрала у нее фату, а миссис Эбатнот увела миссис Гарденен-Смит и Делию в гостиную, заявив, что больше пока нечего показывать. Эта невинная ложь нисколько не задела миссис Гарденен-Смит, которую на самом деле абсолютно не интересовало приданое и свадебный наряд Лотти. Она вообще пришла, надеясь застать лорда Карлиона.
В доме Меткальфа ожидался бал. Сэр Теофилус Меткальф был представителем магистрата Дели. Миссис Гарденен-Смит надеялась, что лорд Карлион, — если ему заранее сообщить, что на балу будет Делия, — пригласит ее на вальс или котильон. К сожалению, лорда Карлиона в тот момент не было дома. Он уехал на артиллерийские позиции, где какой-то офицер продавал лошадей для экипажа. Миссис Эбатнот сообщила, что он вернется не раньше чем через час. Миссис Гарденен-Смит любезно согласилась провести этот час в гостях у миссис Эбатнот, и обе леди тут же углубились в обсуждение приготовлений к свадьбе и светских мероприятий, назначенных на следующую неделю.
Например, говорили о ночном пикнике, который на крепостных стенах Дели планировали устроить какие-то веселые молодые офицеры. Обе леди выразили свое крайне сдержанное отношение к этой затее. Девушкам без провожатых туда идти, конечно же, не пристало. Миссис Эбатнот и миссис Гарденен-Смит решили посетить этот пикник, чтобы присмотреть материнским оком за своими дочерьми, в душе противясь такого рода развлечению.
— Хотя, — с неуверенностью в голосе проговорила миссис Эбатнот, — когда в небе полная луна, вокруг светло почти как днем. К тому же, как я слышала, там будет много народу. Все начинается за час до захода солнца. Все будут с нетерпением ждать восхода луны. Должно быть, очень красивое зрелище.
— А лорд Карлион собирается там быть? — спросила миссис Гарденен-Смит.
— Да, разумеется. Все наши идут. Кроме полковника Эбатнота. Он говорит, что подобные вещи не для него. Но в качестве мужчин-провожатых у нас будет Карлион и Алекс, так что все, думаю, будет хорошо.
Карлион вернулся, когда леди еще не успели закончить свой разговор. В ответ на расспросы миссис Гарденен-Смит он сообщил, что приобрел экипаж и четверку лошадей и что предпочитает путешествовать собственным транспортом — в отличие от ненадежных дак-гари. В настоящее время он занят поисками запасных лошадей для экипажа. Лично ему, конечно, больше по нраву верховая езда, но экипаж тоже не помешает в такой долгой дороге.
Миссис Гарденен-Смит очень огорчилась, поняв что лорд Карлион вскоре покинет Дели и лишит их своего общества. Она выразила, однако, надежду, что лорд Карлион, возможно, найдет немного времени посетить Лунджор. Она обещала, что ее муж, полковник Гарденен-Смит, устроит для лорда настоящую тигровую охоту в местных джунглях. После этого она перевела разговор на тему предстоящего бала в доме у Меткальфа и ночного пикника. Они неторопливо беседовали до самого прихода полковника Эбатнота. После этого обе леди решили удалиться.
— Значит, увидимся на пикнике, лорд Карлион, — мило улыбаясь, сказала миссис Гарденен-Смит на прощанье. — Там будет очень весело. Только бы не пошел дождь! Вообще-то сейчас сухой сезон, но что-то не нравятся мне облака. Впрочем, даже если и начнется дождь, он только прибьет пыль и кончится, вот увидите. До завтра. Пойдем, Делия, милая. Браддоки, наверное, не знают, что и подумать о нашем отсутствии.
Облака, так насторожившие миссис Гарденен-Смит, быстро исчезли, и день закончился великолепным закатом. Винтер как раз отправилась вместе с полковником Эбатнотом на верховую прогулку к башне с флагштоком, находившуюся на Ридже. Оттуда девушка, затаив дыхание, смотрела на раскинувшийся внизу город, на изогнутое русло поблескивавшей в вечерних сумерках Джамны и необъятные равнины, раскинувшиеся на противоположной стороне реки. Они были словно позолочены ярким отсветом заходящего солнца.
Минареты, мечети и бастионы Дели сверкали так, словно были сделаны из расплавленного металла. А вдали, поднимаясь над куполами бесчисленных усыпальниц, над развалинами Семиграда, тянущимися на восток, возвышалась высоченная башня Кутаб Минара, словно острое, поднятое вертикально копье сквозь низкие пурпурные облака.
Винтер натянула поводья и остановила лошадь, чтобы вдосталь налюбоваться видом этой сказочной красоты, и пока она смотрела, золотистое сияние перешло в розовые тона, затем в бледно-лиловые, и наконец зубчатые стены, «мыльные пузырьки» куполов, минареты и дворцы словно остыли совсем и окрасились в розоватую лазурь. На фоне сияющего неба зрелище было незабываемым. Река несла по темным равнинам свои воды, казавшиеся в закате багрово-красными. Непрошенные слезы навернулись на глаза девушки. Ей показалось, что в этой короткой вспышке волшебной красоты, озарившей небо великих моголов, и в быстрых сумерках, поглотивших ее, есть что-то символическое…
Где-то за этими стенами, тенью среди других теней шаркал старческими ногами по великолепным мраморным дворцовым плитам последний из моголов. В этом дворце, выстроенном шахом Хананом, он сочинял теперь персидские куплеты, чтобы тем самым хоть как-то скрасить свою отныне бессмертную жизнь. Это был старый и дряхлый, в поношенных шальварах человек, который с недавних пор стал королем только на бумаге.
Словно эхо, пробившись сквозь толщу времени, нашептывало Винтер на ухо голосом Азизы Бегам сказки, которые читают маленьким детям на ночь:
— …и пески наползли на город, и погребли его под собой, и казалось, что на этом ровном месте никогда ничего и не было…
Полковник Эбатнот также пребывал в задумчивости, глядя вниз, на крепостные стены города. Но думал он о другом. Неожиданно, словно он продолжал с кем-то жаркий спор, у него вырвалось:
— Да, думаю, это в принципе возможно. Но армия все равно быстро наведет порядок.
Винтер оглянулась удивленно на полковника.
— О чем вы, сэр? Где армия должна навести порядок?
Полковник очнулся от задумчивости и проговорил:
— Прости, милая. Я думал вслух, да? Дурацкая привычка. Сейчас мне припомнилась одна статья, которая была написана сэром Генри Лоуренсом… э-э… лет десять назад или даже больше. Тогда она вызвала большой переполох. Многим она пришлась не по душе. Но я вырезал ее и сохранил. Статья о Дели. Он доказывал, что при случае мятежники очень легко могут захватить город. И если это случится, то у сотни бунтовщиков сразу же появятся тысячи сочувствующих. В двадцать четыре часа каждый плужный лемех будет перекован в меч. Вот я и думаю, что во всем этом определенно что-то есть… Я всегда считал, что всем нам было бы намного спокойнее, если бы хоть один полк был расквартирован в пределах города. Конечно, у нас здесь есть охрана, но она покажется каплей в море, когда возникнет угроза захвата Дели мятежниками.
— Вы думаете, что такое возможно?
— Нет, нет… Конечно, нет! Это маловероятно. Никогда еще страна не пребывала в состоянии такого спокойствия. Но мы — военные и обязаны всегда отрабатывать тактику. Хотя теоретически это возможно. Впрочем, снова отнять у них город будет нетрудно. Чернь ничего не сможет поделать с регулярной армией. Я готов биться об заклад, что мне удалось бы отнять город обратно с одними моими сипаями. Где вы еще видели таких богатырей?! Лучшие войска в мире!
В глазах полковника Эбатнота сверкнул фанатичный блеск, и он стал рассказывать Винтер об одном случае небольшой перестрелке, случившейся лет тридцать тому назад. Так вот, рота местной пехоты, которой он тогда командовал, проявила просто завидную удаль и храбрость.
— Эх, вот бы моих сипаев в Крым послать! — мечтательно вздохнул полковник Эбатнот. — Клянусь честью, они утерли бы нос всем этим молодчикам из Конной Гвардии! Там, правда, уж очень холодно. С климатом они, пожалуй, не совладали бы. Но если не брать это в расчет, если дать им толковых офицеров, они горы свернут, клянусь честью! Я же говорю: лучшие войска в мире! Для меня большая честь командовать ими. Как и для всякого другого офицера. И пусть кто-нибудь попробует с этим не согласиться! Люди, вроде Карлиона, сами не ведают, что говорят. Нет опыта, что поделать. Но…
Полковник Эбатнот, который с гордостью и нежностью отзывался о своем полку, словно там служили его любимые сыновья, казался заметно раздраженным, видно, вспомнил что-то неприятное.
— Эх, старина Карлион, — вслух продолжал рассуждать полковник Эбатнот, нахмурившись. — Просто не знаю, что с ним делать! Неплохой парень вообще-то. Прекрасный стрелок, а видеть его в седле — просто одно удовольствие. И тем не менее порой он…
Летучая мышь пролетела над полковником Эбатнотом, едва не коснувшись крылом головы. Это вывело его из состояния задумчивости. Он удивленно осмотрелся вокруг, как будто только сейчас осознал, что сумерки уже совсем сгустились, и Ридж, где они находились, давно уже светился под серебристым лунным светом.
— Поедем отсюда, дорогая. Пора возвращаться, а то миссис Эбатнот еще, чего доброго, будет волноваться.
Они повернули лошадей в сторону дома и легким галопом поскакали сквозь сумерки к белому бунгало в военный городок, огни которого просвечивали сквозь листву.
Глава 22
К северо-востоку от Дели облака собрались в тот вечер, на который был назначен пикник при луне: угрожающе серая полоса легла вдоль всего горизонта, хотя над ней небо оставалось чистым. Миссис Эбатнот поглядела на небо с некоторой тревогой и решила взять с собой на пикник коллекцию плащей и зонтов и распорядиться подать крытую карету. Но Алекс убедил ее, что если она это сделает, то дождь пойдет уже наверняка, и добавил, что, если бы на севере действительно шел дождь, он застал бы его на обратном пути в Лунджор.
Низкое солнце, окрасившее стены старинного города, блистало своим теплым великолепием и слепило тех, кто приехал на пикник раньше и теперь прогуливался по широкой зубчатой стене между Кашмирскими воротами и Водным бастионом, глядя на зеленые заросли Кудзиа-Баг. Ужин должны были устроить у дома охраны, рядом с главной смотровой башней. Тем временем гости прогуливались по стенам, любовались закатом и ждали восхода луны.
Карлион, Винтер и Алекс отправились на пикник верхом, а миссис Эбатнот с дочерьми поехала в карете. Поездка была приятной, несмотря на то что дорога была чересчур пыльной. Карлион вел себя примерно. Когда он хотел этого, он мог быть замечательным спутником, а в тот вечер прилагал к этому все усилия. Поэтому к моменту, когда они достигли Кашмирских ворот, Винтер была настроена к нему весьма благосклонно. Проехав под массивной аркой ворот, они спешились перед главной смотровой башней, и Алекс остановился поговорить с джемадаром. Неожиданно его окликнул всадник, подъехавший к воротам со стороны церкви Святого Джеймса.
— Алекс! Ей-Богу, это ты! — всадник пришпорил своего коня, подъехал ближе и, перегнувшись через седло, хлопнул капитана Рэнделла по спине. — Когда ты вернулся? За эти полгода я получил от тебя всего пару слов по почте. — Алекс быстро обернулся и схватил протянутую руку.
— Уильям! Что, черт возьми, ты здесь делаешь? Мне сказали, что ты в Дагшае.
— Да, официально я именно там и нахожусь.
— Ну-ка, слезай и присоединяйся к нам. Контесса, позвольте мне представить вам лейтенанта Ходсона. Уильям, контесса де лос Агвиларес и лорд Карлион.
Лейтенант Ходсон, наклонившись, протянул руку, и, здороваясь с Винтер проговорил:
— Надеюсь, вы меня простите, если я не стану спешиваться. Я недавно вывихнул лодыжку и с трудом передвигаюсь без коня.
Он был стройным и поджарым, как Алекс, хотя несколько выше его ростом, и выглядел несколько старше; но Алекс был темноволосым и сильно загорелым, Ходсон же был мужчиной нордического типа. Индийское солнце, не в состоянии изменить цвет его белой кожи, выжгло его светлые волосы и длинные кавалерские усы до такой степени, что они тоже стали почти белыми, и темными на его лице остались только глаза. И глаза его были замечательны: цвет их был настолько голубым и они казались темными и такими большими, что способны были покорить женское сердце, но они могли быть колючими, свирепыми и сверкающими, как у сокола.
Пожав руку Винтер, Ходсон бросил на Карлиона испытующий взгляд, который позволил ему в считанные секунды составить мнение об этом человеке.
— Ваш покорный слуга, сэр, — сказал он и снова обернулся к Алексу с расспросами о его поврежденной руке.
Винтер и лорд Карлион продолжили свой путь и присоединились к группе на крепостном валу.
— Уильям, твои манеры, как обычно, оставляют желать лучшего, — обратился к нему Алекс.
— Вздор! Неужели ты думаешь, что я стану тратить время на соблюдение светских условностей, когда не видел тебя два года? Влезай скорее на коня, и проедемся вместе по окрестностям. Я не могу беседовать с тобой здесь.
Алекс снова вскочил в седло, и оба, выехав через ворота и повернув направо, поехали вдоль глубокого, высохшего рва, отделявшего стены Дели от бурной тропической зелени Кудзиа Баг.
— А кто эта испанская красавица? — спросил Ходсон. — И что ты вообще делаешь в подобной компании?
— Играю роль дуэньи, — сказал Алекс с усмешкой. — Испанская красавица приехала сюда, чтобы выйти замуж за моего уважаемого начальника, и на меня возложена неблагодарная миссия следить за ее безопасностью в этом путешествии. Я сопровождаю ее сюда из самой Англии.
— Что? — Ходсон запрокинул голову и раскатисто рассмеялся. — Теперь мне все ясно!
— Да, здесь есть над чем посмеяться, — заметил Алекс с кривой усмешкой. — Но я понял, что не представлял себе будущей службе, когда решил вступить в ряды Бенгальской армии. Я вынужден совмещать практически все гражданские профессии от магистрата до акушерки. Теперь я уже не удивляюсь, что мне приходится служить в эскорте невест высших чинов. Это немногим хуже, чем обременять себя заботой о сироте-подкидыше, от чего, помнится мне, однажды ты страдал.
— Бог мой, ты прав! Вряд ли мне когда-нибудь удастся об этом позабыть. От того, чем нам здесь приходится заниматься, у любого кавалериста волосы станут дыбом. А кто был этот титулованный выскочка? Только не говори мне, что твой несносный начальник, помимо обязанностей няньки, принудил тебя выполнять роль гида для знатного туриста!
— Пока еще нет. Хотя могу предположить, что к этому все идет. Находясь здесь на службе, можно всего ожидать. Лорд Карлион приехал в Дели сам по себе.
— У него опасный вид, — заметил Ходсон. — Однажды у меня был такой же конь. Породистый, с виду архангел, а внутри полон пороков, как Вельзевул. Я потом пристрелил его. Да, кстати, я вспомнил, что ты мне так и не сказал, что стряслось с твоей рукой. Неудачно сел на коня? Или кто-то всадил в тебя пулю?
— Последнее более точно, — сказал Алекс.
Они ехали медленным шагом вдоль поросшего травой и мелким кустарником берега реки Джамны.
— Это длинная история. Не хочу утомлять тебя. Как бы то ни было, эта повязка превратилась уже в сплошную бутафорию. Ее нужно было снять еще несколько дней назад, но я нахожу ее полезной.
Он улыбнулся, и Ходсон, в отличие от лорда Карлиона, хорошо знающий эту улыбку, сказал с укоризной:
— Что еще за чертовщину ты задумал, Алекс?
Алекс засмеялся.
— Никакой чертовщины, я тебя уверяю, Уилл. Но так случилось, что именно сейчас мне никак нельзя ссориться с его светлостью, и пока у меня рука на перевязи, он вряд ли будет вести себя со мной вызывающе, даже если бы он этого захотел. Никто не станет оскорблять человека, который не в состоянии отплатить за оскорбление.
Твердые голубые глаза глядели на Алекса с интересом и не без удивления.
— Что за чума на тебя нашла, Алекс? Боишься скандала?
— Бог мой, нет, конечно. Просто я так же, как и ты, не доверяю этому типу. Ему очень легко все дается, и он, кажется, достаточно эгоистичен, чтобы пойти на все ради мести. У него влиятельные друзья, и в данный момент у меня нет особого желания, чтобы на меня жаловались в Калькутте — или где бы то ни было — а потом взяли бы на мое место расторопного и сговорчивого парня, а меня отправили бы куда-нибудь подальше в медвежий угол месить воду в ступе.
— Как это делал я, — мрачно сказал Ходсон. — Ты ведь слышал историю о том, что меня отстранили от командования разведотделом, и что по моим действиям было проведено расследование? Ну да, конечно же, ты слышал. Ты же писал мне об этом.
— Да, и предлагал свои услуги, чтобы задушить этого твоего Тэйлора собственными руками, — сказал Алекс. — Жаль, что ты не принял моего предложения. Как сейчас у тебя дела?
— О, они ничего не смогли доказать. Но доказательства, способные оправдать меня и снять обвинение, спрятали в каком-то надежном гнездышке и оставили собирать там пыль, а меня отправили загорать в Дагшай. И скажу я тебе, Алекс, чертовски трудно начинать с нуля, как младшему офицеру после более чем одиннадцатилетней нелегкой службы. Долго я этого не выдержу. Подожду еще полгода, и если и тогда не получу удовлетворения, то придется выбирать между самоубийством, отставкой или дезертирством — или, четвертый вариант, заставить генерал-губернатора взять свои слова обратно и принести мне извинения! Я больше склоняюсь к последнему.
— Слушай, давай-ка слезай с лошади, если ты в состоянии доковылять хотя бы до тех ближайших деревьев. Мне надо многое сказать тебе, но я не могу спокойно говорить с тобой, сидя на этом беспокойном животном.
Он помог другу спешиться, и, привязав лошадей, оба расположились между кочками на берегу Джамны, которая неторопливо несла свои воды, жемчужно-розовая и блестящая в лучах заходящего солнца.
Позади них, примерно на расстоянии мили, виднелась низкая, неровная линия Гряды. Справа от них в пыльной дымке возвышались розово-красные стены Дели.
Алекс оглянулся через плечо на густые заросли в десяти шагах позади них, и Ходсон сказал, проследив направление его взгляда:
— Там павлин. Я видел его, когда мы проходили мимо. Если кто-нибудь будет подходить с той стороны, он нас предупредит.
Алекс одобрительно улыбнулся.
— Ты великий человек, Уильям.
— Еще нет. Но я им стану. Если Богу будет угодно, я им стану.
Эти слова были сказаны очень серьезно, и Алекс внезапно спросил:
— Что ты здесь делаешь? Ты что, уехал тайком?
— Более или менее.
Он нетерпеливо поднял руку, расстегнул каску, стащил ее с головы и, бросив на траву рядом с собой, взъерошил бледно-желтые волосы.
— Я приехал, услышав, что в Дели ожидается один твой друг. У меня есть в городе несколько друзей, и я решил, что стоит провести небольшое расследование.
— Мой друг? — Алекс нахмурился.
— Спарков.
— Григорий!
— Он самый.
— В таком случае он перемещается чертовски быстро. Я видел его на Мальте, возвращаясь сюда.
— Ты шутишь! Что же он там делал?
— Обманывал, калечил и убивал, — ответил Алекс и рассказал ему всю историю.
Ходсон выслушал его, не перебивая, и когда он закончил, в задумчивости произнес:
— Очень интересно. Я полагаю, что в Дели его нет — пока. Фарид Хан послал мне весточку, что он ожидается здесь, хотя не сказал когда, и еще он не сказал, как к нему попала эта информация. Я приехал сюда, чтобы вытянуть из него побольше, но кто-то его сильно напугал. Хотя уже это ценно — знать, что Кишан Прасад поддерживает контакт с Григорием: я встретил Раол-сахиба. Ловкая бестия.
— И чертовски опасен, — коротко заметил Алекс.
— О, да. Очковая кобра. Ближайший друг твоего хорошего знакомого, специального уполномоченного Бартона, я полагаю.
— И это тоже, — подтвердил Алекс с горечью в голосе.
Ходсон легко пожал его поврежденную руку.
— Я знаю, что это так. Бог мой — мне ли не знать! Иногда я лежу ночью без сна и чувствую себя, как… как Кришна, понуждающий Арджуну убить своего родственника и оправдывающий это деяние. Если бы только была возможность убрать этих ожиревших дураков, каким благословенным краем стала бы Империя!
Он поднял руку таким жестом, словно хотел обнять широкую равнину, тихую реку, старинный город Дели и всю Индию, и глаза его неожиданно вспыхнули. Затем он опустил руку и сказал горько:
— Существует так много людей, за которыми можно следовать без оглядки, в саму преисподнюю, если это понадобится: Лоуренс, Николсон, Эдвардс — да и дюжина других первоклассных парней. Но ведь для того, чтобы исправить то зло, которое может причинить один Бартон, потребуется не одна сотня хороших парней. И я еще не знаю, что хуже, он или восьмидесятилетние выжившие из ума старики, которых гораздо больше, и которые оказываются на верхушке командования нашей армией, благодаря ее идиотской системе. Один бригадир, под началом которого я служил во время кампании 49-го года, попросту не имел уже физической возможности видеть свой полк. Я должен был водить его лошадь под уздцы, а он спрашивал меня, в какую сторону мы едем. Кастовость в нашей армии слишком сильна. Какая-то высокопоставленная бездарь позволяет себе командовать людьми, которые стоят двадцати, а то и больше таких, как они сами. Но в целях дисциплины в мирное время и эффективного ведения боевых действий невозможно придумать ничего хуже, чем эта система, и однажды нам придется ощутить это на собственной шкуре.
— И возможно, скорее, чем мы думаем, — сказал Алекс мрачно.
Ходсон резко обернулся на него.
— Что ты знаешь?
Алекс рассказал ему все. К тому времени, когда он закончил, их длинные тени, протянувшиеся по белому прибрежному песку Джамны, сделались черными и легли позади них в свете поднимавшейся на небо луны.
Выбежал шакал на серебристый песок, чтобы насытиться гниющими останками речных обитателей, выброшенных на берег. В зарослях тростника резко и пронзительно закричал павлин. Привязанные лошади нервно забили копытами, и лошадь Алекса тихонько заржала.
— Это, должно быть, Нияз, — сказал Алекс, оглядываясь через плечо.
Он встал на ноги и протянул руку Ходсону, помогая ему подняться.
— Я должен вернуться и выполнять мой общественный долг. Присоединяйся к нам, Уилл.
— Не могу. Завтра я должен быть в Дагшае.
— Завтра? Да ты с ума сошел? Уильям, ты не сможешь этого сделать! Во всяком случае, со своей вывихнутой ногой. Почему ты вечно должен скакать куда-нибудь, как угорелый?
— Мне так больше нравится. И к тому же однажды это может оказаться полезным. А потом, ты ведь знаешь, я могу спать в седле. Что же касается лодыжки, то она у меня привязана к шине. Поэтому я так хромаю. Чертовски больно, зато очень удобно.
Он доковылял до своей лошади и позвал:
— Охе, Нияз Мохаммед Хан. Это ты?
Нияз выехал вперед на освещенное лунным светом пространство и, спрыгнув с лошади, приветствовал его, как приветствуют старших по чину.
— Салам алейкум. Все ли хорошо с тобой, Ходсон Бахадур?
— Нет, я болен. Моя звезда закатывается.
— Это я слышал, — сказал Нияз серьезно. — Не важно. Она поднимется снова.
Он поддержал Ходсону стремя, помогая взобраться на лошадь, а Алекс спросил:
— Они послали тебя за мной?
— Нет, я только следовал за вами, потому что увидел садху, который тоже шел сюда. Это Шакта-левша. Он шел очень тихо и держался в тени деревьев, я пошел за ним, чтобы посмотреть, что он будет делать. Но он услышал, как моя лошадь шуршит по сухой траве, повернул назад и ушел на север. Я ждал, но он не вернулся.
— Еще один из твоих друзей, Алекс? — спросил Ходсон через плечо, пока его лошадь по узкой тропинке выбиралась на дорогу.
Алекс пожал плечами.
— В Индии много садху. Ты в самом деле собираешься в Дагшай сегодня, Уильям?
— Боюсь, что так.
— Значит, я некоторое время не увижу тебя. В понедельник я отправляюсь в Лунджор. Дела здесь прояснились раньше, чем предполагалось, но Фрейзер попросил меня остаться здесь на уикэнд. Я должен был возвращаться, но принял его приглашение, потому что у него остановился гость, с которым мне интересно будет встретиться. Дунду Пант. Наследник Пейшва. Ты встречался с ним когда-нибудь?
— Однажды. Еще одна змея. Что он здесь делает?
— О, это частный визит. Неофициальный. Он приехал в Дели на два дня. Должен признать, что я всегда испытывал определенную симпатию к этому человеку. От этого никуда не деться, по законам Хинду на этой земле жили веками, и мы не можем попросту отмахнуться от них только из-за того, что они не приняты на Западе. Сэр Джон Малком просил правительство выделить пенсию этому человеку, как настоящему сыну и наследнику старого Пейшвы. И я не могу отделаться от чувства, что жестом последнего скряги было отказать ему потому, что он является не родным, а приемным его сыном. Ведь в глазах любого индуса он является официальным наследником.
— Твоя беда в том, Алекс, — сказал Ходсон, — что ты всегда воспринимаешь чужие проблемы, как свои собственные. Знаешь, такая позиция сильно усложняет жизнь.
Алекс криво усмехнулся.
— Уж я-то это знаю. Хотел бы я быть таким, как ты. А какова твоя цель в жизни, Уильям?
— Лидерство, — не задумываясь, ответил Ходсон. — Я бы хотел суметь заставить людей слепо следовать за мной — так, как я бы последовал за Джоном Николсоном — в самое пекло, если это будет необходимо.
— Так и будет, — сказал Алекс с улыбкой. — Нияз не поддержал мне стремя и не назвал меня Бахадуром.
Ходсон рассмеялся.
— Знаешь, я тоже верю, что так и будет. Только если мне удастся помешать этим слабоумным старым бабам в штанах подрезать мне крылья. Однажды, с милостью Божьей, удача повернется ко мне лицом, и тогда все пойдет так, как надо!
Он натянул поводья своей лошади, потому что они уже достигли главной смотровой башни, и протянул руку своему другу:
— Ну, да благословит тебя Господь, Алекс.
Они коротко и сильно пожали друг другу руки, и Ходсон, вонзив шпоры в бока своего коня, галопом промчался под сводами Кашмирских ворот, провожаемый Ниязом, спешившимся и вставшим по стойке смирно. Затем Алекс услышал, что копыта его лошади гулко прогрохотали по мосту надо рвом.
— Что делает здесь Ходсон Бахадур? — вполголоса осведомился Нияз, придерживая под уздцы лошадь Алекса, пока тот спешивался.
— Он навещает друзей в городе.
— Вот как! — сказал Нияз задумчиво. — Помнишь ли ты, как в год, последовавший за взятием Пенджаба, астролог из города Амристара составил его гороскоп и предсказал, что его звезда взойдет через семь лет и будет гореть ярко посреди большой крови? Эти годы мчатся очень быстро, и может быть, он уже чует эту кровь.
Он поднял поводья и отвел лошадей в тень, в то время как Алекс поднялся по пандусу на зубчатую стену, откуда доносился гул голосов, смех и звон бокалов.
Участники пикника расположились вдоль длинной белой скатерти, которой был накрыт ковер, разложенный прямо на теплых камнях. Пожилые леди сидели на плетеных стульях, а те, что помоложе, расположились на подушках, брошенных на ковер. Широкие юбки, окружавшие их, были похожи на распустившиеся цветки роз. Мужчины сидели рядом с ними, по-турецки скрестив ноги или прислонившись спинами к амбразурным зубцам стены. Разносили великое множество разнообразных холодных закусок и напитки. На скатерть были поставлены свечи, но их свет привлек так много летающих и ползающих насекомых, что их быстро пришлось потушить, и теперь собравшихся освещал лишь белый свет луны. Свет индийской луны гораздо ярче, чем свет луны весенней ночью на Западе.
— Мой дорогой Алекс, а мы уже было совсем махнули на вас рукой. Где же вы были?
Миссис Эбатнот немного сдвинула в сторону свой стул и подобрала юбку, освобождая место для Алекса на ковре у своих ног.
— Прошу прощения. Я встретил друга, которого не видел около двух лет, он покидает Дели сегодня вечером.
Он сел, взял тарелку с холодной закуской и принялся есть с отсутствующим выражением. Его мысли все еще были заняты недавним разговором с Уильямом. Вдруг он услышал, что кто-то обращается к нему по имени. Алекс повернул голову и увидел Винтер, сидевшую слева от него.
Девушка старалась держаться поближе к миссис Эбатнот, с тех пор как они приехали сюда. В последнее время Карлион вел себя с таким достоинством и благородством, что Винтер почти избавилась от антипатии, которую испытывала к нему сначала, но все же в этот вечер она чувствовала себя очень неспокойно. Это чувство появилось в связи с внезапным исчезновением с пикника капитана Рэнделла. Если бы он не появился после встречи с тем светловолосым незнакомцем с замечательными глазами, ей пришлось бы возвращаться назад одной в компании лорда Карлиона либо сослаться на нездоровье и попроситься в карету. Алекс не имеет права оставлять ее одну! Конвей поручил ему оберегать ее от волнения и тревоги, и он не должен уезжать с незнакомцами и оставлять ее на попечение людей, подобных Артуру Карлиону.
Правда, его светлость вскоре оставил ее с миссис Эбатнот и принялся любезничать с миссис Гарденен-Смит, а когда солнце зашло и на небе появилась луна, он занял место между Делией и мисс Клиффорд, подруги мисс Дженнингс, дочери капеллана.
Вечеринка проходила очень весело. Гул голосов и дамский смех вспугнули птиц, гнездившихся на деревьях позади главной смотровой башни, и привлекли внимание любопытных туристов, задиравших головы с риском свихнуть себе шеи и во все глаза глядевших на ферингхи.
Но встревоженная Винтер не могла разделить всеобщее веселье. Она пыталась казаться довольной и увлеченной, но боль, закравшаяся в сердце после известия, что Конвей не приедет в Дели, мучила ее и не давала веселиться. Застенчивый лейтенант бенгальской артиллерии Джордж Уиллоуби сидел слева от нее, а широкая юбка миссис Эбатнот надежно защищала ее справа до тех пор, пока Алекс не возник из лунного света и не сел рядом.
С его приходом часть ее страха и напряжения спала. В Алексе было что-то утешительное, надежное. Винтер с трудом поборола детское желание покрепче прижаться к его рукаву. Хотя он вряд ли бы заметил, если бы она действительно это сделала, — он казался настолько погруженным в собственные мысли, что едва ли замечал происходящее вокруг него. Она так невпопад отвечала на робкие попытки лейтенанта Уиллоуби завязать с ней разговор, что он наверняка почувствовал облегчение, когда она, наконец, повернулась к Алексу и спросила:
— Кто был тот человек, которому вы представили меня сегодня, капитан Рэнделл? Он квартируется в Дели?
Алекс повернулся к ней, слегка хмурясь, но затем его лицо прояснилось.
— О, это вы. Прошу прощения, я не расслышал. Что вы сказали?
Винтер повторила свой вопрос.
— Уильям Ходсон? — сказал Алекс. — Нет, он приехал сюда всего на один день. Его полк расквартирован в районе силмийских холмов. Я думаю, он тайком покинул службу.
— Вы имеете в виду, что он уехал без разрешения? А разве старшие офицеры позволяют так поступать?
— Нет, но Уильям живет по своим законам. Это не раз причиняло ему неприятности в прошлом и сулит еще большие неприятности в будущем. Но если мне придется участвовать еще в одной войне в этой стране, то я бы предпочел, чтобы за спиной у меня был Уильям, чем целая армия. Да, впрочем, он никогда не остается за чьей-то спиной, он всегда будет идти на двадцать шагов впереди!
— Вы очень привязаны к нему? — спросила Винтер.
— Да, — коротко ответил Алекс.
— Расскажите мне о нем.
К собственному удивлению, Алекс был рад ее просьбе и рассказал ей кое-что об Уильяме. Он рассказал ей, какой это энергичный, нетерпеливый, непредсказуемый человек, физически очень выносливый, преданный своему делу. Он рассказал ей о том, как лейтенант Ходсон служил под началом их всеобщего любимца, сэра Генри Лоуренса и по заданию сэра Генри принял на себя управление «Приютом Лоуренса для детей европейских солдат» у подножия холмов Куссовли. Как он был секретарем, надсмотрщиком, попечителем и имел множество других должностей, как помогал создавать отряд разведчиков, сражался вместе с ними в войне с сикхами, и как стал после этого командиром. Как он прошел путь от младшего офицера до желанного любым военным командного поста, и о его нестандартных методах управления, вызывавших враждебность и злобу у завистливых людей, что стало причиной понижения его в чине, в то время как чиновники скрыли результаты расследования, способные оправдать его…
— Беда Уильяма в том, что он говорит то, что думает, а многим людям это не нравится. А то, что он, как правило, оказывается прав, нравится им еще меньше. Его сослали в далекий медвежий угол в Дагшай — и это в то время, когда такие люди нужны здесь более, чем когда-либо! Мое единственное утешение в том, что, если где-нибудь случится настоящая беда, никто и ничто не сможет его удержать.
Алекс забыл, что говорит с будущей женой мистера специального уполномоченного Бартона, который причинил ему столько неприятностей. Ему было очень легко говорить, так, как уже было с ним однажды ночью, под мальтийской луной. Он глядел в ее лицо и улыбался несколько виновато, он понял, что без перерыва говорил в течение трех перемен блюд, и так, будто они были совершенно одни. Они действительно могли считать, что находятся наедине, потому что миссис Эбатнот вела оживленную беседу с миссис Форстер, а лейтенант Уиллоуби беседовал с мисс Дженнингс, дочерью делийского капеллана.
Алекс еще раз огляделся по сторонам, один взгляд моментально привлек его внимание. Карлион в конце концов заметил, что он единолично владеет вниманием маленькой Баллестерос на протяжении целых двадцати минут! Встретив этот взгляд, Алекс с живостью вспомнил слова Ходсона, сказанные около часа назад. «У него опасный взгляд», — сказал тогда Уильям и был абсолютно прав. В задумчивости Алекс снова обернулся к Винтер, и принял у нее пустую тарелку, которую она держала в руках.
— Похоже, я наговорил вам слишком много, — сказал он. — Что за тема для разговора на подлунном пикнике. Уильям должен гордиться. Я утомил вас?
— Нет.
Быстрая, благодарная улыбка осветила глаза Алекса. Односложный бесхитростный ответ, лишенный манерности, свойственной молодым леди, искушенным в ведении светских бесед, был трогательно откровенным. Сам Алекс никогда не говорил «да» или «нет», если он так не думал.
Он нагнулся, чтобы отогнать большую бабочку, так и норовившую залететь в чашу с фруктовым салатом.
— Почему он заинтересовал вас? — спросил он у Винтер.
Но на этот раз ее ответ очень удивил его, Винтер просто сказала:
— Потому что он ваш друг.
Алекс изумленно поднял на нее глаза.
— Видите ли, — сказала Винтер медленно, словно она объясняла что-то самой себе, а не только Алексу, — я знаю о вас слишком много, но о людях можно узнать гораздо больше, если узнаешь, что у них за друзья.
— И значит, теперь вы знаете обо мне немного больше, чем раньше? — спросил Алекс со странными нотками в голосе.
— Думаю, что да.
Она отвернулась и принялась водить пальцем по линиям узора персидского ковра, на котором они сидели.
— Алекс… — она снова почувствовала неуверенность в том, стоило ли называть его по имени.
— Да?
— Почему Конвей не смог приехать в Дели? Была ли для этого какая-нибудь… какая-нибудь другая причина?
Алекс не ответил, и Винтер уточнила:
— Другая, чем его работа, я имею в виду?
«Проклятие! — растерянно подумал Алекс. — Как, интересно, люди умудряются отвечать на подобные вопросы и при подобных обстоятельствах? И вообще, что проку отвечать? Он однажды уже сказал ей, и испытал болезненное чувство. Теперь, когда она узнала его получше, поверит ли она тому, что он ей скажет? Или… — Я не могу причинить ей боль в самом разгаре пикника, — подумал Алекс. — Я не могу. Я должен подождать…»
— Была ли другая причина? — настаивала Винтер.
— Нет, — коротко ответил Алекс. — То есть — нет. Я…
Неожиданно его прервала миссис Эбатнот, которая наклонилась и дотронулась веером до его плеча.
— Алекс, милый мальчик, вы сидите на моих оборках, а я хочу встать. Благодарю вас…
Она поднялась, отряхивая свои юбки, и Алекс тоже мгновенно вскочил на ноги.
— Сейчас слуги уберут посуду, и мы будем петь, надеюсь. Лейтенант Ларраби достал гитару, а мисс Клиффорд настраивает свою мандолину. Винтер, любовь моя, миссис Форстер сказала мне, что нам надо удалиться ненадолго и оставить мужчин допивать оставшееся вино. Пойдем, дорогая. Пойдем, Лотти.
Всколыхнулись и зашелестели шелка, и пышные кринолины уплыли вместе со своими владелицами, поблескивая при лунном свете, словно гигантские мыльные пузыри, гонимые легким ветерком.
Когда они вернулись, от горы грязной посуды не осталось и следа. Было убрано все, включая и белую скатерть. Теперь камни покрывал ковер и множество подушек. Один офицер, владелец впечатляющих бакенбардов и роскошных усов, наигрывал на гитаре сентиментальные баллады. Большинство гостей не стало немедленно садиться снова, многие прогуливались по стене, разговаривали, смеялись, любовались луной и замечательным пейзажем. Винтер почувствовала облегчение, увидев, что лорд Карлион, всецело занятый Делией, ведет ее в сторону, чтобы взглянуть на реку. Его ухаживания вызывали сдержанную улыбку у миссис Гарденен-Смит.
Однако среди гостей она не увидела Алекса, и опять стала волноваться, не уехал ли он домой, но Лотти сообщила ей, что видела, как он направлялся к Водному бастиону.
— Софи тоже хотела пойти, — призналась Лотти, — но у нее не хватило мужества попросить его составить ей компанию, а он не додумался ей это предложить. Вообще-то он выглядел несколько необычно, так, словно ему вообще не нужна никакая компания. Винтер, ну не чудесная ли сегодня ночь? Может быть, Эдвард сейчас тоже смотрит на луну? Как бы мне хотелось, чтобы он был сейчас здесь!
«А может быть, и Конвей тоже смотрит на луну, — подумала Винтер. — Почему Алекс был в таком замешательстве, когда я спросила его о Конвее? Он выглядел… виноватым».
— Винтер, любовь моя, — сказала миссис Эбатнот, направляясь к ней с каким-то неизвестным джентльменом, — вот человек, с которым ты, наверняка, будешь рада встретиться. Представь себе, мистер Кэррол был проездом в Лунджоре всего неделю назад, и останавливался у полковника Маулсена — ты ведь помнишь полковника Маулсена, правда, дорогая? И они обедали с мистером Бартоном, так что он сможет рассказать тебе о нем самые последние новости. Мистер Кэррол, эта леди очень скоро выйдет замуж за мистера Бартона, будьте знакомы, — контесса де лос Агвиларес.
Мистер Кэррол был крупным мужчиной с таким красным лицом, что даже лунный свет не в состоянии был сделать его бледнее. Он поглядел на Винтер и пробормотал, что весьма польщен встречей с ней. Затем он взял ее руку, склонился над ней, и в ответ на ее жадные расспросы ответил, что действительно видел специального уполномоченного в прошлый уикэнд. Еще он сказал, что часто бывает в Лунджоре и имеет удовольствие знать мистера Бартона на протяжении нескольких лет.
— Мистер Бартон был так добр, что приглашал меня пожить у него некоторое время и составить ему компанию, потому что сейчас у него нет никаких особых дел. Но если у специального уполномоченного в Лунджоре и нет никаких особых дел, то у меня их оказалось предостаточно, я вынужден был отказаться…
Мистер Кэррол заметил удивление на лицах его слушательниц, и, сбитый с толку, встревоженно замолчал.
— Но это же абсурд! — довольно резко вмешалась миссис Эбатнот. — Возможно, вы не знаете, что мы ожидали мистера Бартона в Дели, но груз забот не позволил ему покинуть Лунджор. Вы, должно быть, ошибаетесь!
— О… э… Да, — сказал мистер Кэррол несчастным голосом. — Я, видимо, его не так понял. Да, конечно. Я…
Винтер не дослушала его сбивчивого бормотания.
— Мистер Кэррол, пожалуйста, скажите мне, почему специальный уполномоченный не смог приехать в Дели? Он что… нездоров?
Мистер Кэррол, смущенный и огорченный, схватился за эти слова, как утопающий хватается за соломинку.
— Да. Да, боюсь, что так. Он… э… не хотел расстраивать вас. Естественно, он хотел пощадить ваши чувства. Это очень неудобно — заболеть в такое время — он очень неважно чувствует себя по этому поводу.
— Но… Но почему же он ничего мне не написал? — спросила Винтер, сжимая руки.
Кэррол крупно сглотнул, лихорадочно подыскивая подходящий ответ, и тут его осенило:
— Ничего не написал? Ну конечно, он боялся, что вы посчитаете своим долгом немедленно приехать и ухаживать за ним. Комната больного не место для леди с такой деликатной натурой, как ваша. Лихорадка, вы знаете, э… — мистеру Кэрролу на мгновение представилось заплывшее и распухшее лицо специального уполномоченного в Лунджоре, и он принялся импровизировать. — Опухолевая лихорадка, знаете ли. Нет, нет, ничего серьезного, я вас уверяю. Просто, знаете ли… изменяет немного внешность. Заразиться ею нельзя, но ни один чувствительный человек не пожелал бы, чтобы его видели в подобном состоянии.
— О, бедный, бедный мистер Бартон! — воскликнула миссис Эбатнот, тронутая до глубины души. — Теперь-то я все прекрасно понимаю! Как мог он позволить вам увидеть себя в таком плачевном состоянии? И, конечно же, он не захотел позволить вам терпеть неудобства, находясь в одной комнате с больным человеком. Возможно, из-за этого он и в Калькутту не смог приехать? Наверное, он думал, что сможет достаточно оправиться для того, чтобы приехать в Дели, но у него, должно быть, случился рецидив.
— Так ли это? — спросила Винтер жадным прерывающим голосом. — Как долго он болен?
Мистер Кэррол жалким взглядом посмотрел в ее бледное, напряженное лицо. Он сам не раз развлекался вместе с мистером Бартоном, и считал его на редкость непорядочным человеком; но он не мог рассказать правду этой чудесной молодой женщине. Солгать было легче. А утром надо будет послать весточку старине-Кону, чтобы разъяснить ему ситуацию.
— Э… не больше шести недель, — сказал мистер Кэррол, — или, может быть, немного больше. Это дело небыстрое. Он надеется скоро совсем поправиться. Он уже выздоравливает. Но ведь вы же ему не скажете, что я вам все это рассказал? Он… он не хотел, чтобы вы тревожились о нем.
— Нет, — порывисто ответила Винтер. — Нет, я не скажу ему. Но я очень рада узнать… что ему уже лучше. Спасибо вам, мистер Кэррол. Я вам очень признательна.
Она подала ему руку, мистер Кэррол поклонился и поспешно пошел прочь, утирая лоб большим носовым платком и тяжело дыша.
— Бедный, несчастный человек! — сказала миссис Эбатнот, продолжая, очевидно, скорбеть по отсутствующему мистеру Бартону. — Как благородно с его стороны пощадить твои чувства, Винтер. Как чутко избавить тебя от необходимости ухаживать за ним… Ах, я слышу, что снова заиграла музыка. Пойдем, присоединимся к остальным. Мне кажется, мисс Клиффорд замечательно играет на мандолине… ах, какие звуки! Пойдем, Софи. Постой, Винтер, куда ты, любовь моя?
Винтер не ответила, да и вряд ли она слышала вопрос. Она подобрала шлейф своего платья для верховой езды и быстро побежала по длинной, залитой лунным светом стене по направлению к Водному бастиону. В той части стены прогуливалась лишь небольшая группа. Большинство расселись на коврах и подушках, готовые наслаждаться дуэтом талантливой мисс Клиффорд и романтического лейтенанта Ларраби, а те немногие, кого встретила Винтер, направлялись в их сторону с дальнего конца стены. И все же один джентльмен остался сидеть в амбразуре стены, глядя на реку, и кончик его сигары мерцал маленькой красной точкой в ночной темноте.
Алексу не нужна была компания. Он чувствовал злость, раздражение, и еще он чувствовал себя виноватым. Он надеялся, что ему не придется больше объясняться с Винтер. Ей достаточно будет попасть в Лунджор и самой увидеть этого человека. И тогда разрыв помолвки не будет никоим образом связан с ним самим, Алексом Рэнделлом, и следовательно не даст специальному уполномоченному повода сослать его куда-нибудь из Лунджора — как это сделали с Уильямом — в чине младшего офицера. Но Винтер задала ему прямой вопрос, и на него нужно было ответить. Ему пришлось солгать, потому что сказать ей правду в той обстановке было абсолютно невозможно. Теперь же она узнала его лучше и стала относиться к нему с меньшей враждебностью.
Он должен сказать ей все, и на этот раз она бы поверила ему, и уехала назад, в Калькутту, а оттуда в Англию, вместо того, чтобы ехать в Лунджор. А это означает, что специальный уполномоченный стал бы задавать ему вопросы, и… «О, эти женщины!» — в растерянности подумал Алекс. И что на него нашло? Сейчас было совсем не время для того, чтобы позволить юному, беззащитному и напуганному созданию встать между ним и его карьерой. И все же…
Люди парами проходили мимо, разговаривая и смеясь, но он не оборачивался на них, и никто из них не пытался потревожить его. Теперь большинство людей снова переместились к главной смотровой башне, и он остался наедине с лунным светом, блестящей и широкой рекой, мерно катившей внизу свои воды между призрачными песчаными берегами и белой цаплей, мягко опустившейся на стену в дюжине ярдов справа от него.
На дальнем конце стены кто-то пел под мандолину: «Где цветы, что собирали мы утром?» Заунывная баллада, которую последний раз он слышал в Англии. Затем до него донеслись звуки легких шагов и шуршание женского платья. Цапля взмахнула серебряными крыльями и улетела в ночь, а шаги замерли совсем рядом с ним. Алекс затушил сигару о камень, бросил ее вниз и поднялся.
Лицо Винтер казалось лишенным каких бы то ни было красок в белом лунном свете. Она прерывисто дышала, так, словно только что бежала. Облегающая жемчужно-серая амазонка, которую она надела сегодня вместо платья с кринолином, подчеркивала красоту ее фигуры и делала ее выше. Она не могла сдержать детскую дрожь в губах или спрятать боль в глазах, и Алекс, глядя в ее освещенное полной луной лицо, сам при этом оставаясь в тени, чувствовал странную тяжесть в сердце и раздражение.
— Вы знали, что случилось с Конвеем, не так ли? — сказала она быстро и почти прерывистым голосом, стараясь казаться спокойной. — Вы все время об этом знали. Вы могли мне об этом сказать, даже если он не хотел, чтобы я об этом знала. Я имею право знать! И все эти недели я думала… я думала…
Ее голос прерывался, и Алекс сказал отрывисто:
— Однажды я пытался сказать вам это, но вы не захотели слушать.
— Вы никогда не говорили мне об этом! В тот день, когда вы сообщили мне, что он приехать не сможет, я спрашивала вас, не случилось ли с ним что-нибудь, и вы ответили, что нет. Я спросила вас сегодня…
— Прошу прощения, — сказал Алекс, почувствовав некоторое и жалость к ней. Ему не пришло в голову поинтересоваться, откуда ей стало обо всем известно. Достаточно было того, что теперь она узнала правду, но не от него. И все же тот факт, что она доверяла ему, и хотела услышать правду именно от него, больно ранил его.
— Вы знали причину, почему он не приехал встретить меня в Калькутту. Вы также получили от него письмо. Он должен был рассказать вам об этом.
Алекс внезапно нахмурился.
— О чем вы?
— О, я понимаю, он не хотел, чтобы я знала. Мистер Кэррол рассказал мне. Он думал, что причинит мне этим страдания, и… и он хотел пощадить мои чувства. И я знаю, он не хотел, чтобы я увидела его таким… — ее голос замер, она внезапно задохнулась от возмущения, ее глаза расширились. — Почему… Как он мог подумать, что я отвернусь от него, больного, только из-за его изменившейся внешности! Он должен был знать, что этого никогда не случится! Но он так плохо знает. А вы все знали! Вы-то должны были понять, что я вовсе не такая. Вы должны были сказать мне…
Алекс резко оборвал ее на полуслове:
— Мы, кажется, друг друга не понимаем. Кажется, я понял, что не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите. Что сказал вам мистер Кэррол?
— Он сказал мне правду. Что Конвей все это время был болен.
— Болен?
Подбородок Винтер судорожно задрожал.
— Надеюсь, вы не собираетесь отрицать, что знали об этом?
— Я непременно должен это сделать, — решительно проговорил Алекс, — хотя, думаю, его состояние можно назвать и так. Может быть, вы будете настолько любезны, и расскажете, что в точности сообщил вам мистер Кэррол?
Винтер повторила рассказ. Ее голос подрагивал от возмущения и упрека.
— Я… Я полагаю, что вы хотели, как лучше, — закончила она, — но вы должны были знать, что я предпочитаю знать правду. Я не думала, что вы такой…
Она не договорила и закусила губу, а Алекс сказал отрывисто:
— Вы правы. Я должен был сказать вам правду. Хотите ли вы услышать ее теперь?
— Теперь я ее уже знаю.
— Нет, не знаете. Нет… — он резко протянул руку и схватил ее за запястье, когда она хотела уйти. — На этот раз вы не уйдете до тех пор, пока я не скажу вам всего, что должен был сказать.
Она яростно дернулась, но сильные пальцы Алекса крепко сжимали ее запястье; она поняла, что без унизительной борьбы ей не освободиться, и прекратила сопротивляться.
— Очень хорошо. Я вас выслушаю.
Он отпустил ее руку. Винтер стояла перед ним, прерывисто дыша и потирая запястье. На ее лице были написаны сомнение и боязнь услышать что-то еще.
— Мистер Бартон не болен, — начал Алекс. — А если и болен, то не в традиционном смысле этого слова.
— Что… что вы имеете в виду? — эти ее слова были произнесены почти шепотом.
— Я имею в виду, — сказал Алекс с грубой прямотой, — что мистер Бартон страдает злоупотреблением алкоголем, наркотиками и женщинами.
Винтер внезапно не хватило воздуха, она судорожно вздохнула и обернулась, снова пытаясь убежать, но Алекс и на этот раз оказался проворней ее. Он поймал ее за руку и повернул к себе лицом.
— Прошу меня простить, но вы дослушаете меня до конца. Я уже говорил вам однажды, что Бартон не тот человек, который подходит вам в мужья. Распутник и пьяница — неподходящий муж и для любой другой женщины, если уж на то пошло. Он не приехал в Англию из боязни предстать перед вашей семьей в таком виде, уверенный в дальнейшем расторжении помолвки. Я не знаю, почему он не встретил вас в Калькутте. Возможно, все по той же причине. Тем не менее, я знаю что похмелье, если не что-нибудь похуже, помешало ему приехать сегодня в Дели. Он был не в состоянии держаться на ногах, когда я видел его в последний раз.
Он отпустил ее руку, но Винтер не двигалась. Она стояла молча, глаза ее были широко раскрыты, и Алекс снова почувствовал удивительную боль в сердце.
— Ну, теперь вы знаете правду, — сказал он резко, — и вольны уехать в Калькутту и возвратиться в Европу с первым же рейсом.
Она не ответила ему; следующее мгновение, казалось, тянулось целую вечность. Мангуст пробежал по парапету, и, увидев двух неподвижно стоявших людей, распушил свой хвост и нырнул в тень с тихим яростным криком. Ни один из них не решался двинуться или заговорить, а отдаленно, в подлунной тишине звучали нежные слова песни и грустная мелодия доносилась с другого конца стены. Звучание дюжины голосов, смягченное расстоянием, наполняло ночь странным ностальгическим волшебством.
Поверь мне, коль все драгоценные чары, что ты расточаешь так щедро сегодня, пройдут без следа назавтраВинтер заметила, как Алекс облегченно замолчал, и проговорила шепотом:
— Нет. О, нет… я не верю этому, Алекс…
Она протянула вперед сомкнутые руки, словно молила о поддержке, и когда коснулась его, что-то живое и трепетное, как вспышка молнии, пробежало между ними. В следующий момент он обхватил ее руками и крепко прижал к себе. Одно мгновение она яростно сопротивлялась, но тело ей не повиновалось, и в следующий миг его губы коснулись ее губ, и земля уплыла из-под ног.
Ты будешь любима, как сегодня…От ее кожи исходил легкий запах лаванды, тело было хрупким и податливым в его объятиях, таким же, как ее губы, ее закрытые, трепещущие веки, ее блестящие волосы. Губы Алекса не были горячими и жадными, как у Карлиона. Они были прохладными и твердыми, а медленные поцелуи — теплыми, опьяняюще восхитительными. Они лишили ее всякой возможности мыслить или двигаться, собрали эту ночь, и лунный свет, и весь бескрайний мир, и еще более бескрайнее небо в тесном кольце его рук.
Она почувствовала, как он освободил свою левую руку; его пальцы легли на основание ее шеи и стали медленно подниматься вверх, лаская ее сквозь густые и мягкие волны волос. Он крепко и властно прижимал ее к себе, его левая рука достигла нижних выступов ее затылка. Наконец он оторвался от ее губ, и коснулся своей прохладной щекой ее теплой, гладкой кожи.
— Милая… милая… — его слова были почти беззвучны, но все же они разбили страстную зачарованность, возвращая холодную реальность. Винтер отпрянула, высвобождаясь из его объятий, горя от стыда и возмущения, пораженная внезапным открытием.
— Так вот, значит, почему вы его ненавидите!..
Ее голос был низким и тихим, почти презрительным.
— Вы ревнуете меня к Конвею и все это выдумали про него! У вас нет чести и… благородства, чтобы удержаться от соблазна совратить его будущую жену. Вы! — вы и Карлион! Мистер Кэррол сказал мне правду. Зачем ему было лгать мне? Конвей болен — а вы, вы его ненавидите, вы постарались приложить все силы, чтобы очернить его в моих глазах и заняться со мной любовью за его спиной. Я надеюсь… я надеюсь, что я вас больше никогда не увижу!
Она разрыдалась и убежала прочь. Он слушал, как звуки ее торопливых шагов замерли вдалеке, растворившись в отдаленном тихом пении.
Алекс не попытался следовать за ней. Он стоял, глядя в пустоту перед собой невидящим взглядом. Затем он поднес руку к лицу, потер лоб и сел в нишу бойницы. Задумавшись, он вынул из кармана табак и спички. Тщательно свернув сигарету, чиркнул спичкой о стену. Сера на конце спички с шипением загорелась, и при свете маленького живого желтого огонька моментально померкли краски ночи и сам лунный свет.
…Сердце, полюбившее однажды, не забудет Чувства своего до конца, Оно как подсолнух склоняется, Когда его Бог исчезает из вида, И снова цветет, когда он поднимается вновь.Пение прекратилось, и ночь опять сделалась безмолвной. Алекс забыл о зажженной спичке, и она, догорев до конца, обожгла ему пальцы. Он выронил ее, сморщившись от боли, и кинул сигарету вниз в темноту.
— Проклятье! — проговорил Алекс громко, но беззлобно, адресуя свои слова луне, старинному городу Дели и всей Индии.
Глава 23
Амурные планы лорда Карлиона в последнее время начинали приобретать более или менее ясные очертания. Безукоризненной вежливостью он старался усыпить страхи Винтер и намеренно избегал ее, переключившись на ухаживание за Делией Гарденен-Смит.
Приехав на пикник, он сел от Винтер слишком далеко, но это не помешало ему заметить, как она оживленно беседует с Рэнделлом, не обращая внимания на окружающих. Он старался не глядеть на них, но не мог от этого удержаться. Необыкновенное оживление Рэнделла и заинтересованность Винтер раздражали и тревожили его. Слава небесам, Рэнделл должен скоро покинуть Дели, да и сам он скоро отряхнет прах этого несносного местечка со своих ног! Осталось всего несколько дней — дольше он просто не выдержит.
Карлион посмотрел вдоль белой скатерти на Винтер, стараясь взглянуть на нее беспристрастно и решить, что же все-таки в ней есть такого, что будит лихорадку в его крови? У него в жизни было множество красивых женщин, гораздо красивее, чем эта дикарка, чей трогательно неуверенный взгляд так противоречил чувственной внешности.
Возможно, эта неуверенность, эта неразбуженная еще страсть и влекли его к ней? Его, пресыщенного бурной жизнью, теперь могла завлечь только неопытность. Каким же он был дураком! Он, с его знанием женщин, принялся обращаться с этой невинной девушкой, как с опереточной танцовщицей, которую можно соблазнить любой безделушкой. Знает ли она, что выглядит волнующей и желанной?.. Что, интересно, такое говорит ей сейчас Рэнделл?
Он встретился с оживленным взглядом Алекса и не отрываясь, напряженно смотрел на него некоторое время, от бессильной ярости у него перехватило дыхание. Позже, этим же вечером, когда началось пение, он как-то упустил исчезновение Рэнделла и Винтер. Но, перехватив направление тревожного взгляда Софи, он уже почти не сомневался в том, где они были.
Сколько мог он боролся с желанием пойти за ними, но минута проходила за минутой, а они все не возвращались, и его яростная ревность все возрастала, пока не сделалась вдруг совсем невыносимой. Тогда он встал и быстро пошел в направлении Водного бастиона. На полпути черная тень от большого нимового дерева пересекла дорогу. Дойдя до нее, он услышал звук быстрых шагов, кто-то выбежал ему навстречу и попал прямо в его объятия.
— О, это вы… — голос Винтер был прерывистым и всхлипывающим.
Столкнувшись с лордом Карлионом, она позабыла о том, что ей не нравился этот человек. Она забыла обо всем, кроме того, что Алекс предал ее — солгал ей — заставил ее устыдиться.
— Отвезите меня домой. Пожалуйста, отвезите меня домой. Я не могу здесь больше оставаться.
Карлион вывел ее из тени на лунный свет и, заглянув в ее расстроенное лицо, заметил слезы в глазах.
— Что он вам сделал? — спросил он гневно. — Дорогая моя, пожалуйста… не надо! Не плачьте. Я сейчас пойду и сверну ему шею!
— Нет… нет, пожалуйста, не надо, — сказала Винтер, судорожно ухватившись за его руку. — Я хочу вернуться в бунгало. Пожалуйста, отвезите меня назад.
— Конечно, — он взял ее под руку и направился с ней назад к Кашмирским воротам. Но они не сделали и дюжины шагов, как он остановился.
— Мы должны будем пройти мимо всех гостей. Другого пути вниз нет. Я думаю, вам не захочется, чтобы они видели вас в таком виде. Могу ли я?..
Он протянул ей чистый носовой платок, и Винтер взяла его с благодарностью. Затем она сказала более спокойным голосом:
— Вы очень добры.
— Нет, — сказал он с неожиданной горечью и теплотой в голосе, и Винтер испуганно взглянула на него. Карлион быстро поправился. — Я уже говорил раньше, что услужить вам доставляет мне огромное удовольствие. Это были непустые слова.
— Я… я знаю.
Знала ли она? Может быть, она ошибалась в нем? Ведь ошиблась же она в отношении Алекса. Если она могла ошибиться в Алексе…
Довольно неожиданно для себя она вдруг поняла, что рассказала Карлиону обо всем. И о болезни Конвея, и о вероломстве капитана Рэнделла, и о своих страхах и сомнениях, когда Конвей не смог приехать в Дели.
— Я не могла понять, как так получилось. Я думала, что он вполне может оставить работу на несколько дней. Ведь это же ненадолго — поехать и встретить меня. Но теперь я знаю, что должна сама ехать к ему и немедленно; я не смогу выдержать в Дели еще одну неделю! Я могу ухаживать за ним — и вовсе не возражаю находиться в одной комнате с больным человеком. Ему снова может стать хуже, а меня там не будет. Если он болен, значит я ему нужна. Будете ли вы… Согласитесь ли вы помочь мне добраться к нему?
Карлион посмотрел в ее широко открытые, молящие глаза и заметил, что она вся дрожит. Он ничего не знал о том человеке, за которого собиралась замуж юная контесса, но почувствовал, что капитал Рэнделл открыл ей правду о своем шефе. Рэнделл не производил впечатления человека, способного солгать в данном случае. Но Рэнделл попытался увлечь будущую жену своего начальника, и Карлион почувствовал себя уязвленным, с одной стороны, а с другой — ему представился чуть ли не Богом посланный шанс сыграть собственную игру.
— Я отвезу вас в Лунджор, — сказал Карлион. — Вы ведь не можете ехать туда без сопровождения.
Винтер издала короткий вздох, теребя шлейф своей амазонки.
— Правда? Вы действительно так и сделаете?
— Конечно. Нам очень повезло, что совсем недавно мне удалось приобрести карету. Вы и ваша горничная сможете путешествовать в ней, а я поеду верхом. Только вот еще одна вещь… — он замолчал.
— Что такое? — взволнованно спросила Винтер.
— Ну, я не знаю, — с сомнением в голосе заговорил Карлион. — Возможно, лучше будет, если вы не будете сообщать о своих намерениях Эбатнотам, — он заметил, что напугал ее, и тут же добавил: — Я уверен, что они с сочувствием отнесутся к вашим намерениям, но они просто обязаны будут удержать вас от этого шага до тех пор, пока вы не сможете отправиться туда под присмотром миссис Гарденен-Смит. Они даже слышать не захотят о том, чтобы отпустить вас одну или со мной, но думаю, что миссис Гарденен-Смит не сможет приблизить дату своего отъезда.
— Нет, — медленно проговорила Винтер. — Нет, конечно, она этого не сможет сделать. И вы правы насчет Эбатнотов. Но я не стану ждать. Не стану! Я… я сама себе хозяйка. Никто не может меня остановить.
— Они попытаются, — сухо сказал Карлион.
— Да, полагаю, вы правы, — ее глаза неожиданно заблестели, она расправила свои худенькие плечики и подняла подбородок, видимым усилием воли унимая дрожь, сотрясавшую ее тело. — Когда мы сможем выехать? Завтра?
— Да, я смогу это устроить.
— Вы очень добры. Я поговорю с миссис Эбатнот сегодня вечером и скажу ей, что хочу немедленно уехать в Лунджор. Я должна это сделать. Если она согласится сопровождать меня, я не стану беспокоить вас. Но если она откажется, тогда… тогда я думаю, будет лучше, если мы выедем как можно раньше.
— Вы, конечно же, правы, — серьезно сказал Карлион. — Давайте надеяться, что миссис Эбатнот сможет вас сопровождать.
Он был спокоен, уверенный в обратном, затем, предложив Винтер руку, спросил:
— Мы можем идти? Вы предпочитаете ехать домой верхом или лучше сядете в карету? Я могу сказать миссис Эбатнот, что у вас разболелась голова. Знаете, я не думаю, что вам следует ехать без нее. Это будет слишком заметно.
Винтер вернулась в карету, и, вернувшись домой, миссис Эбатнот, встревоженная бледностью девушки, поспешила уложить ее в постель и напоила ее горячим молоком с хлористыми каплями. Оставшись с ней наедине, Винтер попросила ее разрешения немедленно уехать в Лунджор, но миссис Эбатнот, хотя и глубоко посочувствовала ей, все же не желала и слышать о немедленном отъезде. Этот вопрос даже не подлежал обсуждению.
— Ты уже и так прождала достаточно долго, дорогая, так что можешь подождать и еще каких-нибудь восемь дней. Только подумай, как ты можешь смутить бедного мистера Бартона, когда ты увидишь его не в лучшей форме после стольких лет разлуки.
На страстное возражение Винтер, что ей совершенно безразлично, как выглядит теперь Конвей, миссис Эбатнот ответила, что в данном случае речь идет не о чувствах милой Винтер, но о бедном мистера Бартоне.
Винтер стала умолять и спорить, но миссис Эбатнот, посочувствовав, прослезилась и, нежно поцеловав ее, осталась непреклонной.
— Ты увидишь, что полковник Эбатнот согласится со мной. И Алекс тоже.
Она потушила свет и вышла из комнаты, а Винтер лежала без сна в темноте и обдумывала свой план. Она не станет ждать и одного лишнего дня, не то что восемь дней. Она уедет немедленно. Алекс уезжает в Лунджор в понедельник, и если она выедет завтра, к тому времени уже будет там — замужем за Конвеем и в полной безопасности от него. Она не знала, почему ей надо быть в безопасности от Алекса, но просто чувствовала, что ее желание немедленного отъезда к Конвею в Лунджор вызвано паническим стремлением убежать от него.
Конвею нужно будет избавиться от Алекса. Пусть отправит его в какой-нибудь другой гарнизон. А до тех пор, пока это не случится, ей не следует снова с ним встречаться. Что же касается Карлиона, то теперь она позабыла о своем отвращении и недоверии к нему. Она рассматривала его лишь как средство для достижения своей дели. Он не представлял для нее опасности, так как не видела больше в нем человека с его слабостями, а лишь воспринимала его как средство осуществления своего замысла.
Винтер пошарила рукой в темноте в поисках спичек. Отыскав их, она зажгла свечу, выскользнула из кровати и написала короткую записку Карлиону. Ее индийская горничная Аях на утро доставит ее первой. Затем она написала еще одну, подлиннее, для миссис Эбатнот, запечатала ее сургучной печатью, надписала адрес и убрала. Ее багаж должны будут прислать вслед за ней. Сейчас она была не в силах упаковать сундуки. Она зажгла вторую свечу и собрала одежду и самые необходимые вещи, которые ей нужно было взять с собой. Затем она уложила их в маленький чемоданчик и дорожную сумку. Карлион должен будет придумать способ незаметно погрузить их в карету. Что касается Аях, то она не сможет взять с собой обеих служанок, но тут ничего не поделаешь. Конвей должен будет простить ей ее поспешность, когда она приедет, то все ему объяснит. Тут ей пришла в голову еще одна мысль, и она написала третью записку, торопливую и полную выражений любви и симпатии, адресованную Лотти — Лотти, по крайней мере, ее поймет!
Подготовив все, она потушила свечи, легла в постель и заснула тревожным сном.
Миссис Эбатнот не стала больше ломать себе голову над внезапным желанием Винтер немедленно ехать в Лунджор, потому что на следующее утро больше не упоминала об этом. Она поинтересовалась, прошла ли у Винтер головная боль и, казалось, вся была поглощена последними свадебными приготовлениями. Список приглашенных, который она принялась зачитывать, был бесконечным, но Карлион прервал ее, спросив, не желает ли Винтер проехаться с ним с утра и испробовать его новую карету?
Миссис Эбатнот не была уверена в том, что это хорошая идея — отправлять дорогую Винтер кататься вдвоем с лордом Карлионом, но успокоила себя тем, что Винтер была уже почти замужняя дама. Кроме того, девочка выглядела удивительно бледной, и утренняя прогулка, без сомнения, должна была пойти ей на пользу. Когда они уезжали, она обратила внимание, что Карлион не собирается садиться внутрь кареты, рядом со своей гостьей, а приготовился ехать рядом с ней, верхом. Капот кареты был поднят, чтобы защитить ее от утреннего солнца. Миссис Эбатнот осталась на веранде, и Винтер, прощаясь с ней, поцеловала ее с необыкновенной нежностью. Миссис Эбатнот, подозрительная по натуре, была глубоко тронута и смущена этим порывом.
Карета выехала со двора под сень перцовых деревьев, и десять минут спустя, выглянув из окна спальни, миссис Эбатнот обратила внимание, что двое конюхов Карлиона выезжают из ворот конюшни и выводят за собой двух порожних каретных лошадей. Она предположила, что они получили на то специальное распоряжение от хозяина, но это было очень странно — выгуливать лошадей в самое жаркое время суток. Она отнесла это только за счет невежества Карлиона и незнания им провинциальной жизни. На мгновение мелькнуло нехорошее предчувствие, но в следующий момент Лотти отвлекла ее, спросив совета по поводу посадки рюшки на рукаве, и мысли миссис Эбатнот потекли по прежнему руслу.
В двенадцать часов пополудни карета еще не появлялась, и в час дня миссис Эбатнот серьезно встревожилась. Она была убеждена, что благоразумность Винтер и Карлиона не позволила бы им продолжать эту утреннюю прогулку до такого позднего часа. В таком случае, оставалось одно-единственное объяснение их отсутствия. Карета, должно быть, сломалась, или — еще хуже — лошади понесли.
Миссис Эбатнот представила себе, как Винтер в данный момент лежит в каком-нибудь пересохшем речном русле со сломанной шей.
— О, нет, мама! — вскрикнула Лотти, бледнея. — Ты не можешь так думать… Ты не должна в это верить… Ведь лорд Карлион прислал бы нам весточку, если бы действительно произошел несчастный случай. Или вернулся бы один из его конюхов.
Последовавшее затем расследование показало, что ни один слуга, которого миссис Эбатнот сегодня утром видела с веранды покидающим конюшню, не возвращался.
— Мама, — спросила задумчиво Софи, — а ты не предполагала, что они могли сбежать вместе?
Миссис Эбатнот тихонько вскрикнула.
— Софи! Как ты могла такое подумать!
— Я извиняюсь, мама, но согласись, это несколько странно, что исчезли все слуги и лошади лорда Карлиона и никто из них пока не вернулся.
— Дорогая Винтер никогда бы… — начала миссис Эбатнот, но остановилась. Она неожиданно вспомнила о том поцелуе, каким одарила ее Винтер сегодня утром, перед отъездом. Этот поцелуй показался удивительно эмоциональным для этой обычно сдержанной девочки. Но она предположила, что это было своеобразное извинение с ее стороны за вчерашнюю вспышку, когда она просила разрешения немедленно уехать в Лунджор.
— Лунджор!.. — миссис Эбатнот упала в кресло со стоном, заставившим Лотти и Софи испуганно подбежать к ней. — О, нет! Как она могла так поступить! Она могла хотя бы оставить письмо!
Лотти побежала за нюхательной солью, а более практичная Софи отправилась в спальню Винтер. Через несколько минут она вернулась оттуда, неся в руках два письма, оставленные на каминной полке так, чтобы броситься в глаза первому же вошедшему.
Полковник Эбатнот, вызванный домой безумной запиской своей жены, высказал мнение, что этот Карлион поступил аморально, и что, если уж откровенно, он никогда особенно не доверял этому парню. У него во взгляде было что-то циничное. Но он, однако, не сказал бы того же о юной контессе. Возможно, сказалось ее иностранное происхождение; говорят, что у них на континенте всюду царят свободные нравы.
На просьбу жены немедленно выехать вдогонку беглецам он ответил решительным отказом. Он был слишком занятым человеком, чтобы носиться по стране, преследуя юную проказницу, которая, кстати, уже достаточно взрослая, чтобы принимать самостоятельные решения.
— Из этого ничего хорошего не выйдет, Милли, дорогая. Я не стану этого делать. Девушка в конце концов отправилась к своему будущему мужу. Ее нетерпение вполне понятно. Не могу понять, как он согласился на такой безумный план, но раз уж она была решительно настроена предпринять это путешествие, он, видимо, решил, что без сопровождения ей ехать нельзя. Хотя он также должен был понимать, что одного его присутствия рядом с ней достаточно, чтобы погубить ее репутацию. Я могу только надеяться, что специальный уполномоченный в Лунджоре взглянет на ситуацию более легко. А что до твоей идеи, чтобы их преследовать, так это чистый абсурд! Если уж кому и пристало скакать им вдогонку, так это капитану Рэнделлу. Девушка была поручена его заботам, а не моим. И к тому же он гораздо моложе; ему, может быть, и удастся их перехватить. А я этого делать не буду.
— Алекс! — воскликнула миссис Эбатнот. — Как я могла о нем забыть!
Она поспешно схватилась за перо и написала короткую записку, умоляя Алекса немедленно приехать. Слово «немедленно» было подчеркнуто тремя жирными черными линиями, которые насквозь прорвали бумагу, внизу она добавила постскриптум, тоже подчеркнутый и объясняющий срочность дела, по которому требовался Алекс. Эта записка была немедленно отправлена в замок Лудлоу, резиденцию мистера Фрэйзера, у которого остановился Алекс. Посыльному была дана строгая инструкция отдать записку белому капитану в собственные руки. Но Алекса в замке не оказалось, и посыльный, в чьи полномочия не входило разыскивать белого капитана по всему Дели, спокойно заснул в тени за изгородью, ожидая возвращение сахиба.
Алекс вернулся за час до заката и, будучи не в лучшем настроении, не прореагировал должным образом на записку миссис Эбатнот. Он отпустил слугу, велев передать на словах, что приедет в течение часа, и отправился принять ванну после длинного жаркого дня. После ванны он снова взял записку, перечитал, порвал ее на кусочки и кинул на пол, приказав Ниязу оседлать Шалини и привести ее ко входу на веранду через десять минут.
Он проехал через военный городок, расцвеченный теплыми жемчужными тонами заката. Все оттенки земли, неба и реки смешались, погрузив все вокруг в скоротечный опаловый сумрак. Первые звезды плавали в прохладном зеленом небе, словно серебряные рыбки в чистой воде.
На дороге было довольно много экипажей и всадников; жители Дели и обитатели военного городка выехали насладиться прохладным вечерним воздухом. Алекс встретил нескольких знакомых, но в его лице было нечто такое, что не позволило ни одному из них завести с ним беседу. Он не имел представления о том, что заставило миссис Эбатнот написать эту записку, но догадывался, что, возможно, Винтер устроила какую-то неприятную сцену вчера вечером, и теперь миссис Эбатнот желает услышать все от него самого.
Возможность того, что она может вот так скоропостижно уехать с Карлионом, просто не приходила ему в голову. Поэтому он оказался совершенно не подготовлен к новости, которую объявила ему миссис Эбатнот со слезами на глазах.
Она заметила, как он побледнел, и на лбу залегли глубокие складки.
— Во сколько она уехала? — спросил он.
— Довольно рано, — всхлипнула миссис Эбатнот, поднося к глазам носовой платок. — В девять часов, я думаю.
— О, Бог мой, мэм! — гневно вскричал Алекс, — почему же вы не послали за мной раньше?
— Но мы ни о чем не догадывались до тех пор, пока Софи не обнаружила это письмо…
Она отдала его Алексу, который пробежал его глазами, почти черными от ярости. Затем он одним движением скомкал его и сунул себе в карман.
— А потом вы уже уехали, — объяснила миссис Эбатнот. — А Джордж — полковник Эбатнот — наотрез отказывается ехать за ними вдогонку.
— Да, об этом не может быть и речи, — твердо сказал полковник Эбатнот, который услышал конец фразы. Он зашел в комнату с веранды и мрачно кивнул Алексу.
— Что вы собираетесь предпринять, мой мальчик?
— Вернуть ее назад, — сказал Алекс отрывисто.
— Теперь уже слишком поздно. Она будет с тем парнем в дороге всю ночь прежде, чем вы сумеете их перехватить. Кроме того, не думаю, что будет какая-либо польза от того, что вы поедете. Двое мужчин в такой ситуации не многим лучше, чем один. Даже, я бы сказал, хуже. Я, безусловно, меньше всего склонен доверять Карлиону. Он положил глаз на эту девочку. Он сам хотел ее заполучить, любому дураку это было понятно. Возможно, он уже обесчестил ее. — Взглянув на Алекса, он невольно отступил назад и сказал поспешно: — Нет, нет, я не думаю, что он на это решится. Но вот что касается ее репутации…
Алекс резко оборвал его.
— Могу я быть уверен, что она сможет снова жить здесь с вами, если я привезу ее назад, миссис Эбатнот?
— Конечно, вне всяких сомнений. Я очень хорошо знаю, что милое дитя не хотело никому причинить зла. Она решилась на этот шаг только из-за того, что была расстроена вестью о болезни мистера Бартона, и хотела без промедления оказаться рядом с ним в это тяжелое для него время. Это легко понять. Она поступила так из лучших побуждений! Но она, возможно, не захочет вернуться.
— Ее желания, — процедил Алекс сквозь зубы, — не имеют ничего общего с реальным положением вещей. Я надеюсь вернуться довольно рано завтра утром, и если все, что произошло, еще не вынесено за пределы этого дома, то я не вижу причин для придания ему огласки.
— Вам не нужно беспокоиться на этот счет, мой мальчик, — сказал полковник Эбатнот твердо. — Мы не привыкли болтать о подобных вещах. И все же, если бы рядом с ней был не Карлион, влюбленный в эту девушку, я бы посоветовал вам оставить все так, как есть, и дать ей спокойно добраться до Лунджора. Смею предположить, что Бартон отнесется к ее спутнику лояльно, если получит ее целой и невредимой. И если вы не будете стараться вернуть ее, она перейдет уже на его попечение.
Алекс, который уже было взялся за ручку двери, остановился и, обернувшись, сказал:
— Именно поэтому я намереваюсь вернуть ее. Лорд Карлион может отправляться ко всем чертям!
Дверь захлопнулась за его спиной. Полковник Эбатнот, поразмыслив над только что разыгравшейся сценой, сказал задумчиво:
— Будь я проклят, если он сам не влюблен в эту девочку. Вот, полюбуйся, что ты наделала, Милли.
— Я наделала? А что я такого наделала? Я послала его за ней. Ведь кто-то же должен был поехать. И я уверена, что он в нее не влюблен!
— Ты глупа, Милли, — сказал полковник Эбатнот выразительно. — И всегда была такой. Почему же он так воспринял эту новость? Он не из тех, кто по пустякам выходит из себя. Ну, теперь жди представления.
— Что ты имеешь в виду, Джордж?
— Имею в виду? Я имею в виду, что если я не ошибаюсь на его счет, он перехватит этих двоих прежде, чем они достигнут Лунджора, и убьет этого дурня, Карлиона. А если не его, то, вероятно, убьет Бартона!
Миссис Эбатнот, которой и так пришлось достаточно пережить в этот день, спаслась бегством, не выдержав столь сильной атаки на свои чувства.
Настроение Алекса было близко к тому, что предположил полковник Эбатнот, и события обещали разыграться в полном соответствии с тем сценарием, который он предсказал своей жене. Но этого не случилось, потому что он упустил из своих расчетов один немаловажный фактор — брод у реки Джатгхат.
Алекс заехал в замок Лудлоу сказать своему хозяину, что будет отсутствовать по независящим от него причинам, забрать Нияза, третью лошадь и свой револьвер. Он предпочел не давать объяснений по поводу своих действий, и ускакал, сломя голову. Когда луна появилась на небе, он был уже далеко в пути. Алекс знал, что карета не сможет быстро передвигаться из-за плохого состояния дороги, и рассчитывал, что она остановится на ночь в каком-нибудь почтовом бунгало. Но хорошо зная дорогу, он надеялся нагнать их до полуночи.
У него не было ясного плана действий. Карлион, вероятно, окажет сопротивление, и с ним, по всей видимости, будет не менее шестерых слуг. Их возьмет на себя Нияз, а что до Карлиона, то лично разобраться с его томной светлостью доставило бы Алексу огромное удовольствие. О Карлионе он много не думал — даже его он считал более подходящим мужем для Винтер де Баллестерос, чем специальный уполномоченный в Лунджоре — и та всепоглощающая, убийственная ярость, охватившая его при известии об их побеге, почти целиком была направлена на мистера Бартона.
Если бы Винтер отправилась в Лунджор с Гарденен-Смитами, то они помогли бы ей при возвращении в Дели или в Калькутту, когда она обнаружила бы, что не может выйти замуж за специального уполномоченного, а это по его расчетам, должно было произойти практически немедленно. Но если она приедет в Лунджор одна, и никого не будет рядом, к кому она могла бы вернуться, неизвестно, что тогда произойдет. Вероятно, мистер Бартон позаботится о том, чтобы сделать любую ее попытку вернуться невозможной. Алекс терял рассудок при одной мысли об этом.
Даже упоминание полковника Эбатнота о том, что Карлион сам желает эту девушку, не слишком увеличило его ярость. Но теперь он вспомнил об этом снова, и ярость уступила место ледяному страху, как только в его памяти всплыла сцена, произошедшая в вечер приезда Винтер в Дели, которую он прервал своим появлением. Затем ему вспомнился взгляд, который он заметил у Карлиона прошлой ночью. «Если он тронет ее… — в бешенстве думал Алекс. — Если только он тронет ее..».
Он сжал зубы и подался вперед в седле. Они скакали, словно на скачках, и с безрассудством, которое пугало Нияза.
Но он позабыл о броде у Джатгхат и несвойственных этому времени года облаках, которых испугалась миссис Эбатнот прошлым вечером.
Дождь шел у подножия холмов, а также на равнинах позади Морадобада и Рампура, и продолжался он уже более суток. Река поднялась и продолжала подниматься дальше. Она достигла уже опасного уровня, хотя ее все еще можно было перейти вброд, когда четырьмя часами раньше этого места достигли Винтер и Карлион. Теперь же то, что недавно было бродом шириной не более чем в пятьдесят ярдов, представляло собой коричневый стремительный поток, от берега до берега которого было около четверти мили. Он свободно катил свои воды под лунным светом со зловещим глухим бурлящим грохотом, говорившим о водоворотах и скрытых течениях.
Алекс летел вперед бешеным галопом, мало обращая внимания на дорогу, так что ему пришлось круто натянуть поводья, когда до него донесся предостерегающий крик Нияза. Он спешился и с отчаянием посмотрел на бешеный водный поток.
Он прекрасно знал эту дорогу, и знал также, что пока вода не спадет, им ничего не остается делать, как ждать. Был другой путь в объезд, но пришлось бы сделать крюк в пятьдесят миль по труднопроходимой местности. В обычной ситуации ожидание спада воды оказывалось меньшей задержкой, но сейчас ситуация была далеко не обычной.
Нияз расспросил сонных обитателей близлежащей деревни и узнал, что мем-сахиб в карете, сопровождаемая сахибом на коне и несколькими слугами, проехала брод за полчаса до того, как он сделался непроходимым.
Алекс, с диким и страшным лицом, залитым лунным светом, снова вскочил в седло и, повернув на север, отправился в долгий путь к ближайшему мосту.
Полчаса спустя питон скользнул через узкую и малохоженную тропу перед копытами его лошади. Шалини неистово дернулась и нижняя ветка кикара ударила Алекса по раненой руке. Он вылетел из седла, ударился плечом о землю, и прежде чем удариться головой о придорожные камни, услыхал, как хрустнула его ключица. Затем он провалился в черноту.
Глава 24
Винтер забилась в угол кареты и закрыла глаза. Садившееся за горизонт солнце проникало под тяжелый кожаный капот кареты своим сверкающим золотым оком. Дорога была невероятно плохой. Колеса кареты попадали в ямы, с натугой выбирались из них и тут же попадали в другие. Каждый раз ее швыряло из стороны в сторону и ударяло о стенку кареты; в конце концов у нее заболела голова.
Она снова сказала себе, что едет к Конвею, и что через четыре дня, а может быть, и меньше, если дорога улучшится, она наконец соединится с ним. Не надо будет больше ждать. Не будет больше сомнений, страхов и одиночества. Но эта сказка стала потихоньку терять свое первоначальное очарование.
Когда они достигли брода, произошла первая задержка. Лошади заартачились перед бурлящей коричневой рекой, а возница напугался. Он принялся убеждать путешественников вернуться или подождать, пока спадет вода. На какое-то мгновение Винтер почувствовала радостное облегчение. Они должны вернуться! В следующий момент она, устыдившись своего малодушия, и, полная решимости, принялась настойчиво поддерживать стремление Карлиона пересечь реку.
Вид поднявшейся реки неприятно поразил Карлиона. Он и думать не хотел о возвращении в Дели. Испуганное выражение на лицах кучера и слуг привело его в ярость. В конце концов угрозы и обещания сделали свое дело, и они пересекли реку.
Устроив себе короткий отдых на другом берегу, они глядели на воду, постоянно прибывающую дюйм за дюймом.
— Никто больше не пересечет эту реку здесь в ближайшие дни, — сказал один крестьянин, пересекший реку вместе с ними.
Винтер посмотрела назад на бурлящую воду и подумала: «Назад пути нет. Теперь, что бы ни случилось, мы должны двигаться только вперед». Эта мысль странно напугала ее. Она не хотела возвращаться. Конечно же, она не хотела возвращаться! И все же теперь, если бы она и захотела, сделать это было уже невозможно. Бешеная разлившаяся река лежала между нею и Алексом. Алекс — она внутренне содрогнулась от мысли о нем, словно эта мысль затронула в ней что-то такое, чего она не хотела замечать. Она и думать об Алексе не хотела.
Дорога на другом берегу реки оказалась еще хуже, чем та, по которой они ехали из Дели, но Карлион вручил поводья своей лошади одному из слуг, а сам сел в карету к Винтер. Она мало говорила с ним с тех пор, как они тронулись в путь, потому что трудно поддерживать разговор с тем, кто едет на лошади рядом с каретой. Во время коротких остановок Карлион вел себя учтиво и сдержанно. Однако теперь, когда непроходимая река лежала позади них, в его поведении произошли заметные перемены. Или, может быть, ей показалось из-за того, что слишком устала за этот день?
Со времени той сцены, что произошла в доме Эбатнотов и была прервана появлением Алекса Рэнделла, Карлион избегал прямо смотреть на Винтер. Во всяком случае она больше не ощущала на себе медленного оценивающего взгляда, который так беспокоил ее на пути из Калькутты. Теперь же, когда у него отпала необходимость сдерживаться, всякий раз, когда она поднимала глаза, она видела напротив глаза, в упор глядевшие на нее.
Он говорил немного, и Винтер, находившая эту неопределенную тишину тревожной, всеми силами старалась поддерживать видимость беседы. Когда солнце село за деревьями и карета наполнилась сумраком, она попросила опустить капот, чтобы они могли подышать немного прохладным воздухом. Ощущая над собой открытое небо и постоянно находясь на глазах у слуг, она надеялась получить некоторое облегчение. Но Карлион, несмотря на то, что остановил карету и удовлетворил ее просьбу, спросил ее со смехом:
— Для чего вам это понадобилось? Вы что, опасаетесь того, на что я смогу решиться?
На этот вопрос невозможно было ответить, и Винтер собрала все свои силы, чтобы встретить его взгляд спокойно и с оттенком легкого презрения, которое только вызвало у него восхищение. Несмотря на всю ее молодость и неопытность, она не была похожа на эфемерную девицу, которая немедленно падала в обморок при любом проявлении мужской силы. Она будет стоящей женой. Его взгляд остановился на ней, выражая властное одобрение. У него мелькнула мысль, что нужно будет проверить, чтобы ни одна из лошадей не оставалась без присмотра и в пределах досягаемости. Впереди по дороге, на расстоянии нескольких миль должно было быть почтовое бунгало, которого они собирались достигнуть еще до наступления полной темноты. Хотя Винтер хотела бы продолжать ехать ночью, ему удалось убедить ее в нереальности этой идеи. Он объяснил, что лошади не смогут продолжать путь без отдыха и что сам он не собирается ехать дальше этого почтового бунгало.
Потоп, без сомнения, посланный самим Провидением, перекрыв дорогу позади них, решил, по крайней мере, одну проблему: он не был уверен в том, как отреагирует на известие об их побеге Алекс, а теперь ему уже незачем было оглядываться назад и прислушиваться, не раздастся ли позади стук копыт его лошади. И хотя почтовое бунгало вполне могло оказаться не лучшим, а может быть, даже и худшим, чем те, которые они уже встречали на своем долгом пути, это уже не столь важно. Они проведут короткий, предварительный медовый месяц под его крышей. Брачную ночь, которая опередит свадьбу на несколько дней. Если окружение окажется не слишком убогим, а брод останется таким же непроходимым, они могли бы даже задержаться там на несколько дней. Эти дни обещали стать поистине идиллическими, полными обладания любимым и желанным объектом, которого он домогался с таким усердием. Затем, когда река спадет, они вернутся в Дели и сыграют тихую мирную свадьбу, после которой немедленно уедут в Бомбей, где сядут на корабль, идущий в Англию.
Винтер, конечно, сперва испугается. И возможно, даже очень сильно, потому, что она, похоже, питает к этому Бартону романтическую детскую привязанность, которую она ошибочно принимает за любовь. Но в конце концов она отступит перед неизбежностью. У Карлиона существовали подозрения, что юная контесса обладает весьма незначительными познаниями относительно физиологического аспекта замужества. Что ж, тем легче она может оказаться в положении, после которого брак с другим мужчиной станет для нее практически невозможным. Он не испытывал сомнений по поводу того, что ему удастся заставить ее полюбить себя.
Он был несколько удивлен, обнаружив, что желает завоевать ее любовь почти также сильно, как и ее тело. Похоже, последнего будет несколько труднее достичь, потому что его нельзя взять силой. Но в конечном итоге он добьется своего. Слишком много женщин любили его, чтобы у него возникли какие-нибудь сомнения на этот счет.
Когда они достигли почтового бунгало, он с раздражением обнаружил, что кроме них еще какие-то путники ищут здесь пристанища на ночь, и, похоже, их было довольно много. Компания не входила в его расчеты. На мгновение ярость настолько овладела им, что он отдал безрассудное распоряжение двигаться дальше. Однако и лошади, и всадники порядком устали за день, а следующее почтовое бунгало находилось на расстоянии двенадцати миль от них. Так что, поколебавшись немного, он послал разузнать ситуацию своего носильщика из Калькутты, говорившего на довольно приличном английском для того, чтобы господин мог его понимать. Тот вскоре вернулся с сообщением, что путешественниками были всего лишь индийская леди и ее слуги. У них случилась поломка в пути, и они остановились для починки в этом почтовом бунгало. Кроме этой леди, постояльцев там было немного, так что свободных комнат для хозяина и белой мисс было предостаточно. Карлион, воспринимавший всех индусов вместе взятых с меньшим интересом, чем мебель в гостиной, испытал явное облегчение и помог Винтер выйти из кареты.
Это почтовое бунгало мало чем отличалось от других строений, уже попадавшихся им на пути. Оно стояло в стороне от дороги на огражденном пятачке земли рядом с большим нимовым деревом. Ограда представляла собой низкую каменную стену. С трех сторон к зданию была пристроена веранда. Внутри большие побеленные комнаты были практически лишены мебели. На полах лежали пыльные циновки, а белые муравьи проделали длинные тонкие, замысловатые по форме туннели из высохшей грязи на стенах и прогрызли себе путь сквозь всю немногочисленную мебель. Кровати были индийской работы, широкие и низкие, без каких-либо спинок в ногах или в головах; они выглядели довольно неуютно, но иногда, видимо, были способны обеспечить приятно проведенную ночь не только клопам.
У Винтер не было возможности захватить с собой какое-нибудь постельное белье, но Карлион уверил ее, что у него есть кое-что сносное для них обоих, и послал носильщика, которому дал строгие инструкции приготовить ее комнату. Они кое-как поужинали в общем зале бунгало, и когда луна поднялась высоко в небо, кто-то — повар сказал, что это мусульманская леди в дальней комнате на веранде — заиграл переливчатую мелодию на каком-то струнном инструменте.
Эта призрачно звучавшая мелодия была странно знакома Винтер. Она уже слышала ее когда-то раньше. Она очень устала. Ей хотелось уйти поскорее в свою комнату, где она, наконец-то, избавится от раздражающего взгляда Карлиона и необходимости казаться спокойной и собранной. Да и еда оказалась невкусной. Поэтому она очень скоро извинилась и ушла из-за стола. Выйдя на веранду, она увидела рут, крытую повозку с двумя отделениями, в которую была запряжена пара волов.
— Это принадлежало Бегам-сахиб, — ответил один из слуг в бунгало, отвечая на вопрос Винтер. — Она остановилась здесь только потому, что у нее сломалось колесо. Теперь починили. Она собирается заночевать в деревне, дальше по дороге. Она родом из Оуда и теперь возвращается домой.
Винтер повернулась и медленно пошла к двери своей комнаты. Ее широкие юбки мягко шуршали по пыльному каменному полу веранды.
«Я тоже из Оуда, — подумала она, — и тоже возвращаюсь домой».
Эта мысль воодушевила ее. Она обернулась и подала руку Карлиону, идущему за ней, поблагодарила его за помощь и компанию и пожелала ему спокойной ночи.
Карлион взял ее руку, но не отпустил. Он держал ее, сильно сжимая лихорадочно горячими пальцами, медленно поднимая к своим губам. Затем он поцеловал ее.
Это не был легкий галантный жест. Это был жадный страстный поцелуй, похожий на тот, каким он поцеловал ее однажды раньше, и который все дальнейшие события — нервный шок от известия, принесенного мистером Кэрролом, предательство Алекса, ее неистовое желание убежать к Конвею, — отбросили на задворки ее памяти. Она попыталась выдернуть руку, но он держал ее крепко, целуя снова и снова, впиваясь своим горячим, жадным поцелуем в ее прохладные губы. А когда он в конце концов поднял голову и посмотрел на нее, его глаза не были больше холодны. Они были столь же жаркими и ненасытными, как и его губы.
Он посмотрел на нее долгим взглядом, тяжело и прерывисто дыша. Щеки его заливал румянец, а глаза горели лихорадочным возбуждением, непонятным Винтер, и вместе с тем настолько сильным, что она содрогнулась всем телом и похолодела от охватившего ее первобытного страха, смутно понимая, что страсть, которую она разбудила, была уже ему неподвластна.
Она почувствовала отвращение и ярость, когда он поцеловал ее в гостиной Эбатнотов. Но страшно ей не было. Ей не пришло в голову пугаться, потому что это произошло среди бела дня, и повсюду было множество людей, которых она в случае чего могла позвать на помощь. Но теперь ей было по-настоящему страшно. Так страшно, что она на мгновение ощутила физическую боль от ощущения, которое затрепетало у нее где-то в желудке и разом высушило во рту. Наконец Карлион отпустил ее руку, и она быстро кинулась в открытую дверь своей комнаты.
Захлопнув за собой дверь, она налегла на нее всей тяжестью своего тела, в ужасе от мысли, что он может за ней последовать. Сердце бешено колотилось, зубы стучали, словно от холода. Когда же дрожащими руками она принялась искать задвижку, чтобы запереть дверь изнутри, она обнаружила только лишь пустую уключину. Задвижки на месте не оказалось.
Отсутствие задвижки вызвало в ней вторую волну болезненного ужаса. Она пробежала через всю комнату, спотыкаясь о корявые циновки, и зажгла масляную лампу, стоявшую на маленьком столике рядом с ее кроватью. Руки девушки тряслись, и ее широкий кринолин отбрасывал огромные, дрожащие тени на стены, когда она наклонилась, чтобы осмотреть то место, где должна была быть задвижка. Неровное пламя лампы ясно высвечивало те места, где были скобы, ее державшие. Так же ей стало ясно, что их убрали недавно…
Она смотрела на свое открытие несколько секунд, не в силах сдвинуться с места, болезненно размышляя про себя, сколько Карлион заплатил этому продажному носильщику из Калькутты за то, чтобы он убрал задвижку, и что этот человек подумал, получив такое распоряжение? Но столь явное доказательство его намерений неожиданно подтолкнуло ее к решительным действиям. Теперь она столкнулась не с абстрактным, а самым, что ни на есть конкретным злом. Выход был только один: ей следовало немедленно бежать. Во дворе есть лошади… Она может выйти через ванную комнату, затем через черный ход в конюшни. Там она сможет оседлать лошадь и ускакать на ней. Но она должна действовать быстро, потому что в любой момент дверь может отвориться, а ей нечего было и думать тягаться силой с Карлионом.
Винтер сняла с себя пышные верхние юбки в оборках, годные лишь для коротких прогулок в карете, и отвязала кринолин. Он шумно упал на пол. Она перешагнула через него, схватила дорожную сумку… чемодан придется оставить. Времени переодеваться не было, но без кринолина она сможет скакать верхом.
Внутренняя дверь ванной была заперта, ключа не было.
Паника охватила ее снова, но она поборола ее. Она выйдет через дверь на веранде. Другого пути нет, и ей казалось невозможным, что Карлион будет поджидать ее снаружи. Он будет оставаться в своей комнате до тех пор, пока не уедет индусская дама, а слуги в бунгало не отправятся спать. Он вряд ли предполагает, что она сбежит, ведь ей некуда бежать.
Эта мысль, пришедшая ей в голову, заставила ее остановиться. Ей, действительно, было некуда бежать. Дорога назад в Дели была перекрыта разлившимся бродом, а если она продолжит двигаться вперед, то не далеко сможет от него уйти. Вскоре он обнаружит, что она сбежала и отправится за ней в погоню. Ужаснувшая безнадежность положения сдавила горло. Она снова привалилась к двери спальни, дрожащая и ослабевшая.
Звук голосов и случайный смех донеслись до нее снаружи, и ее ухо различило позвякивание колокольчика, говорившее о том, что один из волов замотал головой. Другие путешественники, видимо, собирались уезжать. Ну, разумеется! Она попросит помощи у леди из Оуда. Конечно эта женщина не откажется помочь ей!
Винтер осторожно отворила дверь на веранду. Скрипнули петли, но веранда оказалась пуста. Огни факелов, масляных ламп и говорливая группа слуг окружала рут, а квадратное пятно света из окна дальней комнаты говорило о том, что индуска еще не ушла оттуда.
Винтер приподняла одной рукой свою длинную волочившуюся юбку, в другую взяла дорожную сумку, и побежала по озаренной лунным светом веранде.
Дверь не была заперта, она могла слышать доносившиеся из-за нее женские голоса. Глубоко вздохнув, она толкнула ее и вошла внутрь.
В комнате находились три женщины. Молодая и удивительно красивая женщина была одета в шелковую тунику и мусульманские штаны-шальвары замужней дамы. Две других, постарше, очевидно были ее служанками. Молодая женщина тихо вскрикнула от неожиданности при появлении в ее комнате незнакомки.
Винтер приложила палец к губам, призывая ее к молчанию, и заговорила мягким шепотом, объясняя, что она не стеснит их, если они окажутся так добры и возьмут ее с собой. Индийская девушка, которая не могла быть намного старше, чем Винтер, выслушала ее с широко раскрытыми от удивления глазами, и когда та закончила, захлопала в ладоши, как дитя.
— Но это же просто удивительно! — Она обернулась к служанке: — Разве это не удивительно? Услышать, что ферингхи говорит как одна из нас? Кто ты? Как твое имя?
— Винтер. Винтер де Баллестерос. Если Бегум Шагиба будет так добра…
— Что? Что ты сказала? — резко переспросила девушка. Она схватила масляную лампу, поднялась с пола и поднесла ее ближе к лицу Винтер.
Винтер сощурилась от яркого света, а девушка молча разглядывала ее, перемещая лампу так, чтобы свет от нее падал сперва на одну, а затем на другую половину лица Винтер. Отсветы пламени заиграли на ее черных кудрях.
— Так и есть! Точно! — сказала девушка. — Аллах Керимаст! Точно! Маленькая сестрица, разве ты не узнаешь меня?
— Я… не думаю… — тихо начала смущенная Винтер.
— Амира! Неужели ты не помнишь Амиру? Неужели ты забыла Гулаб-Махал и мою мать, Хуаниту Бегам, и сказки, которые нам рассказывали няни на крыше?
Старая служанка вдруг вытянула вперед руки с тихим возгласом.
— Айе! Айе! Это Чота Моти! Это Зобейда Баба, которую я нянчила малышкой!
Глаза Винтер расширились так, что стали похожи на темные озера на ее белом лице. Она посмотрела на старую женщину, а затем перевела взгляд на девушку, называвшую себя Амирой.
— Анн-Мари! — из глаз Винтер мгновенно брызнули слезы, и голос превратился в дрожащий шепот: — Анн-Мари!
Затем, довольно неожиданно, они оказались в объятиях друг друга, смеясь и плача, расходясь в стороны, чтобы посмотреть друг на друга, и обнимаясь снова.
Мягкий шелк, запах сандалового дерева, розовое масло, по-восточному неправильные гласные… Ощущения, звуки и запахи ее родного дома…
Внезапно сумятица, донесшаяся из-за двери, вернула Винтер назад к реальности, и она, разом отпрянув от своей подруги, стала прислушиваться, с явной тревогой на лице.
— Быстрей, Анн-Мари, быстрей! Возьми меня с собой. Если он обнаружит, что я ушла…
— Ш-ш! Ш-ш-ш! — прошептала Амира, дочь Хуаниты. — Сейчас мы уедем. Там во дворе мои слуги, и они тебя защитят.
— Нет! — поспешно сказала Винтер. — Драки быть не должно. У него есть пистолеты. Давай лучше побыстрее уедем, пока он еще не обнаружил, что в комнате меня нет.
— Как пожелаешь, — сказала Амира. — А по дороге ты мне расскажешь, кто этот ферингхи, который так тебя напугал. Может быть, ты убегаешь от своего мужа?
— Нет, это один человек, который… Анн-Мари, я не могу вот так туда выйти. Там огни, и слуги увидят, как я уезжаю. Нельзя ли подогнать рут поближе?
Амира засмеялась.
— Никто не увидит тебя, Маленькая Жемчужина — помнишь свое прозвище в зенана? — мы наденем на тебя боурка Хамиды. — Она схватила просторное длинное белое одеяние, лежавшее на полу, и надела его на Винтер. Это был зашитый со всех сторон мешкообразный плащ, который скрыл ее от головы до пят. Во всем одеянии была лишь единственная прорезь для верхней части лица, через которую его обладатель мог видеть, но не быть увиденным.
— Вот так, — сказала Амира тоном триумфатора. — Готово! Хамида закроет лицо своей чадрой, если почувствует, что ее красота не дает мужчинам прохода.
Старая служанка, которая нянчила Винтер в детстве, утерла слезы со своего лица.
— Я выйду через черный ход, чтобы слуги не заподозрили ничего неладного, увидев четырех женщин, выходящих отсюда, хотя вошли сюда только три.
— Прекрасная мысль, — сказала Амира, надевая свою боурка. — Ну, теперь идем. Мы готовы.
— Нет, подожди, — сказала неожиданно Винтер. — Я должна оставить записку. Если я этого не сделаю, он подумает, что я пропала, и будет искать меня по всей стране или пойдет в полицию. Он не может просто так оставить меня и возвратиться назад. Есть у тебя бумага и чернила?
— Бумага и чернила? Нет. Но Атия сейчас попросит немного у повара. Быстро, беги, Атия!
Амира подтолкнула женщину к выходу, и та умчалась, похожая на привидение, тут же вернулась, неся в руках мягкий лист местной бумаги, склянку с чернилами и перо.
Винтер откинула полы своего одеяния, обмакнула перо в чернильницу и принялась быстро писать. Амира держала для нее лампу. В записке она благодарила лорда Карлиона за его великодушную поддержку, но сообщала, что встретила родственницу, кузину, и что теперь ему не стоит утруждать себя заботой о ней. Волноваться о ней не стоит, потому что она будет в полной безопасности со своей родственницей, с которой она должна выехать немедленно.
Она подержала листок над лампой, чтобы быстрее высохли чернила. Ее руки дрожали от нервной спешки. Затем, сложив листок пополам, она попросила Атию отнести его в свою комнату, только сделать это нужно очень тихо, не привлекая ничьего внимания. Женщина снова выскользнула, а Винтер осталась дожидаться ее в лихорадочном нетерпении, замирая от страха. Наконец она вернулась, ободряюще посмеиваясь и неся в руке маленький чемодан:
— Не стоит оставлять его тут, — сказала Атия. — Мы накроем его чадрой, и никто ничего не заметит. — Они поспешили вниз по ступенькам веранды, вышли в ночь и через несколько секунд уже сидели в темной повозке с плотно задернутыми шторами. Снаружи раздался удивленный возглас слуги и гневный призыв Хамиды, залезавшей в повозку, сохранять молчание.
— Этот сын осла погубит все дело, — раздраженно проворчала она.
Слуга, вскрикнувший от удивления, увидев, что в повозку залезли четыре женщины вместо ожидаемых им трех, с тревогой осведомился, все ли в порядке.
— Все в порядке, Фатех Али, — отозвалась Амира. — Трогай, поехали, а то уже поздно.
Возница раскатисто крикнул, волы пошли вперед, и рут дернулся с места, швырнув Винтер на колени Амиры, и все неприятности, волнения и напряжение последних суток отпустили ее, и она разразилась в безудержном взрыве хохота. Она прижималась к Амире и смеялась, и Амира, и обе служанки принялись смеяться вместе с ней. Возница и четверо пожилых слуг, верхом сопровождавших повозку, удивленно переглянулись и тоже принялись одобрительно посмеиваться.
— А теперь, — сказала Амира, пытаясь отдышаться и утирая глаза уголком своей вуали, — расскажи мне все. Как ты сюда попала? Не замужем ли ты еще? И кто был этот ферингхи, от которого ты убежала?
Но ответа она не получила. Голова Винтер покоилась на ее плече, она уже успела заснуть.
Карлион дождался, когда улеглась суета, смолкли голоса отъезжавших и шум колес повозки затих в ночи. Он слышал, как повар и другие слуги почтового бунгало прошли через веранду, подождал, пока смолкли их голоса и голоса слуг в конюшнях, и дом погрузился в сон. Он не торопился, он мог позволить себе подождать.
Когда наконец наступила тишина, он оправил на себе длинный шелковый халат, провел рукой по волосам и, улыбаясь, вышел на пустую веранду. Свет все еще горел в комнате Винтер, и он вошел внутрь, слегка толкнув не закрытую на задвижку дверь. Войдя в пустую комнату, он решил, что Винтер, должно быть, находится в ванной; она явно готовилась ко сну, ее отстегнутый кринолин и верхние юбки лежали на полу. Он бесшумно затворил за собой дверь, прошел через всю комнату и, усевшись на кровать, стал ждать.
Спустя несколько минут, обеспокоенный необычной тишиной, он тревожно обвел взглядом комнату, и взгляд его упал на листок бумаги, на котором было написано его имя. Менее чем через минуту он уже был на веранде, выкрикивая распоряжения седлать лошадей, позвать слуг и принести побольше света.
Он наскоро оделся и пустился в погоню, но уже успел потерять достаточно времени и, кроме того, он не знал об узкой окольной дороге, которая вела в деревню, где Амира собиралась остановиться на ночь. На эту дорогу рут и сопровождающие свернули за пять минут до того, как он пронесся мимо в бешеном галопе.
Спустя час он вынужден был признать, что Винтер удалось сбежать от него. Он повернул назад, ярость в его душе сменилась тревогой о ее безопасности. С кем она уехала? Родственница? Каким образом могла она встретить здесь родственницу? Может быть, она все это спланировала заранее и знала, что ее тут кто-то встретит? Индийская леди из дальней комнаты не слишком занимала его мысли, ведь он не знал о Хуаните де Баллестерос, которая вышла замуж за Вали Дада из Оуда.
Напуганные слуги не смогли дать ему никакой информации, и он проклял свое незнание этого варварского языка и бездарность калькуттского носильщика как переводчика. Он направился к броду, надеясь, что записка Винтер была написана только для отвода глаз, а сама она на самом деле отправилась назад в Дели. Но брод уже успел превратиться в грозный бурлящий поток, и Карлион вернулся в почтовое бунгало, белый от ярости и окончательно убедившийся в том, что Винтер удалось его перехитрить. Там он провел два отвратительных дня, мучаясь от безделия и страдая от приступов ярости и скуки. На третий день утром, услышав, что вода в реке спала, он возвратился в Дели.
Винтер проснулась и обнаружила, что лежит в замысловатом пятне солнечного света, проникшего в комнату сквозь резной деревянный ставень. На ней все еще было помятое утреннее платье из балзарина, в котором она уехала из дома Эбатнотов в Дели… Как давно это было? Ей казалось, что с тех пор прошли века; она оказалась совсем в другом мире.
Откинув легкое хлопковое покрывало, под которым спала, вытянула руки над головой. Она лежала на чарпои, низкой кровати с резными и раскрашенными ножками, в маленькой комнате, стены которой были выкрашены в веселый розовый цвет, а пол устилали тростниковые циновки. Кроме чарпои и циновок, другой мебели в комнате не было, и перед мысленным взором Винтер снова встало видение ее комнаты в Уэйре, с ее хаотично расставленной, громоздкой мебелью, темными обоями и гравюрами в тяжелых рамах. Разительный контраст заставил ее громко рассмеяться. Тотчас же в комнате послышалось шуршание шелков. Это появилась Амира. Она подошла к чарпои и, улыбаясь, посмотрела на Винтер.
— Мы не хотели будить тебя, — сказала Амира, — но солнце уже высоко, и если не хочешь пропустить дневную прогулку, скорее вставай.
Винтер быстро вскочила с постели и тут же наступила на подол своего помятого платья. Она упала бы на пол, если бы ее не подхватила вовремя подоспевшая Амира.
— Tenga cuidado! — воскликнула Амира, неожиданно переходя на испанский. — Почему ты носишь одежду, в которой невозможно ходить?
— Мой кринолин, — воскликнула Винтер, горестно глядя на свои волочащиеся по полу юбки. — Я сняла его и думаю, что он все еще на полу там, в почтовом бунгало.
Позабыв о более важных делах, она принялась объяснять заинтересованной Амире принцип устройства кринолина.
— Он держит юбки, понимаешь. Вот так.
— Как шатер! — воскликнула Амира. — Но это же должно быть очень забавно. Как в нем можно сидеть или проходить в двери?
Винтер продемонстрировала ей, как это можно делать, и Амира расхохоталась.
— Но неужели ты действительно ни разу в жизни не видела ни одной подобной штуки? — удивленно спросила Винтер. — Разве в Оуде нет европейских женщин?
Смеющееся лицо Амиры помрачнело.
— Да, — сказала она медленно, — здесь есть европейские женщины, но я не встречаюсь с ними.
— Но твоя мать?
— Моя мать умерла, — сказала Амира. — Разве ты не знала?
— Нет. Прости. Она писала нам, а затем перестала, и это все, что я знаю.
— Она умерла в год холеры, от которой в Лакноу умерло более пятисот человек за один день, — сказала Амира. — Ai de me! В Гулаб-Махале ты встретишь теперь немногих, кто помнит тебя.
— Но ты все еще говоришь по-испански, — сказала Винтер.
— Как видишь. Но теперь уже плохо. Мы пользовались им в детстве. Сейчас я мало говорю на нем, потому что моего мужа… моего мужа мало интересуют ферингхи и их обычаи.
— Твоего мужа! Так ты, значит, замужем?
— Конечно, — ответила удивленная Амира. — Я замужем уже пять лет. Неужели у тебя еще нет мужа?
Винтер засмеялась.
— Ты привезла меня на мою свадьбу!
Амира по-детски захлопала в ладоши.
— Правда? В таком случае это еще один повод поторопиться. Ты все должна мне рассказать, но сперва нужно поесть, и еще необходимо подыскать тебе одежду. Ты не можешь путешествовать в таком виде.
Она подбежала к двери и отдала кому-то ряд распоряжений. И почти сразу же Винтер была умыта, накормлена и одета в один из элегантных костюмов Амиры шумными, любопытными служанками.
— Зобейда хорошо заботилась, — одобрительно сказала Хамида, расчесывая тяжелые шелковые волны волос, достававших Винтер почти до колен. — Они мягче и тоньше, и даже длиннее, чем у Амиры Бегам. Неужели Зобейда уже не живет в этом мире, раз ее нет теперь с тобой?
Винтер кивнула, и Хамида вздохнула:
— Хай май! Все мы становимся старыми. Стой спокойно, дитя, пока я заплетаю. Мне не потребуется шерсть черной овцы, чтобы удлинять твою косу.
Ее ловкие коричневые пальцы заплели шелковые пряди в две толстые косы, перевитые цветными лентами.
— Ну, скажи, не правда ли, этот наряд гораздо удобнее твоего шатра из проволоки и рыбьих костей? — спросила Амира. — Такой я помню тебя, когда мы играли вместе на женской половине в Гулаб-Махале.
Теперь, когда обе женщины были одеты одинаково в свободные туники и вуали из тончайшего шабнама из Дакки, обе с иссиня-черными волосами, заплетенными в косы до колен, родство между ними стало очевидным.
Винтер, дочь Маркоса, более хрупкого сложения, как ее мать Сабрина, была не такой высокой, как Амира. Но глаза у них были одинаковыми; это были глаза де Баллестеросов, темно-карие, но не черные, огромные, влажные и прекрасные. Глаза нежной марокканской девушки, которая в глубине веков стала женой рыцаря Кастильи. У них обеих были маленькие, вздернутые носы и брови, похожие на ласточкины крылья. На этом их сходство заканчивалось.
Лицо дочери Хуаниты было нешироким, заостренным к подбородку, как и у Винтер, но в нем не было ее серьезности и выступающих, четко очерченных скул. Лицо Амиры было гладким, смеющимся, и хотя ее губы были такими же алыми, как у Винтер, они напоминали скорее плод граната, чем цветущую розу, а ее темно-золотистая кожа контрастировала с нежной, цвета слоновой кости, кожей Винтер, казавшейся рядом с ней совершенно белой.
Она была старше Винтер менее чем на два года, но благодаря примеси восточной крови уже окончательно созрела, обрела настоящую цветущую женственность, и ей можно было бы дать на десять лет больше, если бы в ее глазах, в ямочках на щеках и в уголках маленького, красиво очерченного рта не плясал постоянно веселый, беззаботный смех.
Винтер, чья жизнь в Уэйре была бедна весельем, посмотрела на радостные глаза Амиры и ощутила, как неожиданно прошло все ее напряжение. К ней вернулось хорошее настроение и появилось необычное для нее желание выбежать на солнце, закричать во все горло и играть весь день в какие-нибудь глупые игры. Смеяться ради самой радости смеха, наверстать упущенное за все долгие годы одиночества в Уэйре.
— Боурка для невесты! — провозгласила Амира. — Моя маленькая кузина выходит замуж, и мы не можем позволить посторонним мужчинам разглядывать ее мимоходом.
И они вместе весело засмеялись смехом, похожим на птичий щебет, и выбежали в открытые двери женской половины.
Это путешествие было, наверное, самым счастливым временем, которое Винтер де Баллестерос, отправлявшаяся на свою свадьбу, знала с тех давних дней, проведенных ею в Гулаб-Махале. Рядом с ней была подруга ее далекого детства, и снова к ней вернулось все тепло и счастье тех давно прошедших дней, воспоминания о которых она хранила с помощью Зобейды, они были единственным, что доставляло радость все предыдущие годы жизни в холодной Англии. Она рассказала Амире обо всем, что произошло с ней за эти годы, и в ответ услышала все новости о Гулаб-Махале.
Как и сказала Амира, во Дворце роз мало осталось тех, кто помнил Маленькую Жемчужину. Холера собрала там богатый урожай. Дазим, сын брата старого Али Шаха, молодой и красивый мужчина, заглядывавшийся на белолицую Сабрину, теперь стал джентльменом средних лет, а его жена, язвительная и сварливая женщина родом из Файзабада — на смеющимся лице Амиры появилось насмешливое выражение — была главой в доме, хотя Дазим приобрел еще двух младших жен и теперь владел тремя, разрешенными Пророком.
Сестра Амиры, малышка, которая родилась в роковой январь, видевший отступление из Кабула и разрушительный конец первой афганской войны, тоже умерла от холеры, но ее брат, который родился в тот же год, что и Винтер, был теперь молодым человеком, почти достигшим восемнадцатилетнего возраста.
— Совершенно дикий юнец, — сказала Амира, качая головой. — Но он еще так молод. Жизнь его еще всему научит. Сейчас он готов пойти на любые безумства и легко подпадет под влияние плохих компаний. Но это пройдет.
Амира вышла замуж за своего троюродного брата Валаят Шаха, маленького князька, который занимал одну из многочисленных наследственных и весьма доходных синекур при распутном дворе короля Оуда. Аннексия лишила его места и средств к существованию, и он со всей семьей перебрался жить в Гулаб-Махал. Потеря власти и привилегий ожесточила Валаят Шаха против англичан, так что будет лучше, объяснила Амира с сожалением, если Винтер пока не будет посещать Гулаб-Махал. Мужчины подвержены внезапным порывам горячности и гнева. Они менее терпеливы, чем женщины, и хотя она сама считает действия Компании несправедливыми, — разве не было больше никого из королевской семьи, чтобы заменить Ваджида Али, если он был нечестен? — она все же рада была снова вернуться в Гулаб-Махал, и у нее нет желания жечь и убивать в отместку. Она не слыхала ничего хорошего о Ваджиде Али за время его правления, и теперь, когда он был низвергнут, она не видела большого смысла в кровопролитии ради того, чтобы восстановить его на троне. Ей нужно думать о безопасности своих детей, и ради них она вполне согласна жить тихо и мирно в Гулаб-Махале при любом правительстве, способном сохранить в стране порядок.
— Твои дети? — воскликнула Винтер, переключаясь с политических проблем на личные. — У тебя есть дети? Как замечательно. И сколько?
— У меня два сына, — гордо сказала Амира. — Одному четыре года, а другому три. — Они были оставлены на попечение матери ее мужа, пока она сама ездила на свадьбу к ближайшим родственникам. Она взяла бы их с собой, но мать мужа запретила ей это, остерегаясь, чтобы с ними ничего не случилось в пути. Теперь она никак не может дождаться, когда снова их увидит.
— Три недели! Я не видела их три недели — а мне они показались тремя годами. Если бы я могла прожить в разлуке с ними еще какое-то время, я бы осталась здесь на твою свадьбу, Маленькая Жемчужина. Когда ты будешь замужем и у тебя появятся собственные сыновья, ты поймешь, что я чувствую сейчас.
Путь Амиры лежал через Лунджор и далее, через лодочный мост, но когда пять дней спустя они приблизились к окрестностям города, она не захотела въезжать в город, остановила рут и послала слуг нанять экипаж.
— Я подумала, — с нежностью в голосе сказала Амира, — что будет лучше, если ты появишься у своего жениха без сопровождения родственницы другой расы. Я слышала, что среди белых людей есть такие, которым это не нравится. Но мы встретимся снова. Мы обязательно встретимся снова! А теперь, чтобы не оставлять тебя одну, Хамида поедет с тобой. Нет, нет, мы обо всем договорились вчера вечером, пока ты спала. Тебе не пристало показываться своему будущему мужу без сопровождения женщины. А если он даст тебе другую, Хамида сможет возвратиться ко мне.
Две молодые женщины обнялись, и Хамида, собрав свои и вещи Винтер, вслед за ней вылезла из повозки. В следующий момент ярко разукрашенная рут вместе с ее верховым эскортом двинулась вдоль длинной дороги, скрытой под сенью деревьев. Тонкая рука коротко махнула им из-за украшенных вышивкой занавесок, и Амира исчезла.
Винтер, переодетая в амазонку сдержанной расцветки, стояла со слезами на глазах на обочине дороги, глядя на пыльное облако, скрывшее рут, пока Хамида, раздраженная назойливыми деревенскими жителями, останавливавшимися поглядеть на диковинную мем-сахиб, подтолкнула ее поскорей в наемный экипаж.
Под палящим дневным солнцем они поехали в направлении военного городка, и вскоре впереди показалась длинная белая дорога, обсаженная по краям деревьями и высокой травой. Спустя еще некоторое время они достигли больших замковых ворот из выбеленных временем камней, достаточно широких, чтобы пропустить навьюченного слона. Ворота были расцвечены огненными цветами бугенвиллеи, которая взбегала по стенам с обеих сторон, свисая живописной массой с парапета. Под этой самой цветущей аркой восемнадцать лет назад проехала Сабрина Грантам, контесса де лос Агвиларес, приехавшая погостить в резиденцию своего дяди, где теперь его племянник Конвей Бартон был специальным уполномоченным.
Глава 25
Дочь Сабрины смотрела не на ворота, а вперед, на длинную дорогу, ведущую к высокому одноэтажному дому, который должен был стать и ее домом. Наконец-то она доехала. Конвей был здесь и совсем скоро должен был стать ее мужем.
Экипаж остановился возле каменного крыльца, обрамленного вьющимися растениями, и изумленный чуппрасси[47] открыл рот при виде девушки в облегающей амазонке. Слуги из резиденции уже много месяцев знали о предстоящей женитьбе их хозяина, но ожидали невесту не раньше, чем через две недели, и несколько человек, собравшихся посмотреть на нее, теперь взволнованно перешептывались.
— Да, — осторожно согласился Дурга Чаран, главный чуппрасси, взволнованно поправляя свой тюрбан, — комиссар-сахиб дома, не он никого не может видеть, он слишком болен, чтобы принимать посетителей.
— Я знаю, — сказала Винтер. — Поэтому я и приехала. Я хочу немедленно увидеть сахиба. Проводите меня в его комнату.
Главный чуппрасси, пораженный этой юной мисс-сахиб, показавшей такое неожиданное знание его родного языка, тщетно пытался остановить ее: Винтер проскользнула мимо него прямо в широкий холл.
В спальне Конвея было темно из-за задернутых штор. В комнате стоял неприятный запах, а кроме того, здесь находилась какая-то женщина. Полная индианка, одетая в яркий разноцветный муслин, сидела, скорчившись на полу, рядом с кроватью и махала пальмовым опахалом. Женщина вскинула голову, испуганная неожиданным появлением Винтер, и поднялась на ноги, зазвенев браслетами на щиколотках. Она была толстой и не первой молодости, но все же ее нельзя было назвать некрасивой. Она жевала пан[48], и его запах в сочетании с ароматом мускуса, исходящим от женщины, почти заглушил все остальные запахи. Она не очень походила на сиделку и встретила Винтер с негодованием и враждебностью, ее угольно-черные глаза казались огромными на пухлом смуглом лице.
— Сахиб нездоров, — сказала женщина пронзительным сердитым голосом. — Он не может никого видеть. Никого!
— Он увидит меня, — возразила Винтер и прошла мимо нее к постели.
Лежащий на кровати застонал, заворчал и заворочался, потом произнес хриплым голосом:
— Что такое? В чем дело? Заткнись, грязная…
Человек перевернулся на спину и застонал громче, Винтер взглянула на опухшее, неузнаваемое лицо. Был ли это — мог ли это быть Конвей? Она ожидала увидеть измученного, изможденного, возможно, даже поседевшего человека-скелета, иссушенного лихорадкой, но это одутловатое лицо, желтое в скудном освещении затемненной комнаты, было полной неожиданностью. Спертый воздух и зловонное дыхание заставили ее отшатнуться. Они просто накачали его бренди! Наверняка, это не самое лучшее средство от лихорадки.
Неожиданно ей вспомнились слова мистера Кэррола: «Раздувающая лихорадка». Ну, конечно! Поэтому-то Конвей и выглядел таким опухшим и грузным. Неудивительно, что ему не хотелось, чтобы она видела его в таком состоянии. Разумеется, он был прав, ведь он не знал ее достаточно хорошо, чтобы верить в ее преданность ему, он боялся эффекта, который мог на нее произвести его внешний вид. Любовь и жалость захлестнули ее, и глаза наполнились слезами сострадания. Она наклонилась к нему и положила свою прохладную руку ему на лоб.
Конвей заворчал и с усилием открыл глаза. Он долго всматривался в ее лицо, пытаясь задержать на ней свой взгляд. Должно быть, он слишком перебрал вчера, или это еще действует опиум? Боже, что у него с головой! Язык распух, словно пыльный матрас. У него и раньше бывали видения, какие-то чудовища, ползущие и прыгающие. Но только не женщины. Не молодые и прекрасные женщины. Нет, это не из-за бренди. Наверняка, опиум. Это существо говорило. Ему хотелось, чтобы она замолчала и исчезла. Ему нравились женщины, но только не с похмелья. В такие моменты любой звук отдавался в голове нестерпимой болью…
— …Винтер. Конвей, это Винтер. Конвей, дорогой, ты не узнаешь меня? Почему ты не сказал, что заболел? Я приехала ухаживать за тобой. Скоро ты поправишься, дорогой. Конвей, это я, Винтер. Дорогой, я здесь…
Спустя какое-то время, смысл ее слов стал доходить до него… Винтер! Значит, это не бренди и не опиум. Это было то создание, на котором он собирался жениться. Уродливое, худое, темноглазое существо из Уэйра. Она здесь! Как она здесь оказалась? Конечно, на него не могла так подействовать попойка, чтобы он пролежал без сознания несколько недель. Едва ли. Впрочем, какая разница? Девушка здесь. Надо избавиться от нее. Сейчас его стошнит и все на этом закончится. Надо от нее избавиться…
Его рвало. Сильно. Но в перерыве он с удивлением обнаружил, что она придерживает его голову и омывает лоб холодной водой, шепча ласковые слова и убеждая, что скоро он поправится. Ясмин, оцепеневшая от ярости, начала было протестовать, но Конвей медленно повернул голову — он не мог обратить на нее взгляда — и произнес краткое и злое приказание удалиться.
Маленькие прохладные руки положили его голову обратно на подушку, и он лежал с закрытыми глазами, пытаясь думать, смутно сознавая происшедшую катастрофу и необходимость предпринять какие-то действия. Он слегка приоткрыл глаза, всматриваясь в нее из-под отекших полузакрытых век, и хрипло сказал:
— Не ожидал тебя. Хорошо, что ты приехала. Позови, пожалуйста, Исмаила. Моего носильщика.
Дородный носильщик, топтавшийся за дверью среди перешептывающейся и любопытствующей толпы слуг, поспешил к своему хозяину и после коротких переговоров повернулся к Винтер и низко поклонился в приветствии. Если мисс-сахиб последует за ним, он покажет ее комнату и принесет освежающие напитки. Хузур[49] приказал Исмаилу прислуживать ему.
— Иди с ним, — с усилием произнес Конвей. — Можешь прийти позже.
Когда дверь за ней закрылась, он вылез из постели и дотащился до ванной. Вода в глиняном гурра[50] была холодной после ночи, он зачерпнул кувшином и вылил его себе на голову и плечи, вздрагивая от прикосновения холодной воды к разгоряченному потному телу. Вернувшийся Исмаил предложил различные проверенные снадобья, и комиссар, стеная и прихрамывая, добрался обратно в спальню, тяжело рухнул в кресло и потребовал бренди.
— Горячее молоко от опиума лучше, — посоветовал мимоходом Исмаил.
— Ну, так смешай их вместе. Побыстрее! И скажи Ясмин не покидать своих комнат.
Он выпил смесь горячего молока и бренди и, почувствовав себя значительно лучше, потребовал у слуги объяснений, как здесь оказалась его будущая жена. Исмаил все слышал со слов тех, кто видел приезд мисс-сахиб, а также от айи[51], которую мисс-сахиб привезла с собой.
Конвей слушал в полудреме, отупевший и мучимый приступами тошноты и бессильного гнева. Проклятая девчонка! Как это ей взбрело в голову? Просто неслыханно! Все испорчено. Он никогда не позволил бы такому случиться. У него были намерения организовать свадьбу через час-два после прибытия невесты, чтобы не дать ей передумать. А она так неожиданно возникла, одна, нашла его страдающим после попойки, в доме, пропахшем благовониями, сандалом и духами пяти девушек-танцовщиц из города, которые, включая Ясмину, развлекали его гостей на холостяцкой вечеринке, устроенной им накануне. И как она могла свалиться ему на голову? А, может, до нее дошли некоторые слухи и ей хотелось застать его врасплох?
— Мисс-сахиб, прослышав, что Хузур страдает от болезни, поспешила прибыть из Дели, чтобы ухаживать за ним, — сказал Исмаил, перестилая кровать.
Болезнь. Она, кажется, тоже так говорила. Ну, конечно же! Такое невинное создание не могло вообразить себе последствий пьянки. Она подумала, что он страдает от какой-то серьезной болезни.
Выход из создавшегося положения открылся ему с такой удивительной ясностью, что он рассмеялся бы вслух, если бы это не было так болезненно. Она была здесь одна, без сопровождения. В Лунджоре у нее не было знакомых, а остаться на ночь в его доме, не будучи его женой, она не могла. В конце концов все пройдет гладко и легко. Он пошлет за падре и объяснит причину: чтобы сохранить репутацию юной невесты, свадьбу нужно устроить немедленно, и пока узелок не завяжется, он будет делать вид, что действительно болеет. Все складывалось как нельзя лучше!
Воодушевленный и оживленный этой перспективой, он снова прилег на кровать и приказал Исмаилу немедленно послать записку падре-сахибу с просьбой сразу же приехать, и еще одну — полковнику Маулсену с пожеланием видеть его.
— И пришли мне брадобрея, убери в комнате, открой все окна и проветри немного… нет, не отдергивай шторы, черный ублюдок! И не пускай сюда мисс-сахиб, слышишь? Скажи ей, что я сплю или в ванной, — что угодно. Но только держи ее подальше. А теперь убирайся!
Падре, стройный молодой человек, подслеповатый и страдающий от начинающейся малярии, пытался вникнуть в объяснения по поводу неожиданного приезда молодой контессы и возникшей в связи с этим щекотливой ситуации. В конце концов мучаясь от озноба, он согласился, что скорейшее бракосочетание — лучшее разрешение проблемы, и поскольку жених, к несчастью, занемог, церемония будет проведена в доме. Он сделает все необходимые приготовления, но комиссару нужно представить двух свидетелей.
Три часа спустя, в прохладной, полутемной гостиной дочь Сабрины уже стояла перед импровизированным алтарем между зажженными свечами и обвенчалась с племянником Эмили и Эбенезера.
Она привезла с собой подвенечное платье, но не надела его, потому что некому было придерживать его длинный шлейф, и не было никакого желания объяснять в этих обстоятельствах, почему она без кринолина. Вместо этого на ней была та самая светло-серая амазонка, в которой она приехала, а в руках букетик белого жасмина, росшего возле крыльца. Хамида воткнула цветки жасмина в ее черные волосы и, набрасывая прозрачную фату ей на голову, поморщилась, заметив, что белая фата подходит больше вдовам, а не невестам.
С Хамидой было непросто. Она понятия не имела об обычаях и традициях сахиб-лог[52], но слуги комиссара, как она заметила, за его спиной не выказывали особого к нему почтения, а полчаса пребывания в резиденции не оставили никаких иллюзий в отношении женщины, занимавшей биби-гур — маленький, уединенный домик, расположенный позади главного здания и скрытый от глаз зарослями пойнсеттии и перечных деревьев.
Когда-то для сахибов не было ничего зазорного в том, чтобы поселять индийских женщин в своих поместьях, и было время, когда такая практика даже прощалась. И не только потому, что отсутствие белых женщин заставляло мужчин общаться с проститутками и даже иметь морганатических жен и любовниц из числа местных жительниц, просто близкое общение с такими женщинами давало им более полное представление о стране и лучшее понимание людей, находящихся под их командованием. Многие женились на индусках, а леди Уилер, жена британского генерала, командующего в Каунпуре, была индуской из очень хорошей семьи. Но с появлением белых женщин в стране такие связи становились редкими, и Хамида считала, что из уважения к своей невесте комиссар-сахиб должен был отправить содержанок из биби-гура еще до ее приезда. Хамида с подозрением отнеслась к создавшейся ситуации и с первого взгляда невзлюбила слуг комиссара, которых посчитала развязными и дерзкими.
Но если у Хамиды и были какие-то претензии, Винтер волновало лишь здоровье Конвея, и она была встревожена, услышав о его намерении покинуть постель ради церемонии. Безусловно, человек, который так долго был болен, не должен вставать и находиться на ногах даже короткое время. А вдруг приступ повторится? Однако Конвей заверил, что ее неожиданный приезд уже явился для него приятным сюрпризом, который так благотворно подействовал на его душевное здоровье, что он чувствует себя новым человеком, поэтому такое радостное событие никак не может повредить ему.
Весь этот разговор происходил в затемненной спальне с задернутыми шторами, защищающими от яркого солнца. Преподобный Юстас Чиллингхэм, который так же присутствовал, был удивлен, узнав, что комиссар сильно болен, поскольку ничего не слышал об этом, но он и сам плохо себя чувствовал, чтобы уделять этому факту слишком большое внимание.
Винтер не видела Конвея до тех пор, пока не прибыл полковник Маулсен, чтобы проводить ее в гостиную. Вид полковника, который ей никогда не нравился и которого после инцидента, происшедшего в ночь отплытия «Сириуса» из Александрии, она по-настоящему невзлюбила, неприятно поразил ее. Она забыла, что он тоже будет в Лунджоре, и хотя знала, что он знаком с Конвеем, не ожидала, что настолько близко, чтобы вести ее к алтарю. Пусть бы ее вел под венец кто угодно, но не полковник Маулсен, и не Алекс.
На мгновение у нее перед глазами возникло его лицо, такое реальное и негодующее, словно он действительно встал между ней и полковником Маулсеном; Алекс лгал ей и пытался помешать ей выйти замуж за Конвея. С другой стороны, Конвей знал, что она встречалась с полковником, но он предпочел, чтобы ее вел именно он, а не какой-нибудь незнакомец. Он не думал, что она скорее предпочла бы незнакомца.
Винтер посмотрела на полковника Маулсена, ее бледные щеки покрылись румянцем, глаза засверкали, но в них мелькнуло какое-то испуганное выражение; она видела не его, а только старый знакомый образ Конвея, золотоволосого, голубоглазого, с начищенным оружием, видела его стоящим между ней, кузиной Джулией и несчастьем.
Эта картина не исчезала, когда она смотрела сквозь дымку своей фаты на грузного стареющего мужчину с блеклыми выпуклыми глазами, седеющими волосами и вялым, искривленным ртом, его руки так сильно дрожали, что он с большим трудом сумел надеть кольцо на ее палец.
Ничего в этом одутловатом человеке не осталось знакомого; но это был Конвей, и он был болен. Так сильно болен, что не хотел, чтобы она видела, как эта болезнь изменила его. Это лишний раз доказывало его любовь к ней и его доброту. Перемены, которые она видела, были чисто внешними, но теперь она здесь, чтобы заботиться и опекать его, и вскоре он выздоровеет и станет сильным, как прежде. Она посмотрела на кольцо, которое было слишком велико для ее пальца, как и то, первое, которое он когда-то дал ей, и ее глаза неожиданно наполнились счастливыми слезами.
Сквозь пелену этих слез и белую пену фаты она повернулась и взглянула на своего жениха, и за его спиной увидела еще одну женщину, — молодую, стройную и белокурую, с огромными темными глазами, в необычном одеянии. Но это была лишь игра света, проникавшего через деревянные жалюзи; смахнув слезы, она никого не увидела, кроме полковника Маулсена, майора Моттишэма, преподобного Юстаса Чиллингхэма (его подслеповатые глаза блестели от высокой температуры) и Конвея Бартона, ставшего только что ее мужем.
Но всего через полчаса здесь собралось много народу, слуги принесли огромное количество шампанского.
Преподобный Чиллингхэм ушел сразу же после церемонии, но, к огорчению Винтер, Конвей отказался вернуться в постель.
— Постель? Глупости! Никогда не чувствовал себя лучше. Я же сказал, что иду на поправку. Не каждый день приходится жениться. Я разослал приглашения некоторым своим друзьям, и скоро они приедут. Им хочется взглянуть на невесту. Теперь ты жена комиссара, дорогая. Тебе придется научиться исполнять обязанности хозяйки дома. Выпей шампанского. Отличное средство, чтобы развеселиться. У нас тут прекрасные погреба. Эй, Рассел, принеси еще бутылку!
Он поднял тост за Винтер и окинул ее одобрительным взглядом. В промежутке между болью, тошнотой и страхом, что ее неожиданный приезд может в результате лишить его надежды на ее состояние, ему удалось слегка ее разглядеть. Теперь же, ликующий и ощущающий себя в безопасности, он достойно оценил свою невесту и решил, что судьба была к нему несомненно благосклонна.
Кто мог поверить, что тот простенький, с круглыми, как у совы, глазенками ребенок, которого он в последний раз видел шесть лет назад, превратится в такую красотку? Она в общем-то была не в его вкусе (в Индии и так полно черноволосых женщин, а что касается европейских женщин, он предпочитал блондинок и покрупнее), но достаточно хороша. Глаза были просто великолепны и, если он что-то понимает в женщинах, то этот рот обещал очень приятную брачную ночь. И если облегающая амазонка не врет, то ему вообще не на что жаловаться.
— Фред рассказывал мне, что ты превратилась в настоящую красавицу, — сказал комиссар. — И, клянусь Богом, он был прав! Богачка и к тому же красавица — да я просто счастливчик! — Он обнял Винтер за тонкую талию и сжал ее, при этом шампанское выплеснулось через край бокала прямо на его жилет.
— Конвей, пожалуйста, сядь, — заволновалась Винтер. — Ты еще недостаточно окреп. Полковник Маулсен, прошу вас, уговорите его лечь в постель.
— Уговорить его лечь в постель? — воскликнул полковник Маулсен, смешивающий шампанское с бренди и опрокинувший в себя три бокала один за другим. — Вам не составит труда затащить его туда! Во всяком случае, будь я на его месте, меня трудно было бы вытащить оттуда!
Винтер не вполне поняла намек, но хриплый смех, сопровождающий сказанное заставил ее покраснеть, она содрогнулась от отвращения. Но Конвей только рассмеялся и сказал:
— Всему свое время, Фред, всему свое время!
Тут начали прибывать экипажи и всадники, и вскоре комната оказалась наполненной шумными незнакомцами.
Их было не так уж много — возможно, всего около дюжины, — и в их числе всего две женщины, но Винтер показалось, что гостей гораздо больше. Шум, громкий смех и поздравления, любопытные оценивающие взгляды и откровенное одобрение мужчин смущали и тревожили ее, а женщины не показались ей особенно симпатичными, чтобы заводить с ними знакомство. В их присутствии она чувствовала себя очень скованно. Она видела, что все они очень хорошо знают Конвея, поскольку обращались к нему — как и все мужчины, присутствующие в комнате, — просто по имени, поэтому Винтер было трудно решить, кто чей муж.
Миссис Уилкинсон была маленькая, полненькая и симпатичная, и не скрывала, что пользовалась румянами. На ее руках звенело огромное количество браслетов; она душилась крепкой фиалковой эссенцией, смеялась высоким пронзительным смехом и закатывала при этом глаза.
Миссис Коттар, в противоположность миссис Уилкинсон, была некрасивая, высокая, худощавая, рыжеволосая, с зелеными глазами. Но одета она была с большим вкусом, хотя несколько старомодно, и, похоже, очень нравилась мужчинам. Ее замечания постоянно встречались взрывами смеха и аплодисментами, но Винтер мало что могла расслышать, а то, что ей удалось разобрать, не казалось смешным, и она не могла понять, почему так веселились мужчины, аплодируя словам миссис Коттар и называя ее просто «Лу».
Сама Винтер стояла молча, с маленькой вежливой улыбкой, застывшей на губах, и с тревогой смотрела на Конвея. Один раз, когда особенно громкий взрыв смеха прозвучал вслед за шуткой миссис Коттар, он заметил, что его невеста не принимает участия в общем веселье, и повысив голос, потребовал, чтобы она была попроще.
— Ей не долго такой оставаться, только не в твоем обществе, Кон, — заметил полковник Маулсен, икнув.
— Черт тебя побери, Фред, — запротестовал жених, и весело добавил: — Но я бы сказал, что ты не далек от истины.
— Ты не сможешь сразу перейти на молоко и воду после стольких лет шампанского и местного бренди, — заявил полковник. — Для тебя это совершенно не годится.
— Но тогда, думаю, он перестанет так гордиться своим винным подвалом, — негромко заметила миссис Коттар.
Снова раздался общий смех, Конвей рассмеялся, а миссис Коттар перевела взгляд с жениха на невесту, и на ее лице выразилось недоумение.
У Люси Коттар был язвительный ум, она не испытывала особой любви к представительницам своего пола; ее отношение к большинству из них выражалось активным неприятием, поскольку, несмотря на недостаток у нее красоты, многие мужчины находили ее привлекательной, остроумной, и миссис Коттар нравилось играть с огнем, особенно когда дело касалось чужих мужей. Но что-то в потупленном взоре Винтер вызвало у нее на мгновение угрызения совести.
— Кон, — тихо произнесла миссис Коттар. — Ты не должен был поступать так, это бесчестно.
— Что бесчестно? — потребовал объяснений мистер Бартон.
— Ты сам. Что могло заставить семью этой малютки прислать ее к тебе? Это же не лучше изнасилования. Разве они тебя плохо знают?
— Я все сделал для того, чтобы они ничего обо мне не узнали! — воскликнул мистер Бартон и расхохотался. Он чувствовал себя победителем. Все кончено, все ожидания, вся работа. Он женился на целом состоянии. Он был богатым человеком. Богатым и умным! Он все это спланировал, и план ему удался. Просто гений!
Миссис Коттар, испытывая чувство стыда за Бартона, отошла от него и обратилась к его жене:
— Вы, должно быть, чувствуете себя очень одиноко — слишком много не знакомых вам людей. Но вскоре вы со всеми познакомитесь. Хотя в Лунджоре и не особенно весело. Мы стараемся из всех сил, но если вы ожидали жизни, подобной той, что ведут в Калькутте или Дели, боюсь, что вы будете разочарованы.
— О, нет, я и не ожидала ничего подобного, — поспешила заверить ее Винтер. — И я знаю, что Конвей — мистер Бартон — будет слишком загружен работой, как только поправится, чтобы часто развлекаться.
— Так он был болен? — с некоторым удивлением переспросила Коттар. — Я и не знала. Правда, я с неделю не видела его. Знаете, это очень необычно, потому что мы очень часто встречаемся. Ваш муж каждый вторник организует маленькую вечеринку для своих друзей, а знаете как это приятно во время жаркого сезона! Невыносимо мучиться целыми днями из-за жары, сидя дома, а у Конвея такой прохладный дом. На прошлой неделе у меня был приступ мигрени и я не смогла прийти, хотя Джош и пошел, — эгоистичный тип.
Она заметила, что Винтер смотрит на нее с нескрываемым удивлением, и пояснила:
— Джош, Джошуа, это мой муж. Тот большой темноволосый человек возле двери. — Она махнула веером в направлении двери.
— Но… но Конвей, мистер Бартон, был болен с… с прошлого августа, — медленно произнесла Винтер, словно с трудом выговаривая слова.
— Болен? Неужели! Это он вам сказал? Так он пошутил. Возможно, он имел в виду, что заболел любовью.
— Но мистер Кэролл сказал мне…
— Кэролл? Вы имеете в виду Джека Кэролла? Значит, вы знакомы с ним? О, просто он хотел сказать, что, когда Джек в последний раз был здесь, Кон устраивал одну из своих холостяцких пирушек, и все они на следующее утро пребывали в сильнейшей меланхолии. Я знаю это от Джоша! И предупредила, что в следующий раз, когда он вернется с подобной пьянки, будет спать на веранде. Боюсь, что наши мужчины будут очень тосковать без этих вечеринок, после того как Кон женился, но, надеюсь, вы не будете нарушать наши еженедельные встречи по вторникам? Мы играем в карты. Ставки не очень большие, но достаточные, чтобы заставить поволноваться. А вы играете?
— Нет, — ответила Винтер, — нет, я никогда…
— Мы обязательно научим вас. И вам нечего бояться, что Кон будет слишком занят по работе, чтобы устраивать для нас эти небольшие развлечения. Он же самое ленивое создание на свете, мы и сами говорим ему об этом. Он позволяет малышу Алексу Рэнделлу выполнять за него всю работу, а сам лишь снимает пенки. Шокирует, правда, Кон?
— Понятия не имею, о чем вы, Лу, волшебница. Но я готов быть шокирован, — сказал мистер Бартон, подходя к ним. — В чем дело? Новый скандал?
— Напротив. Старый. Я говорила о вас. Рассказывала вашей жене, что вы позволяете Алексу Рэнделлу выполнять всю работу, а сами пользуетесь результатами.
— Что же в этом шокирующего? — удивился мистер Бартон. — Рэнделлу нравится работать. Работа для него — смысл жизни. Имеет особый вкус. Я был бы круглым дураком, если бы делал сам то, что за меня может сделать другой человек. У меня есть способ получше проводить время. Но этот Алекс — брррр! Холодный, словно лягушка.
— Нет, это не так, — губы миссис Коттар растянулись в улыбке. — В этом вы не правы, Кон.
— Ха! Не прав? Полагаюсь на ваше компетентное мнение. Надеюсь, вы судите по собственному опыту, Лу?
— Увы, нет.
— Это означает, вы пытались испробовать свои чары на нем, а?
— Естественно. Любая женщина сделала бы то же самое. Но он не смешивает бизнес и удовольствие, а Лунджор — это бизнес. Такая жалость.
— Не для меня, — сказал комиссар, протягивая свой стакан подобострастному хидматгару[53], чтобы вновь его наполнить. — Он свое время отдает бизнесу, а я — удовольствиям. Очень удобное разделение труда, Лу, любовь моя, — он сделал большой глоток и посмотрел в побелевшее неподвижное лицо своей жены, — не надо забывать, что теперь я женатый человек. Должен следить за собой, а не ходить по краю, правда, Лу? Э… э, дорогая? — Он приподнял пальцем подбородок своей жены и одновременно плеснул бренди ей на платье.
Оставшаяся часть вечера показалась Винтер сплошным кошмаром, ужасным, лихорадочным сном, состоящим из неразберихи, шума, звона бокалов, за которыми она не могла расслышать ни единого слова. Она сидела на диване, выпрямив спину, высоко подняв голову, с застывшей вежливой улыбкой на губах. Она отвечала, когда к ней обращались, но собственный голос казался ей чужим.
Солнце село, и комната наполнилась тенями. Были зажжены лампы и свечи, а жалюзи подняты, чтобы впустить в дом прохладный ночной воздух, но шум не смолкал, и никто из гостей еще не собирался уходить. Много часов спустя — или так ей показалось — в большой столовой накрыли стол, и Винтер села рядом со своим мужем во главе стола, такая же бледная, с сухими глазами, пытаясь заставить себя есть. Тосты и спичи произносились все более заплетающимися языками, а она по-прежнему сидела, погруженная в странный транс, ее тело превратилось в какой-то отдельно существующий объект, а мозг прекратил свою работу. Она пробудилась наконец, когда кто-то коснулся ее руки, повернулась и увидела миссис Коттар.
— Простите меня, дорогая миссис Бартон, но я вижу, что вы еще не привыкли к роли хозяйки дома, и мы ждем, чтобы вы покинули стол, — объяснила миссис Коттар. — Если мы не дадим нашим мужчинам побыстрее перейти к портвейну, никто из нас сегодня не доберется до кровати.
Гости начали расходиться в полночь, да и то благодаря майору Моттишэму, второму свидетелю на свадебной церемонии, который, вдруг вспомнив, что это был прием по случаю свадьбы, а не просто очередная попойка, произнес короткую и путаную речь, полную различных намеков, и в завершение послал всех собравшихся к черту.
Винтер стояла на ступеньках крыльца рядом со своим мужем, виснущем на ней, и на ее лице оставалась застывшая улыбка, пока скрип колес экипажей и стук копыт не замер в отдалении.
Сад был залит лунным светом, и в гостиной слуги собирали бокалы, вытряхивали пепельницы, выключали лампы и задували свечи.
— Что ж, может, у нас была и не вполне официальная свадьба, — вымолвил Конвей. — Но у нас, конечно же, будет и большое празднование. Ведь женюсь-то я не каждый день, так давайте веселиться! Есть, пить и жениться! Вот и все, правда, дорогуша?
Он ожидал ответа, и Винтер сказала лишенным всякого выражения голосом:
— Я очень устала. Думаю, если ты не возражаешь, я пойду в постель.
— Верно. Иди в постель. Я не заставлю тебя ждать! — Он оглушительно рассмеялся, Винтер повернулась и медленно, нетвердым шагом направилась в свою комнату, словно это она, а не Конвей, была пьяной.
Хамида уже ждала ее, и вид бледного лица и затуманенных глаз девушки напугал ее. Но Винтер не обратила внимания на ее слова, она едва слышала их. Она позволила раздеть себя, выкупать и уложить в постель, словно она была даже не ребенком, а большой куклой. Ее мир — выдуманный мир, который она создавала годами, планировала, ожидала и жила в нем — рушился вокруг нее, но она даже не могла об этом думать.
По крайней мере, сейчас хоть было тихо. Шум, сумятица, бессмысленные разговоры, непонятные жесты, взрывы смеха и звон бокалов прекратились, и она оказалась в одиночестве; сейчас даже Хамида ушла. Теперь, возможно, она снова обретет способность мыслить — сможет поплакать, чтобы облегчить ужасную боль, от которой разрывается сердце. И вдруг дверь отворилась. На пороге стоял Конвей.
Винтер резко села, натягивая на себя простыни, тупо удивляясь, почему он здесь и что он хочет сказать ей так поздно ночью. Она не обратила внимания на смысл последних его слов и в головокружительном кошмаре этого чудовищного свадебного торжества совершенно забыла, что женатые люди делят одну постель. Она глупо смотрела, как он приближается к ней, слегка покачиваясь, ставит свечку на прикроватный столик и начинает снимать халат. И вдруг совершенно неожиданно оцепенение сменилось паникой и ужасом.
Этот человек — этот грузный, отвратительный, пьяный незнакомец — собирается лечь с ней в одну постель. Лечь рядом с ней — возможно, коснуться ее — поцеловать ее! Она натянула простыни до самого подбородка, а лицо превратилось в одни огромные глаза, полные ужаса.
— Уходи! Прошу тебя, немедленно уходи! — Ее голос был хриплым от страха и отвращения. — Ты не можешь спать здесь сегодня. Уходи!
Конвей одобрительно хохотнул.
— А ты — скромница, моя маленькая девственница? Так и должно быть. Но ты теперь моя жена. — Он посмотрел на нее, его налитые кровью глаза вспыхнули огнем, который она уже видела однажды. Такой же огонь пылал во взоре Карлиона.
— Боже, ты еще и красавица! — произнес он с некоторым оттенком благоговения. — Конечно, ради такого состояния я женился бы и на уродине, но заполучить в придачу еще и красотку…
Он протянул было руку и коснулся ее черных распущенных волос, но Винтер оттолкнула его с яростью и ужасом.
— Не прикасайся ко мне! Не смей меня трогать!
Конвей повалился к ней на кровать, но она отбросила простыни в сторону и выскочила из нее, охваченная той же отчаянной паникой, которую испытала, когда Карлион смотрел на нее, стоя у дверей ее комнаты на постоялом дворе за рекой. Но цепкие руки ее мужа крепко держали ее за волосы, он притянул их и с жестокостью намотал на руку так, что она упала назад и оказалась в западне. И на этот раз сбежать было невозможно…
Глава 26
Нияз резко обернулся, услышав за спиной хруст веток и последовавший за ним стук падающего тела. Но Алекс был сильным и здоровым мужчиной, и Нияз надеялся на лучшее. Убедившись в том, что ранения не опасны, он расстегнул одежду Алекса, вправил ключицу, закрепив ее своим размотанным пуггари[54], и приказал Шалини скакать обратно в маленькую деревню, мимо которой они недавно проезжали, чтобы достать носилки и найти людей, способных их нести. Час спустя Алекс уже был устроен в хижине деревенского вождя и с помощью старухи-знахарки обложен различными лекарственными травами.
Однако в сознание он пришел лишь после восхода солнца, но весь день, пока Нияз удерживал его, не давая встать, чтобы лишний раз не травмировать руку и плечо, он бредил; иногда по-английски, иногда на хинди или пушту. Увещевал строителей, проложивших дорогу через дикую и неосвоенную территорию; выкрикивал команды кавалерии; перешептывался с хавилдаром[55], погибшим восемь лет назад, когда они ползли под покровом темноты, собираясь атаковать форт; дискутировал на философские темы с муллой у подножия Хоти Мардана, спорил с комиссаром Лунджора, излагая взгляды на политику, призывая к действиям, терпеливо разъясняя необходимость проведения реформ.
Один раз он заговорил на незнакомом языке. Странная фраза, которую он дважды повторил, звучала так: «Kogo Bog zakhochet pogubut, togo sperva lishit razuma». Нияз не знал, ни того, что Алекс говорил по-русски, ни что означали эти слова, ни что именно их произнес Григорий Спарков в залитом лунным светом саду на Мальте.
Алекс ворочался на постели, бормотал что-то о Канвае и белых козах, об акулах и жертвоприношениях, о глупости дураков, которые не хотят ни видеть, ни слышать, ни понимать. Но ближе к закату он затих и лежал неподвижно, разговаривая с Винтер чуть слышно хриплым, усталым голосом.
Нияз спал, растянувшись на земле рядом с низкой чарпой[56], на которой лежал Алекс; он касался ее плечом и мог в любой момент проснуться, когда старуха, скорчившаяся на дальнем конце кровати, время от времени подносила странный травяной отвар к пересохшим губам Алекса, прислушиваясь к бесконечному неразличимому бормотанию, понимая каким-то женским чутьем, что сахиб разговаривал с женщиной…
Через сутки раненый полностью пришел в себя и почувствовал страшную головную боль. Он ничего не помнил о прошедших нескольких неделях, последним его воспоминанием была перевернувшаяся дак-гари по пути из Калькутты. Он предположил, что был ранен во время этого инцидента, и поинтересовался, что произошло с его попутчиком, тем мрачным майором.
Нияз, обнаруживший провал в его памяти, не собирался восстанавливать ее, так как инстинкт подсказывал ему, что как только Алекс вспомнит о цели своей поездки, он немедленно отправится в путь, не дожидаясь полного выздоровления. Но поскольку спешить в Лунджор особой необходимости не было и пока Алекс считает себя пострадавшим в результате той поездки, его можно уговорить задержаться здесь и тихо полежать. Лекарства знахарки тоже помогали в этом. Алекс, испытывая боль, послушно выпивал отвары и спал; разбуженный запахом горячего кизяка и пропеченной солнцем земли, ароматами масалы и кардамона, всеми знакомыми звуками и запахами индийской деревни, он улыбался Ниязу, выпивал смесь из трав и горячего молока, которую тот предлагал ему, и снова засыпал.
Только на утро шестого дня, разбуженный первыми яркими лучами солнца и скрипом колодезного ворота, он вспомнил Дели и все, случилось там. Некоторое время он вспоминал, сколько же дней пролетело с тех пор, как он поскакал в погоню за Винтер и Карлионом, и, вспомнив, оперся на здоровую руку и принялся ругать Нияза за то, что тот позволил ему валяться здесь, за то, что тот пичкал его наркотиками, а не посадил на лошадь и не отвез его обратно в Лунджор или Дели.
— Если бы я это сделал, вы никогда бы не выздоровели, — спокойно сказал Нияз.
— Седлай лошадей. Мы сейчас же едем.
— В Дели?
— В Лунджор.
Нияз покачал головой.
— Если мы выедем сегодня, вы сможете проскакать две коссы, может быть, три, но не больше. Подождите здесь еще пару дней, а я поеду в Дели за Латифом и нашим багажом. Я послал записку Фрейзеру сахибу в Дели, а также Бартону сахибу, что с вами произошел несчастный случай и ваш приезд откладывается. Нет никакой необходимости скакать в Дели и обратно. Я поеду, а завтра, если вернусь вовремя, мы отправимся в Лунджор.
— Мы выезжаем сегодня же, через час, — сказал Алекс.
Нияз задумчиво посмотрел на него и нерешительно произнес:
— Я отправил человека к броду за новостями. Река спала три дня назад, лорд-сахиб и нукер-лог[57] вернулись с экипажем и лошадьми. Они поехали в Дели.
Алекс долго думал. Потом спросил:
— Была ли с ним леди-сахиб?
— Нет. Но тот человек разговаривал с одним из сайсов[58], и тот сказал, что она по дороге встретилась с друзьями и поехала вместе с ними в Лунджор.
Алекс медленно лег на свою плетеную кровать и уставился в закопченный потолок. Он молчал так долго, что Нияз в конце концов откашлялся и весело сказал:
— Так мы едем сегодня?
— Нет, — Алекс прикрыл глаза и заговорил, не глядя на него: — Я подожду здесь. Доставь багаж из Дели, — он повернулся на правый бок, лицом к стене и больше не разговаривал.
Нияза не было два дня, и это дало Алексу много времени для раздумий. Его плечо все еще болело, как и голова, но сонливость исчезла. Он больше не стал пить старухины отвары, и ум его прояснился. Был момент, когда ему захотелось вернуться в Дели и потребовать от лорда Карлиона объяснений, но пятиминутное размышление убедило его в бесполезности этой затеи. У него не было ни малейшего права призвать Карлиона к ответу, а на полковника Эбатнота нельзя было рассчитывать. Что же до Винтер, то, если она действительно по дороге встретилась с друзьями, она прибыла в Лунджор уже несколько дней назад, и что-либо менять было уже поздно. К этому времени она уже наверняка узнала, что за человек этот Конвей Бартон, и, возможно, постарается остаться у друзей, пока не сможет вернуться в Англию.
Другое дело, хотел ли он, чтобы сна возвращалась? Но у него не было никакого желания задумываться над этим. Он не мог позволить себе такой роскоши — в условиях Индии, находясь на службе в армии, заводить семью: пострадает то или другое. Те жены, которые жили в условиях жаркого климата на равнинах, оставались рядом со своими мужьями, старились раньше времени, а их отъезд в горы означал месяцы разлуки. И дети были менее желанными из-за постоянных волнений. Ходсон потерял в прошлом году своего единственного и любимого ребенка, вся Индия была усеяна детскими могилами.
Когда-нибудь, когда улучшатся условия жизни, а железные дороги и шоссе свяжут провинции со штатами, все может измениться. Но в нынешней ситуации, считал Алекс, брака следует избегать.
Винтер… Если бы он снова ее увидел, то попытался бы остановить ее, не дать вернуться в Англию… или отпустил бы? Всего неделю назад он был бы рад ее отъезду. Но это было до того, как он поцеловал ее. Он целовал и других женщин, легко или страстно, и тут же забывал их. Но до сих пор он ощущал ее теплую, стройную фигурку в своих объятиях, и то, как она, казалось, сливалась с ним и даже стала частью его, каждый ее нерв, биение пульса, вздох и стук сердца принадлежали ему.
Рассудок мог обманывать ее, рисуя красивые картины, державшие ее в плену последние шесть лет, и мысли ее были о будущей любви к Конвею; но собственное тело предало ее.
Закрыв глаза, Алекс мысленно представил себе юное лицо, темные глаза, в которых застыло смятение: только что они сияли надеждой и счастьем, а в следующее мгновение стали такими испуганными и разгневанными. Она научилась управлять своим лицом. Годами носить маску достоинства, спокойствия и самообладания. Научилась гордо держать голову, не сгибать спину и прятать одиночество, надежду и боль. Возможно, со временем она научится управлять и своими глазами, если только счастье и чувство безопасности не уберегут ее от этой печальной необходимости. Но он, Алекс, не был тем человеком, который мог гарантировать ей это.
Лучше ей отправиться домой, и поскорее. Он больше не увидит ее, да и, насколько он мог догадываться, она наверняка уже уехала из Лунджора. Ему следовало бы категорически отказаться от мысли везти ее в эту страну. И все же, если бы он заспорил с комиссаром… Снова он оказался в проклятом тупике.
Вступить в прямой конфликт с комиссаром означал бы его перевод на какой-нибудь незначительный пост, где он не смог бы принести ни вреда, ни особой пользы, а для Алекса, ученика и последователя Генри Лоуренса, необходимость выполнять нужную работу имела жизненный смысл.
Официальные власти в лице лорда Долхаузи не согласились с умеренностью и гуманностью сэра Генри и удалили его из Пенджаба, передав управление в более твердые руки его брата Джона, предпочитавшего силу убеждениям. И Алекс знал, что комиссар Лунджора, предоставленный сам себе или заручившийся помощью человека с меньшим пониманием проблем района, сможет объединить местных талукдаров[59] и мелких землевладельцев безо всякой надежды на их сотрудничество, а лишь под давлением силы.
Мысли о Винтер были вытеснены более насущными, о проблемах, связанных с управлением маленькой частью Индии, чье благосостояние входило в сферу его обязанностей.
«Почему, черт возьми, — думал раздраженно Алекс, — Губернаторский совет не направил Лоуренса в Оуд? Только он смог бы там все уладить по справедливости и без обид. Если бы он командовал там хотя бы год, ему удалось бы сохранить там спокойствие, даже если бы вся остальная Индия бушевала вокруг. Сейчас в Оуде чума, а Лунджор граничит непосредственно с ним…»
По вечерам загорались костры для приготовления ужина; вождь и некоторые деревенские старейшины, узнав, что он уже вполне оправился, собирались около его двери, курили свои хукахи[60] и беседовали.
Подобные разговоры о проблемах деревенской жизни Алекс слышал уже много раз. Сбор урожая, пересохший колодец, ущерб, нанесенный оленями и дикими свиньями, потери урожая в результате сильных муссонов, спор о свадебном выкупе — половина которого еще не была уплачена — и острые вопросы, касающиеся гражданских прав. Это была Индия, которую он знал и любил и которую понимал, насколько это доступно европейцу, работающему в Индии.
Для Алекса Индия ассоциировалась с землей. Крестьяне и скотоводы, сотни тысяч маленьких бедных деревенских общин, чья жизнь нисколько не изменилась за века, прошедшие после Александра Македонского, пытавшегося завоевать неизвестную землю, оказавшуюся очень древней в сравнении с юной Грецией. Города ему не понравились — для него они означали сосредоточение всех пороков Востока, и он никогда не мог проехать через них, не испытав при этом ужаса, жалости или отчаяния.
Алекс никак не мог, в отличие от многих своих сограждан, примириться с видом грязи, болезней и черствого равнодушия окружающих к страдающему человеку или животному. Голые, голодные, рахитичные ребятишки бедняков, с кривыми ножками, раздутыми животами и больными глазами, облепленными мухами; больные калеки, вымаливающие себе кусок хлеба; безносые, безглазые прокаженные, бродящие в огромном количестве по узким улочкам, — все они казались ему оскорблением в глазах Бога и в какой-то степени лежащими на его совести. Едва ли менее чудовищным в его глазах был вид бессловесных животных, голодающих, больных или изувеченных, обрекаемых на медленную смерть и агонию, потому что никто не брал на себя грех лишать их жизни.
Города служили рассадником не только грязи, но и пороков. Убийства и проституция, воровство и жульничество, нетерпимость и ненависть, болтовня, пустые разговоры и демагогия, редко имеющие связь с реальными делами и являющиеся ядом, смущающим сердца и души доверчивых, оборачивающиеся в святые дни кровавыми столкновениями между сектами и последователями разных богов. Разговоры, никогда не носившие созидательного характера, проповедующие лишь разрушение, могущие разжечь истерию со скоростью крутящегося веретена… Но в деревнях было мало болтунов, работа на земле занимала большую часть их времени и жизни.
Пахота, сев, прополка и полив не могли ждать, пока люди вдоволь наедятся и наслушаются сладкоречивых болтунов, обещавших утопию на следующий же день, если какой-то класс или секта, вероучение или цвет будут уничтожены. Впрочем, в деревнях были свои недостатки. Архаичные методы возделывания земли за тысячи лет совсем не изменились. Люди не учились лучшему и не хотели этого. То, что было хорошо для их отцов, было достаточно и для них, поэтому они всегда жили с угрозой голода за спиной. Но они усердно трудились и были добрыми людьми, и Алекс выслушивал их и чувствовал себя более умиротворенным и расслабленным, чем в течение многих дней до этого.
Они спрашивали его мнения и считались с ним, и он неожиданно для себя выступил в роли судьи, разрешив горячий спор — кто является владельцем коровы, разделивший деревню на два враждующих лагеря еще несколько недель назад.
Его решение было встречено с одобрением, а деревенский вождь, проникнув к нему уважением, попросил разрешить более личную проблему. Подобная проблема вряд ли могла возникнуть в западном обществе, но Алекс уже слышал о подобном, поэтому внимательно его выслушал и дал вождю подходящий совет. Затем разговор перешел на тему богословия (длинный, пространный спор, который так любят вести азиаты); он продолжался до тех пор, пока вождь не заметил, что Алекс устал, тогда он распустил собрание, выразив надежду, что его гость как следует насладится ночным отдыхом и к утру будет свеж и бодр, и с этими словами удалился в темноту.
На следующий вечер их разговор состоялся вновь, но в этот раз Алекс сидел под открытым ночным небом, усыпанным звездами, на нагревшейся за день земле под огромным деревом ним, где жители деревни обычно встречались, как встречаются члены клуба, для обсуждения своих дневных дел.
Благодаря хорошему уходу Нияза, ключица Алекса быстро заживала, и, не считая слабой головной боли, последствия контузии постепенно проходили. Ему не терпелось тронуться в путь — в Лунджоре начинался спор за землю, ему хотелось урегулировать его с минимальным вмешательством комиссара, и Нияз, наблюдавший за ним со стороны, тактично вызвал его с собрания, сказав, что им необходимо как следует выспаться, так как утром предстоит длительная поездка верхом.
Они выехали прохладным ранним утром после завтра, приготовленного женой вождя; сам вождь и некоторые деревенские жители проводили их с милю по дороге.
— Если так необходимо, чтобы землей управляли ферингхи, — заметил вождь, глядя вслед всадникам, скрывшимся между высокой травой и деревьями кикар, — они должны посылать нам таких вот людей, а не дураков, вроде того толстого сахиба, проезжавшего здесь в прошлом году и привозившего с собой злобного негодяя из Дели, чтобы тот говорил за него, потому что господин не считал нужным понимать наш язык и нашу жизнь.
Алекс завершил оставшуюся часть пути более легко, чем предполагал, но все же чувствовал сильную усталость после долгих часов, проведенных в седле; а Винтер была уже почти неделю замужем к тому моменту, когда он скакал по длинной пыльной дороге, ведущей мимо резиденции к его собственному дому.
Его освещенное бунгало было приятно прохладным после жарких, пыльных дорог, и Алам Дин, совмещающий обязанности дворецкого и носильщика, предупрежденный Ниязом, уже успел приготовить ужин. Алекс проскакал в тот день не менее тридцати миль, но буквально выбился из сил и сердился на себя за это. Он собирался отправиться прямо в постель и просто оповестить комиссара о своем приезде, отложив доклад до следующего утра, но мистер Бартон прислал к нему человека, передавшего, что господин желает его видеть этим же вечером.
Алам Дин, прислуживая за столом, упомянул о свадьбе комиссара — она вызвала значительный интерес в Лунджоре — и одобрительно высказался, что в резиденции наконец-то появилась мем-сахиб, но Алекс отвечал невпопад, не воспринимая ни одного сказанного слова. Алам Дин отличался разговорчивостью, а мыслями Алекс был далеко.
Уже при свете звезд он подошел к резиденции и остановился под темной аркой ворот поговорить с Акбар Ханом, привратником, поднявшимся при его появлении. Оранжевый свет маленькой масляной лампы делал его фигуру с длинной бородой, в белом халате, похожей на какого-то пророка из Ветхого Завета. До этого он с кем-то переговаривался, потому что чуткое ухо Алекса уловило почти неразличимое журчание голосов, но никого не увидел. Маленькая каменная ниша в толще ворот, где Акбар Хан проводил большую часть времени, стоя на посту, была темной, и привратник стоял, загородив собой вход.
Акбар Хан низко склонился в приветствии, выразив сожаление, что с Хузуром произошел несчастный случай, и надежду на то, что теперь он полностью поправился. Но его глаза при свете лампы избегали встречаться с глазами Алекса и, казалось, ему не терпится, чтобы тот поскорее прошел в ворота. Догадавшись об этом, Алекс стал тянуть время, говоря о всяких пустяках и раздумывая, кто мог прятаться в темноте за спиной Акбар Хана. Не было никакой причины, запрещавшей ему говорить с посетившим его приятелем. Возможно, это была какая-то женщина из дома. И все же…
В воздухе он уловил тонкий знакомый запах. Запах, явно отличавшийся от смеси пыли и политой земли, камней, буггенвиллеи, горячего лампового масла и дешевого табака в трубке, которую курил Акбар Хан. Это был зловонный, почти животный запах, исходивший от немытого человеческого тела и напомнивший Алексу запах обнаженных, вымазанных золой байраги[61] в подземелье Канвая. Он прищурился и тихо произнес:
— Кто там сидит так неподвижно? Заставь его выйти.
Выражение лица Акбар Хана не изменилось, но теперь глаза его перестали бегать. Он прямо посмотрел в глаза Алекса и заговорил с просительной интонацией:
— Это моя жена, Хузур. Она принесла мне немного масла для лампы и услышала, что вы приближаетесь, поэтому она спряталась внутри, потому что там темно и она может обойтись без чадры.
Алекс внимательно посмотрел на него. Инстинкт и тот почти неуловимый неприятный запах подсказывали ему, что привратник лжет. Но если он ошибся и это действительно жена Акбар Хана, прячущаяся в темноте, то заставлять ее выйти на свет с непокрытой головой означало бы нажить неприятности.
— Скажи… жене, — мрачно произнес Алекс, — что выходить с открытым лицом, даже под покровом ночи, неразумно, ведь кто-нибудь, кроме меня, сможет ее увидеть. И рассказать об этом.
Предупреждение и угроза не скрылись от Акбар Хана, его глаза на мгновение стрельнули по сторонам, он снова низко поклонился, словно соглашаясь, и Алекс прошел в ворота, вспоминая о Канвае и о том, как примерно год назад он стал свидетелем любопытного сборища под деревом баньян. Мусульмане (Акбар Хан был мусульманином-фанатиком) не общаются с индусскими святыми… И все же человек с ястребиным лицом, обращавшийся к собранию в Канвае, был одновременно мусульманином и муллой. Алекс остановился на темной подъездной дорожке и хотел было повернуться и пойти назад, но решил лучше идти к дому, и подымаясь по ступенькам крыльца и быстрым шагом направляясь в приемную комиссара, он продолжал в задумчивости морщиться и качать головой.
Большая комната была ярко освещена и пуста, но в ней чувствовалось что-то необычное. Здесь больше не царил хаос, так знакомый ему. Обстановка разительно изменилась: комната была чисто прибрана, и в ней было не меньше трех ваз с цветами. Алекс рассеянно взглянул на букеты оранжевых лилий и желтого жасмина, все еще думая об Акбар Хане, когда дверь в дальнем конце комнаты распахнулась, он поднял голову и увидел Винтер.
Ему следовало бы приготовиться к возможной встрече, но он был совершенно не готов. Он был абсолютно уверен, что с ее молодостью, характером и смелостью она не позволит обстоятельствам заставить ее выйти замуж, увидя Конвея. Конечно, он предполагал, что она может все еще оставаться в Лунджоре, но он считал более вероятным, что те друзья, с которыми она встретилась в дороге — возможно, друзья по Уэйру или знакомые сэра Эбенезера? — уже помогли ей вернуться к Эбатнотам или в Калькутту, и он мог быть только благодарен им за это. То, что она могла выйти замуж за такого пропойцу и гуляку, было просто невероятно, невозможно. Поэтому он не был готов ни к тому, что увидит ее вновь, ни к тому, какой эффект на него произведет эта встреча.
Винтер не знала о возвращении Алекса. Конвей не счел нужным сообщить ей об этом, и она не представляла, что вообще когда-нибудь снова увидит его. Зная, что ее муж сидит за бутылкой вина с двумя своими приятелями, она проскользнула в приемную через боковую дверь, чтобы взять ножницы, оставленные там вечером. Она открыла дверь и увидела Алекса…
Они стояли неподвижно, глядя друг на друга; лица были бледными, а широко раскрытые глаза полны недоверия и изумления. В приемной висели массивные часы из мрамора с позолотой. Их маятник качался взад-вперед, отсчитывая секунды в полной тишине, и его тиканье, нарастая, становилось все громче и громче. Алекс, словно слепой, протянул руку и нащупал спинку стула, и Винтер заметила, как сжавшиеся костяшки пальцев побелели, а на лбу выступили бисеринки пота.
Ее собственные пальцы отчаянно вцепились в дверную ручку, пока она боролась с приступом стыда и отчаяния, сходными с теми, что она испытала в брачную ночь. Алекс сказал ей правду о Конвее, а она не поверила ему. Он сделал все, что мог, чтобы она не попала в эту ловушку в зыбучих песках, в которую завела ее собственная глупость и упрямое нежелание слышать, и ей было совершенно невыносимо видеть сейчас его.
Алекс хрипло произнес:
— Вы вышли за него?
— Да, — едва слышно прошептала она.
— Почему?
Винтер не ответила, но слегка качнула головой с беспомощным выражением, которое было скорее не отказом отвечать, а означало полную безнадежность.
Что-то в этом маленьком жесте отчаяния вызвало у Алекса невыносимую боль, почти физическую, словно он коснулся раскаленного железа.
— Вы сделали это, потому что вам больше ничего не оставалось? Вы могли бы… — Он запнулся, осознавая всю бесполезность расспросов. Какое значение имели теперь все эти «зачем» и «почему»? Дело сделано. Его рука, все еще сжимавшая спинку стула, разжалась и безвольно опустилась. Голова раскалывалась, и ему трудно было стоять выпрямившись. Он заговорил неожиданно официальным тоном, создававшим впечатление, что он немного пьян:
— Думаю, должен выразить вам свои поздравления. Вы извинитесь за меня перед своим мужем? Он посылал за мной, но у меня был тяжелый день и, уверен, он простит меня, если я отложу свой доклад до утра. Спокойной ночи.
Он повернулся на каблуках, и Винтер услышала, как он споткнулся, спускаясь по ступенькам, и потом звук его шагов замер в тишине; одни только часы продолжали тикать все громче и громче, и приглушенный смех доносился до нее из столовой, где Конвей с друзьями приканчивал свой портвейн.
Алекс ушел. Она позволила ему уйти, хотя могла остановить его. Даже сейчас, если бы она кинулась вслед за ним, он мог бы помочь ей. Конечно, он был не в состоянии расстроить ее брак. Это было невозможно. Но он не мог отказать ей в помощи. Он что-нибудь придумал бы — она не знала что — но что-нибудь. Но как же она могла обратиться к нему с просьбой после всего, что случилось в Дели? После тех оскорблений, которые она выкрикивала ему? Ей оставалось только надеяться, что она никогда больше не увидит его. И не было никого, к кому она могла бы обратиться за помощью.
Она могла бы убежать к Амире, но Амира говорила ей, что не сможет сейчас приехать к Гулаб-Махал; и она не могла вернуться в Дели, потому что Конвей отнял у нее шкатулку и все ценности, сказав, что такие вещи лучше хранить под замком. Даже Хамида уехала…
На следующее утро после свадьбы Винтер очнулась от глубокого сна, чувствуя себя совершенно разбитой морально и физически и полностью осознавая, какую ошибку она совершила. На грудь ей давила тяжелая рука, а рядом на подушке храпел с открытым ртом, источавшим запах перегара, ее муж. Он застонал и повернул голову, когда она пошевелилась, но не проснулся, и Винтер дрожа выбралась из-под этой руки и из кровати, измученная, избитая, больная от отвращения и отчаяния, и, набросив на себя шаль, прокралась в гардеробную и заперла за собой дверь.
Хамида уже ждала ее там, и Винтер бросилась к ней на шею, дрожа, с сухими глазами, в полном отчаянии. Хамида стала гладить и утешать ее, что-то тихонько напевая, но было очевидно, что она считает такие вещи обычной частью жизни. Сама она, рассказывала Хамида, была много моложе Винтер, когда ее выдали замуж, и ее муж был огромным мужчиной — медведем! — и Хамида тоже плакала от ужаса в свою брачную ночь и продолжала плакать и дрожать еще много дней спустя. Но со временем она научилась любить своего мужа и отвечать на его объятия, она родила ему пятерых сыновей, из которых четверо еще живы, и у нее уже множество внуков. Мужья, сказала Хамида, часто бывают грубыми и жестокими на брачном ложе, но жены должны терпеть такое и учиться угождать своим господам, иначе их господа пойдут к женщинам легкого поведения.
Истеричные заявления Винтер, что она немедленно уедет из Лунджора, были встречены с возмущением и ужасом. Это невозможно, немыслимо! Жены не должны так вести себя. У них есть свои обязанности, и убегать только потому, что муж не пришелся по сердцу, — неслыханно. Теперь она замужем, и ничего нельзя изменить. Ее ведь даже не заставляли делать это насильно. Она пошла под венец добровольно и теперь не сможет убежать от этого.
Хамида прочла Винтер целую лекцию об обязанностях жен. Жена должна подчиняться своему мужу и пытаться быть скромной, угодливой и послушной, чтобы завоевать его расположение. Не замечая его недостатков, жена всегда должна смотреть на своего мужа, как на Бога, относиться к нему со всем вниманием, заботой и не обращать внимания на его дурное настроение. Если ее муж будет плохо обращаться с ней, даже несправедливо бить ее, она должна в ответ умолять его о прощении, а не кричать громко и не убегать из дома.
Винтер молча слушала Хамиду, но единственное, что она заключила, — теперь она замужем, и этого нельзя изменить. Хамида была права. Но через неделю и Хамида покинула ее.
Причиной ее отъезда была та самая толстая женщина, которую Винтер увидела сидящей у кровати Конвея в день своего приезда; Ясмин, женщина, живущая в биби-гуре за изгородью из ярко-алых пойнсеттий и поперечных деревьев вместе со своей сестрой и своими служанками. Ясмин угадала в Хамиде врага и предприняла все, чтобы избавиться от нее. Конвей сказал своей жене, что она должна отослать привезенную с собой женщину, потому что он уже нашел ей подходящую айю, и посторонний человек будет только вызывать неудовольствие среди слуг.
Винтер наотрез отказалась расставаться с Хамидой, и Конвей, как бы он ни гневался, не смог заставить ее изменить своего решения. Он потерял терпение и наговорил ей много такого, что избавило ее от остатков иллюзий в отношении него. Она не уступила, но на следующий же день Хамида заболела и прошептала Винтер, что в ее пищу подсыпали яд.
— Не бойся, детка. Я съела совсем мало, и завтра снова буду здорова. Но теперь я должна сама покупать себе еду и отдельно ее готовить, не позволяя никому приближаться, чтобы меня снова не попытались отравить.
Но Винтер не могла об этом и слышать. Она не собиралась рисковать жизнью Хамиды и отослала ее, дав ей с собой подарки и письма к Амире. И с Хамидой оборвалась ее единственная связь с внешним миром, до тех пор пока Гарденен-Смиты не приедут в Лунджор. Тогда, возможно, они смогут помочь ей — одолжат денег, чтобы она смогла вернуться в Англию и Уэйр. В Уэйр! Она поверить не могла, что когда-нибудь захочет вернуться туда, но все что угодно — все что угодно — только не жить в этом ужасном доме вместе с грубым, грузным, жестоким незнакомцем, ставшим ее мужем и в ярости бросившим ей в лицо, что женился на ней только ради ее денег.
Алекс Рэнделл все не возвращался, и Винтер могла быть только благодарна Господу, что избавлена от унизительной встречи с ним. Конвей вскользь как-то бросил, что с ним произошел какой-то несчастный случай, заставивший его отложить возвращение, что с его стороны было совершенно безответственным. Но Винтер не могла поверить в это. Она была уверена, что после инцидента в Дели Алекс предпочтет не возвращаться в Лунджор и устроит себе перевод в какое-нибудь другое место, ей это казалось естественным выходом. У Алекса не было никаких иллюзий в отношении своего начальника. Он говорил о нем в недопустимом тоне, целовал его невесту и был обвинен в ревности и лжи. Нет, он не захочет возвращаться в Лунджор, и она никогда больше не увидит его.
Оставались только Гарденен-Смиты, заехавшие к ней под каким-то благовидным предлогом сразу же после своего прибытия. Этот предлог объяснялся любопытством и желанием рассказать все новости о свадьбе Лотти Эбатнот, а кроме того познакомиться с человеком, занимающим такой важный пост, и выразить неодобрение поступком Винтер.
Миссис Гарденен-Смит была очень любезна с мистером Бартоном, а мистер Бартон исключительно благосклонно отнесся к ее дочери Делии, которая полностью отвечала его представлениям о красивой молодой девушке. Миссис Гарденен-Смит была в лучшем смысле слова поражена его манерами и удивлена, что его жена так неважно выглядит. Девушка, казалось, постарела на десять лет. Жуткая бледность ее лица была заметна даже в затемненной жалюзями комнате, а черные тени под глазами делали их слишком большими для ее лица. Однако Винтер сосредоточенно и с большим интересом выслушала о свадьбе Лотти. Она просила разрешения навестить миссис Гарденен-Смит и на следующий день приехала в одиннадцать часов. Но последовавший разговор был болезненным для обеих.
Мнение миссис Гарденен-Смит относительно молодых жен и их обязанностей перед мужьями — особенно такими важными и учтивыми, как комиссар Лунджора — практически ничем не отличалось от мнения Хамиды. Она не только не выразила никакого сочувствия, но была шокирована. Конечно, все мужчины выпивают! И иногда пьют слишком много и ведут себя соответственно. Но истинные леди не замечают подобных вещей. Они смотрят в другую сторону. Что же касается ее помощи Винтер сбежать от мужа, то она не собирается ей потакать. Это лишь вызовет неудовольствие комиссара. Но даже, если Винтер окончательно сойдет с ума и сбежит, она далеко не уедет, потому что закон на стороне мистера Бартона и он заставит ее вернуться. Миссис Гарденен-Смит заявила, что шокирована таким безответственным поведением Винтер, — как она вообще оказалась способной до такого додуматься! Она должна помнить, что теперь она не легкомысленная девчонка, а замужняя женщина, и что брак налагает определенные обязательства…
Винтер уезжала по пыльной тенистой дороге, ее последняя надежда лопнула. Миссис Гарденен-Смит была права точно так же, как и Хамида. Она вышла замуж за Конвея и не может убежать; потому что ей некуда бежать и потому что, как бы далеко она ни убежала, закон отошлет ее обратно к мужу. Она сама постелила себе постель и теперь должна лежать на ней.
Вернувшись в большой белый дом, ставший и ее домом, она думала, что невозможно испытать еще большее унижение и отчаяние. Так она считала до самого вечера того дня, когда, открыв дверь в прихожую, увидела Алекса Рэнделла. Тогда она поняла, что ошибалась.
В потянувшиеся за этим дни и недели Винтер очень редко виделась с Алексом и никогда с ним не разговаривала. Он не уехал из Лунджора, и она, которая когда-то — как давно, кажется, это было! — собиралась повлиять на Конвея, чтобы он отослал его, все больше радовалась этому. Тот факт, что он был здесь, даже если она не могла поговорить с ним или увидеться, был на удивление успокаивающим; одно крепкое звено в проржавевшей и прогнившей цепочке. Если когда-нибудь жизнь станет для нее невыносимой, рядом будет Алекс. По крайней мере, он не откажется помочь ей. Он знал Конвея.
Большую часть своего времени Алекс проводил в отдаленных районах округа, и когда не был в разъездах, старался избегать заходить в жилые комнаты резиденции. Но он часто бывал в офисе комиссара, и Винтер могла слышать рокот его низкого голоса, который каждый раз, когда он обращался к ее мужу, как будто терпеливо разъяснял какую-то взрослую проблему испорченному, глупому и капризному ребенку. Она догадывалась, что Алексу часто приходится сдерживаться, и недоумевала, почему, но слова миссис Коттар о том, что капитан Рэнделл выполняет всю работу, а господин Бартон присваивает себе ее результаты, очень скоро подтвердились.
Конвей редко занимал себя трудами и с удовольствием перекладывал большую их часть на плечи Алекса. Он подписывал бумаги, которые раскладывал перед ним Алекс, и соглашался с решениями, принятыми Алексом, а потом выдавая их за свои собственные. В конце концов он не стал посылать своего прошения об отставке — пошли слухи, что в следующем году генерал-губернатор собирается совершить обширную поездку, в которую включено и посещение Лунджора, и комиссар рассчитывал на возможное посвящение в рыцарство. Перспектива уйти на пенсию не только богатым человеком, но и «сэром Конвеем» очень тешила его самолюбие, и он решил отложить свою отставку на год; а кроме того, сделать этот год самым приятным. Он перестал проявлять даже малейший интерес к делам в Лунджоре, тем самым немного упростив работу Алекса, хотя из-за этого Алексу приходилось проводить больше времени в Лунджоре и меньше в округе.
Став обладателем огромного состояния, комиссар вовсю развлекался, и в резиденции всегда было полно гостей. Он заказал новую мебель из Калькутты, чтобы его дом мог соответствовать положению генерал-губернатора и его окружения, и заводил разговоры о пристройке к дому нового крыла. Он также гордился внешностью и манерами своей жены, ему льстило, что ее платья и драгоценности, а также ее молодость и красота производили впечатление на его гостей. Но он вскоре разочаровался в ней как в женщине. Больше она не кричала и не плакала, не сопротивлялась ему, но ее пассивное, неистребимое отвращение, с которым она принимала его ласки, лишало его всякого удовольствия, и он вернулся к более сговорчивой Ясмин в поисках развлечений.
Пока его интерес к своей жене полностью не угас, был короткий момент, когда Винтер нехорошо почувствовала себя после еды, хотя комиссар, кажется, нисколько не пострадал. Она вспомнила Хамиду и испугалась. Но кто в доме мог хотеть избавиться от нее? Хамида была служанкой, и ее присутствие лишало подобранную Конвеем для этих целей женщину выгодной работы. Нет, это не мог быть яд! Должно быть, у нее разыгралось воображение!
Болезнь отдалила ее от Конвея, он не заходил к ней в комнату несколько дней, и когда она наконец выздоровела, то стала есть только те блюда, что и Конвей. Она презирала себя за это, но, по крайней мере, больше не болела — и Конвей возвратился к ней.
Два дня спустя она имела еще шанс, но чудом избежала гибели. Винтер как раз собиралась принять ванну в маленькой купальне, примыкающей к ее комнате. Она располагалась в самой старой части дома, где стены были толщиной в три фута, а каменные потолки странным эхом отражали любой звук. Ванная представляла собой жестяное корыто, наполняемое с помощью кувшинов, и стояла в небольшом углублении, окруженная низким бортиком из кирпича. Ночью комнатка освещалась единственной масляной лампой, стоявшей на деревянной скамеечке возле двери, в тот раз лампа коптила. Винтер подняла ее, чтобы поправить фитиль, и это спасло ее, иначе бы она никогда не заметила кобру, которая поднялась ей навстречу из свернутых колец. Но движение лампы отбросило ее зловещую увеличенную тень на стену позади ванны.
Тень медленно зашевелилась, и Винтер на мгновение завороженно застыла, прежде чем увидела, кому она принадлежит, — тонкий, блестящий ужас, с раздвоенным язычком и раздувшимся капюшоном. Она не закричала, но дернула в испуге рукой, и фитиль, который она подкручивала, вспыхнул и погас, оставляя ее в полной темноте с шипящей, разозленной змеей. Она отпрянула назад, нащупывая дверь, и спустя вечность, найдя ее, повернула ручку и выскочила в примыкающую комнату.
Кобра была убита, но никто не мог дать подходящего объяснения, как она могла попасть в ванную. Должно быть, она проникла по трубам, через которые вытекала вода из ванной, предположил Конвей. Но это едва ли было возможно, потому что высокая веранда, окружавшая дом, поднимала пол в комнатах на три фута выше уровня земли впереди и почти на пять футов сзади, где земля шла с небольшим уклоном. Кроме того, веранда находилась через стену от ванной. Две другие стены были без окон и выводили к сточной канаве и участку земли, на котором буйно разрослось фиговое дерево, питаемое водами из ванной. Выход трубы упирался в каменную заслонку, через которую вода попадала в сточную канаву, и никакая змея не могла преодолеть такой преграды без посторонней помощи. Конечно, она могла вползти по ступенькам веранды на противоположной стороне и попасть в ванную через дверь, хотя это казалось еще более невероятным.
Винтер была потрясена больше, чем показывала. Но подобные инциденты больше не повторялись, и ей не пришло в голову, что Конвей потерял к ней интерес и перешел спать в свою комнату в связи с этими инцидентами.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
сипай — рядовой.
(обратно)2
Так в оригинале — по-русски, латиницей. (Примеч. перев.).
(обратно)3
Так в оригинале (Примеч. перев.).
(обратно)4
en route — на пути (фр.).
(обратно)5
ласкар — матрос-индус.
(обратно)6
sal volatile — летучая соль (лат.), т. е. нашатырный спирт.
(обратно)7
Индийское хлебное дерево и его плоды.
(обратно)8
Растение со съедобными плодами.
(обратно)9
Окна-двери.
(обратно)10
Menage — хозяйство (фр.).
(обратно)11
Feihu — фелию, кружевная косынка (фр.).
(обратно)12
Gris-vert — серо-зеленый (фр.).
(обратно)13
Старинный бальный танец.
(обратно)14
Решающая битва в завоевании Индии.
(обратно)15
Почтовая станция.
(обратно)16
Четырехколесная, запряженная двумя лошадьми почтовая повозка-дилижанс.
(обратно)17
Повар.
(обратно)18
Белый человек.
(обратно)19
Мелководное, болотистое озеро.
(обратно)20
Твердая лепешка из пресного хлеба — основной продукт питания для населения, по крайней мере, половины страны.
(обратно)21
Кавалерист.
(обратно)22
Область.
(обратно)23
Шуба из овечьей шерсти.
(обратно)24
Индийский старший офицер.
(обратно)25
1 косс — 2 мили.
(обратно)26
Иностранец.
(обратно)27
Полк.
(обратно)28
Смилуйся, белый человек.
(обратно)29
Брат.
(обратно)30
Англия.
(обратно)31
Еще бы.
(обратно)32
Длинноствольный мушкет.
(обратно)33
Сержант.
(обратно)34
Длинная и тяжелая палка из бамбука.
(обратно)35
Крестьянская мука очень грубого помола.
(обратно)36
Маленькое глиняное блюдце, залитое маслом, в котором плавал кусочек хлопчатобумажной ткани в качестве пакли.
(обратно)37
Козел.
(обратно)38
Могила, которую заранее готовят для жертвы.
(обратно)39
Ответственные за похороны жертвы убийства.
(обратно)40
Члены религиозной секты на севере Индии.
(обратно)41
Сено.
(обратно)42
Пеон, вестовой.
(обратно)43
Бивуак.
(обратно)44
Глупость — по-французски.
(обратно)45
Мем-сахиб — белые женщины.
(обратно)46
Шади — свадьба.
(обратно)47
Чуппрасси — слуга.
(обратно)48
Пан — листья бетеля с различными добавками.
(обратно)49
Хузур — ваша честь, — обращение к господину.
(обратно)50
Гурра — глинобитный бассейн на уровне пола.
(обратно)51
Айа — кормилица, няня.
(обратно)52
Сахиб-лог — белые господа.
(обратно)53
Хидматгар — прислужник за столом.
(обратно)54
Пуггари — тюрбан.
(обратно)55
Хавилдар — военный сержант (младший чин).
(обратно)56
Чарпа — плетеная кровать.
(обратно)57
Нукер-лог — слуги.
(обратно)58
Сайс — наемный работник.
(обратно)59
Талукдар — крупный землевладелец.
(обратно)60
Хуках — водяная трубка для курения табака.
(обратно)61
Байраги — святой у индусов.
(обратно)



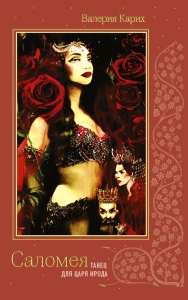
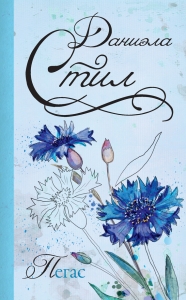
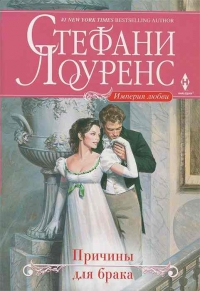
Комментарии к книге «В тени луны. Том 1», Мэри Маргарет Кайе
Всего 0 комментариев