Анна О’Брайен Фаворитка короля
Жила тогда… в Англии некая женщина без стыда и совести, безудержная в разврате, происхождения самого низкого, именем же Алес Перес… и хотя не могла похвастать ни красотой, ни миловидностью, она умела скрыть эти недостатки потоком льстивых речей…
Из исторических хроник о последних годах царствования Эдуарда III и о его кончинеНегоже, чтобы ключи от всех дверей висели на поясе у одной-единственной женщины.
Епископ РочестерскийИ никто не смел выступить против нее…
Томас Уолсингем, монах аббатства Святого АльбанаПРОЛОГ
— Сегодня ты будешь Повелительницей Солнца, — говорит король Эдуард[1] и помогает мне удобно устроиться в повозке, — королевой моих празднеств.
«Уж давно бы пора!» Разумеется, вслух я этого не произнесла — я ведь женщина неглупая, — только подумала. Слишком долго ждала этой чести. Двенадцать лет, на протяжении которых я была наложницей Эдуарда.
— Благодарю вас, милорд, — негромко произношу я и, лучезарно улыбаясь, приседаю в глубоком реверансе.
Плащ, который переливается золотым шитьем, я расправила так, чтобы видна была его подкладка из алой тафты. Платье же на мне — красное, с белой шелковой каймой, подбитое мехом горностая: цвета Эдуарда, королевский мех, достойный венценосной особы[2]. Мерцание золота затмевается блеском бесчисленных самоцветов, играющих под лучами солнца: красных как кровь рубинов, загадочных густо-синих сапфиров, удивительных бериллов, способных лишать силы любой яд. Всем известно, что я ношу драгоценности королевы Филиппы[3].
Сижу я на сидении возка непринужденно, в гордом одиночестве, скромно сложив руки на коленях поверх богато украшенного платья. Это мое право!
Я оглядываюсь вокруг: нет ли поблизости хмурой и мрачной принцессы Джоанны? Нет, этого моего заклятого врага нигде не видно. Отсиживается, небось, в своих палатах в Кеннингтоне[4], замышляет что-нибудь недоброе против меня. Джоанна Прекрасная[5]. Джоанна Претолстая! Противник, с которым нельзя не считаться, а уж щепетильности и понятий о нравственности у нее не больше, чем у дикой кошки в период течки.
Я перевожу взгляд на Эдуарда, уже сидящего в седле своего боевого коня, и улыбка моя становится ласковой. Он такой высокий, сильный — просто загляденье! Какая мы с ним замечательная пара! Его годы еще не слишком согнули, а я — в самом расцвете сил. Уродина, конечно, так все считают, но не лишенная своих достоинств.
Я — Алиса. Фаворитка короля. Возлюбленная Эдуарда. Повелительница Солнца…
Ах!.. Я непроизвольно моргаю — пролетевший мимо голубь взмахом крыла сметает стоящие перед глазами воспоминания и безжалостно возвращает меня к жестокой действительности. Я сижу у себя в саду, вдали от двора и моего короля, вынужденная смириться с горькой истиной. Как низко я пала! Одинока, бессильна, заточена — как некогда лев в зверинце Эдуарда, давно уже умерший, — лишена и тени власти, упрятанная от людей, утратившая все, что сумела нажить своими стараниями.
Я теперь никто. Нет больше Алисы Перрерс.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
C чего же мне начать? Трудно на чем-то остановиться. Мои самые ранние годы не отмечены печатью радости и счастья. Что ж, начну с того, что врезалось в память. С самых первых воспоминаний.
Тогда я была ребенком, слишком маленьким, чтобы понять, кто я и что я. Смиренно преклонив колени, я молилась вместе с сестрами в огромной церкви Святой Марии, в аббатстве города Баркинга. Шел восьмой день декабря месяца, и воздух был таким холодным, что даже дышать им было больно. Колени упирались в шершавые каменные плиты пола, но уже тогда я хорошо понимала, что ерзать на молитве нельзя. Статуя на высоком постаменте в приделе Богоматери была наряжена в новое синее платье, а покрывало из дорогого шелка удивительно мерцало белым светом в полумраке затененной ниши. Монахини пели псалмы, положенные во время вечерни, у ног статуи горело целое море свечей, и их свет играл на больших складках синего одеяния, отчего казалось, будто статуя дышит и шевелится.
— Кто это? — спросила я слишком громким голосом — я же ничего толком тогда и не знала. Сестра Года, которая учила послушниц (когда таковые имелись), сделала мне знак замолчать.
— Это Пресвятая Дева.
— А как ее зовут?
— Пресвятая Дева Мария.
— А сегодня какой-то праздник?
— Нынче праздник Непорочного зачатия[6]. Помолчи же!
Я ничего из сказанного не поняла, но с той минуты полюбила Деву Марию. У нее было красивое лицо, глаза опущены, руки воздеты, словно она звала меня к себе, а на раскрашенных губах играла едва заметная улыбка. Но больше всего меня привлекла корона из звезд, покрывавшая ее чело по случаю праздника. В пламени свечей звезды отливали золотом, искрились драгоценные камни. Меня это зрелище заворожило. Служба закончилась, монахини потянулись к выходу, а я осталась стоять перед статуей.
— Пойдем, Алиса, — сказала сестра Года, совсем не ласково схватив меня за руку. Но я была упряма и уперлась ногами в пол, залитый отблесками пламени.
— Да пойдем же!
— А почему у нее корона из звезд?
— Потому что она — Царица Небесная. Ну, теперь ты…
Она шлепнула меня по руке, и пришлось подчиниться, но я все равно потянулась к статуе, хотя рост еще не позволял мне ее коснуться, и улыбнулась.
— Мне хотелось бы носить такую корону.
Второе мое воспоминание относится к тому же самому времени. Невзирая на поздний час, сестра Года, низенькая и хрупкая, но сильная, била меня кожаным ремешком по руке до тех пор, пока кожа не покраснела и не покрылась волдырями. Она сердито прошипела, что это — наказание за грех гордыни и грех алчности. Кто я такая, чтобы любоваться короной и желать такой же для себя? Кто я такая, чтобы приближаться к Пресвятой Деве, Царице Небесной? Мне не сравниться даже с голубями, которые взмывают ввысь и кружат над алтарем. На весь завтрашний день я останусь без еды. И встану, и лягу в постель на пустой желудок. Она научит меня смирению. В животе у меня урчало от голода, рука жутко болела, и тогда я узнала (в первый, но далеко не в последний раз), что женщинам не дано получать то, чего они желают.
— Ты плохая девочка! — четко и ясно заявила сестра Года.
Я лежала без сна до тех пор, пока часы аббатства не пробили два раза, созывая нас на раннюю заутреню. Я не плакала. Наверное, согласилась с тем, что говорила наставница, а может, была еще слишком маленькой, чтобы понять смысл ее поучений.
Так, а что же третье?
А! Гордыня! Сестре Годе так и не удалось выбить ее из меня. С полным безразличием в глазах она укоряла меня за какой-то проступок (сейчас уж и не припомню, в чем он состоял).
— Что за наказание мне возиться с тобой, девчонка! Ты, скорее всего, бастард и рождена вне священных уз брака. Ко всему еще и уродлива. Я не вижу в тебе ни единой черточки, которая намекала бы на возможность спасения души, хотя ты, вне всякого сомнения, и принадлежишь к числу творений Божьих.
Значит, я бастард и уродина. В свои двенадцать лет я не могла решить, какое из этих зол больше. Я уродлива? Если бы сестра Года имела каплю сострадания, она бы сказала: «У тебя заурядное лицо». Слово «уродливая» меняло все в корне. В монастыре запрещены были зеркала — и потому, что символизировали тщеславие, и потому, что были слишком дороги для скромных монахинь, — но какая же из сестер не пыталась разглядеть себя в чаше, наполненной чистой водой? Или уловить пусть и искаженное отражение в начищенных серебряных сосудах, которые использовались на службах в монастырской церкви? Я поступала как все и видела то же, что могла видеть и сестра Года.
В ту ночь я вгляделась в лохань ледяной воды, прежде чем мне велели задуть свечу. Отражение дрожало, но рассмотрела я достаточно. Волосы, очень коротко остриженные (дабы бороться сразу и со вшами, и с грехом гордыни), были темными[7], жесткими, без единого завитка. Глаза — черные, как терновые ягоды, как дыры, какие моль проедает в одежде. А остальное? Щеки запали, нос сильно выдается вперед, рот слишком большой. Одно дело, когда тебя называют уродиной, другое — убедиться в этом собственными глазами.
Одна-одинешенька в своей тесной холодной келье, я расплакалась. Стены, казалось, готовы были раздавить меня. Темнота и одиночество пугали меня. И до сих пор пугают.
Что же до остальных дней моей ранней юности, они все слиплись в какую-то комковатую кашу из горьких обид и унижений, которую помешивала и присыпала солью своих замечаний сестра Года.
— Ты снова опоздала на раннюю заутреню, Алиса. Думаешь, я не видела, как ты, негодная девчонка, старалась незаметно проскользнуть в церковь?
Да, правда, я тогда опоздала.
— Алиса, показываться с таким покрывалом перед очами Господа Бога — это просто позор. Ты что, пол им мела?
Нет, не мела. Просто, вопреки всем моим добрым намерениям, к нему пристали колючки с кустов да еще зола из очага, и пальцами оно было захватано.
— Ну почему ты не в состоянии запомнить самые простые тексты, Алиса? У тебя в голове пусто, как у последнего нищего в кошеле.
Да нет, там не было пусто, просто голова была занята чем-то более насущным. Быть может, ощущением прикосновения к моим ногам мягкой пушистой шерстки монастырского кота, который грелся в лучах солнышка, пробивавшихся в окна.
— Алиса, двигаться надо легче, изящнее. Отчего ты вечно сутулишься? Тебе же было сказано, что в Божьей обители так вести себя не годится!
Я не имела ни малейшего понятия об изяществе движений.
— Призвание дается нам свыше. Господь Бог дарует его как Свое благословение, — так поучала вверенных ее попечению грешниц матушка Сибилла, наша настоятельница, сидя в своем кресле в зале капитула. — Призвание — это Божья благодать, которая позволяет нам славить Господа в наших молитвах, а также посредством заботы о бедных, кои пребывают среди нас. И потому мы должны чтить это призвание и строго соблюдать устав святого Бенедикта, достопочтенного основателя нашего ордена.
Матушка настоятельница не колеблясь пускала в ход плеть, наказывая тех, кто его не соблюдал. Я хорошо помню, как жалила эта плеть. И как жалил ее язык. Хорошенько испытала на себе и то, и другое, когда однажды поторопилась преклонить колени рядом с сестрой Годой прежде, чем утих созывавший на вечерню колокол, и не успела затворить дверь курятника, призванную оберегать монастырских цыплят от недобрых замыслов лисы. Итог стал виден на следующее утро — наглядный, кровавый. Такой же стала и моя спина, и матушка настоятельница сообщила мне об этом, ловко орудуя снятой с пояса плетью. Она сказала, что это было справедливое наказание. Мне оно отнюдь не показалось справедливым, ведь я была вынуждена нарушить одно правило, чтобы соблюсти другое. По молодости лет мне недоставало мудрости держать язык за зубами, и я сказала то, что думала. Рука матушки Сибиллы взлетела и опустилась на мою спину с еще большей силой.
Мне было велено собрать растерзанные останки несчастных цыплят. И вовсе не для того, чтобы выбросить их вон. Монахини сжевали цыплят с хлебом в следующий полдень, внимательно слушая притчу о добром самаритянине. У меня же на тарелке не было ничего, кроме хлеба, да и то вчерашнего. Не должна же я была насладиться плодами грехов своих!
Призвание? Господь Бог, вне всяких сомнений, не благословил меня таковым, если оно состоит в том, чтобы смиренно и с благодарностью принять жребий, выпавший на мою долю. И все же жизни вне монастырских стен я не знала, да и не стремилась узнать. Когда мне исполнится пятнадцать лет, сказала сестра Года, я приму постриг и стану уже не послушницей, а настоящей монахиней. Совершится плавный переход из одного вида рабства в другое, и я останусь монахиней до того часа, когда Господь призовет меня в чертоги Свои — или же отправит гореть и страдать в адском пламени в наказание за совершенные мною грехи. С пятнадцати лет и до конца жизни мне будет запрещено говорить, кроме одного часа после полудня, когда мне позволят высказываться по серьезным вопросам. Я мало видела в этом отличий от приговора к пожизненной немоте.
Молчать всю жизнь, только петь во время церковных служб.
Богородице, помилуй мя! Неужто это все, на что я могу надеяться? Я же не сама решила принять постриг. Как же мне с этим смириться? Для меня было совершенно непостижимо то, что женщина может по доброй воле заточить себя в этих стенах, где и окна затворены, и двери все на запорах. Отчего бы женщине, какова бы она ни была, согласиться на такое страшное заточение, а не отведать вкуса свободы, царящей за стенами монастыря?
В меру моего разумения, существовала лишь одна дверь, которая могла отвориться для меня. Могла выпустить меня на свободу.
— Кто мой отец? — спросила я у сестры Годы. Если у меня есть отец, то уж он, конечно, не окажется глух к моим мольбам.
— Всевышний тебе отец. — Обтекаемый ответ сестры Годы, перелистывавшей Псалтырь, придал мне смелости расспрашивать ее дальше. — А теперь, дитя, обрати внимание — вот этот псалом нам нужно выучить…
— Но кто мой отец здесь — не там, на небесах? — Я указала рукой на окно, откуда вторгался в келью шум города, жители которого галдели, собираясь на рынок.
Наставница посмотрела на меня, слегка озадаченная.
— Не знаю, Алиса, и это чистая правда. — Она поцокала языком, как делала всегда, если не находила готового объяснения. — Я слышала, что когда тебя принесли сюда, при тебе был кошель с золотыми монетами. — Она задумчиво покачала головой, и покрывало, как саван, сползло на ее морщинистое лицо. — Но это не имеет никакого значения. А теперь давай… — Она прошла в другой конец комнаты, к сундуку, в котором хранились пропыленные манускрипты.
Как это — не имеет значения? Целый кошелек золота! Для меня это вдруг приобрело очень большое значение. О себе я знала только то, что я — Алиса. У меня не было ни семьи, ни приданого. Ко мне — в отличие от более счастливых сестер-монахинь — никто не приезжал ни на Пасху, ни на Рождество. Никто не привозил мне подарки. Даже когда я приму постриг, некому будет разделить со мной радость вступления в духовный чин. Даже облачение мне достанется от какой-нибудь давно умершей сестры, которая (если повезет) окажется примерно одного роста и комплекции со мной; а если не повезет, то облачение укутает меня с избытком или же, напротив, станет являть миру мои коленки.
Я негодовала от такой несправедливости. Почему так? Вопрос не шел у меня из головы. Кто же мой отец? И что я такого сделала, чтобы меня бросили и забыли? Обидно было до глубины души.
— А кто принес меня сюда, сестра Года? — настойчиво спросила я.
— Не помню. Да и как упомнить? — бросала отрывисто сестра Года. — Кажется, тебя просто подкинули на крыльцо аббатства. С крыльца тебя забрала сестра Агнесса — теперь она уж пять лет как умерла. Насколько мне известно, установить твое происхождение так и не удалось. Так часто делали — нежеланных младенцев оставляли у церковных дверей, тем более что свирепствовала чума… Хотя говорили и так, что…
— Что говорили?
— Сестра Агнесса всегда утверждала, что здесь все не так просто, как кажется на первый взгляд… — произнесла сестра Года, не отрываясь от старинного пергамента.
— Что — не так просто?
Сестра Года громко хлопнула в ладоши и сердито прищурилась, глядя на меня.
— Матушка настоятельница сказала, что сестра Агнесса ошиблась. Та была уже в очень преклонных летах, и голова у нее не всегда была ясная. Матушка настоятельница считает, что ты скорее всего — дитя простолюдина, какого-нибудь кровельщика, который оседлал кабацкую девку, не ища благословения в браке. Ну, хватит об этом! Обрати свой ум к более возвышенным предметам. Давай повторим «Отче наш» на самой безукоризненной латыни. Согласные произноси четко, не глотай их.
Значит, я все-таки бастард.
Я старательно повторяла слова молитвы, но из головы не шли мысли о моих родителях, которых я совсем не знала, о том, что говорила или думала об этом сестра Агнесса. Я была всего-навсего одной из множества нежеланных детей и должна быть благодарна за то, что меня не бросили просто умирать. Но что-то здесь не сходилось, ведь правда? Если я — дитя кабацкой девки, если мои родители остались неизвестными, но принадлежали к низшим классам общества, отчего же меня взяли сюда и научили грамоте? Почему не приставили к работе, как одну из conversa[8] — мирских сестер, которые в поте лица трудились на принадлежащих аббатству землях, на кухне или в пекарне? Да, правда, одевали меня в обноски, оставшиеся от умерших, меня не любили и не ласкали, но все же научили не только читать, но даже писать, пусть я и не слишком усердствовала в учебе.
Меня предполагали сделать монахиней, а не мирской сестрой.
— Сестра Года… — начала было я опять.
— Мне нечего тебе сказать, — резко бросила она, — потому что и говорить-то нечего! Давай, учи латинский текст! — Тростью она хлопнула мне по коленям, но не больно. Возможно, для себя она уже давно решила, что толку от меня не будет, а потому раздражение постепенно сменилось в ней безразличием. — Ты не выйдешь отсюда, пока не выучишь! Что ты противишься? Что тебе еще остается делать? Ты каждый день должна на коленях благодарить Бога за то, что не приходится зарабатывать себе хлеб насущный в лондонских сточных канавах. А уж каким путем зарабатывать, мне остается только догадываться! — Она и не старалась скрыть то отвращение, которое питала к женщинам подобного сорта. — Ты что же, хочешь сделаться блудницей? Падшей женщиной? — спросила она, понизив голос до шепота.
Я дернула плечом, неуклюже изображая высокомерие, и ответила храбро, но глупо:
— Стать монахиней — не мое призвание.
— А тебе есть из чего выбирать? И куда же ты отправишься? Кто согласится тебя принять?
На это мне ответить было нечего. Но сестра Года с грохотом ударила своей тростью по деревянному столику, и меня захлестнуло негодование, разжигая единственную оставшуюся у меня надежду: «Тебе, Алиса, уж точно никто не поможет — если ты сама себе не поможешь».
Уже тогда я была умна не по годам — несомненно, сказывалась наследственность погрязшего во грехах ремесленника, который перебрал кислого эля да и завалил кабацкую девку.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Мне удалось вырваться из аббатства, но получилось это помимо моих собственных усилий. Судьба протянула мне руку, когда я достигла пятнадцати лет, и грянули эти события как гром с ясного неба.
— Надень на себя вот это. И это тоже. Вот, возьми. Через полчаса жди у ворот аббатства.
Одежду мне совала в руки сестра Матильда, помощница матери настоятельницы.
— Для чего это, сестра?
— Делай, что тебе велено!
Она дала мне шерстяную верхнюю юбку — тоненькую и застиранную до того, что цвет определить уже было невозможно, и платье без рукавов, темно-коричневое, напоминавшее цветом ил, который оставался на берегу реки после сильных ливней с ветром. Платье тоже знавало лучшие дни, когда его носил кто-то другой, к тому же оно было мне коротко, как я и опасалась, — выше колен. Я сильно почесалась, и сразу проснулись более насущные страхи: я унаследовала от кого-то не только одежду, но и блох. Наряд завершался чепцом неопределенного серого цвета.
Но для чего это все? Меня что, посылают с заданием куда-то за ворота монастыря? От лихорадочного возбуждения по коже забегали мурашки. И от страха тоже: я ведь не знала, как живут люди за стенами аббатства, — но скоро страх прошел. Если мне удастся хотя бы на день вырваться из этих стен — значит, дело того стоит. Мне уже исполнилось пятнадцать, превращение из послушницы в монахиню было не за горами, а оно представлялось чем-то зловещим, словно поток, хлещущий в городских сточных канавах после сильного ливня.
— Куда я еду? — задала я вопрос вознице, к которому меня направили, суровому на вид человеку с ужасным насморком идо невозможности пропахшему кислой шерстью.
Сестра Фейт, монастырская привратница, не снизошла до объяснений — просто махнула рукой, показывая на возницу, и захлопнула ворота. Щелчок засова, когда я оказалась за стенами монастыря, прозвучал для меня слаще ангельского пения.
— В Лондон. В дом мастера[9] Дженина Перрерса, — проворчал возница и сплюнул в сточную канаву, уже переполненную нечистотами и всяческим мусором — базарный день был в разгаре.
— Тогда помогите мне взобраться сюда, — распорядилась я.
— Сердитая, однако, малышка, сразу видно! — воскликнул он, схватил меня за руку своей громадной лапищей и одним рывком забросил на кипу тюков, где я и устроилась, как могла. — Господи, помоги тому мужчине, который на вас женится, мистрис!..
— Я не выйду замуж, — недовольно ответила я. — Никогда.
— А что так?
— Слишком уродлива!
Разве я не видела этого собственными глазами? После того как я разглядывала свое отражение в лохани с водой, мне однажды представилась возможность полюбоваться своим непривлекательным лицом в дорогом зеркальце одной графини, ни больше ни меньше! Какой мужчина станет засматриваться на меня, а тем более брать в жены?
— Боже сохрани, мистрис! Если мужчина решил жениться, ему нет нужды слишком часто глядеть на свою избранницу!
Меня это не интересовало. Я гордо вскинула голову. Я еду в Лондон! Возница щелкнул бичом над головами волов, положив тем самым конец нашей беседе и предоставив мне самой домысливать остальное. На ум приходила одна-единственная причина, по которой я направлялась в дом мастера Дженина Перрерса. Там требовалась служанка, и он передал матушке настоятельнице достаточно золота, чтобы побудить ее расстаться с нищей послушницей, которая все равно не принесет аббатству ни славы, ни денежного дохода. Повозка подпрыгивала и раскачивалась, а я тем временем представляла себе в лицах, как происходил разговор. «Мне нужна крепкая работящая девица, чтобы помогала в доме. Послушная…» Я лишь надеялась, что матушка настоятельница не взяла на душу грех ложной клятвы.
То и дело я ерзала на тюках, раздосадованная слишком медленной поступью волов. Лондон. Я старалась не выпасть из раскачивающейся повозки, а слово «Лондон» заставляло мою кровь кипеть от волнения. Свобода кружила мне голову, пьянила не хуже доброго вина.
Лондон потряс меня: он оказался невероятно шумным, слишком многолюдным и страшно грязным. Как ни бурлили толпы людей вблизи аббатства в Баркинге по базарным дням, они даже отдаленно не походили на это столпотворение, пронизанное неумолчным гамом, наполненное смрадом от множества прижатых друг к другу человеческих тел. У меня буквально глаза разбегались во все стороны. Я глазела на густо набитые людьми дома, стоящие на узеньких, чуть шире нашей повозки, улочках, а верхние этажи, как пьяные, клонились друг к другу, загораживая небо. На всевозможные товары, разложенные у входа в лавки, на женщин, щеголявших в ярких нарядах. На уличных оборванцев и продажных девок, которые невозмутимо зарабатывали деньги в вонючих двориках и переулочках. Я оказалась в совершенно новом мире, одновременно пугающем и соблазнительном; таращилась, открыв рот, на все, как любая другая девчонка, попавшая сюда прямо из деревни.
— Вот, тебе как раз сюда.
Повозка покачнулась, остановилась, меня ссадили с тюков, грязный палец указал, куда мне идти — в дом с узеньким фасадом, который, казалось, вообще не занимал места на улице, зато вознесся над моей головой целыми тремя этажами. Я с трудом пробралась к двери, лавируя между грудами отбросов и сточной канавой. Сюда? Вроде бы на дом зажиточного человека не похоже. Постучала в дверь.
Открыла женщина, намного выше меня ростом и худая как жердь. Волосы у нее были закручены по бокам и накрыты металлическими сеточками в форме цилиндров, так что казалось, будто она сидит в клетке.
— Ну, что там?
— Это дом Дженина Перрерса?
— Тебе-то какое дело?
Она окинула меня беглым взглядом и сделала движение, собираясь захлопнуть дверь. Честно говоря, я не могла ее за это осуждать — я просто посмотрела на себя ее глазами. Дурно сидевшее на мне платье с чужого плеча все помялось за время поездки, к нему пристало множество шерстинок. В лице не было ничего привлекательного. Но ведь сюда меня прислали, здесь меня ждут, и я не допущу, чтобы дверь захлопнули у меня перед носом.
— Меня прислали сюда! — выкрикнула я, решительно положив руку на створку двери.
— Что тебе нужно?
— Я Алиса, — назвалась я и наконец вспомнила, что нужно сделать реверанс.
— Если ты выпрашиваешь милостыню, я угощу тебя метлой…
— Меня прислали сюда сестры из аббатства, — заявила я твердо.
Взгляд ее стал еще более презрительным, а губы искривились.
— А, так ты — та самая девчонка. Никого лучше они не нашли? — На это я хотела ответить, что лучше меня они никого и не могли предложить, я ведь у них единственная послушница, но женщина махнула рукой. — Ладно. Раз уж ты здесь, постараемся сделать, что сможем. Только впредь ходи через черный ход, со двора, возле уборной.
Вот и все. Я вошла в свой новый дом.
А в доме было неуютно. Даже не имея никакого опыта, я сразу, едва переступив порог, почувствовала, какая напряженная атмосфера здесь царит.
Дженин Перрерс, хозяин дома. Ростовщик-кровопийца. По внешности не скажешь, что он человек алчный, но очень скоро я поняла, что в этих стенах последнее слово принадлежит отнюдь не ему. Высокий, сутулый, он коверкал английские слова на чужеземный лад, но говорил только тогда, когда его спрашивали, да и тогда говорил мало. Дела он вел с раздражающей скрупулезностью. Он жил и дышал только одним: накапливал и ссужал под людоедские проценты золото и серебро. Лицо его можно было бы назвать добрым, если бы не глубокие морщины и впалые щеки, напоминавшие скорее череп мертвеца. Когда он снимал шапку, этот череп к тому же оказывался голым — только сзади, на шее, уцелело несколько грязных завитков, — что придавало ему сходство с гладеньким яйцом. Сколько мастеру Перрерсу лет, я угадать не могла, но мне он показался очень старым, потому что двигался с трудом, а глаза его совсем поблекли. У него вечно были перепачканы чернилами пальцы и даже губы, потому что иногда он, задумавшись, начинал жевать перо.
Мне он кивнул, когда я подавала на стол ужин, старательно придвигая к нему поближе каждое блюдо. Только этот кивок и показал, что он заметил прибавление числа домочадцев. Этот человек нанял меня, от него теперь зависело все мое будущее.
Бремя власти в доме лежало на плечах Дамиаты Перрерс, или Синьоры, сестры хозяина, которая с самого начала ясно дала мне почувствовать свою неприязнь. В ее взглядах не было ни капли доброты. Она олицетворяла собой силу, крепкую руку, твердо держащую весь дом в кулаке, и худо приходилось тем, кто навлекал на себя ее неудовольствие. В доме ничего не происходило без ее разрешения или хотя бы ведома.
Был мальчик для тяжелой работы: он перетаскивал всевозможные тяжести и чистил уборную. Этот паренек говорил мало, а мозгами работал еще меньше. Он влачил жалкое существование, быстро жевал, что давали, и снова исчезал в недрах дома, где вечно находилась для него работа. Имени его я так и не узнала.
Жил здесь также мастер Уильям де Гризли. Он был в доме одновременно и своим, и чужаком, поскольку имел дела и на стороне. Интересный человек: он привлек мое внимание, но сам меня избегал с удивительным упорством. Этот писец был человеком незаурядного ума, с черными волосами и бровями, с острым носом, делавшим его похожим на крысу, и бледным лицом, словно бы никогда не видевшим солнца. В нем было не больше живости, чем в той камбале, которую синьора Дамиата приносила с рынка. В его обязанности входило записывать все сделки, совершенные за день. У мастера Перрерса все пальцы были в чернилах, но готова поклясться — у мастера Гризли чернила текли в жилах вместо крови. На меня он не обращал внимания, точно так же, как на какого-нибудь таракана, бежавшего по полу комнаты, в которой он хранил гроссбух и учетные книги с записями об отданных в долг и возвращенных заемщиками суммах. С ним я всегда была настороже — чувствовался в нем какой-то душевный холод, который меня отталкивал.
Наконец, в доме жила я. Служанка, которой выпадала вся та работа, какую не поручали парню. Такой работы было предостаточно.
Вот и все мои первые впечатления о семье Перрерс. А поскольку от аббатства в Баркинге меня теперь отделяло несколько десятков миль, то я находила свое положение вполне терпимым.
«Господи, помоги тому мужчине, который на вас женится, мистрис!..» — «Я не выйду замуж».
Пресвятая Богородица! Мое поспешное утверждение обернулось чистой издевкой. Не минуло и недели, как я, стоя у алтарных врат, обменялась брачными обетами с мужчиной.
Синьора Дамиата, судя по тону ее возражений, была удивлена и растеряна не меньше моего. Когда меня позвали к хозяевам в гостиную, находившуюся в глубине дома, она спорила с братом, откровенно высказывая свои мысли и не стесняя себя правилами приличий. По выражению ее лица можно было заключить, что мастер Перрерс только что сообщил ей о своих намерениях.
— Святая Мария! Для чего тебе жениться? — восклицала она. — У тебя есть сын-наследник, который сейчас учится в Ломбардии, готовится продолжить семейное дело. Я веду все твое хозяйство. Зачем же тебе жениться, в твоем-то возрасте? — Ее иноземный выговор стал заметнее, согласные она произносила с присвистом. — Если уж тебе так захотелось, подыщи себе девушку из купеческой семьи нашего круга. Девушку, у которой есть приданое, за которой стоит достаточно известная семья. Господи Иисусе! Ты что, не слышишь меня? — Она вскинула кулаки, словно собиралась поколотить брата. — Такому солидному человеку, как ты, эта девчонка совершенно не подходит.
А я-то считала, что мастер Перрерс здесь вовсе и не хозяин! Он мельком взглянул на меня и снова стал перелистывать небольшую книжку с деловыми записями, которую перед тем вынул из кармана.
— Я выбрал эту. Я на ней женюсь. И не о чем больше говорить.
Меня, разумеется, никто ни о чем не спрашивал. Я присутствовала при их диалоге, но не участвовала в нем — как кость, за которую грызутся две собаки. Разве что мастер Перрерс не рычал и не кусался: он просто объявил о своем решении и твердо на нем стоял, вынудив сестру в конце концов умолкнуть и смириться. Под венец я пошла в тех же грязных юбках, в которых резала лук и потрошила рыбу, — денежные ассигнования на молодую жену явно предусмотрены не были. Ничем не похожая на счастливую невесту, мрачная и сердитая, я была вынуждена подчиниться, потому что другого выхода не видела. На ступенях церкви мы стояли с Дженином Перрерсом и свидетелями, призванными удостоверить это событие. Синьора Дамиата, насупившись, хранила молчание; лицо мастера Гризли, оказавшегося под рукой, не выражало вообще ничего. Мы пробормотали положенные ответы на равнодушные вопросы священника, и я стала мужней женой.
Что было потом?
Ни пира, ни празднества, ни видимого признания моего нового положения в этом доме. Не досталось мне даже кружки пива со свадебным пирогом. Как я понимала, это было просто очередное деловое предприятие, и раз я не внесла в него свою долю, то и праздновать мне нечего. Все, что мне запомнилось, — это дождь, который насквозь промочил мой чепец, пока мы приносили брачные обеты, да пронзительные вопли мальчишек, которые дрались за пригоршню монеток, неохотно брошенную мастером Перрерсом, дабы явить свою доброту. Да, еще помню, как мастер Перрерс крепко вцепился в мою руку, — это ощущение казалось мне единственно реальным на протяжении всей церемонии, которая происходила словно бы и не наяву.
Оказалась ли я в лучшем положении, чем Христова невеста? Отличался ли чем-нибудь брак от вечного рабского служения? По мне, большой разницы не было. Сразу после свадебной церемонии меня отправили смести паутину, которая обильно свисала с потолка в подвале, где хранились разнообразные припасы. Я ожесточенно орудовала метлой, заставляя пауков разбегаться в страхе.
Но самой мне спрятаться было негде. Куда бежать-то?
Я была очень сердита, но в глубине души понемногу нарастал страх: неумолимо приближалась ночь, первая брачная ночь, а мастера Перрерса никак не назовешь красавцем любовником.
Синьора заглянула в мою крошечную каморку, прилепившуюся под самой крышей, и недовольно махнула мне рукой. Босая, в ночной рубашке, я пошла вслед за ней вниз по лестнице. Синьора открыла дверь в спальню моего супруга, втолкнула меня туда и захлопнула дверь за моей спиной. Я замерла, не смея шелохнуться. В горле совершенно пересохло, внутри все сжалось от недобрых предчувствий, а душу переполнил страх, рожденный полным неведением относительно того, что меня ждет. Я ничего не хотела, только бы исчезнуть из этой комнаты. Совершенно не представляла себе, зачем я нужна мастеру Перрерсу — неуклюжая, некрасивая, да еще и бесприданница. Меня окружала полнейшая тишина, разве что кто-то непрестанно скребся, как мышь, пытающаяся прогрызть оштукатуренную фанерную стену.
Вынуждена признаться, что в ту минуту я лишилась всякой смелости. И закрыла глаза.
Ничего не произошло.
Тогда я слегка приоткрыла веки, и моим глазам предстала огромная кровать, занавешенная пыльным пологом. Пресвятая Дева! Этот полог предназначался для того, чтобы скрыть от посторонних взоров находящуюся за ним супружескую чету. Я снова зажмурилась и стала молиться о своем спасении.
Чего именно он от меня потребует?
— Можешь открыть глаза. Она ушла.
Хриплый голос, произносивший слова с чужеземным акцентом, звучал добродушно. Я повиновалась и увидела Дженина в домашнем халате какого-то особенно ядовитого желтого цвета, закрывавшем его от шеи до самых лодыжек. Хозяин сидел за столом, заваленным стопками документов и ворохами свитков. Возле его правой руки лежали кожаный кошель, из которого торчали деревянные палочки, и другой, в котором супруг носил серебро. Слева стоял канделябр со свечами лучшего качества; от них шел золотистый свет, в лучах которого плясали пылинки. Но запах в комнате был резкий, неприятный — запах пыли, пергамента и недавно разведенных чернил. Я невольно сморщила нос. По наитию я догадалась, что так пахнет богатство, которое рождается из этих аккуратных записей. У меня даже почти прошел страх.
— Входи. Подойди ближе к огню.
Я сделала робкий шажок. Во всяком случае, он не собирался бросаться на меня прямо сию минуту. Ни один из нас не был обнажен ни в малейшей степени.
— Вот. — Он потянулся к большому сундуку, стоявшему рядом, вынул оттуда накидку, встряхнул. — Замерзнешь. Возьми. Это тебе.
Впервые в жизни я получила настоящий подарок и сразу закуталась в роскошную накидку, восхищаясь тонкой работой ткача, мягкостью шерсти и ее теплым красно-коричневым цветом. Теперь мне недоставало только пары башмаков. Наверное, мастер Перрерс заметил, как я переминаюсь с ноги на ногу на холодных досках пола.
— Надень вот это!
И подтолкнул ко мне по полу пару кожаных туфель нелепого красного цвета. Очень больших, зато мягких и нагретых его ногами. Я обулась и вздохнула от удовольствия.
— Ты невинна? — спокойно поинтересовался он.
Все удовольствие тут же испарилось, как туман под лучами утреннего солнца, кровь в жилах заледенела, как и ноги, по телу пробежал озноб. Я покрылась гусиной кожей. Мне не хотелось, чтобы этот старик прикасался ко мне. Меньше всего на свете я хотела оказаться с ним в одной постели, где он станет шарить по моему обнаженному телу своими испачканными в чернилах пальцами, царапая меня к тому же неподстриженными ногтями.
— Да, — выговорила я с трудом, надеясь, что он не заметит отвращения в моем голосе, однако мастер Перрерс смотрел на меня пристально, прищурив глаза. Неужели ему и так непонятно? Я почувствовала, как от унижения начинает пылать лицо.
— Само собой разумеется, — заметил мой супруг, коротко кивнув. — Позволь, я скажу тебе кое-что такое, что прогонит тревогу с твоего лица. Я тебя не трону. Уже много лет я не нахожу удовольствия в женщинах. — Я никогда еще не слышала, чтобы он произносил так много слов подряд.
— Тогда отчего же вы на мне женились? — спросила я.
Раз уж мне нечего больше ему дать, то я полагала, что он стремится заполучить юную деву на свое ложе. А если это не так?.. Мастер Перрерс посмотрел на меня с таким удивлением, словно заговорил один из его гроссбухов, потом хмыкнул — вероятно, нашел это забавным.
— Мне нужно, чтобы кто-то заботился обо мне в старости. Нужна жена, чтобы моя сестрица успокоилась и не грызла меня, заставляя жениться на купеческой дочке, семья которой потребует от меня ощутимых расходов.
А!.. Я вздохнула. Сама же просила его сказать правду, так на что жаловаться? Я стану о нем заботиться и ничего не потребую взамен. Не слишком-то лестно.
— Тебе брак обеспечит прочное положение, — продолжал он, будто читая мои мысли. Потом добавил: — У тебя есть на примете молодой любовник?
— Нет! — Его прямота поразила меня. — Ну, пока еще нет. Я не знакома ни с кем из молодых людей.
— Вот и хорошо, — усмехнулся он. — Тогда, думаю, мы отлично поладим. А когда ты присмотришь себе молодого человека, который придется тебе по вкусу, скажешь мне. Я сделаю в завещании распоряжения в твою пользу.
И вернулся к своим счетам. Я стояла и молча смотрела, не зная, что делать и говорить теперь, когда он объяснил, что от меня требуется. Может, мне уйти? Его заскорузлая рука с толстыми пальцами двигалась вверх и вниз по колонкам записей, по рядам цифр, возникавших под его пером, по тянувшимся сверху вниз пометкам, на которые он не жалел чернил. Меня это зачаровывало. Текли минуты. Волнение утихло. Да, не могу же я стоять здесь до конца света.
— Что я должна теперь делать, мастер Перрерс?
Он поднял на меня взгляд, удивленный тем, что я все еще в спальне.
— Тебе хочется спать?
— Нет.
— Наверное, кое-что нужно сделать. Давай… — Он посмотрел вокруг своими водянистыми глазами. — Налей две кружки эля и садись сюда.
Я налила эль и села на табурет, который муж подтолкнул в мою сторону.
— Ты умеешь писать?
— Умею.
В последние годы в аббатстве, побуждаемая невыносимой скукой, от которой я рада была искать спасения даже в учебе, я стала более прилежно относиться к урокам — настолько, что сестра Года в знак благодарности посвятила четки святому Иуде Фаддею[10], который считается покровителем безнадежных дел. И теперь я могла писать совершенно уверенно.
— Значит, и монастыри на что-то годятся… А числа умеешь писать, складывать, вычитать?
— Нет.
— Ну, научишься. Давай. — Он повернул учетную книгу и толкнул ко мне через стол. — Перепиши этот список. А я посмотрю.
Я села к столу, сгорая от своего извечного любопытства, разобралась, чего именно от меня ждут, и, взяв одно из перьев, стала очинять его острым ножиком, который мой муж держал наготове для этой цели. Умению хорошо очинить перо я научилась по случайности (а может быть, и по собственному хотению) у женщины редкой красоты и порочных наклонностей, которая однажды почтила аббатство своим присутствием. У женщины, которая имела достойную сожаления привычку возникать в моих мыслях тогда, когда мне этого меньше всего хотелось. Сейчас было не место и не время для нее, столь превозносимой всеми графини Кентской.
— Это что? — спросила я, изгнав из мыслей образ графини. И указала на кожаный кошель.
— Счетные палочки.
— А что ими делают? И для чего на них зарубки?
— Они отмечают поступления, долги выплаченные и долги, подлежащие оплате, — объяснил мне муж, с тревогой поглядывая, не испорчу ли я его перо. — Палочка расщепляется на две половинки, и каждая сторона — заимодавец и заемщик — хранит одну половинку у себя. Они должны совпадать.
— Умно придумано, — заметила я, взяла одну палочку и рассмотрела повнимательнее. Она была прекрасно выточена из орехового дерева, а единственным ее назначением было регистрировать владение деньгами.
— Не обращай на них внимания. Пиши цифры!
И я стала писать — первые минут пять под его присмотром, а потом он, вполне довольный, позволил мне работать одной.
Удивительная выдалась ночь! Волнения улеглись, и я ощущала только удовольствие по мере того, как под моим пером росли и росли цифры, показывающие накопление немалого количества золотых монет. Когда мы покончили со счетами за минувшую неделю, муж велел мне ложиться в огромную постель и спать. Я упала на кровать и провалилась в сон под убаюкивающий скрип пера по пергаменту. Лег ли муж рядом со мной, когда завершил свою работу? Полагаю, нет. Простыни остались несмятыми, как и моя ночная рубашка, прикрывавшая меня от подбородка до лодыжек, как целомудренную монахиню.
Все вышло не так, как я ожидала, но могло ведь быть и гораздо хуже.
Наутро я проснулась в совершенной тишине. Было еще совсем рано, как я понимала, и темно, поскольку полог над ложем был старательно задернут. Я тихонько выглянула наружу: огонь в камине давно догорел, кружки и книги исчезли со стола, в комнате никого не было. Я растерялась, потому что было совершенно неясно, как мне теперь держаться и что делать. Я откинулась на подушки, не спеша вылезать из теплой постели, и стала рассматривать руки, поворачивая их то так, то эдак. На них были хорошо заметны печальные следы слишком близкого знакомства с ледяной водой, горячими тарелками, с жиром и грязью. Они ничем не напоминали руки мистрис Перрерс. Я скривилась, оценивая мрачный юмор ситуации. Что же, я теперь хозяйка этого дома? Если так, то я посягну на владения синьоры Дамиаты. Попробовала представить себе, как вхожу в гостиную и сообщаю Синьоре, что мне желательно съесть на завтрак и сколько локтей ткани я собираюсь купить, чтобы сшить себе новое платье. А потом представила, что она мне на это ответит. Что я не смею так говорить с ней!
Но ведь это мое право!
Несомненно. Но не сразу. Инстинкт самосохранения работал у меня безотказно. Я направила свои размышления на более существенные для данной минуты вопросы. Что сказать нынче утром мастеру Перрерсу? Как мне его называть? Жена ли я ему на самом деле, коль осталась девственницей? Завернувшись в новую накидку, я вернулась в свою каморку, оделась как служанка, которой я вроде бы и осталась, и пошла вниз по лестнице на кухню, чтобы приступить к дневным делам. Нужно было разжечь камин, прогреть очаг на кухне. Если идти быстро и тихонько, то я не привлеку к себе внимания. Так я рассчитывала, да только неуклюжие туфли застучали по ступенькам, и тут же меня окликнули.
— Алиса!
Я хотела было проскочить мимо, будто и не слышала ничего.
— Подойди ко мне, Алиса. И закрой дверь.
Я собрала всю свою храбрость. Разве минувшей ночью он не был добр ко мне? Я свернула с прежней дороги и увидела мужчину, женой которого стала только вчера, за столом, согнувшегося над своими учетными книгами с пером в руке. Это происходило в кабинете, где он ежедневно принимал бесконечный поток заемщиков. Точно так же, как бывало во все прочие утра, когда я приносила ему эль с хлебом. Я сделала реверанс. Очень трудно расставаться с привычками.
— Ты хорошо спала? — поднял он на меня глаза.
— Нет, господин.
— Думаю, ты слишком переволновалась.
Я заподозрила бы, что он хочет посмеяться надо мной, однако черты его печального лица нисколько не изменились. Он протянул мне небольшой кожаный мешочек, туго завязанный. Я посмотрела на мешочек, потом снова на мужа.
— Возьми.
— Вы хотите, чтобы я купила вам что-нибудь, господин.
— Это тебе. — Поскольку я не двинулась с места, он положил мешочек на стол и подтолкнул ко мне.
— Это мне?..
Там были деньги. И, насколько я успела понять, гораздо больше, чем жалованье служанки. Дженин Перрерс оперся локтями о стол, сложил перед собой руки, опустил на них голову и посмотрел на меня грустным взглядом; потом сказал медленно, словно обращался к скорбной разумом:
— Это подарок невесте, Алиса. Утренний подарок. Разве здесь, в Англии, так не принято?
— Даже не знаю. Откуда мне знать?
— Ну, если угодно, это подарок невесте за принесенную в жертву невинность.
— Тогда я не заслужила, — ответила я, нахмурившись. — Вы же не потребовали от меня такой жертвы.
— Ну, в этом виноват я, а не ты. А ты такой подарок вполне заслужила — за то, что терпеливо сносила причуды и слабости старика. — Наверное, щеки у меня сделались красными, как печати на лежащих перед ним документах, так я удивилась его благодарности, так огорчилась, что слова мои прозвучали как бы даже осуждающе. — Возьми, Алиса. У тебя растерянный вид. — Наконец губы его тронуло некоторое подобие улыбки.
— Я действительно растеряна, господин.
— Ты моя жена, и мы не станем нарушать обычай.
— Слушаюсь, господин. — Я сделала реверанс.
— Еще одно… — Он нервно провел пером по разбросанным свиткам и спискам. — Ты сделаешь мне приятное, если не станешь никому говорить…
— О проведенной нами ночи, — закончила я за него, тронутая его добротой. Глаза мои тем временем жадно глядели на мешочек с монетами. — Это останется между нами, господин.
— И о предстоящих ночах…
— Я и о них не стану никому говорить. — В конце концов, кому я могла об этом рассказать?
— Спасибо. Хорошо, если бы ты сейчас принесла мне эля. И скажи Синьоре, что я через час выйду…
— Слушаюсь, господин.
— Мне будет приятно, если ты станешь называть меня по имени — Дженин.
— Слушаюсь, господин, — ответила я. Представить себе подобное я была не в силах.
В чисто выбеленном коридоре я остановилась и прислонилась к стене — ноги словно отказывались держать меня. Кошелек оказался довольно тяжелым. Я взвесила его на руке, и монеты внутри приятно зазвенели. За всю предыдущую жизнь я не видела столько денег сразу. И принадлежали они мне. Кем бы я ни была, но теперь я уже не нищая послушница.
Но кто же я все-таки? Кажется, ни то ни се. Я жила в доме, который не был моим, я стала мужней женой, но осталась девственницей, отлично сознавая, что принесенные мною брачные обеты совершенно не меняют моего положения в этой семье. Что это так, я могла спорить и поставить на кон все свалившееся на меня богатство. Синьора Дамиата ни за что не станет признавать мою волю. И я никогда не сяду на почетное место за столом.
По каменной стене зашуршала кожа, и я подняла глаза.
В узком коридоре я стояла не одна. Немного дальше оттолкнулся от стены и вышел из тени, приближаясь ко мне, мастер Гризли. Виду него был таинственный, как у заговорщика, поэтому я сразу спрятала кошель в складках подола. Он остановился на расстоянии вытянутой руки от меня, прислонился спиной к стене, скрестил руки на груди и уставился на противоположную стену; он не располагал к общению, но и враждебным не выглядел. Этот человек в силу богатого опыта привык надежно скрывать свои истинные намерения. А уж мысли свои он скрывал так глубоко под маской внешней невозмутимости, что обнаружить их могло разве что землетрясение.
— Вы же не собирались спрятать его у себя под подушкой, правда? — спросил он меня тихим голосом.
— Что спрятать? — переспросила я, крепко сжимая кошелек.
— Утренний подарок, который вы получили.
— Откуда вы?..
— Еще бы мне не знать. Кто в этом доме ведет все учетные книги? Мне вовсе не пришлось ломать себе голову. — Он скользнул по мне проницательным взглядом и снова вперил взор в стену. — Рискну предположить, что деньги уплачены за что-то такое, что так и не было куплено.
Язык мой был готов к резкой отповеди. Я не позволю какому-то счетоводу запугивать меня.
— Это касается только мастера Перрерса и меня.
— Разумеется. — Неприятный человек, но придраться не к чему. Чем-то он напоминал мне баранье сало, что всплывает на поверхность воды, когда вымоешь сковороды.
— И уж вас никак не касается.
— Совершенно никак. — Он склонил голову в знак согласия. — Я пришел только для того, чтобы дать вам добрый совет.
— Отчего это? — спросила я, глядя ему в лицо.
— И сам не знаю, — ответил он, не поворачивая головы.
— Но тогда я не вижу смысла.
— А нет никакого смысла. Такой поступок противоречит всему моему деловому опыту. Но, несмотря на это… Скажем, что-то побуждает меня дать вам совет. Не прячьте деньги под подушкой и вообще не прячьте их в этом доме. Иначе она их найдет.
— Кто? — Впрочем, ответ мне и так был прекрасно известен.
— Синьора. У нее удивительный нюх на такие вещи, не хуже, чем у мыши, которая может отыскать сыр, спрятанный в глубине шкафа. А когда она их учует, вам этих денег больше не видать.
— А я думала, что она ничего о них и не знает, — ответила я.
— Разве Дженин сказал вам так? Она не может не знать. Здесь ничто не происходит без ее ведома. Ей известно, что вы получили деньги, и ей это не нравится. Все деньги в этом доме составляют наследство ее племянника, сына Дженина.
Ну да, отсутствующего наследника, который учится ростовщичеству в Ломбардии. Я вполне могла в это поверить.
— Раз уж вы надумали дать совет, скажите, что же мне делать, — сердито проговорила я. Кто таков этот всезнайка, чтобы указывать мне, как я должна поступать? — Разве что выкопать яму в саду…
— Яму она отыщет…
— Какая-нибудь щель на чердаке?
— Там она тоже найдет.
— Тогда как быть? — Меня сильно раздражали его претензии на всезнайство.
— Отдайте их мне.
Все раздражение у меня сразу улетучилось. Я засмеялась, не веря своим ушам.
— Вы меня за дурочку принимаете?
— Я принимаю вас за разумную женщину. Отдайте деньги мне. — Он и вправду протянул руку ладонью вверх. Пальцы его были все в чернилах.
— Не отдам.
Он вздохнул так, словно его терпение подходило к концу.
— Отдайте мне, а я употреблю их на то, чтобы вы стали богатой женщиной.
— Вам это зачем?
— Послушайте меня, мистрис Алиса! — Насчет терпения я не ошиблась: произнося мое имя, он понизил голос до шипения. — Что не теряет своей ценности никогда, что бы ни происходило?
— Золото.
— Нет. Его можно украсть, и вы останетесь ни с чем.
— Ну, тогда драгоценные камни.
— Та же история. Подумайте хорошенько!
— Ну, раз уж вы такой умный…
— Земля! — Глаза счетовода засверкали. — Земельные владения. Вот как делаются дела. Он дал вам туго набитый кошелек. Отдайте деньги мне, а я куплю вам участок земли.
На какой-то момент я заколебалась, соблазнившись блеском в его глазах, сейчас смотревших прямо на меня. У него даже нос подергивался от предвкушения. Потом верх взял здравый смысл.
— Но я же не смогу заниматься земельным участком! На что он мне?
— А вам и не нужно им заниматься. Есть способы все уладить. Отдайте мне свой утренний подарок, а я покажу вам, как делаются дела.
Ну-у… Над этим следовало хорошенько поразмыслить…
— А что вы попросите взамен? — без обиняков поинтересовалась я.
— Умница! Я догадался, что в вас есть задатки настоящей деловой женщины. Я назову вам свою цену, но поверьте, она будет не слишком высока.
— Зачем вам все это нужно? — Я внимательно посмотрел на него. Какой холодный и скользкий человек!
— Мне кажется, что перед вами открываются заманчивые перспективы.
— В качестве землевладелицы? — Мне в это совершенно не верилось.
— Почему бы и нет?
На это ответить мне было нечего. Я стояла молча, едва дыша, а кошелек у меня в руках казался все тяжелее и тяжелее. Я подбросила его на ладони.
— Мы не можем стоять здесь до вечера! — прервал мои размышления Гризли. — Я сделал вам предложение. Соглашайтесь или откажитесь. Но если вы спрячете деньги в этом доме, они исчезнут еще до конца нынешней недели.
— Мне придется довериться вам.
— Великолепное решение.
— Сколько на это понадобится времени?
— Всего несколько дней.
Я подняла кошелек. Поколебалась немного. Потом уронила мешочек в его протянутую руку.
— Если вы меня ограбите… — начала я.
— То что, мистрис Перрерс? — Эти слова заставили меня тихонько рассмеяться: ко мне впервые обращались подобным образом.
— Если вы украдете мои деньги, мастер Гризли, советую вам нанять отведывателя пищи, прежде чем есть и пить что бы то ни было в этом доме.
— В этом не будет нужды, мистрис.
Кошелек исчез в рукаве Гризли, а сам Гризли исчез в конце коридора.
Придется ли мне впоследствии горько пожалеть о сделке, в которую я только что бросилась очертя голову? Могу сказать одно: меня с головы до худо обутых ног захватило какое-то невероятное радостное возбуждение.
«Дура! Умалишенная! — Все последующие дни я ругала себя с нарастающей яростью. — Он назвал тебя разумной женщиной. Деловой женщиной. И ты тут же позволила себя одурачить! Он-то знал, как это сделать, как обвести тебя вокруг пальца!»
Бог свидетель, так он и сделал! К концу недели я уже не сомневалась, что больше не увижу своего «утреннего подарка». Гризли уклонялся от всякого общения, не обменялся со мной ни словечком и избегал встречаться взглядами. Наконец нетерпение пересилило мои понятия о приличиях.
— Что вы сделали с… — чуть слышно прошептала я ему на ухо, когда он за завтраком скользнул на свой табурет.
— Не откажите передать мне кувшин эля, мистрис, — вот и все, что он мне ответил. Одним глотком опорожнил свою кружку, сунул в рот кусок хлеба и вышел из комнаты, лишив меня возможности докучать ему.
— Помешай в котле, — распорядилась мистрис Дамиата, протягивая мне ложку.
Так что я не имела возможности последовать за Гризли, а немного позднее его отправили в город по делам, которые задержали его там до утра.
Потом Гризли возвратился домой. Ну, на этот раз ему от меня не уйти! Его что, совесть мучит? По его аппетиту этого не скажешь, поскольку он с успехом сжевал несколько ломтиков говядины и половину лепешки, не обращая внимания на хмурые взгляды, которые я бросала на него через стол.
— Нам нужно поговорить! — прошептала я и ткнула его между худыми лопатками, опуская на стол перед ним тарелку с селедкой. Его ответный взгляд был холодным, прямым, без малейшего выражения.
— Какая заботливая девочка! — бросила Синьора. — Такое блюдо! Можно подумать, у нас денег куры не клюют!
Гризли продолжал жевать с явным удовольствием, но когда я стала очищать тарелки, он достал из-за отворота кафтана свернутый в трубку документ, как бродячий жонглер извлекает кролика из рукава, постучал по нему пальцем, затем незаметно для Синьоры опустил в стоящий на очаге пустой кувшин. Я-то отлично все заметила. Пальцы у меня стали подергиваться от нетерпения, а грудь словно наполнилась горячими угольями.
Ну наконец-то! На кухне не осталось никого: Дженин закрылся в кабинете со своими гроссбухами, Синьора поднялась наверх, в свою спальню, я же выхватила спрятанный свиток и умчалась с ним к себе. Осторожно развернула, прочитала написанный черными чернилами текст. Задача оказалась не из легких. Те слова, которыми пользуются законники, мне ни о чем не говорили, предложения никак не удавалось связать, а сам текст был написан очень убористо. Но сомневаться не приходилось: Гризли выполнил свое обещание. Там стояло мое имя — Алиса Перрерс. Мне принадлежал участок на улице Грейсчерч в городе Лондоне.
Я не выпускала документ из рук, не спускала с него глаз, будто он мог улетучиться, стоит мне отвести взгляд. Мое. Это — мое. Но что это вообще такое? А главное — что мне с этим делать?
Я поймала Гризли на следующий день рано утром — он сидел на кухне, примостившись на табурете, и готовился выпить эля.
— Это все очень здорово, только что мне теперь с этим делать?
— Ничего, только получать доходы, мистрис, — ответил он, глядя на меня как на дурочку.
— Не понимаю.
— Неважно, понимаете или нет. Это принадлежит вам.
Он пристально смотрел на меня, словно ожидая, что я скажу на это. Чего он ждет, я не знала, поэтому сказала то, что думала.
— Важно. — И тут до меня вдруг дошло, насколько это важно для меня. — Для меня это куда важнее, чем вы можете подумать. — Я бросила на него горящий взгляд. — Вам не удастся помыкать мною, мастер Гризли. Вы мне все до конца выложите, вот тогда я и пойму. Это моя собственность, и я желаю знать, что и как она станет мне приносить. — Он рассмеялся. Да, рассмеялся по-настоящему, хотя и хриплым, лающим смехом. — Ну, что это вы?
— Я не сомневался, что не ошибусь.
— В чем?
— В вас, мистрис Перрерс. Сядьте! И не спорьте! Я сейчас преподам вам первый урок.
Я села, и Гризли объяснил мне, какие блестящие возможности для женщины в моем положении открывает правовое понятие «передача собственности в пользование».
— Собственность — ваша, вашей она и останется, — объяснял он. — Но вы разрешаете другому лицу или лицам управлять ею в ваших интересах — за вознаграждение, разумеется. Выбирать вы должны осмотрительно: доверенный человек должен иметь процент с ваших доходов, тогда он и управлять будет добросовестно. Теперь понимаете? — Я кивнула. — Вы наделяете такого человека законными правами на землю, но фактически сохраняете ее за собой. Ясно? В конечном счете владелицей являетесь вы, только вам совершенно ничего не нужно делать в смысле повседневного управления.
— И я смогу заключить с доверенным договор на такой срок, какой сама сочту нужным?
— Да.
— И для надзора за всем этим мне, вероятно, требуется законник?
— Это был бы мудрый выбор.
— Что же это за собственность, которая принадлежит мне и в то же время не принадлежит?
— Жилой дом, а на первом этаже находятся лавки.
— Можно посмотреть на дом?
— Разумеется.
О чем еще нужно обязательно спросить?
— Остались ли какие-то деньги после совершения сделки?
— А вы ничего не упускаете, так? — Он отвязал от пояса кошель и вытряс на стол несколько монет.
— Вы сказали, что мне потребуется законник. — Гризли смотрел на меня без всякого выражения. — Мне думается, моим законником станете вы.
— Несомненно, это в моих силах. В следующий раз, мистрис Перрерс, мы с вами станем деловыми партнерами.
— А будет и следующий раз?
— О, думаю, будет. — Он отвел глаза, и мне показалось, что в них проглянуло лукавство.
— А это хорошо или плохо — быть деловыми партнерами?
От такого невежества заостренный нос Гризли даже дернулся. Он-то понимал, что одной мне не справиться. Но я собой пока что была довольна — довольна теми шагами, какие предпринимала до сих пор. Я стала своего рода женой, пусть и проводила ночи, работая со счетными палочками Дженина и заполняя книги колонками цифр, а теперь сделалась землевладелицей. По коже прокатилась легкая волна удовольствия, вызванная этими мыслями и сопутствующими им чувствами. Ощущение мне тоже понравилось. И я совершила первую осмысленную деловую операцию: подвинула монеты назад, к Гризли.
— Пусть это будет вам — как правильно назвать? Аванс? Отныне вы мой поверенный, мастер Гризли.
— Так и есть, мистрис Перрерс. — И мигом смел монеты в свой кошель.
А вот где мне спрятать свидетельство о владении землей? Я спрятала его на себе, между платьем и нижней сорочкой, привязав шнурком. Время от времени я доставала его, трогала, пробегала пальцами по словам, которые придавали ему законную силу. В этом документе заключалась моя будущность. Уверенность. Постоянство. Слова документа были словно теплые руки, согревающие меня в зимний день. Приносящие успокоение.
И Гризли не нравился мне уже не так сильно, как прежде.
Вернулась чума[11]. В Лондон потихоньку прокралась эпидемия «черной смерти», которая свирепствовала в стране перед самым моим рождением. На улицах, на рынке, в пивных ни о чем другом не говорили. Шепотом передавали, что на этот раз она пришла по-другому, ее даже назвали «детской чумой»: безжалостно поражала малышей, но обходила стороной крепких людей, достигших расцвета лет.
Однако, когда чума переступила порог нашего дома, она оказалась непредсказуемой тварью.
Изо всех нас она выбрала своей жертвой Дженина. В обычный день мы, как всегда, собрались за обеденным столом, и тут муж закатил рукав — вся рука была покрыта россыпью красных пятнышек. Мы молча уставились на эти зловещие знаки, не в силах поверить своим глазам. Обед был забыт. Дженин без единого слова поднялся по лестнице и заперся в своей комнате. В дом Перрерсов запустил свои когти ужас, необоримый и отвратительный.
Наутро мальчик-слуга исчез. Гризли нашел себе дела в других районах города. Синьора Дамиата с неприличной поспешностью спряталась у своей кузины, дом которой зараза обошла стороной. Кто же ухаживал за Дженином? Да я. Я была ему женой, пусть он ни разу и не прикоснулся ко мне, разве что трогал своими заскорузлыми пальцами мою руку, указывая на какую-нибудь ошибку в том, что я переписывала. И я была обязана сослужить ему хотя бы эту последнюю службу.
От красно-фиолетовых пятен, причудливым узором разукрасивших его руки, спасения не было.
Я омыла ему лицо и все тело, стараясь дышать неглубоко, чтобы меньше ощущать вонь гниющей плоти. Мысли были заняты одним: что рассказывала о чуме сестра Марджери, которая в аббатстве занималась врачеванием. Рассказывала она совсем немногое, но я старалась действовать на основании ее указаний: распахнула настежь окна в комнате Дженина, выпуская зараженный воздух, а ради своей безопасности вымыла руки и лицо в уксусе, ела только хлеб, вымоченный в лучшем вине, какое было у Дженина (как возмутилась бы подобной расточительности синьора Дамиата!). Ничто, однако, не могло остановить ужасное, стремительное развитие болезни Дженина. Каждый звук гулко разносился по пустому дому — а единственными звуками в нем были хриплое дыхание моего пораженного болезнью мужа и шаги смерти, которая надвигалась все ближе и ближе.
Боялась ли я за себя?
Да, боялась, но если зловещие бубоны могли перейти с Дженина на меня, это уже должно было произойти. Если чума способна перепрыгивать через стол, за которым мы корпели над учетными книгами, то я уже была обречена. Поэтому я решила остаться в доме и пережить разыгравшуюся бурю.
Под дверью спальни появилась записка. Сгорбившись на табурете, смертельно уставшая, я наблюдала за тем, как медленно кто-то просовывает ее из коридора. Дженин дышал все тяжелее, жар не отпускал его ни на миг. Я тихонько подошла к двери, прислушалась к удаляющимся легким шагам, подобрала маленький листок, развернула его и прочитала — любопытство оказалось сильнее усталости. Ха! Никакой загадки. Я без труда узнала руку Гризли, да и весь текст был написан таким почерком, каким счетовод пишет документы. Я снова опустилась на табурет и вчиталась в текст.
Когда женщина становится вдовой, она получает по закону право на вдовью долю — одну треть с доходов от имущества своего мужа. Вы не получите ничего.
По закону вдове дается сорок дней, чтобы выехать из дома и предоставить наследнику вступить в права наследства. Вас выставят в тот же день.
Как Ваш поверенный, даю Вам совет: заберите все, что сможете. Вы имеете на это право. Ничего другого из того, что Вам положено, Вы не получите.
Ясное и недвусмысленное предупреждение. Даже мороз по коже продирает. Оставив уснувшего беспокойным сном Дженина, я приступила к поискам.
Ничего! Совсем-совсем ничего!
Пока ее брат лежал при смерти, синьора Дамиата постаралась на совесть. Ни в его кабинете, ни в целом доме не осталось ничего мало-мальски ценного. В сундуках Дженина не нашлось ни единого кошеля с золотом. Не нашлось там ни свитков, ни учетных книг, ни даже счетных палочек. Она как метлой вымела дом, забрав все, что могло представлять малейший интерес для грабителей. И для меня тоже. Исчезло все и из моей собственной каморки, даже новая накидка — единственная ценная вещь, которая принадлежала мне и на которую могла положить глаз Синьора.
У меня не осталось ровным счетом ничего.
В спальне наверху Дженин испустил крик нестерпимой боли, и я возвратилась к нему. Я сделаю для него все, что в моих силах, буду омывать его и стараться облегчить страдания, хотя он уже мало чем отличался от гниющего трупа.
Конец наступил неожиданно быстро. Думается, меня саму спасло вино из запасов Дженина, а вот отвар из зеленых побегов шалфея (была у синьоры Дамиаты грядочка на ее крохотном огородике), помогавший лечить язвы и ожоги, ему совсем не помог. К вечеру второго дня он перестал дышать. Как быстро может здоровый человек расстаться с жизнью — всего лишь за то время, какого хватило бы, чтобы ощипать и сварить курицу! Он даже не осознал того, что я находилась рядом с ним. Молилась ли я о нем? Да, если считать молитвой прокалывание бубонов, чтобы выпустить из тела отвратительно пахнущий гной. Вот теперь во всем доме воцарилась полная тишина. В этой тишине я накрыла лицо мужа чистым полотном, подхватив выпавший из складок простыни документ. Потом села на табурет рядом с телом Дженина, не смея шелохнуться из страха, что смерть заметит и меня тоже.
Очнулась я от шума крыльев птицы, взлетевшей с каминной трубы на крыше. Моя душа смерти явно не понадобилась, поэтому я развернула попавший в мои руки документ и прочитала. То было свидетельство, подтверждавшее права Дженина на поместье в Уэст-Пекеме, где-то в графстве Кент. Я дважды перечитала, и в уме стало прорастать зернышко замысла. Этот документ открывал передо мной некие возможности. Как извлечь из него пользу, я не знала, зато знала человека, который в этом разберется. Только как его отыскать?
Я медленно спускалась по лестнице, но остановилась на полпути, заметив внизу фигуру — в тесной прихожей меня поджидала синьора Дамиата.
— Он умер?
— Да.
Она наспех осенила себя крестным знамением. Потом распахнула входную дверь и указала мне на порог.
— Я договорилась, чтобы забрали его тело. Сама я вернусь, когда минует эпидемия.
— А я?
— Не сомневаюсь, что ты найдешь, чем заняться, — бросила она, уже почти не замечая меня. — Чума отнюдь не умеряет аппетиты мужчин.
— А моя доля?
— Какая такая доля? — фыркнула Синьора.
— Вы не можете так поступить! — возмутилась я. — У меня есть права по закону. Не можете же вы оставить меня без крова и без денег.
Еще как могла.
— Вон!
И она вытолкала меня за двери, на улицу. Размахивая рукой и позванивая ключами, синьора Дамиата заперла дверь и удалилась, шагая прямо по лужам и кучам отбросов.
Я получила наглядный урок — до какой душевной черствости может дойти человек, когда речь идет о деньгах и выживании. И вот в свои шестнадцать лет, овдовев после длившегося чуть больше года замужества, я оказалась выброшенной за дверь, бездомной, стоящей посреди улицы. Казалось, ноги мои прикованы к мостовой. Куда мне идти? Кто предоставит мне крышу над головой? Действительность оказалась очень горькой. Вокруг бурлил Лондон, но преклонить голову мне было негде.
— Мистрис Перрерс!..
— Мастер Гризли!
Это и вправду был он — значит, не нужно даже искать его по всему городу. Он вынырнул из грязного переулка и, ссутулившись, встал рядом со мной. Я никогда еще никому так не радовалась, хотя к радости примешивалась толика злости. Да, он тоже потерял хозяина, но всегда сумеет найти и работу, и крышу над головой в доме какого-нибудь торговца. Он окинул взглядом запертую дверь, потом посмотрел на меня.
— Что вам дала эта старая метла? — спросил он без предисловий.
— Ничего, — сердито буркнула я. — Старая метла начисто вымела весь дом. — Потом я улыбнулась и помахала у него перед глазами документом. — Только это осталось. Она как-то пропустила. Это право на владение поместьем.
— Вот как? — Глаза Гризли засверкали. — И что вы намерены с этим делать?
— Мое намерение состоит в том, чтобы вы сумели сделать это поместье моим, мастер Гризли. Кажется, вы называли это правом на пользование собственностью. — Я вполне способна учиться быстро, и здесь я видела открывшуюся передо мной возможность. — Сможете этого добиться?
Он потер пальцем нос.
— Для понимающего человека это нетрудно. Можно — если меня это устроит — перевести имение на вас как вдову мастера Перрерса, ныне ставшую femme sole[12].
Одинокая женщина. С земельным участком. Эта мысль была достаточно приятна, чтобы улыбка моя сделалась шире.
— А вас это устроит, мастер Гризли? — поинтересовалась я, стараясь смотреть на него как можно увереннее. — Сможете вы сделать это для меня?
Под моим взглядом он покраснел, напряженно раздумывая. Я заговорила мягче, придав голосу просительные интонации.
— Сама я же никак не смогу этого добиться, мастер Гризли. А у вас имеются необходимые знания, опыт…
Его тонкие губы разошлись в усмешке, на мгновение обнажив пожелтевшие зубы.
— А почему бы и нет? Как я полагаю, мистрис Перрерс, это может стать основой для делового партнерства. Я стану работать на вас, а вы станете вести дела под моим руководством — когда у вас будет такая возможность. Поместье я передам в пользование какого-нибудь рыцаря, живущего по соседству… и себя самого.
Значит, вот так. Мастер Гризли не был законченным альтруистом, но маленькими женскими хитростями его можно было склонить на свою сторону. Как легко мужчины поддаются женской улыбке и откровенной лести, когда ее произносят с самым милым видом! Он протянул руку. Я присмотрелась: не то чтобы слишком чистая рука, но с длинными, удивительно изящными пальцами, которые могли колдовать над цифрами куда лучше, чем это удавалось мне, и ум его, как мне было известно, пальцам ни в чем не уступал. Здесь, на крыльце своего бывшего дома, я вручила Гризли документ, и мы пожали друг другу руки, как делал Дженин, заключив сделку с клиентом.
Ощутив пожатие его грубой руки, я задумалась о том, на что решилась. Самое удивительное для меня заключалось в том, что я перестала обращать внимание на его неприятную внешность. Теперь у меня появился деловой партнер, как называл это сам Гризли.
— Вы же не обманете меня, ведь правда? — Я нахмурилась и постаралась выразить голосом глубокую озабоченность.
— Ну конечно же нет! — Его возмущение позабавило меня. Потом его брови сошлись на переносице. — Куда же вы пойдете?
— У меня есть только один путь. — Это решение я уже успела принять. Другого выхода и впрямь не было. У меня появится крыша над головой, в желудке не будет пусто, и там я заживу куда лучше, чем на улице или в порту, где вынуждены обретаться обыкновенные блудницы. — Вернусь в монастырь Святой Марии, — объяснила я. — Там меня примут. Поживу у них, дождусь лучших времен. Что-нибудь да подвернется.
— В целом неплохая мысль, — кивнул Гризли. — Но вам потребуется это. Вот, держите… — Он порылся в висевшем на поясе кошеле и выудил оттуда два золотых. — Возвращаю вам. Они помогут убедить настоятельницу открыть вам двери — во всяком случае, на какое-то время. Однако запомните: вы теперь у меня в долгу. Я буду ждать, когда вы мне его вернете.
— Где мне вас найти? — крикнула я пронзительно, как торговка рыбой, когда он стал удаляться, унося с собой свидетельство о владении поместьем Уэст-Пекем.
— Ищите в таверне «Кафтан». Это в Саутуорке[13].
Вот и все.
Итак, я вернулась в монастырь, хотя и поклялась когда-то сюда не возвращаться. Уговорила возницу подвезти меня на телеге — совершенно пустой, но невыносимо пропахшей рыбой. Пусть я и владела домом в Лондоне и поместьем в Кенте (а оба драгоценных свидетельства остались в руках Гризли), но деловому партнеру я уже задолжала два нобля[14]. А что было делать! Эти монеты и вправду открыли передо мной двери аббатства, хотя на другие жизненные блага их не хватило. Мне ясно дали понять, что я должна отрабатывать кров и пишу, и я оказалась среди conversa — мирских сестер, которые трудились в поте лица на благо невест Христовых. Возможно, въевшийся в юбки запах соленой рыбы свидетельствовал не в мою пользу.
Отчего я согласилась на такие условия?
Да оттого, что убежище в стенах монастыря было нужно мне на время. В глубине души я твердо в это верила. Я уже вкусила жизни в миру, и эта жизнь пришлась мне по вкусу. В те дни, когда я молча работала на сестер, я приняла твердое решение. Никогда и ни за что я не стану монахиней. И ни за что не выйду снова замуж по чьей-то чужой воле. Когда-нибудь наступит день, и в умелых руках Гризли моя земля принесет достаточный доход, чтобы позволить мне жить как femme sole в собственном доме, где будут хорошая постель, красивая одежда и готовые повиноваться слуги.
Эта мысль мне нравилась. Она подбадривала меня, пока я отстирывала одеяния монахинь и отчищала пятна на их апостольниках, возвращая тем первозданную белизну. Я могу повернуть свою жизнь так, чтобы не прислуживать другим — ни как монахиня, ни как жена, ни как блудница. Я могу добиться жизни в собственном праве. Ну а сейчас меня защищали знакомые стены монастыря, и я подчинялась принятому здесь распорядку неустанной работы и молитв.
«Дождусь лучших времен», — сказала я Гризли.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
— Она здесь. Приехала! — Эта весть шепотом передавалась из уст в уста, будто ветер легонько колыхал метелки овса на поле.
Наступило время вечерни. Мы вошли в монастырскую церковь; тихо шуршали по полу монашеские одеяния, постукивали по плитам сандалии; потом все преклонили колени — сплошные ряды черных покрывал и белых апостольников. Я стояла среди conversa, одетая в грубое фланелевое платье с капюшоном. Все как обычно. Помыслы всех сестер, как духовных, так и мирских, были направлены к одной цели: молить Бога о милосердии в этом донельзя грешном мире. Но в тот вечер настроение было другим. Верх взял грех любопытства, он захватил все души, он горел на лицах ярче, чем пламя свечей. Всеобщее возбуждение было почти осязаемым, от него вибрировал даже воздух. Ведь рядом с главным алтарем было установлено кресло самого епископа, а в кресле восседала королева Англии.
Мне со своего места было совсем не видно ее величества, и напрасно я терялась в догадках, отчего она оказала нам такую честь. Служба шла своим чередом, будто резное епископское кресло пустовало. Вечерня окончилась, отзвучали последние благословения, монахини и conversa поднялись, как один человек, склонив головы, смиренно спрятав руки в рукава. Матушка Сибилла преклонила колена перед алтарем, и королева (которую я так и не смогла до сих пор разглядеть) медленно двинулась через наши ряды к трансепту церкви.
Медленно-медленно. Я краешком глаза осторожно поглядывала вокруг, напряженно прислушиваясь к своему внутреннему голосу. За всю прежнюю жизнь мне лишь раз выпало встретиться с дамой королевской крови. Графиня Кентская была женщиной в некоторых отношениях выдающейся, такую забыть трудно. Это она научила меня чинить для нее перья, но кроме этого научила и многому другому, весьма и весьма для меня унизительному. Королева приближалась, а я вспоминала, как прибыла в монастырь графиня Кентская — пышно, с блеском; о ее прибытии возвестили примчавшиеся герольды, затем загремели фанфары. Насколько же величественнее должна быть королева Англии?
И поныне я не в силах позабыть своего изумления. Ожидала увидеть горделивую осанку, платье ярких цветов из дорогих, расшитых золотом и серебром тканей, с длинным шлейфом и отороченными мехом верхними рукавами. Еще — корону, золотую цепь, золотые и серебряные перстни со сверкающими самоцветами. Наконец я увидела королеву Англии. Всмотрелась пристальнее. В толпе ее вполне можно было и не заметить, так обыденно она выглядела.
Филиппа Геннегау.
Годы не пощадили эту женщину. Ни следа не оставили от былой молодости, от былой красоты, которая сияла, должно быть, тридцать с лишним лет назад, когда она — невеста нашего могучего короля Эдуарда — прибыла в Англию из Нидерландов. Все это осталось в далеком прошлом. В чем выражалось ее королевское величие? В ней не было утонченности. Рост невысокий. Она не внушала благоговейного трепета. Даже драгоценностей на ней не было. А голова, до последнего волоска, и вовсе скрыта от взоров под простым платком и покрывалом. Королева Филиппа не была ни красавицей, ни законодательницей моды.
Какое разочарование! У кого может вызвать восхищение эта стареющая женщина, едва волочащая ноги?
Королева остановилась. Она чуть заметно задыхалась. Должно быть, она еще старше, чем мне показалось сперва. Я посмотрела на нее снова, повнимательнее, и тут же упрекнула себя в душевной черствости: мне стало ясно, почему королева идет так мучительно медленно. Она была нездорова и страдала от боли. Тяжело опираясь на руку сопровождавшей ее фрейлины, королева двинулась дальше все теми же крошечными нетвердыми шажками, каждый из которых доставлял ей невыносимую боль. Мне показалось, что и голову она почти не может повернуть — так напряжены, словно сведены судорогой, были плечи и шея. Рука, вцепившаяся в поддерживающую королеву даму, вся отекла, блестела туго натянутая, как на барабане, кожа. Неудивительно, что она не унизана кольцами. Попытайся она протолкнуть в них распухшие суставы пальцев, это вызвало бы такие мучения, каких просто не вытерпишь.
Когда королева почти поравнялась со мной, она остановилась снова перевести дух, а мы все присели в глубоком реверансе. Я видела, как тяжело вздымается при вдохе платье на ее пышной груди, как трепещут ноздри, как становится резче залегшая между бровей складка. Затем королева сделала еще шажок вперед, споткнулась о выщербленную плиту и не устояла на ногах. Если бы ее не поддерживала молодая фрейлина, произошло бы непоправимое несчастье. А так королева лишь упала на колени и издала крик боли и отчаяния. Напуганная глубиной ее страданий, я отвела глаза.
— Помогите же, — пробормотала она, ни к кому не обращаясь, зажмурившись от разрывающей ее боли, протянув вперед свободную руку в поисках хоть какой-нибудь помощи. — Боже милосердный, не оставь меня! — С этим восклицанием королева Филиппа бессильно уронила свои четки. Выскользнув из ее пальцев, эти четки из резной кости с жемчугами упали с негромким стуком прямо перед ней.
— Помогите встать…
Я протянула руку — это было так естественно, поступить иначе было просто невозможно, — и ухватила за руку королеву. И сразу замерла, даже дышать перестала. Вот так, по наитию, схватить за руку саму королеву Англии? Наверняка за такую дерзость меня накажут. Я упала на колени рядом с ней, а она вцепилась в мою руку изо всех сил. Сил-то у нее было не так много, но она застонала, когда от этого усилия кожа на отекших руках натянулась совсем туго.
— Пресвятая Дева! — чуть слышно воскликнула она. — Какая страшная боль!
Еще мгновение вокруг нас сохранялась эта атмосфера всеобщей напряженности и растерянного молчания, потом все пришло в движение, стало шумно. Придворная дама, дрожа от волнения, помогла ее величеству подняться на ноги, королева ослабила лихорадочную хватку на моей руке, дыхание ее затруднилось еще больше. Еще не встав с колен, я подняла голову и увидела, что посреди поднявшегося переполоха королева Филиппа смотрит на меня. Когда-то, должно быть, в этих темно-карих глазах сияли радость и счастье, но теперь в них не отражалось ничего, кроме многолетних страданий. Невыносимо было видеть это; я опустила взгляд и заметила так и оставшиеся лежать на полу четки. Ей не под силу было бы наклониться самой, чтобы поднять четки, даже если женщина столь знатная и стала бы утруждаться тем, чтобы поднять с полу свою вещь.
Вот я и взяла труд на себя.
Подняла четки и протянула королеве, сама поражаясь собственной смелости, уже слыша угрожающее ворчание матушки настоятельницы, которая спешила к нам. Ее одеяния раздувались от быстрой ходьбы, как плащ на путнике при сильном ветре, а рука уже протянулась, чтобы выхватить у меня четки.
— Благодарю тебя. Я сегодня такая неловкая, а ты оказалась очень добра.
Трудно в это поверить, но слова королевы были обращены ко мне. Я почувствовала, как ее пальцы прикоснулись к моей руке. На короткий миг выражение муки на ее лице сменилось лаской и признательностью.
— Примите мои горячие извинения, ваше величество. — Матушка настоятельница метнула на меня взгляд, не суливший мне ничего хорошего на завтрашнем собрании монастырского капитула. — Ей не следовало выделяться таким неподобающим образом. Ей недостает смирения.
— Но ведь она пришла мне на помощь, как добрый самаритянин попавшему в беду путнику, — возразила королева. — Пресвятая Дева не оставит без внимания помощь, оказанную пожилой даме… — Потом она воскликнула громче, чем прежде, прижимая одну руку к складкам платья из камчатной ткани: — Мне необходимо присесть! В комнату, Изабелла… отведи меня в мою комнату.
Прислуживавшая ей дама нахмурилась.
— Ты уж извини, Изабелла… — В голосе королевы прорвалось подавляемое рыдание.
— Вы утомились, Maman[15]. Разве я не говорила, что вам трудно будет выдержать всю службу? Надо было вам меня послушать!
— Я и сама понимаю, Изабелла. Но кое-что нужно было сделать, а откладывать я не могла.
В первый раз я присмотрелась как следует к спутнице королевы. Стало быть, это ее дочь, принцесса Изабелла. Высокая светловолосая молодая женщина живого нрава, с трудом скрывающая сейчас свою скуку. Как я могла ошибиться, приняв ее за одну из обычных фрейлин? Королева предпочитала одежды темных тонов, зато у принцессы каждая золотая нить, каждый драгоценный камень гордо подчеркивали ее высокое положение — каждая деталь, от ажурной золотой сеточки для волос до позолоченных туфелек.
— Кое-что вполне может подождать до тех пор, пока вы окрепнете, — недовольным тоном заметила принцесса. Я с грустью смотрела вслед этой паре, медленно удалявшейся по центральному нефу. У самых дверей принцесса оглянулась через плечо, остановила взор на мне.
— Не стой столбом, девчонка! Подай четки.
«Что-нибудь да подвернется», — говорила я Гризли. И теперь мне не нужно было повторять дважды.
Несмотря на все настояния дочери, королева решительно отказалась ложиться в постель.
— Я еще належусь в постели, а потом, когда придет смерть, в гробу!
Я застыла у дверей гостиной комнаты настоятельницы, пока королеву усаживали в кресло с высокой спинкой и мощными подлокотниками. Можно было положить четки на стоящий у двери большой дорожный сундук и незаметно уйти, пока Изабелла отдавала распоряжения слугам: принести подогретого вина и меховую накидку, чтобы королева могла согреть дрожащие конечности. Но внутренний голос говорил мне: «Останься!» И я осталась в комнате.
— Ничего не говори королю, Изабелла! — приказала королева хриплым измученным голосом.
— Отчего же? — Изабелла взяла мать за руку и вложила ей в пальцы чашу с вином.
— Не смей рассказывать об этом. Я тебе запрещаю! Не хочу, чтобы он лишний раз волновался!
Глаз она так и не открывала, голос был едва слышен, но какая сила воли! Я испытывала и сострадание, и глубочайшее восхищение. Любит ли король ее до сих пор? Он вообще когда-нибудь любил ее? Ведь это не считается обязательным для царственных особ, браки между которыми заключаются из политического расчета. Каково это: чувствовать себя старой и никому не нужной? А королева, тем не менее, желала уберечь супруга от тревог по поводу ее здоровья.
Похоже, что королева уловила направление моих мыслей. Она раздраженно оттолкнула руку Изабеллы и выпрямилась в кресле. Вот наконец оно все и появилось: царственная осанка, властный взор. Превозмогая боль, она обратила этот взор на меня и улыбнулась. Лицо ее смягчилось, даже стало красивее. Или мне казалось, что крупные грубоватые черты ее лица лишены всякой красоты и очарования? Так я ошибалась!
— Ты принесла мне четки. — И она с трудом протянула ко мне руку.
— Да, ваше величество.
— Это я ей велела. — Изабелла налила вина в другую чашу и осушила ее. — Бог свидетель, что за жалкое пойло!.. Мы были слишком заняты вами, чтобы переживать еще из-за нитки жемчуга. Вы же помните — пытались не дать вам упасть, пока стадо этих невежественных монашек…
— Однако же она молодчина. — Королева поманила меня, и я опустилась на колени перед ней. — Ага, conversa, как я вижу. Скажи, как тебя зовут?
— Алиса.
— А тебе совсем не хочется сделаться монахиней? — Она взяла меня за подбородок, подняла голову и внимательно всмотрелась в мое лицо. — Ты не чувствуешь в себе призвания?
Никто прежде не задавал мне такой вопрос, равно как и не говорил со мной так ласково. В ее глазах светилась мудрость, которая понимает все. Неожиданно и помимо моей воли глаза защипало от слез.
— Не чувствую, ваше величество. — Раз уж она этим заинтересовалась, я решила рассказать ей все как есть. — Когда-то я была послушницей. Потом стала служанкой, потом вышла замуж. Теперь я вдова. Вот и вернулась сюда в качестве мирской сестры.
— И к этому ты стремишься? Оставаться здесь?
— Нет, ваше величество, — ответила я, решив ни за что не лгать. — Я не останусь здесь дольше, чем необходимо.
— Значит, у тебя есть свои планы… А сколько тебе лет?
— Скоро семнадцать, насколько мне известно. Я уже не дитя, ваше величество, — сочла нужным добавить я.
— Для меня — дитя! — Она сразу улыбнулась веселее. — Ты знаешь, сколько лет мне?
— Не знаю, ваше величество, — сказала я, потому что любой другой ответ сам по себе был бы непозволительной дерзостью.
— Сорок восемь[16]. Думаю, тебе я должна казаться древней старухой. — Так оно и было. Мне этот возраст представлялся более чем преклонным, а страдания добавляли королеве на вид еще лет десять-двенадцать. — Когда я невестой приехала в Англию, то была еще моложе, чем ты сейчас. А мне кажется, это случилось вчера. Жизнь летит так быстро…
— Выпейте еще, Maman. — Изабелла вложила в руки королевы новую чашу, осторожно придерживая ее в распухших пальцах матери. — Мне думается, вам нужно отдохнуть.
Я решила, что меня сейчас прогонят, но королеву не так-то легко было заставить плясать под чужую дудку.
— Сейчас, Изабелла, сейчас. Так вот, Алиса… У тебя что, нет никого из родных?
— Никого, ваше величество.
— А кто был твой отец?
— Не знаю. Он трудился в городе. Кажется, был кровельщиком.
— Понятно. — Я почувствовала, что она действительно понимает меня, несмотря на разделявшие нас годы и положение в обществе. — Как это печально… Ты напоминаешь мне моих дочерей, Маргарет и Мэри. Они обе умерли от чумы в сентябре прошлого года.
— Maman!.. — тяжело вздохнула Изабелла. А я подумала: разве я хоть чем-то похожа на принцесс крови?
— Ты одного с ними возраста, — объяснила королева, словно в ответ на мои сомнения. — И слишком молода, чтобы быть вдовой. Хочешь снова выйти замуж?
— Да кто меня возьмет? Я бесприданница, — ответила я, не очень-то пытаясь скрыть свое недовольство таким положением. — Все, что я могу предложить… — тут я прикусила язык.
— А что ты можешь предложить? — спросила королева как будто с неподдельным интересом. Я обдумала перечень своих талантов.
— Я умею читать, писать и считать, ваше величество. — Раз уж кто-то проявил ко мне интерес, я все выложу! — Умею читать по-французски и на латыни. Могу писать, и не только свое имя. Могу вести счета. — В своем простодушии я немного преувеличивала.
— Так много всего… — На ее губах снова появилась улыбка. — А где ты научилась вести счета?
— У Дженина Перрерса. Ростовщика. Он научил меня этому.
— И тебе понравилось? Это ведь такое скучное занятие!
— Понравилось. Я понимала то, что делаю.
— У тебя острый ум, Алиса. Алиса Счетоводская, — только и сказала королева. — Если бы ты смогла выбирать себе будущность, Алиса, что бы ты предпочла?
Я подумала о Гризли, о тех надеждах, которые не давали мне впасть в уныние долгими ночными часами, и ответила без колебаний:
— Мне хочется иметь собственный дом. Хочется покупать землю и дома. Тогда я ни от кого не буду зависеть…
— В высшей степени неосуществимые мечты! — перебил меня голос Изабеллы, в котором явственно слышалась насмешка.
— Но при всем при том весьма похвальные… — Голос королевы дрогнул. Изабелла в один миг оказалась рядом с нею. — Да-да. Сейчас лягу. Сегодня у меня выдался неудачный день. — Она позволила дочери помочь ей встать из кресла и медленно двинулась в направлении спальни. Потом остановилась и, превозмогая боль, снова обернулась ко мне. — Алиса… оставь четки себе. Их подарил мне король, когда я родила Эдуарда, нашего первого сына. — Вероятно, она прочитала на моем лице безграничное удивление. — Они не очень ценные. В то время у короля не было денег на всякие пустяки. А я хочу, чтобы ты сохранила их на память о том дне, когда спасла свою королеву от унизительного падения на людях!
— Не могу… — проговорила я. Действительно, я не могла их взять. Это было невежливо, но я хорошо знала, что произойдет, если я их приму. — Нам не дозволено владеть собственностью. Мы же даем обет бедности, — попыталась я объяснить свой отказ, сознавая, как неучтиво он звучит.
— Даже подарок от признательной королевы?
— Считается, что мне это не подобает…
— …и тебе не разрешат оставить их себе.
— Да, ваше величество.
— Да. Я предложила их тебе, не подумав… — Невыносимая боль снова набросилась на нее, и королева забыла обо мне. — Клянусь Пресвятой Девой, сегодня пытка моя поистине нестерпима! Уложи меня в постель, Изабелла.
Изабелла провела королеву в двери спальни, и я осталась в одиночестве. Пока не успела передумать, я положила четки на молитвенную скамеечку и, пятясь, вышла из гостиной.
Если я и приму в подарок что-нибудь ценное, то лишь когда буду уверена, что этот подарок у меня и останется.
Наутро королева Филиппа и ее острая на язык дочь не долго пробыли в обители: едва отслужили заутреню, они сразу собрались в дорогу. Сестра Марджери помогла королеве сесть в устланные мягкими подушками дорожные носилки, передала ей приготовленное лекарство — нежные листочки ясеня, настоянные на вине: это зелье успокаивало боль при неминуемой жуткой тряске в дороге. Я знала состав лекарства — разве не я сама помогала его готовить?
— Ее величество страдает водянкой, — уверенно сказала сестра Марджери. — Я уже видела подобное. Страшная болезнь. Каждая колдобина на дороге, каждый бугорок станут отзываться болью в ее теле.
Сестра Марджери дала наставления Изабелле: слишком большая доза лекарства повлечет за собой расстройство пищеварения, а слишком маленькая не сможет облегчить боль. Она еще дала горшочек корня вербены, перетертого с бараньим салом. Этим средством нужно смазывать отекшие руки и ноги, оно принесет облегчение. Приготовила лекарства я, но не я передала их королеве и получила за то ее благодарность. Меня вообще на проводах не было. Отъезд королевы я слышала из погреба, где мне велено было пересчитать запас окороков и бочонков пива.
«Заберите меня с собой. Позвольте служить вам».
Молчаливый призыв, которого королева не услышала.
Да и с чего бы ей помнить обо мне? Для меня это было целое событие, но королевы подобных мелочей не запоминают. Она, должно быть, позабыла обо мне через четверть часа после того, как я вернула ей четки. Зато я не забыла королеву Филиппу. На ее лице я увидела материнскую любовь и доброту, которых мне в жизни не досталось.
Интересно, что там поделывает Гризли? Увижу ли я его снова? Присматривает ли он как должно за домом на улице Грейсчерч и за маленьким поместьем в Уэст-Пекеме? Несомненно, он может получить от них доход, вполне достаточный для моих скромных нужд.
Считая окорока, я молилась даже горячее, чем на капустных грядках: о том, чтобы все изменилось поскорее, пока надежды еще живы во мне.
Окорока и капусту съели — одни с большим удовольствием, другую с меньшим, эль весь выпили, и его сменило какое-то жалкое варево, из-за чего на кухаря пал гнев матушки настоятельницы. За такими мелкими событиями, никак не отражавшимися на моей жизни, отцвели деревья в монастырском фруктовом саду, пришел и минул разгар лета. Я то набиралась терпения, то снова теряла его, особенно по ночам, когда меня, будто саван, окутывала глухая тишина. И вдруг! Я увидела, как матушка настоятельница беседует с высоким, хорошо одетым мужчиной — наверное, гонцом, судя по верховому костюму из кожи и тонкой шерсти. Пожилой коренастый конюх держал под уздцы красивого коня, а чуть дальше выстроилась охрана, держа на виду мечи и луки.
Все это я заметила с одного взгляда. Но не успела сообразить, с чего это меня вызвали, как гонец повернулся и внимательно посмотрел на меня.
— Это вы — Алиса?
— Да, сэр.
Когда меня позвали, я ползала на коленях под деревьями в саду, собирала упавшие с ветвей сливы, и теперь вид у меня был встрепанный, а башмаки в грязи. Безуспешно попыталась отчистить юбки от налипшей земли и травы. Ну, с башмаками вообще ничего нельзя было сделать.
— Вы должны поехать со мной, мистрис. — Он оглядел меня с головы до ног и прищурился, явно обнаружив изъяны в моем наряде. — Вам понадобится плащ. — Он повернулся к настоятельнице. — Не затруднитесь распорядиться.
Я взглянула на матушку Сибиллу в ожидании ее указаний. Мать настоятельница дернула плечом, как бы отвергая всякое свое участие в происходившем. Неужели кто-то снова купил меня в качестве служанки? Пресвятая Дева! Только бы не новое замужество. Гонец же по-прежнему обращался ко мне с непроницаемым видом, не сообщая никаких подробностей.
— Вы умеете держаться в седле, мистрис?
— Нет, сэр.
— Она поедет на седле у тебя за спиной, Роб. Веса в ней, считай, никакого.
Через минуту-другую меня закутали в плащ из грубой шерсти, знававший когда-то лучшие дни, и забросили, будто вязанку хвороста, на широкий крестец кобылы конюха.
— Держитесь покрепче, мистрис, — проворчал человек, которого звали Робом.
Кобыла ударила о землю копытом, шарахнулась в сторону, и я вцепилась с обеих сторон в его кожаную куртку. Земля была где-то далеко внизу, я то и дело съезжала набок. Человек, столь стремительно изменивший мое будущее, подал знак, охрана перестроилась, и мы, не обменявшись больше ни единым словом, помчались по улочкам города, вырвались на дорогу, петлявшую средь полей и лесов. Те, кто сопровождал меня, были людьми неразговорчивыми, очевидно, ожидая того же и от меня. Но какая женщина станет молчать, когда ее любопытство возбуждено до предела?
— Сэр! — окликнула я гонца, скакавшего теперь чуть впереди меня. Ответа не последовало, и я крикнула погромче: — Сэр! Куда мы направляемся? — Когда-нибудь, мысленно поклялась я себе, я сама стану определять, куда мне следует ехать.
— В Хейверинг-Атт-Боуэр[17]. — Он даже не повернул головы. Он называл меня «мистрис», но никаких иных знаков уважения от него я, кажется, не заслуживала.
— А зачем? — Мне это название ни о чем не говорило.
— Вас велела привезти королева.
— Для чего? — спросила я, не веря своим ушам. — Зачем я понадобилась королеве? — Отчего это она вспомнила обо мне? Я ведь ничего не сделала, всего лишь возвратила ей четки. И все же мы неслись в неизвестность; меня, возможно, ожидали приключения. Даже затылок вдруг похолодел, дрожь пробежала по спине. — Значит, Хейверинг-Атт-Боуэр — это королевский дворец?
Мой собеседник немного придержал коня и махнул рукой конюху, чтобы тот держался рядом. Когда мы поравнялись, он натянул поводья, и все мысли на его лице стали понятными, как колонки цифр в гроссбухе. Он поджал губы с таким видом, словно все происходящее было выше его понимания. Я легко могла понять отчего. Юбка и платье у меня были перепачканы липким соком фруктов из монастырского сада, волосы были небрежно перевязаны тряпицей, а плащ с чужого плеча никак не назовешь приличным. Он пустил коня шагом, и мы покачивались рядышком, пока он раздумывал, что я такое и до каких подробностей можно снизойти в разговоре со мной.
— Для чего же королеве понадобилось вызывать меня? — повторила я свой вопрос. Ну почему мужчины так необщительны?
— Понятия не имею. Несомненно, ее величество сама вам об этом скажет.
Он крепче взялся за поводья, словно собираясь пришпорить коня, и наша беседа, таким образом, оборвалась бы без всякого результата. Мне этого было мало.
— А кто вы, сэр?
Он не удостоил меня ответом — из нежелания, думаю, а не потому, что не расслышал вопроса. Я окинула его внимательным взглядом. Ничего особенного. Уже не молодой, но еще и не старый, черты лица правильные, немного суровые, немного печальные. Он явно привык повелевать, но мне показалось, что он не воин. И не из придворной обслуги, как я вначале подумала. Слишком уж властный был у него вид. Глаза непонятного цвета: зелено-карие, яркие, живые, как у белки. Мне подумалось, что он слишком важничает для человека, еще не достигшего старости. Значит, мы так и поедем молча до самого Хейверинг-Атт-Боуэра? Мне этого не хотелось. Я покрепче ухватилась за куртку Роба и наклонилась к своему немногословному спутнику.
— Мне нужно многое узнать, сэр, — начала я. — Далеко ли отсюда до Хейверинг-Атт-Боуэра?
— Часа два. Три, если вы не станете двигаться быстрее.
— Времени достаточно, — сказала я, пропустив мимо ушей его насмешку. — Вы в силах помочь мне. Например, рассказать о том, чего я не знаю.
— О чем, например?
— Например, о том, как мне держаться, когда мы приедем в Хейверинг-Атт-Боуэр, — торжественно проговорила я, раскрыв пошире глаза, чтобы подчеркнуть невинность вопроса. Он явно заколебался. — И как мне называть вас, сэр?
— Я Уильям де Уикхем[18]. Подозреваю, вам это ни о чем не говорит.
Я изобразила улыбку. Обаятельную, притворно-беззаботную, только подбородок гордо вздернула. Как еще можно выудить сведения из мужчины, если не дать ему говорить о том, что важно для него самого? В этом я убедилась на примерах Дженина и Гризли. Заговорите с ними о деньгах, о процентах на капитал — и они станут совсем ручными.
— Пока ни о чем, — согласилась я. — Но скажет, если вы меня просветите. Как мне обращаться к вам? Какую должность вы занимаете?
— Можете называть просто Уикхемом. Я служу его величеству. Иногда и ее величеству королеве Филиппе. — Я заметила, что об этом он говорит с немалой гордостью. — Я занимаюсь церковными делами… и строю дворцы.
— О! — Занятие, быть может, и не героическое, но весьма достойное. — И много вы построили?
Вот я и попала в цель. Уикхем распахнул двери настежь. Весь остаток пути он рассказывал мне о своих достижениях и замыслах. О башенках и арках, о контрфорсах и колоннах. О перегородках и наилучших методах обогрева помещений. Пресвятая Дева! Он был пресным, как ужин на Великий пост, совершенно неспособным, подобно Дженину Перрерсу и Гризли, соблазнить монашку, принесшую нерушимые обеты. Наверное, все мужчины в сущности своей такие же черствые и скучные. Я хотела узнать у него о подробностях жизни в королевском дворце, о пище, о модах, о важных лицах, а слышала лишь детальное описание новой башни в Виндзоре, но не пыталась остановить его. Неужели всякого мужчину так легко разговорить? Кажется, куда легче, чем женщину. Улыбнуться только, задать вопрос, поинтересоваться его успехами, сыграть на гордости. О Хейверинге я почти ничего не узнала, зато узнала о том, как строятся замки. А потом впереди, за густыми зарослями деревьев, показались внушительные башни.
— Ваша путешествие, мистрис Алиса, подошло к концу. Да, совсем забыл… — Он взял поводья в одну руку, другой порылся в седельной суме. — Это передала вам ее величество. Она решила, что они вам понравятся и позволят скрасить долгий путь молитвами. — Он уронил в мою руку четки. — Не думаю, чтобы они вам очень пригодились. Вы способны говорить гораздо больше, чем любая известная мне женщина…
Во мне немедленно начали бороться между собой восторг перед подаренными четками и возмущение из-за несправедливого обвинения. Второе взяло верх.
— Да вы ведь говорили больше, чем я!
— Глупости!
— Да успокойся же, наконец, женщина! — зарычал на меня Роб. — Ты прыгаешь в седле, как блоха по теплой собачьей шерсти!
— У меня все болит! — засмеялась я.
— Задница у тебя скоро пройдет. А мне ты все бока ободрала своими когтями!
Тут даже Уикхем расхохотался. Смех его был мягким, дружелюбным, и это помогло немного ослабить нараставший во мне страх перед ожидавшей меня неизвестностью.
— Отчего же она дарит мне такую дорогую вещь? — Я подняла четки повыше, солнце заиграло на золоте и жемчугах, заставляя их переливаться всеми цветами радуги.
Мой спутник оглядел меня от перевязанных тряпкой волос до перепачканного в земле подола, словно никак не мог взять этого в толк.
— Право, даже не представляю.
Я тоже не представляла.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Хейверинг-Атт-Боуэр. Я совсем ничего не знала о королевских дворцах в то время, когда прибыла туда с запыленной охраной Уикхема. Да и величественный вид дворца занимал меня далеко не в первую очередь. Все тело с непривычки болело от верховой езды. Я мечтала только о том, чтобы мы поскорее остановились, можно было бы сойти с этого ужасного животного и ступить на твердую землю. Но оказавшись во дворе Хейверинга, я застыла в седле с открытым ртом.
— Вы собираетесь сегодня спешиваться, мистрис? — отрывисто бросил Уикхем. — Что это с вами? — Он уже был на середине лестницы, ведущей к огромной двери, обитой полосами железа.
— Я никогда не видела… — Но он не слушал меня, и я прикусила язык.
Я никогда не видела ничего столь величественного.
И все же дворец как-то влек к себе, у него было притягательное очарование, которое напрочь отсутствовало у аббатства Святой Марии, построенного из унылого серого камня. Он казался громадным, однако позднее я узнала, что для королевского дворца этот был небольшим и весьма уютным. Покрытые искусной резьбой камни, из которых был сложен дворец, сияли на солнце, а внутри находился целый лабиринт комнат и залов, справа — арки дворцовой часовни, слева — громада Большого зала, еще дальше — пристройки, окружавшие весь парадный двор. Крыши и стены строений соединялись под самыми неожиданными углами, по прихоти сменявших друг друга за долгие годы зодчих. И в довершение всего дворец окаймляли пастбища и перелески, поэтому он чем-то походил на драгоценный камень, который положили на ковер из зеленого бархата.
Меня это зрелище поразило в самое сердце.
— Как здесь красиво!
Мой голос разнесся эхом.
— Да, в целом неплохо, — проворчал Уикхем. — Его построил дед нашего короля — Эдуард I. Самое главное, королеве здесь нравится. Это ее собственное владение. И оно станет еще лучше, когда я приложу к нему свои руки. Я подумываю о том, чтобы пристроить новые поварни, ведь король тоже держит теперь здесь свой двор. — Он хлопнул себя кулаками по бедрам. — Боже мой, женщина! Сойди же с коня.
Я боком сползла с лошадиного крестца, покачиваясь на затекших ногах, и испытала искреннюю благодарность к Уикхему, который поддержал меня под руку.
— Благодарю вас, сэр. — Я ухватилась за него на минутку, в то время как все мои мышцы тряслись от напряжения и усталости.
— К вашим услугам, — насмешливо ответил он. — Скажете, когда будете в силах держаться на ногах самостоятельно!
Уикхем двинулся вперед, поднялся по невысоким ступенькам, вошел в Большой зал. В огромном помещении звуки отдавались гулким эхом, столы были пока убраны за ненадобностью, исключая только широкий стол на королевском помосте в дальнем конце. Здесь царила прохлада, приятная после жаркого солнца; над головой перекрещивались тяжелые балки, отбрасывая густые тени на залитый мягкими лучами солнца пол: полосы напоминали шкуру дикой кошки. Бесшумно двигались слуги, заменяя факелы вдоль стен. В дальнем конце из-за завес, отделявших зал от хода на поварни, раздался взрыв смеха. Гобелены на стенах сияли яркими красками, отражались в покрывающих пол плитках.
Я с благоговением рассматривала зал. Так это здесь живет надменная графиня Кентская, которая произвела на меня в детстве неизгладимое впечатление? Я вгляделась в темные углы, будто могла увидеть ее там — как она наблюдает за мной, как осуждает меня, — но потом мысленно отругала себя за глупость. Если графиня достигла желаемого, то она сейчас пребывает в роскоши и блеске личных покоев королевы, неспешно потягивает вино, а служанка тем временем расчесывает ее великолепные волосы. И если служанка нечаянно запутается, дернет хоть волосок, то графиня безо всякого сожаления наградит ее пощечиной. Быть может, графиня купила себе еще одну обезьянку, которую со смехом выбросит вон, как только та ей наскучит.
Краем глаза я уловила какое-то движение. Через зал прошла служанка, крепко сжимая в руках поднос с чашами и графином; увидев Уикхема, торопливо сделала ему реверанс. Я проследила за ней взглядом. Ждет ли такая судьба и меня? Трудиться на поварне королевского дворца? Для чего же? Неужели у королевы не хватает прислуги?
— Сюда… — Уикхем вел меня дальше. — Да не спите же на ходу!
Позади нас, у дверей, возник какой-то переполох. И я, и Уикхем, и вообще все, кто был в Большом зале, повернулись посмотреть, что произошло. В зал вошел человек, остановился под аркой двери. Клонившееся к закату солнце так освещало его, что рассмотреть черты лица не удавалось, только фигуру в целом. Высокий, как мне показалось, с телосложением воина — решительный человек, не привыкший к праздности. У его ног теснилась свора гончих и алаунтов[19]. На затянутой в длинную толстую перчатку руке сидел ястреб, глаза его были прикрыты колпачком. Ястреб расправил крылья, хозяин сделал шаг вперед и оказался прямо в лучах света; солнечные лучи образовали яркий нимб вокруг его головы и плеч, словно на иконе с изображением одного из многочисленных святых в витражах аббатства. Над головой лучи сияли, будто золотая корона. Я стояла и молча смотрела, не в силах оторвать глаз.
Через мгновение он сделал еще шаг. Теперь он оказался в тени и снова превратился в обычного человека. Тут меня отвлекли гончие псы, которые разбежались по всему залу, сновали туда-сюда, обнюхивали мои юбки. С такими беспокойными животными я еще не сталкивалась, поэтому невольно попятилась, с опаской поглядывая на пасти, с которых капала слюна, и на сильные тела крупных псов. Уикхем, не обращая внимания на мои затруднения, низко поклонился. Я же тем временем пыталась отогнать не в меру любопытного алаунта.
Уикхем откашлялся, привлекая мое внимание.
— Что там? — спросила я.
Вместо ответа Уикхем крепко взялся за ветхий плащ, который укутывал меня от подбородка до самых пят, сдернул его и отбросил на пол. Я онемела от такой бесцеремонности, потом открыла рот, чтобы возмутиться, но тут по всему Большому залу разнесся громкий голос, удивительно красивый:
— Ба, да это Уикхем! Где ты пропадал? Почему, черт возьми, тебя никогда не найдешь?
Этот чистый голос заполнил весь зал, взлетая до самых потолочных балок. А его обладатель уже шел к нам. Тот самый человек с ястребом.
Уикхем снова поклонился и метнул в мою сторону укоризненный взгляд, так что я сочла за благо сделать реверанс. Незнакомец подходил к нам быстрым, размашистым шагом, такой же гибкий и проворный, как вертевшиеся у его ног гончие. Мне он представлялся охотником, который провел весь день в седле, а теперь возвратился во дворец, чтобы съесть корочку хлеба и запить ее кружкой эля.
И вот он оказался в нескольких шагах от меня.
— Государь! — Уикхем поклонился еще раз.
Король!
Я присела до самого пола, придерживая юбки и пряча жарко вспыхнувшее лицо. Какая я все-таки деревенщина! Но откуда же мне было знать? Почему он одет не по-королевски? Потом я подняла глаза, увидела его совсем близко и поняла, что ему не нужны богатые одежды и драгоценности — его величие чувствовалось и без них. Какое поистине божественное величие! Уже немолодой человек, много повидавший и переживший, он, казалось, совсем не ощущал груза своих лет. Несомненно, красивый мужчина: высокий лоб, безукоризненный тонкий нос, роскошные льняные волосы, сверкавшие, как чистое серебро. Это вам не какой-нибудь нудный сухарь! Среди тех, кто сновал по Большому залу, король сиял подобно алмазу в кучке золы.
— Речь идет о подаче воды! — воскликнул король.
— Да, государь. У меня уже все готово, — спокойно ответил Уикхем.
— Королеве необходима подогретая вода…
Кожа у короля когда-то была светлой, но за многие годы, проведенные под солнцем и дождями, она потемнела и покрылась морщинами. А каким замечательным лицом наградил его Бог! Чего стоят эти голубые глаза, острые, как у ястреба, сидевшего на его руке (король как раз взялся снимать колпачок с ловчей птицы). А какой живости и изящества исполнено каждое его движение! Вот он одной рукой расстегнул плащ, стряхнул его с плеч и бросил пажу, который следовал за ним по пятам. Как же я сразу-то не узнала короля Эдуарда? На поясе его висел кинжал в украшенных самоцветами ножнах, шляпу венчало лихо воткнутое павлинье перо, заколотое брошью с рубином. Да и без блеска этих драгоценностей я должна была узнать его. В нем чувствовались огромная внутренняя сила, привычка повелевать и требовать беспрекословного повиновения.
Вот, значит, каков он, царственный супруг королевы Филиппы. Я была ослеплена, поражена и подавлена.
Я застыла на месте, сердце бешено колотилось, а в мыслях было одно: как жалко я выгляжу в этой затрапезной одежде, да еще у ног тряпкой валяется донельзя потрепанный плащ! Но король не смотрел на меня. Разве могли сравниться мои лохмотья с одеждой последней служанки в этом дворце? Он подумает (если вообще даст себе труд обратить на меня внимание), что я нищенка, пришедшая выпрашивать милостыню на дворцовой поварне. Даже ястреб поглядывал на меня так, словно я была грызуном, который годился ему на поживу.
Король величественно взмахнул рукой.
— Прочь! Все прочь отсюда! — Собаки в едином порыве послушно бросились вон из зала. — Уилл… Я осмотрел то место, где ты предложил поставить банный домик… — Он дружелюбно похлопал Уикхема по плечу. — Где тебя носило?
Меня он просто не замечал. Даже беспощадный убийца, сидевший на его руке, заслуживал большего внимания — король в эту минуту рассеянно поглаживал перья ястреба.
— Я ездил в Баркинг, государь, в аббатство Святой Марии, — с улыбкой ответил Уикхем.
— В Баркинг? Боже, что ты там делал?
— Выполнял поручение королевы, государь. Она пожертвовала средства на сооружение новой часовни.
— А, да-да, — кивнул король. — Я и забыл. Это очень ее утешает, а видит Бог, ее мало что может порадовать теперь! — Наконец-то он мельком взглянул на меня. — А это еще кто? Она служит у меня? — Он снял шляпу с пером и рубиновой застежкой и совершенно серьезно склонил голову, пусть и считал меня простой прислужницей. Мельком взглянул на мое лицо. Я с запозданием сделала еще один реверанс. Король, вздернув подбородок, перевел взгляд на Уикхема. — Ты говоришь, что был в аббатстве Святой Марии. Ты что же, Уилл, помог кому-то из сестер сбежать оттуда?
— Ее велела привезти королева, — скупо улыбнулся Уикхем.
Голубые глаза снова оглядели меня.
— Вероятно, одна из ее сироток и бродяжек, о которых она заботится ради спасения души. Как тебя зовут, девушка?
— Алиса, государь.
— Рада удрать из монастыря?
— Рада, государь. — Я чувствовала это всем сердцем, и радость не могла не прозвучать в голосе.
И Эдуард рассмеялся так весело и заразительно, что и я не могла не улыбнуться.
— Я тоже обрадовался бы. Служить Богу — дело хорошее, но не все же двадцать четыре часа в сутки. А что ты умеешь? — Он нахмурился, словно не мог представить, будто я хоть что-то умею. — Играть на лютне? — Я отрицательно покачала головой. — Петь? Моя супруга любит музыку.
— Не умею, государь.
— Ну, наверное, у нее были причины позвать тебя сюда. — Он потерял ко мне интерес и отвернулся. — Но если ее это обрадует… Ко мне!
Я вздрогнула, решив, что он зовет меня, но король щелкнул пальцами поджарому алаунту, который снова забрел в Большой зал и шел вдоль гобеленов, принюхиваясь к какому-то запаху. Пес подбежал, стал ластиться, тереться о ноги хозяина, а тот взял его за ошейник.
— Скажешь ее величеству, Уилл… Нет, пожалуй, ты пойдешь со мной. Поручение королевы ты уже выполнил, теперь ты нужен мне, чтобы решить, где построить банный домик. Джослин! Джослин! — громко позвал король.
Человек, до того скромно ожидавший за портьерой, подошел к нам.
— Слушаю, государь.
— Отведи эту девушку к королеве. Ее величество велела привезти ее. Так вот, Уилл… — И они с головой погрузились в свои замыслы. — Думаю, я нашел идеальное место… Дай мне только избавиться от всех этих собак и птиц… — Король тихонько свистнул ястребу и зашагал к выходу из зала, Уикхем за ним. На меня они больше не обращали внимания. Ни один, ни другой. Жаль…
Сэр Джослин (позднее я узнала, что он управлял дворцовым хозяйством) поманил меня пальцем за собой, но я, колеблясь, обернулась вслед уходящим. Уикхем кивал головой и разводил руки — наверное, показывал размеры здания, которое ему представлялось. Оба смеялись, и громкий голос короля перекрывал звучавший тише смех Уикхема. А потом он исчез вслед за королем, будто последний оставшийся у меня друг покинул меня. Единственный друг. Конечно, никаким другом мне он не был, но с кем еще я была здесь знакома? Его грубоватую доброту я не забуду. Что же касается короля, то я ожидала увидеть корону или хотя бы золотую цепь, указывающую на его положение, а не свору собак с ястребом. Однако невозможно было отрицать, что величие монарха так же непринужденно окутывало его, как легкая летняя накидка.
— Идем же, девушка. Я не могу ждать тебя целый день.
Я вздохнула и пошла за управляющим — выяснять, что ждет меня в качестве одной из сироток и бродяжек, о коих печется королева. Четки, которые до сих пор сжимала в руке, я опустила за пазуху и пошла, куда было велено.
В покоях королевы стояла тишина. Не найдя в передней ни души, кому он мог бы просто передать меня, сэр Джослин постучал в дверь, услышал позволение войти и вошел, потянув меня за собой. Я оказалась на пороге большой, залитой светом комнаты. Она была так расцвечена красками, в ней царило такое оживление, там было столько очаровательных дам, что меня это захватило даже сильнее, чем торжественное величие Большого зала. Здесь была совершенно особая атмосфера. Все мыслимые цвета и оттенки платьев превращали дам, заполнивших комнату, в порхающих волшебных бабочек. Я вытаращила глаза. Дурные манеры, конечно, но красочное зрелище так захватило меня, что я просто стояла и таращилась. Они весело переговаривались за вышиванием, к услугам желающих были книги и настольные игры — и ни одна не носила на голове унылый апостольник или надвинутое на брови покрывало. Моим глазам и ушам предстал целый новый мир, о котором я прежде и представления не имела. Дамы беседовали и смеялись, кто-то пел под чарующие звуки лютни. Здесь тишину не приветствовали.
Среди них я не увидела королевы. Как не увидела, к своему облегчению, и графини Кентской. Управляющий обвел присутствующих глазами и высмотрел ту, кого искал.
— Миледи! — промолвил он с неподражаемым поклоном. Я, уже умудренная опытом, сделала реверанс. — Мне нужно поговорить с ее величеством.
Принцесса Изабелла подняла на него глаза, продолжая рассеянно перебирать струны лютни. Теперь я поняла, откуда у нее эта светлая красота: и ростом, и цветом волос и глаз она пошла в своего отца.
— Ее величеству нездоровится, Джослин. Это может подождать?
— Мне приказали привести к ее величеству эту особу. — Он небрежно вытолкнул меня вперед. Я снова присела в реверансе.
— Это еще зачем? — спросила принцесса, уже не отрывая взгляда от струн. Вот добротой она никак не напоминала своего отца-короля.
— Ее привез Уикхем, миледи.
— Ты кто? — Принцесса взглянула на меня.
— Алиса, миледи. — В ее взгляде не было приветливости. Она даже не вспомнила меня. — Из монастыря Святой Марии в Баркинге, миледи.
На лбу Изабеллы залегла морщина, потом разгладилась.
— Припоминаю. Девочка с четками — ты работала там на кухне или делала что-то похожее…
— Да, миледи.
— И ее величество вызвала тебя? — Пальцы снова взялись за струны лютни, а нога нетерпеливо притопнула. — Наверное, мне нужно что-нибудь для тебя сделать. — В глазах ее, как мне показалось, промелькнуло недружелюбие.
Одна из дам подошла и положила руку принцессе на плечо с непринужденностью старой подруги.
— Сыграй нам, Изабелла. Мы выучили новую песенку.
— С удовольствием. Джослин, отведите девчонку на кухню. Позаботьтесь, чтобы у нее была постель, накормите чем-нибудь. Потом приставьте к работе. Полагаю, таково и было желание ее величества.
— Слушаюсь, миледи.
Все внимание Изабеллы было уже поглощено придворными дамами и новой песенкой. Управляющий с поклоном вышел из комнаты, толкая меня перед собой, дверь затворилась, скрыв от меня волшебную картину того, что происходило в светлице. Я так и не осмелилась шагнуть дальше порога, а теперь дрожала от страстного желания войти туда, войти в жизнь, кипевшую за закрывшейся дверью. Мне хотелось принадлежать к этому яркому уютному миру.
Сэр Джослин, не говоря ни слова, зашагал вперед, и мне ничего не оставалось, как идти за ним.
— Вот девушка, мастер Хэмфри… — С той минуты, когда мы вышли из светлицы, на лице управляющего дворцовым хозяйством отражалось невыразимое презрение ко мне. — Это еще одна из тех, кого ее величество подбирает в сточных канавах, чтобы они кормились от наших щедрот.
В ответ его собеседник только хмыкнул. Мастер Хэмфри секачом разделывал свиную тушу, натренированными движениями разрубая ее вдоль хребта.
— Госпожа велела отвести ее к вам.
Повар замер, держа секач на весу, и бросил взгляд из-под седеющих бровей.
— И что, позвольте спросить, мне с ней делать?
— Накормите. Дайте ей постель. Оденьте и приставьте к работе.
— Ха-ха! Да вы только посмотрите вокруг, Джос! Что видите?
Я тоже осмотрелась. На поварне кипела работа: повсюду сновали поварята, мальчики с поварешками, мальчики с горшками, мойщики бутылей — и каждый трудился, будто его черти подгоняли. От печей и открытых очагов шел нестерпимый жар. Я уже почувствовала, как пот струится у меня по спине, как взмокли волосы под капюшоном.
— А что? — проворчал сэр Джослин. Мне показалось, ему не понравилось, как непочтительно обратился к нему повар.
— Я не держу здесь девочек, Джос! Понимаете? У них силенок не хватает. Да, они могут корову подоить, блюда на стол подать… Но — здесь — их — нет. — Каждое слово повар подчеркнул взмахом своего секача.
— Ну, как знаете. Принцесса Изабелла распорядилась. Она сказала: определить на кухню!
— А, раз госпожа сказала!.. — снова хмыкнул повар.
— Вот именно!
И сэр Джослин поспешно оставил меня среди кипящего ада поварен Хейверинга. Что там делали, я понимала: чистили, мыли, рубили на части, нарезали, помешивали, — но все, к чему я привыкла, было лишь бледной тенью того, что происходило здесь. От шума чуть не лопались барабанные перепонки. Впрочем, было весело. Повсюду крики и смех, шутки и прибаутки, громкие распоряжения, неизменно сопровождаемые жалобами и руганью. Было похоже, что поварята не слишком-то почтительны, но приказания повара исполнялись мигом. Это говорило о том, что у него тяжелая рука, готовая проучить того, кто перейдет границы дозволенного. И еда… Ее было столько! При виде такого изобилия у меня громко заурчало в животе. А уж запахи, исходившие от жарившегося мяса, от сочных ребрышек…
— Да не стой же как полено!
Повар, с громким стуком отбросивший свой секач, удостоил меня лишь мимолетным взглядом, зато поварята разглядывали вовсю, с наглыми усмешками и недвусмысленными жестами. Я не слишком хорошо была знакома с такой жестикуляцией (разве что на рынке видела иногда, как подобными жестами обмениваются блудница и ее недовольный клиент), но особо напрягать воображение и не требовалось. Щеки у меня запылали, и отнюдь не от жара печей.
— Садись. — Мастер Хэмфри положил мне на плечо свою громадную лапищу, и я опустилась за главный стол, рядом со свиной тушей. Передо мной поставили миску густой каши с тушеным мясом, всунули в руку ложку, кто-то пустил по столу в мою сторону ломоть черствой сдобной булки.
— Давай, ешь, да поживее. Работы еще много.
Я стала жевать без передышки, не предаваясь размышлениям о грехе чревоугодия. Выпила переданную мне чашу эля. Я даже не представляла, насколько сильно я проголодалась.
— Надевай!
Мастер Хэмфри, держа в руке лист с круглыми лепешками, которые должны были отправиться в одну из двух печей, другой рукой протянул мне большущий холщовый передник, весь в пятнах. Сшит он был на того, кто куда выше ростом и полнее, чем я. Я повязала его вокруг талии, чтобы не запутаться при ходьбе, и уже почти справилась с завязками, ругая под нос Изабеллу, когда повар вернулся.
— Ну-ка, дай на тебя посмотреть! — Я встала ровно. — Как, ты говоришь, тебя зовут?
— Алиса.
— Алиса! Так вот, Алиса, незачем тебе глядеть в пол все время, не то живо окажешься на спине, — ворчливо наставлял он меня. — Маловата ты.
— Ничего, она уже достаточно большая. По крайней мере для того, о чем я думаю! — сказал один поваренок, рослый парень с похожими на паклю волосами. Раздался взрыв грубого хохота.
— Прикуси язык, Сим. И рукам воли не давай, не то… — Мастер Хэмфри схватил свой секач и взмахнул им. — Не обращай на них внимания, девушка. — Он взял меня за руки, повернул их ладонями вверх. — Хм. И что ты умеешь делать?
Ну, так я ему расскажу все без утайки. До сих пор меня толкали и швыряли туда-сюда, как то полено, с которым повар меня сравнил, но если уж мне уготована такая будущность, я не желаю быть бессловесной тварью. С синьорой Дамиатой я вынуждена была сдерживаться, ибо в противном случае меня ожидало суровое наказание. Здесь же я должна постоять за себя и добиться хоть какого-то уважения.
— Я могу делать вот это, мастер Хэмфри. И вот это. — Я показала пальцем на тех, кто отмывал и скреб мясо в тазу с водой. — Могу делать это. — Палец уткнулся в мальчика, который подбрасывал поленья в огонь.
— Это всякий дурак сумеет! — Повар примерился отвесить подзатыльник мальчишке с поленьями, который усмехнулся его словам. — Значит, ничего ты не умеешь!
— Я умею печь хлеб. Могу вот им свернуть шею. — В плетеной корзине у очага кудахтали ни о чем не подозревающие куры. — Могу делать вот это. — Указала на мужчину постарше, который потрошил рыбу, складывая внутренности в тазик. — Могу сделать микстуру от кашля. А еще могу…
— Ой-ой-ой! Какое приобретение для моей поварни. — Мастер Хэмфри схватился за пояс и насмешливо поклонился мне. Он не поверил и половине сказанного.
— Я могу сделать опись всех ваших запасов. — Я не собиралась молчать, пока мне прямо не велят. — Могу вести ваши счета и учетные книги. — Если уж мне суждено трудиться здесь, я должна отвоевать себе достойное положение. До лучших времен.
— Вот чудеса, клянусь Пресвятой Девой! — Он насмехался надо мной все более откровенно. — Что же такая госпожа, наделенная многими талантами, делает у меня на поварне? — Смех его тоже стал заметно громче. — Ну, давай начнем вот с чего.
Меня приставили к работе — выгребать из печей горячую золу и отчищать покрытые жиром противни. Никакой разницы с аббатством и домом Перрерсов.
Все-таки разница была, и я ее скоро оценила. Здесь била ключом жизнь, а не влачилось жалкое существование, основанное на вечном молчании и безмолвном повиновении. Здесь ты не чувствовал себя похороненным заживо. Не могу сказать, что я была в восторге от своей работы — тяжелый труд, без передышек, под надзором щедрого на кары мастера Хэмфри и самого сэра Джослина, — но они не проявляли постоянного недовольства, и не свистели в их руках прутья, чуть нарушишь строгий устав святого Бенедикта. И не приходилось ловить на себе язвительные взгляды Дамиаты. Каждому на поварне было что сказать обо всяком событии или слухе, доходившем до владений мастера Хэмфри. Не сомневаюсь: разделывая павлина, повар мог обсуждать дела королевства не хуже всякого знатного лорда. Здесь я оказалась в ином, чем прежде, мире. Теперь у меня была своя соломенная циновка в тесной каморке на чердаке — я делила ее еще с двумя девушками. Они на сыроварне процеживали молоко и готовили большие круглые головки сыра. Дали мне и одеяло, новую сорочку и юбку — на мой взгляд, совершенно новые — такой длины, что можно было укрыться ими с головой, да еще пару грубых башмаков.
Было ли мне лучше здесь, чем мирской сестрой в монастыре Святой Марии? Клянусь Пресвятой Девой, лучше!
Во время работы я прислушивалась к разговорам. Сплетням? Поварята сплетничали с утра до ночи, перемывая косточки всей королевской фамилии, и я старалась не пропустить ни слова. Королева болела, король оберегал страну. Давно минули дни той громкой славы, которую он снискал, разгромив при Креси[20] чертовых французишек, но он по-прежнему вызывал всеобщее восхищение. А вот Изабелла! Эта дамочка отвергала одного за другим всех достойных принцев, которых прочили ей в мужья. Королю бы взять да и выпороть ее кнутом! Когда же речь вдруг заходила о графине Кентской, уши мои ловили каждый звук. Она вышла замуж за принца и в один прекрасный день станет нашей королевой[21]. Так вот, о ней говорили, что она ничем не лучше блудницы, да и о приличных манерах склонна забывать, когда ей это выгодно. Слава Богу, она сейчас находилась в Аквитании вместе со своим многострадальным супругом. Сплетники, не замечая моего повышенного интереса, продолжали обмениваться подробностями всевозможных событий… В Гаскони и в Аквитании, наших владениях по ту сторону Ла-Манша, бушевали мятежи. Ирландия бурлила, словно котелок в печи. Да, а здания, которые строит этот кудесник Уикхем! В Вестминстере уже провели трубы с водой на кухни: стоит повернуть кран, и вода льется прямо в железный таз! Дай Бог, чтобы и в Хейверинге поскорее сделали такие же.
Тем временем мне приходилось двадцать раз на дню бегать по воду к колодцу. Мастеру Хэмфри ни к чему были мои умения читать или считать. Я подметала, скребла, резала; обожгла руки, опалила волосы. Я выносила и чистила ночные горшки. И работала на совесть, чтобы держать на расстоянии похотливых поварят и подручных. Я быстро училась жизни. Бог свидетель, быстро!
Сим. Самый наглый из всех, светловолосый, с неизменно похотливым взглядом и кривой ухмылочкой.
Мне не требовалось специальное предупреждение, чтобы держаться с ним настороже: я уже видела, как Сим представляет себе романтические ухаживания, когда он подловил одну из прислужниц у двери в дровяной склад. Я не заметила радости на ее лице, когда он сопел и трудился, спустив штаны ниже колен. И мне не хотелось, чтобы он прикасался ко мне своими жирными лапами с грязными ногтями. Да любой частью своего тела. Чаще всего мне удавалось отгонять этого подонка, резко ударив его каблуком по незащищенному подъему ноги или воткнув локоть ему в живот. Увы, Симу и его гнусной компании нетрудно было подловить меня в одной из кладовых или в погребе. Уже в первую неделю он раз десять обнял меня за талию.
— Дай я тебя поцелую, Алиса, — шептал он, подлизываясь, обдавая мою шею жарким дыханием.
— Меня ты не поцелуешь! — И я сильно ударила его кулаком в грудь.
— Да кто еще станет тебя целовать? — Его дружки, мерзко ухмыляясь, хором поддержали своего вожака.
— Да уж не ты!
— Ты же сука, уродина, но все равно получше, чем говяжья туша.
— А вот ты ничем не лучше, мерзавец. Я лучше с лягушкой из пруда целоваться стану. А теперь посторонись, да своих уродов забери. — Я обнаружила в себе талант не лезть в карман за словом, отточила язычок и не стеснялась пускать его в ход, как и локти. Чувство самосохранения подгоняло меня не хуже шпор.
— Никого лучше ты не найдешь. — Он потерся о мое бедро ширинкой, натянувшейся от похоти.
Я отбросила шутки в сторону. Колено, врезавшееся ему между ног, заставило Сима ослабить хватку.
— Не распускай руки! Иначе я попрошу мастера Хэмфри поработать секачом над твоими яйцами! А потом мы зажарим их на ужин с чесноком и розмарином!
Я не чувствовала себя несчастной. Но жаль было, конечно, что я некрасива, а мои умения никому не нужны. Много ли ума требуется, чтобы опорожнить в сточную канаву ночные горшки? За работой, окуная в вонючий жир грубые фитили (так мы изготавливали светильники для поварни и кладовых), среди шума и суеты я позволяла своим мыслям уноситься в давние дни, когда я была совсем юной послушницей. Не сопротивлялась, когда в мои мысли бесцеремонно вторгалась графиня Кентская, даже радовалась этому. Да, она далеко, в Аквитании, но в такие минуты она как бы оживала в аду поварен Хейверинг-Атт-Боуэра.
Как случилось, что на меня, такое незначительное существо, упал взгляд столь знатной дамы? Едва вышедшая из детского возраста, я была до глубины души поражена уже одним ее видом. Разукрашенные лентами и гирляндами цветов дорожные носилки с занавесями из тисненной золотом кожи, устланные мягчайшими подушками, качнувшись, замерли на месте. Несла их шестерка великолепных лошадей. Повсюду гарцевали, теснясь, герольды и прислужники. А сколько багажа было в следовавшей за носилками повозке! Я такого богатства никогда прежде не видывала. На моих глазах из носилок показались унизанные драгоценными перстнями пальцы, величественным жестом раздвинули занавеси.
Пресвятая Дева! Я даже дышать перестала, когда из паланкина вышла дама, расправляя юбки из узорчатого шелка — ярко-синего цвета, прошитые серебряной нитью и отороченные мехом, — и разглаживая складки богатого плаща; а перстни так и горели на солнце, переливались всеми цветами радуги. Эту даму нельзя было назвать молодой, но и до старости ей было еще далеко, а главное — она была такая красивая, что дух захватывало. Разглядеть фигуру мне толком не удалось: ее всю окутывал тяжелый плащ, хотя на дворе стоял жаркий летний день, — как и волосы, скрытые под изящной сеточкой и черной вуалью. Но лицо я рассмотрела. Безукоризненный овал, белоснежная кожа — эта дама была прекрасна. Глаза были огромными, они ярко блестели, цветом напоминая молодые буковые листочки.
Это и была графиня Джоанна Кентская, которую на кухне ославили блудницей, да еще и с дурными манерами.
Из одной повозки выскочили три собачки, которые стали с тявканьем прыгать у ее ног. С походного насеста на меня злобно косил взглядом ловчий сокол. И с нею был зверек, каких я до того в жизни не видывала: яркие глазки, проворные пальцы, каштановая шерсть, бакенбарды, длинный хвост. Зверек этот, на цепи с золотым ошейником, отпрыгнул в сторону и вцепился в резной столбик носилок. Я не могла отвести глаз. Замерла, как во сне, прельщенная всей этой суетной мирской славой, а зверек одновременно и очаровывал меня, и отталкивал своим видом.
Вдруг, совершенно неожиданно, невиданный зверек с громкими воплями, хватая руками все что попадалось, молнией рванулся сквозь стройные ряды монахинь, вышедших встретить почетную гостью. Все как одна отшатнулись, вопя не хуже зверька. Собачки затявкали и устремились в погоню. Когда зверек пробегал мимо меня, я уже все сообразила!
Наклонившись, ловко ухватила конец цепи и заставила вопящего и что-то лопотавшего зверька остановиться. Он замер у моих ног, оскалив весьма острые зубы. На них я не стала обращать внимания, а подняла его на руки, пока он не попытался улизнуть. Легонькое, хрупкое существо с невероятно мягкой шерстью запустило свои пальцы в мое покрывало, и я ощутила, как краснею, когда все напряженно умолкли и обратили взоры на меня.
Сейчас, на кухне, пропитанная тяжелым духом горячего сала, то и дело отрезая и окуная в жир фитили, я невольно вздрогнула, вспоминая, как царапался этот зверек. Когда я спасла обезьянку Джоанны, я сделала это по эгоистичному расчету — там не было ничего похожего на порыв, заставивший меня схватить за руку королеву Англии. Нужно ли теперь сожалеть о моей смелости? Я ни о чем не сожалела. Я уцепилась за единственную представившуюся мне возможность обратить на себя чье-то внимание. Не пожалела об этом и тогда, когда заметила, что дама разглядывает меня с таким видом, словно выбирает на рынке карпа пожирнее. Я попыталась сделать реверанс, очень неуклюжий — руки у меня были заняты рассерженным вопящим зверьком.
— Молодец! — заметила дама, наконец изобразив на лице подобие улыбки, хотя глаза у нее остались ледяными. — А ты находчивая. — Ее улыбка стала ослепительной, исполненной неотразимого очарования, сияющей, как лед на замерзших лужицах морозным зимним утром. — Мне нужно, чтобы кто-нибудь мне прислуживал. Эта девочка… сгодится. — Она властно взмахнула рукой, словно говорить больше было не о чем. — Ступай за мной, детка. Держи Барбари крепче…
И я пошла за ней, во рту сразу пересохло, а под ложечкой засосало — сразу и от испуга, и от радости. Меня взяли в горничные знатной дамы. Чтобы я была на побегушках у женщины, которая выбрала из всех меня. Пусть и ненадолго, правда, но я сумела ухватиться за эту возможность быть замеченной. Выделиться среди всех. И я крепко вцепилась в золотой ошейник на загривке зверька. Но как только я вошла в комнату, отведенную нашей гостье, зверек вырвался у меня из рук, бросился к расшитому пологу постели, стал острыми зубами рвать дорогую ткань. Я не сходила с места, не ведая, что мне надлежит делать.
— Держи! — велела гостья.
Она стянула с себя пару вышитых перчаток, уронила на пол, явно ожидая, что я их подберу. За перчатками последовали вуаль и платок, брошенные небрежно, словно и не были сшиты из драгоценной ткани. Я кинулась их подбирать. Так я впервые познакомилась с обязанностями горничной у знатной дамы. Леди сбросила мне на руки свой плащ, а я стояла, ощущая тяжесть роскошной одежды и не зная, что с нею делать. Дама не дала мне никаких указаний, а ее высокомерный вид не позволял задавать вопросы.
— Боже правый! — воскликнула она, привычно поминая имя Божье всуе, что произвело на меня большое впечатление. — Мне что же, придется удовольствоваться этим убогим жилищем? Готова спорить, здесь даже хуже, чем в темницах Тауэра. Этой нищеты уже довольно, чтобы считать меня кающейся! — Она взяла в руки свою шкатулку с драгоценностями и мелодично рассмеялась, хотя было в этом звуке и что-то неприятное. — Ты же не знаешь, кто я! Откуда послушнице в такой дыре меня знать? Но, Богом клянусь, через год узнаешь! Вся Англия услышит обо мне. — Тон, которым она это произнесла, был невыносимо злобным, странно противоречащим ее прекрасному лицу. Она швырнула шкатулку на ложе, так что самоцветы рассыпались по простыням яркими искрами, и мельком взглянула на меня. — Я — Джоанна, графиня Кентская. По крайней мере, сейчас. А скоро стану супругой принца Эдуарда, будущего короля Англии.
Я ничего не слышала ни о ней самой, ни о принце, который станет следующим королем. Я знала лишь одно: она выбрала из всех меня. Выбрала себе в служанки. Кажется, в душе я очень этим гордилась. Напрасно, как выяснилось.
Я добровольно попала в рабство к Прекрасной деве Кента, для которой ее красота и очарование, как она сама мне сказала, были лишь средством снискать известность по всей стране. Когда я ей требовалась, она звонила в маленький серебряный колокольчик, который давал удивительно громкий звук. Звонил этот колокольчик очень часто.
— Возьми это платье и вычисти подол, там столько пыли накопилось. И поосторожнее с платьем.
Я вычистила. Очень-очень осторожно.
— Принеси мне лаванды — полагаю, у вас в саду найдется лаванда? Она мне нужна для сохранности мехов. Я их надену теперь только через несколько месяцев…
В поисках лаванды я истоптала все грядки сестры Марджери, рискуя получить выговор строгой сестры-врачевательницы.
— Забери эту чертову мартышку, — наконец-то я узнала, как называется зверек, — и унеси в сад. От нее столько шума, у меня голова разболелась. И принеси воды. Мне нужна большая лохань воды. Горячей, не такой, как в прошлый раз. А когда сделаешь все это, принеси чернила. И перо.
Графиня Джоанна была требовательной госпожой, но я ни разу не пожаловалась на обилие поручений. Мне приоткрылось окошко в захватывающий мир королевского двора, я словно получила возможность заглянуть туда одним глазком и подивиться.
— Расчеши мне волосы, — приказала она.
Я повиновалась, распустила заплетенное в косы красное золото ее волос и стала расчесывать гребнем из слоновой кости, какой мне и самой хотелось бы иметь.
— Осторожнее! — Она ударила меня по руке, до крови оцарапав своими острыми ногтями. — Какая ты неуклюжая! Мне же больно.
Графиня Джоанна частенько жаловалась на головную боль. Я научилась в таких случаях быстро исчезать с ее глаз, но вообще-то она в равной мере отталкивала и очаровывала меня. Чем же, по своему простодушию, я была поражена более всего?
Графиня Джоанна мылась в ванне!
Это был целый ритуал. Я держала наготове свежевыстиранную тонкую сорочку и полотенце из грубого полотна. А что же графиня? Она, не испытывая ни малейшего смущения, сняла с себя всю одежду. На мгновение у меня мурашки побежали по коже от удивления и растерянности, будто я тоже оказалась раздетой. Я никогда прежде не видела полностью обнаженного тела — ни одна монахиня никогда не снимала нижней сорочки. Мы в них спали, в них мылись, просовывая под сорочку мокрую тряпицу; в сорочке же монахиня и умирает. Нагота есть грех в очах Господа. Но графиня Джоанна такого запрета не ведала. Совершенно нагая, она забралась в лохань, наполненную ароматной водой, а я стояла и хлопала глазами, ожидая, когда она завершит омовение и нужно будет подать ей полотенце и чистое белье.
— Ну, что случилось, детка? — обратилась ко мне графиня, не скрывая насмешливой интонации. — Ты что, никогда не видела голой женщины? Наверное, не видела, с этими-то старыми каргами. — Она засмеялась, мне тоже захотелось улыбнуться, слыша ее мелодичный смех, но потом в ее лице проступило что-то хищное. — Готова спорить, мужчин ты тоже не видела. — Она зевнула, изящно потянулась в горячей воде, над которой поднялись обнаженные груди. — Вымой мне голову, детка.
Я, разумеется, выполнила распоряжение.
Закутавшись в домашнее платье, небрежно разметав по плечам влажные волосы, графиня Джоанна порылась в одном из своих сундуков, извлекла оттуда зеркальце и подошла к окну, вгляделась в свое лицо. На губах появилась довольная улыбка. А чем она могла быть недовольна? Я засмотрелась на блестящее зеркальце в серебряной оправе, и графиня, почувствовав мой взгляд, надменно вскинула голову.
— Ну, в чем дело? Что ты такого увидела? — Я молча покачала головой. — Пока что ты мне не нужна. Приходи после вечерни. — И бросила сверкающее зеркало на ложе. А мне так хотелось до него дотронуться…
— У вас зеркальце, миледи…
— И что же?
— А можно мне взглянуть в него?
Я не ожидала от нее такой реакции и не успела увернуться. Графиня ударила меня небрежно, привычно, но очень сильно — безо всякой причины, просто из необузданной вспыльчивости. От звонкой пощечины я покачнулась, попятилась, моментально задохнувшись.
— Не смей дерзить мне, детка! — Несколько мгновений она раздумывала, глядя на меня. Потом изогнула красивыми дугами брови, скривила губы. — Ладно, посмотрись в зеркало, если уж тебе так хочется.
Я взяла зеркальце в руки — и посмотрела на себя. Отражение мое здесь было гораздо отчетливее, чем в лохани воды. Я замерла на месте. Потом без единого слова (потому что не в силах была ничего вымолвить) осторожно положила зеркальце обратно на ложе, стеклом вниз.
— Понравилось тебе то, что ты увидела? — спросила графиня, явно радуясь моему унижению.
— Нет! — пробормотала я пересохшими губами.
Отражение в воде сказало мне правду, но теперь не осталось вообще никаких сомнений. Глаза темные, лишенные глубины, ничем не освещенные, как небо в беззвездную ночь. Брови еще чернее, густые, будто намалеванные чернилами. Крупный подбородок, большой нос, широкий рот. Слишком… слишком все крупное! Счастье еще, что волосы у меня были покрыты. Я просто червяк в сравнении с этой белокожей златовласой красавицей, которая сейчас улыбалась своей дешевой победе надо мной.
— А чего ты ожидала? — спросила она.
— Даже не знаю, — кое-как выдавила я.
— Ты хотела увидеть что-нибудь такое, что может привлечь внимание мужчины, заставить его обернуться, ведь так? Ну конечно. Какой женщине этого не хочется? Красивой женщине многое прощается. А дурнушке? С ней церемониться не станут.
Какой жестокий приговор — и произнесла она его совершенно равнодушно, даже не подумав о том, что должна испытывать я. В эту самую минуту она самодовольно вскинула голову, и я прочитала на ее лице всю правду. Ей нравилось быть жестокой, а я, как ни тяжко было у меня на сердце после увиденного в зеркале, совершено ясно поняла, отчего она выбрала себе в служанки именно меня. То, что я сделала, не сыграло в этом никакой роли. Не важны были ни выходки ее капризной мартышки, ни моя глупая попытка привлечь внимание графини, ни все старания услужить ей как можно лучше. Она выбрала меня потому, что я уродлива и стала хорошим фоном для образованной, утонченной придворной красавицы — фоном, на котором ее красота сияла ярко, как маяк в ночи. Я представляла собой полнейшую противоположность: слишком непривлекательная, слишком нескладная, слишком необразованная, чтобы хоть капельку угрожать величию и блеску Джоанны Кентской.
Взвесив все добро и зло, которое она мне причинила, я по-настоящему возненавидела ее.
Потом все это сразу оборвалось, как и следовало ожидать.
— Я уезжаю, — объявила графиня через три недели — самые волнующие, самые захватывающие недели в моей жизни. Я уже и сама видела приготовления: снова появились дорожные носилки, свита как раз в эту минуту въезжала с грохотом и звоном во двор, — и мне стало жаль.
— Бог свидетель, как я буду рада оказаться вне этих навевающих невыносимую скуку стен! Я здесь умереть могла бы, и никто бы даже не узнал. А ты мне весьма пригодилась. — Графиня сидела в своей спальне, в кресле с высокой спинкой, сдвинув на скамеечке ножки в позолоченных туфельках, ожидая, когда слуги закончат укладывать ее вещи. — Наверное, мне следует вознаградить тебя, да только вот как? — Она встала, зашуршав атласными юбками. — Возьми шкатулку и неси за мной Барбари.
Я с трудом поймала обезьянку, заработав еще один укус, но боли даже не почувствовала, занятая своими мыслями. Мне хотелось получить у графини ответ на один вопрос. И если не спросить сейчас же…
— Миледи…
— У меня нет времени. — Она уже перешагнула через порог.
— Что дает женщине… — Я мучительно подыскивала подходящее слово. — Что может дать женщине власть?
Графиня остановилась. Потом медленно повернулась ко мне, негромко рассмеялась, но на лице у нее была написана столь явная издевка, что я даже покраснела, поняв, насколько безрассудно себя вела.
— Алиса. Тебя же Алисой зовут, верно? — Она впервые за все время назвала меня по имени. — Власть? Что может знать о власти такое существо, как ты? И что бы ты стала с ней делать, если бы даже получила? — При всей ее изысканности она и не старалась скрыть своего презрения к моему невежеству.
— Я имела в виду власть самой выбирать свою дорогу в жизни.
— Вот как! Ты, значит, к этому стремишься? — Она одарила меня довольной улыбкой. И за напускной небрежностью я разглядела в ней более глубокое чувство. Она искренне презирала меня, как презирала, должно быть, всех простолюдинов. — Ты не получишь никакой власти, милая моя, если под нею ты понимаешь положение в обществе. Разве что поднимешься до невероятных высот и станешь настоятельницей этого монастыря. — В мурлычущем голосе слышалась обидная насмешка. — Этого тебе не достичь, но ответ я тебе все же дам. Если ты не родилась в благородной семье, то тебе требуется красота. Но с такой внешностью ты не сможешь продвинуться. Тебе остается только одно. — Улыбка пропала, и графиня, кажется, соизволила обдумать мой вопрос. — Знания.
— Как могут знания дать власть?
— Могут. Если то, что известно тебе, играет важную роль для кого-то еще.
Чему могла я научиться в стенах аббатства? Невзрачное полотно моей жизни было расстелено передо мной, слишком жалкое и по размеру, и по качеству. Читать положенные на день молитвы. Вскапывать грядки на огороде. Варить простенькие зелья в лазарете. Начищать до блеска серебряные сосуды в монастырской церкви.
— И что делать с такими знаниями? — с отчаянием в голосе спросила я, будто сразу перечислила все, что мне известно. Как я проклинала графиню в эту минуту своего прозрения!
— Как это можно сказать заранее? Но вот что я тебе скажу. Женщине очень важно научиться быть двуличной, чтобы с толком пользоваться теми талантами, какими она наделена, сколь бы жалкими они ни казались. Есть у тебя такое умение?
Двуличие? А оно у меня есть? Я и понятия об этом не имела и только покачала головой.
— Обман! Коварство! Интриги! — вскричала она, выведенная из терпения моей несообразительностью. — Ты что, не понимаешь? — Графиня Джоанна вернулась с порога и зашептала мне на ухо, словно оказывала величайшее благодеяние: — У тебя должны быть душевные силы, чтобы настойчиво идти к своей цели, не обращая внимания на то, скольких врагов ты наживешь на этом пути. Это дело нелегкое. Я всю жизнь наживала себе врагов, но в тот день, когда я обвенчаюсь с принцем, они станут для меня все равно что мякина для урагана. Я стану смеяться им в лицо, не заботясь о том, что они обо мне думают или говорят. Захотела бы ты по доброй воле выбрать себе такой путь? Уверена, что нет. — В ее голосе снова послышалась издевка. — Подумай об этом, детка. Все, что ждет тебя в будущем, — жизнь в этом склепе до того часа, когда тебя закутают в саван.
— Нет! — Ужасное видение заставило меня громко выкрикнуть это слово, будто в руку мне вонзилось одно из остро заточенных перьев графини Джоанны. — Я убегу отсюда.
Раньше я никогда не говорила об этом вслух, не облекала свою мечту в слова. Как отчаянно это прозвучало! И как безнадежно, но в ту минуту меня буквально душили мысли о том, чего я лишена и что могло бы изменить мою жизнь, если бы я была в силах ею управлять.
— Убежишь? А жить как станешь? — Она почти повторяла слова сестры Годы, которые врезались в мое сердце острым ножом. — У тебя нет своих средств, тебе нужен муж. Если только ты не желаешь сделаться шлюхой. Ау них опасная жизнь, грубая и короткая. Я бы тебе такую выбирать не советовала. Уж лучше быть монашкой. — Она отстранила меня рукой, вышла из комнаты и прошествовала во двор, где уселась в свои носилки. Я догнала ее, передала обезьянку, задернула занавеси, и на том моя служба у графини завершилась. Но напоследок я услышала от нее еще одно прорицание: — Ты никогда ничего не будешь стоить в этой жизни. Поэтому не забивай себе голову глупостями. — Потом добавила с мимолетной улыбкой: — Я придумала, чем тебя наградить. Возьми себе Барбари. Возможно, тебя он развлечет, а мне уже стал надоедать…
Зверек вылетел из носилок, снова оказавшись у меня на руках.
И графиня Джоанна, взбудоражив меня, исчезла в туче пыли вместе со своими собачками, соколом и свитой. Но забыть я ее не могла, потому что графиня разожгла пламя моего воображения.
«Я заслуживаю большего», — твердила я, преклонив вместе с сестрами колени на вечерне. Я буду чего-то стоить! И я добьюсь чего-то в жизни! Так думала я, пусть и была тогда совсем еще ребенком.
И разве кое-чего я не добилась, так или иначе? Я улыбнулась, пусть и забивала мне ноздри и глотку вонь свечного сала. Что бы ни думала обо мне графиня, вот где я оказалась каким-то чудом — в Хейверинг-Атт-Боуэре! «Судьба вырвала меня из стен аббатства, — повторяла я себе под нос, — так отчего судьба не может вывести меня из этого ада, полного жара и вони, туда, где я смогу расправить крылья? Особенно если я и сама постараюсь».
Носком башмака я отогнала нахального кухонного котенка, вцепившегося когтями в мои юбки, отвлеклась, и мое бормотание перешло в шипение боли: горячее сало капнуло на руку, мигом вернув меня к действительности.
Я подхватила котенка, заперла его в буфетной, не обращая внимание на жалобное мяуканье, а сама поспешила к мастеру Хэмфри, который звал меня яростным ревом.
Да, а что дальше случилось с обезьянкой? Матушка настоятельница приказала забрать зверька в лазарет и запереть в подвале. Больше я его не видела, да не очень и жалела, вспоминая, как больно он кусался. Но теперь я улыбнулась. Если бы у меня сейчас была обезьянка, я с большим удовольствием натравила бы ее на Сима.
А потом с ясного неба грянул гром. Проведя две недели в водовороте поварен Хейверинга, я успокоилась и позволила себе забыть об осторожности. В тот день мне дали отвратительное поручение: отскрести колоду, на которой разделывают мясные туши.
— А когда закончишь с этим, принеси из кладовки корзину лука-порея… и посмотри на огороде, может, найдешь там немного шалфея. Знаешь, как он выглядит? — Мастер Хэмфри, выкрикивая свои указания мне вслед, по-прежнему не терял язвительности.
— Знаю, мастер Хэмфри. — «Любой дурак знает, как выглядит шалфей». Я схватила тряпку, довольная тем, что можно ускользнуть подальше от жара печей и тошнотворного запаха свежей крови.
— Да, и прихвати еще луку-резанца, девушка!
Не успела я переступить порог, как меня схватили за руку, да так резко, что я чуть не споткнулась.
— Какого?..
Я оказалась в объятиях треклятого Сима.
— Ба, да это же мистрис Алиса, которая так высоко себя ставит!
Я подняла руку, чтобы крутануть ему ухо, но он уклонился, продолжая крепко меня держать. Сим не отставал от меня сегодня: я уже не дала ему задрать мои юбки, кольнув кончиком ножа, и на его руке до сих пор краснели пятнышки.
— Отстань от меня, болван!
Сим притиснул меня к стене, и я, как обычно, ощутила, что он пытается коленом раздвинуть мне ноги.
— Будь моя воля, тебя бы уже давно оскопили! — Я укусила его за руку.
Сим был гораздо сильнее меня. Он рассмеялся и дернул меня за ворот. Я почувствовала, как тот рвется, как Сим разрывает рубаху на моем плече, и тут же лопнул тонкий шнурок. Четки королевы Филиппы, драгоценный дар, который я носила на шее, скрывая от посторонних глаз, скользнули под рубахой и упали на пол. Я вывернулась из рук Сима и коршуном бросилась на четки. Чуть-чуть опоздала. Их успел схватить Сим.
— Так-так! — Он помахал четками у меня перед носом.
— Отдай!
— Вот оттрахаю тебя — тогда отдам.
— Не в этой жизни… — Сейчас я думала только о четках.
Сим тоже. Он разглядывал красивую вещицу, поднеся ее ближе к свечам, и постепенно (это я видела) до него стало доходить, насколько она ценная.
— Ну, если не ошибаюсь, это стоит хороших денег…
Он оставит четки себе. Но должно быть, их стоимость смутила даже Сима — он понимал, что рискует… Я схватила его за руку, но Сим бросился бежать, увлекая меня за собой. Тогда, споткнувшись и чуть не упав, я сообразила: он сейчас втянет меня в неприятности. И ничего хорошего мне это не сулит.
— Что здесь происходит? — раздался среди всей суматохи голос мастера Хэмфри.
— Здесь вор обнаружился, мастер Хэмфри! — Глаза Сима сверкали нескрываемой злобой.
— Я и так знаю, что ты вор, сынок. Думаешь, я не видел, как ты стащил здоровенный кус сыра и сунул в свою ненасытную глотку? С тех пор и часа не прошло.
— Дело куда серьезнее, чем кусочек сыра, мастер Хэмфри. — Обращенная ко мне ухмылка Сима была настоящим образцом коварства. Через мгновение нас окружили плотным кольцом.
— Грабительница! Разбойница! Воровка! — хором выкрикивали бездельники поварята и обожающие скандалы подручные.
— Я не воровка! — Я лягнула Сима под колено. — Отпусти меня!
— Черт тебя возьми, девка! — Он сжал меня сильнее. — А я ведь говорил, что ей нельзя доверять, — воззвал он к окружившей нас толпе. — Слишком уж высоко она себя ставит! Воровка она! — И поднял над головой руку с зажатым в грязных пальцах подарком Филиппы. Четки сверкали, и всем было ясно, что это дорогая вещица. Я задрожала от возмущения. Да как он смеет отбирать то, что принадлежит мне!
— Воровка!
— Не воровка я!
— Откуда это у тебя?
— Она была раньше в монастыре, — раздался чей-то одинокий голос в мою защиту.
— Готов поспорить, даже в монастыре у нее не могло быть ничего похожего на это.
— Позовите сэра Джослина! — распорядился мастер Хэмфри. — Мне с этим делом возиться некогда.
А потом события развивались очень быстро.
— Эта вещь принадлежит ее величеству, — заключил сэр Джослин. На меня обратились все взоры, в которых ясно читалось отвращение. — Королева хворает, и ты обокрала ее!
— Она мне их подарила! — Я понимала, что уже осуждена, но природа повелевала мне бороться до конца.
— Ты похитила четки у нее!
— Я их не похищала!
Я старалась защищаться ровным голосом, спокойно, но в душе спокойствия не было, а разум был скован страхом. Простить могут многое, но не такое преступление. Я впервые почувствовала всю глубину почтения к королеве, которое испытывали даже слуги на поварне и в буфетных. Я окинула взглядом лица и прочитала на них осуждение и отвращение. А Сим с дружками просто блаженствовал.
— Где маршал[22]?
— Он в часовне, — пропищал один из подручных.
Зажав в одной руке четки, вцепившись другой в меня, сэр Джослин повлек меня по коридорам в королевскую часовню, к самому алтарю, где двое рабочих сгружали с ручной тележки какое-то устройство из дерева и металла, со множеством колес и зубцов. За ними внимательно надзирал лорд Герберт — маршал двора, чье слово было законом. А рядом стоял сам король. Хуже и не придумаешь. Отчаяние болью отдалось в моей груди.
— Ваше величество! Лорд Герберт…
— Погодите, сэр Джослин. — Король с маршалом были всецело поглощены делом, не сводя глаз с рабочих, которые бережно поднимали хитрое устройство. Мы тоже стояли и смотрели, как его по частям укладывают на полу. — Славно. Ну а теперь…
Эдуард повернулся к нам, посмевшим отвлекать его от важных дел. Значит, меня будут обвинять перед лицом самого короля, и его проницательные глаза решат дело. Я дрожала, пока маршалу предъявляли вещественное доказательство, подтверждали его происхождение, пока маршал рассматривал улику. Еще сильнее я задрожала, когда лорд Герберт обдумал дело, осудил меня и вынес приговор — без проволочек запереть в подвале, — даже не снизойдя до того, чтобы выслушать меня. А что же король? Он не в силах был оторвать взгляд от чудовищного сооружения, лежавшего у его ног, пока я страдала за преступление, которого не совершала. Я была для него не больше чем блоха, которую можно раздавить ногтем, чтобы не мешала тешиться какой-то игрушкой. Еще миг — и он отдаст меня на растерзание маршалу. Этого не должно случиться! Надо завладеть его вниманием. По телу снова пробежало то пламя честолюбивых желаний и горячей обиды, которое я впервые ощутила под градом безжалостных насмешек графини Джоанны.
«Я достойна гораздо большего. Я заслуживаю большего».
Я стремилась к большему, чем незавидное существование на поварне Хейверинга. Я заставлю короля обратить на меня внимание.
— Государь! — вскричала я с неожиданной смелостью. — Я та женщина, которую вызвала сюда королева. А этот негодяй, дьявольское отродье, — я вперила палец в Сима, — годное лишь на то, чтобы взашей вытолкать его из дворца на помойку, смеет называть меня воровкой!
— Вот как! — сказал король, лишь слегка отвлекаясь от своего занятия.
— Его слова вылетают из уст грязных, как отхожее место, — не ослабляла я напора. — Взываю, ваше величество, к вашему правосудию! Меня никто не желает даже выслушать. Только потому, что я женщина? Я прошу вашего суда, государь.
Теперь глаза короля широко открылись.
— При дворе короля никому не отказывают в правосудии. — Только не на кухнях вашего величества. Там правосудие и справедливость приходится искать на ощупь впотьмах. Они не больше чем пустой звук для этого дерьма! — Недолгое пребывание в поварне значительно обогатило мой словарный запас. Теперь все внимание короля было обращено на меня.
— Значит, я должен поднять кухни в твоих глазах. — Ирония его ответа оставляла мне мало надежды. — Ты украла эту вещь?
— Нет! — Страх темноты, страх быть запертой в подвале придал мне смелости. — Я владею ей законно. Уикхем знает, что я не украла ее. И он подтвердит…
Довод пропал даром.
— Возможно, — согласился король. — Только он, увы, отправился в Виндзор, здесь его нет…
— Ее величеству известно, что я не крала! — На это я возлагала последнюю свою надежду, и совершенно напрасно, как выяснилось.
— Мы не станем тревожить ее величество. — Лицо короля резко омрачилось. — Ты не станешь докучать этим королеве. Лорд Герберт… — Передо мной замаячило заключение в подвале.
— Не нужно! — выкрикнула я из последних сил.
— Из-за чего это вы не станете меня тревожить, Эдуард?
При звуках голоса, задавшего этот вопрос, — такого нежного голоса, ласкавшего слух, — во мне снова затеплилась крошечная искорка надежды.
Во мгновение ока все, кто был в часовне, словно забыли обо мне, не представлявшей теперь для них никакого интереса. Сэр Джослин и лорд Герберт почтительно поклонились. Король шагнул вперед, задев меня полой своего камзола, взял королеву под руку и провел к первому ряду скамей, где она могла присесть. Лицо его просветлело, сердитые морщины разгладились, жесткие складки у рта исчезли. Он обращался с супругой с такой любовью и нежностью, словно они были наедине в тиши своих личных покоев. Королева улыбнулась ему в ответ, взяла его лицо в свои ладони. В их безыскусных жестах таилось столько любви, столько душевной близости! В этом не было сомнений. Как ни была я поглощена своими горестями, я не могла не видеть этого и не восхищаться. Король все равно что поцеловал ее на людях. Что он и сделал в действительности, запечатлев нежный поцелуй на ее щеке.
— Филиппа, любовь моя! Достаточно ли вы здоровы, чтобы приходить сюда? Вам надо хорошенько отдыхать.
— Я отдыхала всю минувшую неделю. Мне хочется увидеть новые часы.
— Не похоже, что вы уже выздоровели.
— Не хлопочите так, Эдуард. Я чувствую себя лучше.
По ее виду этого не скажешь: лицо осунулось, посерело.
— Садитесь же, дорогая моя. — Король ласково усадил ее на устланную мягкими подушками скамью. — Плечо вас беспокоит?
— Увы. Но это не смертельно. — Королева выпрямилась, бережно придерживая правой рукой левый локоть, и стала рассматривать то, что (как я теперь поняла) представляло собой детали механизма и корпуса часов. — Очень красивые. Когда их пустят? — Тут она заметила, что в часовне собралось слишком много народу. — А что здесь происходит?
Маршал двора откашлялся.
— Девушка, ваше величество… — И метнул на меня сердитый взгляд.
Королева посмотрела на меня, и по глазам было видно: она меня вспомнила и узнала. С трудом она всем телом повернулась на сиденье, чтобы рассмотреть меня как следует.
— Алиса?
— Это я, ваше величество. — Я попыталась сделать реверанс, хотя лорд Герберт еще крепко держал меня за руку, словно я могла отсюда убежать.
— Я посылала за тобой Уикхема. — Филиппа наморщила лоб, вспоминая, как будто бы все происходило давным-давно. — Ты, наверное, приехала, когда я была больна.
— Да, ваше величество.
— Чем же ты занимаешься?
— Работаю на поварне.
— Вот как? — Она заметно удивилась. Потом негромко рассмеялась. — Кто тебя отправил туда?
— Принцесса Изабелла, — проворно вмешался сэр Джослин, спеша переложить вину на чужие плечи. — Она полагала, что таково было ваше намерение.
— Она так полагала? Сомневаюсь, что моя дочь вообще думала о чем-нибудь, кроме собственных развлечений. А вот вам надо было крепко поразмыслить, сэр Джослин.
В часовне повисло неловкое молчание, пока лорд Герберт не сказал:
— Эта девушка — воровка, ваше величество.
— Это так? — обратилась королева ко мне.
— Нет, ваше величество!
— Боюсь, что все-таки да. — Эдуард протянул ей четки. — Это ваша вещь, любовь моя?
— Да. Вернее, она была моей. Вы подарили мне когда-то эти четки.
— Правда? Их нашли у этой девушки.
— Ничуть этому не удивляюсь. Я подарила их ей.
— Я им так и сказала, миледи, — вмешалась я, — но меня никто не стал слушать.
— Подарили кухонной девушке? Да зачем же? — Король развел руками, не в силах побороть недоверие.
— Это долгая история, — вздохнула королева. — Отпустите ее, лорд Герберт, никуда она не убежит. Подойди ко мне, Алиса. Дай-ка я на тебя посмотрю.
Только тут я заметила, что едва дышу. Когда королева протянула руку, я с величайшим благоговением опустилась перед ней на колени, а она тем временем не торопясь, задумчиво рассматривала меня своими усталыми глазами. Похоже, она пыталась уловить какую-то ускользавшую мысль, не особенно ей понравившуюся. Потом кивнула и погладила меня по щеке.
— Кто бы мог подумать, что из-за простой вещицы, подаренных четок, поднимется такой переполох? — проговорила она с кривой усмешкой. — И что понадобится чуть ли не весь королевский двор, чтобы разобраться в деле? — Она с усилием поднялась на ноги и потянула меня за собой, взяв решение в свои властные женские руки. — Благодарю вас, сэр Джослин, лорд Герберт. Я знаю, что вы неустанно печетесь о моих интересах. Вы немного переусердствовали, но я это исправлю. Девушка эта вовсе не воровка, уж поверьте мне! Теперь дай мне руку, Алиса. Надо привести все в надлежащий порядок.
Я помогла ей выйти из часовни, ощущая ее немалый вес, особенно когда мы спускались по лестнице. Расслышала, что король пробормотал нам вслед: «Слава Богу, теперь это уже не моя забота». Мы медленно продвигались по коридорам королевских покоев, а в душе у меня затеплился огонек ожиданий: я стану служанкой королевы? Камеристкой? Мне все еще было совершенно непонятно, зачем ей понадобилась я, если учесть, сколько талантливых и одаренных людей ее окружало, но я отчетливо чувствовала, что она что-то задумала. И, ощутив это, поняла, что моя жизнь, наполненная тяжелым трудом в вечном рабстве, бесповоротно меняется.
Сразу после этого я оказалась в пустой спальне, где никто не жил, судя по тому, что мебели в ней почти никакой не было, а пыль поднялась столбом от колыхания юбок. Обитый медью таз, ведра воды, от которой шел пар, да две девушки-служанки с маслобойни — вот и все, что было в этой комнате. Меня передали с рук на руки.
Вооружившись горячей водой и не менее горячим рвением, которое подкреплялось еще изрядной долей любопытства, девушки взялись за меня. До сих пор я еще ни разу не мылась, целиком погрузившись в воду. И теперь, нырнув в нее чуть не по самую макушку, как форель в пруду, пока служанки еще не успели разглядеть меня по-настоящему, я вспоминала графиню Джоанну, гордую в своей наготе, уверенно выставлявшую напоказ свою красоту и совершенство.
— Уходите! — возмутилась я. — Пока еще я в состоянии сама растереть себя докрасна!
— Таков приказ королевы! — захихикали они. — Нельзя противиться ее воле!
С этим спорить не приходилось, и я была вынуждена подчиниться, а девушки оказались дерзкими и достаточно острыми на язык, чтобы вслух обсуждать мое несовершенство. Кожа да кости. Никаких округлостей, груди маленькие, бедра тощие. Они не знали удержу, давая полное представление обо всех ужасных недостатках моего обнаженного тела. Руки грубые, отметили они. Волосы неухоженные. Ну а уж брови… И так далее, без передышки.
— В моде светлые волосы! — сообщили они мне. Я только вздохнула.
— Не трите так сильно!
Они и это пропустили мимо ушей. Меня намыливали, ополаскивали, потом вытерли досуха мягким полотенцем, и в конце концов я просто закрыла глаза, не мешая им сплетничать вволю и облачать меня в выданные мне одежды. Да такие наряды! Ощутив кожей их легкое прикосновение, я была вынуждена открыть глаза. Такого я никогда еще не видела, разве что в сундуках графини Джоанны. Нижняя рубаха из тонкого полотна, нимало не стеснявшего движений. Платье, плотно облегавшее бедра, ярко-синим цветом напомнило мне плащ Пресвятой Девы. Оно называлось котарди[23], как мне объяснили, потому что сама я не знала, как называются такие красивые вещи. Поверх набросили сюрко[24], слишком пышное на мой взгляд, отделанное серым мехом и с покрытым эмалью поясом. Шилось все это, конечно, на кого-то другого, ткань на подоле и манжетах немного протерлась, да разве это беда? У меня теперь были роскошные женские наряды, о каких я и мечтать не смела. Такие сверкающие, такие мягкие, их ткань просто скользила между пальцами! Шелк, узорчатый дамаст, тонкая шерстяная пряжа… Впервые в жизни на мне была цветная одежда[25], настолько замечательная, что буквально ослепляла меня. Я чувствовала себя драгоценным самоцветом, отполированным до невероятного блеска.
Конечно, они причитали над моими волосами.
Слишком жесткие. Слишком темные. Слишком короткие, чтобы заплести в косы. Да вообще слишком короткие!
— Лучше такие, чем те, остриженные до самого затылка, что были у меня, когда я стала послушницей! — язвительно ответила им я.
Они затолкали волосы под золотую сеточку, а сверху набросили покрывало из какой-то воздушной ткани, которая красиво развевалась, стоило мне пошевелиться, и скрепили все повязкой-валиком, словно пряча последние следы моей прежней жизни. Никакого апостольника. Я дала себе зарок никогда больше не носить апостольник.
— Теперь надень вот это… — Я натянула тонкие чулки с подвязками. Ноги мне обули в мягкие туфельки.
Я оглядела себя, затаив дыхание, чтобы все это великолепие вдруг с меня не свалилось. Ноги ощущали тяжелую ткань пышных юбок, издававших тихое шуршание, когда я неуверенно шагала по комнате. Ребра сдавливал туго зашнурованный корсаж, глубокий вырез приоткрывал не очень-то заметные груди. Я чувствовала себя совсем не в своей тарелке, будто меня нарядили для участия в представлении, какое я однажды видела на Крещение в аббатстве.
Это горничные у королевы наряжаются в такие роскошные одежды?
Я брыкалась, пытаясь откинуть назад мешавшие юбки и наслаждаясь тем, что одета по моде (пусть я ее и не освоила еще), когда распахнулась дверь и вошла Изабелла. Обе служанки присели в реверансе до самого пола. Я последовала их примеру, показав недюжинное умение обращаться с тяжелыми складками дорогой ткани, но прежде успела заметить, как принцесса недовольно поджала губы. Изабелла, по чьей милости я прозябала на поварне, не спеша обошла вокруг меня.
— Неплохо, — оценила она, и я зарделась. — Взгляни сама. — И протянула мне маленькое зеркальце, висевшее у пояса на цепочке.
Ой, только не это! Я вспомнила тот предыдущий раз, когда смотрелась в зеркало, и спрятала руки за спину, как нашкодивший ребенок.
— Нет-нет! Не стану!
— Отчего же? — спросила она с издевательской усмешкой.
— Боюсь, мне не понравится то, что я увижу, — ответила я, упрямо не опуская глаз под взглядом принцессы.
— Ну что ж, это правда. Ничего другого ты сделать не в силах, так что поступаешь, должно быть, вполне разумно, — проворковала Изабелла, но сочувствие в ее голосе смешивалось с презрением.
Она властно взмахнула рукой, и в напряженном молчании я проследовала за нею по коридорам в светлицу, где сидела со своими дамами Филиппа.
— Что же, Maman, вы ее вымыли и нарядили. Насколько это вообще возможно…
— Ты лишена милосердия, Изабелла. — Ответ королевы прозвучал неожиданно сурово.
— И что нам теперь с ней делать? — спросила Изабелла, которую нелегко было смутить.
— То, что я и собиралась сделать с самого начала, пока не вмешалась ты. Она станет одной из моих фрейлин.
Фрейлиной королевы? Изабелла в изумлении подняла брови. Кажется, я тоже. Потрясение был таким сильным, что я даже не задумалась над тем, как это может быть истолковано.
— Но вам совершенно не нужна она! — воскликнула Изабелла, не в силах поверить в серьезность намерений матери. — У вас их и так уже добрая дюжина…
— Да? — Улыбка — на мой взгляд, весьма грустная — тронула губы королевы. — Возможно, как раз она мне и нужна.
— Так выберите благородную девушку. Богом клянусь, у нас хватает дворянок…
— Я лучше знаю, что мне нужно, Изабелла. — Королева жестом отпустила дочь, а мне протянула четки.
— Миледи…
Я не могла найти слов. Пальцы сомкнулись на драгоценных жемчужинах. В одно мгновение, одним четким распоряжением и одним-единственным жестом королева отринула враждебность дочери к выскочкам из низов общества, а мою жизнь перевернула совершенно.
— Вы об этом пожалеете! И тогда не говорите, что я вас не предостерегала. — Изабелла оставила последнее слово за собой. Ей было совершенно наплевать на то, что я тоже ее слышу.
«Но отчего? Отчего она выбрала меня?» — эта мысль неотступно вертелась в моей голове, пока фрейлины расходились выполнять свои обычные поручения.
— Почему же меня? — высказала я свой вопрос вслух. — Чем я могу быть полезна вам, ваше величество?
Филиппа с несвойственной ей суровостью всматривалась в меня, словно пыталась отыскать ответ на этот вопрос.
— Ваше величество…
— Извини, я задумалась… — Она закрыла глаза, а когда открыла их снова, в них почти неуловимо отражалась грусть, но заговорила она со мной весьма ласково: — Когда-нибудь я скажу тебе об этом. А пока… Давай подумаем, что нам с тобой делать.
Значит, вот как. Королева выбрала меня по какому-то капризу, с дальним расчетом, который предпочитала скрывать. Я стала domicella[26]. Фрейлиной. Не domina[27], как называли дворянок, а domicella. Среди фрейлин королевы я была младшей по возрасту, самой необразованной и занимающей самое последнее место, и все же я принадлежала к ее свите, постоянно находясь в светлице.
Даже поверить было невозможно, что мне так повезло. Когда мне приходилось идти по какому-нибудь пустяковому поручению через анфилады пустых покоев и передних, я от избытка чувств поднимала юбки чуть не до колен и довольно неуклюже пританцовывала на ходу, прислушиваясь к далеким звукам лютни в светлице. Танцевать по-настоящему, как вы понимаете, я еще не умела, этому мне предстояло научиться, но выходило у меня уже куда лучше, чем в моей прежней жизни. Никак не могла я привыкнуть к тому, что красивое платье с меховой оторочкой способно придать женщине столько уверенности в себе.
Кажется, я даже ухмыльнулась. Что сказал бы счетовод Гризли, если бы увидел меня в эту минуту? Должно быть, он бы сказал, что я выбрасываю деньги на ветер вместо того, чтобы вложить их в недвижимость! А что сказал бы Уикхем, кроме изложения своих честолюбивых замыслов в связи с постройкой королевских бань и уборных? Я громко засмеялась. А сам король? Король Эдуард заметил бы меня только в том случае, если бы я состояла из колесиков и шестеренок, которые крутятся, щелкают и цепляются друг за друга.
Я попыталась исполнить пируэт, что вышло очень неуклюже: туфельки были мне великоваты. Тут же я дала себе клятву, что когда-нибудь стану носить туфли, сшитые специально для меня и сидящие на ноге безукоризненно.
А что потребует от меня взамен королева? Ну, наверное, что-нибудь не слишком серьезное.
Они чуть из юбок не выпрыгивали от усердия, все эти фрейлины королевы, стараясь превратить меня в леди, достойную своего нового положения. Для них я была игрушкой, чем-то вроде любимой собачки, которую нужно без конца гладить и ласкать, чтобы разогнать скуку. Это было мне не по вкусу, не такую роль я хотела играть при дворе, однако их старания создать новую Алису Перрерс не могли оставить меня равнодушной. К тому же, вероятно, я была еще слишком юной, мне нравилось находиться в центре всеобщего внимания. Игры увлекали меня.
Я безропотно покорялась всему: меня умащивали и натирали до блеска, к рукам прикладывали ароматные примочки, куда более сложные, чем все, что могло отыскаться в кладовых сестры Марджери, слишком густые брови выщипали так, чтобы они напоминали (тому, кто страдает косоглазием) изящную арку. С ненавязчивой добротой меня осыпали нарядами и украшениями: колечком, брошью для накидки, позолоченной цепочкой с яркими камешками, чтобы сияли на моей груди. Украшения были не очень дорогими, но подходящими для того, чтобы я могла выглядеть не менее достойно, чем девушки из лучших семей Англии. Я расставила пальцы, которые теперь стали гладкими, с аккуратно подстриженными ногтями, и с восторгом стала разглядывать перстенек с аметистом. Такое впечатление, что я сменила кожу, как змея, которая по весне сбрасывает старую. И во мне было достаточно женственности, чтобы радоваться своему преображению. Четки красовались у меня на поясе в серебряном футлярчике, какого не было даже у самой настоятельницы Сибиллы.
— Уже лучше! — заметила Изабелла, придирчиво оглядев меня со всех сторон. — Но я до сих пор не могу понять, для чего ты понадобилась королеве!
Это оставалось выше и моего понимания.
Все фрейлины королевы были очень женственными, изящными, красивыми — во мне не было ничего похожего. Их еще больше красили платья по последней моде, которые облегали фигуру от груди до бедер. А на мне дорогая ткань висела, словно на сушильном шесте. Они без труда играли на различных инструментах, услаждая слух королевы. Меня попытались обучить пению, но оставили эти попытки после первых же вырвавшихся у меня невпопад звуков. Пальцы мои так и не научились перебирать струны лютни, а тем более изящного гиттерна[28]. Другие фрейлины умели расшить пояс цветами и птицами, у меня на это не хватало терпения. Они очаровательно щебетали по-французски, без конца сплетничая о хорошо знакомых им придворных. Я же не знала никого, кроме Уикхема, который снизошел до разговора со мной, когда вернулся ко двору и заметил перемену в моем положении: «Ба, как вы похорошели, мистрис Перрерс! А вы уже научились ездить верхом?» Фрейлины, однако, посмеивались над его страстью возводить арки. Флиртом мастер Уикхем, ясное дело, не увлекался.
А для фрейлин флирт был сам по себе высоким искусством. Я ему так и не сумела обучиться, будучи чересчур прямолинейной по натуре. Я слишком хорошо видела недостатки тех, кого знала, была слишком рациональна, чтобы притворяться и изображать то, чего на самом деле не чувствовала. Если считать это грехом — что ж, я была грешна. Ну не умела я изображать интерес или привязанность, если не чувствовала ничего подобного.
Чем же я могла похвастать? Если у меня и были какие-то таланты, то я старалась использовать их, чтобы быть полезной, заметной, даже незаменимой. Я закрепилась в светлице королевы. И меня отсюда не вышвырнут, как выбрасывала свои старые платья принцесса Изабелла. Я работала не покладая рук.
Научилась играть в шахматы. Мне очень нравились стройные ряды фигурок на доске. Не стоило особого труда постичь разнообразные маневры конями и слонами, запомнить, как осторожно следует ферзю действовать против ладьи. Игру в «лису и гусей»[29] я считала глупейшей забавой, но мне неожиданно понравилось так маневрировать шашками, чтобы загнать «гусями» в угол «лису», пока коварная злодейка не успела съесть доверчивых «птичек».
— Я больше не стану играть с тобой, Алиса Перрерс! — заявила Изабелла, вставая из-за доски. — Слишком уж проворные у тебя «гуси».
— Они проворнее вашей «лисы», миледи. — «Лиса» Изабеллы была намертво зажата в угол маленьким выводком моих «птичек». — Вашей «лисе» пришел конец, миледи.
— Это точно! — рассмеялась Изабелла, скорее от удивления, чем из удовольствия, но и от резкой насмешки на этот раз воздержалась.
Чтобы угодить фрейлинам, я готовила нелепые, но совершенно безобидные приворотные порошки и зелья, навеянные воспоминаниями о книгах, которые мне довелось читать у сестры Марджери. Щепотка кошачьей мяты, пригоршня толченого тысячелистника, стебелек вербены — все это заворачивалось в ладанку из зеленого шелка и перевязывалось красной ниточкой. Если девушки верили в действенность этого средства, я не спорила, хотя Изабелла и утверждала, что ей я подсыпала бы смертоносного болиголова, если бы она попросила ладанку у меня. Еще я ведь умела читать. Читала вслух бесконечно, когда им хотелось послушать о куртуазной любви, повздыхать над стараниями красавца рыцаря добиться ответного чувства от дамы его сердца.
Уже неплохо. Совсем неплохо для безымянной невоспитанной девчонки, которая росла в монастыре. Больше я не останусь безымянной и незаметной. Возможно, гордыня есть грех, но она наполняла мое сердце удовлетворением. А почему мне было не гордиться своими достижениями? Я сумею занять при дворе достойное положение. Я — Алиса, фрейлина королевы. Остались в прошлом те дни, когда меня никто никогда не замечал.
А Изабелла ошибалась. Болиголов я ей подсыпать не стала бы. Сестра Марджери своими язвительными поучениями научила меня сторониться сатанинских дел.
Но какую службу я могла сослужить королеве Филиппе, если и без того все при дворе были озабочены тем, как выполнить малейшее ее желание, даже еще не высказанное? Однако я нашла занятие и себе: стала готовить ей отвары и настои из коры серебристой ивы.
— Ты ниспослана мне небесами, Алиса. — Весь день ее мучила сильная боль, но теперь настойка усыпляла королеву, обложенную со всех сторон подушками. Она вздохнула с облегчением. — А я повисла на тебе бременем.
— Какое же это бремя, миледи, — облегчить ваши страдания?
Я видела, как разглаживаются залегшие под глазами морщинки. Скоро она уснет. Боли мучили ее все чаще, по многу дней подряд, а силы королевы постепенно иссякали, но хотя бы сегодня ей удастся немного отдохнуть.
— Ты добрая девушка, хорошая.
— Не очень-то хорошей я была послушницей! — ответила я без промедления.
— Сядь рядом. Расскажи мне о том времени, когда ты была плохой послушницей. — Веки у нее смыкались, но она боролась с действием лекарства.
Я подчинилась, мне доставляло удовольствие развлекать ее. Я рассказала о матушке настоятельнице и ее слабости к красным чулкам; о тяжелой руке сестры Годы, о том, как по моему недосмотру цыплята пали жертвой лисы и как меня за это наказали. О графине Джоанне я не упоминала: успела узнать при дворе достаточно, чтобы не произносить ее имени. Двуличная невестка Джоанна, пребывающая сейчас в Аквитании вместе с мужем-принцем — сумела-таки уловить его в свои сети! — не навеяла бы королеве приятные сны.
— Хорошо, что я тебя нашла, — пробормотала Филиппа.
— Хорошо, миледи. — Я старательно втирала в натянутую кожу ее запястья и тыльной стороны ладони мазь с приторно-сладким запахом. — Благодаря вам вся моя жизнь пошла по-другому.
Ненадолго установилась тишина, однако королева еще не уснула. Она размышляла о чем-то недоступном мне, и эти мысли, кажется, не очень ее радовали, ибо между ее бровей залегла глубокая складка. Потом она моргнула и сосредоточила на мне встревоживший меня взгляд.
— Да, Алиса. Не сомневаюсь, что ты к добру встретилась на моем пути.
Уверена, она имела в виду не то, что я втираю мазь в ее больную кожу. В жарко натопленной комнате по спине у меня пробежал озноб, потому что в голосе королевы слышалось сильное сомнение в чем-то. Неужели я так быстро сумела упасть в ее глазах? Я быстро перебрала в уме все, что говорила и делала и что могло повергнуть ее в сомнение. Ничего толкового на ум не пришло. Поэтому я задала ей вопрос:
— Отчего ваш выбор пал на меня, миледи?
Королева посмотрела на меня затуманившимся взором. Свободной рукой она крепко сжала усыпанный самоцветами нательный крестик, и в ответе не прозвучало обычного для нее сочувствия. По правде говоря, голос ее звучал отрывисто и холодно, а руку она у меня забрала, словно была не в силах больше выносить моих прикосновений.
— Выбор пал на тебя, Алиса, потому что ты должна сыграть задуманную мной роль. Тебе, вероятно, придется нелегко. И случится это уже довольно скоро… но не сейчас. Пока еще рано… — Она наконец смежила веки, как бы отгораживаясь от меня. — Я очень утомилась. Будь добра позвать моего духовника. Я хочу помолиться перед сном.
Я вышла из ее спальни, озадаченная как никогда. Ее слова звучали у меня в ушах, когда я зажигала свечу в своей комнате и ложилась в постель — мы жили здесь с двумя другими фрейлинами. Сон не шел.
«Ты должна сыграть задуманную мной роль. Тебе, вероятно, придется нелегко. И случится это уже довольно скоро…»
ГЛАВА ПЯТАЯ
У меня вошло в привычку вести своего рода дневник. Для чего? А разве нужна была особая причина? Хотя бы ради того, чтобы не утратить с таким трудом обретенный навык. Никому здесь не требовалось мое умение писать — грамотных людей во дворце было ничуть не меньше, чем егерей и загонщиков. Иногда я делала записи на французском языке, иной раз на латыни, по настроению. У придворных писцов я выпрашивала листки пергамента, перья и чернила. Они охотно давали мне их, особенно когда я улыбалась им, гордо вскидывала голову или одаривала долгим томным взглядом. Я понемногу обучалась придворным манерам и уловкам, с помощью которых можно нравиться людям.
О чем же я писала? Вела свою личную летопись. Записывала те события, которые хотела запомнить. Кажется, такие записи я делала больше года.
Опасалась ли я, что другие фрейлины могут обнаружить мои записи? Ничуть. Они же посмеивались над моим корявым почерком, а то, что я писала, казалось им невыносимо скучным.
Однажды, дабы удовлетворить их любопытство, я зачитала отрывки из дневника вслух…
Сегодня я впервые участвовала вместе с другими фрейлинами в охоте. Никакого удовольствия от нее не получила. Король отмечает свой пятидесятый день рождения[30] большим турниром и рыцарскими поединками в Смитфилде. Мы все должны там быть. Я начала учиться танцам…
— Ради всего святого, Алиса! — принцесса Изабелла зевнула, прикрывая рот тонкими пальчиками. — Если ты не можешь найти ничего такого, о чем стоит писать, какой тогда смысл вообще этим заниматься? Лучше возвращайся чистить горшки на кухне.
Им было скучно? Безгранично! На это я и рассчитывала, чтобы никому из фрейлин и в голову не пришло совать свой любопытный нос в то, чем я занимаюсь. Но во мне самой эти записи пробуждали столько воспоминаний! Я перечитывала эти безыскусные строки в то время, когда вокруг меня царило смятение, когда жизнь моя подвергалась опасности. На этих страничках крупными, жирно выведенными буквами, похожими на стаю грачей среди снежного поля, и в немногих словах была описана вся моя жизнь в тот год, когда окончательно решилась моя судьба. Каким невыразимо чудесным, головокружительно пугающим он оказался!
Сегодня я впервые участвовала вместе с другими фрейлинами в охоте. Никакого удовольствия от нее не получила…
Мерин, на которого меня посадили, оказался сущим исчадием ада. Я не смогла найти никакой радости в том, чтобы два часа трястись и подпрыгивать в седле лишь затем, чтобы в итоге догнать свору истошно лающих собак и залитую кровью жертву. По правде говоря, затравили зверя без меня, потому что я с громким воплем свалилась с седла, как только мой мерин сорвался в галоп. Сидела на груде прошлогодних листьев и сухих веточек, отряхивала с юбок налипшие комья влажной земли и неистовствовала от злости. Сеточки с волос упали, капюшон отстегнулся, охота унеслась куда далеко-далеко. Чертов конь тоже унесся. А домой идти не близко.
— Ба, да тут девица, которая нуждается в помощи!
Я не расслышала, как застучали копыта по усыпанной прелыми листьями мягкой земле. Подняла глаза — во весь опор на меня летели две лошади: огромный, устрашающего вида жеребец и невысокая жилистая кобылка.
— Мистрис Алиса! — Король натянул поводья, и его жеребец затанцевал в полушаге от меня. — Удобно вам там, на земле?
— Ничуточки! — Я не проявила полагающейся учтивости.
— А кто подсунул вам ту скотину, что пронеслась мимо нас ураганом?
— Леди Изабелла! Этот треклятый мешок с костями сбросил меня здесь… Мне вообще ехать не стоило, я лошадей терпеть не могу.
— Тогда зачем поехали?
Я не могла ответить на этот вопрос с уверенностью — просто мне полагалось ехать. Охота осталась единственной радостью, которая была доступна королеве, когда она не была прикована к постели. Король спешился, бросил поводья мальчику, скакавшему на пони, и подошел ко мне. Я вскинула руку, закрываясь от солнца, которое пробивалось сквозь одетые молодыми листочками ветви деревьев.
— Томас, поезжай и приведи коня для леди, — распорядился он.
Томас, самый младший из сыновей короля[31], отпустил жеребца и вихрем умчался прочь. Король протянул мне руку.
— Я и сама в состоянии подняться на ноги, государь. — Это звучало неучтиво, но я слишком остро чувствовала свое унижение.
— Я и не сомневаюсь в этом, леди. Сделайте мне одолжение.
Глаза его лучились улыбкой, однако голос звучал властно. Ослушаться такого приказа невозможно. Я подала ему руку, он поднял меня на ноги, после чего стал решительными движениями отряхивать мою юбку от налипшего сора. Я зарделась от стыда.
— Право же, не стоит, государь!
— Стоит, уж поверьте. А вам нужно заколоть волосы.
— Не могу. Их у меня не так много, и без посторонней помощи мне не удается придать им более или менее пристойный вид.
— Тогда давайте я помогу вам.
— Не надо, государь! — Чтобы король закалывал мне волосы? Лучше уж попросить Изабеллу, чтобы она потерла мне спину.
Он хрипло заворчал — я уже знала, что это признак сильного раздражения.
— Вы должны позволить мне, мистрис, привести вас в полный порядок, как подобает благородному рыцарю…
И, засунув за пояс мои многострадальные сеточки для волос, он на удивление умело и уверенно стал пристегивать мой капюшон, который позволял скрыть следы происшедшей катастрофы. Пальцы у него двигались с большим проворством, словно он надевал опутки на своего любимого ястреба. Я не шевелилась под этими заботливыми прикосновениями, обратившись в статую и едва дыша. Потом король отступил на шаг и обозрел меня.
— Сойдет. С возрастом я утратил ловкость пальцев. — Он прислушался и кивнул головой. — Теперь, леди, вам придется снова сесть в седло!
Он насмехался надо мной!
— Не желаю!
— Придется, если только вы не решили добираться обратно пешком…
Вернулся Томас с моим упрямым животным, и я не успела даже слова сказать, как была вновь заброшена в седло. Король затянул на мерине подпругу, отступил на шаг и взглянул мне в глаза.
— Вот и все, мистрис Алиса. Держитесь крепче! — Король ударил мерина рукой по крупу, и тот рванул с места. — Присматривай за нею, Томас. Королева ни за что не простит тебе, если ее фрейлина свалится в заросли ежевики. — Он немного помолчал, потом до меня долетели его слова: — И я тоже не прошу!
Томас постарался. В свои семь лет он был куда более искусным наездником, чем я. Но мне запомнился не его восторженный лепет, а твердые, уверенные руки короля.
Король отмечает свой пятидесятый день рождения большим турниром и рыцарскими поединками…
Это было изумительно! Король в своих новых доспехах был просто неподражаем. Я не могла найти слов, видя, как сверкают они на солнце, как горят ярким огнем меч и броня с каждым взмахом руки, как величественно колышется плюмаж на шлеме. Но я боялась за него, даже спина у меня похолодела от страха. Я не в силах была отвести от него глаз, но зажмурилась, когда кровь испятнала его рукав, сочась меж пальцев.
А бояться было нечего, конечно. Король всегда славился удалью, в тот же день он поистине творил чудеса. Сражаясь в турнирной схватке[32] со всем искусством, отвагой и благородством героев старинных преданий, он, в довершение всего, сумел великодушно вознести хвалу побежденным.
В тот день он был в моих глазах сказочным великаном.
После поединков рыцари сошлись все вместе, обмениваясь шутками и подтрунивая друг над другом, что так нравится мужчинам. Дамы королевы стали бросать цветы рыцарям по своему выбору. У меня такового не было. Да я и не жалела об этом, потому что перед глазами у меня стоял лишь один герой, что в общей схватке, что в неистовой ярости поединков. И когда он приблизился к галерее, на которой сидела королева, окруженная фрейлинами, мне хватило дерзости бросить ему едва распустившуюся розу. Шлем он уже успел снять. Король оказался так близко от меня, что я отчетливо видела, как побледнело и осунулось от перенесенного напряжения его лицо, как испачкана кровью щека, которую перед тем он отирал своей боевой рукавицей. Я была так очарована им, что бросила цветок очень неумело и попала в морду коня. Удар, конечно, был совсем слабенький, но чистокровный скакун тут же шарахнулся, как от угрозы в бою.
— Господи Исусе! — Король от неожиданности уронил на землю шлем и натянул поводья, усмиряя встревоженного коня.
— У тебя что, головы на плечах нет? — сердито бросила мне Изабелла.
Напуганная своим поступком, я не решилась ответить ей, но постаралась собрать все мужество и выслушать упреки короля. Он же, не говоря ни слова, щелкнул пальцами пажу — тот подобрал шлем и совершенно растоптанный цветок. Я со страхом ожидала дальнейшего.
— Благодарю вас, леди.
Он торжественно склонил передо мной голову и засунул смятые лепестки за латный воротник. Внутри у меня все сжалось, лицо жарко пылало. Гордый, надменный, уверенный в себе король Англии обращался ко мне с почтением, хотя из-за меня едва не вылетел из седла.
— Наша кухонная служаночка так и не научилась прилично вести себя на людях! — язвительно заметила Изабелла, вызвав взрыв смеха у фрейлин.
Король даже не улыбнулся. Подъехав вплотную к раззолоченному навесу, успокаиваясь после огромного напряжения битвы, он протянул руку ладонью вверх.
— Мистрис Алиса, окажите мне честь…
Я подала ему руку, и король коснулся ее губами.
— Бросить розу — это был благородный жест, пусть и несколько опрометчивый. Я и мой конь выражаем вам свою признательность, мистрис Алиса.
Со всех сторон зашелестел смех, но теперь смеялись уже не надо мной — придворные оценили шутку короля. А на моей руке горел его поцелуй — жарче, чем пылали мои щеки.
Я начала учиться танцам.
— Пресвятая Дева!
В двадцатый раз подряд я не попала в такт настойчивых звуков барабана и флейты. Ну почему мне без труда удавалось пересчитывать множество монет и никак не удавалось сосчитать шаги в простеньком танце? Рука короля напряглась, поддерживая меня, ибо я зашаталась. А танец-то должен быть исполненным изящества! Король танцевал гораздо лучше меня. Впрочем, хуже меня танцевать было просто невозможно.
— Вам позволяется смотреть на меня, мистрис Алиса, — сказал король, когда мы сблизились и можно было обмениваться короткими репликами.
— Если я это сделаю, государь, то непременно споткнусь… или наступлю на ногу вам. Еще бал не успеет закончиться, а вы станете хромать.
— Я буду направлять вас, и все получится правильно. — Должно быть, в моем взгляде мелькнуло недоверие. — Вы мне не доверяете, Алиса?
Он назвал меня просто по имени, без церемоний. Я подняла на него глаза: он смотрел на меня, ожидая ответа, и я сразу пропустила следующее простенькое движение.
— Не смею, — еле выдавила я.
— Вы откажете своему королю? — спросил он, забавляясь.
— Да, если согласие пойдет ему во вред.
— Ну, тогда нам нужно постараться изо всех своих скромных сил, милая Алиса, а отдавленные пальцы на ногах посчитаем после бала.
Милая Алиса? Он флиртует со мной? Нет, такого быть не может. Я не столько развлекала его, сколько сердила. Ну, а если в этом оставались какие-то сомнения, то вскоре они окончательно рассеялись.
— Боже правый, мистрис Алиса! Вы мне не солгали, — мрачно заявил король, когда цепочка танцующих замкнулась и остановилась. — Вы должны предупреждать о грозящей опасности всякого, кто решится пригласить вас на танец.
— А никто и не пригласит! Не каждый мужчина обладает такой храбростью, как вы, государь.
— Значит, мне нужно хорошенько запомнить это и впредь не рисковать, — ответил он, усаживая меня на место рядом с Филиппой.
Но он рисковал снова и снова. Несмотря на то, что я по-прежнему наступала ему на ноги.
Королева не запрещала мне танцевать с королем, но ей это, кажется, доставляло мало удовольствия.
Королева подарила королю льва.
Да! Эта история со львом! Я осуждающе поглядывала на фрейлин, которые теснились, отворачивались и пятились, изображая испуг. Сама я озаботилась тем, чтобы опереться на крепкую руку одного из любезных королевских рыцарей, и так подошла к огромной клетке, желая вблизи рассмотреть страшного зверя. Я не испытывала страха и не собиралась притворяться. Что мог сделать мне лев, запертый надежными запорами, сидящий за толстыми прутьями? Грубая рыжеватая грива и обилие острых зубов заворожили меня. Он присел на задние лапы, подергивая хвостом в бессильной злобе, и я подошла еще ближе к клетке.
— Вам не страшно, мистрис Алиса? — Подкравшись бесшумными шагами, рядом со мной оказался король.
— Нет, государь. С какой стати? — Он вернулся к официальному обращению, что меня не печалило. Разве он не король? — А девушки просто дурачатся, им на самом деле тоже не страшно. Они просто хотят…
— Привлечь к себе внимание?
— Да, государь.
Мы оба повернули головы туда, где рыцари ободряли и осыпали комплиментами дрожащих фрейлин.
— А вы этого не хотите, мистрис Алиса? Вы своим скептическим взором не высмотрели какого-нибудь молодого рыцаря? Или здесь некому возбудить ваше восхищение?
Я задумалась над этим вопросом, потратив больше времени, чем, вероятно, от меня ожидалось, и оценила окружавшие меня богатство, силу, красоту и благородство происхождения.
— Некому, государь, — ответила я чистую правду.
— Но вы же восхищаетесь моим львом.
— Ах, это верно.
Лев смотрел на нас с неприкрытой злобой. Разве не мы были причиной его заточения? Я задумалась о настроении льва и о своем собственном прошлом. И меня, и его лишали свободы, держали в клетке. Мы оба зависели от чьего-то каприза. Но я каким-то чудом спаслась из заточения, а этому льву чуда ожидать не приходится. До самой смерти несчастное животное останется пленником.
— Разве ничто не вызывает у вас страха? Кроме лошадей, конечно.
Ну вот! Он снова сбивает меня с толку.
— Вызывает, — ответила я. — Но это такой страх, какого вам, государь, не испытать никогда.
— Тогда расскажите мне об этом.
Даже не собравшись еще с мыслями, я уже стала рассказывать, потому что он смотрел так, будто ему были и впрямь интересны мои страхи.
— Меня страшит будущее, государь, ибо в нем нет ничего надежного, ничего постоянного. Меня страшит жизнь переменчивая, без друзей и родных, без своего дома. Жизнь, в которой я ничего не значу, не имею ни имени, ни положения. Не хочу зависеть от чужой жалости и доброй воли. Я вдоволь испытала это у сестры Годы. И во власти синьоры Дамиаты. Мне очень одиноко, и одиночество страшит меня. Я хочу чего-нибудь добиться сама. Не желаю умирать в нищете.
Пресвятая Дева! Я не отводила глаз ото льва. Неужто я вправду призналась в этом? И кому — королю?
— Вы хотите многого, — сказал король без всякой насмешки, — для женщины в вашем положении.
То же говорила и графиня Джоанна, только куда менее любезно.
— Я желаю невозможного?
— Да нет, я не это хотел сказать. Но в одиночку женщине такого не добиться.
— Должна ли я безропотно смириться со своей судьбой, как этот несчастный зверь в клетке?
— А разве не все мы покоряемся своей судьбе, мистрис?
Я видела, что все внимание он теперь уделяет не льву, а мне. Принимая во внимание, что беседа коснулась сугубо личных вопросов, я постаралась подыскать какой-нибудь безобидный ответ.
— Не хочу показаться неблагодарной, государь. Я прекрасно понимаю, сколь многим обязана ее величеству.
— Не думал, что будущее видится вам в таком мрачном свете.
— Отчего бы вам так думать, государь? Вы же король. Вам нет нужды думать о таких вещах или придавать им значение, — сказала я то, что было у меня на уме.
— Так вы полагаете, будто мне все равно? Я что же, настолько самовлюбленный? — Он был явно удивлен моим ответом: красивые брови сошлись на переносице, и я могла лишь гадать, насколько сильно он мною недоволен. — Или дело в том, что вы невысоко цените любого мужчину?
— У меня нет причин ценить их выше. Мой отец, кем бы он ни был, не дал мне повода уважать мужчин. Как и супруг, который взял меня замуж понарошку, лишь бы не выслушивать ворчание своей сестры. Ни тому, ни другому я сама по себе была вовсе не нужна.
Горечь переполняла меня до краев, король же слушал меня с таким неподдельным изумлением, как будто одна из охотничьих собак вдруг решила цапнуть его за ногу.
— А вы не привыкли таить правду, так ведь, мистрис? Наверное, я должен постараться изменить ваше мнение о мужчинах.
— Вы ничего не должны мне, государь.
— Возможно, речь не о том, кому и что я должен, Алиса. Скорее о том, что мне хочется сделать.
Тут лев громко зарычал и стал царапать когтями прутья своей клетки. Это помешало нам с королем продолжить беседу. Он увел меня прочь, а прибежавшие служители зверинца принялись перегонять зверя в помещение. Я возблагодарила Господа Бога за своевременное вмешательство — и без того уже я наговорила чересчур много. Однако король не считал беседу законченной.
— Вы несправедливо судите о моей натуре, мистрис Алиса, — сказал он с кривой улыбкой, когда мы подошли ко входу в дворцовые покои. — А страхи ваши мне совершенно понятны. Было в моей жизни время, когда все будущее мое висело на волоске, когда я не знал, кто мне друг, кто враг, а королевская власть находилась под угрозой. И я знаю, что это такое — вставать утром, не представляя, что уготовано судьбой тебе на сегодня, добро или зло[33].
Наверное, на моем лице отразилось недоверие: у меня в голове не укладывалось, что король может оказаться в таком положении.
— Когда-нибудь я вам об этом расскажу.
И с тем ушел, а я осталась стоять, как громом пораженная.
Я получила подарок. От самого Эдуарда.
Увидев этот подарок, я нахмурилась: на конюшенном дворе гарцевало и потряхивало головой резвое животное с густой гривой и шелковистым хвостом, красивое, словно миниатюра из Часослова.
— Она вам не нравится?
— Я не понимаю, отчего вы мне ее дарите, ваше величество.
— А отчего я не могу сделать вам подарок?
— И почему вы всегда задаете мне такие вопросы, на которые нелегко найти ответы?
Эдуард засмеялся, нимало не рассердившись на мою тираду.
— Но ведь ответ вы всегда находите!
— Да уж, у нее всегда наготове какая-нибудь дерзость, не сомневайтесь, — бросила подошедшая к нам Изабелла, похлопывая по шее пегую лошадку. — А когда вы в последний раз дарили лошадь мне, сэр?
— Насколько помню, тогда, когда ты в последний раз просила об этом — два месяца назад.
— Да, точно. Надо подумать, что бы еще попросить, раз вы сегодня так щедры.
— У тебя, Изабелла, никогда не было причин сомневаться в моей щедрости, — сухо ответствовал король.
— Верно! — воскликнула она, погладив кобылку напоследок. — Хватай, что удастся, малышка Алиса, раз уж его величество в настроении раздавать подарки! У тебя появилась возможность извлечь целое состояние из королевских сундуков! — И она быстро ушла прочь, порывистая, как всегда.
— Моя дочь слишком вольно выражает свои мысли, — проговорил король, глядя ей вслед. — Примите мои извинения за то, что ей не хватает учтивости.
Это небольшое происшествие оказалось весьма досадным, ибо король стал заметно печальнее, но все же я отважилась спросить:
— Почему вы решили подарить мне эту кобылу, государь? Вы ведь так и не сказали.
— Я подарил вам лошадку, потому что должен же кто-то присмотреть за вами, когда моего сына рядом не будет. А она о вас очень славно позаботится. Если вы, разумеется, будете так любезны принять ее в подарок.
Его ответ прозвучал резковато, напомнив мне о королевской власти и о том, как не любит Эдуард, когда ему перечат или сомневаются в его правоте, — мужской гордостью он не был обделен. Я не окажусь неблагодарной и приму подарок с большей учтивостью, нежели сумела выказать Изабелла. Я решила очаровать его и развеселить, а это, как я знала, мне удается. Не то важно, что он король, а то, что негоже служанке пренебрегать подарком, сделанным от чистого сердца.
— Я не лишена чувства признательности, государь. Дело просто в том, что прежде никто не дарил мне подарки. Никто, кроме королевы. Да, а однажды мне еще подарили обезьянку. — На губах Эдуарда заиграла улыбка. — Какое это было отвратительное существо!
— А что с ней стало дальше? — рассмеялся Эдуард. — Она все еще у вас?
— К счастью, уже нет. Боюсь, что она так и сгинула в монастыре Святой Марии. На нее наложили покаяние или еще какую-то епитимью — по крайней мере, со мной поступали именно так.
— Ну, — его смех перешел в тихое ворчание, — раз у вас так мало подарков, мистрис, мне нужно постараться это исправить.
Я обдумала сказанное им, сознавая, как это все необычно.
— Король не раздает подарков безродным девушкам.
— Этот раздает. Он дает что хочет и кому хочет. По крайней мере вам он дает вот эту верховую лошадку, мистрис Алиса.
— Я не могу принять ее, государь… — Я не потеряла способность рассуждать здраво. Принять такой подарок неприлично: лошадь стоила слишком дорого.
— Какая вы упрямая! Это же сущая мелочь.
— Для меня не мелочь…
— Мне хочется доставить вам удовольствие. Можете вы это мне позволить? Если хотите, это награда за то, что вы хорошо служите королеве.
Ну как я могла отказаться? Кобыла ткнулась мягким носом мне в плечо, и я тут же влюбилась в нее… почти влюбилась — потому, что она была такая красивая, и потому, что ее подарил мне король.
Королева больна. Она не встает с постели и просит, чтобы я ей читала.
Когда вошел Эдуард, я встала, сделала реверанс, успев закрыть и отложить книгу, — все равно сейчас придется уходить. Времени у короля всегда было мало, а с супругой он хотел побыть наедине, однако махнул мне рукой и сам стал слушать, пока я дочитала повесть до конца.
То была печальная история, одна из тех, что особенно нравились королеве. Она плакала над трагедией несчастных влюбленных, Тристана и Изольды[34]. Король погладил ее по руке, мягко укоряя за неблагоразумие и уверяя, что он любит ее гораздо сильнее, чем Тристан любил свою даму сердца, и что у него в мыслях нет такого слабодушия, чтобы повернуться лицом к стене и умереть. Его на колени может поставить только вонзившийся в сердце меч. И разве ненаглядная Филиппа собирается в таком случае пасть на его тело и тоже умереть безо всякой иной причины, кроме безмерного горя? Разве они оба после стольких лет, проведенных вместе, не закалились душой, не стали куда сильнее? Стыд и срам!
Королева, слушая эти речи, рассмеялась сквозь слезы.
— Глупая сказка, — согласилась она и слабо улыбнулась.
— Но вам ее хорошо прочитали. С большим чувством, — заметил Эдуард.
И, уходя, чуть-чуть сжал мое плечо. Незачем ему было прикасаться ко мне, однако же он почему-то сделал это. Заметила ли королева? Кажется, нет, но она почти сразу отпустила меня, сказав, что желает побыть наедине с собой. И закрыла лицо руками.
Я была уже у дверей, когда услышала ее голос:
— Прости меня, Алиса. Я взвалила на себя печальное бремя, и временами мне не по силам его нести.
Я не поняла, к чему она это сказала.
Эдуард установил свои часы на новой башне.
Я смотрела на них с благоговением. Эдуард был искренне рад, смех его гремел, как гром. Еще бы! Наконец-то его драгоценные часы оказались на своем законном месте — на пристроенной к дворцу башенке, а все детали хитроумного механизма безукоризненно собраны, к величайшему удовольствию мастера-итальянца. Сегодня настало время пустить их, и королева выразила желание присутствовать при этом. Да разве не ради нее велел Эдуард изготовить эти часы по образцу тех, что красуются на аббатстве Святого Альбана, показывая на движущихся досках вращение солнца и звезд?
— Не могу! — призналась Филиппа. — Я совсем не в силах идти! — Она не смогла даже надеть мягкие туфельки на свои распухшие ноги. — Ступай, посмотри за меня, Алиса. Королю необходимы зрители.
— Слава Богу! — воскликнула Изабелла.
— За что именно? — поинтересовалась королева недовольным тоном. — Лично я, как ни стараюсь, не могу нынче утром найти повода, чтобы восславить Его.
— За то, что вы меня не попросили идти и смотреть на это страшилище.
— Я и не собиралась просить тебя. Алисе это доставит удовольствие. Алиса сумеет толково расспросить короля, а потом все подробно перескажет нам. Разве нет?
— Конечно, ваше величество, — ответила я, не до конца понимая, отчего выбор пал именно на меня.
— Только не слишком подробно, — догнал меня у дверей голос Изабеллы. — Мы не помешаны на этих шкивах, блоках и… колесиках!
И я пошла одна. Мне были интересны шкивы, блоки и шестерни с деревянными зубцами, которые, вращаясь, сцеплялись друг с другом. Мне хотелось увидеть, чего удалось добиться мастеру из Италии. Но быть может, мне хотелось не только этого?
Ах, еще бы!
Мне хотелось своими глазами увидеть и понять, что так сильно занимает Эдуарда в те дни, когда он не рубится на мечах и не устраивает празднеств при дворе. Я не искала предлога, я действительно хотела увидеть, что способно увлечь этого целеустремленного и деятельного человека. Вот и пошла посмотреть на последние приготовления.
Я не оказалась наедине с ним. Помимо меня у короля было достаточно зрителей: мастер-итальянец со своими помощниками, кучка слуг, несколько воинов для солидности. А еще Томас, которого невозможно было отвлечь от такого необычного зрелища.
— Нам нужно поднять на свое место, ваше величество, — говорил итальянец, размахивая руками, — а потом закрепить гири и веревки для колокола.
Тросы распределили среди воинов, объяснив им, как поднять наверх гири для часового механизма. Томасу поручили следить за тем моментом, когда все окажется на своем месте. Мне небрежно махнули рукой, чтобы отошла в сторонку.
— Вира! — взревел итальянец. Воины налегли на тросы. — Вира!
С каждым рывком детали часов поднимались все ближе к цели.
— Уже почти на месте! — закричал Томас, подпрыгивая на месте от нетерпения.
— Вира! — рявкнул итальянец.
Воины снова налегли, и тут с натужным стоном и треском один из тросов лопнул. Прикрепленная к нему гиря, уже ничем не удерживаемая, грянулась о пол, взметнув столб пыли и каменного крошева. Я не успела опомниться, как свободный конец троса изогнулся дугой, змейкой скользнул по каменным плитам и, как плеть, стегнул меня по ногам, да так, что я рухнула как подкошенная. Ничуть не изящно грохнулась среди обрывков троса, подняв юбками тучу пыли.
— Синьорина! — в ужасе метнулся ко мне мастер-итальянец.
— Алиса! — Рядом со мной оказался и король.
Я медленно села, задыхаясь от внезапного потрясения, лодыжки болели, а итальянец долго оттирал мое лицо от пыли, потом деликатно поправил мои сбившиеся юбки.
— Синьорина! Mille pardons![35]
Казалось, все это происходит где-то далеко: оседающая туча пыли; воины, которые опускают еще не поставленные на место и теперь позабытые в суматохе детали механизма; Томас, который смотрит на меня с испугом и в то же время с каким-то кровожадным удовольствием. Сама же я не отрывала глаз от встревоженного лица короля.
— Эдуард, — вымолвила я, попирая все правила этикета.
— Вам теперь уже ничто не грозит. — Он взял меня за обе руки и поднес их к своим губам. Я сразу пришла в себя.
— Я не ушиблась, — заявила я твердо.
— Приведи моего лекаря! — не обращая внимания на мои слова, приказал Эдуард сыну, и Томас умчался со всех ног.
— Но я совершенно здорова! — повторила я.
— Мне решать, здоровы вы или нет, — оборвал меня Эдуард, потом повернулся к часовых дел мастеру, который не переставал причитать и заламывать руки. — Осмотрите механизм. Это не ваша вина, дружище! А я займусь мистрис Алисой.
Никогда еще я не ощущала так остро его силу, не любовалась так его соколиным лицом с гордо раздутыми ноздрями, пусть и читался на этом лице нескрываемый страх.
— Стоять сможете? — лаконично спросил он.
— Смогу.
Он бережно поднял меня на ноги. К своему удивлению, я покачнулась и была вынуждена (не нарочно!) ухватиться за его руку. Голова слишком сильно закружилась. Эдуард, не раздумывая долго, поднял меня на руки и унес подальше от этого нагромождения обрывков и обломков.
Впервые за свою короткую жизнь я оказалась в объятиях мужчины. Меня захлестнул поток ощущений, которые я себе представляла, но которых еще ни разу не испытывала. Я чувствовала жар его тела, слышала ровное биение его сердца, видела вблизи кожу, покрытую загаром и обветренную, ощущала уверенную силу рук, крепко прижимавших меня к его груди. Еще я чувствовала едкие запахи пота и пыли, вспоминала его страх, когда моя жизнь оказалась в опасности. От запоздалого испуга у меня пересохло в глотке, а ладони стали скользкими. Кажется, каждая клеточка на коже задвигалась, засияла в ярких лучах солнца, пробивающихся через застекленные и украшенные витражами окна. Я словно загорелась, я вся пылала, а сердце гулко билось, грозя прорвать кружева платья…
Потом я вернулась к действительности.
— Отпустите меня, государь! — потребовала я. — Нельзя волновать королеву такими пустяками. Ей сегодня очень нездоровится. Куда вы меня несете?
— Не знаю, — проговорил он и резко остановился. Посмотрел в мои глаза, растерянный не меньше меня. Его глаза были совсем близко, а на виске я ощущала его горячее дыхание. — По правде говоря, Алиса, вы не на шутку перепугали меня. Вам больно?
— Нет! — Это я знала, ощущала всем своим существом. — Отпустите меня. Зачем нести на руках, если я прекрасно могу идти сама?
— Ну, поначалу мне это показалось вполне естественным. — Морщинки, залегшие в уголках рта, стали наконец разглаживаться. — Уж позвольте мне быть галантным кавалером и отнести вас в безопасное место.
Я слышала, как итальянец ласково хлопочет над своим механизмом, слышала голоса воинов. Чувствовала, как близко стоят слуги.
— Отпустите, государь! — попросила я снова. — На нас смотрят.
— Велика ли важность? — Брови его взлетели вверх, словно такая мысль не приходила ему в голову.
Но я-то понимала, что важность велика. Часу не пройдет, и об этом узнает весь двор.
— Да отпустите же меня! — вскричала я, забыв обо всяком этикете.
Эдуард вдруг резко свернул в часовню, прошагал в самый конец и усадил меня на сиденье в первом ряду, создав видимость уединения.
— Ну раз вы так настаиваете…
И, опустившись на колени, поцеловал меня. Не коснулся пальцев в знак вежливости. Не одарил братским поцелуем в щеку (как я представляла себе братский поцелуй). Не скользнул целомудренно по губам, как поступал, бывало, мой супруг Дженин Перрерс, если уж оказывался рядом со мной. Нет, Эдуард крепко взял меня за локти, прижал к себе, его губы жадно, по-хозяйски приникли к моим, и длился этот поцелуй дольше, чем удар сердца.
Наконец он поднял голову, и я растерянно взглянула на него. Мысли мои разбегались, путались, кровь бешено стучала в висках.
— Вам не следовало так поступать, — с трудом выговорила я шепотом. — Так делать нехорошо.
— Вы станете поучать короля, как ему вести себя, мистрис Алиса?
Он печально улыбнулся, потом поцеловал меня еще раз. С не меньшей страстью, самозабвенно. А оторвавшись, проговорил:
— Это вам не следовало смотреть на меня так доверчиво.
— Так это я виновата? — взвизгнула я (увы, именно взвизгнула). — В том, что вы целуетесь с фрейлиной своей супруги?
На мгновение рядом с нами возникла тень Филиппы. Мы оба словно ощутили ее присутствие: я видела это ясно по глазам Эдуарда, как видел он, не сомневаюсь, по моим глазам. Еще в его глазах была горечь, черты лица посуровели, а голос обдал меня холодом:
— Нет, Алиса, вы ни в чем не виноваты. Только я один. Вы могли пострадать, мне нужно было обращаться с вами более бережно. — Я задыхалась от волнения, а когда по телу пробежала нервная дрожь, Эдуард выпрямился. — Вам холодно. — Он сбросил с себя котарди без рукавов, которое надел поверх всего, чтобы не замерзнуть в церкви, и набросил на мои плечи. Руки его задержались там, и я снова почувствовала жар во всем теле, в висках горячо запульсировала кровь.
— Государь… — взмолилась я, услыхав чьи-то шаги невдалеке. Эдуард отступил на шаг и заставил себя терпеливо выслушивать бестолковые вопросы лекаря, который в итоге велел мне хорошенько отдохнуть, чтобы телесные жидкости[36] могли вновь циркулировать нормально.
— Я велю проводить вас к королеве, — решил Эдуард, когда лекарь закончил давать указания и удалился.
Конечно, подумала я, так будет лучше всего — оказаться как можно дальше от этого слишком уж притягательного, неотразимого мужчины. Потом я пораскинула мозгами.
— А что теперь будет с часами, государь? Королева же станет спрашивать меня.
— Ко всем чертям часы! — набросился он на меня в припадке неожиданного гнева. — Я не жалею о том, что поцеловал вас. Я нахожу вас притягательной, пьянящей… — Он ожег меня таким сердитым взглядом, словно я была и вправду виновата во всем этом. — С чего бы это?
— Просто вы на миг испугались, государь. Не думаю, что вы станете вспоминать об этом завтра, когда никакой опасности не будет, а часы починят. — Ах, но я-то вспомню, и не раз.
— Это не минутный порыв. А вы разве ничего не чувствуете? — настойчиво спросил он, глядя на меня ястребиным взором.
— Не знаю даже, — уклонилась я от прямого ответа.
— А мне кажется, что отлично знаете!
— Да какая разница? Я — фрейлина королевы.
— Господи помилуй, мне и самому это известно! — воскликнул он по-прежнему сердито. — Скажите лучше, что вы думаете об этом происшествии, Алиса!
— Хорошо, скажу. Это и впрямь происшествие, и весьма прискорбное. Но все же я думаю, что вы — самый необыкновенный человек, какого я только встречала. — Разве я погрешила против истины?
— И только? Я хочу услышать от вас больше. — Сейчас он был настоящим повелителем, тело его напряглось, как тугой лук, руки крепко держали меня. — Я хочу увидеть вас раньше, чем наступит завтра. Я все устрою. Приходите ко мне нынче ночью, Алиса.
Он не спрашивал моего согласия. Не давал никаких нежных обещаний. Он приказывал, как подобает истинному Плантагенету. Я не питала иллюзий относительно того, что меня ожидает. Кажется, впервые в жизни я не нашлась, что ответить, даже мысли ни единой не мелькнуло.
А королеве я сказала, что с часами возникли некоторые затруднения, но его величество самолично за всем надзирает.
Отдавала ли я себе отчет в своих поступках? Видела ли, как развиваются события и к чему они идут, с самого начала? Замечала, как под ногами у меня разверзается пропасть? Или пыталась скрыть правду даже от себя самой?
Да все я понимала, конечно, уж дурой-то не была. Во всем отдавала себе полный отчет. Знала, когда впервые сумела привлечь его внимание. Не могла не заметить, как в своих ребяческих записках стала называть его чаще Эдуардом, чем королем, а с тех пор как он подарил мне кобылу, я и думать о нем стала все больше как об Эдуарде, как о мужчине.
Старалась ли я его очаровать, заманить в ловушку, завлечь в свои сети, как много лет спустя станут утверждать злые языки? Была ли я соучастницей в этом соблазнении?
Соучастницей была. Но ловушки? Их я ему не расставляла. Когда это женщине удавалось заманить в ловушку Плантагенета? Эдуард умел думать и всегда поступал по-своему.
Пустила ли я в ход все свое коварство?
Нет, чего не было, того не было. Слишком велика была моя преданность королеве. Вопреки всему, что наплели злые языки, я чувствовала свою вину перед ней. Филиппе я была обязана всем, что имела, а я предавала ее. Укоры совести ранят больнее, чем острые зубы злополучной обезьянки.
Быть может, мной руководило честолюбие?
Несомненно. Ибо передо мной открывалась возможность как-то возместить себе все невзгоды детства, прошедшего в безвестности и нищете. Если женщине пришлось провести юные годы, не имея ни гроша за душой, как же она может упустить возможность наверстать это, тем более что такая возможность сама идет к ней в руки?
Ах! Но могла ли я прервать всю цепочку событий, прежде чем стать наложницей короля? Что сказать на это? С Эдуардом я могла позволить быть самой собой, а не изображать глупенькую фрейлину, у которой в голове одни сплетни да пустая болтовня. Эдуард прислушивался ко мне, как будто мое мнение что-то для него значило. Его непререкаемая власть, подавляющая сила личности, великолепная мужественность пьянили меня, как и любую женщину. Когда я видела тонкие черты его красивого умного лица, когда его глаза встречались с моими, я чувствовала себя словно после бокала лучшего гасконского вина. Он был королем, а я его подданной. И находилась всецело под его властью, как и он — под моей.
Могла ли я помешать этому свершиться? Нет, это было не в моей власти. Ибо когда пробило одиннадцать часов, от меня уже ничего не зависело.
Тот вечер я провела в ожидании, а дурные предчувствия так сводили судорогой внутренности, что меня едва не стошнило. Отхлебнув глоточек эля, я присела на край своей кровати, притворяясь, будто с интересом прислушиваюсь к сплетням двух других фрейлин, которые перед сном заплетали друг другу косы. Сделала вид, будто никак не могу развязать узел на ленте, который сама же и затянула. Бросив заниматься узелком, я сняла с головы покрывало и аккуратно сложила его. Потом развернула и сложила заново. Все равно, чем заниматься, лишь бы руки были заняты. Спокойно сидеть на месте я не могла. Резко встала с постели и стала бродить по комнате.
Я обежала взглядом комнату, задержав его на девушках, погруженных в повседневные занятия. Что же мне теперь делать? Может быть, произошла ошибка? Я неправильно поняла короля? В конце концов, он мог никого за мной не прислать, и тогда мне не в чем будет себя винить.
Послышался стук в дверь. Я подпрыгнула, как вспугнутая лань, и дрожащими руками отворила дверь пажу, носившему эмблемы королевской свиты.
— Я от королевы, мистрис. Ей не спится. Велела позвать вас. Вы придете?
— Приду, — тихо ответила я.
Паж ожидал; я набросила на плечи накидку и готова была следовать за ним.
— Я могу вернуться только к утру, — проговорила я, уже положив ладонь на ручку двери, и сама удивилась тому, как спокойно звучит мой голос. — Если королеве нездоровится и не спится, то я лягу на тюфяке в передней.
Девушки молча кивнули, занятые своими делами. Все оказалось очень просто.
«Король желает видеть тебя на своем ложе».
Меня пробрала дрожь.
Никакая засада в коридоре меня не ожидала. Вместо этого безразличный ко всему паж провел меня в крошечную переднюю, соединявшуюся дверью с опочивальней королевы. Мне была хорошо знакома эта комнатка, где часто происходили доверительные беседы фрейлин. Сюда можно было выйти и в том случае, если кому-то требовалось уединиться и поразмыслить над чем-то. Да ведь я сама выходила сюда сегодня, вскоре после того, как король ясно объявил о своих намерениях, после происшествия с часами! Стены комнаты, встроенной в одну из башенок, были скругленными, холодный камень занавешен гобеленами, на которых были изображены всевозможные птицы и лесные звери. Я нерешительно остановилась в центре комнаты, а прямо на меня смотрели отлично вытканные глаза оленя. Что же будет теперь? Мне не оставалось ничего иного, кроме как терпеливо ждать. Что бы ни произошло в ближайший час, это уже не в моей власти. Что говорить? Что делать? Ладони сильно вспотели, а мысли роились в голове. А вдруг я не понравлюсь Эдуарду?
«Пресвятая Дева, не оставь меня!»
Но подобало ли мне в таком положении призывать Царицу Небесную?
Дверь отворилась. Я вскочила на ноги.
Я так разволновалась, что даже не заметила: эта дверь вела не в коридор, а в комнаты королевы. Я повернулась туда, ожидая нового пажа, с которым продолжу свое изменническое путешествие.
«Ах, только не это!»
Кровь застыла у меня в жилах, а ноги приросли к полу. Страх тяжелым камнем придавил внутренности.
На пороге стояла королева.
Она медленно двинулась вперед, величественно, будто входила в тронный зал, и неслышно притворила за собой дверь. На ней было легкое платье, накинутое прямо на ночную сорочку, волосы заплетены в переброшенную на плечо косу, но она оставалась королевой до мозга костей. Покрытое морщинами лицо осунулось из-за долгой болезни, но ничто не могло скрыть ее врожденное чувство достоинства. Минуту, показавшуюся мне вечностью, мы молча стояли и смотрели друг на друга, а за нами наблюдали своими неподвижными глазами сотни вытканных зверей и птиц.
Филиппа стояла с большим трудом, поддерживая здоровой рукой другую, больную, и все же она пришла сюда, чтобы взглянуть на меня, упрекнуть, проклясть за мою дерзость. Она будто взывала ко мне со смертного одра.
Я была не в силах вымолвить хоть слово, поэтому склонилась в глубоком реверансе, чтобы не смотреть ей в глаза. Разве я не посягала на ее долг и привилегию владеть телом супруга и носить его имя? Разве не готова я была дать толчок пересудам, которые глубоко уязвят ее гордость? То, что я собиралась сделать, могло вообще убить ее…
В этот момент я всем своим существом почувствовала, что не могу пойти на подобный шаг.
— Алиса… — Мое имя прозвучало в ее устах легким вздохом.
— Миледи… Простите меня…
— Я знала, что ты окажешься здесь.
Она знала. Ну конечно! Как она могла этого не знать? Я ведь своими глазами видела, какое крепкое чувство их связывает. Иногда мне казалось, что Филиппа ощущает присутствие Эдуарда даже раньше, чем он войдет в комнату. Значит, она знала. Благодаря тому же внутреннему чувству она должна была знать и о том, что супруг, ее единственная любовь, собирается ей изменить.
Я не могла причинить ей такое зло.
— Простите меня. — Я упала на колени перед ней. — Простите меня, миледи.
Не говоря ни слова, она погладила меня по волосам, и я подняла на нее глаза. Ее лицо было мокрым от слез, которые лились потоком, оставляя темные полосы на платье. И таким печальным, что у меня разрывалось сердце. Я закрыла свое лицо руками, чтобы не видеть столь глубокого горя. Слезы навернулись и на мои глаза.
— Я никогда не причиню вам зла, госпожа…
— Знаю.
— Я вернусь в свою комнату. — Слова мои звучали глухо — ведь я закрывала рот руками. — Ничего такого не будет. Обещаю вам, не будет.
С трудом наклонившись, застонав при этом от боли, королева сжала мой локоть и заставила подняться на ноги.
— Я скажу королю, что… — продолжала я, чувствуя, как острый меч стыда разрывает мою плоть. А что я ему скажу? Слова замерли у меня на устах.
— Что же ты скажешь ему, Алиса?
— Не знаю. Если придется, я оставлю двор… — Я была готова на все, лишь бы исцелить нанесенную предательством рану. Отвернулась в сторону: смотреть на нее было выше моих сил.
— Не нужно, Алиса.
— Я не заслужила, — покачала я головой, — вашего прощения и…
Филиппа вцепилась в мою руку своими пальцами с такой силой, что ей стало еще больнее, чем мне, и заставила меня замолчать.
— Нет, Алиса. — Я услышала ее тяжкий вздох. — Ты сделаешь все, чего пожелает король. Ты поняла меня?
Я совсем ничего не понимала. В ее словах не было смысла.
— Нет! Нет…
— Ты пойдешь к королю. Сейчас появится его паж, и ты пойдешь за ним. — Каким отрешенным был ее голос!
— Не могу. Я не могу быть такой неблагодарной… — возразила я.
— Ты не будешь неблагодарной. Я сама хочу, чтобы ты пошла к нему. — Это привело меня в совершенное недоумение.
— Нет!.. — Пусть она и королева, но я накрыла ее руку своей, словно пытаясь заставить осознать смысл сказанного. — Вы не можете этого хотеть! Неужели вы не понимаете?.. — Я не могла продолжать.
Королева приподняла мой подбородок, чтобы я смотрела ей в глаза. Еле заметно кивнула головой. Потом отпустила меня, а сама шагнула в сторону, немного отдалившись.
— Посмотри на меня, Алиса. На меня посмотри! — потребовала она. — Не как на королеву, а как на женщину. — Она подняла обе руки так, что я не могла не увидеть разрушений, производимых медленно, но неумолимо пожиравшим ее недугом. — Мне уже без малого пятьдесят лет. — Она улыбнулась одними губами. — Груз лет придавил меня сильнее, чем моего господина. Тело мое одряхлело. Я отличалась стойкостью, но смерть детей лишила меня и стойкости. Я чувствую, как смерть простирает надо мной свои крылья, Алиса.
— Нет, — стояла я на своем. — Я способна уменьшить ваши боли…
— Я знаю, что ты это можешь. И делаешь. Но временами боли просто невыносимы. Я не выношу даже легких прикосновений…
Королева тяжело вздохнула, и я наконец-то поняла ее. Отекшее тело, натянутая кожа, вывихнутое плечо. В иные дни королеве требовалась вся сила воли, чтобы пройти из опочивальни в светлицу.
— Это мне известно, миледи.
— Еще бы! А Эдуард — крепкий мужчина, каким и был всегда. И, как любому мужчине, ему необходима женщина. Женщина, которая будет согревать ему постель и тешить его плоть. Разве я способна на это? Даже простыни причиняют мне боль. Я всегда любила моего господина. Я родила ему двенадцать детей и горжусь этим. Я и сейчас люблю его больше жизни — но телесно быть ему женой больше не в состоянии. У меня разрывается сердце, но это так.
— Не… — Но больше ничего сказать я не смогла.
— Было время, когда по ночам я еле могла дождаться его прихода. Кожа у меня горела, чресла истекали влагой. Теперь же я боюсь того, что он может от меня потребовать, — конечно, он не так жесток или бездумен, ты же понимаешь. Он не требует от меня того, чего я не в силах вынести. Но я не хочу, чтобы между мной и Эдуардом стояла стена страха, — значит, я должна что-то для этого сделать.
Как она была откровенна! Говорила до боли честно, прямо, не оставляя места недомолвкам. Все переживания живо отражались на ее лице, оставалось только ждать, что она решит. И эта минута наступила.
— Сделай это, Алиса. Ради меня. Мне казалось, что я смогу просто побыть в сторонке и не мешать, чтобы все случилось само собой, чтобы мне не пришлось вести с тобой эту беседу. Но я не смогла так. Ты заслужила право знать, что я сделала и почему. Ты слишком умна, с тобой нельзя не считаться, нельзя из одной прихоти избавиться от тебя в таком сугубо личном деле. — Она облизала пересохшие губы, словно ей требовалось собрать все свое мужество перед тем, как продолжить. Собрала и договорила: — Я попросила моего господина взять себе любовницу, ибо мне телесная близость уже не по силам.
Ах, Филиппа! Я могла себе представить, сколько сил ей понадобилось, чтобы решиться на такое. Ей ведь пришлось переступить через свою гордость и забыть о положении жены Эдуарда.
— Я хочу, чтобы он взял тебя, Алиса. Как ты думаешь, зачем я позволила ему увидеть тебя?
В моей душе зашевелилось новое чувство.
— Значит, вы это все замыслили…
— Замыслила? Да, наверное, хотя само слово мне не по душе. Скажем так — подобная мысль посещала меня уже давно.
— И король об этом знает? — Мне вдруг стало противно при мысли о том, что они заранее обо всем договорились, а я была всего лишь пешкой, которую умело двигали по доске, и грудь мою захлестнула волна холода.
— Не знает. — Филиппа издала короткий хриплый смешок. — Он всю жизнь привык принимать решения самостоятельно, и в этом деле он иначе не поступит. Неужели хоть один Плантагенет позволил бы женщине выбирать для него возлюбленную? Да ни за что! Мы все пляшем под дудку Эдуарда.
Охвативший меня ужас немного отступил.
— Но ведь при дворе столько красавиц…
— Мой супруг прекрасно понимает, сколько красавиц окружают его! И если бы захотел взять в любовницы какую-то из них, он так бы и сделал. Но ты, Алиса, обладаешь странной притягательностью. Я молилась о том, чтобы он заметил тебя и не остался равнодушным.
— Но ведь это предательство! И разве это не унизительно для него? Даже для нас самих, если мы беседуем об этом в таком тоне? — Я поняла, что говорю шепотом, словно опасаясь, будто нас могут подслушать существа, вытканные на гобеленах. — Это бесчестье для него как мужчины.
— Нет, милая девочка. Не нужно так думать. Хранить целомудрие для него непомерный груз, он мужчина очень горячий, однако много месяцев он несет этот груз ради меня. — В ее улыбке отразилось все восхищение своим супругом. — Это мой ему подарок — и твой дар мне. Ты была никем, Алиса. Я вознесла тебя, а теперь ты сможешь отплатить за это.
— Мой дар вам… — Я старательно обдумала эти слова.
— Да. Ты вот говоришь об унижении. Но подумай сама! Разве потерпела бы я, чтобы он взял в порыве долго подавляемой страсти какую-нибудь обычную блудницу? Или титулованную даму из моей свиты? Охваченный страстью мужчина не всегда способен хладнокровно все взвесить. А я не вынесла бы скандала… Всегда скорее веришь в худшее, а у меня уже не осталось сил встречать невзгоды с высоко поднятой головой…
В коридоре послышались тихие шаги, постепенно они приближались.
— Вы уверены в этом, миледи? — спросила я. Настало время решаться: потом нам обеим отступать будет уже некуда.
— Больше, чем когда бы то ни было. — Она наклонилась, с трудом, но решительно, и поцеловала меня в лоб. — Мне нужно идти: не хочу, чтобы нас увидели вместе. Мы не устраиваем заговор, и Эдуард не должен нас в этом заподозрить. Дай ему то, что он хочет, Алиса, и знай, что я тебя на это благословила.
Она повернулась, чтобы уйти, но я остановила ее вопросом:
— Вы как-то говорили, что мне предназначено сыграть некую роль. Вы тогда имели в виду вот это?
— Да. — Она обернулась через плечо. — Ты убедишься, что Эдуард — несравненный любовник. — Горе душило ее; я услышала сдавленное рыдание. — Я постараюсь, чтобы тебе было как можно легче, насколько это в моих силах.
Один миг, показавшийся мне целым веком, мы смотрели друг другу в глаза: Филиппа — с решимостью, порожденной отчаянием, а я — с изумлением перед ее отвагой и с полным пониманием того, что ни мне, ни ей эта роль не дастся легко. Ну как сможет любящая жена ежедневно находиться в обществе наложницы своего мужа? Я бы такого не вынесла. Теперь-то я поняла, что говорила королева о своем печальном бремени.
Она удалилась, а у меня от полнейшей растерянности голова шла кругом. Дверь в коридор отворилась в ту самую минуту, когда захлопнулась дверь, ведущая в комнаты Филиппы. Я гордо вскинула голову и приготовилась стать любовницей короля с благословения его жены. Для этого всего-то и нужно, что последовать за королевским пажом… Бог свидетель! В эту ночь мне понадобится много храбрости, а я подозревала, что весь свой запас уже израсходовала.
В дверях стоял Уикхем, глядя на меня как на мошку, которая вот-вот сгорит в пламени свечи.
Он шагнул вбок и махнул мне с невероятным пренебрежением. Глаза его ни разу, ни на мгновение не встретились с моими — он упорно смотрел куда-то поверх моего левого плеча. Похоже, он был не в силах смотреть мне в глаза, боясь увидеть в них ту ужасную вину, которая вот-вот ляжет на мою душу.
— Вам надлежит следовать за мной, мистрис Перрерс. Грешно так поступать! — проворчал он, когда я проходила в дверь мимо него.
— Такова воля короля. — Чем меньше я стану говорить, тем лучше.
— Вам не следовало участвовать в этом.
— Меня вызывают, — коротко, но решительно сказала я.
— Несомненно, вы сами это подстроили! То, что вы делаете, не может не вызвать отвращения у всякого, кто сохранил хоть каплю порядочности. Вы всем обязаны королеве, и так-то вы ей платите. — Уикхем даже щелкнул зубами.
— Мне кажется, пора идти, — ответила я на это и отвернулась, не желая видеть его сверкающие презрением глаза.
Он провел меня чередой пустынных коридоров. Что, всех нарочно отослали с нашего пути? В ту ночь, когда я ступила на новую (и небезопасную) тропу, нам не встретился ни один паж, или писец, или слуга, ни единый человек из обширного дворцового хозяйства или королевской свиты. Мой сопровождающий хмуро молчал, так что я, кажется, даже на вкус ощущала его неодобрение, чувствовала, как оно жжет мне кожу. В какой-то миг я чуть было не остановилась. А что, если я откажусь повиноваться? Таким ли путем хотелось мне расстаться со своей невинностью — в тенетах хитроумных замыслов королевской четы, несущих блага королю и королеве?
Я тряхнула головой, отгоняя бесполезные мысли. Отказаться было нельзя. Слишком быстро развивались события, и слишком далеко уже зашло дело. Меня несло по течению, как палый лист, хотя я все же не была так бездумна. Когда я на миг застыла там, в коридоре, губы у меня сложились в улыбку. Я всей душой прочувствовала важность происходящего. Я стану больше чем фрейлиной, я стану тем, кем меня хочет видеть Эдуард. Какая женщина в здравом уме откажется от такой неслыханной чести — стать избранницей самого короля? Уж я не откажусь.
Я быстро зашагала за Уикхемом, пока он не остановился, да так резко, что я едва не наступила ему на пятки. Он круто развернулся, вынудив меня отступить назад, и тут же крепко ухватил за запястье — не просто взял за руку, как надлежало бы священнику.
— Не нужно бы вам здесь быть! — В его глазах плескалась ярость, губы от злости сжались в тонкую полоску. Но и меня не на шутку рассердили его поучения.
— Вы что, не впустите меня к своему королю? Даже вам не дано такой власти, Уикхем. — Я придала голосу насмешливый оттенок. — Вы можете строить стены и арки, но не вам диктовать свою волю королю!
Он тут же отпустил мою руку и толкнул так сильно, что я отлетела к стене.
— Уикхем!.. — Я задохнулась от возмущения.
Он не желал слушать меня. А что могла сказать я, не выдавая хитрый замысел королевы? Уикхем слегка прикоснулся к двери, отворил ее, отступил на шаг и махнул рукой. Я вошла, и дверь за мной затворилась.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Я оказалась в опочивальне Эдуарда. На всем ее роскошном убранстве лежала печать мужского вкуса: стены обшиты деревянными панелями и увешаны гобеленами, в камине пылают поленья, рядом свернулся калачиком любимый охотничий пес. Молитвенная скамеечка и распятие. Сундук, стол-конторка, кресло с высокой резной спинкой и резными же подлокотниками — короче говоря, роскошная обстановка, как я поняла с первого взгляда. Уже успела привыкнуть во дворце к великолепию обстановки. В этой комнате имелось все, чего только мог пожелать дворянин, который любит молиться, много читать и наслаждаться удобствами. Большую часть жизни Эдуард провел в лишениях, воюя во Франции, зато в Хейверинге — сколь бы ни был этот дворец скромен в сравнении с поистине королевскими Вестминстером и Виндзором, — он наслаждался всеми преимуществами своего высокого положения.
Заметно, что хозяин живет здесь постоянно. На шесте дремлет ловчий сокол. Богато отделанный мехом халат из переливающейся темно-красной камчатной ткани небрежно брошен на сундук. Пустой графин для вина, кубки и недоеденные кушанья на блюде. На ложе брошены книги, одна из которых раскрыта, и молитвенные четки. Большой канделябр стоит рядом с тазом и кувшином для умывания, свечи лучшего сорта дают ровный, мягкий свет.
А ложе даже не с чем сравнить.
Я быстро отвела взгляд от шелковых покрывал, от красных с золотом занавесей. После пережитых за последние полчаса потрясений мне стало трудно держать себя в руках. Я в нерешительности стояла спиной к двери и казалась себе загнанным в угол зверьком, в которого вот-вот вонзит свои когти безжалостный хищник. Ибо король Англии, вне всяких сомнений, — не меньший хищник, чем его сокол.
Сокол встряхнул крыльями и снова погрузился в дремоту. Пес у камина дернулся и заскулил — ему, вероятно, снилась охота.
Эдуард встал со своего места, где сидел перед моим приходом, листая страницы книги, и подошел ко мне, приветливо протягивая руку. Как он был прекрасен! И как безыскусно держался, не задумываясь о своей красоте, не представляя, какое впечатление на зрителя производят точеные черты его лица и величественная фигура, — какое впечатление это производит на меня.
— Алиса! — Суровое выражение лица смягчилось, на нем мелькнула тень улыбки. — У вас такой вид, словно я сейчас наброшусь на вас и разорву на кусочки.
— Наверное, такой, — согласилась я.
— Этого я делать не стану. — Эдуард засмеялся во все горло. Его рука легла на мою. — Вы совсем замерзли… или закоченели от страха. Идите к огню… — Он мягко подтолкнул меня, усадил в свое кресло, не переставая говорить, будто я была глупой необъезженной кобылкой, которую нужно было подбодрить. Предоставив мне разглядывать комнату, налил в два кубка рубиновую жидкость. — Держите. Это гасконское. Самое лучшее вино, какое только у нас есть. — Вложил кубок в мою руку, придвинул к себе ногой низкий табурет и сел у моих ног, поднес к губам свой бокал.
— Выпейте, Алиса. — Легонько подтолкнул мою руку. До меня дошло, что я молча таращусь на него, поскольку все мысли пришли в полнейший беспорядок. На ложе я так и не могла взглянуть. Ясно же, что король позвал меня не за тем, чтобы помочь ему занести в свои учетные книги доходы государственной казны.
Эдуард выпил вино, не сводя с меня глаз. Под его проницательным взглядом я растеряла остатки выдержки и опустила глаза на прекрасную серебряную чашу искусной чеканки, изображавшей сцену травли, рассеянно поглаживая пальцем молодого оленя с короткими рогами.
— Вам хотелось бы стать моей возлюбленной? — спросил Эдуард буднично, словно здоровался со мной.
— Я не знаю.
— Богом клянусь, это честный ответ!
— А как же иначе, государь? Я не умею отвечать вам по-другому.
Я рассеянно глотнула вина и закашлялась. В камине с тяжелым вздохом распалось на куски полено. Сокол на насесте переступил с лапки на лапку.
— Вы вдова.
— Вдова.
— Значит, вам незачем бояться этого. — Он махнул рукой в сторону ложа.
— Я девственница, — выдавила я, сглотнув подступивший к горлу ком. — Брак у меня был не совсем настоящий. Муж не мог… — Теперь, когда настал решающий момент, я действительно начала дрожать. Подняла глаза и увидела, как сердито нахмурился Эдуард. Значит, не такого ответа он от меня ожидал. Ему нужна была любовница, которая умеет вести себя под простынями. Все замыслы Филиппы шли прахом. — Я могу уйти, государь. Если я не нужна вам…
— Я скажу, когда будете не нужны! — Вспышка гнева полыхнула в глазах, удивив меня, а потом так же внезапно угасла. Голос его зазвучал ласково. — Прошу прощения. То, что происходит здесь, должно остаться только между нами.
— А вы не верите, что я умею держать язык за зубами?
— Я не об этом веду речь. — Он снова всматривался в меня своими огненными проницательными глазами, и я не в силах была отвести взгляд.
— Я понимаю, что вы собирались сказать. Понимаю, что вы не хотите обидеть ее величество.
— А вы полагаете, ей не будет обидно узнать об этом? — Он вскочил на ноги и вдруг отошел как можно дальше от меня, в другой конец комнаты. Так кто же из нас попал в ловушку? Я украдкой наблюдала за ним. — Плоть греховна, — пробормотал он. — И грехи ее станут преследовать нас.
— Я не сплетница, государь, — сказала я на это.
— Сколько вам лет? — хриплым голосом спросил Эдуард.
— Семнадцать лет, милорд, а может быть, и восемнадцать[37].
— Нас разделяет столько лет, столько жизненного опыта, который есть у меня и которого нет у вас. А знаете что, Алиса? Я ей ни разу не изменял. Ни разу за все тридцать лет нашего брака[38]. Не обращайте внимания на слухи, будто у меня были любовницы. С того дня, когда мы обвенчались, я не нарушал свою клятву. А вот теперь…
«А теперь она сама просила тебя завести любовницу!»
Как сохранить столько тайн? Для этого нужно обладать ловкостью жонглера, который подбрасывает в воздух один за другим множество предметов, но ни одного не роняет. Или талантом искусного ткача, который сплетает в единое целое множество нитей разных цветов и оттенков. Способна ли я не проболтаться? Есть ли у меня такой талант? В голове зазвучали слова графини Джоанны: «Женщине очень важно умение быть двуличной, чтобы с толком пользоваться теми талантами, какими она наделена». И тут же я мысленным взором увидела жестокую улыбку на ее губах. Потом прогнала ее из своих мыслей. В наших с Эдуардом попытках найти общий язык не было места цинизму Джоанны Прекрасной. Я ждала, что еще скажет король, а внутри меня все трепетало, словно там была полная клетка зябликов.
— Когда я дотрагиваюсь до нее, ей приходится закусывать губы, чтобы не стонать от боли. — Делая это признание, Эдуард отвернулся и положил ладони на крышку сундука, склонил голову, плечи его напряглись. — Я люблю свою жену, но я хочу вас, Алиса. Это очень плохо?
— Уикхем сказал бы, что плохо, милорд. — У меня еще не остыла злость на поповские упреки.
— А что скажете вы?
— Скажу, что вы мой король и вправе требовать от меня повиновения, милорд, — дала я ему единственно возможный ответ.
— Слишком простой ответ, который сглаживает все сложности, — скривился король. Наступило долгое и тяжкое молчание. Король раздумывал и колебался. Потом сказал: — Если тебе придется делить со мной ложе, то и называть меня ты должна просто по имени.
— Эдуард, — попробовала я произнести то слово, которое так часто писала в последнее время. И улыбнулась. Должно быть, король по голосу догадался, что я улыбаюсь, и бросил на меня взгляд через плечо.
— Что смешного?
— Непривычно звучит.
— Непривычно… А ты знаешь, сколько человек называют меня просто по имени, Алиса?
— Не знаю, государь.
— Я могу пересчитать их по пальцам одной руки. Все друзья моих юных лет умерли за последние два года. Нортгемптон, храбрейший из моих военачальников. Его больше нет. Сэр Джон Бичем, который был моим знаменосцем при Креси. Ланкастер, которому я доверял больше всего. Годы — жестокая вещь, Алиса. Ты еще слишком молода и не знаешь этого. А они отбирают у нас здоровье, друзей, надежды, и ничего вернуть уже нельзя. — Взгляд его стал грустным, мысли обратились к чему-то далекому и не известному мне. В камине рассыпалось еще одно полено, остальные зашевелились, будто напоминая королю, кто он и как ему надлежит держаться. Эдуард медленно поднял голову. Распрямился, губы сжались, резче обозначились морщины на лице. — Мне не позволено стареть. Я король.
Я тоже поднялась, мои тревоги были заглушены сочувствием к нему, хотя я ни за что не посмела бы чем-то выразить это сочувствие. Передо мной стоял гордый воитель, всю свою жизнь проведший в сражениях, но по-прежнему нуждавшийся в утешении. И ведь он об этом не попросит, он до могилы будет нести на своих плечах бремя королевского достоинства, пусть оно и обрекает его на безмерное одиночество. Я медленно приблизилась к королю, протянула ему кубок, потому что свой он забыл на крышке сундука.
— Вы не постареете. Вы будете жить вечно. А я стану называть вас Эдуардом, коль вы сами так пожелали.
Я прикоснулась к его руке, и он взял у меня кубок, а я подивилась тому, как легко смогла перешагнуть через строгие требования этикета. Зато все мои страхи, кажется, развеялись окончательно. Наши взгляды встретились, и я не стала отпускать его руку.
— Твои нежные губы снятся мне по ночам. Когда ты улыбаешься, лицо у тебя озаряется таким светом, как будто в глубине глаз зажглись свечи, — проговорил он. — Тебя озаряет внутренний свет.
— Вы мне льстите.
— Ну, мы оба можем льстить друг другу.
Эдуард поцеловал меня. Губы у него были теплые и решительные, поцелуй же — нежный, но без жара страсти. Эдуард не был возбужден. Быть может, ему скорее хотелось куртуазной любви, нежели удовлетворения плотских желаний.
— Бог проклянет меня за это, но все же…
Его руки упали с моих плеч, он снова почувствовал угрызения совести. Наверное, в юности Эдуард не колебался, если ему хотелось что-то получить, но сейчас ему приходилось нелегко, когда он уговаривал и меня, и свою совесть. Он являл собой высшую власть, что в этой опочивальне, что и во всей стране, однако в воспоминаниях его всплывали призрачные картины угасания и смерти.
А что же было делать мне? Я почувствовала, что больше всего на свете хочу принести ему хоть какое-то облегчение. Сделать так, чтобы он снова улыбался. Но как же, как отвлечь его от гнетущих дум, способных только растравить душу? Обладаю ли я талантом добиваться желаемого? Искусство соблазнять мужчин было мне неведомо. Чего же он хочет от меня больше всего — такого, что в моей власти ему дать? Что можно сделать? Ну… я умею спорить и отстаивать свою точку зрения…
Взгляд мой упал на документы, разбросанные по всему столу. Заботы финансовые и политические… Я подошла и остановилась у стола.
— Расскажите мне, чем вы здесь занимаетесь, Эдуард.
— А тебя интересуют государственные дела, вот как? — Он посмотрел на меня явно озадаченно.
— Интересуют. — Я встретила его взгляд, умышленно бросая вызов, который он мог принять, а мог и отвергнуть. — Я способна на гораздо большее, чем выбирать, какого цвета платье надеть или каким манером уложить волосы!
— Что, правда? — Эдуард принял вызов. Он указал мне рукой на табурет, порылся в документах, протянул один из них мне. — Дела семейные, — объявил он, всем телом налегая на стол. Моя самоуверенность пробудила его интерес и вытеснила давешнюю меланхолию.
— Вам повезло. Вот у меня семьи вообще нет, — промолвила я. — Мне семейные дела неведомы.
— У меня есть сыновья[39]. Великолепные сыновья. Они делают меня сильным. — Я опять видела перед собой не просто мужчину, а государя, который ни на минуту не забывает обо всем, что происходит во всей державе, и крепко удерживает ее в узде. — О чем вам говорит этот документ? — Он постучал пальцем по свитку, который дал мне. Написано было по-латыни, убористым почерком профессионального писца, но кое-что разобрать я все же сумела.
— Это из Ирландии, — ответила я.
— Правильно. Это от Лайонела[40], он сейчас в Ирландии. Ему нелегко там приходится, в этой непокорной провинции. В прежние времена я сам бы туда отправился, но теперь послал Лайонела своим наместником. Ему придется искусно лавировать, чтобы соблюсти интересы всех группировок. А люди там буйные, Бог свидетель: один неверный шаг — и засосет с головой, как в трясину.
Он забрал у меня эту бумагу и дал другую. Я снова ощутила себя послушницей, которой внушают первые заповеди, или счетоводом под бдительным оком Дженина, но эти бумаги очень сильно притягивали меня.
— А это что? — спросил Эдуард.
Разобрать этот документ оказалось потруднее, но имена были написаны ясно.
— Это из Аквитании.
— От Эдуарда, моего наследника. — Не различить глубокую гордость в его голосе было невозможно. — Он станет хорошим правителем Аквитании, если только сумеет сдерживаться и не попирать интересы своих подданных. Гасконцы своенравны, и ему придется учиться терпению не меньше, чем искусству быть королем. Он отличный полководец, мне это по сердцу. А теперь вот что…
Он явно получал удовольствие. Уверенно, твердой рукой он рисовал мне портреты наследников своей власти, которые продолжат род и славу Плантагенетов в веках. Я взяла в руки следующую бумагу.
— А это от Джона[41]. Джона Гонта. Он теперь герцог Ланкастерский. А Эдмунд[42]? Я собирался женить его на наследнице Фландрии… — он постучал пальцем по документу с тяжелой печатью красного воска, растрескавшейся в дальней дороге, — но на нее имеют виды французы, и они сумели добиться поддержки папского престола. Придется мне поискать ему другую невесту. А есть еще и Томас…
— Которому всего семь лет, однако он такой же неистовый охотник, как и его отец.
— Именно. — У меня душа пела от успеха своей маленькой хитрости. Напряжение покинуло Эдуарда. — Изабелла — вот кто меня беспокоит. — Задумавшись об этом, он снова взял мой кубок и сделал добрый глоток. — Она выйдет замуж только по своей воле, а если я употреблю отцовскую власть, добра из этого не выйдет.
— Мне кажется, она не станет противиться вашей воле, если мужа ей выберете вы. — Я видела, как он все сильнее закипает, вспоминая об Изабелле.
— Однажды она уже воспротивилась, да еще как!
— Но ведь годы-то идут…[43] Она пойдет за любого мужчину, которого вы выберете для нее, лишь бы тот был молод, красив и знатен!
— Я это запомню. Тебе лучше знать, что происходит в светлице… Я опасаюсь, что она выберет сама, и кого-нибудь совершенно неподходящего.
— Так пусть себе выбирает.
— Но мне же нужно ее браком обеспечить выгодный для Англии союз, а не терпеть какого-нибудь безземельного рыцаря с благородным лицом и крепкими мускулами, который сумеет заманить ее в постель!..
Он резко оборвал фразу. Я оторвалась от документов и подняла глаза, не понимая, отчего он вдруг замолчал. Эдуард молча смотрел на меня.
— А что это ты сделала? — требовательным тоном спросил он.
— Ничего, милорд!
— Ты коварная женщина, Алиса Перрерс!
Он бросил свернувшиеся в свитки документы на стол и расхохотался, да так, что стены задрожали и проснулся охотничий пес. Легким движением Эдуард оттолкнулся от стола, наклонился, взял меня под локти и поднял с табурета, поставив перед собой. Внимательно вгляделся в меня.
— Я разве позвал тебя сюда, чтобы обсуждать государственные дела? — Сейчас глаза у него сияли чистой голубизной, в них плясали веселые искорки, тени больше не таились в них. Зато горело пламя желания. — Думаю, ты не только коварная. Ты умная женщина.
— Вы так думаете, Эдуард? — Я вскинула голову: намеренно томно, изящно, соблазнительно.
— Тебе отлично удалось отвлечь меня.
— Удалось, — не стала я спорить.
— Мне остается только извиниться за свое дурное настроение.
— Незачем извиняться. — Я стояла совсем близко, а потому коснулась кончиками пальцев губ короля. — Мне самой приятно доставлять вам удовольствие.
Это прозвучало откровенным приглашением, но так ведь и было задумано.
Впрочем, Эдуард не нуждался в приглашении. С полнейшей учтивостью он помог мне избавиться от платья (как только удавалось профессиональному воину так ловко справляться с дамскими крючочками, завязочками и ленточками?); ночную сорочку он оставил на мне, щадя мою стыдливость. Он был так терпелив, что усыпил все мои девические страхи. Отогнув покрывала, устроил меня на мягких подушках, задул все свечи, кроме одной, горевшей так далеко, что я чувствовала себя укрытой пологом тьмы. Сам же, ничуть не стесняясь, снял панталоны и рубаху, остановился у края ложа.
— Я постараюсь, чтобы тебе было хорошо, Алиса.
— Мне и не страшно. — Это была правда. Теперь, когда пришла решительная минута, я была уверена, что Эдуард Плантагенет не причинит мне боли.
С любопытством я окинула взглядом его фигуру, насколько могла видеть при свете одинокой мерцающей свечи. Думаю, что в полутьме он выглядел лучше, чем на самом деле. Он прожил на свете уже полвека, но кожа на груди и боках оставалась упругой и гладкой, нисколько не портили его и шрамы, полученные во множестве битв и турнирных поединков, разве что волосы серебрились сединой сильнее, чем ему бы хотелось.
Сила, с которой он желал меня, была видна совершенно явственно.
— Нравится вам то, что вы видите, мистрис Алиса?
Я покраснела жаркой волной, осознав, что любуюсь им с нескрываемым восхищением.
— Очень нравится, — ответила я как можно спокойнее. — Мне остается лишь молиться, чтобы и вы нашли во мне столько же радующего глаз и остальные чувства.
— Я непременно скажу тебе об этом! Пока что мы оба не сомневаемся в том, сколь приятно мне твое общество.
Вот так я отдала свою невинность Эдуарду Плантагенету, королю Англии. Не могу назвать свои ощущения неприятными, и дрожала я вовсе не от страха и не от боли. Я училась у него и отваживалась отвечать на его ласки. А то и целовала и ласкала его, следуя своим собственным побуждениям. Иной раз я даже заставляла его затаить дыхание от удовольствия.
Ему нравилось.
А что же все-таки ощущала я? Эдуард дал мне почувствовать себя желанной. Благодаря ему я впервые за все годы своей жизни ощутила себя достойной внимания и красивой, хотя на деле таковой не была. Я приникла к нему и растворилась в его объятиях.
— Как случилось, что наши пути пересеклись, Алиса? — спросил он, когда жар страсти схлынул.
«Об этом лучше спросить твою любящую супругу».
Я лишь покачала головой.
— Мы сохраним все это в тайне, — пробормотал Эдуард. — Знать будет только Уикхем, а ему можно доверять.
— Конечно.
«Только ведь Уикхем винит во всем меня, не тебя!»
Так это и началось — любовный треугольник, в котором королева была безмолвной стороной, не знавшей и не желавшей знать больше того, что ей уже было известно, а Эдуард и не подозревал о заговоре, который устроила его супруга. Я же хранила тайны их обоих. С Эдуардом мы молчаливо уговорились не вспоминать о королеве, пока он жадно ласкал меня. Завтра будет довольно времени, чтобы мучиться чувством вины. А сейчас все мои мысли были поглощены силой его гибкого тела, трением наших разгоряченных тел.
В конце концов Эдуард уснул, сплетя свои пальцы с моими, а я лежала без сна, вспоминая, как откликалось на его страсть мое тело. Что есть любовь? Я подозревала, что любовь — это то чувство, которое Эдуард питает к Филиппе. Возможно, меня он тоже по-своему полюбил, если только им не двигало одно лишь вожделение. Но любила ли я Эдуарда? Наверное, немножко влюбилась в него, если считать любовью восхищение, уважение и верность. Внутри у меня все горело от желания, когда он целовал меня, когда его руки поглаживали мою грудь, опускаясь к животу и еще ниже. У меня кружилась голова от его великолепия, от сознания того, что сам король Англии настолько возжелал меня, что отринул всякую осторожность и овладел мною.
Может быть, я и полюбила его. В окутавшей комнату густой тьме я улыбнулась. От меня, возможно, еще ускользало понимание сущности любви, зато в ту ночь я в полной мере осознала могучую власть честолюбия.
Несколько позднее — насколько именно, не важно, ибо время не играло никакой роли, — Уикхем проводил меня обратно, в переднюю покоев королевы. Только теперь он еще более язвительно упрекал меня за все, что случилось. Его осуждение было беспредельным. У двери он поклонился и ушел, не потрудившись даже отворить ее передо мной, а поклон был лишь данью условностям, ни малейшей учтивости в нем не было.
Я утратила все его расположение. Думаю, сам он считал, что я погубила свою душу.
Паж проводил меня в мою комнатку, где две фрейлины мирно спали, ни о чем не догадываясь.
В комнату прокрались лучи раннего рассвета, словно занималась заря самого обычного дня. Я вымыла руки и лицо, плеснув холодной водой из кувшина, и зябко поежилась. Да, день как день, но не совсем обычный. Я поспешила одеться прежде, чем пробудились мои товарки: у меня наготове было объяснение, что королева может снова потребовать меня к себе, если боли не утихнут, и мне нужно будет отвести ее в часовню на мессу.
А вот ей что я скажу? Я знала одно: необходимо увидеться с нею, услышать, что она мне скажет при суровом свете дня. Минувшей ночью мы обе были слишком взволнованы, нами руководили переживания и чувства. Сегодня может наступить время для сожалений и раскаяния. Королева может решить, что за содеянное меня следует прогнать от двора, и, положив руку на сердце, я не смогла бы упрекнуть ее за это. Но мне нужно знать точно. Я поспешила в ее покои, но горничная сказала мне только, что королева поднялась даже раньше меня (к добру это или нет?) и сейчас стоит на молитве. Я проскользнула в часовню. Священника там не было, но королева стояла на коленях перед алтарем, ухватившись за него, чтобы не упасть. Я опустилась на колени у самого входа. Подожду. Мне почудилось, что прекрасное лицо Пресвятой Девы сегодня особенно сурово.
— Алиса…
Королева закончила беседовать с Богом. Я встала и поспешила к алтарю, чтобы помочь ей подняться на ноги.
— Ну, и как? — Глаза у нее были ясные и спокойные. Нынче утром боль была не такой сильной.
— Все сделано, ваше величество.
— Прошло… благополучно?
— Да.
Совсем мало слов, таких незначительных на первый взгляд, чтобы описать столь важное событие. Любой, кто стал бы нас подслушивать, тут же поспешил бы прочь в поисках более пикантных сплетен.
— Он… он позовет тебя снова?
— Да, миледи.
— Вот и хорошо. Мы не будем больше об этом говорить.
По телу пробежала дрожь облегчения: этот странный треугольник, оказывается, сможет существовать, если мне достанет умения сохранять верность и ему, и ей.
Распахнулась дверь, поток воздуха устремился в часовню, отчаянно заметалось пламя свечей; мы обе повернулись в ту сторону, полагая, что пришел священник. Но не прошло и мгновения, как спокойная и торжественная атмосфера старой часовни буквально вскипела яростью. Изабелла. Ярость горела на ее лице, полыхала в каждом движении. Она еще не успела подойти к нам, а голос уже гневно зазвенел:
— Боже правый! Да как ты смеешь!..
Стремительными шагами она преодолела разделявшее нас пространство, раздраженно пиная ногами свои юбки. Я подумала, что она набросится на меня, но Изабелла промчалась мимо, даже не желая меня замечать, и обрушилась с упреками на мать.
— Отчего вы здесь, с нею? Вы хотя бы знаете, что она натворила? Уикхем, конечно, ничего говорить не станет — он, по крайней мере, верен и умеет держать язык за зубами, когда речь идет о наших семейных делах, — но этой ночью Уикхема видели вместе с ней! И знаете, куда он ее вел? — Красивое лицо Изабеллы перекосилось от злости, слова она буквально выплевывала. — Она предала вас. Эта гадина, которую вы извлекли из нищеты и убожества, провела всю ночь в покоях короля! На его ложе, как я понимаю! А вы стоите здесь и чуть ли не держите ее за руку!
— Изабелла!.. — попыталась образумить ее королева, но ничего не добилась.
— Ведь вы даже не подозревали, верно? Не прикасайтесь к ней! Это гадюка ядовитая! — Тут Изабелла так сильно толкнула меня в плечо, что я от неожиданности покачнулась и ударилась об алтарную преграду. — Вы прогоните ее. Вы слышите меня? А если вы этого не сделаете, я сама обо всем позабочусь!
— Я слышу тебя, Изабелла, — вздохнула королева.
— Только посмотрите на нее! — Изабелла повернулась ко мне, когда я с трудом выпрямилась и сразу предусмотрительно отступила в сторону, видя, что принцесса готова вцепиться в меня острыми ногтями. — Вы ее одели, навели лоск, теперь она уже хоть на что-то стала похожа. А она? Согревает постель вашему супругу. А что до короля!.. Неужели никому из мужчин невозможно верить? И это после всего, чем вы одарили его — детьми, почтением. Я его презираю! Но еще больше я презираю тебя, Алиса из сточной канавы!
— Изабелла! Изволь замолчать! — Минувшей ночью я поражалась достоинству, которое явила Филиппа, однако сегодня она была поистине великолепна, усмиряя свою разбушевавшуюся дочь. — Я прекрасно знаю…
— Она вас подло обманула! Золото вашей доброты обратила в золу и пепел! Да ее под батоги надо! — не унималась Изабелла.
— Я не обманывала. — Отступать более перед яростью Изабеллы я не хотела, хотя и ощущала немалый страх.
Королева вовремя схватила дочь за рукав.
— Изабелла!
— Надеюсь, вы не собираетесь искать для нее оправдания?
— Нет, я собираюсь искать оправдания для себя.
— Не понимаю вас.
— В таком случае возьми себя в руки и послушай. Я прекрасно знаю, что произошло между моим супругом и Алисой. Слушай меня внимательно, дочь. Забудь о своей привычке дурно обращаться с людьми, не будь несправедливой. Взгляни в глаза правде. — Королева подождала, пока Изабелла хотя бы внешне немного остыла. — Как ты считаешь, способна я выполнять свой долг по отношению к твоему отцу?
— Ваш долг?.. — По лицу Изабеллы стало видно, что она предпочла бы не говорить на эту тему. — Но я не вижу…
— Видишь, видишь. Каждый день. Я неспособна привечать твоего отца на ложе. Вот тебе грубая, неприкрытая правда.
— Но это не…
— Если хочешь сказать какую-нибудь глупость вроде того, что это неважно, — значит, ты не моя дочь. Это важно всегда. Твой отец был и остался настоящим мужчиной. Должна ли я обречь его на воздержание до конца жизни только потому, что сама не могу… не могу… — Она как бы отмахнулась от слов, которые не в силах была вымолвить. — Ты понимаешь, Изабелла?
— Понимаю! — Белое лицо Изабеллы вспыхнуло.
— А коль я не могу дать ему то, в чем он нуждается…
— То вы решили сами найти любовницу своему супругу? — Изабелла изумилась ничуть не меньше, чем я накануне. Нежная, любящая Филиппа сама благословляет любовницу мужа. — Но отчего же не позволить ему воспользоваться дворцовыми шлюхами? Здесь найдется множество тех, кто охотно задерет подол…
— Нет. Бог свидетель, Изабелла, ты испытываешь мое терпение! Если уж так суждено, то пусть это будет девушка, которую я знаю, которой доверяю…
Как противно было мне все это! В ту минуту я осознала полную правду. Из этой словесной баталии между королевой и принцессой я не узнала ничего для себя нового. Разве минувшей ночью она не открыла мне всю свою наболевшую душу? И все же кровь стыла в моих жилах. Несмотря на глубокую преданность королеве, я была вынуждена признать, что она просто использует меня в своих интересах. Я служила всего-навсего костью, которую вырывали друг у друга две коронованные собачки. Словно прямо на моих глазах искусно выткали совершенно новый гобелен и я смогла увидеть картину во всей ее полноте. Пусть уж лучше король спит с незаметной domicella, нежели с высокородной титулованной леди, которая воспользуется своим положением и станет смеяться над беспомощной королевой, а сама возгордится тем, что сумела прокрасться на королевское ложе.
Я съежилась, чувствуя невыразимую горечь. Да, я сочувствовала королеве и понимала ее, но роль, которую она обдуманно отвела мне, была воистину жалкой. Я — не больше чем пешка, которую игрок переставляет туда-сюда по своей прихоти. А королева была искусным игроком. Сколько времени до того, как ей на глаза попалась я, она обдумывала свой далеко идущий замысел, призванный уберечь Плантагенетов от громкого скандала?
— И вы не сумели найти более приемлемую наложницу, чем вот эта? — снова разбушевалась Изабелла, выпуская коготки.
Тогда кровь во мне вскипела от гнева, и я поняла еще и то, что не могу восхищаться этим словесным поединком, бушевавшим над моей головой, будто меня никто и не замечал. Я уже не та беззащитная девица, какой была вчера.
«Ты — возлюбленная короля. Тебя уже не могут не замечать. И право голоса у тебя появилось. Он ведь прислушивается к тебе. Он хочет, чтобы ты снова пришла к нему. И ты не обязана терпеть то, что здесь творится. У тебя теперь есть власть».
Эти слова вертелись у меня в голове, будто колесики в драгоценных часах Эдуарда.
— Ты сделаешь вид, Изабелла, что ничего не знаешь. С Алисой будешь обращаться любезно, ибо она послушна мне, а потому заслуживает всяческого уважения. Ты хорошо меня поняла? — Королева отдавала приказания четко, не хуже опытного полководца на поле боя.
— И вы ей доверяете? — Изабеллу нисколько не тронули слова матери, и под ее презрительным взглядом я сгорела бы со стыда, если бы во мне самой не нарастала ярость, сперва приглушенная, но потом вскипевшая в полную силу. — Что еще он ей даст? Какие дары выпросит она у моего потерявшего голову папеньки?
Сколько еще я сумею сносить это молча? Но если я вся так и пылала, то королева оставалась холодна как лед.
— Что ты хочешь этим сказать? — требовательным тоном спросила она.
— Она не станет делать это задаром. Какая шлюха работает задаром? Драгоценности, деньги… даже титул.
— И что из этого? Если Эдуард решит отблагодарить ее подарками…
— Вы ошибаетесь, Матап! Вы допускаете самую большую в своей жизни ошибку.
— Напротив! Это лучшее решение, какое я только принимала.
— Прекратите! — Я не могла больше оставаться безмолвным наблюдателем, но сама еле расслышала свой голос. Будто и не сказала ничего.
— Это против всяких приличий… Она остается одной из этих ваших жеманных фрейлин и в то же время вползает на ложе вашего супруга. — Изабелла предпочитала выражаться без обиняков. — Я не стану приукрашивать происходящее словами и жестами из романов. Здесь обычная похоть, и вам надо бы стыдиться, а не поощрять ее.
Довольно! Проведя с ним ночь, я уже не могла допустить, чтобы об Эдуарде говорили в таком тоне. На этот раз я крикнула в полный голос, не выбирая выражений, которыми принято пользоваться в присутствии особ королевской крови.
— Да замолчите же!
Они воззрились на меня, пораженные не меньше, чем если бы ожила и заговорила деревянная статуя Пресвятой Девы.
— Я не допущу, чтобы из-за меня скандалили, словно из-за мясной туши в рыночной лавке. — Необходимо было кое-что разъяснить Изабелле. — У вас что, не осталось ни капли уважения к королю, вашему отцу? Вы поносите и унижаете его своей грубостью. Или недостаточно, что этим занимаются его враги за морем, так еще и собственная любимая дочь должна внести свою лепту? Его воля — закон для всей Англии, а вы говорите о нем так, словно это лев, лишившийся зубов, старик, которым можно помыкать как угодно по своему желанию. Неужели он так ослабел, что не может уложить в постель женщину без помощи своей жены? Я могу это опровергнуть. Смею утверждать, что кровь у него горячая, а сил хватит на троих. — Я перевела дух. Кажется, еще никогда я не произносила такой длинной речи. — Ваши слова не делают чести ни королю, ни вам. Никто не сможет им помыкать. И я решительно отрицаю, будто он взял себе любовницу по наущению и желанию королевы.
— Ну!.. — Изабелла не сумела сразу найти нужные слова.
Я же продолжила, и в голосе моем звучала глубокая убежденность:
— Я договорю то, что сказать необходимо. Вы вольны считать меня жалким существом, миледи, но выслушать меня вам придется. Я возлюбленная короля. — Как странно было произносить это вслух! Я вскинула голову и твердо встретила взгляд Изабеллы. — Он сам выбрал меня. Он призвал меня к себе, и я достойно сыграю свою роль. Пока это угодно его величеству, я буду хранить молчание. Не стану привлекать к себе внимания своими поступками — иными словами, дорогими подарками короля. Ни о чем не стану просить, ничего не приму, кроме того, что даст мне сам король. Если он пожелает наградить меня чем-то, я не стану отказываться. На то его воля. Что же касается меня, я сохраню верность. Не буду ни сплетничать, ни распускать клеветнические слухи. А королеве буду служить всем, что только в моих силах. Столько, сколько она сама пожелает.
Изабелла медленно скривила губы, недовольно принимая сказанное.
— Ну что ж… Наложница короля обрела голос! Мне нужно сделать реверанс. — Она его сделала, с глубочайшей издевкой.
— Можете насмехаться надо мной, миледи, но такова уж воля короля… и королевы. Отныне я — возлюбленная короля.
— А если королева, — сверкнула глазами Изабелла, — по зрелом размышлении решит, что неудачно выбрала наложницу для короля, и не согласится с твоим новым положением при дворе? Если я не соглашусь…
— Я не желаю вам зла, миледи, — пожала я плечами, и получилось это у меня очень изящно, — но я служу прежде всего королю, потом уже королеве. А ваши желания, как я понимаю, никакого значения вообще не имеют.
— Ну это мы еще посмотрим! — И с тем Изабелла удалилась из часовни.
Я была оставлена на милость королевы. Как я могла позволить себе такую дерзость и неосмотрительность, не подумав заранее обо всех сложностях моего нового положения? Теперь я ожидала, что решит Филиппа.
— Алиса! — Она засмеялась, содрогаясь всем телом. — Что же, я не ошиблась в своем выборе. Ты бесстрашна и даже более того, раз уж вступаешь в схватку с моей дочерью. Возлюбленная короля, право… А как великолепно ты защищала короля! — Она либо не чувствовала презрения ко мне, либо очень искусно его скрывала. На ее морщинистых щеках тут же заблестели слезы, королева вытерла их платочком. — А хватит ли тебе храбрости вынести враждебность придворных?
В своем поразительном простодушии я даже не подумала об этом.
— Мы будем очень осторожны, — сказала я, хотя в душе была далеко не так уверена, как хотелось бы.
— Не сомневаюсь. Но долго это не удастся хранить в тайне. Да и Изабелла будет ставить тебе палки в колеса. Я, конечно, не позволю ей причинить тебе серьезный вред, но она очень своевольна…
— Уикхем тоже перестал быть мне другом, — вздохнула я.
— Ты сможешь все это вынести?
Я обдумывала ответ, а гнев понемногу покидал меня — мы стояли у ног Пресвятой Девы, которая несомненно осудит нас за то, что брак мы превратили в прелюбодеяние. Нести такое бремя немыслимо. Любовь короля. Уважение королевы. И поношение со стороны тех, кто проник или проникнет в тайну. Я упала в глазах Уикхема. Хватит ли мне смелости? Много ли, мало ли получу я из щедрой руки Эдуарда, меня все равно станут проклинать как прелюбодейку и врага его семьи. Меня. А не короля, который не имеет сил бороться с вожделением. Не королеву Филиппу, чье попустительство вполне достойно грешной дочери Евы. Проклинать станут одну меня.
Я пристально вгляделась в раскрашенное печальное лицо Пресвятой Девы, но она не удостоила меня своими наставлениями.
Изабелле я пообещала, что приму только то, что король сам предложит мне. Так и стану поступать. Но все равно передо мной вдруг открылись такие возможности, о которых я никогда и мечтать не смела. И на сложном плетении этого причудливого гобелена перед моими глазами начала проступать нить, ведущая в мое будущее. Если мне хватит воли и смелости, эта нить будет прочной, как сталь. В общем плетении она сверкала золотом. Я подумала, что если плести ее умело, она засияет, как полуденное солнце или как звезды в короне Пресвятой Девы. С другой стороны, у Эдуарда страсть ко мне может пройти через какую-нибудь неделю, а в его постели окажется новая наложница. Снова, уже в который раз, меня затягивал омут неуверенности в завтрашнем дне.
Я слегка пожала плечами. Я обязана постараться не разонравиться Эдуарду. Я молода, и сил мне, кажется, хватает.
— Что такое? — спросила королева. — Ты улыбнулась.
— Правда? Я даже не заметила, миледи. А на ваш вопрос я отвечу: да. Да, ваше величество. Я смогу это вынести.
Королева ушла и оставила меня молиться, о чем я пожелаю.
В ту ночь и последовавший за нею день я стала взрослой. Я сделала болезненный шаг от невинности до таившей в себе опасности зрелости. Перестала быть юной девушкой, любимой игрушкой фрейлин. Время игр закончилось. Возможно, мне было жаль этого, но какие игры могли сравниться с первым головокружительным ощущением власти? Король стремился ко мне, желал меня. Первая ночь, которую мы провели в беседах и любовных объятиях, будет только первой из многих. Чего не под силу достичь фаворитке короля? Какие двери не отворятся переднею? Возможности открывались захватывающие, словно перед умиравшим с голоду нищим, который вдруг оказался за столом, накрытым для пышного пиршества, а ради вящего удовольствия кушанья подносят ему на золотом блюде. С неистово бьющимся сердцем я ожидала, какой окажется моя награда.
Я стала королевской любовницей. Днем — фрейлина Филиппы, по ночам — возлюбленная Эдуарда. Какая странная двойственность! И всякий день я ожидала, что при дворе начнутся пересуды. Пусть Уикхем дьявольски осмотрителен и умеет молчать как каменный, но невозможно вечно таиться, хотя тому, кто первый дал знать Изабелле, сумели заткнуть рот, и очень плотно. Много недель казалось, что я бреду по тончайшему льду, на каждом шагу ожидая, что он вот-вот треснет и меня увлечет за собой холодная стремнина. Меня требовал к себе король. Я повиновалась. Сопровождал меня неизменно Уикхем. Из комнаты меня всегда вызывали под предлогом нездоровья королевы. Но разве никто не понимал, что это лишь уловки?
А потом фрейлины начали перешептываться. Отводить глаза, когда я входила в светлицу. Говорить намеками, не заканчивая фразу, а лишь неопределенно пошевеливая пальцами. Легкое дуновение скандала — шепотки оставались почти неслышными, как шорох спелых колосьев под слабым дуновением летнего ветерка. Похоже было, что все знают, но согласились вслух ничего не говорить. Удивительный заговор молчания: все знали правду о происходящем, но никто не решался откинуть завесу тайны и открыто обвинить меня во лжи и двуличии. Никто не смел открыто выступить против меня.
Отчего же?
Да уж не из уважения ко мне. Они молчали ради Филиппы. Она сумела возбудить у всех такую любовь к себе, что придворные решили: не следует рассказывать ей о том, как младшая из фрейлин развлекается на ложе с ее супругом. Это само по себе казалось им ужасным.
Несправедливо. Как это все жутко несправедливо! Но я была связана по рукам и ногам, вынуждена притворяться и делать вид, будто бы королева и вправду ни в чем не повинна и ни о чем не догадывается, как полагало общее мнение. Виновата во всем была только я одна.
Но отчего же король выбрал Апису — вот что их интересовало. Это без труда читалось в косых взглядах, бросаемых на меня. Если он не в силах выносить воздержание, то почему не выбрал кого-то благороднее, умнее, красивее? Фрейлины уже не тискали меня в объятиях, не баловали, как любимую собачку.
— Тебе досаждают из-за всего этого? — спросил Эдуард со свойственной ему прямотой. — Всякого, кто посмеет о тебе злословить, я немедленно прогоню прочь от двора.
Типично мужское мышление. Меня обвиняли и судили в замкнутом женском мирке, в нашем курятнике, который кормился безжалостными сплетнями.
— Никто не сказал мне ничего дурного, — ответила я королю.
Я солгала. Бессовестно солгала. Каждый день, каждый час к моему сердцу был приставлен отточенный кинжал всеобщего презрения. Но что толку говорить об этом? Эдуард отнюдь не был равнодушен ко мне, но в присутствии короля все шепотки мгновенно смолкали.
Хорошо хоть, что враги мои брали пример с Изабеллы, а та обращалась ко мне сухо, но учтиво — с такой ледяной вежливостью, что один ее взгляд мог бы заморозить Темзу в августе месяце. И ранил, как острые края льдины.
Но вечно так продолжаться не могло. Женская природа не позволяла им, запертым в оранжерее светлицы, где выращивались всевозможные сплетни и слухи, терпеть мои грехи без того, чтобы не съязвить, не уколоть, не фыркнуть. И как они постарались принародно выставить меня на посмешище! Никогда им этого не прошу — именно того, как все было сделано. Случилось все во время встречи королей в ноябре 1363 года — я чуть больше месяца была любовницей Эдуарда. То было поистине выдающееся событие, когда монархи Франции, Кипра[44] и Шотландии прибыли к английскому двору, дабы в полной мере почувствовать наше могущество и восхититься нашим великолепием. Эдуард устроил в Смитфилде турнир, на котором выступал и в поединках, и в общей схватке возглавлял один из отрядов. По его просьбе мы все должны были сопровождать королеву, одетые в цвета Плантагенетов, дабы поддержать бойцов, которые принесут Англии символическую победу над ее противниками. Прежде чем выйти на галерею для дам, мы все собрались в аудиенц-зале — море голубых с серебром нарядов, отороченных собольим мехом, весьма впечатляющее зрелище роскоши королевского двора. Фрейлины столпились вокруг королевы, также нарядившейся в голубое с серебром, со сверкающими на груди сапфирами. Ропот восторга пробегал по рядам в ожидании захватывающего празднества.
Потом ропот восторга сменился шелестом шепотков, в которых изумление мешалось с некоторым злорадством, — это я оказалась в центре всеобщего внимания. Ничего другого я и не ожидала. Взор королевы тоже упал на меня.
— Алиса!..
Конечно, я могла придумать подходящий предлог и вообще не явиться сюда. Могла спрятаться в дальнем углу, движимая страхом. Унижением. Разве не этого от меня ожидали?
Но мой враг просчитался. Прятаться я не стала.
— Да, ваше величество? — Я сделала реверанс. Юбки мои, как ясно мог видеть всякий, были не голубого с серебром цвета, не было на них и меховой опушки.
— Что это?.. — Королева указала на мое одеяние.
Я намеренно выбрала именно это — ту самую одежду, в которой меня когда-то привезли ко двору и которую я хранила непонятно зачем — надевать ее снова я вовсе не собиралась.
Грубая и поношенная, покрытая пятнами и мятая от длительного хранения в сундуке, эта одежда сейчас покрывала меня с ног до головы, будто я оставалась прислугой низшего ранга. Я стояла посреди разукрашенной самоцветами толпы как серенький воробьишка, затесавшийся в стаю пестрых щеглов.
Да! Я бросила перчатку, а теперь очень старательно обдумывала, что ответить королеве. Поведать ли ей все как есть? Эта мысль привлекала меня все больше, по мере того как под грубым одеянием conversa в моей душе закипала злость.
Мысленным взором я не видела ничего, кроме разложенного на моей кровати прекрасного платья — самого красивого из всех, какие у меня до сих пор были, — из шелка и камчатной ткани, безнадежно изрезанного, с оторванной собольей опушкой. Покрывало было разорвано надвое, как и богато вышитый пояс. Над ним я старательно работала много недель, но кому-то хватило часа, чтобы искромсать его ножницами, что не требовало никакого искусства, а лишь безграничной мстительности. Вышивка потребовала столько терпения, сколько я до сих пор за всю жизнь не проявила, но теперь все пошло прахом. Кому-то доставило удовольствие даже забрать у меня подарок Филиппы — мягкие кожаные туфельки с розетками из камчи. Они исчезли бесследно. Можно было поплакать над непоправимым ущербом, но девушки, делившие со мной комнату, очень бы этому порадовались. Я минутку постояла, поглядела, глотая слезы, задетая за живое уничтожением такой красивой вещи — этим свидетельством моего полного одиночества в обществе придворных дам. Кто-то сдавленно хихикнул за моей спиной, и это вернуло мне душевные силы. Я аккуратно сложила изрезанное платье и с яростной решимостью облачилась в дешевенькую бумазею, годную лишь для черной работы. Если уж нельзя надеть самое лучшее, то не стоит соперничать с другими, надевая то, что просто чуть похуже. Я нимало не пыталась скрывать, кем была когда-то и как сильно изменилась с тех пор.
Так сказать правду или ввести королеву в заблуждение? Я обвела взглядом лица, на которых было написано ожидание, и в мозгу зазвучал возможный ответ: «Одна из ваших фрейлин, ваше величество, из зависти испортила мое платье».
Это ничего мне не даст. Доказательств у меня не было. И я буду выглядеть очень глупо.
— Она не может в таком виде присутствовать на турнире, — заметила Изабелла, пока я молчала.
— Да, — согласилась королева, — ни в коем случае.
— Думаю, для подобного неповиновения должна быть причина. — В голосе Изабеллы ясно слышалась насмешка. Я не считала, что это сделала она. Подобная месть была ниже ее достоинства, к тому же она знала, как относится ко мне королева.
— Это не злостное неповиновение, ваше величество. — Я подняла глаза и посмотрела на Филиппу.
— Наверное, случилась какая-то беда… — Лицо у нее было печальным, но глаза оставались ясными. Она открывала мне путь к спасению.
— Да, миледи. Во всем виновата моя небрежность.
— Небрежность так велика, что платье оказалось невозможным надеть?
— Да, ваше величество. Я сама виновата.
Я не смотрела ни на кого из них, только на королеву. И молилась о том, чтобы она догадалась сама и позволила мне удалиться безо всякого наказания.
— Уж чем-чем, а небрежностью ты не грешишь, Алиса, — обронила она.
— Простите меня, миледи. — Я опустила глаза и увидела серебристо-голубые розетки на носках ее туфель.
— Алиса… — Я подняла взгляд и успела заметить, как королева коротко кивнула. — Я все поняла. Идем со мной. И ты тоже, Изабелла. Кажется, у нас есть еще время. Полчаса…
Я услышала, как все разом выдохнули — от разочарования, наверное. Зато как обрадовалась я! Разве я не сумела показать, что сильнее своих врагов? Пусть они видят, что для меня их враждебность ничего не значит. Я не стану оправдываться, не стану мстить, а буду себе помалкивать. И они поймут, что я их не боюсь. Впервые я воочию убедилась, какая огромная сила таится в самообладании.
А что же полчаса, о которых говорила королева?
Полчаса — это все, что потребовалось для моего преображения. С королевы быстро сняли ее голубое с серебром платье, отороченное мехом. Мои жалкие тряпки сорвали с меня (больше я их так и не увидела), и наряд королевы перешел ко мне. Он был чрезмерно велик для меня, но его затянули потуже, и он хотя бы держался на моих плечах.
За все время не прозвучало ни единого слова, кроме команд выдохнуть, подтянуться, сделать шаг в сторону.
— Очень славно! — проговорила королева, не терявшая царственного вида даже в исподнем, наблюдая, как мой наряд дополняют легким покрывалом с серебряной каймой и таким же поясом. — Скажи королю, Изабелла, что через пять минут мы будем готовы. — И спросила, когда мы остались с нею наедине: — Ты мне скажешь, что случилось, Алиса?
— Мне нечего сказать, миледи.
Она не стала настаивать, а вернулась к делам неотложным.
— Принеси алое с золотом платье и отделанное золотом сюрко. Да, еще золотистое покрывало и ожерелье с рубинами.
Мы возвратились в аудиенц-зал, где царило напряженное ожидание. Королева стояла среди нас, сверкая, как бесценный рубин в голубой с серебром оправе своих фрейлин, к которым она обратилась сурово и непреклонно:
— Сегодня мы воздадим почет королю. Такова моя воля. Алиса — верноподданная и моя, и его величества. — Она обвела взглядом лица, которые старательно изображали добросердечие. — Я крайне недовольна неучтивостью, проявленной ко мне и к тем, кто мне служит. Подобного я не потерплю.
Ответом ей было гробовое молчание.
— Все хорошо меня поняли?
— Да, ваше величество. — Все вокруг послушно преклонили колена.
Такая краткая и туманная, казалось бы, речь, но она свидетельствовала о полном понимании сути дела и была предельно ясна каждому, у кого есть хоть немного мозгов.
— Мистрис Перрерс будет во время турнира сидеть рядом со мной, — продолжала королева, глядя прямо перед собой. — Ну, давайте выходить, хотя и с запозданием. Женщине приличествует не спешить, когда ее ждет красавец мужчина. Дайте мне опереться на вашу руку, мистрис Перрерс.
Турнир оказался несравненной демонстрацией воинского мужества и мастерства, он с триумфом закрепил и мое положение при дворе Эдуарда. А как сражался он сам! Если у приехавших в гости монархов и возникали раньше мысли о том, что силы английского короля, перешагнувшего порог своего пятидесятилетия, тают, то проявленное Эдуардом высокое воинское мастерство не оставило им места.
И я бы охотно порадовалась, по крайней мере моей собственной победе, если бы каждая мелочь на турнире не врезалась острым мечом в мое сердце. Ревность — тяжкий грех и крайне неприятный спутник; это зверь, который пожирает тебя, когтит и не дает ни минуты покоя. И в продолжение этого чудесного дня она мучила меня неотступно. Пусть я была любовницей Эдуарда, но смотрел он только на Филиппу, только ей воздавал он все почести и рыцарское поклонение. Ни взглядом, ни жестом он ни разу не выделил меня из окружавшей королеву голубой с серебром свиты. Как награду, он принял из рук Филиппы ее шейный платок и прикрепил его к надетой поверх лат перевязи. Он поцеловал Филиппе руку и поклялся сражаться в ее честь. В самом конце, получая положенный победителю приз и принимая нежные поздравления Филиппы, Эдуард обращался к ней одной.
А я? Я женщина, и я негодовала. Ну почему он не мог заговорить со мной? Мне было стыдно, я безжалостно упрекала себя за эту ревность, но ничего не могла с нею поделать. Она вторгалась в мою душу, словно червяк в мякоть яблока, и когда я смотрела на турнирное поле, к губам моим была приклеена улыбка, с них слетали пустые слова, а в сердце бушевала злость на короля, который обладает моим телом, когда мы наедине, и ни за что не желает признавать меня на людях. Я понимала, что эти мысли и эта злость несправедливы по отношению к Филиппе и к Эдуарду, они не соответствуют той роли, на которую я согласилась совершенно сознательно, понимая неизбежные последствия, — и все равно в душе не утихала злобная ярость.
Я была всего лишь фрейлиной, которая прислуживает королеве.
Пока не оказалась в ту ночь на ложе Эдуарда.
— Хорошо я сегодня потрудился. — Он вздохнул и потянулся всем своим сильным, насытившимся телом, без труда пригвоздив меня к постели.
— Где именно? — с важностью в голосе поинтересовалась я, хотя удовлетворена была не меньше, чем он, и демон досады временно затих.
Раньше я и не знала, что могу напускать на себя важность, но теперь постоянно открывала в себе все новые способности, помогавшие соблазнять сильного мужчину. Эдуард доставил мне удовольствие с искусством ничуть не меньшим, чем показанное им на турнире, разве что здесь он проявил гораздо больше утонченности.
— Мистрис Алиса, у вас слишком острый язычок. В старом боевом коне еще остались силы! — Он повернулся к изгибу моей груди и поцеловал влажную от пота ямку, под которой еще трепетало от телесного наслаждения сердце. — Я пока еще могу, с добрым копьем и на хорошем скакуне, выбить из седла рыцаря вдвое моложе меня.
— И все еще можете вынудить женщину к безусловной капитуляции… — Я провела рукой по его плечу, прижала руку к ребрам, ощутив такое же учащенное биение его сердца.
— А я думал, что это ты меня победила.
— Что ж, вы могли так подумать. Учитывая, сколько мужской гордости вы сегодня выказали, было бы вполне справедливо, если бы вас победила женщина. А Уикхем, несомненно, растолкует вам, насколько это грешно.
Эдуард повернулся, взял в ладони мое лицо, чтобы я не смогла отвести взгляд, и твердо сказал:
— Я сражался и в твою честь, Алиса, не нужно в этом сомневаться.
— Да нет. — Зеленоглазый червячок в сердцевине яблока зашевелился снова. — Насколько мне помнится, вы и не подумали попросить платок у меня.
Прозвучало это без надрыва, но и не совсем в шутку, и Эдуард воспринял мои слова всерьез, как бывало чаще всего, если я начинала противоречить ему.
— В душе я этого хотел, Алиса. Двуличие не в моем характере.
Я подавила вздох и поцеловала его, позволив наслаждаться победой. Разве не оба мы повинны в лицемерии?
— Выбрать своей дамой королеву было вполне естественно, а сражались вы за нее просто великолепно, — заверила я его. — Вы доставили ей огромное удовольствие. — Я будто исполняла сложную фигуру в танце, к которому пока еще так и не привыкла, но Бог свидетель, что с каждым разом у меня получалось все лучше и лучше. — Королева специально надела красное с золотом, чтобы порадовать вас. Так вам легче было увидеть ее издали и ощутить ее поддержку.
— Ей всегда шли яркие цвета. — Он улыбнулся воспоминаниям, потом устремил взор на меня, в глазах зажглись искорки. — Ну а ты прекрасно выглядела в голубом с серебром. А еще лучше выглядишь без всякой одежды вообще…
Можно было только поражаться тому, сколько энергии было в Эдуарде.
Когда я уже собиралась уходить и готовилась бестрепетно стерпеть молчаливую враждебность Уикхема, Эдуард с бездумной щедростью набросил мне на шею усыпанную камнями золотую цепь. Она украшала его костюм на пиру после турнира. Я взвесила на ладони тяжелые звенья, восхищаясь огромной стоимостью этой вещи, и некоторое время задумчиво разглядывала ее.
— В чем дело? — недовольно спросил Эдуард.
— А вы не понимаете?
— Не понимаю. По-моему, тебе идет.
— Я не могу принять такой подарок, Эдуард. Право же, не могу!
— Да почему?
— Да ведь вы, кажется, хотели сохранить все в тайне! — Я сняла цепь и повесила ему на шею, где она смотрелась куда лучше на фоне бугрившихся на груди мышц. — Как же с этим сохранить тайну? На такой цепи можно коня удержать, а сапфиры величиной с голубиное яйцо каждый! — У Эдуарда раздулись ноздри — верный признак недовольства. Следовало щадить его гордость, но я должна была думать и о том, как защитить себя в сложившемся щекотливом положении. Разумная женщина не станет давать повод к пересудам сверх неизбежного. — Подарите мне лучше вот это, — предложила я, протягивая руку к платку королевы. На нем оставалась брошь, которой Эдуард приколол платок к перевязи на доспехах.
— Но это же мелочь, Алиса, — возразил мне король, сердито нахмурив брови. — Безделица, которая ничего не стоит.
— Эта вещь многого стоит, — убежденно проворковала я, сжимая платок. — Она была с вами в гуще битвы, и я хочу, чтобы она принадлежала мне. А носить платок я могу совершенно открыто. Вы согласны, что это разумно, Эдуард? Ведь если бы я вздумала надеть эту цепь, каждый придворный показывал бы на меня пальцем!
— Ладно, госпожа, будь по-вашему, — ворчливо уступил мне Эдуард. — Ты меня убедила. Но наступит день, когда я подарю тебе то, что сам пожелаю.
— Наступит день, когда я приму от вас такой подарок. — Я не сомневалась, что когда-нибудь, еще очень не скоро, так оно и будет.
Эдуард приколол на мою полотняную ночную сорочку брошь — золотой кружок, усеянный крошечными изумрудами, и скромное украшение неожиданно ярко засияло на простенькой ткани.
— Тебе ведь нелегко приходится, верно? — Он уже не впервые задавал мне этот вопрос, и ничего нового ответить я ему не могла.
— Нелегко. А разве может быть иначе?
— Я слишком эгоистичен, требуя от тебя таких жертв?
— Наверное. Но вы ведь король, разве вы можете не быть эгоистом?
Он засмеялся, к нему вернулось хорошее настроение, пусть улыбка и оставалась немного кривой.
Ту брошь я носила открыто — она была совершенно незаметна среди многих драгоценных украшений, которыми меня одарила Филиппа. Как дал понять Эдуард, придет время, и я перестану таиться. Придет время, когда в этом просто не будет нужды, но меня глубоко огорчало событие, которое только и могло привести к этому. Пока королева жива, скрытность остается превыше всего.
— Вы так и будете молчать? — сердито спросила я Уикхема, когда он в очередной раз провожал меня знакомой дорогой. — Или вы решили до конца жизни больше со мной не разговаривать? Когда вы успели стать таким ханжой?
— С тех пор как погубил свою душу, согласившись хранить постыдную тайну короля, — огрызнулся он совсем не таким тоном, какой приличествует священнику. — Я на днях уезжаю из Хейверинга, чтобы заняться постройками в Виндзоре, — процедил он сквозь зубы.
— Готова спорить, что это обрадует вас куда больше, нежели общение со мной.
— Еще бы, Богом клянусь!
— Но вы вернетесь, и мы снова встретимся здесь, — не удержалась я от колкости.
— Я стану молиться о том, чтобы Бог явил чудо и вас здесь не оказалось!
Уикхем уехал достраивать новую башню в Виндзорском дворце. Я скучала по нему, по его суровости и честности, но провожатый был мне больше не нужен: мне предоставили отдельную комнату и полную свободу передвигаться по королевским покоям. Таким образом, мое положение сделалось окончательно ясным всему двору, однако заговор молчания ради спокойствия Филиппы продолжался.
А если кто-то его нарушал?
— Тварь! — прошипела мне в лицо одна неразумная фрейлина, которая позволила праведному гневу взять верх над здравым смыслом.
После этого королева ненадолго вызвала ее к себе, а затем вещи этой фрейлины поспешно собрали, и в тот же день она была вынуждена распроститься с двором. У меня были враги, но были и друзья, куда более могущественные. Я теперь гораздо спокойнее ступала по избранному пути, с каждым шагом чувствуя себя все увереннее. А как могло быть иначе? Королевский наряд Филиппы — голубой с серебром, богато отделанный собольим мехом — перекроили и перешили, и теперь он сидел на мне безукоризненно. Я безмерно гордилась этим платьем и носила его с очень надменным видом, стараясь двигаться как можно изящнее. Я уже не была никому не известным новичком при дворе, которого можно оттолкнуть локтем, а замечать лишь тогда, когда кому-то так вздумается. И мне больше не давали обычных мелких поручений, даже если услужить нужно было самой королеве. С такой женщиной, как я, приходилось считаться.
— Ты забыла, где твое место, — холодно обронила однажды Изабелла.
Да, забыла, причем совершенно, отметила я про себя самодовольно. На Изабеллу же я лишь молча взглянула, с дерзким вызовом в глазах, и умница принцесса не стала углубляться в эту тему. Меня, любовницу короля и любимицу королевы, никто не смел обидеть. Свою маленькую битву я выиграла: ни одна фрейлина впредь не посмеет проявить ко мне явную неучтивость. Они вольны презирать меня, они могут мечтать о том, чтобы я впала в немилость и была удалена от двора, но задевать меня они не смеют. И этим обстоятельством я гордилась ничуть не меньше, чем своим королевским нарядом.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Филиппа снова слегла — вернулись прежние боли, никогда полностью не оставлявшие ее в покое. Я как можно нежнее втирала в ее вздувшуюся кожу свежую мазь.
— Вы грустите, миледи, — заметила я. Даже мелодия лютни не поднимала ей настроения.
— Сегодня я ощущаю на своих плечах груз всех прожитых лет.
Она скучала по Эдуарду. По его обществу, по взгляду, в котором читалась глубокая любовь. В его присутствии она снова становилась молодой, а вот когда его не было, погружалась в меланхолию, и время тянулось для нее невыносимо медленно. Словно подслушав мои мысли, королева вздрогнула и с неожиданным раздражением вырвала у меня свою руку.
— Простите меня, миледи.
— Мне просто нужно все подготовить… — Она покачала головой.
— Подготовить, миледи? — Королева позволила мне зачерпнуть из баночки еще немного мази, приготовленной из листьев и лепестков фиалки, растертых с бараньим жиром. Эта смесь дурно пахла, зато очень помогала уменьшить отеки.
— На случай смерти.
Пальцы мои замерли, потом снова взялись за дело. Я, оказывается, не поняла всей глубины ее печали.
— Какая в этом необходимость?.. — попыталась было я утешить ее.
— Есть необходимость. Нужно изготовить статую — для надгробия.
— У вас впереди еще долгие годы, миледи.
— Увы, нет. И ты это понимаешь. — Я подняла глаза и увидела, что ее взгляд устремлен на меня и требует правдивого ответа. — Ты знаешь это! Не лги мне, Алиса, — прошептала королева. — Уж ты-то можешь сказать правду…
И я сказала ей то, что видела на ее лице, — я была в долгу перед королевой и не могла ее обманывать.
— Знаю, миледи. Вам я не стану лгать, — прошептала я в ответ.
По ее губам скользнула слабая улыбка.
— Я желаю, чтобы статуя была похожа на меня, а не на какую-нибудь пустую придворную красавицу, каковой я уже много лет не являюсь. Если вообще когда-нибудь была такой…
— Об этом мы позаботимся, не беспокойтесь, — сказала я. — Лучше скажите, чем я могу вам помочь.
Филиппа отняла руку и взяла меня за подбородок, повернув мою голову так, чтобы слабый свет из окна падал на лицо. Провела большим пальцем по подбородку. Я не шевелилась, даже кружева на платье почти перестали колыхаться.
— Так, — проговорила Филиппа. Она отдернула руки, словно обожглась, а я встретила ее взгляд со всем бесстрашием, на какое была способна. — Ты стала вся светиться, Алиса. И лицо округлилось, чего раньше не было…
Я молчала. Королева тяжело вздохнула, глаза ее затуманились от наплыва противоречивых чувств.
— Я выносила двенадцать детей, Алиса. Иногда это было мучительно, иногда легко и радостно. Я знаю, как определить беременность. Я не ошибаюсь, так ведь?
— Не ошибаетесь, миледи. — Несмотря на весь свой страх, взгляд я не отвела.
— А он, как я понимаю, еще не знает?
— Да, миледи, не знает.
Просто потому, что я не представляла, как ему об этом сказать. Непрестанно думала об этом уже два месяца, с того самого утра, когда от слабости не удержалась на ногах и меня долго рвало в уборной, а потом я еле-еле поднялась, держась за стенку, потому что колени предательски дрожали. Король, мастер во всех делах, за какие только брался, обрюхатил меня за три месяца, прошедшие после того, как на меня упал, по замыслу Филиппы, его взор.
Теперь я увидела, как мои опасения отражаются в глазах Филиппы. Эдуард очень ценил то мнение, что сложилось о нем по всей Англии: его считали королем, который взращивает в стране семена добра и нравственности; он служил живым примером для подданных. Захочет ли он, чтобы злополучная девушка, которую он почтил своим вниманием, принесла ему в подоле бастарда? Бог свидетель, этого он не захочет. А Филиппа? Будь я законной женой короля, представляю, как бы я отреагировала на любовницу-выскочку, которую на моих глазах разносит с каждым днем, потому что под сердцем у нее зреет плод незаконной связи, да еще и привлекает внимание всего королевского двора. На месте Филиппы я тотчас прогнала бы такую блудницу прочь с моих глаз. Вполне сознавая свою беззащитность, я присела на корточки и ожидала решения, видя, как все мое будущее висит на тонкой ниточке.
Филиппа всмотрелась в меня. Потом заговорила голосом жестким, как тот пест, которым я растирала в ступке нежные лепестки фиалки:
— Ступай уложи вещи. Думаю, настало время тебе покинуть двор.
— Слушаюсь, ваше величество.
Навсегда? Но разве я могла упрекнуть ее за это? Разве ей легко будет жить, когда глаза постоянно мозолит свидетельство того, что муж ей изменяет? Я с трудом проглотила ком, стоявший в горле от сильного волнения.
— Я распоряжусь.
— Как прикажете, миледи.
Невзирая на боль, королева сумела подняться с постели, сдерживая свои чувства, словно надев непроницаемую маску.
— Я уж подумала, ты станешь отказываться.
— Как можно отказаться? — покорно склонила я голову. — Я ваша фрейлина, миледи. Если вы меня прогоняете, я не могу вам возражать.
— Я думала, — скривила губы Филиппа, — ты будешь настаивать на том, чтобы испросить милости Эдуарда. Остаться здесь и родить дитя на глазах изумленного двора. Когда ты собиралась рассказать мне?
— Когда не осталось бы другого выхода, миледи.
— Боялась, что я разгневаюсь?
— Да, — ответила я едва слышно.
Королева вдруг наклонилась, схватила меня за руку и глубоко вонзила в нее ногти.
— Ты не ошиблась. Я вне себя. Мне противно то, что ты натворила! Думаешь, мне приятно смотреть на тебя в таком виде, зная, чем ты занимаешься с моим мужем? Иногда ты и сама мне противна, Алиса! Святая Дева! Лучше бы ты никогда не попадалась мне на глаза… — Грудь ее тяжело вздымалась; она попыталась заставить себя изобразить намек на улыбку, но ничего из этого, конечно, не вышло. — И что самое противное — я не могу тебя упрекнуть по-настоящему, все свершилось по моему собственному наущению. — Она отпустила мою руку и отвернулась. — Ступай прочь. Видеть тебя не желаю.
С этим королева отправила меня из своих покоев.
— Вы сообщите королю, когда я уже уеду, миледи? — спросила я уже в дверях.
— Я сообщу все, что ему следует знать.
Я вышла из опочивальни королевы; расцарапанная до крови рука сильно болела.
На следующее утро, с первыми лучами зари, я уехала из Хейверинга. На парадном дворе не было ни души, никто не простился со мной, никто не помог устроиться в предоставленных мне дорожных носилках. Отъезд оказался таким же тихим и никому не заметным, как и мое прибытие сюда. Но тогда рядом был хотя бы Уикхем. А сейчас он находился в Виндзоре, Эдуард — в Элтхеме[45], и ни один из них не ведал о принятом королевой решении. Сама королева, должно быть, молилась в часовне. Никто меня не видел. Если бы о моем отъезде знала Изабелла, она плюнула бы мне вслед.
Вот и настал конец. Всему. Я изгнана из дворца с королевским бастардом во чреве, ничего не имея, кроме уложенной в седельные сумки одежды. Чем дальше мы отъезжали, тем в более мрачном свете рисовалось мне будущее. Уверенности не было ни в чем. Особенно в том, что скажет Эдуард, когда узнает о моем отсутствии и о причине, которая сделала отъезд необходимым.
Мысли поплыли в другом направлении. Куда меня везут? Мне об этом ничего не сказали, а я слишком сильно растерялась от столь внезапного и решительного поворота в судьбе, чтобы расспрашивать. В аббатство? Эта мысль потрясла, словно ушат ледяной воды, окатившей меня с головы до пят.
«Только не это! Туда я не поеду. Только бы не оказаться снова там!»
Но куда в таком случае мне направить стопы? Никакого пристанища у меня ведь не было.
Я уже привыкла к мысли о том, что мне в жизни повезло раз и навсегда, но в продолжение этого путешествия была вынуждена взглянуть правде в глаза. Как ужасно я зависела от семейки Плантагенетов — гордой, беспощадной, изощренной в интригах. Теперь, когда я носила дитя под сердцем, я для них стала всего лишь помехой, которую следовало устранить. И я была не в силах ничего изменить — только ожидать, как они решат мое будущее.
Час проходил за часом, а в моей душе нарастали страх и негодование из-за того, что я бессильна что-либо сделать для себя самой и для того младенца, который вдруг стал мне очень дорог. Я вспомнила о Гризли. Нужно написать ему в таверну «Кафтан» — пусть выделит какие-нибудь деньги, чтобы я могла оплатить крышу над головой. Но когда стал клониться к концу второй день пути, когда вдоль окрашенной осенним солнцем в золото дороги легли длинные тени, испятнав собою шкуры лошадей, я сообразила наконец: мы уже заехали слишком далеко, чтобы оказаться в аббатстве. Мне достало ума взглянуть на солнце — наш путь лежал на запад.
Начальник сопровождавшей меня охраны что-то выкрикнул, и копыта коней застучали медленнее. Одолеваемая любопытством, я раздвинула занавески, не пугаясь осеннего холода, и впервые увидела дом, в котором мне отныне предстояло жить.
Помещичья усадьба. Последние лучи заходящего солнца осветили небольшой дом, сложенный из камня, ворота, ведущие на парадный двор, широко распахнутые ворота конюшни, и мы с моей маленькой свитой въехали в усадьбу. На крыльце выстроились мои новые домочадцы: дворецкий, экономка, сбоку от них — две горничные, быстро сделавшие реверанс, а из конюшни появился конюх. В ту ночь меня приветливо принял в свои объятия, словно укутал мягким и теплым бархатным плащом, Ардингтон — как я вскоре узнала, одно из личных поместий Эдуарда.
Я была недовольна. Несмотря на все удобства сельского убежища, я не могла отдохнуть ни душой, ни телом. По мере того как рос мой живот, настроение падало все сильнее. Мне предоставили кров и все нужное для жизни, даже снабдили кошельком с деньгами, дабы я не чувствовала себя нищенкой, но сколько это продлится? Что будет со мной, когда ребенок появится на свет?
В какой-то мере я ощущала себя узницей. Нет, мою свободу не стесняли, но я не была расположена ею пользоваться. В моей размеренной жизни ничего не происходило. Я не выходила на длительные прогулки, не навещала владельцев соседних усадеб. Мне хватало книг, чтобы дать пишу уму, а иной раз от скуки я садилась за вышивание — уже одно это показывает, как невыносимо мне жилось. Немного занималась я и хозяйством, благо мистрис Лейси — расторопная и очень толковая экономка — терпеливо сносила мои появления на кухне и на сыроварне. А мирок королевского двора казался мне теперь далеким-далеким, как сказочная страна Китай. Не прошло и недели жизни в этом уютном тихом уголке, как я окончательно убедилась, что не создана для монотонной и бедной событиями сельской жизни.
Разумеется, я писала письма. Письмо, адресованное Гризли, по необходимости вышло кратким и требовательным.
Мастер Гризли! Мне срочно необходимы наличные средства. Сколько Вы можете мне прислать?
В ответ я получила столь же краткое и твердое послание.
Полученный доход вышлю Вам на Михайлов день[46], когда закончится сбор урожая. Не рассчитывайте на значительную сумму. Торговля идет вяло, а Ваше имение пока еще не процветает. Советую Вам, мистрис Перрерс, проявить сдержанность в своих желаниях.
Его расчетливость приводила меня в бешенство!
И надо мной темной грозовой тучей нависал вопрос: что я стану делать, когда доброта королевы истощится? Когда вожделение короля утихнет или будет перенесено на другую? Не исключено, что моя преемница уже шагает по коридорам дворца — в объятия Эдуарда. Что тогда будут значить для него я сама и мой ребенок?
Ведь за все это время я не получила ни одной весточки от короля — ни письма, ни подарка. Даже преподобный Уикхем не приехал помолиться о моей грешной душе. Глухое молчание. Мне казалось, я не смогу простить его Эдуарду.
Сына я родила весьма легко, ибо крепкое молодое тело без напряжения переносило боль. Я спокойно сидела на кухне и, за неимением лучшего занятия, помогала мистрис Лейси отрывать ягоды терновника от колючих веточек, и вдруг начали отходить воды. Мистрис Лейси помогла мне подняться в мою спальню, послала за местной повитухой, которая объявила, что я слишком тороплива, и в тот же самый день я уже обнимала новорожденного.
Каким сильным оказался сынок — легкие у него работали, что твои кузнечные мехи, пока я не поднесла его к своей груди (в те давние дни я сама кормила дитя)! Я с удивлением, как на чудо, смотрела, как он поглощает мое молоко. Волосики у него были светленькие, но никакого сходства с Эдуардом я не нашла. Щечки — круглые, как яблочки, а носик вовсе не напоминал соколиный клюв. Ну, может быть, со временем у него появятся красивые, тонкие черты Эдуарда. Я искренне молилась о том, чтобы невинное дитя оказалось привлекательнее, чем я сама.
— Ты станешь рыцарем и прославленным воином, — пообещала я ему, но он насытился и тут же уснул, положив головку на мою руку.
Я любила его. Это был мой сын. Он всецело зависел от меня, и я его любила. Но он был и сыном короля. Я понимала, что обязана сделать, независимо от грозящих последствий.
Отыскала перо, которым давненько не пользовалась, и взялась за письмо. Перо нерешительно зависло над пергаментом. Эдуарду или Филиппе? Напишу Филиппе как мать матери, хотя на самом деле это обращение просительницы к королеве. Перо по-прежнему висело в воздухе, отказываясь мне повиноваться.
«Сообщите королю. Можно ли мне вернуться ко двору? Что думает король о своей пропавшей возлюбленной и ее бастарде?»
Разумеется, ничего подобного на пергаменте я не вывела. Я балансировала на грани разумной осторожности и неуместного лаконизма.
Ваше Величество!
Я в добром здравии, ребенок родился. Сын. Я назвала его Джоном.
Ваша служанка
Алиса
Вот и все, что необходимо было написать. Теперь оставалось только сидеть и ждать, убеждаясь в том, что терпение к числу моих достоинств не относится. Пресвятая Дева, спаси меня от прозябания в одиночестве и затворничестве! В часы самого мрачного настроения я воображала, как королева со злорадством предает мое письмо огню.
Спас меня Эдуард, когда я уже отчаялась ждать. Эдуард, верхом на знакомом мне гнедом скакуне, показался под аркой конюшенного двора; солнце позолотило его лицо и обнаженную голову, а позади короля гарцевали на конях, сверкая сталью мечей и доспехов, воины с эмблемами королевской свиты. Сколько же месяцев я его не видела? Шесть, кажется. Полгода разлуки. В тот раз я критически оценивала его не очень-то дружелюбным взглядом, и мне показалось, что он постарел — в уголках рта и под глазами морщины стали гуще, запавшие щеки придавали ему более суровый вид, резче подчеркивая острый орлиный нос.
Потом он заметил меня в садике, за которым заботливо ухаживала мистрис Лейси, улыбнулся, и я подумала, что все-таки ошиблась в своих умозаключениях. Легко, с неизменным изяществом спрыгнув с коня, Эдуард направился по траве ко мне — стремительно, как и прежде.
Я не сделала ему реверанс. Не улыбнулась.
— Алиса! Милая моя девочка! У тебя такой вид… — Он не закончил фразу и громко расхохотался; стая потревоженных черных дроздов мигом взлетела с ветвей. Хотя я стояла неподвижно как статуя, он обнял меня за плечи, поцеловал в щеки, в губы. Он не замечал, как я сердита.
— Так какой у меня вид? — резко спросила я, как только он оторвался от меня. Я и сама знала какой. Здесь я совершенно за собой не следила. На мне было старенькое платье, юбки подоткнуты, рукава закатаны до локтей, даже голова ничем не покрыта.
— Непотребный! — ответил он не задумываясь. — Ты похожа на крестьянскую девку, у которой ни гроша за душой.
— А я и есть крестьянская девка.
— А вот и твой сын. — Он отпустил меня и с замечательной уверенностью подхватил ребенка.
— Он и ваш сын. Я назвала его Джоном, — сообщила я, ни на йоту не смягчившись.
— Хорошее имя. Лучшего и не придумаешь. Отличное имя для такого крошечного, беспомощного существа. Он ведь не крупнее, чем щенки моих алаунтов. — Эдуард высоко поднял малыша, и Джон перестал хныкать, попискивая от неожиданного удовольствия. — Вижу, нос у него наш, Плантагенетов.
— Я этого не нахожу.
— Ну тогда присмотрись повнимательнее! — Эдуард опустил сына и осторожно положил его в люльку у моих ног. Гордо вскинул голову. Не так он был глуп, чтобы не заметить моего настроения. — А что вас так рассердило, мистрис Алиса? Ты ведь злишься, словно попавшая в капкан белка.
— И ничего я не злюсь! — То, как он обрадовался малышу, растрогало меня, но я не желала этого показывать.
Король окинул меня взглядом, явно размышляя, как ему дальше держаться с рассерженной женщиной. Потом поправил упавший мне на лоб локон, отряхнул комья земли, прилипшие к рукаву. И широко улыбнулся.
— Не нужно мне улыбаться!
— Это еще почему? — Однако после этого он заговорил серьезнее: — Я понимаю, какая вожжа попала вам под хвост, сударыня. Тебе казалось, что я должен был приехать гораздо раньше. Вот в этом и все дело, — добавил он, не дав мне рта открыть: я как раз собиралась отвергнуть столь вздорное обвинение. Пришлось согласиться с ним.
— Да. Сколько месяцев прошло, Эдуард?
— Очень много. Но послушай, что я скажу. Да посмотри же на меня. — Он потянул меня за рукав, чтобы я не отвлекалась. — Тебе придется согласиться с тем, что мне приходится думать не только о тебе, и не всегда в первую очередь о тебе. Я знал, что тебе ничто не грозит, что о тебе заботятся как положено. Знал, что ты и твой сын здоровы, что у вас всего в достатке.
Но мне не хотелось с этим соглашаться.
— Отчего же вы не приезжали?
Он подвел меня к поросшей травой лужайке, усадил, сам сел рядышком.
— Главным образом оттого, что умер король Франции. — Эдуард наклонился вперед, обхватив руками колени и разглядывая мягкую зеленую траву.
Кое-что я слышала об этом еще тогда, когда находилась при дворе: король Иоанн Французский, разбитый в сражении, содержался в плену до тех пор, пока оскудевшее королевство не сможет выплатить за него выкуп. Человек чести, мужественно державшийся в ожидании свободы[47].
— В марте он захворал, — объяснил мне Эдуард, — а месяц спустя скончался. Его тело я вернул французам. Сын его, теперь король Карл, не расположен соблюдать условия заключенного нами в Бретиньи перемирия. А это означает продолжение войны, Господи сохрани нас и помилуй! Я веду переговоры о союзе с кастильским королем Педро[48] — думаю, без него нам не обойтись. Пока войны нет, но грозовые тучи уже собираются, и я не могу… — Он остановился. Мне пришло в голову, что я в первый раз вижу, как ему не хватает уверенности. Он нахмурился, на лбу собрались складки. Потом Эдуард повернулся снова ко мне. — Я король, Алиса. Я не могу ставить тебя превыше своего долга. Моя обязанность — заботиться о благе Англии. Но вот я приехал сюда, потому что мне необходимо было взглянуть на тебя, и я уже не в силах был откладывать.
Моя холодная злость растаяла. Он ни за что не извинялся, просто объяснил все так, что я смогла понять. Я взяла его за руку.
— Вы останетесь? — спросила я.
— Не могу.
— А что мешает на этот раз?
— Да то же, что и всегда. Я созвал парламент[49]. Необходимо, чтобы у принца Уэльского в Аквитании было достаточно средств для осуществления внешней политики. Совершенно необходимо… — Я увидела, как между бровей у него залегла глубокая складка тревоги. — Чтобы приехать сюда, я сделал невозможное!
— Вероятно, я должна вас простить, тем более что по своему значению я не могу соперничать с целой Англией!
Эдуард выпрямился и прижался губами к моим волосам. Я чувствовала, что он улыбается. Конечно, он король. Думая только о себе, я слишком далеко зашла в своих обидах, а теперь, с удовольствием видя его снова, простила все. Как можно было не простить?
— Но у вас найдется время хотя бы на то, чтобы выпить кружечку эля? — нежным голосом спросила я и коснулась его щеки.
— Есть время и на это, и на то, чтобы получить поцелуй от женщины, которая перестала смотреть на меня с испугом, как будто я прокаженный. Да, и позволь мне еще раз взглянуть на моего сына.
Не больше часа мы провели вместе, устроившись в саду, среди благоухающих растений и гудящих пчел. Потом король снова вскочил в седло, свита выстроилась за ним в походный порядок, но для меня один вопрос еще оставался неясным. Эдуард умышленно предпочел не поднимать этот вопрос? А мне нужно знать…
— Вернут ли меня ко двору, государь? Желает ли королева, чтобы я снова служила ей как domicella?
— А ты в этом сомневаешься? — Он бросил на меня веселый взгляд. Даже не думала, что он так хорошо понимает мои тревоги.
— Да, — призналась я.
— Она желает твоего возвращения, Алиса. Она скучала по тебе.
Или, может быть, Эдуард просто навязал ей свою волю?
— Когда же? — уточнила я. — Когда вы позовете меня?
В глазах Эдуарда блеснули молнии, сдерживаемый гнев прорвался наружу.
— Когда Палата общин перестанет тявкать на меня из-за того, что цены растут. С таким же успехом они могут принимать законы, повелевающие приливу остановиться. Мы пытаемся определить в законе, что можно и чего нельзя носить людям знатным и простолюдинам[50] — кому меха, кому какую вышивку, — и должны ли общины!.. — Он оборвал фразу, не закончив, — его снедало нетерпение, он кипел от досады.
— А что будет с Джоном? — спросила я как можно ласковее. — Какую одежду новые законы разрешают носить бастарду, пусть и королевскому? — Я понимала, что шутка прозвучала мрачновато, но какой женщине понравится, если ее отодвигают в сторону ради обсуждения законов о доходах и расходах? Как я и рассчитывала, раздражение Эдуарда улеглось.
— Бог свидетель, Алиса, мне так не хватает тебя! Пока тебя не было рядом, я разучился смеяться.
Я протянула руку и погладила морщинки у него под глазами, жалея, что они вообще появились.
— А я скучаю оттого, что лишена возможности вас рассмешить.
— Главное — не сомневайся в том, что я хочу снова видеть тебя при дворе.
И с тем он ускакал, оставив меня наедине с тревожными думами. И тревожило меня не столько мое собственное положение (на мой взгляд, еще далеко не такое радужное), сколько те события, которые доставляли так много тяжких забот королю.
Ко двору я вернулась так же тихо и незаметно, как покидала его. Кто же первым встретился мне на пути, кто не мог не воспользоваться возможностью поставить меня на место, если я вдруг возымела вздорные мысли о своем двусмысленном положении при королевской семье? Разумеется, Изабелла, которая как раз проходила через парадный двор, направляясь из часовни в Большой зал. Она была все такой же ослепительно красивой и такой же насмешливо-капризной, какой я ее помнила. И все такой же расточительной: одного ее платья и сверкавшего на шее ожерелья вполне хватило бы на выкуп короля Иоанна, будь он еще жив, из английского плена. Да, она совершенно не изменилась. За время моего отсутствия никому не удалось обручиться с ней и повести к алтарю. Жаль.
Она круто изменила курс, словно идущий под всеми парусами боевой корабль из флота Эдуарда, и загородила мне дорогу, когда я начала подниматься по лестнице.
— Значит, ты вернулась к нам.
Губы ее презрительно скривились. Я поднялась еще на несколько ступенек, потом сделала реверанс. Красивый. Ступеньки позволяли мне возвышаться над принцессой.
— Мы не скучали по тебе. — Она смерила меня взглядом. — А ты не похорошела ничуть, разве что фигура, кажется, стала получше.
Язвительная улыбка, высокомерный взгляд. Сопровождавшие ее дамы — несколько фрейлин королевы — не пытались скрыть злорадства, как и негодования из-за самого факта моего возвращения. Вот так бы я и жила, будь на то воля Изабеллы, — под градом насмешек, издевательств и презрения, но за время отсутствия, особенно же после приезда ко мне Эдуарда, я значительно осмелела. Я чувствовала себя сильной и не собиралась поддаваться на провокации. Стояла не двигаясь, спокойно ожидая, что будет дальше. Иногда сила выражается как раз в молчании.
— Нечего сказать, мистрис Перрерс? — проворковала Изабелла. — Это на вас совсем не похоже! А где ваш бастард? Он хоть похож на моего отца? Или на одного из поварят?
Она объявила мне войну. Сумела все же меня спровоцировать.
— О вашем брате, миледи, заботятся должным образом. В Ардингтоне, в имении его величества. — Мне пришлось оставить Джона там. Это было нелегко, но необходимо, а Эдуард обеспечил ему отдельный штат слуг, няню и гувернантку. Малыш ни в чем не будет нуждаться. Я его поцеловала и пообещала никогда не забывать. А сейчас гордо вскинула голову, пользуясь тем, что и стояла выше принцессы. — Он вылитый Плантагенет. Его величеству малыш очень понравился.
Изабелла сердито раздула ноздри. Фрейлины дружно затаили дыхание.
— Все важничаете и заноситесь, мистрис Перрерс. Как вы тщеславны! На что же рассчитываете? На титул? На брак с богачом, в дополнение к щедротам моего отца, которым он мог бы найти лучшее применение?
Тут я ответила без промедления. О, теперь я была куда как уверена в своих силах!
— Я ни на что не рассчитываю, кроме уважения за свою верную службу, миледи.
От гнева она раскраснелась, а самоцветы так и сверкали при каждом резком вдохе. Изабелла открыла рот и уж было собралась обрушить на меня град обвинений, но нам помешали: со стороны конюшен появилось несколько придворных. Джентльмены поклонились нам, громогласно обсуждая подробности удачной и увлекательной охоты. Я услышала, как Изабелла резко втянула носом воздух. Увидела, как она вся напряглась, обратив все внимание на охотников. Выражение лица смягчилось, на устах заиграла улыбка. С понятным любопытством я вгляделась пристальнее в этих джентльменов, стремясь угадать, кто из них удостоился восторгов непостоянной принцессы. Впрочем, кто бы он ни был, я сомневалась, что дело зайдет дальше обычного придворного флирта. Чтобы обуздать Изабеллу, понадобится человек незаурядной силы воли. Разве не отказала она многочисленным претендентам на ее руку — множеству принцев из разных европейских стран? Среди этих же джентльменов я ни на одном лице не увидела ответной улыбки: они еще не остыли после недавней охоты. Придворные удалились, фрейлины последовали за ними.
— Иисусе! Какой он красивый! — Изабелла позабыла, к кому обращается. Глазами она провожала удаляющиеся фигуры.
— Кто?
— Он!
У самых дверей один из рыцарей оглянулся на нас через плечо и, ограничившись кивком, тотчас последовал за остальными. Он был действительно красив и показался мне совсем юным.
— Мне он незнаком.
— Тебе-то он откуда может быть знаком? — Изабелла злобно сверкнула глазами — вспомнила, кто стоит рядом с ней. — Ты бы лучше шла к королеве, напомнила ей о себе. После твоего отъезда она взяла себе новую фрейлину. Возможно, окажется, что ты вовсе не такая незаменимая, какой воображаешь себя. Поосмотрительнее, мистрис Перрерс!
— Я всегда очень осмотрительна, миледи.
Но удар ее попал в цель, страхи мои ожили с новой силой. Достаточно королевской прихоти, и я вместе с сыном буду низвергнута в пучину нищеты. Я была не в силах забыть, как сиживала в гостиной Ардингтонского королевского поместья и гадала, что будет со мной завтра, что будет через неделю. Я была никем и ничем, а полагаться могла лишь на добрую волю своего любовника и его законной жены.
Изабелла ушла быстрым шагом, а я нагнала фрейлин, от которых услышала, кто же так увлек принцессу. Ангерран де Куси[51], один из тех рыцарей, что прибыли в Англию в свите злосчастного французского короля Иоанна. Ангерран остался здесь и после смерти своего господина, не уверенный, что его хорошо примут на родной земле. Был ли он достойной партией для дочери Эдуарда? Мне это казалось сомнительным. Но если она пойдет за него, а де Куси сумеет все же возвратиться во Францию и заберет жену с собой…
Я горячо помолилась о том, чтобы Изабелла преуспела в своих сердечных делах.
Королева сидела в светлице, отложив незаконченную вышивку. Не в силах посмотреть ей в глаза, я опустилась на колени. Меня встретило молчание, гнетущее, наполняющее меня тяжкими предчувствиями.
— Алиса.
— Да, миледи. — По ее голосу я не сумела ничего понять. Вышивка соскользнула на пол. От волнения я непроизвольно сжала кулаки.
— Ты возвратилась.
— Да, миледи. — Колени начали подрагивать, но я напряглась изо всех сил, чтобы не проявить слабости.
— А где ребенок? — Голос прозвучал хрипло, напомнив о том, как она прогоняла меня из дворца.
— В Ардингтоне, миледи.
Неожиданно Филиппа протянула руки и погладила меня по щекам.
— Посмотри на меня! Ах, как давно мне хотелось тебя увидеть, Алиса!
Я увидела ее лицо, на котором блестели серебром дорожки от слез.
— Миледи… — Меня потрясло столь глубокое проявление чувств.
— Прости меня, — прошептала королева. — Я была жестока к тебе. Я понимаю это… И ты ни в чем не виновата, но я просто не могла… — Объяснения утонули в нахлынувших переживаниях, каких не выразить словами. — Но ты ведь понимаешь меня, правда? Понимаешь, как невероятно трудно мне было призвать тебя сюда снова… И все же я скучала по тебе… У меня сердце разрывается на части… — Слезы хлынули из ее глаз ручьями.
— Понимаю, миледи.
Конечно же, я все понимала и могла позволить себе быть великодушной. Понимала каждую мелочь в том клубке, который сплел воедино нас троих, где каждый из нас был верен и не верен двум другим, где у каждого были поводы для ревности и глубоких огорчений. С того дня, когда Эдуард навестил меня в Ардингтоне, многое стало мне более понятным. И еще понятнее — за последний час, когда развеялись все мои опасения. Правда заключалась в том, что я стала неуязвима. Выпады Изабеллы не могли причинить мне вреда, потому что сделать мне что-нибудь она была бессильна. Теперь даже Филиппа не могла прогнать меня прочь, если уж сам Эдуард потребовал, чтобы я вернулась. В глубине души я торжествовала и одновременно стыдилась этого под градом слез, катившихся из глаз королевы. Она не заслуживала таких страданий, но ведь я не была повинна в них с самого начала. Мы все знали, на что идем, разве нет?
Я покрыла поцелуями сильно отекшие пальцы королевы, подняла с пола вышивку и вытерла ей слезы, как и положено хорошей domicella. За то время, что меня здесь не было, она постарела, но все же сумела выдавить слабую улыбку, из-за которой испытываемое мною чувство вины разгорелось жарким пламенем. Добрая, страдающая Филиппа поцеловала меня в щеку, расспросила о малыше, подарила расшитый наряд для него, а мне самой преподнесла отрез алого шелка на новое платье.
Так я снова тихонько проскользнула на свое место в свите Филиппы — легко и без помех, как форель в котелок, где варится уха. Трудно было удержаться и не показать врагам моего торжества над ними, однако я отнюдь не была дурой и отлично видела не только лицевую, но и оборотную сторону этой монеты: меня нельзя задевать лишь до тех пор, пока я нужна Эдуарду. Придворные дамы и джентльмены при встречах проявляли сдержанную учтивость — если не присматриваться слишком пристально к тем взглядам, которыми они провожали меня. Не стоило вглядываться в их глаза, горевшие ненавистью — или, быть может, завистью? Вслух никто об этом не говорил (и не заговорит, покуда жив Эдуард), но одна мысль не давала покоя: мое положение упрочилось на многие месяцы, возможно, и на целые годы. А как же быть с моей преданностью Филиппе? Более того — с горячей привязанностью к ней? Я испытывала угрызения совести, когда она на моей груди рыдала о том, что Эдуард ей изменяет. Но разве не она сама все затеяла?
Однако я отбросила все неуместные сомнения, когда осталась наедине с Эдуардом и он заключил меня в свои объятия и поцеловал с жаром, который отличал всех Плантагенетов.
— Мы давно не были вместе, Алиса.
— Но теперь я вернулась к вам.
— И не покинешь меня больше.
— Не покину, если вы сами меня не прогоните.
— Я этого не сделаю. — Ловкие руки с тонкими пальцами расплели мои волосы, потом погладили мои щеки, а на губах короля расцвела улыбка. — Тебя не было слишком долго.
Слишком долго. Я тосковала по нему гораздо сильнее, чем могла предполагать. Когда Эдуард целовал, ласкал, любил меня на своем ложе — это было как бальзам на душу. Я вернулась на свое место.
А Изабелла? Она нас покинула. Взбалмошная Изабелла влюбилась; с де Куси она заигрывала, увивалась вокруг него, умасливала его, тогда как отцовских увещеваний и слышать не желала. Сам де Куси, в котором принцесса души не чаяла, похоже, отнюдь не был убежден, что ему повезло, и с радостью оказался бы сейчас где-нибудь подальше: одно дело — взять в жены английскую принцессу, совсем другое — иметь дело с Изабеллой и ее грозным родителем.
— Слишком он молод, слишком малозаметен, — сказал Эдуард, когда дочь в первый раз обратилась к нему с просьбой дать согласие на этот брак.
— Ну почему ты не сделаешь хоть что-то полезное! — не глядя на меня, пробормотала Изабелла, когда мы оказались наедине. — Ты пользуешься телом моего отца — так, наверное, он и ухо к твоим словам преклонит! Ну уговори же его, ради всего святого!
Мне доставило удовольствие отказать ей с безукоризненной учтивостью — просто чтобы взъерошить ее королевские перышки.
— Боюсь, это не в моей власти, миледи.
Вне зависимости от моего вмешательства, король принимал решения самостоятельно. Принял и на этот раз. Признав свое поражение, Эдуард обуздал чувства и пожаловал де Куси титул герцога Бедфорда[52], наградил его орденом Подвязки[53], чтобы сильнее привязать к интересам Англии, а про себя пожелал французу, чтобы жена его стала не такой строптивой. Обвенчали их в приносящем удачу месяце июле, в Виндзорском замке, со всей пышностью и блеском, на какие только смог раскошелиться король под уговорами дочери. А в начале ноября они уже оказались во Франции.
— Надеюсь, в следующий свой приезд я тебя здесь не застану. — Замужество нисколько не умерило язвительности Изабеллы.
— Я не стала бы ставить на этот шанс великолепный свадебный подарок Эдуарда! — Неуверенность в своем будущем я привыкла отменно маскировать, а если приходилось, то и просто держала пари.
— И я не стану, — выдавила Изабелла жалкое подобие усмешки. — Как бы ни был уверен, нельзя рисковать пожизненной рентой и поистине королевским приданым в самоцветах! А мне, наверное, даже будет не хватать твоего острого язычка, Алиса Перрерс!
Ну-ну. Она хотела сделать мне комплимент?
— Я стану молиться о том, чтобы ты не родила новых бастардов, — добавила принцесса.
Да, последняя шутка была далека от дружелюбия, однако и я, возможно, стану скучать по принцессе. К этому я пришла ближе к концу года. С ее отъездом двору стало недоставать живости, и ради Филиппы с Эдуардом я собрала все свои силы, чтобы раздуть этот тлеющий огонек.
Год 1366-й. Его события нельзя позабыть или пересказать в спешке. Суровая зима, на удивление суровая, принесла много страданий, тревог и горестей и королевскому двору, и простым людям, а для меня стала поворотным пунктом в отношениях с Эдуардом. Сильные морозы заставили нас дрожать от холода с сентября по апрель, почти не давая возможности Эдуарду устроить охоту и навевая на него необычно тоскливое настроение. У Филиппы суставы болели так, что терпеть не было никаких сил, а потому она не вставала с постели. Шли дни, и мысль о смерти занимала ее все сильнее и сильнее. Это грустное настроение могла бы отчасти развеять живым лучиком Изабелла, но она была теперь во Франции, готовилась стать матерью. Эдуард, сам погрузившийся в меланхолию, мало чем мог помочь супруге.
На протяжении всех этих трудных месяцев я делала все, что только могла, лишь бы отвлечь Эдуарда от его мрачных дум. Не хочет ли он почитать? Не хочет. Может быть, я ему почитаю? Не нужно. Сыграем в шахматы? Или соберем девять мужчин и подурачимся, танцуя моррис[54]? Если опасно выводить лошадей на покрытые льдом просторы, не лучше ли пройтись пешком вдоль реки с соколами? А может быть, он согласится надеть коньки и поразмяться на льду Темзы, как делают его придворные, обреченные не покидать стен дворца?
— Пойдемте поиграем, — сказала я с улыбкой, надеясь вовлечь его в какие-нибудь невинные забавы, когда проглянуло солнышко. — Можно же слегка отвлечься от документов и уделить немного времени мне.
— Поди прочь, Алиса! — прорычал он. — У меня слишком много забот, чтобы читать книги или кататься на коньках!
Я и пошла. Понимала, что потерпела поражение. Я училась кататься на коньках, смеясь от радости. Я была еще молода, меня будоражили скорость и свобода, пусть я и падала иногда.
В самые холодные дни я заманивала Эдуарда в постель, но возбудить его мне не удавалось. Да, он целовал меня, но его мужественность упорно отвергала соблазн — слишком далеко от меня витали его думы. Я обняла его и стала читать легенды о короле Артуре, пока он не захлопнул книгу, не желая слушать дальше о доблестных рыцарях с волшебными мечами. Встал и пошел требовать от Уикхема отчета о том, как подвигается новое строительство. Но даже это сделал без большого желания.
Я не обижалась и ни в чем его не винила. Разве он не преподал мне урок, объяснив, что я не всегда стою у него на первом месте, потому что на его плечах лежит тяжкий груз ответственности за всю страну? А у короля было достаточно оснований для мрачных дум, окутывавших его, будто саваном. У меня душа болела за него, ибо принц Эдуард, его покрытый славой сын и наследник престола, герцог Аквитанский, убедил отца выделить средства на военную кампанию с целью восстановления на престоле Педро Кастильского[55], свергнутого своими подданными. В разгар зимы это было рискованно, как честно предупредил Эдуарда Уикхем, считавший такое вторжение серьезной ошибкой. Но Эдуард, подобно своему далекому предку, не мог упустить возможность снова стать завоевателем[56]. Он протолкнул через парламент ассигнования на нужды войны, собрал войско и вручил командование другому своему воинственному сыну, Джону Гонту. Тот вместе с выступившим из Аквитании принцем Уэльским должен был раз и навсегда решить вопрос о кастильском наследстве и принести Англии новую славу.
— О чем ты думаешь, Алиса? — обратился ко мне Эдуард, когда я сидела у его ног перед камином в опочивальне; не уверена, что мои мысли так уж его интересовали. Он мрачно прихлебывал эль из кружки, и мне захотелось чем-нибудь взбодрить его.
— Я думаю, что вы — самый могучий король во всем христианском мире.
— Одержит Англия победу?
— Несомненно.
— И меня по-прежнему будут считать тем, кто держит в своей руке всю власть над Европой?
Он поднял руку и с силой сжал ее в кулак. В ту ночь прожитые годы давили на него особенно сильно. В отсветах камина было видно, что бледное золото его волос уже почти не заметно под густо усыпавшей их сединой.
— Не сомневаюсь, что так и будет.
— Ты подходишь мне, Алиса, — улыбнулся король.
Я взяла его мощный кулак, разжала пальцы и перецеловала их, отчетливо сознавая все свои недостатки и необразованность, которые не позволяли мне стать ему хорошим советчиком. Что знала я о положении в английских владениях на континенте? Почти ничего, хотя в следующие несколько недель нам всем предстояло узнать об этом. Королю надо было прислушаться к Уикхему.
Экспедиционный корпус, пострадав от бурь, штормов и нехватки продовольствия, уменьшился в пять раз, не захватив при этом ни пленников[57], ни добычи. Эдуард, меряя шагами то спальню, то залы Хейверинга, никак не мог повлиять на события, мог только полагаться на своих сыновей, которым предстояло отстоять интересы Англии. Эта вынужденная бездеятельность угнетала его и днем, и ночью. Отчего же он сам не отправился в поход, как в былые времена? Оттого, что чувствовал, как слабеет. Будущее принадлежало сыновьям, и его это больно задевало, ибо он предчувствовал угасание своих жизненных сил. И я, как ни старалась, так и не сумела в ту зиму залечить его глубокие душевные раны.
Что же касается власти Англии над Ирландией, то эта власть, казалось, все глубже увязала в тамошних трясинах. Лайонел, сын Эдуарда, отчаянно пытался отыскать разумное решение проблем, что было совершенно невозможно, и Эдуард яростно поносил неспособность сына к управлению.
Филиппа рыдала от отчаяния.
А я? Как обстояли мои дела? Удалось ли нам с Эдуардом выбраться из черной трясины отчаяния? Пресвятая Дева! Я балансировала на лезвии ножа, рискуя лишиться всего на свете. В наших отношениях наступил кризис, который в конечном итоге (буду откровенна) я вызвала сама, совершенно обдуманно.
Не вынеся холода, царившего в комнатах Хейверинга, Эдуард в порыве раздражения ускакал незадолго до Рождества в Элтхем. По настоянию Филиппы мы всем двором двинулись за ним, чтобы быть там, где находится Эдуард.
— Вы сами убедитесь, — нервно говорила она, наблюдая, как все вокруг суетятся, укладывают ее вещи, и заранее сжимая зубы в предвидении мук, ожидающих ее в дорожных носилках, несмотря на обилие мягких подушек. — В Элтхеме места больше. Здесь он чувствует себя как в клетке. А к тому же скоро должны прийти добрые вести из Гаскони. Мы не можем покинуть короля в такую минуту. В одиночестве ему будет тяжело.
Но и в просторных помещениях Элтхема, несмотря на все недавно спланированные сады и только что насаженные виноградники — которыми Эдуард особенно гордился, — хандра досаждала ему не меньше, чем в Хейверинге. Он метался по залам и приемным, злясь на всех, кроме Филиппы: настаивал на том, чтобы спустить гончих, пусть земля и промерзла насквозь, покрикивал на замешкавшихся конюхов, которые не могли закоченевшими пальцами справиться с холодной кожаной упряжью. На меня он тоже накричал.
— Езжай со мной, — резко бросил Эдуард. — Я хочу, чтобы ты была рядом!
Дрожа от холода у входа в конюшню, я вынуждена была ожидать, пока он выслушает донесение только что прибывшего гонца. Всего неделю назад он подарил мне соболью шубу, укрыв ею в редкий момент веселья мое обнаженное тело. Шуба и сейчас была на мне, но на таком пронизывающем холодном ветру мне казалось, что я одета в легчайшее шелковое платьице.
— Ну, вперед! — скомандовал он, обуздывая раздражение, словно свору гончих на коротком поводке. — Чего ты ждешь?
— Ее величеству нездоровится, милорд. Мне надо бы остаться при ней. — Это не было даже предлогом: после переезда в Элтхем суставы у нее разболелись с новой силой. Она уже забыла, когда могла уснуть без макового отвара.
— Мы вернемся еще до полудня.
— Иисусе! Сегодня же так холодно, — проговорила я.
— Тогда можешь не ехать. Не стану тебя принуждать. — Он взлетел в седло. Привезенное гонцом сообщение не добавило ему радости.
Несколько мгновений я раздумывала, не предоставить ли Эдуарда его мрачной раздражительности и дурному настроению. Потом все же отправилась на охоту — из какого-то чувства противоречия. Конечно, позднее я об этом пожалела, вернувшись назад с промокшим подолом, стынущими ногами и забрызганными грязью юбками. От холода, кажется, даже кровь еле-еле струилась по жилам. Да и толку от охоты не было никакого: все звери попрятались в норы и логова, собакам так и не удалось ни одного поднять. Промерзли мы до костей, а настроение Эдуарда ничуть не улучшилось.
У меня тоже. За все время он не перемолвился со мною и словом, разве что велел держаться изо всех сил, ради Бога: это когда он понесся во весь опор по следу, оказавшемуся столь же призрачным, как и надежды короля на удачу. Мы возвратились во дворец, препоручили разгоряченных лошадей конюхам, и я потащилась за Эдуардом, который на ходу сорвал с себя перчатки, сбросил шапку и тяжелый плащ, кинул все это мне на руки и прошагал по Большому залу, словно я была его камердинером. Даже не взглянув на меня, он без всякой учтивости махнул рукой, повелевая следовать за ним.
Кровь вскипела во мне от возмущения, и в то же время меня охватило острое отчаяние, ибо я чувствовала, что Эдуард теряет ко мне интерес, теряет уважение. Я застыла на месте, глядя, как он удаляется, меня охватил приступ тошноты, такой сильный, что пришлось напрячь все силы, сопротивляясь ему. Что же, я для него не больше чем служанка, которая обязана принести, подать — молча угадывать и исполнять любое желание? Если так, то я катастрофически теряю свое положение при дворе. Коль я ему больше не нужна, сумею ли выдержать возвращение к роли простой фрейлины, смогу ли зажмуриться и не видеть, как злорадствует весь двор? Нет! Не бывать этому! Мысль о том, что я буду отвергнута, а мое место на ложе Эдуарда займет другая, молнией полыхнула в мозгу; я вся похолодела, ясно представив то, что меня ожидает: придется покинуть двор, оставшись без защиты и какого бы то ни было влияния. Этого я стерпеть не могла — утратить все, чего удалось достичь с того дня, когда я впервые переступила порог Хейверинг-Атт-Боуэра.
Усилием воли я поборола приступ тошноты. Такого я не допущу! Не уступлю своего места без борьбы.
Я так и стояла, придерживая руками грязный плащ. Эдуард же, лишь пройдя в конец передней — до лестницы, ведущей в королевские покои, сообразил, что не слышит позади моих шагов. Он замер и резко развернулся. Даже на расстоянии я заметила, как окаменело его лицо.
— Алиса!..
Я не двинулась с места.
— Что с тобой, девушка?
Я быстро обдумала, что ответить. Что в таком положении подсказывает разум. И сразу послала разум ко всем чертям, оставшись стоять на месте.
— Не стой же ты там, я совсем замерз. — Эдуард уже начал подниматься по ступенькам лестницы.
Осторожность я послала туда же, куда и разум.
— Это все, что вы можете мне сказать?
Эдуард остановился, в глазах у него блеснула сталь.
— Я желаю, чтобы ты пошла со мной.
В ту минуту мы были в просторном сводчатом зале совсем одни. Подслушать нас никто не мог. И я заговорила в полный голос, хотя, наверное, не стала бы его умерять, даже если бы вокруг были сотни ушей.
— Не пойду!
— Я хочу вина.
— Вы преспокойно можете налить его себе сами, государь! — крикнула я все тем же срывающимся голосом. — А можете кликнуть кого-нибудь из множества своих пажей или даже простого слугу. Я же этого делать не стану.
Эдуард смотрел на меня, не веря своим ушам. Я и сама не верила, что сумела это произнести. Уже три года я была его любовницей, но никогда еще не позволяла говорить с ним таким категорическим тоном. Впрочем, в том и нужды никогда прежде не возникало. Смотрела, как меняется лицо Эдуарда, какие чувства на нем отражаются по мере того, как до него доходили и смысл моих слов, и тон, которым они были произнесены. Безмерное удивление. Надменность, за которой скрывалась обида. Странная подавленность. Наконец, ярость, от которой он раскраснелся. Я задрожала, и отнюдь не от того, что к ногам липли холодные мокрые юбки.
Верх взяла надменность. Эдуард обратился ко мне тоном ледяным, как мои пальцы:
— Мистрис Перрерс! Я желаю, чтобы вы следовали за мною!
— Нет, государь. — Теперь решимость разгорелась во мне, как пожирающий все на своем пути пожар. — Сперва вы заставили меня ждать, пока ноги мои едва не примерзли к брусчатке двора. Вам было все равно, участвую я в охоте или нет — вы же сами это сказали, после того как заставили меня покинуть королеву. Я сама решила ехать на охоту и сама решаю сейчас. Я не пойду с вами, я пойду прислуживать королеве.
Кровь гулко стучала в висках, я затаила дыхание. То вовсе не была вспышка ребяческой обиды, я рисковала обдуманно, сколь ни опасно было будить спящего льва из семейства Плантагенетов. Я хорошо видела, как он весь вспыхнул от гнева, когда осмыслил мой ответ. Этот ответ заставил короля быстрыми шагами пересечь весь зал и грозно нависнуть надо мной. Пресвятая Дева! В ту минуту он не был Эдуардом — он был королем. Он схватил меня за руку, хотя я и так с трудом удерживала его плащ, и сжал изо всех сил, сам этого не сознавая.
— Черт побери, Алиса!
— Черт побери, Эдуард! — передразнила я его.
Повисло мрачное молчание. Густое, как кровь, страшное, как остро заточенный клинок.
— Ты выполнишь мою волю.
— Только потому, что вы король?
— Разумеется.
Я задрожала сильнее, но взгляд не опустила.
— Кто-нибудь когда-нибудь отказывал вам в чем-нибудь, государь?
— Никогда! Никто! И ты не посмеешь! — Он сжал пальцы еще крепче, но я не дрогнула. — Ты противишься моей власти?
— Вашей власти? — Я гордо вскинула голову, полностью владея собой. — Я никогда не противилась вашей власти, государь, только вашей ужасающей надменности. — Тут я зашипела от боли и закусила губу. — Вы хотите добиться моего повиновения, причиняя мне боль, государь?
— Боль?..
— Пальцы вашего величества причиняют мне сильную боль!
Он сразу ослабил хватку, но руку мою не отпустил.
Если бы мне все еще было семнадцать лет, если бы я снова была новичком при дворе, я подчинилась бы королю, страшась последствий. Но сейчас я была настроена по-иному. Я вела опасную игру, поставив на карту все. Он мог прогнать меня от себя. Мог приказать Филиппе прогнать меня из свиты. Но теперь я была матерью его сына. И уже три года — его любовницей. Теперь я стала взрослой и не думала, что он решится на крайние меры. Мне казалось, что я приобрела кое-какую власть и завоевала уважение со стороны короля.
Ну, сейчас увидим. Я сделала ставку на эту власть и на уважение, стремясь переломить дурное настроение Эдуарда.
— Ты станешь противиться моей воле, женщина? — загремел он. Ни малейшего уважения. Возможно, я ошиблась в своих расчетах.
— Да, когда вы неразумны и неучтивы, государь. Я весь день не была у королевы. Но я ведь ее фрейлина, а не только ваша… — я выдержала маленькую паузу, — ваша шлюшка.
— Я приказываю! Богом клянусь, ты пойдешь со мной! — Он отпустил мою руку.
— Богом клянусь, не пойду!
На лице Эдуарда отразилось безмерное удивление, а я тем временем разжала руки и свалила его одеяния в кучу у наших ног. Потом сбросила туда же свою соболью шубу. Обошла короля и стала подниматься по лестнице, оставив его в одиночестве перед грудой бархата и дорогих мехов, сваленных на затоптанные нашими подошвами плиты пола. В дальнюю дверь вошел паж. Понятия не имею, что сказал бы Эдуард, если бы мы и дальше оставались наедине. Поднявшись к следующему пролету, я оглянулась: он стоял, приросши к месту, как дуб, уперев руки в бока, и смотрел на меня; груда одежды так и валялась у его ног. Я подождала, пока он уделит все внимание только мне. Тогда я сделала великолепный реверанс. И снова повысила голос, чтобы он уж точно расслышал:
— Во дворце полным-полно шлюх, которые с превеликим удовольствием составят вам компанию, невзирая на ваше мрачное настроение, государь. Кому-то из них можете отдать моих соболей, на то ваша воля.
Я не стала ждать, ответит ли он. И подберет ли одежду с пола.
Не могу не признать, что ужасные предчувствия владели мной в ту минуту, когда я притворила за собой дверь моей комнаты. Вполне могло случиться, что я себя погубила. Если черная меланхолия не выпустит Эдуарда из своих тенет, моему положению возлюбленной короля придет конец — быстро и бесповоротно.
Конечно же, я ждала результатов не с легким сердцем. Король не скрывал своего неудовольствия. Когда он уезжал охотиться, меня с собой не звал. Когда навещал королеву, меня подчеркнуто избегал, лишь молча взмахивал рукой, приказывая мне удалиться. О том, чтобы я делила с ним ложе, и речи не шло. А мне было жаль собольей шубы. Фрейлины сплетничали между собой, заметно избегая моего общества. Королева нервничала, но такие уж сложились у нас отношения, что каждая из нас предпочитала помалкивать. Наконец напряжение достигло такого накала, что во дворце стало неуютнее, нежели на морозе, и она не выдержала:
— Ты поссорилась с королем, Алиса?
— Нет, миледи. — По сути, то не была ссора.
— Вызвала его неудовольствие?
— Да, миледи. — Это уж точно.
— Он очень… очень вспыльчивый человек.
— Да, миледи.
— Как ты думаешь: быть может, тебе следует попросить прощения? — Она с тревогой наморщила свой высокий лоб.
— Нет, миледи.
Королева оставила попытки помирить нас, и я с нарастающей тревогой ждала дальнейших событий. Я не захандрила, потому что смысла в этом не было никакого. Эдуард — не тот человек, которого можно смутить женскими капризами, а фрейлины только порадовались бы, видя, что я загрустила. Поэтому внешне я была поразительно весела и спокойна, а в душе нарастал страх перед совершенной глупостью. Эдуард — король Англии, мне он ничем не обязан. Я поставила на карту все и теперь могла лишь молиться, чтобы карта, на которой стояло все мое будущее, не оказалась бита.
Ждать пришлось целую неделю.
Я расчесывала волосы, готовясь лечь спать в одиночестве, и тут раздался тихий стук в дверь. «Уикхем!» — подумала я. С известием, что король снова жаждет удовольствий. Я отворила дверь, уже готовая дать отрицательный ответ.
— Я не пойду… — Слова замерли у меня на устах.
Эдуард. Сам пришел. А через руку переброшена моя красивая шуба.
— Милорд!
Я присела у двери в низком реверансе, пряча лицо. Король сам явился ко мне в комнату? Означает ли это, что меня прогоняют, как я опасалась, а соболя — прощальный дар перед бесславным отъездом? Если заглянуть ему в глаза, что я в них увижу? Я подняла голову и встретилась с ним взглядом — лучше сразу понять, что к чему, — но Эдуард, поднаторевший в разного рода переговорах, сохранял совершенно непроницаемый вид. Если он решил меня прогнать, то сделает это спокойно, обдуманно, а не в порыве гнева на мою непокорность.
— Так что, вы позволите мне войти? — Голос звучал неприветливо. — Я полагаю, король только раз в жизни может допустить, чтобы его личные дела обсуждались на людях, на глазах любого его подданного.
Я попятилась, широко распахивая дверь, однако он, невзирая на сдерживаемое с трудом нетерпение, не перешагнул через порог. Вместо этого протянул мне шубу.
— Это ваша вещь, мистрис Перрерс.
Я взяла шубу из его рук и бросила на сундук, словно она меня не интересовала.
— Я был неправ, мистрис, и позволил себе непростительную неучтивость по отношению к вам.
Он был убийственно официален. И если я не дрогну… Я держала язык за зубами.
— Я пришел просить у вас прощения. — Прозвучало это скорее как приказ, а не как смиренная просьба.
— Королю легко проявить неучтивость, а потом требовать, чтобы ему это простили, — ответила я.
— Я не требую.
— Разве? — Я скрестила руки на груди и решилась идти до конца.
— Мистрис Перрерс… — Он наконец вошел в комнату и захлопнул за собой дверь. — Вы, несомненно, станете обвинять меня в чрезмерной гордыне, но я совершенно не желаю, чтобы при этом присутствовали посторонние люди! — Он непринужденно опустился на одно колено. — Я прошу вас сжалиться и простить мне неподобающее рыцарю поведение. Истинному рыцарю не пристало быть таким… невежей, каким был я. Прощаете ли вы меня?
Я вскинула голову, раздумывая. Он выглядел неподражаемо, будто рыцарь, сошедший с гравюры в старинном романе, — рыцарь в ярких одеждах, отливающих синим, красным, золотым, преклонивший колено у ног своей дамы. У моих ног был король Англии, продуманно выбравший наряд, чтобы произвести на меня впечатление. Более того, он завладел моей рукой и поцеловал ее.
— До сих пор ни один подданный не смел мне возражать.
— Это я знаю.
— Так что же? Так и будете мучить своего короля неопределенностью? — Лицо его не выражало страсти, на нем залегли уже складки, говорившие о раздражении. — Я скучал без вас гораздо больше, чем следует. Вы всего-навсего обыкновенная девчонка! Отчего я так сильно по вам скучал? А вы только и делали, что хмурились на меня из-за спин этих чертовых фрейлин моей супруги. Или делали вид, что вообще меня не замечаете.
— Пока вы не выставили меня из комнаты королевы.
— Ну… этого я не должен был делать.
— Не должны были. И я не какая-то там девчонка. Я мать вашего сына.
— Это я знаю. Алиса… — Он заговорил со мной по-человечески, а не по-королевски.
— И я не просто ваша наложница. Я даю вам больше, чем обычные плотские удовольствия. И считала, что вы любите меня сильнее, государь.
— Я люблю. Черт возьми, Алиса! Сжалься же! Я был неправ.
— Вот в этом мы с вами согласны.
Он отпустил мои пальцы и, не вставая с колен, широко раскинул руки.
— Вот что я выучил ради тебя, как глупый трубадур, мечтающий добиться взаимности от дамы сердца! Настоящее признание в любви…
Он прижал руки к сердцу, словно гибнущий от несчастной любви трубадур, и стал читать стихи — глупые, нелепые, однако ни в голосе, ни на лице его не было насмешки. Слова шли из глубины души, изливая мучительную тоску по минувшему. По навсегда утраченной юности.
Мне Фортуна улыбалась Без печалей и забот. Страсть и нега доставались Даром мне из года в год. Увенчав венком лавровым, Ввысь Фортуна вознесла, Но под временем суровым Юность вянуть начала. Лепестки мои опали…[58]Он резко остановился.
— К чертям стихи! Красота моя поблекла и обхожденье уже далеко не то. Ни одно, ни другое извинить мне нечем, но я молю, чтобы ты поняла меня.
Я не поддалась на его хитрость.
— Плантагенет молит меня?
— Все когда-нибудь бывает в первый раз! — Горечь ушла из его тона. Вернулись гордость, властность, пусть и стоял он, преклонив колено. Я сглотнула подступивший к горлу комок. Он действительно обворожил меня. — Не мучьте же меня неизвестностью, мистрис Перрерс.
— Да я бы и не посмела! Я уже приняла решение, государь. — Какой бесенок заставил меня потянуть с ответом еще минуту? Я положила руку ему на плечо и с благородным изяществом дамы, принимающей любовь рыцаря, помогла ему встать на ноги.
— Так что же?
— Я вас прощаю. Невозможно противостоять такому красивому объяснению в любви.
— Слава Богу!
Он заключил меня в объятия — бережно, словно я была неким драгоценным изделием из хрупкого стекла. Или так, словно я все еще могла отказать ему. Его прохладные губы нежно касались меня, пока я не растаяла окончательно, а уж тогда его объятия сделались огненно-жаркими. Я тоже очень соскучилась по нему.
— Мне хочется что-нибудь тебе подарить… может быть, драгоценный камень… Ты ведь подарила мне сына, это бесценный дар. И мне хочется показать, как я тебе благодарен… — Он положил подбородок мне на темя, а мои волосы укутали его плечо.
— Нет… я не хочу камень.
— Тогда чего ты хочешь?
Мысль пришла мне в голову мгновенно, а может быть, она жила там постоянно. Я хорошо знала, чего хочу.
— Дайте мне землю и домик, государь. — Ни на минуту не забывала я о своем ненадежном положении, а Гризли в свое время хорошо мне все объяснил.
— Ты хочешь получить землю? — Он поднял голову, и я расслышала в его голосе удивление.
— Хочу. В вашей власти наделить меня ею.
— Ты станешь землевладелицей. Ладно, поместье — твое. На счастье мистрис Алисы, которая разгоняет мрак в самых темных закоулках моей души.
Я даже задохнулась от волнения. Теперь мне принадлежит королевское поместье — о таком я и не мечтала.
— Благодарю вас, государь.
— При одном условии…
Я вдруг насторожилась: никогда нельзя недооценивать Плантагенета.
— Ты должна снова называть меня Эдуардом. Мне этого очень не хватало.
С моей души свалился камень, давивший на нее с той минуты, когда я бросила под ноги королю соболиную шубу.
— Благодарю вас, Эдуард.
Он с любовью предложил мне свой дар, и я ответила ему тем же. Я дарила ему свои губы, руки, тело. И свою верность. Мое отсутствие пробудило в Эдуарде страсть, он и думать позабыл о воздержании. Он предавался любви на моей далеко не роскошной кровати, на которой с трудом помещались его длинные руки и ноги, и снова закутал меня в соболиную шубу. Отныне я не была просто его наложницей, и мы оба это понимали. Моя непокорность вынудила короля понять суть наших отношений. Они стали прочными.
— Я никогда тебя не отпущу, — прошептал он с трогательной проникновенностью, когда прилив страсти схлынул. — Я люблю тебя. Только смерть разлучит нас.
— А я никогда не покину вас по доброй воле, — ответила я совершенно искренне. Мое уважение к нему и восхищение взлетели до небес.
Он преподнес мне в дар небольшое поместье Ардингтон, и я, пряча дарственную в свой сундук, не могла не признать, как много это для меня значит — куда больше, чем то имение, которое я по праву похитила у Дженина Перрерса. Земля давала власть, земля давала богатство, и теперь в моих руках был Ардингтон, настоящая жемчужина среди поместий. В каждой клеточке моего тела звенела гордость собственницы, словно я выпила кубок хмельного меда. Теплая волна докатилась до самых кончиков пальцев.
Сев на сундук и поджав губы, проводя рукой по гладким доскам, я мысленно обозревала свое новое имение. Конечно же, Ардингтон был процветающим поместьем. Да, процветающим, но не очень большим. Ну, если Эдуард подарил мне одно поместье, то, возможно, пожалует еще и другие. А если не догадается подарить, то почему бы мне самой не купить себе поместье?
Меня не удивляло, что я не до конца удовлетворена, что мне хочется большего. Нельзя не стремиться к обеспеченному будущему.
Я родила Эдуарду второго ребенка. Второго сына, Николаса. Это было счастливое событие. Теперь я вольна была в любое время отправиться в поместье, где подрастал и начинал шумно играть, воображая себя рыцарем, Джон. И вернуться ко двору я могла, когда пожелаю, — в этом отношении страхов у меня больше не было. Пусть мое положение при дворе и не было признано официально, оно от этого не становилось менее прочным.
— А кем же вырастешь ты? — спрашивала я у хнычущего младенца, который оказался, как и Джон, вылитой копией Эдуарда. — Каким путем пойдешь ты к богатству и власти? — Мне вспомнился Уикхем. Прекрасный пример для подражания. — Когда подрастешь, я познакомлю тебя с моим добрым другом.
— Чем же тебя отблагодарить за этот новый подарок? — спросил у меня Эдуард, когда приехал навестить нас. — Нет, молчи…
Незачем было что-то говорить. Он дал мне в опеку земли Роберта Тиллиола и право устроить в будущем брак его сына[59]. Это были обширные владения: четыре поместья и замок далеко на севере Англии. Они сулили мне полный сундук золота.
Чтобы король сделал такой дар одной из фрейлин королевы — это было неслыханно. Королевский дар привлек всеобщее внимание, но я была в силах вынести косые взгляды. Заговор молчания соблюдался свято, ради спокойствия Филиппы. Я же просто сообщила Гризли, что работа на меня отныне потребует больше его драгоценного времени.
«Не сомневаюсь, что вы будете хорошо оплачивать мое время», — ответил он, как всегда стараясь не упустить свое.
«Оплачу, когда увижу результаты, — написала я ему, потом еще добавила: — Меня сильно удивит, если вы не сумеете использовать доходы с этих земель и к своей выгоде».
Ответ пришел незамедлительно: «Как и вы, мистрис Перрерс. Новые приобретения приносят вам (и мне) отличную прибыль».
Последнее вызвало у меня улыбку: какой замечательный делец этот Гризли!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Холодок тревоги пробежал у меня по спине — едва заметно, словно любовник слегка оцарапал ногтем нежную кожу. Я вздрогнула и насторожилась. Холодок улетучился, и я снова стала внимательно наблюдать за разворачивающейся на моих глазах драматической сценой.
Происходил официальный парадный прием со всей положенной торжественностью: король с королевой заняли места на возвышении в самой большой аудиенц-зале Вестминстерского дворца. Перед ними стоял, надувшись от важности, молодой человек чуть старше двадцати лет, разряженный со всей пышностью, какую может позволить себе избалованный юнец. Несмотря на этот блеск и очевидное высокомерие, поклонился он очень низко, а его свита последовала примеру юноши. А свита поражала своим великолепием: оружие сверкало золотом и серебром, на богатых камзолах, как и в многочисленных перстнях, сияли драгоценные камни. Филиппа откровенно любовалась этим зрелищем. Король же не был склонен к восторгам.
— Почему ты здесь? — строго спросил он.
— Я больше не могу жить в этой забытой Богом, утопающей в болотах провинции, — отвечал молодой человек, ничуть не смутившись. Он, несомненно, был красив, однако в чертах лица проглядывала неуступчивость характера, вид он старался придать себе непроницаемый, а почтения к монарху ему явно недоставало. — Я умываю руки и не желаю больше иметь дела ни с Ирландией, ни с этими треклятыми ирландцами.
— Умываешь руки? Ты молод и глуп! Ты думал, видно, что это будет так легко? Ради Бога, чем ты там только занимался? — Эдуард спустился с королевского возвышения и ударил молодого вельможу по плечу — кулаком, так что это мало напоминало ласку. — Ты что, хочешь сбежать, едва появились признаки неповиновения, и тем самым свести на нет все, чего я сумел добиться в этой чертовой провинции? Побойся Бога, Лайонел!..
Значит, это Лайонел. Второй из выживших сыновей Эдуарда. Красивый, щеголеватый, честолюбивый наместник короля в Ирландии, занимавший этот пост уже несколько лет. Он был очарователен до невозможности — такой гладкий, блестящий, скользкий, как гусиный жир, которым смазывают грудь простуженным детишкам. Тем не менее его неожиданный приезд взволновал придворных и внес немалое оживление в монотонность последнего времени. Лайонел, совсем недавно, на день рождения щедрого короля, пожалованный титулом графа Кларенса[60], сумел улыбнуться хотя бы родной матери. Благодаря этому я стала смотреть на него более благосклонно, чем поначалу.
— Вы несправедливы ко мне, государь! С неповиновением я столкнулся в первый же день!
— Я склонен отправить тебя обратно, как только ты сможешь оседлать свежего коня…
— Ах нет, Эдуард… Не нужно! — не выдержала Филиппа. Она была очень огорчена. — Это же наш сын!
— Это заноза в моем теле! Будь он моим сыном, он не отказался бы выполнять свой долг. Мы и оглянуться не успеем, как вся Ирландия поднимется против нас с оружием в руках.
— Я совершенно не понимаю, почему тамошним мужикам не нравится… — В голосе Лайонела появились неприятные визгливые нотки.
— Еще бы им нравилось! — воскликнул Эдуард, не отрывая от сына сердитого взгляда. — Твоя задача заключалась в том, чтобы сохранить там мир, а не ворошить осиное гнездо!
— Ах, Лайонел… — Королева протянула руки к сыну.
Молодой человек мигом упал на колени перед королевой, склонил голову в наигранном раскаянии.
— Матушка! Простите меня…
— Милый мой Лайонел…
— Я все объясню…
— А я и не сомневаюсь, что у тебя были основания…
— Но станет ли отец слушать их? — Он искоса бросил взгляд на короля. Нас, всех остальных присутствующих, все равно что не было здесь, пока Плантагенеты разбирались в своих семейных делах.
Ах!..
Тот же самый неприятный холодок снова пробежал по моей спине, пополз по затылку, по руке, и я невольно вздрогнула. Мурашки бегали по коже, я не могла этого не заметить. Кто-то в этой зале пристально, изучающе присматривался ко мне. Кого-то я заинтересовала всерьез. Я окинула взглядом свиту Лайонела, но никто в ней моего внимания не привлек. Ни один из его приближенных не смотрел в мою сторону, всех волновала только стычка короля с провинившимся сыном. В этом зале я просто стояла среди прочих фрейлин, никому не известная, безымянная, приставленная прислуживать королеве.
Но неприятное чувство не покидало меня. Кто-то на меня поглядывал тайком.
— Отец выслушает тебя, — уверенно проговорила Филиппа, успокаивая сына. — Но не сейчас. Позднее. После того как мы отпразднуем твое возвращение. Пять лет… Ведь я тебя не видела уже пять лет. — Ее лицо лучилось материнской лаской.
Эдуард от всего этого испытал не больше удовольствия, чем перед тем — восхищения сыном, но сжал зубы и прохрипел:
— Думаю, с обвинениями можно подождать. Мать очень обрадовалась твоему приезду. А тебе нужно поучиться тому, как управлять большой областью: далеко не все можно уладить угрозами и суровыми законами. Нужно еще… — Он скрипнул зубами и оборвал свои поучения о том, как нужно вести политику. — Но сначала мы устроим пир в честь твоего возвращения.
Он жестом показал, что аудиенция окончена. Я помогала королеве встать и тут снова ощутила чье-то пристальное внимание, будто кто-то хотел содрать с меня кожу и заглянуть в самую душу. Но моя душа интересовала одного только Уикхема, а он до сих пор возводил укрепления в Виндзорском замке. Я быстро оглянулась, решив во что бы то ни стало поймать наглеца, разглядывающего меня столь бесцеремонно, — и отыскала его. Один из приближенных Лайонела откровенно уставился на меня.
Я виду не подала, что меня это как-то тронуло. Не так-то легко меня запугать. Безучастно скользнула взглядом по рядам придворных, словно искала кого-то знакомого. Но все время я ощущала это пристальное внимание.
Кто он такой?
Как он смеет!
Ну ладно. Отбросив притворство, я посмотрела ему прямо в глаза.
Несомненно, это был человек смелый. Он не отвел взгляд и не изобразил виноватую улыбку. На вид он был старше принца лет на десять. Лицо грубоватое, но его нельзя было назвать непривлекательным — если бы только не мрачноватые глубокие складки вдоль крыльев носа. Нет, красивым этот мужчина не был. Чисто выбрит, как я заметила, не по моде тех дней, да и волосы подстрижены короче, чем допускала мода. Глаза ничем не примечательные, какого-то неопределенного цвета, скорее темные, но взгляд прямой; он ничуть не смутился, когда одна из фрейлин королевы заметила, что он ее разглядывает. Не очень большой белый шрам на фоне загорелой в недавних походах кожи все же портил его подбородок. Одежда на нем была отменного качества, но без всяких украшений, как и меч — добрый клинок из стали, и только. Единственный из всех, кто сопровождал принца, этот человек не носил ни единого самоцвета — как мне подумалось, скорее из-за своих наклонностей, чем из-за недостатка средств. Губы решительно сжаты. Как мне представлялось, такой не выдаст чужих тайн, если только сам не сочтет это выгодным.
Не столько придворный, сколько воин. Но мне он был совершенно незнаком.
Я вопросительно подняла брови, вынуждая его как-то ответить, и он слегка склонил голову. Я с удовольствием оставила это без внимания, повернулась к нему спиной, приняла от королевы ее молитвенник. Филиппа, поддерживаемая Лайонелом, медленно двинулась в свои покои. Я последовала за ними, до самого выхода из залы ощущая спиной все тот же взгляд, словно кинжал, вонзающийся между лопаток.
Так. Мне не слишком понравился Лайонел. Еще меньше понравился тот тип из его свиты, который имел дерзость меня разглядывать. На мой вкус, слишком много темных уголков таилось в его душе.
Эдуард приказал устроить истинно королевское пиршество. Он вообще обожал пиры и всевозможные празднества. Ему доставляло огромное удовольствие быть в центре внимания там, где собирался цвет его королевства. Разве был другой король, который умел так ловко и уверенно подпрыгивать и хлопать крыльями, изображая громадную птицу с позолоченным оперением — только ради того, чтобы позабавить своих детей? Но сейчас дело обстояло совсем иначе. На этом пиршестве он лишь скупыми кивками приказывал музыкантам играть, пирующим — танцевать, и не более того. Вряд ли такой пир мог стереть с лица Эдуарда выражение глубокого недовольства провалами Лайонела в Ирландии. Едва любимый менестрель короля Эндрю Кларонсель начал петь, как Эдуард протянул ему кошелек, лишь бы тот поскорее смолк. Пир в целом обещал быть долгим и скучным. Я заняла место за столом, ближайшим к королевскому возвышению, и смерила взглядом мужчину, которого усадили справа от меня.
Ему поручили ухаживать за мной на пиру?
Тот самый наглец, который глазел на меня в аудиенц-зале. И я готова была поспорить на свою соболью шубу, что он отнюдь не случайно оказался моим соседом за столом. Как ему это удалось? Подкупил дворецкого? Теперь, вблизи, я рассмотрела, что глаза, скользившие по моему лицу, — темно-серого цвета и такие же наглые, какими показались мне с самого начала.
— Приветствую вас, мистрис Перрерс.
Он стоял, пока я не заняла свое место, а я с удовольствием заставила его ждать подольше — разгладила юбки, уложила их красивым складками. Он спокойно ждал, вынуждая меня признать, что воспитан он безупречно. Наконец он сел с элегантным поклоном; все движения его были быстрыми, но на удивление изящными. Стало быть, он не все время проводил в седле — даже находясь в Ирландии, сумел приобрести известные навыки придворного.
— Вам известно мое имя, сэр. — На его оценивающий взгляд я ответила привычным и хорошо рассчитанным безразличием. — Откуда?
— Вы широко известны при дворе, мистрис. — Голос у него оказался мягче, нежели я предполагала, а ответ был туманным и интригующим. Думаю, он не сказал мне всей правды. — О вас говорят даже в Ирландии, — добавил мой собеседник.
Значит, он ждет, что я спрошу: что же именно обо мне говорят? А я не стану спрашивать. Я взяла в руки кубок, отпила немного.
— Чего я не знаю, — невозмутимо продолжал он, — так это того, из какой семьи вы происходите.
И я сразу вспомнила свое мрачное прошлое. Сплетни о моем происхождении. Подкидыш. Внебрачное дитя блудницы и какого-то крепостного. Кошель с золотом, который то ли был, то ли его не было вообще. Я просто пожала плечами. Какое это имеет значение теперь? Мне только не понравилось, что этот человек пробудил во мне воспоминания.
— У меня нет семьи, — коротко ответила я.
И отвернулась от него, обратившись к немолодому рыцарю, который сидел слева. Даже удивительно, сколько вопросов на разнообразные темы я сумела задать стареющему воину, который косо посматривал на меня, гораздо больше интересуясь поданными яствами. Я вздохнула, устав от его односложных ответов, и совершенно напрасно бросила взгляд в сторону молчавшего соседа справа. Тот смотрел на меня с нескрываемой насмешкой.
— И что? — спросила я, хотя лучше бы мне было помалкивать.
— Вы уже завершили беседу? — спросил он и то ли улыбнулся, то ли оскалился, заставив меня мгновенно насторожиться. — Я ни за что бы не поверил, что с вами так скучно, леди. Право, сэр Ральф вполне мог уснуть, настолько его увлек разговор с вами. Даже мне трудно было бы с жаром обсуждать, сколько времени необходимо двору, чтобы перебраться из Хейверинга в лондонский Тауэр!
— Мне, по крайней мере, хватает воспитанности, чтобы беседовать со своим соседом, сэр, — парировала я. — А вот вы, к моему глубокому прискорбию, в этом совершенно не преуспели. — Он ни словом не обменялся с фрейлиной, сидевшей справа от него.
А откуда я это знала? Значит, прислушивалась, так выходит?
— Мне подумалось, что вы пожелаете узнать мое имя, — не к месту ответил он.
— Не могу сказать, что меня это очень интересует. Но раз уж нам сидеть рядом до конца пира… Кто же вы? — не удержалась я. Ведь знала уже, кто он такой, — я же не теряла даром времени, которое прошло от парадного приема до пиршества, — но не помешает слегка задеть его мужскую гордость. — Коль вам известно, как зовут меня, сэр, то простая учтивость требует назвать и ваше имя. Тем более что вы сумели организовать себе место возле меня…
Он взглянул на меня с одобрением и подождал, пока паж наполнит нам обоим кубки бордоским вином. Слегка пригубил, отставил кубок. Он тоже умел потянуть время. Мне хотелось улыбнуться, но я удержалась, подозревая, что этот человек способен мгновенно улавливать слабость как у друга, так и у врага, и так же мгновенно этой слабостью пользоваться. Мне же пока было совершенно непонятно, относит он меня к друзьям или к врагам.
— Меня зовут Вильям де Виндзор, госпожа.
Я чуть пожала плечом, этак пренебрежительно — этот жест замечательно получался у Изабеллы.
— Я служил в Ирландии, — продолжал он невозмутимо, — у графа Кларенса.
Ничего нового для себя я не услышала. А он смотрел на меня, не переставая улыбаться, и я, к своему крайнему смущению, обнаружила, что щеки у меня начинают гореть.
— Отчего вы так пристально смотрели на меня?
— Я нашел вас интересной.
— Интересной? Вы говорите обо мне, словно о замысле нового сражения!
— Я полагаю, что мы с вами очень похожи, госпожа.
— Вот как? Я этого не нахожу, Вильям де Виндзор. Вы выглядите куда красивее меня!
Это его ошеломило, он рассмеялся резким, лающим смехом.
— А вы гораздо прямолинейнее, чем я ожидал. Такое качество в женщинах встретишь нечасто, ибо, по моим наблюдениям, они предпочитают притворяться.
— Я не люблю притворяться. — Думаю, опыт по женской части у него был обширным, как устье Темзы. — Так объясните, в чем же мы похожи.
— О, этого я объяснять, пожалуй, не стану. Время не пришло. — Он поднял кубок и выпил за мое здоровье.
Я же отвернулась и сделала еще одну не слишком удачную попытку разговорить сэра Ральфа, как будто ответ Виндзора вовсе меня не заинтересовал. Хотя я была заинтригована, и он сам отлично понимал это. Он спокойно дождался, пока мой рыцарь целиком погрузится в поглощение жаркого из оленины, и продолжил наш разговор, словно тот и не прерывался ни на минуту.
— Я передумал, мистрис Перрерс. Вы — такая женщина, которой я могу доверять, а потому объясню вам, что у нас общего. Мы оба очень честолюбивы.
Я молча уставилась на него.
— И оба эгоистичны.
Я снова предпочла промолчать, наблюдая за ним поверх своего кубка.
— Мы оба выбились из самых низов.
Нет, я и тут отвечать не стала. К чему клонит этот человек?
— Вам нечего сказать о моих выводах, мистрис Перрерс?
— Мы оба вышли из самых низов, сэр?
— По сути дела, так и есть. Отец мой был небогатым рыцарем, так и не сумевшим ничего добиться. Виндзор-оф-Грейриг — это медвежий угол в Уэстморленде[61], которому нечем похвастать, кроме овец да бесконечных дождей. Стоило мне немного подрасти, и я уехал из Грейрига и стал воином, как всякий честолюбивый юнец. Слава, удача, богатство — вот что манило меня и чего я достиг. Я сражался при Пуатье, мое имя сделалось известным. В последние же годы я связал свою судьбу с Лайонелом. Возможно, у него есть свои недостатки, но его я считаю самым способным изо всех королевских отпрысков. — Я вдруг поняла, что смеюсь, ибо он осмелился высказываться столь непочтительно о высоких особах, не заботясь о том, что его могут услышать другие. Взгляд Виндзора обратился туда, где рядом с королевой сидел Лайонел, развлекавший мать своим остроумием, потом вернулся снова ко мне. — Мы оба пробили себе дорогу наверх. Вы в качестве фрейлины королевы, — это он произнес без всякого выражения, давая понять, что ему прекрасно известен характер моих отношений с королем, — а я в качестве одного из советников Лайонела.
— И отчего вы полагаете, что это должно меня интересовать, сэр Вильям?
— Я и сам еще не знаю, по правде говоря, — нахмурился он. — Но почему-то в душе я чувствую, что наши звезды могут взойти вместе.
Это меня весьма заинтриговало, однако я лишь приподняла брови, выражая вежливый интерес.
— Я искушен в делах воинских и в премудростях управления, — продолжал он без ложной скромности, — а какими талантами наделены вы? Ярко ли засияет ваша звезда?
Я вспыхнула. Подоплека вопроса, острого, как ножи у мастера Хэмфри, была совершенно ясна, но я не спешила с ответом.
— Думаю, моя звезда сияет весьма ярко и без вашей помощи, сэр.
— Не так ярко сияет и не так стремительно восходит, как моя, мистрис. Воинская служба позволяет человеку честолюбивому и способному сколотить себе приличное состояние.
— Хищениями, взятками, получением выкупа и разграблением захваченных городов[62]? — Я навела о нем справки весьма тщательно.
Он весело рассмеялся, перекрывая галдеж разгулявшихся участников пиршества; кое-кто даже обернулся поглядеть на нас.
— А вы прислушиваетесь к сплетням, мистрис Перрерс.
— Не без того, сэр Вильям.
— И вы с самого начала знали, кто я такой.
— Разумеется.
— Ну, упрекать вас за это я не могу. Разумный человек всегда знает, с кем имеет дело.
— Разумная женщина — тем более. — Я склонилась к нему и сказала на ухо: — Только я не стану иметь с вами никаких дел.
Он не спеша разрезал большой кусок говядины и предложил мне отборные ломтики со своего блюда. Я отрицательно покачала головой.
— Чего же вам хочется, мистрис Перрерс?
— Не понимаю вас, сэр.
— Ну, я веду речь не о выборе в пользу оленины или говядины — она, между прочим, превосходна, советую вам попробовать. Если вы женщина здравомыслящая — а я именно такой вас и считаю, — то не можете не задуматься, что с вами будет лет через десять. Ведь должность, которую вы занимаете, не является пожизненной, правда? Я бы сказал, что оставшиеся вам при дворе годы можно пересчитать по пальцам ваших очень искусных рук. Рано или поздно жизнь заканчивается, разве нет?
Я прекрасно поняла его: он говорил не о краткости моей жизни. Проследила за его взглядом, брошенным на короля, который, откинувшись на спинку кресла, выслушивал оправдания Лайонела. Эдуард выглядел бодрым и здоровым, однако поступь времени неумолима. А жизнь Филиппы висела на тонком волоске. Прав был Вильям Виндзор[63], черт бы его побрал. Моя должность при дворе не была постоянной.
Да разве я и раньше этого не сознавала? Даже с самого начала? В душе снова стали оживать давние страхи, назойливые, сверлящие, словно зубная боль.
— Он не вечен, мистрис Перрерс. И что тогда ждет вас?
Я задохнулась от подобной наглости, страх мгновенно был вытеснен гневом на человека, который читает мои мысли.
— Вам-то что до этого? — сердито бросила я. — Я вижу, вы там, в Ирландии, прекрасно обо всем осведомлены. — В голосе моем невольно проскользнули враждебные нотки.
— Нужно быть осведомленным, — невозмутимо отвечал сэр Вильям, — если хочешь чего-то достичь в этой жизни.
— Многие сказали бы, что вы и так неплохо устроились для человека, выбившегося из самых низов.
— О нет. В этом они бы ошиблись. Я только успел поставить ногу на первую ступеньку лестницы. Я хочу взобраться еще выше.
Какое самомнение! Я правильно оценила его с первого взгляда. Не нравился мне Вильям де Виндзор. Я внимательно посмотрела на Эдуарда, припомнив, как гневался он на бестолковое правление сына в Ирландии, как каменело его красивое лицо при взгляде на приспешников Лайонела. Мне доставило удовольствие пощекотать Виндзора острым кинжалом.
— Полагаю, вы ошибаетесь, сэр. Королю вы не нравитесь.
— Возможно, и не нравлюсь, однако он нуждается во мне.
Я едва не захлебнулась вином. Неужто он совсем непробиваемый?
— Для чего это?
— Чтобы управиться с Ирландией. Это задача не для щепетильного человека. А моим решениям король доверяет. Возможно, они ему не очень-то по вкусу, но все же он отправит меня назад в Ирландию и даст больше власти, нежели я имел при Лайонеле.
— Вы настолько уверены в себе? — насмешливо спросила я.
— А разве нет? — ответил он весело, без малейшего смущения. — К тому же я невероятно проницателен. Прислушайтесь к моим советам, мистрис Алиса! Подумайте о своем будущем!
После этой неожиданной фамильярности он весь остаток пиршества уделял внимание фрейлине, сидевшей справа от него, а мне оставалось лишь смотреть на его широкие плечи, обтянутые шелком, а равно занимать беседой сэра Ральфа, который с такой жадностью поглощал хлеб и мясо, будто обедал последний раз в жизни. Я стала зевать от скуки. Пока не убрали посуду со столов, а Вильям де Виндзор не поднялся вместе со мной, готовясь покинуть парадный зал.
— Хотите еще совет, мистрис Перрерс?
— Не уверена. — Я была заинтригована сверх всех разумных пределов, рассержена и не имела ни малейшего желания, чтобы за мной увивался волк, даже не потрудившийся напялить на себя овечью шкуру.
— Кто ваш враг? Только не говорите, что у вас их нет.
— Вы, наверное.
— Я вовсе не враг вам, мистрис Перрерс! Подумайте лучше о тех, кто способен причинить вам зло.
— И что же делать, если враги есть?
— Будьте настороже. Будьте умнее, чем любой ваш враг. Вот лучший совет, какой я могу вам дать. И если вам когда-нибудь понадобится человек, способный защитить вас от врага, я всецело к вашим услугам. Да не поколеблет вас эта непонятная враждебность ко мне. — Он поклонился, поцеловал мне руку, хотя мне и хотелось отдернуть ее. — Да, вы не можете похвастать красотой. Но Бог свидетель, вы — самая потрясающая женщина из всех, кого я знаю. Сколько вам лет?
«Пресвятая Дева!»
— Двадцать два. А вам, сэр?
— Тридцать семь[64], — ответил он без запинки.
— Вы женаты, сэр? — спросила я с милым видом, по какому-то наитию, когда его теплые сильные пальцы сжали мою руку.
— А что? — Он вздернул бровь.
— Да вот подумала, есть ли у вас сын, который унаследует те несметные богатства, которые вы мечтаете приобрести.
— Нет, сына у меня нет. Я не женат.
— Это хорошо. Иначе мне пришлось бы посочувствовать той несчастной даме, которую вы взяли себе в жены.
Он улыбнулся — хищно, но как-то очень обворожительно, что не доставило мне удовольствия.
Что я ела на том пиру — никак и не вспомнить. А менестрели, как мне показалось, вообще не открыли рта.
Моя пикировка с Вильямом Виндзором на пиру не осталась незамеченной, и я жалела, что вообще заговорила с ним. Да нет, ничего неподобающего я не сделала и не сказала. Напротив, изо всех сил прикусывала язык в присутствии этого рыцаря, который мне показался чересчур опасным. Но меня встревожило то, что его слова пробуждали во мне противоречивые чувства. И говорить о нем мне вовсе не хотелось.
— Что там наговорил тебе этот негодяй Виндзор? — Эдуард, всегда все замечавший своим орлиным взором, не замедлил учинить мне допрос, едва я устроилась на его обширном ложе. Недовольство он проявил раньше, чем приступил к ласкам, как надлежит возлюбленному. Вероятно, этот прямой, безо всяких уловок, вопрос был порожден не просто вспышкой ревности. Плантагенет внимательно приглядывал за всем, что принадлежит ему.
— Да ничего, — ответила я, обхватив колени руками, — если отбросить все то, чем он хвастал, превознося себя. Этот человек ни о чем и ни о ком не говорит, кроме себя самого. — Не совсем так, но и недалеко от истины.
— Хм-м. — Брови Эдуарда сошлись на переносице, как всегда, когда он бывал обеспокоен или недоволен чем-то. Он начал расплетать мои косы, но мысли его, как мне показалось, витали далеко от плотских вожделений. Даже в королевскую опочивальню сумел просочиться этот Виндзор. Эдуард старательно трудился над моими косами. — И как ты его оцениваешь?
— Мне он не понравился.
— Мне тоже он не нравится. Как ты думаешь, получится из него честный правитель?
— Сомневаюсь.
— Ну, с этим тогда ясно, — хмыкнул Эдуард. — А будет ли он мне верен?
— Будет, если это сулит ему богатство и власть, — ответила я совершенно честно.
— Кажется, ты за такое короткое время сумела разглядеть его чуть не насквозь. — Эдуард снова нахмурился, но теперь уже он сердился на меня.
— Это было совсем не трудно, — быстро нашлась я и улыбнулась. — Другого такого хвастуна я еще не встречала. Он считает, что понадобится вам, что вы пошлете его снова в Ирландию. — Эдуард нахмурился еще сильнее, поэтому я повернула голову и стала целовать его пальцы, запутавшиеся в моих волосах. — Вы и вправду поручите ему службу?
— Еще не знаю. Мне кажется, он так рвется вперед, что иной раз взбрыкивает.
Я тоже думала так, хотя, вероятно, по иной причине.
Уикхем, который вернулся ко двору по случаю празднеств, был со мной очень далек от всякой учтивости. Мы встретились с ним на следующее утро, возвращаясь из церкви. Он в тот день не служил утреню, а пристроился в последних рядах придворных. Я его заметила, когда оглядывалась через плечо, чтобы посмотреть, пришел ли в церковь Виндзор. Губы у меня сложились в довольную усмешку, когда я убедилась, что его здесь нет. Зато появился Уикхем. И он-то намеренно поджидал меня.
— Я вижу, Виндзор не обошел вас своим вниманием, — начал он безо всяких предисловий.
— Я тоже рада видеть вас снова, Уикхем! — сказала я. — Возможно, и вам приятно видеть меня? — Уикхем недавно получил необычное повышение, став епископом Винчестерским и лорд-канцлером Англии[65] — поистине высокое положение для человека, который больше интересовался тем, под каким углом должен идти контрфорс, чтобы стены замка не рухнули на зазевавшихся стражей. Но мне хотелось немного уязвить его за проявленную неучтивость. — Или вы теперь слишком заважничали, чтобы замечать таких, как я?
— Беседовать с вами, мистрис, всегда весьма поучительно, — заметил Уикхем, оставив без внимания мой дерзкий выпад. — А как вы думаете, отчего это Виндзор так увивается за вами?
— Правда? — вздохнула я. — А я и не заметила.
— Я объясню вам. Чтобы вы замолвили за него словечко перед королем.
— Тогда он напрасно старается. Я Виндзору не друг. Или вы считаете меня такой доверчивой, чтобы польститься на первого попавшегося честолюбивого выскочку, который метит на высокий пост?
Я смотрела на него, ожидая извинений, но новый королевский канцлер и не думал извиняться.
— Я полагаю, что вам недостает опыта в общении с людьми подобного сорта, — заявил мне Уикхем, отделяя каждое слово паузами, которые еще подчеркивались стуком его подошв. — Он горд, беспощаден, алчен, честолюбив и совершенно беспринципен.
— Вы забыли еще добавить — «талантлив». — Уикхем нахмурился, а я улыбнулась в ответ. — И какого же вельможу нельзя обвинить в наличии всех этих совершенно незаменимых при дворе качеств, милорд?
Уикхем нахмурился.
— Да взять хотя бы вас, сэр. Как мне представляется, гордость и честолюбие — неизбежные спутники священника, только что назначенного лорд-канцлером.
Я сделала ему реверанс и, шурша юбками, удалилась, а он остался стоять у двери, ведущей в покои королевы.
— Я бы не стала ему доверять, — недовольно поджала губы Филиппа. — Не понимаю, отчего это Лайонел находит такое удовольствие в его обществе.
— Не имею ни малейшего представления, миледи, — ответила я.
— Как ты нашла — беседовать с ним на пиру было занимательно?
Я сделала медленный вдох, собираясь с силами. Интересно, хоть кто-нибудь ухитрился не обратить внимания на нашу беседу?
— Нет. Не могу сказать, что с ним было так уж интересно, миледи.
Находить удовольствие в его обществе? Занимателен? Несомненно, в нем было что-то зловещее — в том, как он давил на мои потаенные страхи, лишал меня самообладания, обретенного с таким трудом. Спустя всего сутки после нашей беседы было ясно видно, как на часах Эдуарда: Вильям де Виндзор ни у кого здесь не пользуется ни симпатией, ни доверием.
И мне пришлось задать себе вопрос: а у меня?
Ведь Вильям де Виндзор приобрел крайне неприятную привычку вторгаться в мои думы, сколько бы я ни пыталась прогнать всякие мысли о нем.
В свите королевы я присутствовала на военном совете, когда Эдуард позвал к себе Лайонела (которого сопровождал Виндзор), чтобы разрешить больной вопрос об управлении Ирландией. Филиппа в последние годы редко утруждала себя участием в решении государственных дел, но она беспокоилась о Лайонеле, опасалась вспыльчивости супруга, и это привело ее за стол совета. Не могу сказать, что я была недовольна: если бы не королева, то как могла я попасть сюда и наблюдать Виндзора в деле? Мне очень хотелось послушать, как он станет изворачиваться, оправдываясь за возникшие в Ирландии затруднения.
Король заговорил горячо, не выбирая выражений:
— Черт возьми, Кларенс! Я-то думал, что у моего сына силенок окажется побольше.
— А вы представляете себе, каково это — быть там? — вскинулся Лайонел — с чрезмерной, на мой взгляд, горячностью, совершенно здесь неуместной. — Ирландских туземцев невозможно ничем приручить. А родившиеся в Ирландии англичане сохраняют верность трону лишь тогда, когда это выгодно им самим. Полагаться можно единственно на англичан, родившихся и выросших в самой Англии, но они — все до единого — представляют собой не что иное, как сборище мерзких наемников.
— И ты не сумел уравновесить их интересы! А теперь что — сбежал, когда вспыхнули беспорядки, и предоставил им всем топить друг друга в крови?
— Я опасался, что меня убьют. — Лайонел был так мрачен, что красивые черты его лица исказились и стали отталкивающими.
— Я ожидал, что ты станешь общаться с ними, а не запрещать им приближаться к твоей царственной особе! Ожидал, что ты сумеешь добиться их доверия! И не надо искать ему оправданий, — резко бросил он Филиппе, которая уже положила руку на локоть государю, напрасно пытаясь остановить поток обвинений. — Твой сын трус. Ты смалодушничал, Лайонел. — Чем сильнее Эдуард гневался, тем спокойнее он выглядел, только сжимал побелевшие губы, да в глазах стоял сплошной лед. — В мое время…
Я перевела взгляд Вильяма де Виндзора. Он устремил свой взор куда-то за правое плечо короля и, казалось, внимательно изучал резные деревянные панели, которыми были обшиты стены зала. Неужели все эти листики и завитки и вправду так его интересуют? Потом наши взгляды встретились… но в его глазах я не сумела ничего прочитать. То ли он сердился, то ли был не в настроении, то ли недовольно отгораживался от меня, я так и не поняла, но мною вдруг овладело смущение. Я опустила взгляд на свои скромно сложенные руки.
— Теперь о войске. — Король с такой силой ударил кулаком по столу, что подпрыгнули, жалобно звякнув, стоявшие там кубки. — Мне сообщали, что воины моим именем творят грабежи и всяческие насилия. Сообщали также, что солдаты вынуждены грабить жителей, дабы прокормиться. Куда же подевались те средства, которые я специально направлял в Ирландию? Куда подевались собираемые там налоги? В чьих кошелях они осели?.. — Неожиданно Эдуард резко повернулся в кресле и обратил свои обвинения в другую сторону. — Я не слышал пока ничего хорошего о тебе, Виндзор.
И что же ответит на это Вильям де Виндзор? Я затаила дыхание. Чего мне хотелось больше: чтобы он вышел победителем из этой неравной схватки или чтобы пал под ударами справедливых обвинений Эдуарда? И сама не знаю.
Виндзор ничуть не дрогнул. На его грубоватом лице была написана совершенная невозмутимость, а в голосе не слышалось ни заискивающе-извиняющихся ноток, ни чрезмерной горячности, как у Лайонела. Впрочем, этому я могла и не удивляться.
— Я признаю, что в провинции возникли определенные трудности, — отвечал он королю. — Я исполняю приказы, государь, по мере сил моих. Мне сполна уплатили все, что полагается. Господин мой Кларенс — наместник короля, я подчинен его власти. Сам же я — всего лишь преданный слуга короны.
Это было решительное утверждение своей невиновности.
— Тебе, Виндзор, хочется переложить вину на чужие плечи, — мгновенно вспыхнул Лайонел.
— Думается, своей властью ты сам ничего не предпринимал, — продолжил Эдуард, взмахом руки повелевая сыну молчать.
— Истинно так, государь, — ответил Виндзор с полным спокойствием (по крайней мере, внешним), не реагируя на негодование короля и ярость Лайонела. Я хорошенько подумала и решила, что он заслужил мое одобрение.
— Ты считаешь, что Ирландия потеряна для нас безвозвратно?
Виндзор крепко задумался, словно раньше этот вопрос ему и в голову не приходил, разглядывая свои руки, лежавшие на столе совета ладонями вверх. Сказать «да» значило бы вызвать неудовольствие короля, сказать «нет» — тогда получится, что один из ближайших помощников Лайонела перечеркивает все попытки незадачливого наместника оправдаться. Как быть в такой ситуации? Виндзор решился и поднял глаза.
— Нет, государь, я так не считаю.
На Лайонела он даже не взглянул. Виндзор с самого начала решил для себя, что и как станет говорить. Он уже обдумал, как жить дальше, независимо от судьбы Лайонела. Разве он не признал, что честолюбив и эгоистичен? Мог бы добавить к этому еще одно качество: неразборчив в средствах — но это я и сама увидела.
— Ирландия — край опасный и непредсказуемый, — убежденно заявил он. — Там вот-вот вспыхнет восстание. Но я думаю, этому горю можно помочь. Нужно только править с разумной осмотрительностью.
— И тебе это по плечу, — сказал король, не скрывая неприязни.
— Да.
— Если хорошо заплатят, как я понимаю.
— Это верно, государь, — согласился Виндзор. — Если у меня будет достаточно власти и денег, я сумею привести Ирландию к повиновению.
— Я приму это к сведению…
Эдуард глубоко задумался, барабаня пальцами по столу. Пока он размышлял, в зале воцарилось долгое напряженное молчание, и пальцы Эдуарда успокоились. Взгляд его, устремленный на окно с цветными витражами, казался рассеянным. Собравшиеся уже начали ерзать на стульях, но король по-прежнему не выносил своего приговора. Я поймала себя на том, что с тревогой обвожу глазами всех сидящих за столом, пока Эдуард сидел не шевелясь, углубившись в потаенные мысли.
— Эдуард! — позвала его Филиппа, снова прикоснувшись к его руке. И вдруг воскликнула ни с того ни с сего: — Эдуард! Нужно найти Лайонелу новую супругу.
Король растерянно заморгал, словно его оттянули от самого края какой-то мрачной бездны.
— Жену! Да-да. Конечно надо. Я об этом уже думал. — Он говорил отрывисто, резко, хотя мне было известно, что после смерти молодой жены Лайонела, случившейся три года назад, вопрос его новой женитьбы обрел важное политическое значение. Новая жена в королевской семье — это возможность заключения нового политического и военного союза. — Но сначала покончим с этим делом… — Эдуард нахмурился, еще не придя к окончательному решению.
— Кого же вы пошлете туда, государь? — задал вопрос Уикхем, который хранил упорное молчание, пока шел турнир характеров царственных особ. — Кто отправится в Ирландию?
— Подождем, подумаем. — Эдуард поднялся, и все встали вслед за ним, исключая только королеву. — Я должен хорошо поразмыслить над этим, Виндзор. А ты, Лайонел, приходи ко мне завтра, мы с матерью обсудим достоинства новой невесты…
Совет закончился, не придя ни к какому решению, но изрядно попортив всем кровь. Думаю, в молодости Эдуард не допустил бы такого. Я помогла королеве встать с кресла и через ее плечо встретилась взглядом с Вильямом де Виндзором. В его глазах сияло торжество победителя. Королева подняла свой взор и тоже заметила это. Ни слова не сказала, только изо всех сил сжала мою руку.
На следующий день после заутрени я обнаружила, что Виндзор с хорошо разыгранной небрежностью подпирает стену возле входа в покои королевы.
— Приветствую вас, мистрис Перрерс. Ну наконец-то.
Он поклонился по всем правилам хорошего тона. Или же только насмехался? Не придя ни к какому выводу, я не стала проявлять особую учтивость и ограничилась тем, что слегка согнула колено. Королева осталась бы недовольна моими манерами.
— Приветствую вас, сэр Вильям. На службе в церкви я вас не видела.
— Только потому, мистрис Перрерс, что меня там не было. А куда вы направляетесь?
— Вам что до этого? — бросила я, задохнувшись от возмущения.
— Наверное, я мог бы проводить вас.
— Чего ради?
— Как вы любезны! А я был о вас лучшего мнения, раз вы фрейлина королевы… и имеете другие заслуги. — Да, он был достойным противником! — Позвольте мне сопровождать вас, тогда сами поймете, ради чего мне это нужно.
— Будь по-вашему. — Я пошла впереди — выполнять поручение королевы, он за мной. Но очень скоро он нагнал меня и пошел рядом, ближе, чем хотелось бы. Я сделала вид, что поправляю сбившийся рукав. — Если бы вы пришли к заутрене, сэр, то молитва и покаяние могли бы помочь в решении вашего будущего.
— Вы так считаете? Я сомневаюсь, что помогли бы.
— А исповедь? Говорят, она очень благотворно действует на душу.
— Я уже убедился в том, что это мнение сильно преувеличено. А вот вы, мистрис Алиса, могли бы сделать для меня куда больше.
— Я? — Он удостоился моего взгляда. — Что же я-то могу такого сделать?
— Разумеется, убедить короля снова направить меня в Ирландию.
Я остановилась и посмотрела на него с нескрываемым изумлением. Увидела решительно сжатые губы, жадный блеск глаз.
— Я не совсем понимаю, отчего вам так хочется вернуться туда, где вы уже потерпели поражение.
— Поражение? Ничего подобного. Верьте в меня, мистрис Перрерс, и скажите королю: я тот человек, который ему нужен. Невозможно переоценить преимущества человека, который знает тамошнюю обстановку. Так вы это сделаете?
Я не была расположена помогать ему. Разве что посмотреть, что он сам станет делать.
— Нет.
— Почему же?
Мне было известно больше, чем я ему открыла. Может, сказать? Или пусть сам узнает? Нет, я все-таки волью яд ему в уши — мне приятно будет сорвать с него маску невозмутимости.
— Обращаться с вашим делом к королю совершенно бесполезно, сэр Вильям. — Он сразу же насторожился, а я безмятежно улыбнулась. — Король назначит своим новым наместником графа Десмонда.
— Что? — А, на этот раз он был потрясен и мигом отбросил все притязания на флирт. — Что?
— Десмонда. Его король назначит своим новым наместником в Ирландии, — повторила я.
— Ради всего святого! Неужели?
— Он человек благородного происхождения и твердых принципов, — посыпала я солью раны Виндзора.
— И ума у него как у таракана. Значит, я избавился от Лайонела только затем, чтобы плясать под дудку Десмонда! — Он яростно закусил губы, затем развернулся и зашагал прочь, оставив меня в одиночестве.
Я посмеялась тому, что сумела так сильно раздразнить его.
— Как я поняла, вы искали меня вовсе не для того, чтобы насладиться моим обществом, сэр Вильям, — крикнула я ему вдогонку.
Тут он быстрым шагом вернулся ко мне: брови сердито сдвинуты, но самообладание снова полнейшее.
— Простите меня. Хотя мое поведение, полагаю, было непростительным, — проговорил он.
— Да уж, было.
Виндзор схватил меня за руку и поцеловал пальцы, хотя мысли его витали где-то далеко.
— Ладно. Десмонд, по крайней мере — если только за последние несколько месяцев он не переменился совершенно, — не станет особенно утруждать себя, а ведение всех дел перепоручит мне. Могло выйти и хуже. Мне могли навязать в начальники какого-нибудь старого козла, который обожает во все вмешиваться и даже не сообразит, отчего это вдруг у него под носом разгорелось восстание…
Он снова удалился — прежде чем я нашлась, что на это сказать.
На следующее утро Виндзор явился на заутреню. На мой пристальный взгляд он ответил тем, что изобразил бесстыдную насмешку над святостью торжественного обряда, особенно когда с восторгом следил за действиями священника, высоко воздевшего дарохранительницу. Я было поразилась тому, как он всей душой ощущает присутствие Господа Бога среди нас. Да только в самом конце службы на его устах зазмеилась поистине дьявольская усмешка. И это тоже поразило меня, хотя по совершено другим причинам.
Эдуард меня удивил: даже не поинтересовавшись моим мнением, приказал Виндзору возвращаться в Ирландию помогать вновь назначенному наместнику — графу Десмонду. Как я поняла, таким образом он достиг хрупкого равновесия, устроившего все стороны, а правой рукой Десмонда поставил способного и решительного человека. Поистине мудрый политический ход. Значит, Виндзор должен вот-вот уехать. Я и не знала, радоваться мне или огорчаться, когда из моей жизни исчезнет этот человек, доставлявший столько неприятностей. Но решение короля очень сильно меня удивило.
— Мне казалось, он вам не нравится, — заметила я, когда Эдуард рассказал, что собирается отослать этого треклятого, но очень неглупого ублюдка назад, в Ирландию, где тот, даст Бог, получит справедливое вознаграждение, когда какой-нибудь ирландский мятежник проткнет его мечом насквозь.
— Не нравится. Но он понимает ирландцев.
— А вы не опасаетесь того, что ваше доверие он использует, чтобы набить собственный карман?
— Само собой разумеется. Но он не лишен талантов.
— И скоро вы его туда отправите? — поинтересовалась я.
— Чем скорее, тем лучше. В Дублине зреет мятеж, он вот-вот вспыхнет.
Стало быть, пребывание Вильяма де Виндзора при дворе будет недолгим. «Скатертью дорога!» — сказала я про себя. Но мне захотелось непременно повидать его до отъезда. Для чего мне это было нужно? Где здравый смысл?
На первый вопрос я ответить не могла. А здравый смысл куда-то запропастился.
Где же его искать? Я пожаловалась, что у меня разболелся зуб, чтобы получить возможность выскользнуть из светлицы, и заглянула во все уголки, где он мог быть; где его никак быть не могло, я тоже знала. Часовня — маловероятно. Конюшни, аудиенц-залы, в одной из передних несколько хлебнувших лишнего рыцарей (ну, этого следовало ожидать). Но его не было нигде. Может, он уже уехал? Отбыл по королевскому приказу на заре, чтобы поскорее вернуться к источнику своих честолюбивых надежд? Неожиданно сердце мое сильно забилось.
«Дура ты, дура, — сказала я себе. — Что он тебе? Только досаду причиняет. Даже не нашел времени, чтобы проститься с тобой. Ты ему нравишься ничуть не больше, чем он тебе».
И все же я находила непонятное удовольствие в наших безжалостных пикировках.
Вернулась к конюшням, где мне сообщили, что он еще не уехал. Его поджарый чалый жеребец был на месте, как и вьючные лошади. Так где же он? Возможно, в комнате какой-нибудь дворцовой шлюхи. Нет, не думаю. Так где же он проводит свой последний день при дворе?
И вдруг до меня дошло.
Уже через две-три минуты я стояла у дверей, прижимаясь к ним ухом. За дверью слышался гул голосов. Их было трудно различить, но я решила подождать и выяснить наверняка, все еще не отдавая себе отчета, зачем это мне нужно. Прежде чем я нашла ответ, который развеял бы мои иллюзии, дверь открылась и объект моих поисков появился в коридоре — после беседы с казначеем Эдуарда. Понятно, что ему необходимо было урегулировать финансовые вопросы…
— Ба, да это мистрис Перрерс, не сойти мне с этого места! — Он поклонился.
— Приветствую вас, сэр Вильям. — Я сделала реверанс.
— Я завтра уезжаю.
— Знаю.
— И вы разыскали меня, чтобы попрощаться. Как это мило с вашей стороны!
— Еще бы!
— Вы могли бы сделать так, чтобы последнюю ночь здесь я не забыл никогда. Если у вас, конечно, не назначено другое свидание.
Я застыла и напряглась, словно заяц, увидевший гончих и готовый спасать жизнь отчаянным бегством. В уме я повторяла его чудовищное приглашение — как он посмел предположить такое, как смог извратить суть моих намерений! Первым моим побуждением было взять пример с незадачливого зайца и пуститься наутек, подальше от свирепых псов. Но Виндзор уже взял меня под руку и повел к залитому солнцем окну, возле которого никого не было. Кожа руки, которую он сжимал, стала очень чувствительной, а щеки залил жаркий румянец. Я убеждала себя, что это — признак моего гнева и презрения к человеку, который то издевается надо мной, то унижает меня. Нет, я не допущу, чтобы он указывал мне, что нужно делать, равно как и не приму его невероятное предложение. Я отстранилась от него, несмотря на то что тело мгновенно отозвалось на его движение (он отпустил мой локоть и вместо этого крепко обвил пальцами запястье), — все мышцы живота окаменели, — и ответила ледяным тоном:
— Вы полагаете, я прыгну к вам в постель, сэр Вильям? Изменю своему королю?
— Этого я не знаю. А вы хотите?
— Не все из нас лишены принципов.
— О, я полагаю, это свойственно большинству из нас — в той или иной степени. — Он по-своему повторил то, что я давеча говорила Уикхему. Взгляд Виндзора был откровенно наглым. — А он хороший любовник? Вас удовлетворяет?
— У вас нет стыда, сэр. А короля я не предам.
Нет, я не стану изменять Эдуарду с таким типом, как Вильям де Виндзор, но все же он чертовски привлекателен, несмотря на всю свою наглость. Он снова удивил меня неожиданной сменой направления разговора — как я позднее поняла, это был его излюбленный прием, чтобы сбить собеседника с толку.
— Да. Полагаю, вы его не предадите. Но сделаете ли вы для меня одну вещь, мистрис Перрерс?
— Что бы это может быть, коль скоро вы отказались от мысли заманить меня на свое ложе?
— Когда я буду в Ирландии, держите меня в курсе настроений при дворе и изменений в политике короля.
Вот как! Его интерес ко мне носил не личный характер, а чисто политический. Немного уязвленная тем, что он так быстро отказался ото всех моих прелестей (вот как нелогично рассуждают женщины!), я спросила:
— А что взамен?
— Должен ли я платить вам?
Я прибегла к испытанной жеманной улыбке.
И Вильям де Виндзор меня поцеловал. Не поцелуем, исполненным горячей страсти или трогательной нежности, — только крепко прижался губами к уголку моего рта, как бы обещая возможность и того, и другого в будущем.
Не успев ни о чем подумать, из одного лишь мгновенного побуждения, я дала ему пощечину.
— Милейшая Алиса! — расхохотался во все горло Виндзор. — Вы совсем не умеете держать себя в руках!
— А вы не умеете быть почтительным! — Меня одинаково потрясло и то, что сделал он, и то, как ответила на это я сама, и теперь я изо всех сил постаралась взять себя в руки. Сердце мое сильно стучало, кровь лихорадочно струилась по жилам — и отнюдь не оттого, что в окно лились потоки тепла и света. — Кажется, вы учились хорошим манерам в обществе дублинских блудниц.
— Я держу себя так или иначе в зависимости от того, кто меня окружает, мистрис.
Взглядом он раздел меня с головы до ног. И все мое самообладание тут же вылетело в окошко. Стремительно, как бросающаяся на жертву змея, взметнулась моя рука, чтобы ударить его еще раз, но он перехватил ее, поднес к своим губам и поцеловал. В моих жилах гулко запульсировала кровь.
— Какая вы грозная, Алиса! А теперь поговорим серьезно. — Он отпустил руку так же быстро, как и завладел ею. — Держите меня в курсе дел. И не забывайте прихватывать все, что только можно, для себя. Когда король и королева уже не в силах будут смягчать направленные против вас удары, враги набросятся на вас и растерзают на части. Постарайтесь полнее набить сундуки сейчас, если не хотите снова оказаться в сточной канаве.
— Я не нанималась служить за деньги!
— Сейчас речь у нас идет не о таких глупостях, как кто кем нанимался, женщина! Речь идет о том, как выжить и защитить себя. Если вы сейчас, обладая властью, не позаботитесь о себе сами, то уже никто иной о вас не позаботится. И если вас тревожат мысли о том, не становитесь ли вы от этого слишком черствой, слишком жадной, то подумайте вот о чем еще. Кто хоть мельком вспомнит о вас после того, как Эдуард ляжет в гроб?
Я медленно покачала головой, до смерти напуганная картиной, которая по милости Виндзора врезалась теперь в мою душу.
— Так ответьте мне, Алиса.
На мгновение я заметила в его лице сочувствие. Видеть это мне было крайне неприятно, однако я сказала ему чистую правду:
— Никто.
Когда не станет ни Филиппы, ни Эдуарда, корона перейдет к принцу Уэльскому, а рядом с ним на троне воссядет супруга — Джоанна Прекрасная. При ее дворе места для меня не останется.
— Или вы мечтаете сделаться фрейлиной Джоанны Блудницы? — спросил Виндзор.
Эти грубые слова, поразительно совпавшие с моими собственными мыслями, снова пробудили во мне уснувшие было дурные предчувствия. Худшего развития событий и представить себе нельзя было. Пока она оставалась в Аквитании, бояться ее мне было незачем, но вернувшись в Англию, она станет опасным врагом. Я вспомнила все ее насмешки. Невыносимое презрение ко всем подряд простолюдинам. Откровенную неприязнь ко мне.
— Даже вашим сыновьям могут прекратить выплачивать содержание — об этом вы подумали?
Горячая кровь сразу застыла в моих жилах, но я еще пыталась отмахнуться от этого.
— Никакие опасности мне не грозят. К тому же у меня есть собственные средства.
— Два бочонка гасконского вина за верную службу королеве[66]? Вряд ли Эдуард очень щедр! — Он безрадостно рассмеялся.
— Но у меня есть земля… — не сдавалась я.
— Ее хватит, чтобы позволить вам жить так, как сейчас? — тут же осадил меня Виндзор.
— У меня есть поместья и городские дома… — Я отчаянно цеплялась за то, что удержит меня (как я надеялась) от сползания к нищете.
— И в тяжкую годину эти поместья и дома смогут отогнать от дверей злобных волков, а? Вы уже привыкли жить в королевской роскоши. И согласитесь на меньшее? Когда ничего нет за душой, зима тянется бесконечно. Мне ли этого не знать? И если вы не прислушаетесь к моим советам…
— Я не сказала, что не прислушаюсь.
— Верно, не сказали. А все-таки подумайте над этим хорошенько.
Я всмотрелась в жесткие складки, залегшие на его лице. Следы трудного опыта, вовсе не привлекательные.
— Зачем вам это нужно? — спросила я. — С чего вам заботиться о моем будущем? Что я могу значить для вас?
Он приподнял мой подбородок, развернул лицо к свету, и я не сопротивлялась, потому что задала ему вопрос. Но как мне расценить ответ?
— Честно говоря, я и сам не знаю, — проговорил он мягко, словно усиленно стараясь отыскать в душе причину, которую ему самому очень не хотелось понять до конца. — Вы своенравны, любите противоречить, вообще вы не в моем вкусе. Но по какой-то непонятной причине мне не хочется, чтобы вы остались ни с чем. Отчего бы это?
Я не пожелала отвечать на этот вопрос. Быть может, мы оба пытались обмануть себя? Все мои чувства отчего-то пришли в смятение. Испугавшись и растерявшись, я собралась было уходить, но он поймал меня за руку, удержал на месте. Я обернулась через плечо.
— Что вам угодно?
— Мы с вами больше не увидимся.
«И я буду вечно благодарить Бога за это», — чуть не сорвалось у меня с языка. И я увидела, как он едва заметно напрягся, весь подобрался в ожидании моего ответа. Пальцы его сильнее сжали мою руку, глаза потемнели, будто ему было небезразлично, что я скажу. Поэтому — он же не зря обвинил меня в том, что я люблю противоречить, — я не сказала ничего. И напряжение покинуло его.
— Вам нечего сказать мне?
— Доброго пути, сэр Вильям.
— По крайней мере, это уместное пожелание. — Губы искривились в подобии усмешки. — А писать мне вы будете?
— Над этим я подумаю.
Его рука скользнула ниже, сжала мои пальцы.
— Здесь люди… — запротестовала я.
— Мне до них нет дела. И вам тоже. Я восхищен вами, мистрис Алиса. Меня восхищают ваша сила духа и преданность королю. Восхищают ваша целеустремленность и нежелание слепо следовать чьим бы то ни было советам, пока вы сами не решите, как лучше поступить. — Наверное, сильное изумление отразилось у меня на лице. Он видит меня такой? — Восхищает ваша уверенность в себе. — Он прижался губами к моей ладони. — Восхищает ваша решимость оставаться такой, какая вы есть. — Виндзор взглянул на меня, слегка сощурившись. — А вы мною восхищаетесь, мистрис Перрерс?
— Нет.
— Что ни в малейшей степени не меняет моих чувств к вам, — рассмеялся он. — Меня восхищает ваша честность, хотя я порой и не верю тому, что вы говорите.
Он легонько потянул меня за руку, привлек к себе и поцеловал еще раз. Теперь уже по-настоящему приник к моим устам своими сильными, прохладными, невероятно соблазнительными губами. Поцелуй продлился всего миг, но в нем были теплота и нежность, которые я ощутила всем своим телом.
— Прощайте, Алиса.
Поклон, взмах украшенной пером шляпы — и он помчался в Ирландию.
«Слава Богу!»
Я не сумела изгнать этого человека из своих мыслей.
Что за чувства я испытывала к Виндзору? В них я могла разобраться не больше, чем он в своих чувствах ко мне. Вот чувства к Эдуарду были мне понятны благодаря нашей долгой близости: восхищение, уважение, сочувствие. Привязанность, порожденная глубокой признательностью. И даже — когда я была склонна признавать это — эротическая притягательность запретного плода.
Но как быть с этим мужчиной, помимо моей воли вторгшимся в мою душу? Куда более грубое чувство овладевало мною, когда я вспоминала, как прижимались его губы к моим, к моей ладони. Мне не хотелось искать точное название этому чувству, но он заставил трепетать все мое тело, и — у меня хватило честности признать это — трепетало оно не от отвращения.
Я жалела, что Виндзору пришлось вернуться в Ирландию.
«А вы мною восхищаетесь, мистрис Перрерс?»
Поди ты прочь!
«Вы могли бы сделать так, чтобы последнюю ночь здесь я не забыл никогда».
Я была страшно рада тому, что он уехал отсюда. Эдуарду я ни за что не изменю. Все мое настоящее и будущее целиком зависели от щедрой руки Эдуарда и от потребности Филиппы в обезболивающих средствах, а вовсе не от крепких объятий отважного и невоспитанного мужчины (только что не деревенщины), у которого было мало друзей, а понятий о нравственности еще меньше. Вильям де Виндзор — не мой суженый. Я почесала ладонь, будто хотела стереть саму память о нем. Вот! Прошло. И незачем больше о нем думать.
Все равно думала. Он оставил мне подарок в память о своем внимании и печальных, хотя и непрошенных предостережениях против тех, у кого не было ни малейших оснований относиться ко мне с симпатией. На следующий день после его отъезда рано утром в мою дверь постучал слуга — один из множества конюхов, судя по крепкому запаху сена и лошадиного пота. Он с поклоном протянул мне кожаный поводок, привязанный к ошейнику щенка волкодава. И тут же удалился, не дав мне возможности ни о чем расспросить.
Ах!
Он — вернее, она — послушно сидела, глядя на меня. К этому существу, жадно смотревшему на меня, как на мозговую кость, не прилагалось никакого рекомендательного письма. Сперва была лошадка, теперь вот пес. Не имея ни малейшего пристрастия к животным, я вдруг почувствовала, что у меня их уже в избытке.
— Должна тебя предупредить, — сообщила я щенку, — что ни капельки не люблю собак, пусть даже с самой благородной на свете родословной.
Псина по-прежнему не сводила с меня глаз.
— Почему я уверена, что тебя прислал Виндзор? И что мне с тобой делать?
Собака часто задышала, высунув язык.
— Отправить назад, на конюшню? Таким, как ты, не место в покоях леди.
Волкодавчик вздохнул.
— Пожалуй, ты права! Поскольку я не леди, тебе можно остаться, наверное. А Виндзор считает, что мне необходим сторожевой пес? От кого же, интересно, ты должна меня защищать?
Значит, он полагает, что мне может грозить опасность. Ладно, об этом еще будет время подумать.
— Как же тебя назвать? — спросила я, не без опаски обходя псину. Она улеглась на живот и закрыла глаза, нежась в лучах солнышка. — Может, Виндзор?
Это был каприз. У них обоих было такое выражение в глазах, будто они все знают и все понимают, а еще — несомненная воля и беспощадность, заметные, даже когда зверюга дремала. Стоило мне немного отойти, она подняла голову и стала наблюдать за каждым моим движением глазами, сверкавшими из-под большого лба.
— Наверное, будет лучше, если ты останешься у меня. И если уж на то пошло, я не могу назвать тебя Виндзором. Давай назовем тебя Отважной.
Я села, а Отважная положила огромную голову на передние лапы и уснула. Я решила разобраться в предостережениях, исходивших от Виндзора, — это куда полезнее, подумалось мне, нежели вспоминать о его поцелуях. А предостережения нельзя было отмести как досужие выдумки.
Пора снова писать письмо в «Кафтан», что в Саутуорке.
Гризли по-прежнему неустанно заботился о моей и своей выгоде, даже стал понемногу давать деньги в рост. Я не утруждала себя прямыми расспросами о подробностях сделок такого рода, предоставив своему поверенному следовать собственными извилистыми путями, а о своей причастности к его делам узнала только из судебного дела, документы которого были мне присланы вследствие моего отсутствия в судебном заседании. Это был иск Гризли против некоего Ричарда де Кента, лондонского торговца рыбой, не возвратившего две сотни марок[67], которые я ссудила ему при посредничестве Гризли. Что еще важнее — на доходы с дома по улице Грейсчерч мой поверенный приобрел для меня пожизненные права на поместье Рэдстоун в Нортгемптоншире. И еще у меня был, конечно же, Ардингтон…
Но я мечтала о новых приобретениях. Мне ужасно хотелось прикупить несколько акров[68] земли в одном месте, помещичью усадьбу с садом и пристройками в другом, да еще иметь побольше домов в Лондоне и сдавать в аренду замок на севере Англии. Это открывало передо мной перспективы, сияющие, как Полярная звезда, а раз деньги у меня были — как можно противиться подобному искушению? С разрешения Эдуарда я позаимствовала деньги в королевской казне и написала Гризли свои указания. Он приобрел для меня поместье Меонсток. Будущее вдруг стало выглядеть не таким шатким, как прежде.
«А на это что вы скажете, сэр Вильям?»
Думаю, он сумел бы отозваться об этом достаточно пренебрежительно. Если только пути наши еще когда-нибудь, к несчастью, пересекутся.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Сказочное место — королевский замок Виндзор, окруженный мощными стенами с могучими башнями. Залы и покои увешаны зеркалами, которые усиливают свет и отражают росписи, рожденные прихотливым воображением Уикхема: от пола до самого потолка все увито розами — синими, голубыми, зелеными, ярко-алыми. Мне эти слишком яркие цвета резали глаз, но все очень восхищались росписью, а уж позолоты хватило бы, чтобы покрыть ею любимый боевой корабль Эдуарда «Кристофер» — целиком, от носа до самой кормы. Лето ярко освещало и согревало этот роскошный памятник королевскому величию, но вот королева Англии была прикована к постели. Стоило ей чуть шевельнуть головой или рукой — и все ее тело пронизывала острая боль. Я уже ничем не могла ей помочь. Болезнь зашла так далеко, что от ивовой коры теперь не было никакого проку: она не помогала уже много месяцев, и я замучилась готовить все новые порции лекарства. Когда Филиппе становилось не под силу терпеть, она просила дать ей кубок горького вина и забывалась благодатным сном. Я сидела с нею, когда она то бредила, то снова приходила в ясное сознание, требуя говорить ей только правду и не допускать ни малейшей лжи. Фрейлины быстро и охотно уступили мне все обязанности по уходу за больной.
Впрочем, я не жаловалась. Разве не была я всем обязана этой великодушной женщине, в сердце которой царила безграничная любовь, а характер был подобен сразу и могучему дубу, и тем нежным перышкам, что покрывают голубиную грудку? Женщине, которая сумела так глубоко заглянуть в мою душу, что подняла меня из бездны неизвестности к высотам нынешнего небывалого положения при королевском дворе. Я буквально всем была обязана ей. А потому и не жаловалась, сидя у ее ложа и наблюдая, как жизнь бесповоротно покидает ее.
— Изабелла здесь? — спросила королева.
— Нет, миледи. Она во Франции, со своим супругом.
— Да, конечно. — Филиппа безуспешно попыталась изобразить улыбку. — Удивляюсь, как она до сих пор от него не сбежала. — В ее голосе я уловила едва различимый смешок. Она немного помолчала. — А где Лайонел?.. Ах да… Помню… — На ее глаза навернулись слезы: любимого сына Лайонела уже не было на этом свете. В разгар бесконечных пиров в честь его женитьбы на наследнице рода Висконти Лайонел подхватил какую-то смертельную лихорадку. — Как я устала, Алиса… — вздохнула королева.
Охваченная страхом, я смочила ей лоб и губы.
— Почитай мне молитвенник. Молитву Пресвятой Деве…
Я прочитала, и это ее немного успокоило.
— Я умираю, Алиса? — Слово «да» застряло у меня в горле. — Я по твоему лицу вижу. Ну, если тебе трудно это произнести, то скажи мне вот что. Долго еще?..
— Нет, ваше величество. Теперь уже недолго.
— Благослови тебя Господь. Ты всегда была честна. А король сейчас в Англии?
— Да, миледи. Он в Лондоне… в замке Тауэр.
— Он мне нужен, — произнесла она, едва шевеля губами. — Отправь к нему гонца и вели сказать… чтобы он не терял времени.
— Сейчас, ваше величество. Все будет исполнено.
— Станет ли Эдуард упрекать меня? — всхлипнула королева. — За то, что я отвлекаю его от выполнения долга, призывающего короля во Францию?
— Нет, миледи. — Я вытерла ее слезы, ибо ей самой это было не под силу. И могла ли я сама не всплакнуть с нею вместе? — Король никогда не станет вас ни в чем упрекать. Он любит вас больше жизни. Вот чего бы он не простил — это если бы вы утаили от него, как сильно страдаете.
А сама подумала о том, как сильно в Эдуарде чувство долга. Эта его черта восхищала меня больше всего. Когда французы заняли Понтье и стали угрожать Гаскони, Эдуард разорвал мирный договор с Францией и стал готовиться к новой войне, к тому, чтобы побороться за французскую корону, от которой он было отказался[69]. Пусть кое-кто шептался, что он уже слишком стар, чтобы задумывать такой длительный поход (как в былые дни), но разве мог быть иной выбор у такого гордого человека? Принц-наследник, еще не оправившийся после болезни, не в силах был вести войско в бой, поэтому Эдуарду ничего не оставалось, как взять командование в собственные руки. Он же король. Он не мог допустить, чтобы пропало все то, чего он сумел добиться за свою жизнь. В том же месяце он отправил Джона Гонта в Кале. За ним должен был последовать сам Эдуард с войском. И в эти минуты он находился в Тауэре, заканчивая приготовления к походу.
Но он не выступит сейчас. Он примчится к Филиппе во что бы то ни стало. Если он нужен королеве, эта чаша весов без труда перетянет все английские владения во Франции. Я только молилась, чтобы он успел. В сгустившемся по углам комнаты сумраке реяла отвратительная тень смерти, и с каждым днем она становилась все заметнее.
Эдуард приплыл на королевской барке, преодолевшей вызванное приливом сильное течение на Темзе. Я вместе с другими придворными вышла к причалу приветствовать короля. Может быть, еще и для того, чтобы как-то подготовить его. Я не виделась с королем шесть недель и сейчас не могла не заметить, как сильно он изменился.
Нет, не думаю, что перемены обнаружил бы обычный подданный, завороженный внешним блеском короля Англии. Ничуть не согнувшись под грузом лет, все такой же красивый, с волевым царственным лицом, он с улыбкой находил слово для каждого из гребцов, которые доставили его сюда из Тауэра. Камзол облегал его широкие плечи, гордо сверкали вышитые золотом на красном фоне львы, а солнце позолотило седину в волосах Эдуарда — так он выглядел, когда барка разворачивалась поперек реки, причаливая к пристани Виндзора.
Но едва он поднялся со своего места на корме, я сразу же это поняла. Раньше он стоял бы в продолжение всего пути — исполненный достоинства, но доступный подданным, сам все примечающий и позволяющий народу видеть своего вождя. Теперь же он сидел. Больше того, я заметила (быть может, только я одна), как он, сходя с судна на берег, оперся на руку пажа — не налег всем весом, но оперся, чтобы не покачнуться. А первые шаги по суше сделал неуверенно, напряженно, словно ноги и руки у него затекли. Морщины у глаз и в уголках рта выделялись резче, чем в тот день, когда я целовала его на прощание. Ах, Эдуард! Какие следы оставляют на лице горести и прожитые годы! Как неумолимо слабеет тело под тяжким бременем долга! Первым моим побуждением было подойти к нему, поцелуями разгладить морщины, что залегли под глазами, однако я соблюла положенную дистанцию. Неподходящий момент для того, чтобы короля встречала любовница. Он приехал сюда вовсе не ради меня, да я и понимала, что не в силах отвлечь его от душевных мук. На миг я даже пожалела, что вышла на пристань, а не осталась рядом с королевой, на своем общепризнанном месте. Холодной волной накатили дурные предчувствия того, что ждет меня в ближайшие дни.
Не станет королевы — не станет и моей должности, мне нечего будет здесь делать. У Алисы Перрерс не будет причин находиться при королевском дворе, если только сам король…
Я прогнала смутную мысль, едва она пришла в голову. Ничего нового не придумаешь, остается только ожидать неизбежного. Сейчас лишь одно играло роль: Эдуард должен успеть встретиться со своей умирающей супругой.
Лорд Латимер, стюард двора[70], поклонился королю. Я сделала реверанс. Король обвел глазами столпившихся у пристани придворных. Я сделала было шаг назад, но король отыскал меня взглядом.
— Здравствуйте, мистрис Перрерс.
— Приветствую вас, ваше величество.
— Расскажите о моей супруге. — Голос у него был тихий, хриплый от сдерживаемых слез. — Она умирает?
— Да, государь.
— Она это понимает?
— Она в полном сознании и все понимает. Ей жаль, что пришлось вас побеспокоить.
— Я не мог бросить ее. Как можно? Она для меня — все.
— Да, государь.
Я сглотнула подступивший комок. Прозвучавшее трогательное признание как нельзя лучше проясняло мое собственное положение. Я снова отступила на шаг, а король повернулся и зашагал вверх по лестнице, ведущей в замок, — необходимость поспешить и застать Филиппу в живых придала ему сил. Но на верхней ступеньке остановился и оглянулся на меня.
— Идите за мной. Вы ей понадобитесь.
И я, внутренне сжавшись, повиновалась.
Так я стала свидетелем их последней встречи. Вынести это оказалось для меня тяжелее, чем я предполагала, потому что их чувства подчеркнули то, чего так недоставало в жизни мне самой. Даже перед лицом смерти их любовь нисколько не померкла. На несколько мгновений перед моим мысленным взором явился Вильям де Виндзор, без всякого приглашения — совершенно в его духе. Что-то мы испытывали друг к другу, но далеко не те глубокие чувства, которые связывали короля и королеву. Мне вообще было трудно представить себе такую любовь — выходящую далеко за рамки телесной близости, неподвластную времени. Филиппа оторвала руку от простыни, вложила ее в ладонь короля, своего господина, своего любимого. Эдуард опустился на колени у ее ложа.
— Эдуард, милый, вы пришли ко мне. — Слова давались ей с трудом, но я расслышала в них радость.
— Разве вы в этом сомневались?
— Нет. Алиса сказал мне, что вы придете. — Она мельком взглянула в мою сторону, но в эту минуту я была ей совершенно безразлична. Все внимание она сосредоточила на находившемся рядом с ней мужчине. — Как счастливы мы были вместе! И столько лет уже…
— Я готов снова жениться на вас. Завтра. Сию минуту. — Эдуард ласково пригладил упавшую ей на лоб прядь спутанных поредевших волос.
— А вы очаровательны, как всегда, — выговорила она со слабым смешком.
— Мне, кроме вас, никто и не нужен.
Меня эти слова поразили в самое сердце. Чтобы не мешать им, я отступила к самому гобелену, ощущая спиной его материю и скрытую под ней твердость каменных глыб. «Тебе здесь нечего делать!» — неумолимо твердила моя совесть.
— Когда смерть разлучит нас… — донесся до меня шепот королевы.
— Нет!
— Когда смерть разлучит нас, — повторила она, — исполните ли вы три моих просьбы, милый мой господин?
— Леди! — воскликнул Эдуард, задыхаясь. — Я сделаю все, о чем бы вы ни попросили.
— Тогда уплатите мои долги. Мне невыносимо думать, что они останутся неуплаченными.
— Вы всегда были расточительны. — Нежность, звучавшая в голосе Эдуарда, провала плотину моих слез.
— Я и сама это знаю. Так уплатите? А потом раздайте деньги и подарки по моему завещанию.
— Исполню.
— И последнее. Эдуард, любимый мой, упокоитесь ли вы подле меня, в Вестминстерском аббатстве[71], когда минет срок, отпущенный вам на земле?
— Да, это я тоже исполню.
Эдуард склонил голову, коснувшись лбом ее руки. Так они молчали некоторое время, все в комнате стихло, и я тихонько прикрыла дверь, оставив их наедине. Они даже не заметили моего ухода. Во мне они не нуждались.
Никем не замеченная, я прошла анфиладой передних и приемных, пробираясь к выходу на пустынную замковую стену, по которой можно было гулять. На удивление, все мысли были у меня только о себе самой, но я не могла заставить себя думать о ком-нибудь другом. Я всплакнула о тех двоих, чье свидание только что наблюдала, однако где упокоюсь я, когда наступит мой черед? И кто будет спать вечным сном рядом, по своему желанию или по моей просьбе? Я оставалась такой же одинокой, какой была всегда, если не считать этой быстро угасающей женщины и ее убитого горем мужа. Кого могла назвать я другом во всем обширном королевском дворце? Никого. Кто хотя бы просто вспомнит обо мне? Может быть, Вильям де Виндзор — но у него ко мне особый интерес, как, впрочем, и у меня к нему. А Уикхем меня заклеймит.
Вот я и рыдала по Филиппе, Эдуарду и по самой себе. И еще — от страха перед будущим, предвидеть которое отныне было не в моей власти.
Конец наступил в пятнадцатый день августа, после того как Уикхем соборовал и причастил королеву. Мы были рядом с ней: Эдуард, юный Томас Вудсток и фрейлины, проливавшие горькие слезы, как и все во дворце, от сокольничего до последнего поваренка. Никто из них не остался безучастным к смерти королевы, столь любимой при жизни. Я помолилась за упокой ее души, в последний раз прикоснувшись к ее ноге, укутанной роскошным покрывалом, на котором было вышито множество династических львов Плантагенетов. Перед самой кончиной королева поманила меня к себе и прошептала на ухо — так тихо, что я сама едва ее расслышала:
— Обещай мне!
— Обещаю.
Понимала ли она сама, о чем просит? Представляла ли себе, какое тяжкое бремя на меня возлагает? Наверное, не представляла, и все же я выполню ее просьбу. Буду по-прежнему выплачивать ей свой долг, если только это окажется в моей власти.
Когда Филиппа испускала последний вздох, король, державший ее руку, поцеловал королеву в лоб.
— Эдуард… Любимый мой… Какая у нас была семья…
Эдуард склонил голову и, не стесняясь присутствующих, зарыдал. Возможно, я завоевала его привязанность, его уважение, ко мне влекли его побуждения плоти. Но сердце его принадлежало только Филиппе, и даже после смерти она одна будет им владеть. С ней Эдуард утратил свою путеводную звезду, твердую опору под ногами, ясное место в этом мире.
И вот королева ушла из его жизни. Все равно что опустел великолепный замок, разграбленный, лишенный всего, что наполняло его. Виндзорский дворец словно погрузился во мрак. Эдуард, как привидение, бродил по комнатам и переходам; безмерность потери подорвала его силы, затмила даже неукротимый дух Плантагенетов. Он делал все, что было положено, но, похоже, приказания отдавала лишь пустая оболочка, лишенная сердцевины. И все делал сам — я, его любовница, не имела никакого касательства к погребению его супруги. Набальзамированное тело его любимой Филиппы будет переправлено по Темзе на королевской барке, а оттуда траурная процессия двинется по улицам Лондона к Вестминстеру, чтобы горожане имели возможность выразить свою скорбь и проводить королеву в последний путь. Похоронят ее в часовне Эдуарда Исповедника[72], согласно ее последней воле, в загодя приготовленной гробнице, где статуя на надгробии изображает ее такой, какой она была при жизни: простой женщиной, чье сердце переполняла любовь.
Бесцветным голосом Эдуард подтвердил завещание королевы: казначей будет выплачивать мне (как и всем остальным фрейлинам) по десять марок дважды в год — на Пасху и на Михайлов день — в благодарность за службу королеве. Нам всем также выдали по большому куску черной материи на траурные платья. Меня она в завещании ничем не выделила.
Значит, с этим кончено.
И что теперь?
«Ты — возлюбленная короля. В этом все останется по-прежнему».
Но Эдуард не звал меня на свое ложе. Он так и не прислал за мною, ни разу в те бесконечно тянувшиеся дни, когда я знала, что он страдает. Сердцем я тянулась к нему, но его словно окутала непреодолимая пелена тумана, и он не мог (или не хотел) вырваться из нее. Он не желал видеть меня, я была ему не нужна, и мне ничего не оставалось, как только ждать того, что мне уготовано.
Фрейлинам оставалось выполнить еще одно, последнее поручение, и я молча заняла свое место среди них. По распоряжению короля мы упаковали все вещи королевы. Занавеси полога, как и покрывала ее великолепного ложа, были разрезаны, из них сшили облачения для священников Йоркского кафедрального собора — в память о том волнующем дне, когда Эдуард венчался там с Филиппой. Работа не очень отвлекала от наших мыслей, только занимала руки, но я была не в силах присоединиться к щебету молодых дам, которые собирались домой, к своим родным, если не откроется возможность занять при дворе какую-нибудь иную должность.
Потом незаметно наступило Рождество, которое в том году мы не отмечали празднествами. В больших комнатах для танцев царила тишина, густой слой пыли покрывал полы. Беспокоясь за короля, Джон Гонт возвратился из Кале и провел весь срок траура рядом с отцом, закрывшись от посторонних в королевском охотничьем домике в Лэнгли, разве что Эдуард на этот раз там не охотился. Канцлер Уикхем, часто ездивший по государственным делам из Виндзора в Лэнгли и обратно, выглядел встревоженным. Я не выезжала из Виндзора, где находились останки королевы. Эдуарда я увидела вновь только тогда, когда сопровождала набальзамированное тело Филиппы в Тауэр, в первых числах нового года. Эдуард стоял у гробницы, в которую опускали гроб Филиппы, и казалось, что в застывшей молчаливой фигуре короля осталось не больше жизни, чем в теле королевы, обретшем свой последний приют. Лицо осунулось и посерело, голова склонена, пальцы судорожно сжимают рукоять меча. Старость безжалостно вцепилась своими когтями в Эдуарда.
Отзвучали слова заупокойных молитв, и я увидела, как перекрестился стоящий рядом с королем Уикхем. Он медленно перевел свой взгляд с пепельно-серого лица Эдуарда на меня. И быстро опустил глаза, заметив, что я тоже смотрю на него. Притворился, что наши взгляды встретились чисто случайно.
Я этому не поверила.
Траурные церемонии по велению Эдуарда длились шесть дней. Я же в отчаянии думала, что для Эдуарда этот траур не закончится никогда. Он вернулся в Тауэр и затворился там ото всех в своих покоях.
Кем была для Эдуарда я в те тяжкие дни? На этот вопрос ответить очень легко: никем. Меня словно и не существовало. Всего один раз я увиделась с ним, и то совершенно случайно, в одной из проходных комнат.
Эдуард шел вместе с Уикхемом обычной легкой походкой, только вот во всем остальном он страшно изменился. Не замечал ничего вокруг, не обменивался ни единым словом со встречными придворными. Думаю, он никого из них не узнавал.
Я сделала реверанс.
Даже не взглянув на меня, Эдуард продолжал шагать дальше, мрачный, погруженный в себя.
— Это мистрис Перрерс, государь, — негромко проговорил Уикхем, немало меня удивив. Он даже взял короля под руку, чтобы привлечь его внимание. Эдуард остановился.
— Здравствуйте, мистрис Перрерс.
Он скользнул взглядом по моему лицу, не заглядывая мне в глаза. Небрежно кивнул, как самой скромной из служанок, выполнявшей черную работу.
— Приветствую вас, государь! — улыбнулась я, пытаясь скрыть свою тревогу и ожидая, что он мне скажет. — Я от души надеюсь, что вы в добром здравии.
Он не улыбнулся мне в ответ. Неужели это тот же самый человек, который сотрясал громовым хохотом своды Большого зала в Хейверинге? И одет он был не в алое с золотом, а в траурное черное. Так и не сказав ничего, он пошел дальше к двери, а я могла лишь созерцать его спину. Какое огромное расстояние отделяло возлюбленного, который снимал с меня платье и закутывал в теплые меха, от этого человека, равнодушно прошедшего мимо! Мне оставалось лишь с безмерным удивлением и горечью смотреть ему вслед. Уикхем беспомощно развел руками и последовал за королем. А я осталась в одиночестве.
Кажется, в часовне Эдуарда Исповедника было теперь погребено не только тело Филиппы, но и сердце самого короля. Словно чья-то рука с силой хлопнула по лютне, обрывая чистое звучание ее струн.
— Где король? Мне совершенно необходимо переговорить с ним.
— Король удалился в свои покои. Он вас не примет.
На протяжении многих недель после того, как Филиппа обрела вечный покой в своей гробнице, такие диалоги происходили постоянно. Уильям Латимер, стюард королевского двора, ледяным тоном давал неизменный ответ любому просителю, будь то знатный лорд или простой горожанин.
— Его величество никого не принимает.
В душе Эдуарда погас свет. Он покинул Лондон, удалился от государственных дел и затворился в Хейверинге, в любимых покоях Филиппы. Его ни в малейшей степени не интересовали дела во Франции, где принц-наследник, так еще и не оправившийся после болезни, подвергался нарастающему давлению неприятеля. Страна дрожала от зимней стужи, а в непривычно опустевших залах дворца гулко отдавались редкие шаги. Придворные перешептывались, охваченные мрачной растерянностью. Страна лишилась своего короля, осталась без головы. Безо всякого руководства.
Эти шепотки стали нарастать. Короля в Англии все равно что не было.
А что же я, фрейлина, которой некому было больше служить? Другие фрейлины Филиппы разъехались: одни вернулись домой, другие нашли приют в иных знатных семьях в качестве наперсниц хозяек или компаньонок. Я осталась на месте. Вся моя дальнейшая жизнь зависела от того, что решит король, уединившийся в своих покоях, и я опасалась самого худшего. Никогда еще я не чувствовала себя такой одинокой, даже когда стояла на улице, только что овдовев. Там меня хотя бы отыскал Гризли. А в Хейверинге я не была нужна вообще никому. Сон покинул меня, и я часами лежала, не в силах сомкнуть глаз, размышляя о своем будущем, которое внезапно лишилось всякой ясности. Нет, бездомной бродягой я не стану, от подобной беды мне удалось оградить себя, достаточно скопив про запас, но представить себе дальнейшую жизнь я никак не могла. Разве мне так уж хотелось заживо похоронить себя в каком-нибудь сельском поместье, в полном одиночестве, если не считать горсточки слуг, — после того, как я уже вкусила все прелести придворной жизни? От одной этой мысли меня бросало в дрожь.
«Без Эдуарда ты будешь совсем одинока», — с пугающей ясностью нашептывал мне внутренний голос. Ни друзей, ни подруг у меня не было. Без Эдуарда мне действительно придется бессильно плыть по течению.
Написала письмо Вильяму де Виндзору, как и обещала: о том, что никакой определенной политики в отношении Ирландии сейчас не имеется, о причинах такого положения, и еще немного — о своем собственном шатком положении.
Король перестал направлять дела государства. Мне кажется, об Ирландии он вообще не вспоминает. Вы теперь служите самому себе и вольны поступать по своему разумению. Вероятно, Вам не следует рассчитывать на получение от меня новых сведений: боюсь, что дни мои при дворе сочтены.
И неожиданно для себя дописала то, чего, наверное, не стоило:
Мне недостает откровенных бесед с Вами, сэр Вильям. Иногда мне очень хочется, чтобы Вас призвали сюда, в Лондон, — отвечать за свои прегрешения. Думаю, я сама могла бы выслушать Ваше дело. Пусть это прозвучит жалобой слабой женщины и подорвет то восхищение, о котором Вы говорили, но мне здесь просто не с кем побеседовать.
Вот такая возникла вокруг меня пустота. Письмо я отправила, но было ли оно доставлено по назначению, мне осталось неведомым.
Весь двор с замиранием сердца пребывал в ожидании, когда Эдуард преодолеет свою скорбь и снова возьмет в руки меч. Разве не уснул король Артур, готовый пробудиться в час опасности для Англии? Несомненно, так поступит и Эдуард.
Этого не случилось.
Я попыталась попасть к нему, но путь мне преградил страж у дверей. Королю обо мне даже не доложили. Тогда я написала Эдуарду записку и уговорила Латимера позаботиться, чтобы ее передали королю.
Не отвергайте меня, милорд. Позвольте поговорить с Вами. Позвольте дать Вам утешение. Мы оба тяжело переживаем кончину Вашей любимой супруги. Мы можем скорбеть вместе.
Припомните, как много мы значили друг для друга.
Позвольте мне быть с Вами рядом.
Я остановилась в нерешительности, размышляя, сообщить ли ему о ребенке, который рос в моем чреве. Об этом писать я не стала. Латимер взял у меня записку, но ответа на нее не последовало.
— Он прочитал? — спросила я стюарда двора.
— Не думаю. — Заботы избороздили морщинами суровое лицо Латимера. — К нему невозможно попасть. Он не желает никого видеть.
Ничего нельзя было сделать, разве что проткнуть стража его же мечом и выломать дверь. У меня сердце разрывалось при мысли о том, что я не могу быть рядом с Эдуардом, когда им овладела такая страшная апатия. Кто с ним поговорит? Кто почитает ему книгу или сыграет с ним в шахматы? Кто сумеет выманить короля из черной бездны, затягивающей его?
— Добейтесь, чтобы меня он принял! — воскликнула я повелительным тоном, хотя и не имела власти никому приказывать.
Выражение лица Латимера едва не рассмешило меня. Он не мог решить для себя: то ли я исчадие ада, от которого отвращают взор свой и Господь Бог, и люди, то ли ангел, посланный небесами, чтобы спасти короля от нестерпимых мук. Я крепко, изо всех сил, сжала его локоть.
— Если придется, скажите королю, что я ношу под сердцем его дитя. Не сможете сами, передайте Уикхему, пусть скажет он. Но сделайте все возможное, чтобы я попала к королю!
Латимер смотрел на меня в нерешительности.
— Сделайте то, что я говорю, Латимер.
«Сделай это! Иначе мы все погибли!»
Что ж, мой отчаянный напор не остался без последствий. Мы с Уикхемом и трусящей позади Отважной шли по анфиладам комнат в старой части дворца, ныне редко посещаемой. Наконец-то канцлер явился за мной. Только наш путь вел не в королевские покои.
— Куда мы идем? — поинтересовалась я.
Он не ответил, продолжая шагать так быстро — ряса надувалась колоколом, — что я едва за ним поспевала. Судя по напряженному сердитому лицу, у него в душе бушевала целая буря.
— К Эдуарду? — снова спросила я. — Это он вызвал меня?
— Нет. — Надежда умерла во мне, не успев родиться.
— Куда же тогда?..
— Помолчи, женщина, имей терпение…
И зашагал дальше, не скрывая раздражения, а я шла рядом, и на душе у меня было ничуть не веселее. Мне уже, кажется, недолго осталось ходить по дворцовым коридорам, и все же я сгорала от любопытства. Куда бы мы ни направлялись, по дороге нам никто не встретился, кругом стояла мертвая тишина; стены голые, без гобеленов, полы давно не метены. Однако я заметила, что до нас этим путем прошли и другие, причем совсем недавно: на пыли четко виднелись отпечатки каблуков сапог и башмаков. Все эти следы обрывались у той двери, которую отворил Уикхем, коротким кивком велев мне войти в незнакомую комнату, а волкодава оставив скулить в прихожей и царапаться в дверь. Подобно многим другим помещениям Хейверинга, это была небольшая комната, вписанная в башню, отчего одна стена была дугообразной. Через узкие бойницы светило солнце, ложась полосами на стены и пол. В стену был встроен камин, однако огонь в нем не горел, и в комнате было холодно, как бывает в нежилых заброшенных помещениях. Почти всю комнату занимал стол с расставленными вокруг него табуретами, но никто не сидел за этим столом. Небольшая группа мужчин стояла у одного из окошек, и этого хватило, чтобы комната казалась переполненной. Все здесь чем-то напоминало военный совет.
И что здесь делать мне? Я посмотрела на Уикхема, ожидая объяснения, которого так и не последовало.
— Мистрис Перрерс, позвольте представить вам этих господ.
В его хрипловатом голосе слышалось немалое раздражение, но я не могла понять, к кому оно относится: ко мне, к этим господам или же ко всем сложившимся обстоятельствам. Да и представлять собравшихся было незачем. Разве не жила я бок о бок с ними в различных королевских резиденциях с того самого дня, когда стала служить Филиппе?
Я сделала реверанс, быстро просчитывая ситуацию, пока Уикхем представлял собравшихся. Первым он назвал Уильяма Латимера, стюарда двора. Затем Джона Невиля, лорда Рейби. Неожиданность: Ричард Лайонс, не придворный, а банкир, купец и глава королевского монетного двора. Еще здесь были Николас Кэрью, Ричард Скроп, Роберт Торп. Как я догадалась в эти первые минуты, их всех собрала здесь одна общая причина — честолюбие. Оно прямо сверкало в глазах этих молодых людей, которые надеялись продвинуться еще дальше на службе короне. Я не знала, способные ли это люди, но были основания считать, что да. Уикхем затворил за мной дверь, и все они показались мне стаей голодных волков, готовых вцепиться в малейшую возможность подняться как можно выше по лестнице придворных чинов и при этом безжалостно растерзать всякого глупца, который посмеет встать у них на пути. Но только как я вписываюсь в их замыслы?..
И вдруг появился еще один человек. Сын короля, ни больше ни меньше. Джон Гонт.
Мужчины поклонились ему.
— Прошу садиться, — предложил Уикхем.
Я села, вслед за мною и заговорщики — ибо таковыми они несомненно и были, — и только Джон Гонт остался стоять у стены, сложив на груди руки.
— Для чего меня привели сюда? — спросила я, не видя смысла ни прикидываться наивной дурочкой, ни особенно заботиться о хороших манерах. Эта встреча не предназначалась для чужих глаз и ушей, а эти джентльмены — кроме Уикхема и, возможно, Латимера, — в обычной обстановке едва замечали меня.
Они переглянулись между собой. Видимо, решали, кто станет говорить.
— Можем ли мы доверять вам? — спросил за всех Латимер.
Ну, по крайней мере, откровенно. Я ответила ему тем же.
— Думаю, можете, если только не замышляете поднять мятеж или погубить короля. — Я обвела взглядом лица. Замкнутые. Настороженные. — Или все-таки замышляете? Это что, заговор?
— Не совсем, — слегка скривив губы, как бы нехотя, ответил Латимер. — Дело в том, что король… — тут он, подыскивая нужное слово, дернул плечом в роскошном атласном камзоле с вышитыми геральдическими эмблемами Эдуарда, — замкнулся в себе.
— Замкнулся? Видит Бог, это чересчур мягкое определение! — воскликнула я. — Он заключил себя в четырех стенах и отказывается выйти на свободу!
Латимер откашлялся.
— Мы должны вызволить его оттуда.
— А вам это не под силу? — Я снова обвела их взглядом.
Сама знала, что им не под силу. Поймала на себе взгляд Гонта. Меньше недели назад он посетил отца, пробыл у того не более часа, а вышел в ярости и безжалостно вонзил шпоры в бока своего скакуна. Я подумала, что сейчас и он что-нибудь скажет, но принц умышленно отвернулся к окну, предоставляя Латимеру озвучить те соображения, которые — к добру или нет — привели сюда и их самих, и меня.
— Короля все глубже засасывает трясина меланхолии. Его лекари в отчаянии, — проговорил Латимер, бросил взгляд на Уикхема, тот кивнул. — Мы хотим, чтобы вы с ним поговорили.
— Он не примет меня. Я уже пыталась. — Они не могли не знать о моих безуспешных попытках.
— Мы сделаем так, что вы к нему попадете.
— И что же я должна буду ему сказать от вашего имени? — Я все-таки прикинулась дурочкой и насладилась видимым смущением Латимера.
— Мы хотим, чтобы вы… утешили его… подвигли его на…
— Да говорите же толком, Латимер! — рявкнул Уикхем.
Латимер вздохнул.
— Мы хотим, чтобы вы принесли ему телесное утешение.
— Иными словами, чтобы я сделала то, что положено блуднице.
— Именно. — Гонт вдруг оказался рядом, шагнул к столу, навис над всеми. Красивый и цветущий мужчина, такого же роста, как его отец, с такими же тонкими чертами лица. Но ему не хватало отцовской непринужденности в обращении. Гонт славился тем, что переспал с огромным количеством женщин. Он взмахом руки велел Латимеру умолкнуть и заговорил сам, прямо и не выбирая выражений. — Король не перестал быть мужчиной. Он по-прежнему способен завалить бабу и получить от этого полное удовольствие. А это могло бы встряхнуть его, привести в чувство.
Его грубая откровенность неприятно поразила меня, и я не склонна была повиноваться их воле, тем более что всякий из них охотно осудил бы меня, возьми я на себя такую задачу.
— Если нужно только это, так наймите дворцовую шлюху, — сказала я.
— Не пойдет, — Гонт отмахнулся от предложения, как от назойливой мухи. — Я надеюсь, что дело удастся обделать гораздо тоньше.
— А вы считаете, что я способна на тонкости?
— Я считаю, что вы наделены многими талантами. Помимо прочего, вы не болтливы. И королева вас очень любила. Господь вполне мог послать вас в ответ на наши горячие молитвы.
Я рассмеялась, немало их удивив. К какому неожиданному выводу пришли эти люди, для которых я была не больше чем насекомым, барахтающимся в навозной куче греховного блуда. Я заняла место Филиппы на ложе Эдуарда — уж не хотят ли они, чтобы я сыграла и роль безгранично любящей, по-матерински заботливой Филиппы?
— Ему нужна не просто баба, ему необходима та, кому он доверяет, с кем может поделиться сокровенными мыслями, — подтвердил мою догадку Джон Гонт.
— Значит, фаворитка.
— Совершенно точно, — поклонился принц.
— Жена, хоть и невенчанная.
— Можно сказать и так…
— И двор признает ее открыто?
— Если не будет другого выхода.
Я оглядела их. Ни один из них не одобрял эту мысль. Никому не хотелось, чтобы дело приняло такой оборот.
— Отчего же выбор пал на меня, милорд? — Я заставлю их ответить. Сказать вслух то, что они таили все годы с той ночи, когда я впервые задрала рубашку в постели Эдуарда.
— Потому что он в прошлом очень часто наслаждался вашим телом, — бросил Гонт.
Ну конечно, они это знали. Все придворные знали об этом, пусть и говорили только вполголоса за кубком вина или шептали, предаваясь любви, — они пытались уберечь от слухов Филиппу, которая сама и заварила всю эту кашу. Я снова засмеялась над этим лицемерием, заставив их неловко ерзать на табуретах.
— Итак, я вновь стану любовницей Эдуарда, — сказала я ровным голосом. — И что потом?
— Уговорите его вернуться к делам государства. Пусть снова возьмет бразды правления в свои руки. Мы не можем жить так дальше: король стал отшельником, а принц-наследник прикован к постели в Гаскони. — И Гонт ударил кулаком по столу.
— Не знаю, получится ли у меня. — Нет уж, легкой победы Гонту не видать.
— Получится, — вздохнул Уикхем. — Вы умная женщина, Алиса.
Я посмотрела на него, склонив голову набок. Он впервые назвал меня по имени.
— К тому же вы — наша последняя надежда, — вспыхнул от вынужденного признания Латимер.
Я встала, как будто бы могла еще отказаться. Как будто собиралась уйти. Ах, как опьяняет власть, сознание того, что я всех их держу в своих руках! Сделала шажок…
— Ладно, нужда свой закон пишет! — сердито бросил Гонт. — Довольно! Вот вам вся правда, мистрис Перрерс. Над нами нависла смертельная угроза. Кажется, время величия Англии вот-вот уйдет в прошлое. Я чую, что зреет мятеж. Необходимо, чтобы мой отец снова встал у кормила государства, мистрис. Он уже не молод, но вполне еще сможет держать скипетр и править, если только нам… — он отчаянно взмахнул руками, — если только нам удастся вернуть его к жизни, пробудить интерес к ней.
«Нам». Мы будем заодно. Мы превратились в заговорщиков. Я снова и снова вглядывалась в их лица — напрягшиеся в ожидании, усталые, озабоченные будущим — и своим собственным, и всей Англии, — и все же отвращение к переговорам со мной виднелось на них так же ясно, как оспенные язвы. Меня сотряс острый приступ гнева, я повернулась к Джону Гонту. Бог свидетель, я заставлю его упрашивать меня!
Он отвернулся и сердито застучал кулаком по каменному подоконнику. А заговорил в самый нужный момент Уикхем, великодушный Уикхем.
— Вы сделаете это? — спросил он. — Спасете нашего короля?
Я снова чуть помедлила с ответом. Мне доставляло огромное удовольствие то, что все эти благородные и вельможные господа вынуждены дожидаться, что решу я.
— Да. Спасу.
И увидела на всех лицах огромное облегчение: напряжение ушло, на губах заиграли улыбки. Дело сделано — во всяком случае, им так казалось. На самом деле ничего еще не было сделано, даже не начато.
— Представляю, милорды, сколько вам потребовалось усилий, чтобы переступить через свои треклятые нравственные принципы и обратиться за помощью ко мне, королевской шлюшке.
— На что угодно можно пойти, лишь бы король пришел в себя. — Надо отдать ему должное, это Гонт ответил на мои слова. Он обошел стол, взял мою руку и коснулся своими ледяными губами. — Мы вам признательны.
— Как я могу отказаться от такого учтивого предложения? — пробормотала я вполголоса.
Последовал дружный вздох облегчения, и тут я увидела картину происходящего в истинном свете. Сила всех этих вельмож — кроме Гонта, — их дальнейшее продвижение к вершинам власти, богатство и посты в государственном руководстве целиком зависели от милости короля, но вот в эту минуту все их честолюбивые расчеты зависели только от меня. Каждый из нас терял все, если король окончательно погрузится в пучину мрака. Поэтому мы действительно были заодно. Но раз уж они попали мне на крючок, задешево я их не отпущу.
— И что же получу за все это я? — Подобная откровенность вряд ли была им по вкусу.
— А чего вы хотите, леди? — спросил Латимер, польстив мне необычной формой обращения. Да, за этот час многое изменилось. Я повременила с ответом, делая вид, что никогда над этим не задумывалась.
— Ничего особенного, милорды. — И хищно улыбнулась, увидев их ощутимое облегчение. — Служанку, чтобы мне легче жилось. Спальню и гостиную с окнами в сад. Наряды и драгоценности, соответствующие моему новому положению. Постоянный доход, чтобы мне не пришлось побираться. Разве я всего этого не заслуживаю? — А потом сказала то, чего мне хотелось больше всего, чтобы стереть память о пережитых унижениях. — Я хочу признания, милорды. Пусть всем будет известно, что я — фаворитка короля. Я не желаю и впредь жить, окруженная презрительным молчанием и злобными сплетнями. Теперь уже никто не пострадает, если мы сорвем покровы с моих отношений с королем.
Я внутренне посмеивалась над их благодарными физиономиями — они полагали, что дешево отделались. Какие глупцы — впрочем, как большинство мужчин. Они что же, не понимают, что я и без всего этого пошла бы к Эдуарду? Им не было нужды платить за мое согласие. Но, как говорил мне Виндзор, женщина не должна упускать возможностей, коль скоро они открываются…
— Более того, — продолжала я, — если уж я буду причастна к управлению делами двора, мне потребуется доступ к королевской казне, чтобы получать необходимые средства…
Они быстро переглянулись между собой, недовольно пожимая плечами, но разве можно было отказать?
— Это все можно устроить, — с этими словами Гонт проводил меня до двери, слегка поддерживая под руку.
Я мало знала о нем, только то, что Эдуард высоко его ценил. Насколько он честолюбив, я не имела никакого понятия. Он не был наследником престола. Какую выгоду из нашего договора рассчитывал извлечь он сам? Не было похоже, что он очень доволен жизнью. У меня по затылку словно скользнули пальцы, холодные, как у принца, — недоброе предчувствие того, что когда-нибудь я найду ответы на эти вопросы.
Дойдя до двери, я улыбнулась и снова сделала общий реверанс, издевательски демонстрируя им глубочайшее почтение.
— Я сделаю то, что пообещала вам, милорды. Я стану фавориткой Эдуарда — открыто, перед лицом всего двора. И если мне достанет сил, то верну короля к жизни.
Вот сколько всего было решено в этой покрытой пылью комнатке старого дворца! Я позволила себе еще раз обвести глазами эти знакомые лица, наслаждаясь их неловкостью, за которой скрывалось глубокое недовольство тем, что они на золотом блюде поднесли мне чуть ли не безграничную власть.
Но все ли уже решено? Ведь мне теперь придется пошевелить мозгами и пустить в ход все свое искусство убеждать, чтобы преодолеть одно-единственное препятствие к полному успеху затеянного нами предприятия. А я была совершенно убеждена, что добиться этого окажется не так-то легко.
— Не останется он безучастным ко мне? — спросила я у Отважной, которой пришлось поневоле нести стражу у дверей заговорщиков.
Она встала, потянулась и чихнула. Собаке будущее виделось ничуть не яснее, чем мне.
Не желая терять времени попусту, я сразу написала записку Гризли — в таких вопросах не приходилось быть слишком щепетильной.
Я ожидаю, что скоро в моем распоряжении окажутся известные средства, сэр. Купите или арендуйте, что сможете, дабы обеспечить мое благополучие в будущем.
Гризли, как всегда, не замедлил исполнить распоряжение. Через месяц я уже арендовала земли семейства Орби с правом опеки над их наследником и устройства его брака. Всего у меня было уже десять имений. Я захлопала в ладоши и от избытка чувств прижала к губам свидетельство о владении указанными правами. Понемногу я становилась состоятельной женщиной.
Уже больше шести лет я была любовницей Эдуарда, но еще ни одно из наших свиданий не происходило по моей воле. Я неизменно ждала вызова от него.
Теперь же я стояла у входа в покои Эдуарда и дрожала всем телом, но вовсе не от сквозняка, который колебал гобелены на стенах. Внутри у меня все сжималось от того, что предстояло сделать. Я выбирала тактику — как полководец составляет план сражения, заранее обдумывая, когда атаковать, а когда и отступить. Что, интересно, посоветовал бы мне на этот раз Вильям де Виндзор?
«Атакуй самое слабое место в его обороне и не давай передышки, пока не выиграешь битву. По сути, вообще нельзя давать ни малейшей передышки, иначе неприятель потеснит твои войска».
Мне это мало чем могло помочь. Я должна просто положиться на свои женские инстинкты и только молиться, чтобы Эдуард ответил на мой призыв. «Пресвятая Дева, сделай так, чтобы он меня не прогнал!» Я шагнула через порог, тихонько притворила за собой дверь и порадовалась тому, что путь мне предусмотрительно расчистили другие.
Сначала передняя, совершенно пустая, наполненная жуткой тишиной. Затем приемная, тоже совершенно безлюдная. Наконец, кабинет Халидон-Хилл[73], где король отдыхал, читая книги или слушая музыку. Мне была хорошо знакома эта комната с великолепными гобеленами, изображавшими первую крупную победу Эдуарда — тогда он, совсем еще молодой, сумел показать шотландцам, кто хозяин в их доме. На низком табурете стояла шахматная доска с расставленными фигурами, ни одна из которых так и не сдвинулась с места. В камине горело слабое пламя, бросая отсветы на фигурки из полированного дерева и на большой буфет. У огня стояло внушительное кресло, недалеко от него — сундук, на крышке которого остались графин с вином, кубок и нетронутое блюдо с пирогами. Кто-то оставил в подсвечнике зажженную свечу, которая уже почти догорела.
В кабинете был Эдуард. Король до кончиков ногтей, в роскошных одеждах, усыпанных драгоценностями, могучий Плантагенет, третий по счету Эдуард, который сделал Англию великой державой и сорок лет не давал ей спуститься с этой вершины, стоял не шевелясь, как каменное изваяние. Он даже не повернул ко мне голову.
Я молча ждала, не открывая рта и не двигаясь.
— Поставь блюдо с едой и ступай, — приказал Эдуард.
Он смотрел через окно вдаль — за сады, за укрепления замка, на далекие луга и врезающиеся в них клинья леса. Возможно, ничего этого он не замечал. Стоял прямо, расставив сильные ноги, развернув широкие плечи. Я пришла к выводу, что здоровье его ничуть не пошатнулось, и у меня немного отлегло от сердца, но вид этой комнаты не мог не встревожить — кроме забытых шахмат, ничто в ней не говорило о хозяине. Ни одной книги, ни единой бумаги на столе, и привычный сокол не сидит на своем насесте. Только величественные сцены битвы на гобеленах, в ярких красках, беспощадные в своей правдивости, а солнце сверкает на вытканных серебряными нитями доспехах и оружии бойцов. Мне показалось, что сцены сражения умаляют сиятельное величие самого короля. Трудно было выбрать более подходящую обстановку, на фоне которой можно уйти в бездну небытия.
Эдуард даже не обернулся, чтобы убедиться, исполнено ли его приказание. По-моему, его это ничуть не интересовало.
Значит, первый шаг все же придется сделать мне самой.
— Подать вина, государь?
Ответом на мои слова стало мрачное молчание. Эдуард напрягся всем телом. Медленно, очень медленно он повернулся, держась одной рукой за каменный выступ стены, — теперь я поняла, что он и раньше на него опирался. Вероятно, ослабел гораздо больше, чем мне сперва показалось.
Теперь он был весь на свету, и я увидела то, что до сих пор таилось от взгляда.
«Ах, Эдуард! Что вы сделали с собой?» И тут же пришел в голову другой вопрос: «Неужели вы настолько ее любили?»
Как может мое слабое перо описать представшие взору свидетельства невосполнимой утраты? Лицо Эдуарда исхудало, вдоль крыльев носа пролегли глубокие морщины, щеки запали. Кожа на шее стала дряблой, показывая, насколько он ослабел телом. Но куда хуже было то, что глаза его потускнели, из синих превратившись почти в серые, а кожа просвечивала насквозь. Мне подумалось, что он не улыбался уже, должно быть, много недель. Рука, лежавшая на раме окна, стала чуть ли не прозрачной. Похоже, такой рукой меча не поднимешь.
Прежде всего я почувствовала сострадание. Оно захлестнуло меня, и я с трудом сдержала подступающие слезы. Но потом пришла ярость, горящая не хуже королевского шлема на гобелене. Что он с собой делает? Как мог довести себя до столь жалкого состояния победитель в битве при Креси? Этот непрошеный гнев, однако, я загнала подальше, и он понемногу утих. Несдержанностью ничего не добьешься: накал чувств и без того ощущался в этой комнате, заполнял ее целиком, как гусиный пух подушку. В нем можно было утонуть. Он душил. Эдуард позволил чувствам взять верх. Мне же выполнить свою задачу помогут не чувства, а женское коварство. С его помощью можно спасти этого человека от него же самого, вернуть его к жизни и делам беспокойного государства. Очень может быть, что рассуждения Джоанны Прекрасной о необходимости женского вероломства и двуличия были не столь уж надуманными.
Ну, будь что будет. Я выступила вперед, встала прямо перед ним.
— Здравствуйте, милорд.
— Алиса… — Глаза его блуждали, голос, лишившийся властности, звучал глухо.
Я не спеша подошла ближе и остановилась на расстоянии вытянутой руки. Мне было важно, как отреагирует на это Эдуард. Он, казалось, колебался. Ну а как же иначе? Я облачилась в самые скромные одежды, мрачные и глухие, как у монахини. Честно говоря, как у добропорядочной жены. Сама смеялась, напяливая на себя почти траурное темное платье и котарди, которое скорее пристало жене горожанина, нежели любовнице короля. И теперь выдерживала до конца взятую на себя роль: не сделала реверанса, не потупилась, выказывая почтение. Разумеется, не поцеловала его вместо приветствия, как делала в былые дни.
— Да, государь, — подтвердила я спокойным тоном, скромно сложив руки на животе. — Как видите. Действительно Алиса.
— Кто тебя впустил? — нахмурился он.
— Уикхем.
— Я не желаю говорить с тобой.
Это плохой признак!
— Я понимаю. Но вам и не нужно говорить, государь. Говорить буду я.
В его глазах промелькнуло удивление. А может быть, и раздражение.
— Я не вызывал тебя.
— Не вызывали. Это мне надоело ждать.
Теперь удивление сменилось беспокойством. Не то чтобы резким осуждением, но чем-то вроде этого. Хорошо! Этого-то я и добивалась. Прикажет ли он прямо, чтобы я убиралась с глаз долой?
— Мне не хочется, чтобы ты здесь находилась. Мне нужно побыть наедине с собой. — Все же это не был прямой приказ уходить, хотя я сомневалась, понимает ли Эдуард столь тонкую разницу…
Мой ответ был прямым, как те дорожки, что недавно проложил Уикхем в королевском имении Лэнгли.
— Хорошо, когда есть время для размышлений, милорд. Я размышляла долго и много. — Эти слова я произнесла с легкой ноткой язвительности. — Размышляла больше двух месяцев, с того дня как вы говорили со мной в последний раз.
— Два месяца?
— Прошло больше двух месяцев с того дня, как вы похоронили Филиппу и закрылись здесь от всех.
Брови его сдвинулись.
— Я даже не представлял себе…
— Вам необходимо это понять. Слишком долго король скрывается от своих подданных.
Я ожидала, что это заставит Плантагенета рассердиться, но он не рассердился, и меня это обескуражило. Я долго готовилась к этой встрече, но ее успех вовсе не был чем-то предопределенным. Я все обдумала, раскладывая свои вещи в новых комнатах, которые мне без промедления предоставили, — уж чему-чему, а образцовому управлению дворцовым хозяйством у Латимера можно было поучиться. Если Эдуард прогонит меня сейчас, чем я смогу заставить его обратить на меня внимание? Плотскими соблазнами? Не годится. Он стал как бы отшельником, да и чересчур изнурил себя. Потом — возможно, но сейчас откровенное соблазнение ни к чему не приведет. Суровые упреки? Тоже нет. Плантагенеты никогда не терпели, чтобы их упрекали в чем-то подданные, пусть даже и возлюбленные. Сочувствие? Нет, он увидит в этом одну только жалость.
Я пришла сюда, чтобы оттащить Эдуарда от края той адской бездны, которую он сам для себя сотворил, и сделать это нужно с помощью холодной логики. Думала ли я при этом о возможности занять при дворе новое положение? О своих денежных интересах? Конечно думала. Но мое будущее и выздоровление Эдуарда были слишком тесно связаны. И без малейших угрызений совести я наполнила два кубка вином, сдобренным пряностями (уже не горячим, но еще чуть теплым), и протянула один из них королю. Он механически взял.
— Я подумываю уехать из Хейверинга завтра. Выпейте за то, чтобы путь мой был благополучным. — Я говорила быстро, отрывисто, без улыбки.
— Уехать?..
— Здесь меня теперь ничто не держит.
— Куда?..
— В Ардингтон. Хочу посмотреть, подойдет ли он, чтобы обосноваться там.
Эдуард ничего не сказал. Значит, нужно заварить кашу погуще. Я села — при том, что он сам стоял, вопиющее нарушение придворного этикета! — отхлебнула вина, присмотрелась к вишневому пирогу на блюде, откусила.
— Вкусно. Идите сюда, Эдуард. — Я умышленно назвала его по имени. — Мне одной этого не съесть.
Он сел, но не рядом со мной, и поглядел так, словно я превратилась в кошку, вышедшую на охоту и только что выпустившую когти.
— А почему ты уезжаешь?
— Я больше не фрейлина королевы. В моих услугах никто не нуждается.
Я помолчала, чтобы он переварил эту фразу, а сама пока доела пирог, облизала пальцы, но по-деловому, без игривости и восторгов. Потом продолжила:
— Эдуард, вы за все эти недели хоть раз подумали обо мне? Наверное, нет. Чем вы здесь занимались?
— Размышлял… — Голос его дрогнул.
— Вероятно, о том, чего вам удалось достичь, — предположила я. — Обо всем, что вами сделано с тех пор, как вы вырвались из-под власти матери и взяли бразды правления Англией в собственные руки. Мне думается, это потребовало немалого мужества от юноши, едва перешагнувшего порог зрелости.
— Я думал о том, что…
— А Филиппа помогала вам, ведь правда?
Впервые за все время Эдуард улыбнулся, хотя и очень натянуто.
— В ней была моя сила.
— Расскажите мне.
— Думаю, без нее я ничего бы не достиг. Моя мать была женщиной безжалостной, а я был в таком возрасте, когда регент еще может править…
Словно плотину прорвало, и освобожденные воды хлынули наружу. Сначала тонким ручейком, потом полились потоком. Он рассказывал мне старую историю о прекрасной, но злой королеве Изабелле, которая желала сама править Англией вместе со своим любовником Роджером Мортимером, а с юного Эдуарда не спускала глаз, как с пленника. Так продолжалось, пока Эдуард не организовал заговор, не сверг Мортимера и не положил конец регентству своей матери. Тогда ему было всего восемнадцать, но воспоминания о той ночи в Ноттингеме, когда он взял власть в свои руки, были живы у него, будто все это произошло только вчера.
Я кивнула.
— А Филиппа помогла вам выстоять и вернуть то, что принадлежало вам по праву рождения.
— Она была великолепна, — просиял Эдуард.
— Наверное, она очень гордилась вами.
Он тут же погас. Поток слов иссяк, словно испарившись под летним зноем. Эдуард помрачнел, уставился в свой кубок, на скулах заходили желваки — он осознавал какую-то нерадостную истину. Я знала, о чем он думает. И я произнесу это вслух.
— Сейчас Филиппа не гордилась бы вами, Эдуард.
— Да уж…
— Она пришла бы в ужас. Разбранила бы вас! Она велела бы вам смотреть вперед, а не оглядываться все время назад.
Наконец-то он оторвался от созерцания образов, мерещившихся ему в кубке, взглянул на меня, и в его глазах было полное осознание моих слов, они даже полыхнули негодованием. Вот и хорошо. Просто замечательно.
— Ты тоже пришла бранить меня? У тебя нет такого права.
— Да нет, разве я бы осмелилась? Я ваша нижайшая подданная и уже не жду ничего ни от вас, ни от королевы. Я пришла проститься.
— Как я понимаю, ты хочешь жить вместе со своими сыновьями?
— Да. С нашими сыновьями. Для меня важно быть с ними, других близких у меня ведь нет. Так выпьете вы за мое благополучное путешествие?
Он рассеянно отхлебнул вина, все еще витая мыслями где-то далеко-далеко.
— Эдуард!.. — Как тяжело оказалось говорить с ним! Неужто мне никак не добиться его внимания, разве что опрокинуть свой кубок на голову монарха?
— Мой сын. Мой наследник, принц Уэльский. Он очень болен… — Эдуард говорил с трудом, будто каждый раз подыскивая слово. — Я в его возрасте скакал во главе моего войска. Как все нами любовались!.. А сын сейчас не может сесть в седло. Его несут в бой на носилках! Все, чего я достиг, погибло…
Тревога у меня в сердце забила крыльями, грозя превратиться в панику. Я снова теряла Эдуарда, заплутавшего между былыми блистательными победами и горькими истинами нынешнего дня. Я поднялась, поставила свой кубок на сундук. Придется рискнуть и метнуть кости с жестоким безразличием, поставив на кон все.
— Похоже, я уеду, так и не дождавшись от вас пожеланий доброго пути. — Я направилась к двери. Уже потянулась к ручке, а он так ничего мне и не сказал. Придется признать свое поражение — перед Уикхемом, Гонтом и всеми прочими. Я вынуждена буду расстаться с моим королем, пусть сердце и требует, чтобы я осталась с ним…
— Не уезжай.
Эти слова он проговорил тихо, но твердо. Я сделал медленный выдох, но свою просьбу обратила как бы к шероховатой поверхности двери.
— Назовите хоть одну вескую причину, по которой я должна остаться.
— Я хочу, чтобы ты осталась.
Я затаила дыхание.
— Ты нужна мне, Алиса.
Я все не дышала и крепко зажмурилась. Слышала, как зашуршали его парадные одежды, когда он встал со своего места, как глухо стукнул металл о дерево, когда он поставил кубок на сундук, как мягко зашелестели его шаги. Почувствовала, как он приблизился ко мне сзади вплотную, но не коснулся меня.
— Я был неправ, Алиса. Не уезжай.
Несмотря на горячее сочувствие, я продолжала стоять к нему спиной.
— Да черт побери! Взгляни же на меня! — воскликнул Эдуард. — Мне очень не нравится обращаться к твоему затылку, да еще запрятанному под этот чудовищный капюшон, который тебе вздумалось на себя напялить!
Вот оно! Он пришел-таки в себя. Но сразу уступать нельзя. Я была не такой крепостью, которая готова капитулировать при малейшей угрозе неприятеля и появлении парламентера, к тому же во мне пробудилась (скажу честно) старая ревность, сколь недостойной она ни была.
— Два месяца — и вы ни разу не пожелали со мной увидеться! Без Филиппы вы чувствуете себя одиноким и покинутым, это я понимаю, но вы должны знать и то, какой одинокой и никому не нужной чувствовала себя я! Если я вам не нужна, моя жизнь вообще теряет смысл. — Он положил руки мне на плечи, развернул к себе лицом. Он действительно смотрел на меня и ясно видел. Ну наконец-то!
Эдуард гордо вскинул голову.
— И поэтому ты вырядилась как нищенка? Как какая-нибудь скаредная вдовица, готовая вот-вот запереть себя в стенах монастыря и посвятить всю жизнь молитвам и благим делам? Наверное, мне нужно отослать тебя отсюда, подарив сначала новые платья. Иначе как ты сможешь привлечь к себе внимание мужчин?
К нему вернулась способность шутить, которой мне так недоставало. Слабый намек на веселье чуть осветил его лицо, словно солнышко робко проглянуло из-за туч.
— Я не желаю привлекать ничьего внимания, кроме вашего! — возразила я, слегка вздернув подбородок под стать Эдуарду — можно даже сказать, немного надменно. Улыбнуться я себе пока не позволила.
Эдуард наклонился и стал целовать меня сперва в лоб, потом в губы; поначалу поцелуи давались ему как будто с трудом — он неуверенно прикасался к женщине, припоминал былое, не ведая, что может встретиться ему на этом полузабытом пути. Но потом его губы, прижимавшиеся к моим, потеплели, а руки соскользнули с моих плеч и обвились вокруг талии.
— Отчего это ты заставляешь меня чувствовать себя так, будто я заново родился? — возник у него вопрос.
Я всем существом ощущала, как крепнет его разум, пока он вглядывался в мое лицо в поисках ответа. Вроде бы отыскал, поднял мои руки, прижался губами к ладоням, к кончику каждого пальца, снова знакомясь со мной после длительной разлуки. Но нам оставалось пройти еще долгий путь.
— Как мне не хватало тебя, Алиса! Как же я раньше этого не понял?
— Потому что вы закрыли душу для всего, кроме своего горя.
— Так ты передумаешь? Останешься здесь?
— Вы ведь тоже можете передумать и завтра велите прогнать меня!
— Я приказываю тебе остаться! — На лице короля вспыхнул яркий румянец гнева. — Тебе приказывает твой государь! Мне необходимо, чтобы ты оставалась здесь.
Вспышка гнева. Хозяйские чувства. Властность. Теперь все эти черты его характера вернулись к нему. Я погасила улыбку, но встала на цыпочки, потянулась и поцеловала Эдуарда в щеку. Он уже сдергивал с меня этот чертов капюшон, и скрытые под ним волосы, не заплетенные в косы, рассыпались у меня по плечам. Он взял их в руку, сжал кулак.
— Какие у тебя чудесные волосы! Отчего у меня такое чувство, будто меня перехитрили? Ты ведь никогда не одевалась так уродливо. — Капюшон он бросил на пол.
— Раньше не было такой нужды, — ответила я. — А теперь мне требовалось нечто такое, что могло бы привлечь ваше внимание.
Эдуард негромко засмеялся. Наконец я услышала его смех! Я повлекла его к скамье, стоявшей у стены, усадила рядом со мной. Пока его рано отпускать: я еще не могла положиться на его настроение. Взяла с блюда тарелочку с пирогом, протянула королю.
— Съешьте хоть кусочек. Вы, наверное, проголодались.
— Кажется, я голоден. Да и если ты все съешь сама, то страшно располнеешь.
Настал час решающего штурма, неудержимого броска в атаку, против которой он (да будут услышаны мои молитвы!) не сможет устоять.
— Располнею я все равно, милорд, хоть буду есть сласти, хоть нет. — Он пристальным взглядом окинул мою фигуру, заглянул в лицо. — Я ношу ваше дитя. Вас это радует?
Король отложил лакомство и зарылся лицом в мои волосы.
— Я и не знал. Ты просто должна остаться со мной. Я не потерплю, чтобы мой ребенок рос где-то, воспитывался без моего пригляда. Останься, Алиса. Ради всего святого, останься.
Я поспешила закрепить наметившийся успех и пустила в ход еще одну припасенную заранее военную хитрость. Эдуард должен вернуться не только ко мне, но и к своему народу.
— Только в том случае, если вы завтра возьмете меня на охоту. Ну пожалуйста, — попросила я, прижимаясь к его плечу. — Мне же не с кем больше проехаться верхом — все проклинают меня как дочь сатаны. Уикхем стал читать надо мной молитвы. Да и моя кобылка слишком застоялась. Она изгрызла все удила.
— Тебе было одиноко. — Умница, он понимал и то, что оставалось недосказанным. — А я тебя совсем забросил, правда?
Теперь он был мой. Щеки порозовели, годы спали с плеч. В душе я ликовала, видя, как возвращается прежний Плантагенет.
— Забросили, — грустно согласилась я. — И теперь должны загладить свою вину.
— Заглажу. — Он встал сам и потянул за собой меня. — Чего желает моя госпожа?
— Велите устроить охоту, Эдуард. Пусть двор вас увидит. Пусть все знают, что король снова с ними. Обещайте мне это. — Он все-таки немного заколебался. — Обещайте же! Скоро будет уже поздно: я слишком растолстею и не смогу взобраться в седло!
— Обещаю. Оставайся, Алиса. Я скучал по тебе.
Получилось! Поцелуй его был теперь долгим, крепким, он оттаял душой, в нем снова пробудилась страсть.
— Ложись в постель, Алиса. Мы потеряли слишком много времени.
И мы вернулись, как в прежние дни, к крепким объятиям и жарким ласкам в королевской постели, притворяясь, будто все у нас хорошо. Эдуард овладел мною к обоюдному удовольствию, подтвердив грубые заверения Гонта в том, что король полон мужской силы, а я смогла заставить короля забыть о грузе лет.
— Ты — бесценная жемчужина, любимая Алиса.
— А вы — король Англии. Страна нуждается в вас.
— Я буду править страной. — Самолюбие тоже вернулось к нему. — И ты будешь рядом со мной.
Кровь победно запульсировала в моих жилах, когда я снова отдалась ему. «Я присмотрю за ним, Филиппа, — мысленно поклялась я. — Буду заботиться о нем, нянчить его и любить». Поцеловала его в губы по собственному почину, пусть в душе и была вынуждена признать, что Эдуард уже не тот мужчина, каким был прежде, когда впервые уложил меня в постель. Ну, пока что я отогнала давние призраки подальше.
Обитатели дворца, собравшиеся на охоту, укутанные в бархат и меха, ожидали на парадном дворе замка. На морозе кони били копытами и гарцевали на месте от нетерпения. Егеря осыпали проклятиями гончих, сновавших у всех под ногами. В самом воздухе ощущалось предвкушение удовольствий, которых придворным так долго не хватало.
Мы ожидали. Выйдет ли король?
Больше всего бездействие раздражало Гонта — хмурый и мрачный, он восседал на гнедом жеребце с блестящей гладкой шерстью в центре группы охотников. Рядом с ним конюхи удерживали любимого Эдуардом чалого скакуна. Гонт настойчиво отыскивал меня взглядом в толпе. Ему не было нужды выражать свою озабоченность вслух или упрекать меня в том, что он явно считал поражением. Я встретила его взгляд с каменным лицом. Все, что было в моих силах, я уже сделала.
Время между тем шло.
Напустив на себя равнодушный вид, Гонт махнул рукой конюхам, чтобы те увели чалого. Надел перчатки.
— Отправляемся.
Он взмахнул рукой, привлекая общее внимание, а главному егерю велел трубить в рог — сигнал к выезду. Я со вздохом признала свое поражение и повернула кобылу к конюшне. У меня не было ни сил, ни желания охотиться.
— Нет, Гонт, сперва дождись меня.
Он всегда умел подать себя, вызывая удивление и возвеличивая себя в глазах подданных. Король спустился по ступенькам с крыльца, прошел через двор, принял у конюха поводья чалого жеребца и взлетел в седло с той ловкостью, которой от него и ждали. По случайности (или по велению короля?) сквозь тучи пробился луч солнца и заиграл на его охотничьем костюме из лучшей кожи, богато отороченном мехами, засверкал искрами на рубине, который прикреплял к его шляпе павлинье перо, на изукрашенной самоцветами золотой цепи, протянувшейся поперек груди. Эдуард с улыбкой обвел взором замершую в ожидании толпу придворных.
— Отличное утро. Примите мою благодарность за то, что догадались своего короля, а заодно и мои извинения. Больше вам некого ждать. — Он порицал себя с тем неотразимым обаянием, которое за долгие годы царствования принесло ему друзей куда больше, чем врагов. Отовсюду послышался нестройный хор приветствий.
Егеря потянулись со двора, Эдуард подозвал сокольничего и посадил сокола на свою перчатку. Все выглядело так, словно король никогда и не покидал своих подданных; разве что в самые первые минуты, когда он только сел в седло, в его позе ощущалось некоторое напряжение. Вот он набросил красивый плащ из волчьего меха, спасаясь от пронизывающего холода, — и всякие признаки недавней хандры улетучились. Я придержала кобылку и заняла привычное место в последних рядах, среди дам. Ощутила, как приятное тепло разливается по лону, в котором развивалось дитя. И я услыхала то, что жаждала услышать, о чем не раз и не два горячо молилась: Эдуард повернул голову и обратился к сыну.
— Приходи после охоты, поговорим. Надо составить план кампании для наших войск во Франции. Давным-давно пора.
— Слушаюсь, государь.
Гонт, хищное лицо которого не выражало ничего, кроме безграничной надменности, не удостоил меня даже взглядом, но от порывов холодного ветра лицо его раскраснелось, и стало видно, насколько он повеселел. Отец и сын обменялись рукопожатием — они снова были вместе и готовились насладиться охотой. Я же получше подоткнула юбки и послала кобылку вперед, вдогонку за остальными. Я тоже получу удовольствие от охоты. Вот главный егерь поднес рог к губам, сейчас он затрубит, подавая сигнал к началу охоты, и я крепче сжала в руках поводья.
Егерь не затрубил — Эдуард остановил его, взяв за руку.
— Мистрис Перрерс…
Все глаза обратились к королю, вызвавшему заминку. И тут же забегали слуги, отыскивая меня в толпе. Мои руки непроизвольно натянули поводья, из-за чего лошадка затанцевала на месте. Король еще никогда не обращался ко мне открыто при всех.
— Да, государь, — ответила я, задыхаясь (это даже мне самой было слышно).
— Поезжайте рядом со мной.
Я заколебалась, но лишь на миг, а потом послала лошадь вперед, сквозь толпу нарядно одетых вельмож, к Эдуарду.
— Да, государь?..
— Вы сказали, что хотите поохотиться, — так давайте охотиться. — Он ухватился за повод моей лошадки, подтянул ее ближе к себе, взял меня за руку, потом наклонился и поцеловал меня в висок. — Вы были правы: охота — отличное занятие, а я позволил себе киснуть. — Он понизил голос до шепота: — Сегодня ты не будешь страдать от одиночества.
Все вокруг разинули рты от удивления. Король выделил меня так явно! Двор не мог прийти в себя. Горячая кровь прилила к моим щекам, окрасила их ярким румянцем. Король поцеловал меня при всех!.. Но разве не этого я сама добивалась? Признания моего положения в глазах и лордов, и простолюдинов.
— Так вы поскачете рядом со мной? — повторил Эдуард, вынуждая и меня открыто признать наши отношения.
— Поскачу, государь.
И я помчалась рядом с ним, так и держась за его руку, за нами придворные растекались по обширному заливному лугу, когда егерь наконец протрубил сигнал. И я только улыбалась, как ясное солнышко, время от времени проглядывавшее из-за туч и как раз в эту минуту залившее нас золотом своих лучей. Эдуард признал меня открыто, при всех. Теперь я была официальной королевской фавориткой.
Думаю, в тот день врагов у меня значительно прибавилось. Тревожило ли это меня? Нет, не тревожило, ибо пламя честолюбия жарко разгорелось в моей груди. То был решающий день. Собаки вспугнули редкой красоты оленя с поистине королевской короной рогов. Черты лица Эдуарда заострились, на лице выступил пот от усилий, но тело его расслабилось, чувствуя себя в седле как в родной стихии. Смех его гремел далеко по окрестностям, и все придворные дружно вздохнули с облегчением. К ним снова вернулась уверенность. Даже Гонт выглядел довольным, хоть я и заняла его место у стремени короля.
Всю охоту я не покидала этого места. Когда собаки понеслись по свежему следу и всадники погнали коней галопом, он придержал своего чалого и продолжал ехать рядом со мной, не забывая о моем состоянии. Тем самым он подчеркнул свой выбор яснее, чем если бы велел главному герольду протрубить и возвестить о нем народу.
Отныне Алиса Перрерс — официальная фаворитка короля.
Такую перемену в судьбе следовало хорошенько обдумать, что я и сделала в своей комнате, освободившись от роскошного охотничьего наряда и велев своей служанке наполнить горячей водой обитую медью лохань. В лохань я погрузилась со вздохом удовольствия. Да, я уже несколько недель не была на охоте, мышцы побаливали, но вполне терпимо. Лежа в воде с ароматными травами, я рассмотрела свой округлившийся живот, внутри которого зрело дитя. Скрывать это скоро станет невозможным, да и не к чему. Впервые за все время я смогу гордо показывать всем свою раздавшуюся вширь талию.
Ведь в тот день мое имя так или иначе было на устах у всех. Теперь, когда мое положение было признано, я чувствовала себя очень уверенно под защитой короля.
Мне припомнились все прозвища, которые удалось услышать, пока охотники преследовали бедного оленя.
«Алиса Бесстыжая» — такое было мне не по вкусу.
«Эта Перрерс» — уже лучше, но произносили эти слова со смешком в голосе.
«Любовница короля», «королевская дама сердца» — в этом, возможно, слышался намек на власть и влияние.
Но вот что понравилось мне больше всего: «фаворитка короля». Это звучало официально. Звучало весомо. Подчеркивало недостижимую высоту, на которую я взобралась. Теперь никто не мог помешать мне жить в королевских покоях и делить с королем ложе. Да, мы не были венчаны, однако король ясно отдал мне предпочтение и тем наделил меня неоспоримым местом при дворе и у его трона. И никто, ни единый человек, не посмеет теперь пренебрежительно относиться ко мне, близкой подруге короля. Когда охотники вернулись во дворец и спешивались, даже Гонт ухитрился подчеркнуть мое новое положение, отвесив мне глубокий поклон. О таком подарке я не смела и мечтать, да еще и преподнесенном в присутствии всей знати, к которой я не принадлежала.
— Спасибо, Эдуард, — прошептала я, бережно поддерживая живот.
Наслаждаясь своим триумфом, я позволила себе откинуться на край лохани и блаженно закрыть глаза.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Не теряя времени, Эдуард начал совещаться с Гонтом. Не знаю, о чем они там говорили, — это всегда было привилегией мужчин, — но я видела результаты их совещаний. Король снова взял бразды правления в свои руки и ничего не упускал. Гонту он приказал возглавить войско и отправиться в Гасконь на помощь осажденному принцу-наследнику — нужно было дать решительный отпор вторгшимся туда французам. Чтобы они лучше это ощутили, Эдуард распорядился нанести другой удар из Кале и поставил во главе тамошнего войска закаленного в битвах ветерана сэра Роберта Ноулза. Если я хотела убедиться в полном выздоровлении Эдуарда, то об этом лучше всего свидетельствовали эти замыслы двух мощных ударов с севера и юга, наподобие тех, какие сам Эдуард с успехом осуществлял в молодости. В то же время целый хоровод его послов закружил между Англией, Нидерландами, Германией и даже далекой Генуей — надо было обеспечить союзников в борьбе против французского короля.
Ночи Эдуард проводил со мной, но и тогда тревоги не отпускали его.
— Я сам должен возглавить войска, — с досадой говорил он. — Или я уже недостаточно крепок для этого?
— Что вы, сил у вас вполне хватает.
На самом же деле удар, нанесенный ему смертью Филиппы, оставил слишком глубокие следы. Телесные силы к нему, возможно, вернулись, но (пусть я сама горячо с этим спорила) ум его потерял прежнюю остроту и утонченность. Он играл в шахматы, читал любимые книги, написанные трубадурами, наслаждался искусной игрой на лютне — и вдруг его внимание рассеивалось, ясность сознания начинала таять, словно снег под лучами весеннего солнца. Даже уверенности у него поубавилось. А по мере того как она уменьшалась, росли мои опасения за Эдуарда. Он уже не сумеет вести в бой свои войска с прежней неподражаемой удалью — если вообще сможет их вести. И все же я возносила хвалу Богу: с уединением было покончено, король был снова вместе со своим двором. И если Гонт добьется победы над французами, это в какой-то мере вернет Эдуарду веру в то, что он может принимать разумные, верные решения. Я налила нам в кубки великолепное выдержанное бордо — вино, которое напоминало о завоеваниях Эдуарда[74].
— За победу Англии! — Я подняла кубок и осушила его.
— За Англию! И за тебя, любовь моя. — И Эдуард поцеловал меня со всей страстью могучего владыки.
Я, конечно, рано радовалась. В ближайшие месяцы стали приходить дурные вести. На севере король Франции, наученный прежним горьким опытом, отказался вступать в битву с превосходящими силами англичан[75]. В войске Ноулза нарастало недовольство, сам он уже не столь стремительно продвигался вперед, а вследствие этого утратил непререкаемую власть, и вскоре его разрозненные отряды сделались легкой поживой для французских стервятников. На юге дела наши шли лучше: был разграблен и сожжен Лимож, с властью французского короля в этих краях было покончено. Но мы слышали и о том, что наследнику престола пришлось возвратиться в Бордо, отказавшись от дальнейшего наступления: не французы сумели его сломить, но собственное больное тело.
И Эдуард потерял уверенность в успехе.
— Там же Гонт, — успокаивала я его. — Он всем распорядится. Волноваться не о чем.
Но король все больше погружался в себя и все реже беседовал со мной. Я не сознавала всей глубины наступившей в нем перемены, пока однажды не увидела, как он, стоя на стене замка, ждет так и не прибывшего гонца. Король прижимал к себе Томаса, положив могучую руку ему на плечи, а Томас дергался и переступал с ноги на ногу — ему хотелось скакать верхом или фехтовать на мечах, лишь бы оказаться подальше от тяготившего его родительского присмотра.
— Ну так ступай! — резко сказал ему Эдуард, отпуская мальчика, и Томас проворно умчался прочь.
Я заняла место Томаса, взяла короля под руку, он улыбнулся мне, но в глазах его была боль потери. Не меня он хотел видеть рядом с собой. Я знала, как ему помочь, но лекарство обещало быть очень горьким. Мне подумалось, что результат меня мало обрадует, но я была взрослой женщиной, уверенной в своих силах и понимающей, чего требует мое новое положение. Во имя того, чтобы король был здоров, я была готова столкнуться с очень неприятными последствиями.
На лучшем пергаменте я написала официальное приглашение, скрепила его оттиском личной печати Эдуарда на красном воске и приготовилась отправить с гонцом. У фаворитки короля нет ни малейшего права использовать королевскую печать, но почему бы и не нарушить правило? Это ведь неизбежно приведет к желаемому результату. С коварством, которому нет никакого оправдания, я все это скрыла от Эдуарда. К чему пробуждать в нем надежды, которые, возможно, не исполнятся? И своего имени в документе я не поставила — мне пришло в голову, что позднее я могу не раз горько пожалеть об этом послании. По правде говоря, я постояла у камина в своей спальне, сжимая пергамент в руках и раздумывая, не предать ли его огню.
Разве не достаточно Эдуарду моей любви?
Пришла еще одна новость, столь ужасная, что Эдуард, услышав ее, пал на колени в дворцовой часовне и лицо его исказилось от горя. В Бордо умер маленький сын и наследник принца Уэльского, которому предстояло в будущем унаследовать и английский престол, — Эдуард Ангулемский. Сам принц был слишком тяжело болен и охвачен горем, чтобы продолжать военные действия. Он теперь вернется в Англию, а командование передаст Гонту, который чем дальше, тем больше выказывал себя неумелым полководцем.
Эдуард заплакал.
В тот же час я отправила гонца с письмом. На кону стояло все, и нельзя было давать себе возможность передумать.
Я написала еще одно письмо Виндзору, сухое и сдержанное.
Я снова вошла в милость у Эдуарда. Пользуюсь его доверием. Ирландия его совершенно не интересует, все внимание поглощает Гасконь, положение в которой можно в лучшем случае назвать неустойчивым. Вы по-прежнему предоставлены в Ирландии самому себе — думаю, Лондон вмешиваться в Ваши дела не станет.
Возвратившись, гонец передал мне ответ, написанный ясно и четко, — писал Виндзор в той же манере, что и говорил.
Два письма от Вас я получил с разницей всего в несколько дней — так плохо у нас налажена связь с Англией. Очень рад тому, что с Вас сняли опалу.
Рад — за меня или за себя? Я не сдержала циничной усмешки.
Постарайтесь сделать так, чтобы Эдуард обо мне не забывал. Здесь приходится очень трудно, и мне необходима любая помощь, какую только возможно получить.
Следующий абзац немало меня удивил.
Дам Вам еще один совет. Вы уже испытали на себе, что это значит — остаться без покровительства короля. Когда мы в последний раз беседовали, я предостерегал Вас. Тогда Вы не стали меня слушать. Теперь же знаете, что я говорил чистую правду. Ваше положение королевской возлюбленной может быть поколеблено во мгновение ока. Используйте все, что можете, не теряя времени. Когда король умрет, Вас ждут суровые испытания. Не думаю, что принц-наследник и его честолюбивая женушка предоставят Вам место при своем дворе.
А дальше Виндзор удивил меня еще сильнее.
Я вспоминаю наши встречи чаще, чем мне бы этого хотелось. Вы были не очень-то приятной собеседницей, однако же, как вижу, сумели прочно поселиться в моих думах. Вероятно, Вас не удивит, если я скажу, что оттуда Вас ничем не прогнать: Вы запустили в меня стальные коготки. Отмечая это, признаюсь и в том, что Ваше остроумие и обаяние меня весьма утешают в этом глухом уголке. Я не предвижу возможности возвратиться в Лондон в обозримом будущем, что меня несколько огорчает. Не сомневаюсь, что мы с Вами отлично поладили бы, сложись обстоятельства по-иному.
Держитесь, Алиса. Берегите себя. Нынешнее высокое положение понуждает Ваших врагов действовать настойчивее, чем Вы можете себе представить. Будьте внимательны и не дайте им в руки никакого оружия против Вас.
Примите этот совет от человека, который знает толк в подобных делах.
Я негромко засмеялась, потом вскрыла пакет, приложенный Виндзором к письму. Что там таится, было мне ясно еще до того, как я развернула мягкую кожу: кинжал с узким лезвием, который легко спрятать в рукаве или за корсажем. Неплохая защита от подосланного убийцы. Как нелепо рассуждает Виндзор! Кто, скажите на милость, станет меня устранять таким путем?
Я почувствовала сожаление оттого, что Виндзора нет при дворе. Я сомневалась, что он сохранит верность тому прощальному поцелую, в котором чувствовалась страсть. Но ведь и я не хранила верность ему — я, фаворитка короля.
А он заботился о том, чтобы защитить меня. Нелепая псина и тонкий кинжальчик.
Наверное, мне нужно было испугаться, но я не испытывала страха. Возможно, в этом была моя ошибка.
Ответ на посланное мной от имени короля приглашение пришел не так быстро, как письмо от Виндзора, зато выглядел куда торжественнее. Ответ явился в Хейверинг собственной персоной, с паланкинами, гонцами и внушительным отрядом телохранителей, над которым гордо реяли многочисленные флажки. Такой пышный, привлекающий всеобщее внимание кортеж мог принадлежать только одной особе. Да, признала я, об этом мне еще не раз придется пожалеть, но иначе нельзя было решить неотложную задачу.
Близкие!
Эдуард нуждался в том, чтобы рядом с ним были его близкие. Сейчас, как и всю свою жизнь, он мечтал о том, чтобы с ним были его дети и те воспоминания, которые они в нем пробуждали. Он был героем на поле брани, он был непревзойденным правителем, он обладал несравненной физической силой — но дома ему была необходима опора, его семья. Ему недоставало любви близких, и это пагубно отражалось на его настроении, на его душевном здоровье. Проведя детство в одиночестве, взаперти, под властной рукой себялюбивой матери, Эдуард не мог спокойно жить без Филиппы и рожденных ею сыновей и дочерей. От этой семьи он во многом зависел, ибо близкие дарили ему любовь, которой он был обделен в начале своей жизни, и вливали в него свежие силы.
Но как же быть теперь, когда его семья так заметно сократилась? Два сына находились во Франции, целиком поглощенные военными делами. Лайонел умер в Италии. Все дочери, кроме одной, умерли. Томас был еще слишком юн, слишком увлечен свойственными его возрасту забавами, чтобы служить опорой для отца.
«Но отчего же ты сама не можешь дать то, в чем он нуждается?» — сурово спрашивала я себя и вынуждена была честно признать: я многое могу ему дать, но только не то ощущение кровного родства, в котором нуждался Эдуард. Кто мог помочь в этом? Любимая дочь Изабелла. Своенравная, капризная, невыносимо надменная, враждебно настроенная ко мне, и все же помочь здесь могла только она.
И сейчас я увидела из окна знакомую фигуру Изабеллы, которая вышла из дорожных носилок, разукрашенных гирляндами цветов и выложенных мягкими подушками. С ней не было мужа, от которого она в свое время потеряла голову, но зато были две светловолосые девочки, обещавшие со временем превратиться в таких же красавиц, как мать. Прибытие я наблюдала из каморки, расположенной над парадным входом во дворец. Не успев ступить на каменные плиты двора, Изабелла принялась раздавать налево и направо распоряжения, будто никогда и не уезжала отсюда.
Пока Изабелла распоряжалась в Хейверинге, я задумчиво барабанила пальцами по подоконнику. Подкараулить ее здесь? Или дать ей возможность устроиться как следует и встретиться с Эдуардом, как она сама пожелает? Я перебирала в уме достоинства и недостатки того или иного варианта встречи. Если я сейчас спущусь вниз, произойдет неизбежное столкновение характеров, обмен колкостями, и некому будет погасить обиду, которая непременно вспыхнет от этих слов, как сухой хворост от поднесенного факела. Да! Но если я позволю ей повидаться с Эдуардом и выдвинуть свои требования, распорядиться насчет своих покоев, то сразу растеряю все преимущества. Мы не успеем сесть за ужин, как Изабелла станет здесь полной хозяйкой.
Ну что ж! Я перестала стучать по подоконнику и взвесила, насколько мой наряд приличествует такому торжественному случаю. Когда это я отступала перед мелкими неприятностями? Разве я в этом дворце не у себя дома? Кто следит за расходами, кто ведет здесь все хозяйство? Да поможет мне Бог сдержать свой норов и следить за словами — Изабелла нужна мне в качестве союзницы. И когда она наконец вошла стремительными шагами, я, уже давно и полностью освоившая все тонкости придворного церемониала, стояла на королевском возвышении Большого зала, одетая со всем положенным великолепием, а рядом со мной заняли места Латимер и слуга.
— Комнаты для меня приготовлены? — спросила, ни к кому конкретно не обращаясь, Изабелла, великолепная и властная, как всегда наряженная, невзирая на долгую дорогу, в затканное серебром нежно-зеленое верхнее платье, на которое я взглянула с мгновенно вспыхнувшей завистью.
У меня сейчас вообще был бы жалкий вид, если бы я не успела переодеться и заменить то скромное зелененькое платьице, которое было на мне в самый момент приезда Изабеллы, на самый новый наряд, очень нравившийся Эдуарду. Изабелла не утратила прежней привычки с ходу ошарашивать кого угодно. Но теперь и я была готова показать свое новое положение и богатство: на мне было невероятно роскошное облегающее фигуру платье из фиолетового шелка с ярко-алыми и синими вставками. В таком платье, да еще с котарди из золотой парчи просто невозможно было поблекнуть даже рядом с принцессой. Здесь я хозяйка, и я подала слуге знак проводить свиту Изабеллы и ее дочерей в приготовленные для них по моему распоряжению покои.
Изабелла осталась в зале. На меня смотреть она избегала — с хорошо разыгранным безразличием, но и с заметным неудовольствием, — а вместо меня обратилась к Латимеру:
— Латимер! Как приятно вернуться в родной дом! Будьте любезны подать мне вина.
— Сию минуту, миледи.
Латимер поклонился принцессе, а потом и мне, и лишь после этого поспешил выполнять ее приказ. От Изабеллы это не могло укрыться, ее прекрасные брови высоко взлетели, а взгляд наконец-то сосредоточился на мне — я и не сомневалась, что она обратит на меня внимание, лишь когда сочтет это необходимым. Меня она заметила сразу же, едва переступив порог. Ну как могла она не заметить фиолетового с алым платья?
— Вот как! Мистрис Перрерс!
— Миледи. — Я сделала реверанс.
— Не ожидала застать вас здесь. И кто же вы теперь, раз перестали быть фрейлиной? — В ее тоне сквозило такое презрение, которое могло бы задеть меня до глубины души, если бы я заранее не настроилась на эту встречу. — Хотите угадаю? Дворцовая шлюха?
Я спокойно стояла на королевском возвышении.
— Многое здесь изменилось, миледи.
— Да уж конечно, раз вы отдаете приказания Латимеру. — Она вдруг нахмурилась. — А отец знает об этом? Думаю, знает.
— Разумеется.
— Значит, вы пролезли на место моей матери.
— Можно сказать и так…
Ей было не по себе, и мне это нравилось. Интересно, задаст она мне вопрос прямо? Вошел слуга с вином на подносе, подал сначала мне, преклонив колени. Я жестом велела ему подать вино принцессе, получив ото всей сцены огромное удовольствие.
— Похоже на то, что вы заправляете здесь всем. — Лицо Изабеллы стало твердым, как гранит.
Я кивнула.
— Кто-то должен же следить за хозяйством. Король доволен тем, что это взяла на себя я.
— Скоро я этот порядок переделаю. — К вину Изабелла демонстративно не притронулась.
— Конечно, миледи. Если вам угодно взвалить это бремя на себя…
Я отлично знала, что принцесса не имеет ни малейшего желания брать на себя подобные хлопоты. Она понимала это не хуже меня.
— Где король? — спросила она требовательным тоном.
— Насколько мне известно, на конюшнях. — Изабелла тотчас же резко развернулась. — Погодите! — Мне нужно было поговорить с ней сразу. — Вам нужно кое-что учесть…
Она резко остановилась.
— Что же?..
— Король в последнее время не совсем здоров.
— И что из этого следует?
— Следите за тем, что станете ему говорить.
— Не нуждаюсь в том, чтобы на это указывали мне вы.
Я спустилась с возвышения и встала с нею лицом к лицу.
— Нуждаетесь. Вы не видели его много недель, даже месяцев — со дня смерти ее величества. А я видела.
Она обдумала услышанное, прикусила в нерешительности губу, потом круто повернулась и обратилась к Латимеру, который неслышными шагами снова вернулся в Большой зал.
— Как я понимаю, Латимер, король долго болел.
— Да, миледи. Но теперь ему гораздо лучше.
Итак, она не доверяет мне ни капельки даже в том, что касается отца. Мне необходимо навести к ней мосты, если я хочу, чтобы от этой принцессы из дома Плантагенетов был какой-то толк. Я смотрела на то, как напряженно она держит плечи, как старается стоять совершенно прямо, — в ее позе ощущалась такая непримиримая вражда, что у меня закрались подозрения: правильно ли я рассудила, посылая то треклятое приглашение?
— Вы вдоволь попользовались его добротой? — ядовито спросила она, и в голосе ее сквозила ревность. — Вижу, вы постарались на славу. — Теперь я стояла близко к ней, и глаза принцессы сузились, когда она рассмотрела мою раздавшуюся вширь талию. — Еще бастард? Кто бы мог подумать, что у вас хватит ума взлететь так высоко? Только берегитесь, мистрис Перрерс, выше вам уже не подняться.
Мне хотелось ответить встречной колкостью, но я прикусила язык. Изабелла — женщина умная, на это мне и следует рассчитывать. Я пошла рядом с ней, не отстав даже тогда, когда она ускорила шаги, словно пытаясь отделаться от меня. Изабелла не представляла, какой целеустремленной может быть прежняя фрейлина королевы.
— Не может быть, чтобы он серьезно болел, — заявила принцесса. — Он пригласил меня сюда принять участие в празднествах.
— Об этом я знаю.
— Он сообщил, что устраивает турнир.
— Верно.
— Какой же больной станет устраивать турнир?
— Никакой.
— И когда состоится турнир?
— Он не состоится. — Эти слова заставили ее остановиться. Снова мы стали друг против друга, как две кошки, столкнувшиеся на краю крыши. — Никто не готовится к турниру, — повторила я.
— Кто написал письмо?
— Я.
Я увидела, как дрогнули у нее ноздри, как она задохнулась от гнева, и ожидала вспышки. Но она лишь окинула меня оценивающим взглядом.
— Чего ради? Зачем вам было звать меня сюда?
— А вы, кажется, удивлены?
— Если вы хотите царить в этом курятнике, то не стали бы звать меня в Англию. Вы не хуже меня знаете, что я тоже склонна повелевать.
— Да, это я знаю.
— Тогда в чем же дело?
— Король очень подавлен. Принц-наследник тяжело болен, и неизвестно, поправится ли, а недавно умер его маленький сын. Королю сейчас вовсе не до турниров. Конечно, если вы его не сумеете уговорить.
— Я с ним поговорю. — Принцесса задумчиво поглядела на меня.
— Я желаю вам успеха, миледи, — слабо улыбнулась я. А успеха я ей вправду желала. Эдуарда необходимо было отвлечь от тяжких дум. — И вот еще что — король не знает, что я позвала вас сюда.
Я смотрела, как она удаляется стремительным шагом, несдержанная и порывистая. Ей наверняка не понравятся покои, куда должен проводить ее Латимер. Я вздохнула и посмотрела на Отважную, жавшуюся к моим ногам. Боже, спаси и сохрани! Неужто я привела лису в курятник?
Когда я прошла через сад — повидаться с королем и его высокородной дочерью, посмотреть, как они поладили, — то застала Изабеллу в приступе ярости.
— Меня выгнали из моих покоев!
— Выгнали? — усмехнулся Эдуард тому, как невероятно сгущает краски дочь. — А я понял так, что тебе предоставили покои просторнее, удобнее, — ты ведь, кажется, и детишек привезла с собой?
— Но те покои были моими — вы же сами велели построить их специально для меня!
— Да, все так и было. Но они же пустовали. Что же, пусть так и стоят незанятыми? Ты приезжаешь редко, а Алиса сказала, что ей там очень удобно.
Я об этом еще не рассказывала? Эдуард поселил меня в роскошных королевских покоях. Когда я перечисляла вельможам свои желания, у меня и в мыслях не было того, что король дал мне сам: великолепные покои дворца, созданные специально для принцессы. Я была на седьмом небе.
Сейчас нас окутало, подобно морозному облаку, мрачное молчание, которое изредка нарушалось только трескотней сорок, гнездившихся кое-где на деревьях сада. Изабелла перевела дух. Я ожидала, что она на все это скажет, если сумеет говорить достаточно дипломатично. Шурша юбками, принцесса отступила на дорожку, потом круто повернулась и встала напротив Эдуарда.
— Вы решили поселить в моих покоях любовницу?
«Она о дипломатии и не думает. Осторожнее! — подумала я, сделав глубокий вдох. — Осторожнее, Изабелла! Возможно, он и стареет, но гордости у него не убавилось ни капли». Словно подтверждая мои мысли, Эдуард сжал руку в кулак.
— Думаю, за сказанное ты должна просить прощения, — проговорил он довольно мягко.
— А мы станем притворяться, что это не так? Что она не была вашей любовницей — долгие годы, пока еще была жива матушка?
Мне показалось, будто на плечи Эдуарда легла королевская мантия. Даже сами плечи напряглись, словно и вправду держали ее немалый вес.
— Я могу позволить тебе многое, Изабелла. Но вот этого не потерплю. Ты не смеешь судить ни меня, ни свою матушку. Алисе я дал власть управлять всем дворцовым хозяйством.
— Мне это не нравится.
— А какая разница? Ты приехала в гости, Изабелла. Если тебе что-то здесь не нравится, никто не заставляет тебя оставаться и терпеть. — Изабелла открыла рот и, ничего не сказав, закрыла его. — То-то и оно! Ты же не лишена здравого смысла, Изабелла. — Эдуард улыбнулся ей, но глаза его смотрели по-прежнему строго. Он ясно сознавал, какими привилегиями наделил меня. — Ну вот, с официальной частью мы покончили, теперь скажи, надолго ли приехала. Надо же заранее продумать, чем и как мы сумеем тебя развлечь.
Изабелла бросила на меня короткий взгляд, и я ушла, оставив их обсуждать будущие развлечения. Когда дело касалось того, чтобы тратить деньги на поддержание престижа, отец и дочь были очень похожи. Изабелла погостит здесь несколько недель, но я остаюсь в милости у короля. Раз уж так надо, его дочь и любовница смогут действовать заодно, лишь бы прогнать одолевающие Эдуарда горестные думы.
Изабелла, разумеется, смотрела на это иначе. Когда мы вместе входили на ужин в Большой зал, она прошептала мне на ухо:
— Не мечтай завоевать мое уважение, ничего у тебя не выйдет. Выскочка ты, мистрис Перрерс.
Она сказала правду — выскочкой я была, выскочкой и останусь, хотя мне пришлось немало потрудиться, чтобы завоевать нынешнее положение. Я решила слегка выпустить коготки.
— Я не нуждаюсь в вашем уважении, миледи, — проговорила я сдержанно, тогда как принцесса сердито нахмурила брови. — Его величеству я нужна куда больше, чем вы.
— Он прислушается ко мне…
— Не станет он прислушиваться. Ах… — Эдуард оказался рядом, проводил меня к креслу, стоявшему по правую руку от королевского. — Быть может, на почетное место лучше бы усадить вашу дочь, — нежным голоском предложила я. — Хотя бы сегодня. Она — самая почетная гостья…
Я широко улыбнулась, и это не потребовало больших усилий. Как можно было не улыбнуться, коль скоро я одержала полную победу в этом столкновении характеров? Признавая, что коса нашла на камень, Изабелла ответила мне такой же улыбкой, но глаза у нее сердито блеснули, когда она садилась на почетное место. Пир удался на славу: отличные яства и напитки, красивая музыка и всевозможные увеселения. Настроение короля заметно улучшалось, когда он слушал остроумные замечания дочери, а я всей душой праздновала полный успех своего замысла, и даже по телу разливалась приятная теплая волна. Я не расстроилась и тогда, когда Изабелла, поравнявшись со мной при выходе из зала, бросила с горькой усмешкой, искривившей ее губы:
— Берегись, королева Алиса.
Я тихонько рассмеялась. Как мне было приятно видеть Изабеллу восседающей на почетном месте рядом с Эдуардом — только потому, что я его уговорила сделать так! Только потому, что я позволила ей занять это место.
— Я всегда стараюсь беречься, миледи, — ответила я принцессе. — А особенно — беречь короля.
Она была вне себя от ярости, она была моим заклятым врагом, но я не сомневалась: она поняла ту истину, которая содержалась в моих словах. В королевском курятнике всем правила я и никому этого места не собиралась уступать, пусть даже принцессе королевской крови. Эдуард может уделить Изабелле какое-то время — я сама это устроила, — но по-настоящему он нуждался во мне. Именно я становилась центром его сужающегося ближнего круга. Кровь играла во мне, когда я вернулась в свои покои и позволила своей прислужнице снять с меня драгоценные украшения, потом освободить от одежд; я протянула ей руки, чтобы она сняла с моих пальцев кольца и перстни. Королева Алиса? Мне понравилось такое прозвище. Титула мне, конечно, никогда не носить, зато (тут я сжала кулаки) я смогу полностью насладиться своей властью, как если бы и вправду была королевой, супругой Эдуарда.
Я уступила поле брани Изабелле — из чистой необходимости: живот мой так увеличился, что я уже не могла разглядеть из-за него свои туфельки. Когда ребенок начал неистово брыкаться, жизнь при дворе стала мне в тягость, и я объявила королю о своих намерениях. Эдуард поцеловал меня в губы, перецеловал все пальцы и погрузил на одну из королевских барок с такими предосторожностями, будто я была драгоценным стеклянным сосудом.
Совсем недавно я приобрела дом и поместье Палленсвик — благодаря таланту Гризли вести торговые дела, а равно благодаря королевскому казначею, который любезно ссудил мне нужное количество золота. А Палленсвик, стоявший на берегу Темзы, по праву мог считаться сияющим бриллиантом среди прочих поместий. И добраться оттуда до королевского дворца и до самого Эдуарда было не труднее, чем обуться в шелковые туфельки.
— Я приеду к тебе, если позволят дела, — пообещал мне Эдуард.
— Да я прекрасно поживу и в одиночестве, — заверила его я, понимая, что король будет занят по горло делами войны и вырваться к роженице ему не дадут, сколь велика ни была бы его власть. А о его добром настроении позаботится Изабелла.
— Я закажу мессы за то, чтобы роды прошли благополучно. Ты только дай знать.
— Непременно.
— Я согласен на то, чтобы ты родила мне дочь.
— Лишь бы она не стала такой же воинственной, как Изабелла!
— Ее превзойти в этом трудненько. — Эдуард громко расхохотался, распугав уток, которые плавали в тихих заводях. И вдруг, когда я уже удобно устроилась на подушках, воскликнул: — Не уезжай!
Он сжал мою руку в своих, как бы уговаривая, но я понимала, что нужно уезжать. В некоторых делах я очень ценила независимость, и родить дитя мне хотелось под своим кровом. Потому-то я и покинула двор. Но на этот раз не было никакой таинственности — развевались знамена, реяли флажки, меня окружал отряд телохранителей, чтобы все вокруг знали: фаворитка короля готовится подарить жизнь еще одному его ребенку. Изабелла нашла себе неотложные дела и не стала притворяться, будто очень беспокоится обо мне. Ну, оно и к лучшему.
Волкодав сопровождал меня, хотя собака очень боялась воды. Я еще не встречала животного, которое меньше отвечало бы своему имени, чем эта псина. А в рукаве у меня был спрятан подаренный Виндзором кинжал.
На кухонном столе в Палленсвике стояла корзина свежайших яиц, а я помогала экономке выгружать из ящиков засушенные с прошлой осени фрукты. Между фруктами была вложена записка. Вот уж, право, необычный способ доставки! Во мне проснулось любопытство, и, бросив взгляд на новорожденную дочь Джоанну, которая мирно посапывала в колыбельке у огня, я вытащила и развернула послание. Лаконичный текст без обращения, без подписи, без печати. Значит, кто-то задал себе немало хлопот, но пожелал остаться неизвестным.
Вам необходимо вернуться в Вестминстер. Личные дела не должны стать препятствием. Так нужно для Вашего же блага и для блага короля.
Почерк профессионального писца. Но кто же автор записки? Я в задумчивости похлопала ею по лежавшему на верху корзины коричневому яйцу. Не Эдуард: стиль не его, да и к чему королю такая таинственность? Может быть, Уикхем? Он не унизится до анонимных посланий. Да и ему, королевскому канцлеру, нет в том нужды. Лекарь Эдуарда? Но если Эдуард заболел, об этом возвестил бы гонец, трубящий в рог, чтобы расчистить себе дорогу. Ничуть не прояснив дела, я с кривой усмешкой бросила записку в огонь. Кто всерьез может быть заинтересован в моем возвращении? Может, я и признанная фаворитка короля, но большинство придворных охотно заточили бы меня в темницу как можно дальше от короля и всего двора.
Понятно, что утром я встала рано и распорядилась, чтобы упаковали мои вещи, а барку приготовили к отплытию. Поцеловала новорожденную дочь, которую назвала Джоанной в честь любимой дочери Эдуарда, умершей от чумы. Голубыми глазками и светлыми волосами девочка пошла вся в отца. На это имя я согласилась без особой охоты, ибо оно слишком уж напоминало мне о женщине, которая страшно презирала меня за неблагородное происхождение и загружала черной работой, но в данном случае важнее было желание самого Эдуарда. Поэтому я простилась с доченькой и обоими сыновьями, надавала кучу ненужных указаний нянюшке и воспитателю, а сама уже через час отправилась в путь, в Лондон. Автор записки, несомненно, вскоре отыщется.
Прибыв на место, я узнала, что в мое отсутствие Эдуард созвал парламент. Меня это, впрочем, ничуть не обеспокоило. Приближалось время новой военной кампании, и было необходимо созвать парламент, чтобы тот одобрил новые налоги и позволил получить деньги для платы английским войскам. В Вестминстерском дворце, где разместился теперь Эдуард, царил переполох. Все куда-то неслись, суетились, в конюшнях лошадям было не повернуться, а предназначенные для лордов и епископов помещения были уже переполнены. Членам Палаты общин предстояло размещаться там, где сами смогут устроиться. Ну, меня это не касалось. Спрятавшись в своих покоях от охваченного суматохой двора, я с облегчением перевела дух — вот я и приехала! Но радость была недолгой — кажется, я даже нахмурилась.
— Вы не торопились! — с упреком бросил мне Джон Гонт.
— Что вы здесь делаете? — совершенно неучтиво спросила я. Почему в присутствии Джона Гонта я становилась такой грубой? Да ведь он безо всякого приглашения почему-то оказался в моих покоях! Наверное, я боялась его. Гонт, непробиваемый, как всегда, сидел на подоконнике и царапал каблуком сапога каменную кладку.
— Жду вас, мистрис Перрерс.
После того «заговора» мы с ним мало общались. Ах да — на людях он изысканно приветствовал меня, был также вынужден признать, что Эдуард очень ценит меня, но в душе, думается, презирал по-прежнему. Так что же привело его сюда? Разве что… По коже у меня пробежал холодок недоброго предчувствия.
— Я приехала сразу же, как только смогла, — ответила я.
— Я ждал вас еще вчера.
Не ошиблась. Снова заговор.
— Так это вы послали мне записку, милорд!
— Неважно. Важно то, что она заставила вас приехать. Только нужно было поторопиться.
Меня коробил его высокомерно-требовательный тон, как и неприкрытое осуждение. Я ответила ему язвительно:
— У вас не хватило смелости поставить свою подпись, милорд?
— При чем здесь смелость? Скорее я проявил осторожность.
— Пусть никто не догадывается, что это вы вызвали сюда любовницу короля? Как вам не везет: приходится связываться с такой, как я, да еще и признавать, что вы во мне весьма нуждаетесь. Одного раза вполне хватило бы. Но снова обращаться с просьбой ко мне!.. Как вы только переносите это, милорд?.. — Я жестоко насмехалась над ним, но он всерьез меня рассердил.
Гонт вскочил на ноги и быстрым шагом направился к двери. Я слишком сильно уязвила его гордость.
— Подождите!
Он резко замер на месте с каменным выражением лица.
— Я не нуждаюсь в вас. Я просто ошибся.
— Да видно ведь, что нуждаетесь. — Я сбросила накидку с капюшоном, стараясь побороть желание дать ему уйти и хлопнуть вдогонку дверью. Дело, должно быть, серьезное, коль уж Гонт пришел ко мне, а значит, я должна сделать первый шаг к примирению с этим не в меру заносчивым человеком. — Давайте начнем с начала, милорд. — Я протянула к нему руку в знак примирения. — Расскажите мне, что за забота вас одолевает, а я постараюсь помочь.
Да, дело серьезное: Гонт не стал упираться да ломаться.
— Он отказывается сделать то, что нужно. А другого выхода просто нет. И прислушаться он может только к вам. Грустно, но это именно так. Вы должны уговорить его.
Очень характерно для этого человека — начинать с сути дела, не вдаваясь ни в какие объяснения.
— Я полагаю, вы имеете в виду короля. Быть может, я и сумею уговорить его, если только вы соблаговолите уточнить, на что именно. Идите сюда, милорд, садитесь и расскажите, что за каша здесь заварилась. Это из-за парламента?
— А как же, черт его побери!
Он сел и короткими, полными горечи фразами посвятил меня в возникшие сложности.
В парламенте с самого момента открытия сессии царило недовольство. Если составить список имеющихся жалоб и упреков, то свиток протянулся бы от Вестминстера до самого Тауэра. На что израсходованы деньги, ассигнованные предыдущей сессией? От них не осталось и следа, а никаких успехов не видать! Гордое имя Англии втаптывается в европейскую грязь. Гасконь уже почти потеряна. А где английский флот? Верны ли слухи, что французы готовят вторжение? А король тем временем просит у них все новых средств! Так вот, ничего он не получит! Незачем бросать деньги на ветер.
Я слушала и непритворно изумлялась.
— Совершенно не представляю, чем я могу помочь в этом деле, — призналась я, когда он закончил рассказывать.
— Они ищут козлов отпущения, — недовольно проворчал Гонт с таким видом, будто не понять этого могла только полная дура. — Им не хочется прямо подвергать нападкам короля, но они твердо решили сделать кровопускание его министрам, которых обвиняют в неумении вести дела. К несчастью, парламент отыскал слабое место. Что общего у всех министров Эдуарда?
Я поняла, к чему он клонит.
— Все они — духовные лица.
— Именно! Все до единого — попы. Что они понимают в ведении войны? Ровно ничего! Вот парламент и хочет, чтобы их сместили, а уж потом рассмотрит вопрос о введении новых налогов.
Теперь стало совершенно ясно, какую роль отводит Гонт мне в своих замыслах.
— А Эдуард не хочет идти им навстречу.
— Не хочет. Им движет нежелание подставлять под удар тех, кого он сам поставил у власти. Я не могу переубедить его, но если он не согласится на требования парламента…
Да, в стране разразится внутренний кризис — в дополнение к тому, что мы уже имеем в Европе.
— А если я сумею уговорить Эдуарда отстранить от дел клириков, кто придет им на смену?
— Вот кого я предлагаю… — невесело усмехнулся Гонт.
Я выслушала его планы. Они были составлены с блеском. Мне не удалось найти в них слабое место.
— Так вы это сделаете? — настойчиво спросил принц.
— А не получится так, что ваши министры окажутся ничуть не более популярны? — Я пристально посмотрела ему в глаза.
— Отчего бы это? Они же не церковники.
— Но на них будут смотреть как на ваших ставленников.
— Это люди, наделенные талантами!
Это была правда. Но я еще с минуту сидела молча, обдумывая все в целом и заставляя Гонта ждать — хоть немного, мне просто этого хотелось. Ничего плохого в его плане я не находила, а королю это поможет сохранить добрые отношения с парламентом. Уже ради одного этого стоило поддержать Гонта.
— Я берусь за это дело, милорд.
— Тогда я ваш должник!
Он скрепил достигнутое соглашение едва заметным кивком и вышел из моих покоев, развеяв в дым все мое хорошее настроение. Чтоб его черти побрали! Мы с Гонтом могли быть союзниками, но этот союз нелегко давался нам обоим — все равно что ложиться в постель со змеем ядовитым. Так мне почему-то подумалось.
Мы с Гонтом застали Эдуарда в разгар какого-то горячего спора с Латимером. Король с улыбкой поздоровался со мной, поцеловал в обе щеки, но сделал это торопливо, даже не без раздражения.
— Ты должна была сообщить мне, что собираешься возвратиться, Алиса. Сейчас же я могу уделить тебе минуту-другую, потому что…
Бремя забот снова тяжело легло на его плечи. Я видела, каким жестким стало его лицо от непрерывных стараний сохранить то, что завоевано далеко за морем. Он выглядел как человек, со всех сторон окруженный врагами.
— Мы пришли, чтобы поговорить с вами о министрах, государь, — мягко вмешался в нашу беседу Гонт.
— Ты же знаешь, как я к этому отношусь…
В голосе Эдуарда не было привычной решительности, и это меня обеспокоило. Я погладила его по руке, заставляя посмотреть мне в глаза.
— Я переговорила с вашим сыном, милорд. И советую вам поступить так, как он предлагает.
— Эти министры честно мне послужили…
— Но парламент высказался о них недвусмысленно. Нравится вам это или нет, Эдуард, но только парламент может дать вам деньги. Как сумеете вы сражаться дальше, если они ничего не дадут? Прислушайтесь! Увольте этих клириков. Сейчас не время колебаться.
Мне думается, я не сказала ничего такого, о чем бы ему уже не говорил раньше Гонт, но ко мне Эдуард прислушался.
— Так ты считаешь, что я должен склониться перед волей парламента? — Уголки его губ печально опустились.
— Да, я так считаю, Эдуард. Я полагаю, это будет самая правильная политика.
Он так и сделал.
А кто же пришел на смену незадачливым клирикам? Люди из того узкого кружка, с которыми я встречалась в свое время в круглой комнате: друзья и приспешники Гонта, молодые, способные, исполненные честолюбивых надежд. Люди, которые станут верой и правдой служить Эдуарду и будут преданы Гонту. Замены в правительстве завершились в течение недели: Кэрью стал лордом-хранителем печати, Скроп взвалил на себя бремя заботы о казначействе, Торп был назначен новым канцлером, а Латимер — камергером короля, передав обязанности стюарда двора Невилю, лорду Рейби. Эта придворная клика вскоре сомкнулась вокруг Эдуарда, отгораживая его от внешнего мира, и чем дальше, тем меньшее представление получал он о том, что происходит на свете.
Я смотрела, как они склонились перед монархом. Гонт все рассчитал правильно: все они были очень тесно связаны с ним, а поскольку на высшие должности их вознесло мое влияние, то и мне они станут служить верно. Никто из них не посмеет мне перечить. И я впервые за все годы обрела при дворе друзей, которые не станут пренебрегать моими интересами.
Так я очутилась в кругу тех, кто вершил судьбы государства.
— Вам не о чем тревожиться, милорд, — заверила я Эдуарда и поцеловала ему руку. — Эти люди станут верно служить вам.
Давно прошли те дни, когда с рук Эдуарда не сходили мозоли, натертые мечом и поводьями. Сам же он был так напряжен, так заметно утратил способность предугадывать события, что я не могла в душе не пожалеть его. Он напоминал мне стареющего могучего оленя: все еще ведет свое стадо вперед, но шерсть уже поседела за множество прожитых лет, а огонь в глазах неудержимо гаснет. И не за горами тот день, когда гончие с заливистым лаем понесутся по его следам, желая напиться его крови. Быть может, уже несутся.
— Хорошо, что вернулась, — проговорил Эдуард. — Малышку ты привезла с собой?
— Нет, оставила ее с кормилицей. Но скоро привезу, и вы ею полюбуетесь.
Я прошла с ним на конюшенный двор — посмотреть на новую пару кречетов, которых только-только стали обучать. Мне приятно было видеть, с каким живым интересом король занялся пернатыми охотниками. Эдуарду не нужно ни о чем тревожиться. А вот мне нужно. Я сделаю все, что в моих силах, лишь бы оградить его от опасностей.
А что же Гонт? Как я понимаю, итог его вполне удовлетворил. В тронном зале он не стал отвешивать мне поклоны, но я отчетливо ощущала узы, которыми мы отныне были с ним связаны. Теперь мы, несомненно, стали союзниками, хотя можно было спорить, кто из нас кому продал душу: я Гонту или же он мне. Мы вступили в своего рода брак по расчету, и каждый волен был вернуть себе свободу, как только сочтет это выгодным для себя. Слишком настороженно мы относились друг к другу, чтобы стать закадычными друзьями, однако эту политическую интригу мы с ним провели рука об руку.
Результаты нашего заговора не замедлили сказаться самым обнадеживающим образом. Эдуард обратился к парламенту с прежним пылом, добился полного одобрения своей политики, получил запрошенные финансы. Англия снова могла сражаться, а я самодовольно вела мысленную беседу с далеким Вильямом де Виндзором. Он ведь советовал мне остерегаться врагов — и ошибся, выходит. Теперь у меня при дворе есть друзья. Наверное, надо написать ему, рассказать о новостях. А подаренный им кинжал я запрятала подальше в сундук.
— И в тебе я больше не нуждаюсь! — сообщила я Отважной, которая встретила мои слова совершенно безмятежно: она улеглась у моих ног и положила голову на подол моего платья.
Если и были нужны еще какие-то подтверждения того, что моя счастливая звезда ярко засияла на политическом небосклоне, я их очень скоро получила. На Пасху у членов семейства Плантагенетов было принято обмениваться подарками. И что же преподнес мне милорд Гонт? Должно быть, мысль о том, что он у меня в долгу, сильно угнетала его. Он протянул мне нечто, завернутое в шелк.
Я взяла подарок в руки, развернула.
Пресвятая Дева! Я увидела то, чего никогда еще не видывала прежде, — кубок изумительной красоты. Кубок, усыпанный оправленными в серебро бериллами, какой не стыдно было вручить и самому королю.
О, я видела Гонта насквозь. Ему была необходима моя поддержка. То, что я могла сказать его отцу, стоило ничуть не меньше драгоценной оправы и сияющих самоцветов этого кубка, вот принц и платил мне за доброе расположение. Отчего же принц, к тому же Плантагенет, так сильно нуждался в поддержке со стороны любовницы короля? Да оттого, что всякий английский подданный знал: Гонт может унаследовать престол, но его надежды покоятся на крайне зыбком основании. Из Гаскони до нас доходили неутешительные известия о здоровье принца Уэльского, и никто не поручился бы за то, что тот не умрет раньше своего отца. В таком случае корона перейдет к его сыну Ричарду, малышу четырех лет от роду. А государство вряд ли станет процветать, если у его монарха еще молоко на губах не обсохло.
Быть может, Гонту мерещилось, как в его руки плывет корона Англии? Дети погибали часто. Старший брат Ричарда уже успел умереть в Гаскони, мог не выжить и сам Ричард.
И все же Гонт был не так близок к тому, чтобы воссесть на престол, как ему хотелось: ведь перед ним шли еще потомки Лайонела. У столь рано почившего в Италии Лайонела осталась дочь от первого брака. Теперь это дитя, нареченное Филиппой, подросло. Ее выдали замуж за Эдуарда Мортимера, молодого графа Марча, и у них родилась своя дочь. Если эта юная чета окажется достаточно плодовитой, то сын Мортимера будет иметь на престол больше прав, чем любой отпрыск Джона Гонта.
Не больно это было по вкусу Гонту, как я понимаю: они с графом Марчем всегда друг друга, мягко говоря, недолюбливали.
Я любовалась чудесным кубком, а мысли тем временем ткали свой собственный узор, подобно тому, как мастер ткач постепенно создает на гобелене целостную картину. Слишком рано еще было рассуждать о том, как все сложится с престолонаследием, однако не подлежало сомнению, что Гонту не жаль поставить все на кон, лишь бы сложить кусочки желанной мозаики один к одному. Не пройдет и десяти лет, как у Англии будет новый король. Кто же? Малолетний Ричард? Еще не родившийся сын Мортимера? Или же Гонт в расцвете сил?
Если даже предположить, что Ричард останется в живых, Гонту все равно есть на что рассчитывать. Юному Ричарду потребуется опекун. А кому скорее всего доверят воспитывать, защищать и направлять молодого короля? Разумеется, ему, Гонту. И Джон Гонт будет тогда править Англией. И сохранит надежды на то, что корона может достаться его сыну, пока еще маленькому Генри Болингброку[76]. Тут уж не приходилось пренебрегать таким союзником, как фаворитка короля, к словам которой внимательно прислушивался слабеющий монарх. Гонт смотрел на меня как на бьющую без промаха стрелу в его колчане — он ведь явно строил далекоидущие планы, чтобы обеспечить себе английский трон, в этом я была твердо убеждена. Не таков он, чтобы довольствоваться вторым местом, даже после старшего брата, угасающего наследника престола, которого Джон любил.
Так что же — Гонт задумывал измену? В этом сомнений у меня не было и быть не могло.
Я улыбнулась; замечательный кубок нимало меня не соблазнил, ибо я прекрасно понимала, чем продиктована щедрость дарителя. Но как было не восхититься такой чудесной вещью? Если я и желала какого-нибудь внешнего знака, указывающего на мое высшее положение при дворе, кубок в полной мере являлся таким знаком, к тому же преподнесенным надменным принцем крови, который не должен был вообще меня замечать, а уж тем паче искать у меня поддержки. Как упоительно сознавать, что могущественнейший Джон Гонт выражает почтение простолюдинке Алисе Перрерс! Мне неудержимо захотелось рассмеяться.
— Благодарю вас, милорд. — Я с надлежащей серьезностью сделала ему реверанс, потом выпрямилась во весь рост и посмотрела принцу прямо в глаза. У него не должно остаться сомнений: дар я приму, но ничто и никогда не поколеблет моей верности Эдуарду.
— Вы делаете мне честь, мистрис Перрерс. — Гонт тоже улыбнулся с выражением хитрого лиса.
Создание новых союзов и смена королевских министров не прошли для меня совершенно безболезненно. Уикхем, вечно балансировавший между дружбой и враждой ко мне, оказался единственной жертвой этих политических интриг, о которой искренне сожалел сам Эдуард. Не уверена, что в Англии когда-нибудь был канцлер честнее его, однако в пылу чистки правительства от засилья церковников пришлось расстаться и с ним. Невозможно было сохранить его на прежнем посту.
Эдуард очень официально попрощался с уходящим министром. Я — нет. Он как раз укладывал свои вещи, свои любимые книги и чертежи новых зданий, которым уже не вырасти под его руками благодаря щедрости государя. Стоя у открытой двери, я смотрела, как он сворачивает их и кладет каждую вещь на свое строго определенное место. Уильям Уикхем. Уже не канцлер. Пусть он и раздражал меня резкостью своих суждений, но никто, кроме него, не был так близок к тому, чтобы считаться моим другом.
Виндзора я другом не называла и не была уверена в том, кем он сам считает меня.
— Если пришли позлорадствовать, можете не трудиться, — бросил Уикхем, даже не повернув ко мне головы.
— Я не злорадствовать пришла. — Он, не отвлекаясь от своего дела, завернул в большой кусок полотна горсть перьев. — Я пришла сказать вам «прощайте».
— Сказали. Теперь можете уходить.
Он был сильно обижен и имел на то все основания. Ведь я стояла рядом с Эдуардом, когда король произносил пустые фразы о необходимости, о своем сожалении, о том, что желает Уикхему всяческого добра. Да, так было надо, и Эдуард был уязвлен решениями парламента ничуть не меньше самого Уикхема, но этот человек заслуживал большего. Я прошла через всю комнату, чтобы ему пришлось посмотреть мне в лицо. Он, тем не менее, продолжал собирать вещи и рыться в переметных сумах.
— Зато вы больше времени станете уделять Винчестеру, своей епархии, — сказала я, подавая ему требник.
— Я приложу свои таланты, — ответил он, выхватив книгу у меня из рук, — там, где их сумеют оценить.
— Мне очень жаль с вами расставаться.
Вот тут он взглянул на меня, и я увидела в его печальных глазах боль от сознания моего предательства.
— Вот уж никогда не думал, что именно вы станете орудием моего изгнания. Мне казалось, что вы умеете ценить верность и дружбу. — Он язвительно усмехнулся. — У вас ведь так много друзей, правда? Можно позволить себе не слишком-то о них переживать. — Я почувствовала, как кровь прилила к моим щекам. — Как сильно можно заблуждаться, если не желаешь взглянуть правде в глаза!
— Не думаю, что я послужила орудием. — Я старалась не выдать голосом своих чувств. — Парламент решил, что вы должны уйти. Вы все.
— Из-за кризиса, в котором не повинен ни один из нас. Из-за неспособности руководить, а кто это доказал? Да у нас больше опыта, чем у всех членов парламента, вместе взятых! — Он возмущенно пожал плечами и положил в мешок еще две книги. — Что-то я не слыхал, чтобы вы попытались убедить Эдуарда сохранить верность старым друзьям!
— Это правда, я и не пыталась.
— И Гонт не пытался. — Уикхем взглянул на меня из-под насупленных бровей, будто ища подтверждения своим подозрениям, и прочитал на моем лице ответ. — Поосторожнее, Алиса. Вы плаваете в маленьком пруду с большими зубастыми рыбинами. Гонт имеет власть и хочет получить еще больше. А когда это случится, вы ему больше будете не нужны и он не замедлит от вас избавиться.
— Он не угрожал мне, — ответила я и вспомнила нашу последнюю перепалку, когда возвратилась ко двору после родов. — Полагаю, он будет защищать своего отца изо всех сил. А для этого ему нужна я.
— А я полагаю, что он в первую очередь позаботится о себе.
— Кто же о себе не заботится?
— В один прекрасный день вы перестанете быть незаменимой. — За двумя книгами в мешок последовала дорожная чернильница. — Держитесь от него подальше. Похоже, честность не входит в число его достоинств. — Уикхем снова посмотрел на меня, и на этот раз его лицо ничего не выражало, будто он просто дал другу пустяковый совет. Но это даже не был совет. Я хорошо его поняла. Это было предостережение.
— Я не могу себе позволить враждовать с Гонтом, — хрипло выговорила я.
— Что? Это вы-то, которая служит королю глазами и ушами? Которая стала его правой рукой? — Теперь Уикхем откровенно насмехался надо мной.
— Надолго ли? Уж вам лучше, чем кому-либо, известно мое положение. Как вы сами удачно заметили, мне необходимо иметь как можно больше друзей!
— Тогда подумайте, как их завести, а не восстанавливайте против себя весь двор!
— О чем тут думать, если в основе их вражды лежит как раз то, кем я являюсь для короля? Мне самой кажется, что я оказалась между молотом и наковальней. Если я потеряю Эдуарда, я потеряю все. Придворные просто задохнутся от злорадства. Если же я останусь с Эдуардом, у меня неизбежно будет тьма врагов, которым ненавистно мое влияние. Что же мне делать, о мудрейший из советников? — Не он один умеет насмехаться.
— Не знаю, — ответил он, обдумав мой вопрос.
— Вот это хоть честно, — сердито проворчала я. — Вы можете помолиться за меня, наверное. — Я уже жалела, что пришла к нему.
— Помолюсь…
— Не нужно! Вашей жалости я не перенесу!
— Вам очень нужно, чтобы кто-то вас пожалел.
Я бросилась к окну, предоставив Уикхему укладывать книги и борясь с нелепым желанием разреветься.
— Можете попытаться найти общий язык с принцем Уэльским, когда он вернется в Лондон, — сказал Уикхем, помолчав и дав мне время прийти в себя. Несмотря на свой церковный сан, он оставался прежде всего изощренным политиком. Я в ответ покачала головой. Там мне ничего не светит, Джоанна мне другом не станет. — Он должен прибыть сюда со дня на день.
— Это уж как выйдет. — И я ловко переменила тему нашей перепалки. — А что ждет вас? Во всяком случае, ваша почетная ссылка не грозит вам лишениями. У вас ведь не меньше десятка замков, дворцов и усадеб…
— Они все принадлежали канцлеру, — криво улыбнулся он. — А лично мне — ни один из них. Мне трудно будет защитить себя. — Теплота, с которой он было заговорил со мной, сразу пропала. Я пожалела о сказанном.
— Я позабочусь о том, чтобы вас достойно наградили, — услышала я свой голос.
— Ну и ради чего вам это нужно? — Какой спокойный голос и какие колкие слова! — Я разве похож на того, кто нуждается в ваших милостях?
— Не похожи! Я и сама не знаю, что это пришло мне в голову! Раз вы так недружелюбно настроены, я бы охотно послала вас к дьяволу.
— А я не пойду. Мне хочется попасть туда, где ангелы.
— Раз так, то примите совет: не стоит связываться со мной.
— Вы клевещете на себя, Алиса. — И едва заметно улыбнулся печальной улыбкой.
— Просто стараюсь не отстать от всеобщей моды.
— Я же видел вас с Эдуардом. Вы с ним ласковы, вы о нем заботитесь.
— Ну, это только в моих собственных интересах. — Язвительностью я не хотела уступить ему и сама удивилась, сколько яда оказалось в моих словах.
— Не стану спорить, поскольку вы сегодня настроены обливаться слезами от жалости к себе, а свои грехи знаете не хуже меня. — Он обвел глазами опустевшую и сразу помрачневшую комнату. — Ну вот и все.
Мне стало жаль, что я пыталась его разозлить.
— Когда вы уезжаете?
— Прямо сейчас. — Он поклонился совершенно официально. — Да хранит вас Господь Бог, мистрис Перрерс.
— Скорее уж он сохранит для вас должность, милорд епископ. — Он рассмеялся, а я подалась вперед и поцеловала его. — Знаете что? — прошептала я ему на ухо, охваченная минутным желанием немного порезвиться. — Иногда мне кажется, что мы могли стать больше чем друзьями, если бы вы не были священником, а я — блудницей.
Печальное лицо Уикхема сморщилось.
— Иногда, — ответил он тоже шепотом, — мне кажется то же самое. И если я вам когда-нибудь понадоблюсь…
Он задержался ненадолго у двери, а потом вышел, тихонько притворив ее за собой. Я осталась одна в пустой комнате. Увидела на полу забытое перо, наклонилась и сунула себе в рукав. Епископ Уикхем был настоящим другом, и он совершенно справедливо упрекнул меня в том, что я склонна слишком жалеть себя. Я ведь сама уготовила себе такую участь и чаще всего была ею довольна. Непростительной слабостью было бы теперь стенать о последствиях.
Я должна быть сильной. Если уж не ради себя и своих детей, то хотя бы ради Эдуарда.
Я смотрела, как Уикхем, оседлав коня, уезжает прочь, и удивилась тому острому чувству потери, которое причиняло такую же боль, как и сознание своей вины. Он не должен был лишаться своих постов и имений, а я еще сильнее ощутила свою вину, когда одно из поместий Уикхема Эдуард передарил мне. Красивое, очень соблазнительное и исключительно доходное поместье Уэндовер в Бакингемшире, которое было известно плодородными нивами и отличным строевым лесом, а к тому же соединялось с Лондоном удобными дорогами. Я испытала желание как-то возместить Уикхему эту потерю. Гризли еще раньше купил для меня имение Комптон-Мэрдак, вот я и предоставила Уикхему право пользования и доход с этого имения. Скривилась, когда подписывала документ: кто сказал, что у меня сердце каменное? Но права эти я предоставила ему на определенный срок, после чего Комптон-Мэрдак вернется в мои руки. Не настолько я мягкосердечная. В конце концов, надо же и о себе побеспокоиться.
Итак, Уикхем уехал, а я стала мысленно готовиться к встрече, которой очень не хотела, но которой было не избежать.
Опоздала. Когда я вошла в залу, отец и сын стояли рядышком, а все вокруг радостно хлопали в ладоши. Принц Уэльский возвратился в Англию, и страна ликовала, как и сам принц вместе с Эдуардом. Если бы только стороннего наблюдателя это зрелище не так коробило.
Коробило? Да нет, оно просто ужасало.
Я знала, конечно, что принц тяжело болел, что его приходилось нести в битву на носилках, словно дряхлого старика, что силы покидали его стремительно, что в нем было не узнать того доблестного рыцаря, который вел свое войско к победе при Пуатье. Все мы скорбели о смерти его первородного сына. И все же я не была подготовлена к такому. Не знаю, что за хворь снедала его, но принц буквально весь высох, а лицо его напоминало обтянутый пергаментом череп мертвеца. Даже на расстоянии я увидела, что Эдуард потрясен не меньше меня.
— Слава Богу!.. — Эдуард заключил сына в объятия.
— Хорошо оказаться снова дома. — От отцовских объятий принц весь съежился, словно всякое прикосновение было ему невыносимо.
— Я так давно мечтал об этом дне.
Эдуард усадил сына в кресло. Изабелла что-то тихо говорила, а улыбка застыла у нее на лице, как маска отчаяния. Рядом с Эдуардом, взяв его под руку и сияя улыбкой, стояла принцесса Джоанна.
Прекрасная дева Кента.
Когда-то я видела, как Джоанна отряхнула со своих юбок прах аббатства в Баркинге. Теперь я могла оценить ее заново. Годы не пощадили ее: расплывшееся лицо стало напоминать головку свежего сыра, складки жира упрятали хрупкое тело, некогда тонкие черты покрылись дряблой, обвисшей кожей, и вся она как-то огрубела, а от былой стройности стана не осталось и следа. На нежной коже под глазами и возле губ залегли морщины, рожденные горестями и тревогами.
Эдуард был целиком поглощен сыном. Изабелла с Джоанной, две волевые натуры, встали чуть в сторонке. Когда я приблизилась к ним, Джоанна окинула меня таким взглядом, каким смотрят на слугу, который замешкался принести вино.
— А это — Алиса, — промолвила Изабелла безо всякого выражения.
— Алиса? — поджала губы Джоанна.
— Алиса Перрерс. Королевская шлюшка, — пояснила Изабелла все тем же бесцветным голосом.
— До нас доходили слухи… Значит, правда… — Джоанна застыла, словно впервые по-настоящему заметила меня.
Я сделала реверанс, сияя приветливой улыбкой и придав лицу самое простодушное выражение.
— Приветствую вас, миледи. Добро пожаловать на родную землю.
Брови Джоанны сошлись на переносице. Она не могла не вспомнить.
— Аббатство!
— Верно, миледи. Аббатство.
— Так вы, стало быть, знакомы? — От напускного безразличия Изабеллы не осталось и следа. Она вся подобралась, как кошка, учуявшая поблизости мышку.
— Да, — ответила я милым голоском. — Принцесса была так добра, что подарила мне обезьянку.
— Какая жалость, что укусы обезьянки оказались недостаточно ядовитыми, — сердито бросила Джоанна.
— Как выяснилось, я на редкость живуча, яды меня не берут, госпожа, — заверила я ее с полной невозмутимостью. — Вам, верно, приятно будет узнать, что ваши советы немало мне пригодились.
— Вас тогда не называли Перрерс, — сказала Джоанна, будто это что-то меняло.
— Это правда. После того я вышла замуж.
— Какая прелесть! — промурлыкала Изабелла. — Встреча старых подруг… Очаровательно!
К Джоанне уже вернулась прежняя способность сыпать беспощадными, пропитанными ядом репликами.
— Она тогда была-то всего-навсего неуклюжей безымянной служанкой. В монастыре ее приставили ко мне, чтобы была на подхвате. — Она метнула на меня испепеляющий взгляд. — Господи Боже мой! По какой досадной случайности вы сделались?.. — Она взмахнула рукой, указывая на мой наряд.
— Возлюбленной короля? В этом не было досадной случайности, госпожа. Я теперь сама себе хозяйка.
— Судьба переменчива, милая Джоанна, — вставила Изабелла, у которой в глазах заплясали чертики. — Тебе ведь самой это известно. Алиса теперь пользуется исключительным влиянием.
— Ей это не подобает, — сказала, как сплюнула, Джоанна. — Ну, теперь, когда возвратилась я…
— Сомневаюсь, что тебе удастся переубедить короля, — возразила Изабелла, получая явное удовольствие от происходящего.
— Ко мне король прислушается! — воскликнула Джоанна, которая, напротив, не испытывала ни малейшего удовольствия.
Я спокойно ждала продолжения, полностью уверенная в своих силах. Проявлять враждебность я не стану — это было бы в корне неправильно, — но и не стану отступать перед столь беззастенчивыми наскоками женщины, которая претендует на главенство только потому, что она должна стать следующей королевой Англии. Здесь главенствующую роль играю я.
Эдуард наконец заметил мое присутствие.
— Алиса! — Он так ласково взял меня за руку, что не заметить этого проявления чувств со стороны было невозможно.
— Приветствую вас, милорд. Принцесса только что говорила мне, как сильно ей хочется возобновить наше былое знакомство. Я со своей стороны ни о чем другом и не мечтаю, — сообщила я, накрыв руку Эдуарда своей. — Мы сделаем все, что только в наших силах, чтобы Джоанна радовалась своему возвращению. Я уже распорядилась, чтобы для нее приготовили покои в Вестминстерском дворце.
— Отлично! — воскликнул Эдуард.
— Вот это по-родственному, иначе не скажешь, — заулыбалась Изабелла.
Джоанна нахмурилась, когда я назвала ее просто по имени, но быстро справилась с собой, скривила губы и ответила с неподражаемым ехидством:
— Даже слов не нахожу, чтобы выразить свою признательность!
Итак, обстановка на поле битвы прояснилась. Для Джоанны я была не больше чем козявка, которую можно без труда раздавить. Она, наверное, ожидала, что в Англии станет всем заправлять сама — с одобрения свекра, который помнил ее еще милой крошкой, воспитывавшейся вместе с королевскими детьми[77]. И вдруг через каких-нибудь полчаса после прибытия она узнает, что у нее имеется соперница! Всем при дворе заправляла я. Но по спине моей невольно пробежал холодок: в один далеко не прекрасный для меня день вся власть окажется в руках Джоанны.
— Мы непременно должны отпраздновать возвращение моего сына, — объявил Эдуард, не заметивший напряженности в отношениях близких к нему женщин.
— Я с величайшим удовольствием возьму все хлопоты на себя, милорд, — живо откликнулась Джоанна. Она не хотела упустить открывшуюся возможность.
— Нет-нет, мы не станем утруждать этим тебя. Я думаю, милая моя, тебе нужно время, чтобы прийти в себя после долгого путешествия. — Эдуард перевел взгляд с принцессы на меня. — Как ты считаешь, Алиса? Устроим турнир?
Это получилось непреднамеренно. Эдуард к тому времени потерял вкус ко всяким интригам, но его слова прозвучали как гром с ясного неба. Джоанна резко втянула в себя воздух и вцепилась пальцами в атлас своей юбки.
— Я готова прямо сейчас взяться за то, что мне надлежит делать, — решительно заявила она. — Как жена вашего старшего сына я должна быть хозяйкой в делах двора.
— Но Алиса знает, что и как делать, у нее есть опыт, — не согласился с ней Эдуард. — Вот ее мы и попросим распорядиться. Так как же ты считаешь?
— Лучше дать большой пир, — ответила я. — Подготовка турнира займет слишком много времени.
— Значит, устроим пир, — ответил Эдуард и с довольным видом повернулся к сыну.
— Я возьмусь за устройство турнира! — Джоанна не желала уступить.
— Как тебе будет угодно. Договорись обо всем с Алисой!
И Эдуард с чисто мужским безразличием отвлекся от этих дел, снова стал обсуждать с сыном вопросы военной тактики, а мне предоставил в одиночку вести мою собственную битву. Но, в отличие от былых дней в аббатстве, я теперь вполне владела искусством парировать удары и маневрировать. И сама нападать научилась. К тому же, как ни удивительно, у меня появился союзник.
— Это мое право, и тебе не удастся отобрать его у меня! — возмущенно воскликнула Джоанна. — Теперь, когда я вернулась…
— Разумеется, — перебила я с милой улыбкой. — Я скажу королю, что вы настояли на своем. Турнир? Тогда вам необходимо переговорить со стюардом двора, лордом-камергером и церемониймейстером. Да, и со шталмейстером[78], конечно. И с главным герольдом, если вы пожелаете пригласить иноземных рыцарей, — думаю, на этом будет настаивать сам король… Я велю им явиться к вам. Пусть Латимер обсудит с вами, какие продукты закупить для кухни. И еще поговорите с ним о ежегодной генеральной уборке во дворце — ее еще не успели завершить… А где, кстати, вы намерены поселиться? Останетесь в Вестминстере? Покои там не слишком просторные…
Выражение лица принцессы стало напряженным.
— Принц Уэльский еще не решил…
— Тогда, может быть, вы побеседуете со всеми этими господами в моих покоях?
— Нет!
— Так чего же вы хотите? — всплеснула я руками.
— Пойдем, Джоанна, — фыркнула Изабелла. — Пусть будет пиршество. В данном случае оно потребует куда меньше усилий. И пусть этим занимается Алиса.
— А я-то думала, ты меня поймешь!
— Я понимаю только то, что в этих делах никто не смыслит лучше Алисы.
— С этим-то положением я и хочу покончить…
— Еще я понимаю, что ты ревнуешь, сестричка.
— Ревную? — чуть не взвизгнула Джоанна. — Просто она недостойна…
— Иной раз, Джоанна, просто необходимо смириться с неизбежным.
— С тем, что эта женщина вертит королем, как хочет?
— Да. И тебе следовало бы признать, что справляется она с этим на удивление хорошо.
— Слушать тебя не желаю! — И Джоанна демонстративно перешла ближе к своему супругу.
— Значит, дура ты, — пробормотала ей вслед Изабелла чуть слышно.
— Ну, а я просто не могу ничего понять! — добавила я, сбитая с толку нежданным поворотом событий.
— Вот чего я не понимаю: почему вы решили встать на мою сторону, а не поддержать принцессу Уэльскую? — вполголоса спросила я Изабеллу, когда принц с супругой отбыли в Вестминстерский дворец, свое временное пристанище, а мне пришлось задуматься над поручением короля. — Вы же могли настаивать на поведении турнира и помочь ей взять это на себя. Разве не хотелось вам отодвинуть меня на второй план?
— Да она просто ходячая глыба жира! — воскликнула Изабелла.
— И что?
— Я ее терпеть не могу.
— Вы и меня терпеть не можете.
— Это правда, но если уж говорить начистоту, не так сильно, как ее. И так было всегда.
— Придет день, и Джоанна станет королевой, — напомнила я. — Не вечно мне играть нынешнюю роль.
— Я знаю, кто правит всем сейчас. Не Джоанна.
Это пролило бальзам на мою душу, но все же я сказала:
— Все равно не понимаю, для чего вам было прикрывать мне спину, когда Джоанна собиралась вонзить в нее кинжал.
Изабелла нахмурилась, явно решая, стоит ли ей быть со мною откровенной.
— Нам потребуется чаша вина. А лучше две чаши… — проговорила она, и в глазах сверкнули озорные искорки.
И вот мы сидим в светлице и беседуем, как две заговорщицы.
— Не слишком-то удачно женился мой брат! — заявила мне Изабелла и рассказала о том, чего Джоанна Прекрасная, в ту пору только что овдовевшая, не сочла нужным мне сообщить, когда давным-давно мы познакомились с нею в монастыре.
Такой скандал — пальчики оближешь!
В нежном возрасте двенадцати лет Джоанна решилась тайно обвенчаться — ни больше ни меньше! — с Томасом Холландом, который вскоре покинул малолетнюю жену и отправился в крестовый поход. В его отсутствие родственники Джоанны, ни о чем не подозревавшие, настояли на ее браке с Вильямом Монтегю, сыном графа Солсбери. Увы, Холланд вернулся из похода живым и не год, не два прослужил управляющим имениями Вильяма и Джоанны.
— Только представь себе, — восклицала Изабелла с недостойным злорадством, — как весело было у них в доме! Какой поразительный ménage à trois[79]! Как думаешь, с кем из них она делила ложе?
В конце концов Холланд обратился с прошением к самому Папе и получил свою жену назад, а ее брак с Монтегю был признан недействительным. Холланд жил с ней до самой своей смерти, случившейся как раз в том году, когда я увидела Джоанну в монастыре. Едва овдовев, она отправилась туда замаливать грехи в удалении от мира. Не думаю, что покаяние помогло Джоанне спасти душу, — насколько я припоминаю, по Холланду она нимало не скорбела, предпочитая не исповедоваться и молиться, а играть на лютне да любоваться своими драгоценностями.
— Но Монтегю-то был жив! — продолжала между тем Изабелла. — При живом муже, пусть брак и был аннулирован (тоже весьма спорное дело!), Джоанна не очень годилась в невесты принцу королевской крови. На мой взгляд, это попахивает двоемужием. Многие могут усомниться: считать ли законным наследником престола сына, рожденного моим братом от Джоанны? Или их сын Ричард просто бастард? — Изабелла сморщила нос. — Вряд ли такое наследование пройдет гладко[80]. Кентская дева! Вот уж кто-кто, только не дева! Но брат мой заткнул уши, и брак совершился. Джоанна уловила-таки его в свои сети. — Она скривила губы. — Джоанна — женщина слишком честолюбивая.
Ну, упрекать ее за это я не могла.
— Вроде меня? — спросила я, криво улыбнувшись.
— Совершенно точно. Потому-то она тебя так ненавидит.
Ну, у Джоанны для честолюбия были основания. А когда умрет Эдуард, ее мечты сбудутся, меня же ожидает только изгнание до конца дней моих. Пальцами я впилась в платье, раздирая ногтями тонкий шелк, когда Изабелла невольно заставила меня снова задуматься о коронации Джоанны. Она тогда станет праздновать, а меня с огромной радостью вышвырнет на улицу, в сточную канаву.
— Ты ее видела? — заговорила снова Изабелла, не ведая о моих мыслях и не считая нужным смягчать выражения. — Джоанна Жирная! Она все еще распускает хвост и гордо улыбается, будто все так же красива, как когда-то. И поэтому она не в силах постичь, как ты сумела приобрести такую власть над королем, коль скоро ты не красавица. — Она окинула меня откровенно критическим взглядом. — Если на то пошло, скорее уж просто уродина.
— Премного благодарна за комплимент. — Я сдержала возмущение, вызванное столь беспардонным заявлением. Впрочем, я к этому уже, кажется, притерпелась. По крайней мере, душа моя больше не болела.
— Я всего лишь сказала правду.
— Король думает иначе, — заметила я.
— Король просто слеп!
За это я мысленно возблагодарила Бога. Но какие ценные сведения я получила! Принцесса Джоанна станет моим врагом. А вот Изабелла… Наши нелегко складывавшиеся отношения вдруг резко изменились, однако умная женщина не станет придавать слишком большое значение такой внезапно вспыхнувшей доверительности. Я вскинула брови, собираясь наседать и выспрашивать Изабеллу дальше.
— Правильно ли я поняла, миледи, что вы станете мне другом?
— Настолько далеко я заходить не собираюсь! — Ответ прозвучал резко, как я и ожидала.
— У меня никогда в жизни не было подруги, — сказала я: было интересно услышать, что она на это ответит.
— Меня это не удивляет. Твое честолюбие гораздо сильнее того, что большинство людей готово стерпеть. — Она с любопытством пристально вглядывалась в меня. — Но вот что я скажу. Мне будет интересно поглядеть на поединок между двумя такими близкими к трону особами. И не уверена, что захотела бы сделать ставку на ту или на другую. Не удивлюсь, если этот пир так и не состоится.
Но я подготовила пиршество в честь возвращения принца и принцессы Уэльских, проявив при этом уместную расточительность. Единственный недовольный голос — нашей неподражаемой принцессы — потонул в звоне кубков и радостных кликах пирующих вельмож.
— Так сколько вы ставили на то, что этот пир благополучно состоится? — спросила я у Изабеллы.
— Да ни гроша! — ответила она лукаво. — Я была уверена, что вся подготовка сойдет на нет из-за ненависти Джоанны.
— Значит, вы ошибались, — заметила я с радостной улыбкой.
— Выходит, что ошибалась.
Но Джоанна от своего не отступилась. Она еще даже не взялась за меня как следует. Когда пир подходил к концу, когда вино полилось рекой, а менестрели весьма немузыкально (на мой вкус) стали орать свои песенки, подзуживая придворных прыгать и скакать в буйном исступлении, принцесса Уэльская незаметно поменялась с кем-то местами, оказалась рядом со мной, наклонилась и вперила в меня тяжелый взгляд.
— Когда я стану королевой Англии, я уничтожу тебя за то, что ты натворила.
— И что же такого я натворила? — Я не опустила глаза, а во взгляде моем сквозило даже некоторое высокомерие.
— Околдовала его! Ты завладела разумом короля и извратила его мысли! Ты захватила себе место, на которое не вправе даже претендовать. Никогда и ни за что. Ты строила козни и плела интриги, пока он не стал слеп ко всему, кроме твоих желаний. А ты на каждом шагу только и морочишь ему голову.
Эти нелепые обвинения поразили меня, но не встревожили. Я решила ответить ей ее же словами.
— Припоминаю, миледи, вы мне давали советы: умная женщина-де должна непременно уметь лицемерить, — да еще посмеивались, когда я не в силах была этого постичь. — Ее щеки стали наливаться багровым цветом, и я улыбнулась. — Но мне не пришлось лгать и притворяться. Я выказываю королю надлежащее почтение, вы же и этого не делаете, миледи. Или вы считаете, будто он так ослабел рассудком, что не способен противостоять женскому коварству?
На мгновение она застыла с открытым ртом.
— Да как ты смеешь! — Джоанна не ожидала, что я вообще наберусь смелости с ней спорить.
— Я ничего не дала стареющему королю, кроме радости и удовольствий.
— И только? — Джоанна очень быстро овладела собой, тут я должна отдать ей должное. — Я вижу куда больше, мистрис Перрерс! Вы запускаете руки в королевскую казну. Кто платит за все те наряды, в которых вы щеголяете? Вы расхаживаете по дворцу, будто королева. Я вас насквозь вижу — вы хитрите и ластитесь к королю, пока не выжмете из него все, что только удастся: земли, поместья, опеки. Когда я стану королевой, я отберу все, что вам удалось у него выклянчить, так что придется вам собирать вещички и возвращаться в тот убогий монастырь — возвращаться только с тем, что на вас надето. И даже не в таком роскошном наряде, клянусь… — Она окинула взглядом мое новое сюрко из королевского алого бархата с разрезами по бокам и украшенные самоцветами сеточки, в которые я заправляла волосы. — И кто тогда станет вспоминать Алису Перрерс? А если обнаружу, что когда бы то ни было вы хоть на йоту преступили закон, то засажу вас за решетку до конца ваших дней. Для такой, как вы, позорный столб — слишком большая роскошь! Даже петля!..
Я смотрела в ту сторону, где сидел рядом со своим отцом принц Уэльский, и большую часть гневных речей Джоанны пропустила мимо ушей. То, в чем она меня обвиняла, мне было не внове. Во всех закоулках дворца можно было слышать то же самое, часто без малейших доказательств. И я к этому уже успела привыкнуть.
— Посмотрите туда! — перебила я речи Джоанны кивком головы. Она посмотрела, и слова замерли у нее на устах. — Вы и вправду смотрите? И верно оцениваете то, что видят ваши глаза? Так когда вы станете королевой Англии?
Двое мужчин. Один уже стар, другой должен быть в самом расцвете сил. Один только начинал угасать под необоримым грузом лет, другой стремительно приближался к своему концу. Если только не случится чуда Господня, то ни один англичанин не рискнет поставить кошель золота на то, что принц Уэльский переживет своего отца. Эдуарду уже исполнилось пятьдесят девять лет, принцу же — сорок один, но я не сомневалась, кто из них умрет раньше.
И Джоанна это поняла.
Я видела, как глубокое волнение охватило ее, исказило все черты до такой степени, что всякие следы былой красоты превратились в свою противоположность. Значит, она любит принца. Несмотря ни на что, я почувствовала, как у меня сжалось сердце: я испытала неожиданный прилив сострадания к Джоанне.
— Вам, должно быть, невероятно тяжело ощущать свое бессилие… — проговорила я.
Напрасно я расходовала на нее сострадание. Пусть глаза Джоанны и потемнели от отчаяния, но от моего замечания она отмахнулась и решительно хлопнула ладонью по столу.
— Отдых и заботливый уход поставят моего господина на ноги. А вот ваши дни сочтены. Принц выживет, увидите, потом на смену ему придет мой сын. Я буду королевой Англии, а от вашей удачи и следа не останется. — Ее руки, лежащие на столе, сжались в кулаки.
— Я желаю добра и вам, и принцу Уэльскому, миледи, — пожала я плечами, парируя ответный взгляд Джоанны, который мог бы прожечь щит с пятидесяти шагов. Не сбудутся ее мечты о здоровье принца — Джоанна безнадежно отгораживается стеной от правды жизни. Я встала и подошла к Эдуарду, любуясь его лицом, просветлевшим после бесед с сыном.
С возвращением принца Уэльского Эдуард окреп, и это не осталось без последствий. На Пасху я родила еще одного ребенка, девочку, нареченную Джейн и присоединившуюся к своей сестренке в Палленсвике. Не слишком красивое дитя: она унаследовала мои густые брови и темные волосы, но мне она от этого была только милее, а Эдуард подарил ей серебряную чашу, и я спрятала эту чашу вместе с тремя остальными. Эдуард в подарках новорожденным не отличался изобретательностью, но то, что он признал эту девочку с черными бровями, не могло не привести меня в восторг.
К Эдуарду вернулось доброе расположение духа, и, как оказалось, надолго. Невзирая на слабость принца-наследника, который не мог часто бывать при дворе, король начал снова интересоваться всем тем, что происходило за стенами Вестминстерского дворца, где мы обосновались в ту пору.
— Рассмотрите жалобы парламента, — посоветовала я Эдуарду.
Так он и поступил, регулярно собирая своих советников в Винчестере, как в былые дни. Держался очень миролюбиво, выслушивал бесконечные прошения, обещал те или иные перемены, но не предпринимал ничего такого, что способно было ограничить его собственные привилегии, — власть монарха так же уверенно лежала на его плечах, как и горностаевая королевская мантия. Когда после этих совещаний он возвращался ко мне, все залы и покои дворца наполнялись его кипучей энергией.
— Я перестрою наши военные силы, — говорил он, — и мы возобновим войну. Я восстановлю английскую власть в Гаскони. А Гонт мне в этом поможет…
— Вы сделаете все, что сочтете необходимым, — заверяла его я.
— Я чувствую, как годы слетают у меня с плеч, — улыбался Эдуард почти как юноша.
Мы часто отправлялись на охоту — верный признак того, что Эдуард снова дышал полной грудью.
Гонт ответил на замыслы отца поклоном в мою сторону:
— Примите мою благодарность.
— Мне очень приятно, милорд.
Больше мне ничего и не требовалось: Эдуард снова стал самим собой.
Судьба переменчива, берегитесь! Никогда не поворачивайтесь к ней спиной, иначе острые зубы тотчас вопьются вам в пяту. Если я и извлекла из жизненного опыта какие-то истины, то вот эта — самая главная. Дух мой, вознесшийся было на высоту новых башен, сооруженных Уикхемом в Виндзоре, очень скоро рухнул наземь, будто под башни подвел подкоп отряд воинов, поднаторевших в осадном мастерстве. Эдуард сидел молча, оглушенный свалившимся на него известием, и лишь сжимал подлокотники трона с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Я стояла рядом, даже отважилась дотронуться до его плеча. Он, кажется, этого не почувствовал. Разумом и душой он был там, за морем, переживая страшную, невосполнимую потерю. Королевский гонец передал несколько слов — и вмиг разрушил все мои надежды, отнял у Эдуарда всю его веру в будущее. Король враз состарился у меня на глазах.
— Этот день навеки врежется в мое сердце, — проговорил он надтреснутым голосом.
Я бы оберегла Эдуарда, не дала бы ему узнать о столь сокрушительном ударе, да только как это было сделать? Он ведь был королем, на нем и лежала высшая ответственность за все. Не сознавая таящейся в его руках огромной силы, ничего не видя перед собой, кроме зрелища безжалостной бойни, о которой его только что уведомили, он сжал мои пальцы так, словно хотел выдавить из них кровь, а я ничем не могла смягчить разрывавшие его душу муки.
Погиб английский флот. Целиком. Полностью уничтожен в море у берегов Ла-Рошели при столкновении с кастильским флотом, которому не замедлили помочь французы[81]. Наши корабли были охвачены морем огня. Перепуганные лошади метались в панике туда и сюда, отчаянно били копытами, круша деревянные суда, на которых их перевозили. Командиры английских отрядов оказались захвачены в плен.
Жуткой была эта картина истребления и гибели множества людей в пучине.
Эдуард вперил в стену невидящий взгляд: в мыслях он созерцал одно — крах дела всей его жизни, первое за все его долгое царствование крупное поражение на военном поприще. От так и не вымолвил ни единого слова — ни днем, ни даже ночью: ее он провел, глядя на огонь в камине, который разожгли по его приказанию, несмотря на летнюю жару. Я сидела рядом с ним. В те бесконечно долгие часы я опасалась за его рассудок. Наутро, когда в комнату пробились первые лучи зари, он поднялся на ноги.
— Эдуард… вы совсем не сомкнули глаз. Позвольте мне…
Его ответ поразил меня.
— Я отомщу, — проговорил король ровным тихим голосом. — Я сам поведу во Францию такое войско, какого Англия еще никогда не собирала. Буду драться и верну все, что потерял. И не вернусь домой, пока не доведу дело до конца.
То были пустые мечты — чтобы понять это, хватило бы одного взгляда на его трясущиеся руки, на кожу, которая так обтянула скулы, что стала почти прозрачной.
Надо ли было мне разубеждать его? Или Гонту? Ни я, ни Гонт этого делать не стали. В словах Эдуарда звучала знакомая мне непреклонная решимость, и я знала, что спорить с ним бесполезно. Пусть он стареет, но он все еще лев, желающий доказать и себе, и всей Англии, что ее король достоин своего венца и доверия подданных. Я не стала перечить ему.
Войско собрали превеликое, а командовать его флангами предстояло Гонту и даже принцу Уэльскому, которого заставило подняться с ложа разразившееся несчастье. С большим блеском и неизбежной суматохой это войско погрузилось на корабли, стоявшие на Темзе. Я наблюдала за всем этим с берега, и мое сердце переполнилось гордостью, вытеснившей ненадолго сомнения и колебания. Эдуард в позолоченных доспехах и шлеме стоял впереди всех, ветер развевал над его головой гордые боевые знамена с геральдическими львами — на все это невозможно было смотреть без волнения. Я уже попрощалась с королем, теперь пришла пора предоставить его милости Божьей и молиться за успех его оружия.
— Я скорее умру на французской земле, чем позволю отобрать то, что принадлежит мне по праву наследования! — так поклялся Эдуард, поднявшись на борт своего флагманского корабля Grace de Dieu[82].
Меня эти слова испугали: можно ли так безоглядно бросать вызов судьбе?
Клянусь Пресвятой Девой, не зря я тревожилась.
Прошло три недели, а корабли так и не вышли в море: встречные ветры терзали берег у Сэндвича[83] и разносили в клочья дерзкий замысел Эдуарда. Тем временем в Гаскони французы овладели союзным нам городом Ла-Рошель[84]. Эдуард в крайнем отчаянии отказался от задуманной военной кампании. В Лондон, в мои жадные объятия возвратился потерявший надежду печальный старец, а я была не силах его утешить.
Унижение, которому подвергли его французы, подкосило Эдуарда. Его привычный мир рухнул. Смерть Филиппы оставила глубокую рану в его душе, но поражение в войне сломило короля окончательно. Что было в последующие месяцы, пока безвольный Эдуард сидел в Лондоне? Все крепости, еще остававшиеся в руках англичан, одна за другой подвергались ударам неприятеля, их оборона постепенно становилась невозможной. В конце концов у Эдуарда осталось в Гаскони даже меньше земель, чем он получил по наследству от своего отца.
Рухнуло все, чего он сумел добиться за свою жизнь.
Англия испытала унижение, но сам Эдуард был буквально растоптан. Он остался ни с чем, и его разум никак не мог с этим смириться. Он стал быстро утомляться, терять нить беседы в самом ее разгаре. Иной раз впадал в долгое молчание, вывести из которого его было невозможно. А бывало, что он и меня не узнавал.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Сэр Вильям де Виндзор! Снова в Англии! Снова недалеко от меня!
В минуту его прибытия я оказалась как раз в просторном Большом зале Вестминстерского дворца. Он вполне мог счесть это чистой случайностью, но я, если б пожелала, объяснила бы ему, как это вышло на самом деле. Мне было абсолютно точно известно, когда он сошел со своего заморенного долгой дорогой коня, когда отослал лошадей, багаж и охрану на конюшни, даже когда он шагнул на первую ступеньку лестницы, ведущей на крыльцо парадного входа во дворец.
Я притаилась в тени колонны и оттуда бросила на него взгляд — первый за без малого четыре года. Уже давно ожидала его прибытия: еще до несчастья, постигшего английский флот у Ла-Рошели, когда Эдуард все внимание посвятил удержанию Гаскони, где английское владычество серьезно пошатнулось, до короля дошли некоторые слухи из Ирландии.
То были дурные вести, как обычно: всегдашние обвинения в бестолковом управлении, процветавшем среди самых высокопоставленных чиновников взяточничестве, откровенной продажности и стремлении подложить друг другу свинью. А это ставило под удар непосредственно Виндзора, ибо никто не сомневался, что все нити сходятся у него в руках, а не направляются неумелым Десмондом. Я не стала предупреждать Виндзора загодя. Разве я не обещала держать его в курсе королевской политики относительно Ирландии? В последнем своем письме я сообщила ему, что никакой политики такого рода просто не существует. Но когда мне стало известно о том, что у Эдуарда проснулся интерес к Ирландии, события опередили меня. Невероятно разгневавшись, Эдуард проявил, казалось, утраченную способность самостоятельно принимать решения и повелел сэру Вильяму явиться в Лондон с первым же кораблем — лично представить своему государю объяснения.
Я могла лишь строить догадки, когда он прибудет, да и прибудет ли вообще. Нетрудно было представить дело так, будто королевское предписание затерялось где-то в дороге, но все же я считала, что он подчинится воле короля. Не тот человек был Виндзор, чтобы бежать от славы, даже дурной славы. Вот я и приняла меры, чтобы вовремя узнать о его прибытии, а в душе моей бушевали самые разноречивые чувства, выбивая меня из привычной колеи: и волнение, и нетерпение, и сильное недоверие, а более всего — удовольствие от предстоящей встречи.
И вот он здесь. Первое впечатление, которое у меня сложилось (да какое там впечатление — полнейшая уверенность), состояло в том, что Виндзор пребывал отнюдь не в благодушном настроении. Впрочем, другого я и не ожидала, учитывая тон королевского послания. Когда он переступил порог, вид у него был как у человека, которого в тронный зал зашвырнул порыв разыгравшегося на море шторма. Одежда вымокла и вся заляпана грязью, руки-ноги явно затекли от многодневной скачки. Взбудораженный, весь ушедший в себя, словно шторм бушевал и в его мыслях, он быстрым шагом шел по залу. Мне показалось, что он просто пройдет мимо. Хоть заметил меня, интересно?
Я выждала, пока он поравнялся со мной, даже прошел уже шага на два дальше, вспомнила, как непредсказуемо могу вести себя в присутствии этого мужчины, постаралась унять сердцебиение и приготовилась выслушивать его язвительные реплики. Губы у меня вдруг почему-то потеплели. Тот прощальный поцелуй так и горел на них.
Если он и сейчас не обратится ко мне, я его уже не догоню…
— Сэр Вильям…
Он замер на ходу, повернулся на месте, глянул вокруг настороженно, злобно, будто ожидал, что вот-вот на него бросится затаившийся враг. Потом резко, нетерпеливо выдохнул.
— Приветствую вас, мистрис Перрерс.
Отвесил небрежный поклон, рассердивший меня до невозможности. Я ответила ему столь же небрежным намеком на реверанс. Повзрослевшая, но так и не набравшаяся ума Отважная изо всех сил жалась к моим ногам.
— А больше вы мне ничего не хотите сказать? — проговорила я с очаровательной улыбкой.
— Что вы хотите от меня услышать? — Глаза его сузились. — Я вернулся. Без большой радости.
«Без большой радости» — это очень мягко сказано, судя по выражению его лица, которое я теперь ясно могла разглядеть. Лицо было жестким, напряженным, под глазами и в уголках рта залегла целая сеть морщинок, которых не было в нашу первую встречу. Он был в бешенстве, о чем свидетельствовали плотно сжатые губы и раздутые ноздри. По сути, вся его фигура, напоминавшая острый осколок кремня, была воплощением еле сдерживаемой ярости. Но у меня сердце дрогнуло от близости его поджарого тела и предвкушения язвительных реплик. Не скрывая злости и нетерпения, он сорвал шляпу, обнажив голову с блестящими, как кротовая шкурка, волосами — вымокшими от дождей и пота, прилипшими к черепу. Темные глаза, смотревшие на меня в ожидании того, что я скажу, были не темнее той тучи, что клубилась в его мыслях, делая настроение Виндзора опасным и непредсказуемым. И все равно я ощущала тревожившую меня тягу к этому человеку. Это чувство было для меня новым и пугающе необоримым.
Говорить я решила о делах неотложных. Право же, что толку в посторонних разговорах, если Виндзор целиком поглощен текущей заботой и ни о чем другом думать просто не в силах?
— Надеюсь, вы готовы ответить за свои действия в Ирландии, сэр Вильям?
— Я, со своей стороны, смел надеяться, что вы дадите мне знать об этом, мистрис, — резко бросил он в ответ.
— На это и я надеялась. — Я слегка вздернула подбородок. Его упрек мне не понравился. — Было уже слишком поздно: любое мое письмо пришло бы к вам гораздо позже, чем королевский приказ. А кроме того — что это могло изменить?
— Значит, он разгневан, — сделал вывод Виндзор, раздраженно передернув плечами.
— Ему это все не слишком нравится.
— Я-то думал, что король при смерти… — проворчал он. — Надеялся, что принц Уэльский замолвит за меня словечко.
— Принц тяжело болен.
— Да, мне говорили… — Виндзор вздохнул, и его мысли приняли новое направление. — Бог свидетель, мне его очень жаль. Когда-то мы были довольно дружны, сражались бок о бок, прошли вместе через множество сражений. Тому уж двадцать лет… — Он уставился на свой кулак, все еще сжимавший помятую шляпу, и нахмурился пуще прежнего. — Тогда мы оба были молоды, нам нравилась походная жизнь. Лучшего, чем он, командира я никогда не встречал. А теперь вот…
— Теперь те дни прошли. Принц умирает.
— Вот как? Тогда встает вопрос о престолонаследии.
— Встает. И в этом вопросе слишком много заинтересованных лиц.
— Сын у него слишком мал… Ему пять?
Я в ответ только вздохнула. Дипломатия и политика. Придворные интриги. Не об этом мне хотелось с ним поговорить — ведь сердце стучало и кровь бурлила в жилах. Я все так же откликалась на присутствие этого человека с сомнительными принципами, привыкшего руководствоваться только собственной выгодой, что не могло не вызвать серьезных нареканий. Я вдруг сообразила, что мы оба замолчали, а внимание Виндзора впервые обратилось на меня.
— Вы хорошо выглядите, — отрывисто сказал он.
— Потому что хорошо себя чувствую.
— Вижу, мой волкодав делает свое дело.
— Ни в малейшей степени. — Я запустила пальцы глубоко в густую шерсть на загривке Отважной, и та взвизгнула от удовольствия. — Чтобы набраться храбрости, ей непременно нужно чувствовать меня рядом, но даже тогда она пугается каждой мышки. Вы сделали неудачный выбор, сэр Вильям.
— А кинжал?
— У меня не было случая им воспользоваться, разве что мясо резать за обедом.
— Он вовсе не для этого! — Впервые в его глазах промелькнуло что-то кроме раздражения. — Скажите мне хотя бы, что носите его за корсажем.
— Ничего подобного я вам говорить не стану.
Я ждала, что он ответит мне дерзостью, но Виндзор удивил меня.
— Мне говорили, что вы прославились при дворе своей алчностью. А ваше влияние на дела королевства выросло поразительно быстро за то время, что мы не виделись. Не могу не похвалить вас.
Это звучало не слишком лестно. Такого я от него не ожидала.
— А мне говорили, что вас очень не любят те, кем вы управляете. — Что же, в долгу я не останусь.
— Еще мне говорили: вы стали известны тем, что приобретаете земли мошенническим путем.
Приобретаю земли? Ну, он не может не знать, секрета из этого я и не делала. Но мошенничество? Ах да, он же в сильном раздражении. Я гордо вскинула голову.
— Мошенничество? Никто не сможет это доказать! Мой поверенный Гризли — человек высоконравственный! — Ответ мой прозвучал резко, ибо свои сделки я готова была отстаивать до последнего вздоха. — Если вы имеете в виду то, что я недавно с известным трудом приобрела поместье Комптон-Мэрдак, тогда это правда. Вам интересно? Позвольте же рассказать, как было дело. Я обратилась в суд c иском против Джона Стронджа, который повадился в мой новый кроличий садок, — вы об этом тоже слыхали? Его вина не вызывала ни малейших сомнений, он вполне заслужил, чтобы на него наложили штраф. Его жена была так глупа, что носила пелерину из кроличьих шкурок. — При этом воспоминании я не удержалась от улыбки. — Я встретилась с судьями, коим это дело было поручено, и указала им на сей факт. Они остались недовольны тем, что я вмешиваюсь в их дела, но решение вынесли в мою пользу. А что им оставалось? Если это называть мошенничеством, тогда я виновна. — И добавила уже серьезным тоном: — Я слышала, что вы повинны в злоупотреблениях по службе и вымогательстве взяток.
Этими словами я будто поднесла огонь к сухому хворосту.
— Да, черт возьми! Естественно. Какой правитель Ирландии ни разу не брал взяток? — У него на скулах заходили желваки. — Когда он меня примет?
— Не знаю, — ответила я, потрясенная его признанием.
— Тогда я найду кого-нибудь, кто знает.
— Таких просто нет. — Я не собиралась отпускать его так быстро. — Кто может это знать, кроме самого короля?
Взгляд Виндзора стал беспощадным.
— Чем дольше Ирландия будет оставаться без правителя, тем скорее она скатится в трясину мятежа и кровопролития. Вся моя работа успеет пойти прахом, пока Эдуард поймет, что никто, кроме меня, не сумеет справиться с этой заботой.
И, не сказав больше ни слова, не сделав даже требуемого учтивостью жеста, он резко развернулся на каблуках — только вздулся от быстрого движения мокрый плащ, разбрасывая вокруг веточки и мокрые листья, — и пошел прочь от меня. Я смотрела ему вслед с сожалением, несмотря на его прескверное настроение. Ему я доверяла ничуть не больше, чем Гонту, но с Виндзором что-то нас роднило. Нравится мне это или нет, но так оно и было. Я дождалась, пока он дойдет до лестницы в самом конце зала, и тогда громко окликнула его:
— Виндзор!
Он обернулся молча. Даже на расстоянии было заметно, что настроение у него ничуть не улучшилось. Он стоял в тени, мерцающее пламя факела освещал край его плаща и поблескивало на висевшем у пояса мече. Он и был человеком тени, душа которого скрывалась в неизведанных безднах. Женщине потребуется немалая храбрость, чтобы сблизиться с таким.
— Ради вас я могу это узнать.
— Так узнайте. Зачем же стоять без толку?
Когда-то давно, четыре года назад, он, так же собравшись уходить, вернулся и принес извинения за неучтивость. Теперь же он просто стоял и словно ждал, что я сама к нему подойду. Я не подошла. Мы оба сами загнали себя в тупик.
— Я не на побегушках у вас, сэр Вильям, — гулко разнесся по залу мой ответ.
Виндзор отвесил низкий поклон, трепеща от злости.
— Милейшая Алиса, милая как никогда. Вы будете присутствовать, когда Эдуард станет поносить меня за безнравственность, за все, что я сделал, а потом пошлет меня ко всем чертям?
— Этого я ни за что не пропущу.
— Вы замолвите за меня словечко?
— И не подумаю. Но не стану и осуждать вас, пока не услышу веских доказательств.
— Стало быть, вы не враг мне?
— А разве я когда-нибудь говорила, что я вам враг?
Вместо ответа он невесело рассмеялся. Ну, хоть засмеяться я его заставила. Взбежал по лестнице, всем своим видом выражая крайнее нетерпение, однако злости в нем явно поубавилось. Все же на верхней площадке он остановился и посмотрел на меня.
— Вы нарочно ждали меня здесь?
— Нет, разумеется!
Он поклонился и взмахнул шляпой, показывая, что ни на минуту не поверил мне. Потом исчез под сводами коридора второго этажа, а я стояла и смотрела ему вслед.
И что же дальше? Я не чувствовала удовлетворения и не желала предоставлять это дело естественному ходу событий. Мне никогда раньше так не хотелось сблизиться с кем-то из вельмож. Да, иной раз было необходимо завоевать чье-то внимание, дабы добиться поддержки и тем оградить Эдуарда от неприятностей. Но чтобы вот так? Дружба с Виндзором, его уважение не принесут мне добра. И все же мне очень хотелось завоевать его дружбу.
Я размышляла, пока стук его каблуков не замер окончательно где-то вдали. Все-таки ему я доверяла больше, чем Гонту. Потом я отбросила все эти мысли, ибо они путались и ни к чему прийти я не могла. Время покажет. Конечно, я буду рядом с Эдуардом, когда король станет критиковать поведение и деятельность Виндзора. И, конечно же, я ни за что не стану осуждать, пока не услышу его оправданий.
Думы о Виндзоре тревожили мою совесть. Тревожили? Скорее уж рвали ее на части, как голодный кот зазевавшуюся жирную крысу.
Эдуард, не советуясь со мной, повелел Виндзору явиться завтра, за час до полудня. Король был в ясном сознании и вне себя от гнева. Мне показалось, что во многом повторяется его былая встреча с Лайонелом, только на сей раз гнев Эдуарда не смягчала радость от встречи с сыном. В конце концов он ведь Лайонела простил. Сейчас ни о какой мягкости и речи быть не могло, обвинения падали на голову Виндзора одно за другим. Эдуард буквально кипел и не сдерживал себя в выражениях, а в тот день голова у него была на редкость ясная, память ни разу его не подвела, речь отличалась связностью.
Виндзор, сохранявший всю необходимую внешнюю почтительность, тоже высказывался совершенно откровенно.
Я, как и намеревалась, села рядом с Эдуардом и завороженно наблюдала поединок характеров двух сильных мужчин. Меня покорил Эдуард, который моментально схватывал самую суть событий, а за Виндзора я боялась — как бы он не перешел границы дозволенного. Отчего меня это волновало? Какое мне дело до него? И сама не знаю, но только безразличной к нему я не была.
А Эдуард потоком обрушивал на голову своего наместника в Ирландии все новые и новые обвинения:
— Злоупотребление властью… бессмысленное кровопролитие… участие в позорных и преступных деяниях… недостойное служение собственной выгоде… беззастенчивое распоряжение поступлениями от налогов…
Виндзор выслушивал все это с непреклонным видом, твердо стоя на ногах, гордо подбоченившись. Думаю, с момента прибытия во дворец лицо его так ни на минуту и не смягчилось.
Был ли он виновен? В этом я не была уверена, хотя он признал давеча мои первые обвинения. От обвинений же короля он защищался с полной непринужденностью, давая ответы без промедления и без малейших колебаний. Да, он обложил ирландцев большими налогами. Да, он использовал судебные преследования, дабы удержать власть Англии. Да, он предоставлял преимущества живущим в Ирландии англичанам, в ущерб коренным ирландцам, ибо всякая иная политика была бы самоубийственной. А большие поступления в казну разве не были необходимостью, чтобы оплачивать английское войско и тем держать в повиновении ирландских мятежников? Если это называют непомерным налогообложением и вымогательством — такое обвинение он готов признать. В самой Ирландии все называют это поддержанием мира. И он готов поспорить с каждым, кто желал бы иными способами поддерживать мир на этом Богом забытом острове, разделенном на враждующие между собой кланы, вечно готовые взяться за оружие, — способами, исключающими угрозы и подкуп.
— А что стало с выделенной на эти цели королевской субсидией? — поинтересовался Эдуард, нимало не тронутый речами Виндзора.
— За ту субсидию я горячо вам благодарен, государь. — Виндзор, по крайней мере, старался говорить примирительным тоном. — Но деньги давно уж истрачены. Сейчас я предоставлен самому себе, а потому вынужден прибегать к таким средствам, какие имеются в моем распоряжении.
— Мне твои способы не нравятся, как и то, что они вызывают ропот недовольства.
— А когда обходилось без недовольства, государь?
— И слишком уж многословно ты отстаиваешь свою невиновность.
Что он на это возразит? Я ждала его ответа, а сердце мое отчаянно билось.
— Я ни в коем случае не стану утверждать, будто ни в чем не виновен, ваше величество, — сказал Виндзор, ни на миг не опуская головы и глядя прямо в глаза Эдуарду. — Настоящий политик не может позволить себе подобной наивности. Практичность ценится куда выше, как о том хорошо известно вашему величеству. Кто знает, что творится там сейчас, когда меня нет?
— Они и не хотят, чтобы ты возвращался, — с упреком бросил Эдуард. Виндзор, нимало не смутившись, покачал головой.
— Еще бы они хотели! Они хотят человека неопытного, которым смогли бы крутить и вертеть, как им самим понравится. Я не пользуюсь их любовью, зато держу их в повиновении Англии — теми средствами, кои имеются в моем распоряжении. Человеку слабому ирландские вельможи готовы петь хвалы и лизать подметки, а тем временем ирландское золото станет уплывать в их карманы.
— Они хотят, чтобы я послал туда молодого графа Марча, — сообщил Эдуард. — По крайней мере, в его честности я не сомневаюсь.
— Против этого мне нечего возразить, государь. Несомненно, очень способный юноша. Но у него, увы, нет опыта, да и годами он слишком молод… — Виндзор не закончил мысль, но его мнение и без того было совершенно ясно.
— Он муж моей внучки!
Эдуард уже слишком утомился. Возможно, ему хотелось отстоять интересы молодого Эдмунда Мортимера, графа Марча, женатого на внучке короля Филиппе, но мне было заметно, как в нем волнами нарастает напряжение, как слабость овладевает и разумом, и телом. Я решила, что пора прекращать аудиенцию, пока король не уронил свое достоинство. Да и с Виндзора хватит. Я наклонилась к Эдуарду, погладила его рукав.
— Сколько лет юному графу, милорд? — проговорила я чуть слышно.
— Мне кажется… — Глаза его затуманились, в них появилась пугающая пустота.
— Сомневаюсь, что ему больше двадцати одного. — Я точно знала, что ему и столько не исполнилось.
— Но он женат на моей внучке… — Эдуард цеплялся за то единственное, в чем был полностью уверен, когда его разум стал затуманиваться; голос короля сделался хриплым, ворчливым.
— Придет время, и он будет служить вам верой и правдой, — согласилась я. — Но ведь речь идет о провинции, с которой исключительно трудно совладать, а он еще так молод.
— Ты так считаешь? — вопросительно посмотрел на меня Эдуард.
— Возможно, в словах сэра Вильяма есть зерно истины…
— Ничего там нет! — сердито бросил король, но уже с больно ранящей мое сердце неуверенностью.
Я заронила мысль в его голову. Я посмотрела на Виндзора, призывая его к тактичности, и впервые за всю аудиенцию он ответил на мой взгляд. Потом поклонился Эдуарду.
— Так я вернусь в Ирландию, государь? И буду дальше отстаивать ваши интересы, удерживая провинцию твердой рукой, — пока граф Марч не сумеет взять эту задачу на себя?
Безупречно!
— Сначала я должен взвесить твою вину. До тех пор ты останешься здесь, у меня на глазах.
Это не был прямой и бесповоротный отказ, но, думаю, Виндзор смотрел на все по-своему. Он еще раз поклонился и вышел. На меня он даже не взглянул.
— Пойдемте, — обратилась я к Эдуарду, помогая ему встать. — Вам нужно отдохнуть. А потом мы все обсудим… вы придете к мудрому решению… как всегда.
— Ты права. — Он тяжело оперся на мою руку, а языком едва ворочал. — Мы это все обсудим…
Так получилось, что Виндзор против своей воли был вынужден задержаться в самом средоточии придворных интриг, где все всё замечали, обо всем сплетничали, где становилось все труднее скрывать от любопытных глаз прискорбный закат короля Эдуарда. В первую неделю я Виндзора совсем не видела. Эдуард погрузился в меланхолию, а Виндзор предпочитал держаться от него подальше. Относительно будущего Ирландии не было принято никакого решения. Как же проводил Виндзор время при дворе? В прошлый раз он искал встреч со мной, теперь же — нет. Когда у Эдуарда хватало сил обедать с придворными (и выглядеть при этом вполне сносно), Виндзор на королевскую трапезу не являлся. Осторожными расспросами я выяснила, что он гостит у принца Уэльского в Кеннингтоне.
Я мысленно пожелала ему всего доброго: на мой взгляд, мало что там могло его обрадовать.
Потом он возвратился и стал мерить шагами одну из передних в покоях Эдуарда. Лицо темнее тучи, под мышкой — несколько свитков. Хорошо хоть лицо немного посветлело, когда он увидел, как я выхожу из внутренних покоев. Я затворила за собой дверь, и он устремился ко мне. Даже сумел улыбнуться, хотя радости в нем не ощущалось. Мне захотелось тут же хорошенько встряхнуть его и тем вывести из мрачного состояния, только я не могла придумать, как это сделать. Да и сил у меня не осталось: Эдуард был нынче угрюмым и раздражительным. Если бы в передней ожидали другие придворные, я постаралась бы вообще избежать общения с резким и настойчивым Виндзором. Ну, в данном случае выбирать было не из чего…
— Король еще не вынес своего решения? — спросил он, даже не поздоровавшись.
— Нет.
— А когда он что-нибудь решит?
Я вздохнула от усталости и безнадежности.
— В надлежащее время, когда сам сочтет нужным. Наберитесь терпения, сэр Вильям. А вы меня дожидались?
— Нет, разумеется. — Он осклабился, передразнивая мой давешний ответ на его вопрос.
Око за око! Я тихонько рассмеялась, чувствуя себя уже не такой утомленной.
— Каким образом вы убиваете время? — Мы стояли близко, и я постучала пальцем по охапке его свитков.
— Да вот, земли скупаю.
— В Ирландии? — не смогла я скрыть удивления.
— В Англии. Главным образом в Эссексе. — Это меня удивило даже сильнее — ведь его фамильные имения находились далеко на севере.
— Для чего?
— На черный день. Как и вы. На то время, когда мы с вами уже не сможем полагаться на покровительство короля.
Он так посмотрел на меня, словно обдумывал какую-то свежую мысль. А может быть, эта мысль уже давненько пришла ему в голову.
— В чем дело? — спросила я с подозрением.
— У меня есть к вам предложение, мистрис Перрерс.
Кровь заструилась в моих жилах чуть быстрее. Мне стало немного теплее, я начала выныривать из своей глубокой апатии, вызванной бессонными ночами.
— Предложение? — Я повернулась и сделала вид, что ухожу, будто его предложения совсем меня не интересовали. — Представляю, что за предложение! За последнюю неделю вы не очень-то стремились поговорить со мной.
— Я был очень занят.
— И что? Теперь вы уже не заняты?
Он снова пристально рассмотрел меня. Наконец решительно тряхнул головой.
— Давайте поищем уголок, где не торчат отовсюду сотни любопытных ушей. Здесь прямо как в улье — дворец так и гудит от сплетен и пересудов.
Я не стала заставлять упрашивать себя, потому что он возбудил во мне любопытство, и Виндзор проводил меня в комнату, где трудились писцы и законники, провел между столами и табуретами туда, где можно было сесть. Там не было придворных. Молодые писцы продолжали обмакивать перья в чернила и заниматься своей работой, не обращая на нас никакого внимания. Я рассеянно взяла какой-то документ из стоявшего на полу ящика и сделала вид, что внимательно его изучаю. Счет за покупку двух дюжин кроликов. А, наверное, это те, которых мы недавно съели, — была замечательная похлебка с крольчатиной.
— Думаю, мы можем сорвать неплохой куш, — сразу взял быка за рога Виндзор.
«Мы»? Я ничего ему не ответила, лениво обмахиваясь счетом за кроликов вместо веера.
— Привыкли быть скрытной? — усмехнулся Виндзор. — Я говорю о небольшой сделке.
Я постучала ногой по ящику с бумагами.
— Хотите рискнуть и приобрести вместе со мной несколько отличных небольших поместий?
Действительно интересное предложение. Он сразу овладел моим интересом, словно одним из тех несчастных кроликов, пойманных в ловушку. Кто бы мог подумать, что он захочет проворачивать дела с партнером, а в партнеры выберет меня? Я разгладила документ, который держала в руке, как будто бы эти кролики были делом государственной важности: мне нужно было выиграть время.
— И что это даст мне?
— Страховку на черный день, — повторил Виндзор. — Вам тогда придется труднее, чем мне. — И, взяв с ближайшего стола два куска красного воска, каким запечатывают королевские документы, стал подбрасывать и ловить их; потом с удивительной ловкостью добавил к ним третий, а затем и четвертый.
— Возможно, вы правы. — Я не отрывала взгляда от его проворных рук, поспешно просчитывая ситуацию. Придется ли мне труднее? Думаю, он сказал правду: одинокой женщине всегда приходится труднее. Я оторвалась от созерцания кусочков воска и наткнулась на его острый взгляд. — Для чего же вам брать в долю меня?
— Вы же интересуетесь покупкой земли. — Кусочки воска с тихим стуком упали на пол. — У вас есть связи. Думаю, есть доступ в казначейство. И у вас имеется толковый поверенный… Нужно перечислять дальше?
Его доводы звучали убедительно и вызывали у меня вполне законную гордость.
— А что есть у вас?
— Деловая хватка и редкая настойчивость. — Он был великолепен в своей самоуверенности.
— Разве этого нет у меня самой?
— Даже на удивление много, но…
— Хватит, не продолжайте — «на удивление много для женщины»!
— Не хотите — не буду говорить. — Он слегка скривил губы. — Так что скажете?
Я раздумывала, машинально помахивая счетом, о котором уже успела забыть.
— Вы мне не доверяете?
— Не доверяю.
— Так что вы решили? — рассмеялся Виндзор. — Тоже нет?
— Я вам вот что скажу… — Так и не придя к окончательному выводу, я выпалила: — А зачем мне вы? Я и без вас уже приобрела себе немало имений.
— Иной раз для успешных деловых переговоров вам может понадобиться мужчина.
— Вместе со мной готовы работать столько мужчин, сколько нужно, лишь бы им с этого тоже была прибыль.
— Правда? — Он посмотрел на меня с удивлением.
— А вы и не знали? — Я позволила себе немного поиздеваться над ним. — За последние несколько лет я купила себе столько имений, сколько хотела, — с помощью узкого круга людей, облеченных самым высоким доверием. Они служат мне в качестве поверенных — в частности, мастер Гризли, — и ведут переговоры от моего имени. Для одинокой женщины это самый лучший выход.
— Где вы этому научились?
— О, это было давно. В другой жизни. — Я припомнила, как стояла в коридоре у кабинета Дженина Перрерса, сжимая в руках его свадебный подарок. Улыбнулась при мысли о том, как далеко я с тех пор продвинулась. Потом заставила себя вернуться к сидевшему передо мной деятельному мужчине, который подался вперед, а кусочки воска летали у него из руки в руку, немало меня раздражая. — Если я сама не позабочусь о себе, кто же обо мне позаботится?
— Это умно! — Виндзор прищурился, оценивая все сказанное мною. — Признаю вашу победу. Тогда скажите мне, грешному любопытному человеку, сколько же имений вы на самом деле сумели прибрать к рукам? — Я покачала головой. Этого я никому не скажу, и Виндзор не стал настаивать. — Когда-нибудь я и сам узнаю! И все же повторяю: вам нужен человек проницательный, такой, у кого будет больше личного интереса обеспечить ваше будущее.
— И такой человек — вы.
Он поклонился, не вставая с табурета.
— Да-да, только я думаю, что мой узкий круг людей с капиталами имеет самый что ни есть личный интерес в моем преуспеянии. Если я паду под ударами врагов, они тоже падут, а потому готовы защищать меня не на живот, а на смерть. Я считаю, что они весьма трудолюбивы и неизменно верны мне. Поэтому вам, сэр Вильям, я отвечу — нет. Быть может, я вам нужна, но вы не нужны мне.
— В таком случае нам больше не о чем говорить, мистрис Перрерс.
Он вдруг бросил воск мне в подол и ушел, оставив меня среди занятых своими делами писцов. Своим отказом я немало удивила Виндзора. И ему это не понравилось.
Всю следующую неделю он (черт бы его побрал!) старательно избегал встреч со мной.
А я всю ту неделю снова и снова обдумывала его предложение. Времени на это у меня хватало. Королем овладела апатия, разум его будто уснул. Когда же он пробуждался, Эдуардом овладевало неодолимое желание каяться в грехах, и он выстаивал долгие часы на коленях в дворцовой церкви. Иногда поднимался в одиночку на стены и рассеянно смотрел в сторону Франции. Поскольку мною он не интересовался, я проводила время, обдумывая неожиданное предложение Виндзора.
Несмотря на то что я его высокомерно отвергла, в этом предложении было немало выигрышных сторон. Разве мужчине не легче, чем женщине, вступать в сделки с теми, кто хочет продать или сдать в аренду свои земли? Да, мне служил для этого Гризли, но ведь еще лучше иметь в таких делах благородного партнера, который на равных может говорить с людьми знатными и влиятельными, а к тому же не меньше меня заинтересован в благополучном исходе всякого дела. Женщину всегда считают легкой мишенью для обмана. Король-то ко мне прислушивается, но далеко не все готовы беспрекословно мне подчиняться.
Так что, согласиться работать с ним рука об руку? Пожалуй, достаточно смелая женщина может решиться опереться на руку Виндзора. Улыбка тронула мои губы: я это сделаю. Но захвачу его врасплох, и договариваться мы будем на моих условиях. Я загоню его в угол и получу от этого несказанное удовольствие.
Во многом ради того, чтобы достичь своей цели, я быстро нацарапала две записки: одну — мастеру Гризли, другую — Виндзору. Оба откликнулись без промедления. Я со своей стороны сделала то, что считала необходимым, и приготовилась торжествовать победу.
Мне всегда нравились представления актеров — те, что бывают на рождественские праздники.
Все происходящее вызывало у меня приятное возбуждение. Я выбрала время ближе к вечеру, когда аудиенц-зала уже погрузилась в полумрак, а факелы зажигать я не велела — по очевидной причине: одевшись в темные юбки и набросив покрывало, я заняла место на троне Эдуарда, а рядом со мной стоял Гризли. Лишь полностью подготовившись, я махнула рукой стоящему у двери слуге, веля впустить Виндзора, который уже ждал в передней. До меня долетел голос оттуда:
— Извольте войти, милорд.
Я вспомнила свою записку. Ничего дурного, маленький розыгрыш, и Виндзор, как я надеялась, сумеет оценить его по достоинству.
Его величество принял решение о том, кого назначить губернатором Ирландии. Вас известят об этом в аудиенц-зале в четыре часа пополудни.
Он был точен. Вошел в залу. Остановился. Низко поклонился, соблюдая положенный церемониал.
— Вам позволено приблизиться к трону, — возгласил слуга и удалился, притворив за собой дверь.
Вот мы и остались втроем, включая приближавшегося Виндзора. Одет он был безукоризненно: темные чулки, облегающее котарди из черной и зеленой камчи, перехваченное низким поясом с самоцветами. Следуя последней моде, даже не забыл накинуть на плечи разноцветную пелерину, а перевязь сверкала золотым кантом; разве что вычурным туфлям с очень длинными носами предпочел сапоги из лучшей кожи. Изо всех сил он старался выглядеть в глазах короля человеком серьезным и почтенным — если ему и суждено лишиться своей должности, то уж никак не из-за невнимания к мелочам. Мне снова приходилось признать, что этот человек способен представать таким, каким сам пожелает.
От этой мысли невольный холодок пробежал у меня по спине, но я не шевельнулась.
В какой момент он сообразил, что на королевском троне восседает вовсе не король?
Тогда, когда дошел до середины залы. Я видела, как он взглянул еще раз, узнал меня. Надо отдать ему должное — ни на миг не замешкался, не сбился с ровного шага. Так и подошел к самому возвышению, отвесил такой же низкий, как и у дверей, поклон, подметая пол перьями шляпы. Потом выпрямился во весь рост и посмотрел на меня. В полутьме его глаз было не разглядеть, и я дала знак Гризли, чтобы тот зажег факел на стене за троном: теперь в глазах Виндзора отражались огоньки. И в этом круге золотистого света мы втроем разыграли полную внутреннего драматизма сценку.
— Приветствую вас, сэр Вильям. Очень рада, что вы пришли.
— Еще бы! Я не смог устоять против такого приглашения.
— И явились, не промедлив ни минуты.
— Я не смел поступить по-иному. Королева Алиса, если не ошибаюсь?
Нет, улыбнуться он меня не заставит!
— Ваши слова попахивают государственной изменой, милорд.
— Не сомневаюсь, что это и есть измена — попытка выдать себя за царственную особу.
— Выдать? У меня на голове нет короны.
— Прошу прощения! А сидите вы разве не на троне?
— Куда же мне сесть, по-вашему, сэр? На пол?
— Многие так бы и сделали…
— Я вовсе не посягаю на королевскую власть, сэр Вильям.
— Это звучит внушительно, мистрис. Возможно, вы и не посягаете, но…
По всему телу у меня бегали мурашки, дышала я часто и неглубоко. Эта сцена захватила меня целиком. И разве, несмотря на острую пикировку, мы не видели друг друга насквозь? Я заставила себя умолкнуть, добиваясь, чтобы он задал вопрос. Ему пришлось это сделать.
— У вас есть для меня новости?
— Есть.
— Какие же?
— Я сделаю это.
— Что «это»? — Я заметила, как напряглись пальцы его правой руки, вытянутой вдоль бедра, — значит, как я и предполагала, ему не безразлично.
— Я стану вашим партнером по скупке земель. Это мой поверенный, мастер Гризли. — При этих словах Гризли поклонился. — Он совершает за меня почти все сделки и управляет моими финансами.
У Виндзора брови резко сошлись на переносице.
— Отчего же вы передумали?
— Иной раз бывает просто необходимо действовать через посредство другого лица.
Он молчал, вперившись в меня глазами.
— Кроме того, — добавила я со всей учтивостью, — менять свои решения — это привилегия женщины. — Я поднялась с трона, минутку подумала, не остаться ли на возвышении, но потом спустилась, и мы все оказались на равных. — Как я понимаю, ваше предложение все еще в силе? Если нет, то мы с мастером Гризли продолжим, как и прежде, скупать земли с большой выгодой. Если же вы, сэр Вильям, намерены…
— Намерен. — Действительно ли всегдашняя выдержка чуть-чуть изменила ему или мне только показалось?
— А вы что скажете, мастер Гризли?
— Я вижу в этом некоторые преимущества, мистрис, — ответил тот с обычной невозмутимостью, словно ничто на свете не могло его удивить.
— Значит, решено? — уточнил Виндзор.
— Решено, — подтвердила я.
Мы все обменялись рукопожатиями.
— Стало быть, сэр Вильям, мы стали деловыми партнерами?
— Похоже на то. Обычно мне не нравится, когда меня пытаются перехитрить, тем более женщина. Но в данном случае… Полагаю, это будет прибыльное предприятие.
Он не просто пожал мне руку, но и поцеловал ее. А улыбка яснее слов говорила о том, что он признает: на сей раз его действительно перехитрили.
Старательно подготовленное мной маленькое представление застало его врасплох. Разумеется, к нашей обоюдной выгоде. Но то, что я так хорошо продумала и подготовила, не идет ни в какое сравнение с тем, чем Виндзор сумел прямо-таки поразить меня, так что я чуть дара речи не лишилась. Более того: все выглядело так, будто он и не готовил ничего такого, а просто повел себя дьявольски хитро и самонадеянно.
Кажется, он считал, что я это заслужила. Возможно, и заслужила.
Ну, а пока мой новый деловой партнер замышлял свой акт возмездия, мы подняли чаши по случаю своего первого совместного приобретения. В чашах было превосходное бордо, а праздновали мы приобретение земли с крестьянами и всеми положенными доходами — замечательного поместья Нортброкс в Мидлсексе. Гризли, несмотря на кислую мину, был доволен. Я просто сияла от счастья, ибо все прошло как по маслу. Виндзор не радовался. Хотя он изо всех сил старался скрыть свое огорчение под маской праздничного возбуждения, я видела, что на душе у него неспокойно.
— Вы так и не можете добиться от короля решения по Ирландии? — спросил он меня, когда Гризли ушел.
— Эдуард не решает такие дела за завтраком. Вам следует запастись терпением.
— Это не в моей натуре.
Да, я знала. И когда он уедет, я буду очень скучать по нему.
Я допустила серьезную ошибку. А может быть, и не ошибку — ведь я добилась того, к чему и стремилась, но, как оказалось, с моей стороны это был слишком рискованный шаг. Куда подевалась моя способность судить обо всем трезво? Она, как мне кажется, уснула под влиянием удачной сделки с Вильямом де Виндзором и совсем пропала, когда я с восторгом встретила счастливое выздоровление Эдуарда. Мы тогда были в Вудстоке, где Уикхем наслаждался возможностью перестраивать старое поместье в настоящий величественный дворец, в чем ему была предоставлена полная свобода действий. Мы удачно охотились, и Эдуард воспрянул и телом, и духом — перемена мест всегда сказывалась на нем благотворно. А может быть, причиной случившегося дальше стало мое прискорбное стремление получить от короля в награду изысканные драгоценности. Ну, этого отрицать я не стану.
Поводом могло послужить и то, как со мной обращалась Джоанна Кентская — мне хотелось доказать ей, что теперь я стала вполне достойна и этих драгоценностей. Да, возможно, все дело в этом, и вина за то, что случилось дальше, падает не на меня одну. Когда она гостила у нас в аббатстве, ей однажды доставили некий сверток.
— Открой, — велела она мне.
Я раскрыла кожаный футляр, и в моих руках оказался превосходнейший набор застежек с драгоценными камнями, способными зажечь огонь в любом сердце: сапфиры, оправленные в золото.
— Не прикасайся! — с презрением в голосе скомандовала графиня и, скорчив невероятно брезгливую гримасу, вырвала футляр из моих рук. — Ты знаешь, во что они мне обошлись? Я заплатила больше двухсот фунтов. Это не для таких, как ты.
Но теперь подобные вещи были как раз для таких, как я. Мои украшения — бывшие драгоценности Филиппы — намного превосходили все то, чем могла похвастать Джоанна Прекрасная. Я стану носить их и купаться в зависти Джоанны.
Как я не смогла разглядеть последствия своей просьбы, обращенной к Эдуарду? Всю жизнь я каждый свой шаг совершала с величайшей осторожностью, а тут прямо-таки бросилась очертя голову в трясину, которая в итоге не могла не засосать меня с головой. Из-за чего же разгорелся весь сыр-бор? Из-за драгоценностей Филиппы. Некоторые из них были фамильными, иные были подарены ей королем, а другие она много лет назад привезла с собой в Англию. И все просто неподражаемы.
— Это тебе, — сказал Эдуард, раскладывая их на ложе в той самой комнате, которую некогда с такой любовью приказал соорудить для Филиппы; теперь эти покои занимала я. К драгоценностям прилагалось письмо, написанное королем собственноручно.
…мы передаем и вручаем возлюбленной нашей Алисе Перрерс, бывшей придворной даме ныне покойной дражайшей супруги нашей Филиппы, а равно потомкам ее и наследникам, все драгоценности, вещи и иное движимое имущество упомянутой королевы Филиппы, оставленные на попечение Евфимии, жены сэра Уолтера де Хейслуорта, почему надлежит сказанной Евфимии доставить их и вручить рекомой Алисе без промедления, по получении сего нашего повеления…
Драгоценности Филиппы. Какой женщине не хотелось бы их получить? У меня дух захватило, когда я перебирала нитки рубинов, богатое ожерелье, усыпанное сапфирами, тяжелый перстень с изумрудом, а потом отпускала — и они падали в окованный металлом сундучок, присоединяясь к своим сияющим и сверкающим, переливающимся всеми цветами радуги собратьям. Эдуард преподнес их мне.
Но по чьему желанию?
Увы, это я, грешная, обратилась к нему с такой просьбой. После кончины Филиппы эти сокровища не видели дневного света, находясь под надежной охраной одной из старших дам свиты королевы. Вот я и попросила их себе, а Эдуард, всегда отличавшийся великодушием и щедростью, распорядился. По закону, официально, они не стали моими собственными. А таким простым путем — завладев украшениями Филиппы — я помогла врагам вырыть мне могилу. Здесь я поступила необдуманно. Жадность? Не думаю. Их нужно было носить — а кому, если не фаворитке короля?
Сапфировое ожерелье я надела на ужин, где собрался весь двор.
Разумеется, его тут же узнали, и опять стали гулять шепотки — между рублеными котлетами и любимым блюдом Эдуарда, лососиной в густом соусе. Все возмущались моей дерзостью. Можно подумать, я не видела, как их глаза с недоверием разглядывают украшение, сверкающее на моей груди! И эти шепотки стали раздаваться громче, когда наутро я приколола к своей накидке брошь с рубином. Все говорили, что моя алчность переходит всякие границы. Негоже носить то, что не принадлежит мне по праву. А короля не иначе как опоили или околдовали, вот он и отдает наложнице драгоценности своей супруги. Если уж их кому и носить, то принцессе Изабелле или даже Джоанне, но уж никак не Алисе Перрерс. Неужто Эдуард совсем ума решился?
Я могла бы ответить своим недоброжелателям. Конечно, на самом деле я никому ничего говорить не стала — чего ради? Все мои доводы они отмели бы с порога. Но зачем же таким великолепным самоцветам лежать взаперти, в пыльном погребе леди Евфимии? Куда лучше, если их станут носить, радуя глаз, — а уж как я радовалась, кожей ощущая их вес и теплоту! Как любовалась переливами камней, тусклым мерцанием золота! Я могла бы сказать любой из этих злоязычных придворных гадюк, что незачем им таращиться на великолепные украшения Филиппы, которые я теперь надевала открыто, сияя улыбкой и не пряча своей гордости. Это ведь не то же самое, как если бы я носила знаки королевской власти, правда? А Филиппа, если бы она хотела, чтобы эти драгоценности достались Изабелле или Джоанне, им бы и завещала их. Она же этого не сделала! А мне завещала? Нет, не завещала и мне тоже, но думается, она не стала бы возражать, увидев их на мне. Если уж говорить правду, я думаю, она сочла бы все это забавным.
Размышляла ли я о грядущих годах? Ну а как же. Чем больше слабел Эдуард, тем энергичнее я готовилась к ожидающей меня неизвестности. Пусть Гризли сколько угодно твердит, что в сравнении с земельными владениями самоцветы — ничто, мне самой в равной степени было дорого и одно, и другое. Да и какая женщина устояла бы перед ожерельем с сапфирами и жемчугами? И, кроме всего прочего, я просто не могла себе позволить чрезмерной щепетильности. Эдуард тоже хорошо это понимал. Мы с ним не обсуждали эту тему, только однажды он печально заметил: «Во всяком случае, они дадут тебе, Алиса, чем прикрыть наготу и позволят иметь вдосталь хлеба, когда меня не станет и некому будет обеспечивать тебя всем необходимым».
— Они тебе идут не меньше, чем шли Филиппе. — Лицо Эдуарда озарила ласковая улыбка, которая теперь редко появлялась на его губах, настолько ослабели его мышцы.
— Я не Филиппа, милорд, — возразила я с такой же ласковой улыбкой. Бывали дни, когда я сомневалась, способен ли он отличить меня от нее. В тот день, однако, он был в здравом уме и твердой памяти.
— Это я отлично понимаю. Ты — Алиса, горячо мною любимая.
Когда же я надела изумрудный перстень невероятно тонкой работы, который очень нравился Филиппе, да еще и пояс из золотых колечек, украшенный столь же прекрасными камнями, в Вудсток примчалась разъяренная принцесса Джоанна. Кто-то побеспокоился о том, чтобы придворные сплетни дошли и до нее.
— Это вещи Филиппы! — Она набросилась на меня с обвинениями прежде, чем я успела захлопнуть перед ней дверь своей гостиной. — По какому праву ты осмеливаешься даже дотрагиваться до них?! Тем более — надевать?!
В тот день на мне были рубины. Не могла же Джоанна не заметить их на моей пелерине — крупные, размером с вишневую косточку каждый? Их трудно было не заметить. Хорошо хоть поблизости никого не было, когда Джоанна схватила меня за руку, приглядываясь к перстню.
— Глазам своим не верю! — Она так вывернула мне руку, чтобы свет заиграл на перстне и на кроваво-красном браслете на моем запястье. — Ты их украла?
Я лишь изогнула бровь — на подобные обвинения не отвечают.
— Так украла? — Джоанна всегда была туповата. — Не сомневаюсь. Иным путем ты не смогла бы наложить на них свои вороватые лапы! Они принадлежат королеве. Ты не смеешь их носить.
— Ну а я думаю, что имею на это полное право! — Я ни разу не отвела глаз от Джоанны, и она наконец на минутку замолчала.
— Черт побери! Так это он дал их тебе!
— Разумеется, он.
— И как же ты сумела этого добиться? Нет, не рассказывай! Не то меня стошнит!
Несомненно, мне следовало отвечать осмотрительно.
— Разве я их не стою? — Оглядываясь назад, нельзя не признать, что это был совсем не осмотрительный ответ.
— Бог свидетель, не стоишь.
— Бог свидетель, стою.
Она отпустила мою руку, отшатнулась с очевидным отвращением, оскалилась, обнажив отличные зубы. Но я наступала на нее. Я ей не прислуга, которую нужно ставить на место. Да и надоели мне все эти беспочвенные обвинения.
— Раз уж вы заговорили о цене и о плате, подумайте вот о чем, миледи. Сколько ночей я провела у ложа короля, когда его мучила бессонница? Сколько раз приходилось мне занимать его беседой или читать ему, чтобы оградить от кошмаров? Сколько дней отобрала у меня меланхолия, которая лишает его всяких сил? — Я наседала на нее, желая, чтобы она поняла все, отринула свои предрассудки, признала мои труды и то, чего мне ими удалось добиться. — Вы-то знаете, что это такое, когда страдает сильный мужчина. Он становится капризным, его невозможно ничем утешить, если им овладевает слабость. А женщине нелегко встать между ним и теми ужасами, которые мерещатся ему повсюду. Вы же знаете это по собственному опыту.
На мгновение я увидела, как она заколебалась. Джоанна поняла, о чем я говорю. Но хватило этого ненадолго.
— Принц — мой законный супруг! Быть с ним рядом — это мое право и мой долг! У тебя никаких прав нет!
Пресвятая Дева! Джоанна со своим презрением заставила меня забыть о всяком благоразумии.
— А король — мой любовник, — парировала я. — Он подарил мне драгоценности Филиппы, и я высоко ценю его дар. Я буду носить их с радостью и удовольствием.
— Ты их носишь, как шлюха, — бесстыдно, напоказ, как обычная придворная шлюха, которая требует сокровищ в обмен на свое тело.
Я считала иначе. Эдуард не расплатился со мной за оказываемые услуги — он сделал мне подарок из любви. Но моральный ущерб ничем не возместишь. Репутация моя давно уже установилась, надо жить, смирившись с этим, хотя иногда очень тяжело было смириться с вытекающими последствиями. Яростные наскоки Джоанны все же больно меня ранили, и потому я сказала непростительную вещь:
— Мне нужды нет требовать чего бы то ни было, миледи. Король, без сомнения, считает золото и самоцветы достойным вознаграждением за мои высокие таланты, проявляемые в опочивальне.
— Шлюха!
Взбешенная Джоанна молнией вылетела из моих покоев.
За свою неосторожность мне пришлось заплатить очень дорого, гораздо дороже, чем я могла себе представить, хотя ради Эдуарда я и пыталась потом помириться с принцессой. Не совсем же я бессердечная. Увы, мои добрые намерения лишь ухудшили дело.
Король пожелал навестить принца Уэльского во дворце Кеннингтон, а я из лучших побуждений поехала с ним вместе, считая, что Эдуарду необходим мир в семье. Негоже терпеть такое положение, когда его возлюбленная и сноха дерутся, подобно сцепившимся кошкам. Прошло несколько минут после нашего приезда, и король с принцем погрузились в обсуждение нынешнего перемирия с Францией и возможных дальнейших событий, я же направила свои стопы к Джоанне, нисколько не веря в успех затеянного предприятия. Дворецкий проводил меня в ее светлицу.
Джоанна вышивала, а рядом ее маленький сынишка Ричард листал книжку с картинками. Очаровательный мальчуган, светловолосый, с пухлыми щечками, вскочил и очень мило поклонился. Я сделала реверанс.
— Приветствую вас, милорд. Приветствую вас, миледи. — Я решила держаться доброжелательно.
— Здравствуйте, мистрис Перрерс. — Джоанна не встала, а в глазах ее застыло крайне неприязненное выражение. Та же неприязнь звучала и в голосе.
— Его величество приехал поговорить с принцем Уэльским, — официальным тоном сообщила я. А как держаться по-другому, если мы с ней всякий раз сходились, словно рыцари на поединке? — Как здоровье принца?
Об этом можно было и не спрашивать — разве я не видела его своими глазами? Он так исхудал, что без слез и смотреть невозможно. Глаза лихорадочно блестели, кожа стала землистого цвета, волосы потускнели и слиплись, а рядом с ложем стояла лохань, сама по себе навевающая дурные предчувствия. И в ответ на мой вопрос Джоанна напряглась и замкнулась. Она лишь молча покачала головой, не в силах скрыть своей тревоги. На какой-то миг она утратила обычную власть над собой, даже слезы набежали на глаза. Передо мной открылась единственная возможность осушить скопившийся в ее сердце яд ненависти ко мне — осушить ради Эдуарда.
Уголки рта горестно опустились, резко обозначив глубокие морщины, залегшие вдоль крыльев носа и дальше до самого подбородка, — Джоанна позабыла, с кем разговаривает. По щеке скатилась одинокая слезинка, за ней другая.
— Я уж не знаю, чем ему помочь! — Это был крик ее души.
— Я могу помочь.
— Вы! Да что вы можете сделать? — Она сердито вытерла слезы.
Мне еще не поздно было отступить — так бы я и сделала, коль знала бы, к чему все это приведет. Но видя перед собой такое неприкрытое горе, сама хорошо зная, как ужасно ощущение полной беспомощности (например, когда Эдуард смотрит сквозь меня, совсем не замечая моего присутствия), я не могла отступать. В руках у меня была небольшая шкатулка, изящная вещица из сандалового дерева, инкрустированная слоновой костью, снабженная металлическими петлями, хитроумным замком и ключиком к нему. Шкатулка сама по себе была дорогим подарком, но для принца ее содержимое представляло куда большую ценность. По зрелом размышлении я принесла Джоанне единственный дар, который, как я полагала, она может принять. Ясно же, что ничего иного принцесса из моих рук не возьмет. Я поставила шкатулку на ящичек, где в беспорядке были свалены клубки шелковых ниток для вышивания.
— Это что такое?
— Подарок.
— У меня хватает шкатулок. И подороже, чем эта. — Джоанна и не взглянула на нее, сердито тыча иглой в свою вышивку — не то вставку на кошель для денег, не то фрагмент алтарного покрова.
Я усомнилась в том, что у нее есть более дорогие, — в конце концов, это был подарок самого короля, — но спорить не стала.
— Здесь все дело в содержимом, — терпеливо объяснила я. Монахини в аббатстве умилились бы моему смирению. — Здесь порошки и капли, которые принесут принцу облегчение…
— А эти порошки и капли действительно могут помочь? — Джоанна перестала наконец орудовать иголкой.
— Они принесли утешение королю, когда он скорбел после смерти Филиппы. И самой Филиппе они помогали.
Джоанна отложила свое шитье, и я увидела, как ее пальцы легли на крышку, по форме похожую на небольшой купол. Конечно, от такого приношения отказаться невозможно. Она откинула крышку и окинула взглядом аккуратные пакетики с травами и стеклянные пузырьки с густыми жидкостями.
— Все получено из самых обычных растений, — продолжала объяснять я. — Этому искусству меня научили в монастыре. Вот листья лугового сердечника, они возвращают больным аппетит и способствуют пищеварению. Настойка примулы успокаивает мысли и приносит освежающий сон. Кора белой ивы хорошо помогает, когда человека мучат невыносимые боли. Я здесь написала, что нужно принимать и в каких случаях. — Указала рукой на прижатый крышкой свиток пергамента. — Вы сами или же камердинер принца можете изготавливать из отдельных зелий смеси — как их составлять, я тоже написала. Нисколько не сомневаюсь, что результаты такого лечения обрадуют принца.
Джоанна не сводила глаз со шкатулки, с разложенных там в идеальном порядке пакетиков, с рядов пузырьков. Она изо всех сил закусила губу.
— Я могу сказать только самое лучшее о том, как сильно помогают эти лекарства, — добавила я, поскольку Джоанна по-прежнему ничего не говорила. — Здесь есть еще очищенные от косточек ягоды собачьей розы — они останавливают кровотечение и не дают телу терять другие нужные жидкости.
Мы все слышали об удивительных проявлениях болезни принца, который страдал частыми и неудержимыми кровотечениями и истечениями семени.
Джоанна пошевелилась. Так, как будто я бросила ей в открытую ладонь пучок крапивы, она резко дернула рукой и сбросила шкатулку на пол. Она упала со звоном — петли вылетели из гнезд, стеклянные пузырьки разбились, из них потекли жидкости. Мелкий порошок, в который я истолкла травы, взвился в воздух и причудливыми узорами изукрасил пол. Жалобно вскрикнул испуганный Ричард, потом проворно бросился вперед, горя желанием узнать, что случилось. Мать схватила его за одежду и подтащила к себе.
— Не прикасайся к этим дьявольским зельям!
— Право же, это вовсе не… — попыталась было возразить я.
— Это варево сатаны! А ты — служанка его!
Ее слова поразили меня в самое сердце, по спине будто пробежала холодная струя, а тем временем мы обе смотрели на усеявшие пол осколки и пыль — Джоанна так и не встала со стула, а я застыла от намека, крывшегося в ее словах. Потом Джоанна подняла на меня взор, щелкнула пальцами, и из дальнего угла комнаты к нам подошла служанка.
— Убери это прочь. Сожги. И шкатулку тоже. Я желаю, чтобы ни единого следа не осталось у меня на полу. — Служанка тупо таращилась на разбросанные по полу осколки, и Джоанна прикрикнула на нее: — Ну, живее! — Крик ее перешел в шипение, какое издает сталь, вонзаясь в тело врага.
Пока женщина возилась с уборкой, Джоанна встала со стула, схватила меня за руку и наклонилась ко мне, едва не прижимаясь губами к моему уху.
— Ты что же, думала, что я настолько глупа?
Я все еще не могла прийти в себя после того, как она столь беспардонно разделалась с даром, который не мог принести ничего, кроме пользы.
— Я думала, вы сможете принять то, что я принесла для облегчения страданий вашего супруга, — ответила я, наблюдая за ее лицом, выражавшим злобу пополам со страхом.
— Облегчение! От настоек из обычных растений! — воскликнула она, как плюнула. Голос ее упал до шепота, который отдавался в каждом углу комнаты. — Я слыхала, что вы прибегаете к колдовству, чтобы добиться своего, мистрис Перрерс. Думаю, вами движут злобные замыслы, а вовсе не сострадание к ближнему! — Когда она выговорила эти слова, с губ ее брызнула слюна.
Но мое внимание изо всей ее тирады привлекло только одно слово.
— Колдовство! — повторила я таким же тихим голосом: подобные слова не выкрикивают во всеуслышание. Мне многое довелось слышать, но такого мне не говорил еще никто. На меня повеяло страхом, но все же я позволила себе рассмеяться с издевкой. — И что же они вам говорили — те, кто распускает эти слухи? Что я живьем поедаю младенцев? Что меня хранит злой дух, которого я питаю собственной кровью?
— Говорят, что вы способны вызывать дьявола и прибегать к его помощи. Что у вас есть умения и познания, не подобающие богобоязненной женщине. — Я заметила, что пальцы ее левой руки сложились в отгоняющий злых духов знак. — Чем же иным, во имя всего святого, вы объясните, что Эдуард очарован такой уродливой и дурно воспитанной женщиной, как Алиса Перрерс? — Вымолвив мое имя, она решительно сомкнула уста.
Я чувствовала себя так, будто она вонзила мне под ребра кинжал, однако постаралась не выдать своим ответом ни обиды, которую остро ощущала, ни страха, подкрадывающегося к сердцу. Холод все сильнее пробегал у меня по спине, как будто в разгар зимы туда насыпали свежего льда.
— Это поистине необъяснимо, не могу не согласиться с вами, — сказала я ровным голосом. Не стала защищать ни свое происхождение, ни внешность, только вырвала у нее свою руку. — Но в любви моего господина ко мне нет ни капли колдовских чар, как не было их и в моем подарке. — Я растерла ногой остатки цветочной пыльцы на полу. — Однако если бы мой муж страдал так, как ваш, миледи, я прибегла бы и к помощи дьявола, лишь бы облегчить его страдания. Я бы перевернула все вверх дном отсюда до самого ада, коль это принесло бы моему мужу благодатный ночной сон и умерило бы его боли.
— Убирайся.
— До свидания, миледи. — Я сделала реверанс.
— Убирайся сейчас же, не то я представлю властям доказательства того, что ты пыталась опоить меня колдовскими зельями.
— Все ваши доказательства ничего не стоят. — Ради спокойствия Эдуарда я не позволяла себе дать волю гневу.
— Прочь с глаз моих.
Я ушла. И больше не пыталась помириться с ней. Слишком острая ненависть снедала Джоанну. Эдуарду о нашей беседе я не сказала ни слова. Он не заслужил, чтобы на него взваливали еще и эту ношу.
Колдовство. Злые чары.
Полные яда обвинения жужжали у меня в голове, как назойливая пчела, что вьется над цветком наперстянки. У Джоанны не было никаких доказательств, которые она могла бы использовать против меня. В этом-то я была совершенно уверена, потому что никогда в жизни не прибегала ни к каким чародейским уловкам, но обвинение было чересчур серьезным, чтобы не придавать ему значения.
Доказательства можно ведь и подделать, разве нет?
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Виндзора я в аудиенц-зале застала врасплох. Пресвятая Дева! Если я и сумела немного вывести его из обычного состояния невозмутимости, то он просто ошеломил меня. Я была так поражена, что еле на ногах устояла.
Начиналось все не слишком хорошо. Двор, то и дело переезжавший с места на место, перебрался из Вудстока в Шин, куда из Франции прибыла весьма представительная делегация — вести переговоры о долговременном перемирии. Я сочла нужным вмешаться. Следуя моему указанию, Латимер отослал делегацию прочь.
— Это опасный шаг, мистрис Перрерс! — раздался голос где-то совсем рядом.
— Что вы хотите этим сказать? — вопросила я, досадуя в равной мере и на отъезжающих высокородных французов, кипящих от злости, и на Виндзора.
— Такое не понравится народу.
— Что именно?
— То, что вы сами решаете, кого допустить к королю, а кого не допускать.
— Вы полагаете, я сама об этом не догадываюсь?
Как могла я не догадываться? Мы с Латимером уже не впервые становились между королем и теми, кто желал прибегнуть к его суду или защите. Нужен ли мне Виндзор для того, чтобы я узнала, какое недовольство это все вызывает? Ну, что до недовольства… Я сердито посмотрела на стоящего рядом мужчину. Его присутствие вызывало у меня недовольство. И его мнение тоже. В тот миг буквально все в Вильяме де Виндзоре раздражало меня.
— Вы играете с огнем, — заметил он. Впрочем, это было понятно и без его логических выводов.
— Мне это известно.
— Вы сами вкладываете оружие в руки тех, кто мечтает с вами разделаться.
— Скажите мне хоть что-нибудь такое, чего я еще не знаю.
— Зачем же тогда вы так поступаете?
Если ему так хочется, пусть думает обо мне плохо. А он стоял, смотрел на меня, и в глазах его таилось какое-то подозрение, что отнюдь не смягчило моего дурного настроения.
— Я не стану говорить сейчас с вами! Я не обязана отчитываться перед вами в своих поступках!
И вдруг мною ни с того ни с сего овладело непреодолимое желание, чтобы он обвил меня руками, а я могла бы крепко прижаться к нему. Ничего бы не пожалела за краткий миг успокоения, за ощущение того, что я не одинока. Мне хотелось, чтобы он погладил меня по руке, как гладят мягкую кошачью шерстку, сплел свои пальцы с моими и сказал, что все будет хорошо…
Какое там «хорошо»! Я тут же отступила от него на шаг-другой, подальше от греха, содрогаясь от сознания того, что допустила такую слабость. Никогда и ни за что не должен Виндзор увидеть, какой сумбур царит в моих мыслях. Не стану просить прощения. Ничего не буду объяснять. Почувствовала его внимательный, пронизывающий меня насквозь взгляд и поспешила к Латимеру и разгневанным послам, лишь бы оказаться подальше от Виндзора. Горячие слезы душили меня, и я не была уверена, что сумею долго держать себя в руках.
Виндзор остановил меня самым простым способом: он загородил мне дорогу.
— Идите за мной, — коротко приказал он.
— Не пойду!
Не обращая на это внимания, он взял меня за руку и заставил выйти из опустевшей уже аудиенц-залы.
— Да отпустите же меня! Или вы хотите, чтобы о нас стали шептаться по всему дворцу? — Он выпустил мою руку, но я все равно шла за ним, понимая, что он снова меня заставит, если я буду упрямиться. — Куда это мы идем?
Не получив никакого ответа, я молча шла с ним рядом, все еще переживая недавнее столкновение, вспоминая недоверчивые взгляды французов, когда Латимер предложил им вести переговоры с ним, а не с королем, а еще более раздражаясь из-за того, что Виндзор взялся судить о побуждениях, коими я руководствовалась. Когда же я увидела, что он привел меня в коридор, ведущий к наружной двери, то заартачилась и встала на месте.
— Не пойду!
— Ну почему так трудно убедить женщину что-то сделать? Когда мужчина в первую очередь заботится о ее жизненных интересах? — воскликнул Виндзор, вернулся и навис надо мной в узком проходе всем своим ростом и массой.
— Вас на деле заботят лишь свои собственные интересы. Я никогда не встречала более эгоистичного человека, чем вы, — парировала я, окончательно запутавшись в своих рассуждениях. — Если на то пошло…
— Да черт тебя возьми, женщина!.. — Он плотно прижал меня к стене, не обращая внимания на то, что по коридору могли проходить посторонние (по счастью, в ту минуту там никого не было), и поцеловал меня. В его поцелуе не было ни нежности, ни сочувствия. А что в нем было — даже не знаю. Он оторвался от моих губ, поднял голову, а я задохнулась и не могла вымолвить ни слова.
— Ну наконец-то вы замолчали!
— Вы что, ума решились?.. Отпустите же меня!.. — Боже, как забурлила во мне кровь от этого поцелуя! А сердце отчаянно билось о ребра, будто пойманный в капкан хорек.
Он снова меня поцеловал, зажигая во мне настоящий костер, невероятно соблазнительный, и вся моя воля к сопротивлению улетучилась без следа. Когда он снова оторвался от моих губ, я стояла, не в силах пошевелиться.
— Вот и отлично! А теперь будьте хоть раз в жизни послушной девочкой…
Насколько я могла судить, целовал он меня с неподдельным удовольствием, но лицо его оставалось суровым, а мысли блуждали где-то далеко. И я пошла с ним рядом, потому что мне самой так хотелось — ощущая, как близко он от меня, как его камзол на повороте лестницы задел мою руку. Потом мы вышли во двор, поднялись на стену, а над нашими головами нависали тяжелые свинцовые тучи, вполне отвечавшие моему настроению. Оказавшись на стене, мы с ним наконец остановились на восточном бастионе, и я ждала, что он скажет, руки и ноги у меня все еще дрожали. Было интересно: поцелует ли снова? Я надеялась, что поцелует, и в то же время презирала его за то, что он поймал меня в ловушку этой внезапно нахлынувшей страсти. И себя презирала. У меня не было ни малейшего желания изменять Эдуарду, что прилюдно, что втайне. Мы стояли на виду у бдительной и зоркой дворцовой стражи, а я не утратила еще понятий о чести, пусть мое сердце и неслось вскачь, как насмерть перепуганная лошадь.
— Расскажите, что вас так сильно заботит, — предложил мне Виндзор, когда молчать дальше стало уже невыносимо.
— Ничего. И раз уж вы так плохо обо мне думаете…
— Как я понимаю, вы тревожитесь о короле.
— С чего бы это?..
— Алиса! Нет смысла скрывать и дальше. Он выжил из ума. Именно теперь вы нуждаетесь в друге, а ближе меня вам сейчас не найти никого. Так скажите мне правду.
Вся моя решимость промолчать, во что бы то ни стало защитить Эдуарда быстро растаяла. Да, я остро нуждалась в друге, который подставил бы свое плечо под груз, который становился непомерно тяжким. Уикхем находился в Винчестере, а сдаваться на милость Гонта я ни за что не стану. Остается только Виндзор… Но был ли он именно таким другом? Вот он стоит передо мной, потемневший, мрачный, как туча, — живое воплощение дурной репутации и непомерного эгоизма. И все же было в его лице нечто совершенно неожиданное — доброта… Ну что, рискнуть?
— Правда. Меня заботит Эдуард.
— Вы оберегаете его от людей.
— Да. А что мне, по-вашему, еще делать? Выставить его на всеобщее обозрение в Лондоне, чтобы все подданные смотрели, разинув рты?
— Ну, тогда по крайней мере вас не стали бы обвинять в том, что вы вертите стариком ради своей выгоды. Хранить это в тайне опасно, Алиса.
— На это я не пойду! Не много мне проку от вашей помощи!
— Я просто стараюсь смотреть на вещи трезво!
Я еще какое-то время сопротивлялась, но в конце концов уступила и рассказала ему все. Сказала, что светлый разум Эдуарда снова затуманился, король стал непредсказуемым. Кто сможет убедить его, что незачем было приказывать исправить или перестроить все мосты в графстве Оксфордшир только потому, что он собрался ездить из Вудстока на соколиную охоту? Мне это не удалось. Король уже не был в состоянии предначертать Англии какую бы то ни было политику на будущее. И долго ли мы — я, Латимер и остальные верные министры — сможем поддерживать видимость того, что Эдуард способен занимать трон? Эдуард не всегда знал, какой сегодня день недели, а лекари не могли вернуть ему ясный ум.
— Вот почему я стараюсь защитить его всем, что в моих силах, — закончила я свой рассказ. — Ясность сознания может возвратиться к нему в любой момент — на следующей неделе, даже завтра.
— Вы просто восхитительны.
— Отнюдь. Восхищаться нечем. Но он мне слишком дорог, и я не стану отдавать его на растерзание тем, кто может поставить под вопрос его право царствовать над Англией.
— Кое-кто может сказать, что все это вы делаете из соображений собственной выгоды. — Виндзор оперся плечами на стену и повернулся лицом ко мне — посмотреть, как я отвечу на его обвинение. — Продлевать власть короля — значит сохранять власть Алисы Перрерс.
— И это, разумеется, совершенно верно, — окутала я себя броней иронии. — Разве кто поверит в то, что я могу заботиться о благополучии короля ради него самого? — Я отвернулась, негодуя на эту клевету, которая была мне знакома уже давно.
— Я же не сказал, что это мое мнение, — возразил Виндзор. — Думаю, вас нужно немного развлечь.
— Поцелуями? — Мне вдруг сделалось страшно от того влияния, которое имел на меня этот человек, я испугалась тех слез, которые жгли мои полуопущенные веки. Слишком я стала чувствительной. — Надеюсь, что нет.
— Нет, не поцелуями. Не сейчас, по крайней мере. Может быть, попозже…
Он снова погрузился в раздумья: Виндзора заботили какие-то свои мысли. Мне были по-женски неприятны эти его раздумья, так что я повернулась и пошла прочь, сердясь на свои взбудораженные чувства, огорчаясь тому, что он так легко сумел меня перехитрить и заставить открыть ему душу. Сам же он остался стоять, облокотившись на парапет и глядя вдаль, на открывающийся пейзаж.
— Есть у меня два-три имения в Эссексе, — заметил он, выбрав нейтральную тему для беседы. Я вернулась к нему.
— Это мне известно.
— Собираюсь прикупить к ним еще немного.
— И это я знаю. Вы притащили меня сюда только для того, чтобы сообщать то, что мне и так известно? — Настроение у меня резко менялось, и я ничего не могла с собой поделать.
— Да нет. Я хочу задать вам один вопрос. В свете того, что я сейчас наблюдал, вопрос этот становится слишком важным.
Он снова облокотился о парапет, положил голову на руки и стал мрачно созерцать, как одна из дворцовых кошек совершает утренний моцион, обходя кроличьи норы на берегу реки. Я молча ждала. Наконец он повернул голову и взглянул на меня.
— Алиса…
— Вильям!..
Он окинул меня оценивающим взглядом.
— Алиса, пойдете вы замуж за меня?
«Замуж?»
Я отчаянно пыталась постичь смысл его вопроса, подыскивала подходящий ответ, но все было напрасно: после переживаний, выпавших на мою долю нынче утром, такая задача была мне не по зубам. Я с трудом сделала вдох.
— Вы смеетесь надо мной?
— Вот разумный ответ. Я же то и дело в шутку предлагаю женщинам выйти за меня замуж, вся Англия так и завалена моими предложениями руки и сердца. Вы пойдете за меня замуж? — повторил он свой вопрос.
Он это всерьез? На его жестком лице невозможно было ничего прочитать.
— Вступить в брак!.. Только для чего?
Он тут же выпрямился, потом совершенно неожиданно опустился на одно колено. На мгновение в памяти ярко вспыхнуло давнее: Эдуард в расцвете своих сил и могущества опускается передо мной на колено и читает стихи — после нашей ссоры. Только сейчас все было совсем иным: Эдуард упрашивал меня от чистого сердца, здесь же были лишь притворство, игра в рыцарские чувства. Не сомневаюсь.
— Я люблю вас, — заявил Виндзор. — По какой же иной причине мужчина станет просить женщину выйти за него замуж?
— А вы лжец, Виндзор.
— A-а… Откуда вы можете это знать? — Глаза его вдруг озарились светом, словно солнышко проглянуло из-за тяжелых туч.
— Ниоткуда. Сердце подсказывает… Черт вас возьми! Встаньте же! Нас увидят часовые, и через какой-нибудь час весь двор будет знать, что вы творите непотребные дела! — Он выпрямился во весь рост, и суровые черты его лица засияли, смягчились, стали соблазнительными. В это я ни на миг не поверила. Воспользовавшись моим замешательством, Виндзор взял меня за руку и прижал ее к своим губам.
— Понимаете, эта мысль совсем не плоха. Конечно, не так-то легко играть две роли, быть сразу женой одного и фавориткой другого, но готов поклясться, что у вас хватит на это таланта. Так вы согласны?
— Нет. — На более длинный ответ у меня уже не хватало ни ума, ни дыхания. Ну и утро нынче выдалось! Он и вправду смеется надо мной? Если да, то проявляет жестокость, которой я от него никак не ожидала.
— Послушайте меня, я говорю совершенно серьезно. — Он снова облокотился о парапет, созерцая пару ворон, совершавшую пируэты в восходящих потоках воздуха. Говорил он отрывисто, не отпуская моей руки, с абсолютно серьезным выражением лица. — Я предвижу от этого преимущества…
— Ну еще бы вы их не увидели!
— Для тебя, женщина, для тебя! Слушайте внимательно. Что станет с вами, как только Эдуард умрет? Одинокая, безо всякой защиты, вы станете отличной мишенью для всех тех, кто проклинает вас с того самого дня, когда вы пробрались на королевское ложе. — В его устах это прозвучало как-то особенно отвратительно. — С того самого дня, когда встали рядом с троном и преградили путь к власти им. Они не поверят в то, что король тяжко болен и не способен уже держать в руках бразды правления. Винить во всем станут вас и бросят на растерзание с превеликим удовольствием. — Взгляд Виндзора переместился с носившихся туда и сюда ворон на меня. — Я ничуть не сомневаюсь, что все сказанное вы давно и хорошо представляете себе сами. Вы ясно видите, как грозовые тучи затягивают ваш горизонт, — не хуже, чем вот эти вороны чувствуют восходящие потоки, помогающие им лететь. Вы только посмотрите на них! Эти вороны предвещают бурю. Зловещие птицы.
Кто бы мог подумать, что Виндзор так суеверен!
— Вижу я грозовые тучи над своей головой, — ответила я ему. — А на ворон всякое утро смотрю и не пугаюсь. Я приняла свои меры предосторожности.
— В этом я не сомневаюсь. Копите денежку на старость. — Какой цинизм и практический расчет звучали в его словах! В этом отношении никакие предрассудки ему не мешали. Он что же — думает, будто я обчищаю сундуки с королевской казной? — А что, если враги нацелят свои удары как раз на источники ваших доходов?
— Я приняла меры и на этот случай.
— Еще бы! Я же знаю, какая вы умница. — Мне показалось, что в его устах это было вовсе не похвалой. — Но вам необходима защита и по другой причине. Мужчинам не нравится, когда женщина переступает границы дозволенного для ее пола. Мужчине ваши дела сошли бы с рук, а вот женщине… В лучшем случае ее назовут слишком дерзкой и самонадеянной. В худшем — безнравственной. Женщину, которая умеет за себя постоять, женщину смелую, открытую и бесстрашную — тем более такую, что сумела с невероятным успехом добиться поставленных перед собой целей, — будут поносить непрестанно, тогда как мужчину на ее месте превозносили бы за проницательность. Вы снискали себе слишком дурную славу.
— Как и вы… — не смолчала я, напуганная тем, как он бесцеремонно он набросал мой портрет.
— Это сейчас к делу не относится, — перебил меня Виндзор. — Как не играет роли и то, виновны вы или же нет. На вас накинутся сразу, едва тело короля перенесут в дворцовую церковь на отпевание. А вот если вы будете моей женой, я стану защитником и вам, и вашему имуществу — коль потребуется, то и через суд.
А! Вот оно что! Какая там доброта!
— А чего для себя вы ждете от такого брака?
— Мне нужен человек, который позаботится о моих интересах в Англии, пока сам я буду в Ирландии.
— Не такого ответа ожидает женщина, — нахмурилась я. — Речь же идет о браке, а не о торговой сделке. — Я выдернула у Виндзора свою руку и отвернулась от него. — А вы до сих пор не сомневаетесь, что вам позволят вернуться в Ирландию?
— Уверен. Я уже вам говорил: кто сможет заменить меня там?
— Тогда наймите себе поверенного, чтобы он присматривал за вашими имениями, — это обойдется вам дешевле, чем женитьба. И трудностей вызовет куда меньше, — сухо добавила я. — Я попрошу Гризли, чтобы он рекомендовал вам кого-нибудь.
— Но мне нужен человек, который станет заботиться о моих делах получше, чем наемный клерк. Мне нужны вы!
«Мне нужны вы!» Я потрясла головой, пытаясь привести в порядок разбегающиеся мысли.
— Я не согласна.
— Но почему не согласны? Назовите хоть одну причину!
Я ухватилась за более прозаическую, не желая подробно объяснять горячность своего ответа.
— Потому что я не могу. Эдуард…
— Эдуарду совершено не обязательно об этом знать.
— Как? Мы сохраним свой брак в тайне? — Я была потрясена вдвойне.
— А почему бы и нет? Разве это так трудно? Коль уж мы решимся на такой далекоидущий шаг, то двору наверняка не следует ничего знать, так будет лучше.
Я проследила за направлением его взгляда: вороны все кувыркались в воздухе, повторяя движения друг друга, — несомненно, исполняли брачный танец. Быстро, резко я задала вопрос, который занимал главное место в моих мыслях:
— А почему вы решили… почему это вообще могло прийти кому-нибудь в голову… делать такое предложение любовнице короля? — Горло сжалось, я с усилием проглотила слюну и уточнила: — Зачем вам делить свое ложе с королевской утехой?
— Я думал над этим и решил, что это для меня не важно. — Я посмотрела на него с удивлением, а он ответил мне открытым, ясным взглядом. — Кто вы для него, Алиса? Кто вы ему теперь?
— Я… — Меня его вопрос застал врасплох, и я стала лихорадочно искать ответ, который не стал бы предательством по отношению к Эдуарду. О том, что происходит между королем и мной, я никому рассказывать не стану.
— Так кто вы ему? — снова спросил Виндзор. Должно быть, вид у меня стал такой потерянный, что он решил прийти мне на помощь. Кто бы мог подумать, что он способен на такое? — Друг?
— Да.
— Советчик?
— Да. Когда он просит меня об этом, а иной раз и без его просьбы, — печально улыбнулась я. — Эдуард любит беседовать. Раньше любил…
— Поверенная его тайн? — вскинул голову Виндзор.
— Да… так было всегда… — Я упрямо сжала зубы, зная следующий вопрос.
— Любовница?
Ответ на этот вопрос застрял у меня в глотке.
— Будьте со мной честны. Алиса, Бога ради! Я же не разнесу ваши слова по всему дворцу!
Надо ли давать ему ответ, который ему хочется услышать? Правдивый ответ? Боже всеблагой! Я почувствовала, как ногти глубоко впиваются в ладони.
Заметив это, Виндзор разжал мои руки, расправил пальцы, мягко спросил:
— Так вы до сих пор любовники?
— Нет! — выкрикнула я, страдая от столь прискорбного упадка сил некогда такого выдающегося во всех отношениях человека. — Больше уже нет…
— Как я и предполагал…
— Он не может… — Мне очень хотелось все объяснить, защитить короля, который был не в состоянии защитить себя сам. Я не смогла бы снести презрительные насмешки над тем, что король утратил былую мужскую силу, которая превращала его в коронованного могучего жеребца. Эдуарду это очень сильно не понравилось бы, заставило бы его страдать. Но ничего объяснять не потребовалось: Виндзор и не думал насмехаться.
— Печальная немощь старости, — заметил он будничным тоном. — Рано или поздно она настигает нас всех. И давно это?
— Два года, чуть больше, может быть, — призналась я.
— Тем не менее вы остаетесь при нем.
— Остаюсь.
— Ради власти, которую это вам приносит? — Взглядом он пронизывал меня насквозь.
— С этим и спорить нельзя, правда? — спросила я с горечью.
— Я полагаю, что вы лучше, чем хотите казаться.
Он напомнил мне Уикхема. Наверное, это хорошо, если сразу двое мужчин считают тебя хоть чуточку лучше, но я не чувствовала никакой радости. Когда все вокруг бросают на тебя косые взгляды, порой и сама начинаешь верить тому, что о тебе говорят. Наверное, я не заслужила того, чтобы жить счастливо. Особенно если взвесить все мои грехи…
— Он нуждается во мне, — твердо сказала я, послав к дьяволу всякую жалость к себе. — И оставить его я не могу. — К моему облегчению, Виндзор не стал переубеждать меня, удовольствовавшись тем, что мы поняли друг друга. — Понимаете, он меня любит, — продолжила я. — Пусть он перестал являть мне свою мужскую доблесть, он меня любит. Неужели он не заслужил, чтобы я оставалась с ним до самого конца?
Виндзор снова повернулся к стене и опять положил голову на руки.
— Вы подумайте вот о чем. Если между вами нет былой близости, какая важность, если вы станете моей женой? Телесно вы ему изменять не будете, верно?
— Но король воспримет это именно как измену и будет прав.
— С этим я не могу согласиться. Часто бывает так, что он не замечает, когда вы входите в его опочивальню? — Должно быть, Виндзор чувствовал, что внутренне я еще сопротивляюсь. — Отвечайте честно, как и прежде. Я не сплетник.
Да, не сплетник.
— Слишком часто… — вздохнула я.
— Вот в этом и все дело, — настаивал он, и голос его звучал все проникновеннее. — А вы подвергаетесь опасности. Когда король умрет, вы останетесь совсем одна.
— А если выйду за вас, вы встанете на мою защиту.
— Обязательно.
— А я буду управлять вашими имениями.
— Да.
— И все же, как ни крути, это голая сделка.
— Ну, если вам хочется так считать…
— Таким мне это видится. — По моей спине пробежал холодок разочарования, словно порыв северного ветра среди жаркого дня.
— Выходите за меня, Алиса. — Виндзор посмотрел на меня с вызовом. — Хватит у вас смелости на это?
— Думаю, что смелости мне не занимать.
— Так соглашайтесь!
Наблюдая за взвившимися снова в небо воронами — за парой, наслаждавшейся своей свободой, — я обдумала его слова так и эдак. И решила, что у меня никакой свободы нет.
— Алиса… — вздохнул Виндзор.
— Нет. Не пойду. Я не могу.
Он не стал уговаривать меня дальше — просто удалился, предоставив мне в одиночестве созерцать радость двух ворон, разрезавших крыльями воздух над моей головой, исполнявших свой брачный танец. А мне осталось лишь убеждать себя, будто не кружили мою голову его поцелуи, будто не стремилось мое сердце совсем не туда, где предписывал быть мой долг.
Предложение Виндзора засело в мыслях саднящей занозой, и уснуть мне в ту ночь не удалось.
Выйти замуж? Сделка между партнерами — это одно, а вот брак?.. С мужчиной, которого я находила невероятно притягательным? Эта мысль не покидала меня, пока честность не вынудила обдумать все сызнова. Эдуард… Где же моя верность королю? Разве не заслужил он моей преданности и стойкости?
Когда моя служба при дворе подойдет к концу, у меня должно быть достаточно средств, чтобы безбедно провести свой век и обеспечить будущность своих дочерей. Что еще мне нужно?
«Тебе нужен мужчина-защитник».
Нужен ли? Да нет. Однажды я была уже замужем и никакой радости в том не нашла. Еще раз я на это не пойду. Я даже еще не решила, нравится ли мне Вильям де Виндзор. Его прикосновения зажигали жар в моей крови, но ведь это всего лишь похоть. Нет, он предназначен не для меня. Если и выходить замуж, то за человека мягкого, податливого, которым сильная женщина сумеет управлять: я не стану чьей-то бессловесной собственностью. Со всех сторон рассмотрела такую весьма нежелательную перспективу и твердо решила: нет, замужество — это не для меня, а на брак с Вильямом де Виндзором может согласиться только очень уж смелая женщина.
«А ты — не смелая?»
Я зарылась лицом в подушку. Он сказал, что любит меня, но этому я не поверила. Его предложение скорее походило на договор купли-продажи земельных владений. Уж в чем-чем, а в этом я разбиралась!
Он не сказал мне ни единого ласкового слова.
Я оставила всякие попытки уснуть, взялась за перо и занесла в свой гроссбух совсем недавно купленное имение Ганнерсби — поместье на Темзе, которое обещало куда более надежную защиту, нежели Вильям де Виндзор.
— Доброе утро, сэр Вильям. — Я стояла среди дрожащей от холода кучки придворных вместе с Эдуардом, который изъявил желание поохотиться с соколами. Мы неспешно пошли пешком вдоль реки, приноравливаясь к шагу короля, который, казалось, совсем не чувствовал холода. — Не ожидала увидеть вас в такой ранний час. Вы, наверное, хотите попасть в милость к королю?
— Вы поразмыслили?.. — спросил он, пропустив насмешку мимо ушей.
— Да.
— Не передумали, мистрис Перрерс?
Я слегка откинула голову, изображая этакую царственную надменность, — знала, что он по достоинству оценит шутку.
— Нет, сэр Вильям.
— Ну скажете, когда передумаете.
— Не передумаю.
— Передумаете, я полагаю, — усмехнулся он.
По возвращении, когда сокольничие собирали у охотников птиц и относили их на королевские конюшни, Виндзор снова оказался рядом со мной.
— Подумайте о выгодах.
— Их просто нет.
— А я вам говорю, что есть. — Он посмотрел на меня долгим красноречивым взглядом, от которого по телу у меня растеклась жаркая волна. Я почувствовала, как приливает кровь к щекам, и поспешила отвернуться.
— Вы самонадеянны, сэр Вильям.
— Не без того. Неужто вы отбросите мое предложение, даже не обдумав его как следует? Вы же привыкли внимательно вдумываться, когда вам предлагают купить феодальные права на то или иное поместье.
Да уж, конечно, черт бы его побрал!
— Женщине нравится, когда за ней ухаживают, сэр Вильям. — Я изобразила невероятную застенчивость, потупив глаза и рассматривая свои новые перчатки, вышитые золотом.
— Я не мастер на сладкие речи, мистрис Перрерс. — Он не извинялся, а просто отмечал то, что было в действительности. Я оторвалась от созерцания вышивки и пристально посмотрела ему в лицо. Там не было ни малейшего притворства — этот человек сказал то, что думал: в его словах были и сладкое вино, и горький осадок. И если я решу выпить из этой чаши, мне достанется и то, и другое…
— Но вы можете попытаться, — сказала я, не теряя надежды склонить его к подобающему ухаживанию. — Если, конечно, действительно хотите получить мою руку и сердце.
— Я начисто лишен какой бы то ни было поэтичности.
Как и я, однако мне было бы приятно услышать от него что-нибудь романтическое. Должно быть, он разглядел на моем лице разочарование, потому что сразу протянул руку и провел кончиком пальца по моей щеке.
Мое сердце радостно вздрогнуло.
Я обдумала все сызнова. Вспомнила Дженина Перрерса. Поразмыслила об Эдуарде. Не давала себе покоя до самой зари. Каково это — связать себя с человеком, который не нуждается в моей заботе? С мужчиной, которого я вольна сама принять или отвергнуть? Такой свободы я раньше никогда не знала. Каково это будет — любить человека по моей собственной воле? Об этом я не имела ни малейшего представления.
«Лучше бы тебе вообще никого не любить!»
Ну, что до этого…
Я тихонько поглядывала на то, как Виндзор гладко вписался в дворцовые будни. Он очень ловко владел и конем, и мечом, в поединках (какие часто устраивались при дворе, чтобы показать молодецкую удаль) действовал упорно, пока не дотрагивался кончиком меча до горла противника — и тут же в знак дружеского расположения пожимал руку побежденному. Надменно откидывал голову, принимал горделивую позу, приличествующую рыцарю. «Прекрати, Алиса!»
Он не был таким уж красавцем, но мой взор он притягивал неизменно.
Я вдруг снова ощутила ласковое прикосновение его пальца, которое заставило меня жарко покраснеть.
Наблюдала я и за тем, как Эдуард все больше и больше отдаляется от меня, пока однажды утром, когда я сделала реверанс, он не спросил меня раздраженно: «Филиппа? Отчего вас так долго не было? Ну, вы убедили Изабеллу не выходить замуж за де Куси? Скажите ей, что я этого не допущу…»
Чаша моего терпения переполнилась.
Он увидел, что я приближаюсь, и сразу отошел в сторону от бездельников, слонявшихся, как и он сам, по одной из королевских передних. Чтобы убить время, они играли в кости, но ему безделье претило. Я хранила на лице суровое выражение.
— Вы изменили свое мнение, милая Алиса?
— Изменила.
Брови его взметнулись вверх, но он хотя бы не позволил своему наслаждению победой перерасти в самодовольство.
— Твердо решили?
— Твердо.
— Вот и хорошо. Мне нравятся женщины, которые умеют обходиться немногими словами.
Все хлопоты по устройству венчания я предоставила Виндзору, ибо он, в отличие от меня, не привлекал к себе всеобщего внимания. Мне, однако, не составило труда отлучиться от двора под предлогом посещения девочек, которые подрастали в Палленсвике. После рождения Джона я пользовалась полной свободой передвижения: ненадолго заеду в Палленсвик, а потом направлюсь в Гейнс близ Апминстера[85] — в поместье, купленное нами совместно на имя Виндзора. Когда я на прощание погладила руку Эдуарда, он не узнал меня и уставился пустыми глазами в стену за моей спиной. Я не стала и пытаться втолковать ему хоть что-нибудь — Джон Беверли, камердинер, позаботится о короле, а мое отсутствие не продлится долго.
Виндзор поехал отдельно от меня, я же плыла одна в своей барке, а гребцы быстро гнали ее против течения, пользуясь наступившим приливом. Нервы мои были натянуты, как тетива лука, и я в любой миг готова была подпрыгнуть на месте, словно кузнечик в жаркий летний день. В Апминстере нас обвенчали в сельской церкви: церемония прошла очень просто и коротко, без шума, без гостей, без обручального кольца и без обмена свадебными подарками у алтаря. Мы ограничились тем, что торжественно произнесли положенные обеты, свидетелями чего стали невозмутимые дворецкий Виндзора и Уильям Гризли. Гризли, возможно вспомнивший о моем предыдущем замужестве, сумел выдавить нечто похожее на улыбку.
— Я никогда не сомневался в том, что ваша жизнь будет полна приключений, мистрис.
— И по большей части я именно вас должна благодарить за эти приключения. — Я сознавала, скольким ему обязана.
— Я присмотрел поместье — здесь неподалеку…
— Завтра, Гризли, — прервала я его, взяв за руку. — Это подождет до завтра, а сегодня у меня нет времени.
Уже много-много лет не случалось, чтобы какое-то событие могло отодвинуть для меня покупку земли на второй план. Но сегодня все было по-другому. Сегодня я праздновала свою свадьбу. И этот день посвящала мужчине, который стал отныне моим супругом.
Я стояла на крыльце незнакомого дома, растерянная, совершенно не замечая достоинств этого оштукатуренного деревянного особняка, частично принадлежащего мне. Я решилась и вышла замуж! И муж теперь распахивал передо мной дверь и улыбался, приглашая войти в прихожую.
Я не могла вымолвить ни слова. Много чего я повидала в жизни, но такого опыта у меня не было — опыта отношений, в которые я вступила по собственной воле. Я словно вмиг перенеслась из знакомого мира в совершенно необычную обстановку, где по углам таились неясные тени, а неосторожного поджидали многочисленные ловушки. Я переступила порог, гулким эхом отдались мои шаги по широким дубовым половицам, разукрашенным узорами годовых колец, — и мне стало страшновато.
— Ну как, леди де Виндзор[86]?
Меня пробрала легкая дрожь, потом разобрал смех оттого, что все это оказалось так просто. Впрочем, так ли уж просто? Много ли я знала о человеке, который сейчас смотрел на меня? И разобраться в моих чувствах к нему было совсем не легко.
— Как я понимаю, теперь я хозяйка в этом особняке.
— Так и есть. — Он взял меня под руку и, поглаживая мои пальцы, провел в ближайшую дверь. — Вы замерзли. Входите же, здесь должны были разжечь камин. Не могу же я допустить, чтобы жена моя замерзла, правда? — Немного подумал и добавил: — Я действительно такое сказал?
— Кажется, да. — Я едва замечала маленькую гостиную с обшитыми деревом стенами, начищенную мебель, приятное тепло от камина. Все мои чувства сосредоточились на человеке, который сумел меня покорить. Да разве я не сама ему это позволила? Сбросила капюшон и накидку, положила их на скамью, на которой плясали отсветы огня. — Полагаю, вы намерены скрепить нашу сделку надлежащим образом?
— Разумеется.
— Чашей вина и подписью на документе?
Он уже с торжественной сосредоточенностью наливал вино в припасенные заранее чаши. Виндзор весьма тщательно все здесь подготовил к нашей свадьбе. Я взяла протянутую чашу, поднесла ее к губам.
— Мне видится более энергичный способ скрепить соглашение!
Я снова рассмеялась. Как с ним легко разговаривать, смеяться вместе! И как сильно жаждало мое тело этого закрепления нашего брака! Потом в моем мозгу, уж не знаю почему, всплыла одна мысль.
— Вы делили ложе со многими женщинами? — спросила я напрямик.
— Да, — ответил он, поднося чашу к губам и произнося тост мысленно. — Для вас это так важно?
— Вовсе нет.
— Вам я задавать такой же вопрос не стану.
— Не станете. — Я чуть слышно вздохнула. — Но я была невинной девушкой, когда взошла на ложе Эдуарда. — И тут же пожалела, что вызвала призрак короля в эту комнату. Немного скривила губы. — Простите меня…
— Вам трудно, Алиса, правда? — Он с таким глубоким сочувствием погладил мою руку, что я была тронута до глубины души.
— Да. Нелегко. — А что в жизни давалось мне легко?
— Мы заранее знали, что будет нелегко. Но этот день принадлежит нам, и посторонним вмешиваться мы не позволим.
Мы закрепили свой брачный союз освященным веками способом, на посыпанных лавандой простынях Виндзора — какая у него, однако, толковая домоправительница! А как он заботился о моем удобстве — очень трогательно для старого солдата! И как бережно, с неожиданной нежностью, обращался со мной — до тех пор, пока его не одолело нетерпение и он не принялся раздевать меня так, как будто вел очередную военную кампанию против ирландцев: с огромным коварством и неожиданными атаками, призванными сокрушить любые преграды. Собственно, и преград-то никаких не было — опыта хватало нам обоим. Разве что я была как никогда сдержанной, замкнутой.
— Алиса!.. — Я почувствовала, как напряглись мои мышцы, когда он распустил завязки платья и пробежал пальцами по моему затылку. — Вам можно получать удовольствие.
— Да, я понимаю. Просто…
— Я знаю, что у вас так «просто»… Вы слишком много думаете. Давайте-ка я соблазню не только ваше тело, но и разум. — Губы у него были нежными, дыхание ласкало теплом мое плечо.
— Вы же не знаете поэзии, — удалось мне выговорить, набрав в грудь воздуха, пока он целовал чувствительную кожу пониже уха.
— Зато я знаю, как пользоваться губами для иных целей, нежели произносить бессмысленные сентиментальные строчки. Например, вот так…
Он действовал слишком успешно.
Я не сравнивала его с Эдуардом. Не сравнивала. И не стану. Рядом с нами не было призраков — ни Эдуарда, ни тем более Дженина Перрерса. Что же касается безымянных, безликих духов былых возлюбленных Виндзора, то я не почувствовала, чтобы хоть кто-то из них наступил на подол моего платья, когда он вел меня на ложе. А потом Виндзор заполнил весь мой разум без остатка. Это был новый любовник, по-новому ласкавший меня с таким искусством, что сердце замирало. Любовник, обладавший многочисленными талантами, на постижение которых требовалось время.
Насколько я понимала, такого времени в моем распоряжении не было.
Из практических соображений (которые были крайне необходимы) я озаботилась тем, чтобы предохраниться. Для этой цели я использовала средство, приготовляемое старухами знахарками: свернутым в несколько раз кусочком шерсти, пропитанным кедровой смолой и помещенным туда, где это нужнее всего. Кедровая смола очень пачкается, но это вещь незаменимая. Понести я могла, как всегда, быстро, а Виндзору совершенно не нужно сейчас заиметь от меня ребенка. Не открывали ли мы с ним своим браком ящик Пандоры, из которого могут вырваться неисчислимые опасности и беды? Ребенок сейчас мог бы стать оружием в руках тех, кто желал мне зла. Кроме того, одно я знала совершенно точно: как бы ни осуждали мое поведение другие, Эдуарда необходимо оберегать. Я не стану подсовывать Эдуарду чужого ребенка и не позволю, чтобы короля называли рогоносцем.
А что же Виндзор? Он понял меня и согласился. Мы оба ясно сознавали страшный риск, на который пошли, и ту невероятную осторожность, которую придется проявлять в нашем браке.
После этой брачной ночи я не получила никакого подарка. Меня это не интересовало. Впервые в жизни мне преподнесли подарок, который был куда дороже любых драгоценностей. Я не могла еще подыскать этому дару название, но вполне сознавала его огромную ценность.
Мною овладело удивительное ощущение счастья, оно поселилось в душе, как птица, вернувшаяся в свое гнездо. Плотские утехи разморили меня. А обмен мнениями на равных — ибо разве не были мы равны в своем честолюбии и талантах? — приносил мне невероятную радость. Таким образом, мы наслаждались недолгой идиллией в своем имении Гейнс, вдали от врагов, от придворных интриг, от повседневных забот. Те несколько дней, которые мы сумели урвать для себя, выдались долгими и теплыми, идеальными для любовников.
На это короткое время я сумела изгнать из мыслей все нешуточные тревоги о своем будущем. Перестала беспокоиться, как там поживает без меня Эдуард. Дети же мои находились в безопасности и ни в чем не знали нужды — у меня было достаточно земель, чтобы обеспечить их, когда понадобится. Так отчего мне не посвятить эти несколько дней своим собственным наслаждениям? Когда я могла позволить себе подобное в последний раз? Даже и не припомню. Не чувствуя за собой никакой вины, я погрузилась в удовольствия. С Виндзором мы болтали обо всяких пустяках, которые нередко приходят в голову в постели, и находили в общении друг с другом непреходящую радость и согревающее душу взаимопонимание. Разумеется, мы не допускали к себе ничего из той жизни, которую вели раньше за пределами этого поместья, дабы ничто не омрачило нашего счастья. Мы сидели, беседуя, гуляли, когда было настроение, предавались любви, выезжали верхом на луга, ели и пили в свое удовольствие. И снова предавались любви, словно молодые влюбленные, какими мы не были.
Раскаивалась ли я в своем поспешном решении? Да ни одной минуты!
А Виндзор? Думаю, он тоже ни о чем не жалел.
Когда же мои мысли, как и положено, стали выходить за назначенные мной пределы и обращаться к той, другой жизни, у меня появилось прекрасное утешение, волновавшее меня до глубины души и согревавшее ее подобно мягкому меху в морозное зимнее утро: когда умрет Эдуард, упокой Господи его душу, я не останусь в одиночестве. Рядом со мной будет мужчина, которого я…
Тут мои безмятежные мысли упирались в некую преграду, словно таран в ворота мощной крепости. Меня охватывал безотчетный страх, проникавший до самых глубин моего существа, хоть я и пыталась гнать его прочь. Язык не поворачивался облечь эти мысли в слова, пусть сердце мое так и летело к ним.
Мужчина, к которому я испытывала привязанность. Довольно и этого.
Ласки Виндзора пробудили мое тело и позволили мне так хорошо узнать его, как я и не ожидала. Под этими умелыми ласками не осталось и следа от моей первоначальной сдержанности, и я употребляла все свои умения, чтобы доводить его до дрожи.
— Я же говорил, что вы не станете раскаиваться в своем решении, — шептал он, прижимаясь к моей шее. — Отчего вы никогда не хотите верить моим словам?
— Потому что я знаю ваше коварство. А вы сами, Вилл? Вы не жалеете о своем предложении?
— Я же мечтал о вас с той минуты, когда увидел в первый раз. Просто приходилось ждать.
— Вы рассчитали это загодя.
— Я мастер строить замыслы заблаговременно. И я доволен результатом.
Я ему верила. И тоже была довольна результатом. Мне ничего не хотелось менять. Но вот хотелось ли мне связывать себя подобными признаниями? «Всегда опасно открывать свою душу, как и тело, мужчине, которого знаешь совсем мало и которого подозреваешь в весьма эгоистичных побуждениях». И все же я произнесла:
— Я всем вполне довольна.
И что же я сделала? Я лишила себя этого едва обретенного умиротворения.
Умышленно, по своей воле.
Потому что боялась.
С каждым днем я все глубже проникала в настроения своего нового мужа, училась постигать их по едва заметным признакам, узнавала, чем он интересуется, в каком направлении текут его мысли. Постепенно я узнала, как он заботится обо мне, увидела его нежность, которая порой подрывала мою решимость держать его на некотором расстоянии, почувствовала пламя страсти, которое разгоралось в нем всякий раз, когда мы уединялись за пологом его ложа. На протяжении всего нашего пребывания в сельской глуши я видела и чувствовала горящую в его душе неуемную жажду деятельности — жажду жить, действовать, стремиться к чему-то такому, что находится далеко за пределами нашей опочивальни. Эта жажда деятельности горела в нем ничуть не слабее, чем пламя страсти. Об этом он никогда не говорил. Ни разу ни слова не сказал о том, что ему хочется оказаться где-то подальше от Гейнса. За это я любила его еще больше…
Любила?
Эта мысль зародилась в потаенных уголках моего разума, завладела мною и ошеломила меня. Слишком скоро, слишком неосмотрительно, слишком рискованно. Для чего мне стремиться к обжигающему пламени, которое лишит меня свободы? Этого я боялась больше, чем чумы. Если удастся, я должна бежать от этого чувства.
В конце концов, во мне решительно пробудилась честность, и я уже не могла подавлять голос сердца, но лишь в самых потаенных мыслях осмеливалась я произносить слово «любовь», смакуя каждый его звук. Я так долго скрывала ото всех все свои чувства, что теперь просто не могла обнажить душу перед кем бы то ни было. Я не могла открыться Дженину, которому до самого конца служила лишь своего рода инструментом. И Эдуарду, которого не интересовали тайны моей души. И, видит Бог, я не могла открыть свою ранимую душу Вильяму де Виндзору, который вопреки всем законам природы, кажется, завладел моим сердцем и держал его в своих руках. Ведь если я скажу об этом, разве не возрастет моя слабость перед ним вдвое, втрое, вчетверо? Лучше уж держать язык за зубами. Лучше не давать ему возможности обидеть меня. Он меня не любит, и я не стану вкладывать в его руки оружие, способное глубоко меня ранить.
Так что же я сделала с той идиллией, которой мы наслаждались вместе? Разрушила ее.
Вот железная логика, которой я руководствовалась. Если я ее не разрушу, она сама обрушится и похоронит под обломками всю нежность, которая согревала наши души. Да, сейчас мы получаем огромное удовольствие, но за продолжительное время невероятная сладость нашего рая приведет к тому, что от нее зубы выпадут. Мы не можем слишком долго жить здесь, вдали от двора, где сосредоточены наши честолюбивые помыслы. Виндзор точно не может, а меня призывает чувство долга.
Едва мы вернулись ко двору — порознь, с соблюдением всех обязательных предосторожностей, — я тотчас отправилась к Эдуарду.
— Алиса! Иди сюда, давай сыграем в шахматы…
Он меня узнал, был рад моему приходу, нанес мне поражение, не дав провести хитрую комбинацию коня против слона: он сделал серию тонких ходов, обдумать которые я не могла, потому что была слишком поглощена своими мыслями, — но, мне кажется, он так и остался в убеждении, что я выходила от него не больше чем на два-три часа. Я побеседовала с ним, объяснила, чего хочу от него. Он поступил, как я просила, признал, что я дала ему вполне разумный совет, подписал требуемый документ и приложил к нему печать.
Разум мой ликовал от одержанной победы, а душа рыдала.
Я отнесла полученный документ Виндзору, в его комнату, находившуюся в дальнем крыле дворца, которое соединялось с покоями короля одним длинным переходом. Возможно, я поступала слишком опрометчиво, но я хорошо рассчитала время. Пожалела, что нельзя поступить по-другому, закрыла за собой дверь его комнаты и подала документ на вытянутой руке, не приближаясь. В противном случае я не смогла бы противостоять искушению оказаться в объятиях его сильных рук. А если он меня поцелует… Я бросила документ на стол.
— Вот то, чего вы хотели, Вилл.
Он взял пергамент, пробежал его глазами, лицо осветилось радостью победы — я поняла, что поступила совершенно правильно.
— Ирландия! — воскликнул он.
— Да. Ирландия.
— Наместник короля.
— Очень высокий пост.
— Значит, вы отделаетесь от меня раньше, чем мы думали.
— Именно.
Виндзор аккуратно свернул грамоту и вдруг глубоко задумался — я не сомневалась, что именно так он себя и поведет.
— Это ваших рук дело?
— Нет, — солгала я, не испытывая ни малейших угрызений совести.
— Что же заставило его переменить мнение? — спросил Виндзор, пронизывая меня взглядом.
— Кто может это знать?
Меня так угнетало предстоящее расставание, что я поспешила повернуться к двери, — пусть он сам празднует неожиданный успех.
— Для вас это тяжело? — остановил меня его вопрос.
«Тяжело — уговорить Эдуарда или отпустить тебя?»
Я понимала, что, вопреки моим уверениям, он все равно подозревает о моем участии в свершившемся: за прошедшие дни мы сумели хорошо узнать друг друга.
— Нет, — ответила я ровным голосом. — Эдуарду требуется муж способный и умелый, а не юнец, у которого едва молоко на губах обсохло. Вы же сами говорили, что заменить вас там некому.
— Вы знали, что так оно и выйдет, Алиса.
— Знала.
Мы все еще стояли поодаль друг от друга, но вот Виндзор преодолел разделявшее нас пространство, стал меня целовать, пробуждая во мне уже ставшую привычной ответную страсть, без которой я теперь не могла чувствовать себя счастливой.
— Это как раз то, к чему я стремился, Алиса. — Он что же, думал, я сама этого не знаю? На миг меня опечалило то, что должности в далеком краю он желает сильнее, чем меня, но его следующие слова развеяли эту печаль. — Я буду скучать без вас гораздо более, чем раньше считал возможным скучать по женщине. — Раны мои немного затянулись, я приникла головой к его плечу. Потом он взял меня за подбородок, приподнял и посмотрел мне прямо в глаза. — Я хотел бы спросить, будете ли вы скучать по мне… да только вы все равно в этом не сознаетесь, верно?
— Конечно. Мне нельзя. — Я нахмурилась, ощутив себя меж двух огней, которые сама же и зажгла. А он погладил пальцами складку между моими нахмуренными бровями.
— Отчего это? Вы чувствуете себя виноватой?
— В какой-то мере, — признала я. — Наверное, фаворитка короля не вольна скучать по вам. Наверное, она не вольна дарить свои чувства другим.
— Вы дарите их королю?
— Дружбу. Сострадание. Уважение. Все это вместе. Я не оставлю его, Вилл. Я не вольна уйти отсюда, пока он жив.
Наконец-то Виндзор отложил документ, отнимавший его у меня, и в голосе его зазвучала нежность:
— Ну, тогда у короля нет более верных подданных, чем вы. И все же я утверждаю, что скучать по мне — это ваше право.
— Значит, буду скучать. — Хотя бы это я могла ему сказать, отбросив прочь чувство вины.
— Пишите мне, — проговорил он, ласково целуя меня в лоб.
— С риском, что письмо перехватят?
— А вам нет нужды уверять меня в своей неугасимой любви. Да вы и так не станете писать об этом!
Я тихонько рассмеялась. Мы стали хорошо понимать друг Друга.
— Я буду писать вам.
Мы воспользовались этой нечаянной возможностью побыть вдвоем в скудно меблированной комнате Виндзора. В общем-то, не слишком удобно: предаваясь любви на узкой лежанке, мы оба опасались, что нас застанут. Быстро сняв часть своих одежд, мы торопливо слились в одно целое, не столько от переполнявшей нас страсти, сколько желая подтвердить верность друг другу. И все же я не могла отпустить его, не испытав еще раз этой упоительной близости: кто знает, сколько месяцев пройдет, прежде чем я увижу его снова?
За все это время мы обменялись лишь несколькими словами — о чем было говорить?
— Берегите себя, — прошептал Виндзор.
— Вы тоже.
— Мысленно вы останетесь со мной, Алиса.
— А вы — со мной, Вилл.
Он уехал через неделю. Я не могла словами выразить горечь от этой потери — слишком она была велика. Он обещал, что станет думать обо мне, а на большее я и не рассчитывала. Впервые в жизни я ощутила, что значат слова «разбитое сердце».
«Да какое же оно разбитое? — укоряла я себя за неразумие. — Как оно может быть разбитым, если только ты не любишь Виндзора?» Разумеется, я его не люблю! А что же сам Вильям де Виндзор? Через месяц я получила нежданную весточку от своего далекого супруга. Он кратко описал события в Дублине, а ниже добавил:
Я говорил, что стану скучать по Вам, Алиса, помните? Так вот, я скучаю. Вы принадлежите мне, а я, похоже, принадлежу Вам. Оставайтесь в добром здравии. Мне нужно быть уверенным в том, что Вы благополучно дождетесь моего возвращения, когда бы это ни произошло.
Ничего более поэтичного от Виндзора я не слыхала. Это был дорогой подарок. Ну да, я всплакнула.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Как я могла вести себя так катастрофически недальновидно? Я стала непростительно самодовольной, слепой к тому, что происходит на свете, — это ничем нельзя оправдать, кроме разве одного: спокойное течение событий убаюкало меня, убедило в том, что никаких перемен не предвидится. Так чего бояться? Ничто не предвещало, что эти длинные теплые дни лета 1376 года таят в себе опасность. Эдуард окреп настолько, что сумел организовать турнир и великолепный праздник в Смитфилде, на котором я играла главную роль — Повелительницы Солнца, и вспоминать об этом было очень приятно. Как и о том, что Виндзор обещал скучать по мне.
Для тревог не было ни малейших оснований.
Отчего это мы никогда не замечаем надвигающейся беды, пока она не обрушится на нас подобно зимней буре, внезапно налетающей на мирно спящий берег и несущей с собой гибельные разрушения и бедствия? Я не видела, как сгущаются тучи, но буря разразилась над нашими головами со страшной силой, сметая все на своем пути.
Оглядываясь назад, я теперь понимаю, что и не могла предвидеть этой ужасной бури. Подходило к концу годовое перемирие с Францией, впереди маячила новая война, но время в запасе еще оставалось. Можно было надеяться на продление перемирия. Во всяком случае, ни та, ни другая сторона не спешила начать очередную кровопролитную схватку.
Здоровье Эдуарда колебалось на острие ножа, но все же удерживалось на этой грани. Выпадали добрые дни, в иные же его охватывала меланхолия, которую я не в силах была разогнать, однако смерть к нему пока не приближалась. Если уж говорить правду, то принц Уэльский был куда ближе к ней. Если я хоть что-то понимала в течении его болезни, то саван для него придется шить не позднее чем через год. У Джоанны, обеспокоенной будущим своего сына, нервы были натянуты, как шерсть на веретене неумелой пряхи. Нрав ее, и раньше непредсказуемый, стал невыносимым. Но вот король держался за жизнь, а наследовать ему должен был юный Ричард.
Виндзор находился в Ирландии, переписываться с ним мы могли лишь от случая к случаю, но я твердо верила, что в один прекрасный день он ко мне вернется. Даже себе я не желала признаваться в том, как сильно по нему тоскую.
Весной нового года был созван парламент. Королевской казне требовался значительный приток золота для содержания войска, эта задача оставалась самой важной, а потому необходимо было повысить налоги и тем увеличить поступления средств в казну. В целом не происходило ничего необычного. Даже принц Уэльский собрался с силами и присутствовал на церемонии открытия парламента — рядом с Гонтом и королем. Эта царственная троица выглядела чрезвычайно внушительно в своих багряных одеждах, отороченных мехом горностая и скрывавших то, что жизнь под двумя из них едва теплится.
Джоанна при дворе старалась не появляться, ни о каком колдовстве никто и не упоминал.
Так дни текли своей чередой, началось уже лето 1376 года. Кто мог предвидеть, к чему приведет созыв Эдуардом того трижды проклятого парламента? Не было и намека на близящуюся опасность, когда высшая знать, епископы и депутаты от общин собрались в Расписной палате Вестминстерского дворца, почтительно кланяясь королю и обмениваясь друг с другом официальными улыбками. Никакого непривычного волнения в их рядах не замечалось. Да и с чего бы стали лорды и общины перечить королю? Парламент должен был, как всегда, дать согласие на увеличение поступлений в казну. Депутаты от общин, как им и положено, удалились в зал капитула Вестминстерского аббатства, дабы избрать главу и рассмотреть затем предложения о новом пополнении королевских закромов. Обсуждение обещало быть кратким и результативным.
Черта с два! Ни то, ни другое. Очень скоро мне предстояло об этом узнать.
Гонт, еле сдерживая гнев, распахнул дверь в гостиную короля, где сидела я. Сорвал с себя шляпу и перчатки, плечом оттолкнул Латимера, громко хлопнул дверью и, пройдя через всю комнату, остановился передо мной.
— Где он?
Гонт редко выходил из себя, но сейчас он был в бешенстве. Я смахнула в кучу бумаги, которые изучала до того, сунула их как попало в ящик, где хранились мои перья и чернила, и поднялась со стула. Сердце учащенно забилось от внезапных недобрых предчувствий.
— Король почивает… — Я шагнула к двери в спальню Эдуарда. Он слег от переутомления.
Не в силах сидеть спокойно, Гонт закружил по комнате.
— Общины! Они избрали своим спикером Питера де Ла Мара[87].
— Ах!..
— Де Ла Мара, черт возьми! — Гонт от злости скрипнул зубами. — Вам это имя, разумеется, кое о чем говорит.
Вместо ответа я лишь высоко подняла брови. При дворе абсолютно всем было известно, что не так давно у меня произошло столкновение с одним из де Ла Маров, прискорбный инцидент, которому никто не придал большого значения. Благоразумие подсказывало, что мне тогда не следовало вмешиваться в чужой спор, однако разве можно прислушиваться к голосу благоразумия, если невиновному человеку отказывают в правосудии? Я вмешалась в это дело, которое меня лично никак не затрагивало, и, если говорить откровенно, его результат — по счастью, в мою пользу — принес мне немалое удовлетворение.
— Новый спикер палаты — не друг ни вам, ни мне, — заметил Гонт, туго скрутил портьеру, потом с силой ударил по ней кулаком; смятая портьера бессильно повисла. — И я не знаю точно, кого из нас он ненавидит больше.
— Могу высказать догадку.
В личные покои Эдуарда мало кто рисковал вторгаться незваным, а потому я оставила церемонии и села в кресло — так, чтобы держать в поле зрения нервно расхаживающего по комнате Гонта. Мой недавний противник приходился двоюродным братом этому самому Питеру, которого теперь избрали спикером Палаты общин. То был Томас де Ла Мар, настоятель аббатства Святого Альбана, человек, известный своей начитанностью, но отнюдь не сочувствием и любовью к ближнему. Человек, не склонный искать общий язык с кем бы то ни было.
Столкнулись мы в вопросе о том, кому должно принадлежать крошечное поместье Оксхей. Аббат настаивал на том, что ему, и добился изгнания из поместья настоящего хозяина — Фицджона, жившего там и ранее. И что было делать Фицджону? Прежде чем возвратиться в свое наследственное имение, он сделал ловкий маневр и передал поместье мне. А аббат, уже готовившийся собрать толпу местных жителей и окончательно изгнать Фицджона именем святого Альбана, в последнюю минуту решил, что связываться с Алисой Перрерс ему не стоит.
И каковы же были последствия? Я сохранила поместье за собой, Фицджон получил право жить там до конца дней своих, аббат же неустанно призывал проклятия на мою голову. В конечном итоге все обернулось очень дурно, учитывая, что новый спикер приходился кузеном этому самому аббату.
— И чем нам это грозит? — поинтересовалась я, глядя на свои плотно сжатые пальцы. Они не дрожали — я пока еще не видела никакой реальной опасности. Неужто Гонт не сумеет оказать влияние на новоизбранного главу Палаты общин?
— Большими неприятностями, — прорычал Гонт сквозь стиснутые зубы.
— Какой вред они с аббатом могут нам причинить, — нахмурилась я, — даже если выступят совместными силами?
— Подумайте сами. — Гонт бросился ко мне с другого конца комнаты и вцепился в подлокотники королевского кресла, в котором сидела я, словно поймав меня в ловушку. Его лицо почти вплотную приблизилось к моему. Я увидела свое отражение в его зрачках и постаралась не моргать. — Какому благородному господину служит Питер де Ла Мар?
— Графу Марчу…
— Нужно объяснять дальше?
Гонт отошел от меня к окну, взглянул на небо, хотя — готова поклясться — надвигающихся туч и он не заметил. Да уж, дальше объяснять ничего не нужно было. Просто я сразу не догадалась проследить связи между ними, но теперь мне все стало понятно. Питер де Ла Мар управлял имениями Эдмунда Мортимера, графа Марча — супруга Филиппы, внучки Эдуарда. Графу — маршалу Англии[88] — влияния было не занимать. И он невероятно обрадовался бы, если б его недавно родившийся сын стал следующим монархом Англии.
— И Марч в этом участвует?..
— Ни минуты не сомневаюсь!
— Из-за престолонаследия…
— А как же иначе! Вся эта свора вместе с его высочеством, моим старшим братом, плетет заговор против меня.
Теперь пальцы мои сжались с силой, даже костяшки побелели. Ведь не зря же меня всегда интересовало, насколько верен окажется Гонт законному наследнику английской короны! Гонт между тем обернулся через плечо ко мне, глаза его так и полыхали злостью.
— Это заговор против меня и всех тех, кого я числю в своих друзьях. Хитрый такой маленький заговор, задуманный и направляемый аббатом святого Альбана и принцем Уэльским. Вы знаете, что они вели друг с другом долгие беседы, когда в начале года принц останавливался там по пути из Беркемстеда в Кентербери?
Этого я не знала.
— Принц оказался достаточно здоровым, чтобы нашептывать на ухо аббату всякие хитрости. А вот и результат — Марч, братья де Ла Мар, принц Уэльский сговариваются, как не допустить на трон меня и моих потомков.
Никогда раньше Гонт не высказывал своих честолюбивых замыслов так прямо и ясно. Во всяком случае мне. Думаю, что и другим тоже, потому что такие разговоры вести было небезопасно. По сути, это были бы изменнические разговоры — они ведь касались вопроса наследования престола. Если Ричард умрет, не имея наследника, трон должен перейти по закону к сыну Марча и Филиппы (Филиппа все-таки родила сына, которому теперь было три годика). Не к Гонту. И не к его сыну Генри Болингброку. Хватит ли Гонту честолюбия и коварства, чтобы помешать своему племяннику Ричарду взойти на трон? И помешать малолетнему сыну Марча? Я смотрела, как сжимается его кулак, лежащий на подоконнике, и думала, что он может пойти на это. Впрочем, как знать?..
Какова бы ни была правда, молва уже давно утверждала: принц Уэльский живет в постоянном страхе, что его сын так и не взойдет на престол, если Гонт получит свободу действий. И принц, прикованный к постели, направлял всех союзников, какие у него имелись: братьев де Ла Мар, а теперь еще и Марча, который явно понял, что ему куда выгоднее выступить против Гонта.
Я стала усиленно работать головой. Пока еще мне не было ясно, к чему это все может привести. Разве что новый спикер де Ла Мар попробует использовать единственное оружие, какое у него имеется, чтобы добиться желаемого для него и его дружков-заговорщиков исхода. Теперь мысли потекли яснее. Единственное оружие, которое может наделить его такой силой…
— Так вы полагаете, что Палата общин выделит деньги на ведение войны?.. — Мой вопрос повис в воздухе.
— На определенных условиях. И я готов биться об заклад, что де Ла Мар рассчитал все до последнего, на удивление четко. Богом клянусь, он совершенно точно знает, чего попросит!
— Чего же?
— Я чую опасность. Они готовятся напасть. На меня, на моих сторонников в правительстве. На Латимера и Невиля. На Лайонса. На весь состав министров, потому что это я привел их к власти. Де Ла Мар с Марчем станут плести заговоры и интриги, лишь бы Эдуард прогнал всех до единого, кто связан со мной. Гонта надо оставить в одиночестве — вот чего они хотят добиться. Брат восстает на брата. — Гонт по-волчьи оскалился, взгляд его блеснул, как стальной кинжал. — Они объявят войну и вам, мистрис Перрерс, если только я хоть что-нибудь понимаю в хитроумных замыслах де Ла Мара. Всякую возможность того, что я займу место своего старшего брата, им нужно похоронить, как можно сильнее очернив королевских министров, а заодно и возлюбленную короля. — Он скрестил руки на груди и оперся о каменную кладку. — Я и не знал, что у Марча столько честолюбия. В нем я ошибался. Ему явно хочется оказаться родителем наследника престола.
Родителем наследника? Но это ведь произойдет лишь в том случае, если Ричард умрет… Или Ричарду не обязательно умирать?.. Мысли вились у меня в голове, переплетались, словно паутина, которую плел очень уж беспокойный паук. Марч, да и сам Гонт могут оспорить законность прав Ричарда, упирая на скандальную историю замужества Джоанны. И в таких делах у них уже были когда-то предшественники… Но сейчас я не могла занимать себя подобными раздумьями — имелась опасность куда более важная для меня.
— Вы можете помешать ему? Спикеру де Ла Мару? — спросила я Гонта.
— А что я могу сделать? Палата общин законно избрана и держит в своих руках финансовый кнут, — ответил он таким тоном, словно женщине было не понять даже такой простой вещи. — Дураком я буду выглядеть, если предприму что-нибудь и потерплю неудачу. — Он потер руками лицо, и я только теперь поняла, как сильно он утомлен. — Вы должны рассказать все королю.
— Не стану, — ответила я без промедления и напрямик.
— Но он должен знать об этом.
— Какой в том прок? Коль уж вы ничего не можете сделать, чего же ждать от старика, который уже не лелеет политических замыслов, не ведет переговоров, не мечтает о битвах? Он уже не в силах навязывать кому-то свою королевскую волю. Вы же видели, что он, когда переутомится, становится подобен сосуду, опустошенному до последней капли. Чем он сможет помочь? Возможно, он пригласит де Ла Мара посидеть за кружкой эля и поговорить о том, какова охота в здешних лесах.
— Но он — король. Он должен явиться перед ними и…
— Не может он! — повторила я непреклонно. Постепенно истина доходила до Гонта — я видела это по его лицу, красивому, столь похожему на лицо его отца. — Король только сильнее расстроится.
Гонт швырнул на пол свои измятые перчатки. С минуту глядел на них, словно ожидая совета — как же разрешить назревающий кризис, — потом коротко кивнул мне.
— Да, вы правы, конечно.
— Что вы станете делать? — спросила я, когда он подобрал с пола перчатки и в глубокой задумчивости направился к двери. Услышав мой вопрос, он остановился, раздраженно хлопнул себя перчатками по бедру.
— Сделаю все, что в моих силах, чтобы выдавить из раны яд. Единственное, что радует: принц Уэльский слишком слаб и не сможет лично присутствовать на заседаниях. Возможно, это позволит мне свободнее обращаться со спикером де Ла Маром. Если нам в назревающей потасовке не расквасят нос, можно считать это чудом. Будьте настороже, мистрис Перрерс.
— Буду. И Эдуарда буду охранять как следует.
— В этом я не сомневаюсь. — На мгновение его голос смягчился. — Мне не очень-то хочется это признавать, но вы неизменно заботитесь о нем как следует. — Голос его снова посуровел. — Будем надеяться, что мне удастся убедить принца Уэльского сжалиться над отцом и предоставить ему возможность провести оставшиеся дни жизни в мире и покое.
Он нахлобучил на голову шляпу, натянул перчатки и взялся уже за ручку двери, но мне хотелось задать ему еще один вопрос. Вопрос, на который не решится никто, кроме меня.
— Милорд…
Он остановился, не отпуская дверную ручку.
— Вы хотите, чтобы корона досталась вам?
— Вы задаете мне такой вопрос?
— Отчего же не задать? Подслушать нас некому. А если я вздумаю свидетельствовать против вас, кто поверит хоть одному моему слову?
— Это верно. — По губам его скользнула сардоническая усмешка. — Тогда я вам отвечу: нет. Разве не клялся я защищать мальчика? Ричард — сын моего брата, я люблю его. Поэтому — нет, я не стремлюсь заполучить корону для себя.
В глаза мне Гонт не смотрел. Я не поверила ему. Я ему не доверяла[89].
Но на кого еще могла я надеяться? Никто, кроме него, не поднимет свой голос в мою защиту.
Гонт удалился, предоставив мне самой распутывать клубок его предостережений. Значит, за происками Палаты общин стоит принц Уэльский, который стремится не допустить на трон своего брата. И его люди не оставят в покое ни единого друга или союзника Гонта. Не избежать этой опасности и мне — я ведь так и не сумела навести мосты к принцу, хотя, наверное, совершенно зря убедила себя в невозможности примирения с Джоанной. Можно ли было оставить без внимания проклятия, которыми она меня осыпала? Я вспомнила, какой злобой она кипела, когда я принесла ей целебные травы, как разломала она красивую шкатулку. Нет, принц смотрит на меня глазами своей жены: как на шлюху, которая заботится лишь о своей выгоде.
В моих ли силах выдавить яд, как метко выразился на этот счет Гонт? В голову не приходило ничего путного. Эдуарду уже не хватит сил выступить перед парламентом и потребовать повиновения, как бывало когда-то. А деньги ему крайне необходимы. И какую цену потребует де Ла Мар за то, чтобы помочь отвести неминуемую французскую угрозу? Внезапно меня охватил страх, он нашептывал мне на ухо слова, стрекотал, как давно почившая проклятая обезьянка Джоанны: «Будьте настороже, мистрис Перрерс!»
Я подумала было написать Виндзору, но быстро отказалась от этого намерения, даже не взявшись толком за перо. Что я могу ему сообщить? Пока на мою голову не падет удар, с его стороны мне помощи ждать незачем. Это еще — если удар падет. Уверенности не было ни в чем. Мне стало зябко. Остается лишь надеяться, что острое лезвие минует меня и обрушится на кого-то другого.
В последовавшие за предостережением Гонта дни я почти не покидала Эдуарда, настороженно ждала вестей с заседаний парламента, а имя Питера де Ла Мара не шло у меня из головы, являясь по ночам в кошмарных видениях. Я тщательно обдумала каждую мелочь из того, что знала о нем. Ни Эдуард, ни принц Уэльский больше не посещали заседания парламента, и это бремя легло на плечи Гонта, который пытался ограничить власть де Ла Мара, — Гонт настаивал на том, чтобы на заседания лордов в Белую палату дворца являлось не более двенадцати членов Палаты общин. Де Ла Мар вознегодовал на тон этого приказа и заупрямился. Он демонстративно привел с собой свыше ста полномочных членов Палаты общин, и они встали за его спиной, когда их спикер начал излагать свое мнение лордам и епископам, заседавшим в Расписной палате[90].
Тем самым он показал бессилие Гонта, а в меня вселил страх Божий. Возможно, де Ла Мар вел рискованную игру, бросая небывалый вызов королевской власти, да только я не рискнула бы поставить на то, что он непременно проиграет.
«Ах, Виндзор! Как жаль, что тебя нет здесь, в Вестминстере. Тогда я не тряслась бы от страха».
Ну что ж, я должна сражаться в одиночку.
Гонт беспощадно и очень наглядно описывал мне то, что происходило в парламенте. Бум! Кулак спикера де Ла Мара с грохотом опустился на полированную доску трибуны. Бум! Бум! И так всякий раз, когда он выдвигал новое требование. Куда подевались средства, выделенные прошлым парламентом? Прошлогодние военные кампании стоили дорого, но все провалились, одна за другой. Больше денег не будет, пока дела не пойдут на лад. Затем мягкая маслянистая улыбка. Вот если король готов пойти на некоторые уступки… Тогда возможно прийти к взаимопониманию…
О, де Ла Мара отлично натаскали!
Должен быть учрежден Совет Двенадцати — одобренных лиц! Одобренных кем, Боже правый? Из числа людей знатных и известных высокой нравственностью — они будут обсуждать с королем все финансовые дела[91]. Не должно впредь быть такого, чтобы честолюбивые и эгоистичные стяжатели устраивали свои шабаши (особое словцо, которое больно ударило по моим натянутым нервам), стараясь толкнуть короля на непродуманные политические шаги, которые лишь вредят государству.
А те люди, что приближены к королю сейчас? Что можно сказать о них?
Продажные душонки, все до единого — ни о королевстве они не радеют, ни о выгодах Англии, неистовствовал де Ла Мар. Разве не подобны они стае стервятников, что запускают свои когти в королевскую казну ради наполнения собственных кошельков? Всех их необходимо отстранить от должностей, лишить власти и неправедно нажитых богатств, покарать за злоупотребления.
А что будет, когда парламент — когда де Ла Мар — получит удовлетворение в отношении этих злодеев? Ну, вот тогда Палата общин готова будет рассмотреть вопрос об ассигновании средств на войну с Францией. Тогда и только тогда.
— Они что, мнят себе королями и принцами Англии? — бушевал Гонт, бессильный что-то изменить. — Откуда в них столько гордыни и самомнения? Они разве не отдают себе отчета в размерах моей власти?
— Нет у вас никакой власти, пока парламент держит завязки от кошелька в своих руках, — ответила я. С каждым днем, пока мы ждали, чем все закончится, у меня сильнее и сильнее сосало под ложечкой от страха.
И развязка наступила.
Из числа друзей Гонта они выбрали себе в жертвы Латимера, Лайонса и Невиля. В чем их обвиняли? Как ни смешно, но де Ла Мар и его подручные провели на редкость скрупулезное следствие. Они выдвинули не одно, не десяток, а целых шестьдесят обвинений: взятки и злоупотребление властью, ростовщичество и хищение средств из казны, растраты, подделка документов, торговля доходными должностями… И так далее, и тому подобное. Мне принесли копию этих обвинений, и я читала с нарастающим страхом: де Ла Мар жаждал крови, он не успокоится, пока не изведет своих противников под корень.
Когда его мотивы стали видны яснее ясного, словно брошенная в воду серебряная монетка, я разорвала бумагу пополам. Дело было вовсе не в том, виновны ли поименованные в ней люди. Все дело было лишь в том, что они являли собой ядро правительства, узкую группу вельмож, решавшую, кого допустить к королю, а кого нет. Мы с Латимером пользовались этим ради того, чтобы оградить слабеющего на глазах монарха, но для де Ла Мара это было вопиющее злоупотребление, которое следовало выжечь каленым железом и смыть кровью. Какое было ему дело до того, что Латимер — настоящий английский герой, покрывший себя неувядаемой славой в сражении при Креси? Или до того, что много лет он исключительно толково управлял всем двором Эдуарда? Латимер и его товарищи были людьми Гонта, а де Ла Мара пьянило сознание своей власти, он не угомонится, пока не добьется своего. Гонт ничего не мог поделать.
Пока длились все эти злобные нападки на его министров, Эдуард ни о чем даже не догадывался.
Я ведь не сидела сложа руки. Старалась, чтобы все это безобразие не потревожило Эдуарда, который день ото дня все больше терял связь с окружающим миром. И мне бы это удалось (я всех приближенных заставила поклясться хранить все дело в тайне), если б не один чрезмерно усердный рыцарь, прислуживавший королю. Он был другом Латимера и Лайонса, он умолял короля о заступничестве.
Я отругала его, но дело было уже сделано. Дальше хранить что-либо в секрете стало бесполезно.
— Они не пойдут на это, Эдуард, — пыталась я успокоить его. Отстранение от должностей. Заключение в темницу. Обсуждалась даже возможность казни Латимера и Невиля.
— Откуда нам знать? — Эдуард вцепился пальцами в свою мантию, вырывая из нее клочки меха. Если бы он все еще был способен метаться по комнате, он так бы и сделал. Если бы у него достало сил отправиться в Вестминстер, он бы уже был там, лицом к лицу с де Ла Маром. Но вместо того он лишь заливался бессильными слезами.
— Их стрелы направлены не против вас! — снова уговаривала я короля. — Вам они зла не причинят, вы — король. Они остаются вашими верноподданными.
— Почему же тогда они отказывают мне в средствах? Хотят поставить меня на колени! — Успокоить его никак не удавалось.
— Гонт держит все в своих руках, — сказала я и стала убеждать его сделать хоть глоточек эля, но Эдуард оттолкнул мою руку.
— Нехорошо, что парламент нападает на моих министров… — Понимал ли он, что и я не защищена от таких же нападок? Должно быть, не понимал. Разумом, который уже осаждали всевозможные болезненные видения, он не мог постичь замыслов де Ла Мара в полном объеме. Я ласково взяла Эдуарда за ледяную руку, согрела ее в своих ладонях. — Я хочу повидаться с принцем Уэльским… — объявил он, вырывая у меня руку.
— Он нездоров и не в силах явиться на ваш зов.
— Мне нужно с ним посоветоваться. — Король не собирался отступать, отчаянно пытаясь подняться из кресла. Я вздохнула. — Я хочу сегодня же поехать к нему, Алиса…
— Раз так, поедете…
Я не смогла удержать его, поэтому постаралась облегчить, насколько возможно, эту поездку в Кеннингтон. Сама я с ним не поехала: теплый прием меня там не ждет, зачем же добавлять Эдуарду огорчений, если между мной и Джоанной произойдет новая бурная стычка? Я лишь молилась о том, чтобы принц успокоил своего отца лучше, нежели удалось мне.
Сама же я делала распоряжения на случай возможных серьезных неприятностей. Уже нельзя было убаюкивать себя иллюзиями, будто Латимеру, Лайонсу и Невилю удастся ускользнуть от парламента безнаказанными. А когда падут они…
Мое имя в обвинительных речах де Ла Мара пока не упоминалось. Пока — но рано или поздно это случится. Я не сомневалась, что час расплаты придет и для меня. Я велела отвезти меня по Темзе в Палленсвик: мера предосторожности, чтобы оказаться подальше от Вестминстера. В данном случае осмотрительность была самой лучшей линией поведения. А как это скажется на слабеющем разуме, да и на телесном здоровье Эдуарда — если вдруг исчезнет привычный и надежный центр его нынешней жизни? Возможность посетить Палленсвик, самое любимое из всех моих имений, вновь побыть с моими девочками впервые не наполняла меня радостью. Над головой неотступно висела черная туча, созданная стараниями де Ла Мара.
«Грозовые тучи. Вороны — вещуньи грозы».
Эти слова, сказанные Виндзором в момент озарения, вспомнились мне сейчас. Надо мной тучей нависло предчувствие роковых бедствий.
Шли дни, приносившие все новые зловещие предчувствия, и я начинала дрожать от страха. Даже находясь вдали от двора, разве могла я не замечать грядущих опасностей, навостривших на меня зубы, словно сорвавшийся с поводка алаунт? Мне не требовались услуги предсказателя или моего лекаря, который тоже неплохо умел истолковывать знамения. Я сама, напряженно затаившись в Палленсвике, видела эти знамения, и нервы у меня натягивались все туже. Как странно! У ног моих безмятежно спала Отважная, видя в сладких снах кроликов и мышей. В сундуке на втором этаже лежал забытый кинжал, подаренный мне Виндзором. Опасность, грозившая мне, исходила не от затаившегося с кинжалом убийцы, а от тяжелой руки закона.
Три королевских министра предстали перед судом — по упрощенной процедуре, без участия присяжных, — их отстранили от занимаемых должностей, а равно лишили всего имущества. Приговорили к заключению в тюрьму, поскольку требования смертной казни затихли: даже сам де Ла Мар не смог представить никаких доказательств их измены. Эти люди не совершили измены против короля и государства, если не считать изменой, разумеется, приобретение лишнего кошелька с золотом, а если считать, то казнить нужно было поголовно всех государственных чиновников. Заключение их в тюрьму было сочтено справедливым наказанием. Вот и награда за службу королю, вот и цена, которую пришлось уплатить Латимеру, Невилю и Лайонсу за свои связи с Джоном Гонтом и Алисой Перрерс!
Пресвятая Дева! Неужто я — следующая жертва? Гонту, сыну короля, ничто не грозило, а вот фаворитка короля — это подходящая мишень. И я могла закончить свои дни в темнице.
Мыслями я снова — как часто в те дни — обратилась к Ирландии.
Знал ли Виндзор о моих горестях? Глупо, конечно, но мне нравилось мечтать о том, как он скачет мне на помощь. Делать этого он, разумеется, не станет, да и находится слишком далеко, чтобы протянуть мне руку помощи. Я отогнала от себя сладкое видение: вот он заключает меня в объятия, вот он защищает меня от нападения. Слишком больно было мечтать об этом, когда у меня самой в руках не было для защиты никакого оружия. Эдуарду я дала все, что только могла: молодость, тело, детей. Неколебимую верность. А теперь осталась совсем одна.
Потом, как неизбежно должно было произойти, мне доставили бумагу со зловещей красной печатью. Пришлось сесть, потому что ноги отказывались меня держать, и я прочитала адресованные мне обвинения де Ла Мара. Когда я пыталась постичь их невероятное количество, боль запульсировала у меня в висках. Что же такого они сочинили, дабы лишить меня возможности жить на свободе?
Ах!.. Боль стала тише, стоило мне прочитать первое из обвинений. И дышать стало легче. Этого обвинения следовало ожидать, ничего способного сбить меня с толку и повергнуть в ужас. На это я смогу им ответить. Смогу защитить себя. Это, в конце концов, не так уж и страшно…
«Ежегодно изымала из королевской казны по три тысячи фунтов в свою пользу».
Откуда они взяли эту цифру? Кроме того, что дарил мне Эдуард, никаких других денег я не получала. Ничего не украла. А король имеет право делать подарки любому, кому сочтет необходимым, если же я и занимала деньги на покупку того или иного имения либо прав на повинности, это всегда делалось с согласия самого Эдуарда. Кроме поместий в Хитчине и Пламптон-Энде, купленных мною в том же 1376 году, когда Эдуард унесся разумом в неведомые дали. И все займы я неизменно возвращала — ну, хотя бы по большей части… Если чего и недоплатила по недосмотру, пусть парламент признает меня виновной в мошенничестве или хищении по этим двум пунктам.
«Присвоила себе драгоценности королевы Филиппы. Носит их открыто. Бесстыдно демонстрирует свою порочную связь с королем».
Да, ношу. Да, у меня нет стыда. Разве не Эдуард дал мне эти украшения? Здесь нет ничего противозаконного. Я продолжила читать.
«Не дает королю возможности общаться с его народом. Она — единственная, кто оказывает влияние на короля, а потому способна присвоить себе все его деньги и всю власть».
Это правда. Я оберегала его от людей, я защищала его. Если это преступление, я готова за него отвечать, но это тоже не измена.
А! Вот обвинение, в котором они не просто оскаливают зубы. Сердце опять забилось часто-часто.
«Пользовалась королевским судом в целях приобретения земельных владений. Имела наглость заседать вместе с судьями, оказывая влияние на их решения по имущественным спорам — в свою пользу».
Да, было такое. Если бы я была мужчиной и стремилась всеми силами отстоять свои интересы в суде, никто меня бы ни в чем не обвинил. Неужели это преступление? Или меня хотят наказать за то, что я преступила границы дозволенного для моего пола? Я сразу же вспомнила, о чем предупреждал меня Виндзор. Да, меня хотят покарать за то, что я вышла за рамки, установленные для женщины, — но и это не измена.
Я снова немного успокоилась. Ничего у них не выйдет! Не успеет закончиться этот год, как обязательно случится какой-нибудь новый скандал, который вызовет гнев парламента. И не нужно беспокоить Эдуарда, ибо выдвинутые против меня обвинения — это пустые угрозы, которые ничего не стоят. Успокоенная такой логикой, я возвратилась в Вестминстер и оттуда, почувствовав себя способной мыслить здраво, несмотря на начавшуюся июньскую жару, написала письмо Виндзору.
Мне жаль Латимера с Лайонсом и Невилем, которые томятся в тюрьме. Помочь я им ничем не могу. Гонт в бешенстве. Эдуард безутешен, причину чего Вы скоро сами узнаете. Де Ла Мар злится, оттого что не может найти никаких доказательств моей измены. Полагаю, им придется принять это и отпустить меня с миром.
Вам незачем тревожиться о моей безопасности.
В последнее время я очень жалею, что Вас нет рядом.
«Эдуард безутешен», — написала я в письме. Не мои неприятности огорчили его, потому что я ничего не сказала ему о выдвинутых против меня обвинениях. Как можно? Он не в силах был перенести потерю любимого сына.
Принц Уэльский умер.
В последние дни жизни старшего сына короля я была рядом с Эдуардом, как и многие другие лондонцы и жители дальних мест, пришедшие оплакать кончину великого воителя, сраженного до срока. Он лежал в Вестминстерском дворце, то приходя в сознание, то снова начиная бредить, а множество людей — женщины рядом с мужчинами — толпились поблизости, не скрывая слез. Джоанна неподвижно застыла у смертного одра мужа — от горя она не способна была даже плакать.
Я не оплакивала принца, но плакала от жалости к Эдуарду, ибо на него ведь легло это бремя — присутствовать при кончине своего первородного сына, самого любимого из всех, того, в ком он видел надежду на будущее и твердого защитника Англии. А какие надежды мог Эдуард возлагать на Ричарда, девятилетнего ребенка, которого привели в опочивальню, пропитанную духом смерти, чтобы он простился с отцом и был провозглашен наследником английского престола? И вот теперь принц ненадолго выныривал из забытья, чтобы тут же провалиться в него снова, страшная боль жестоко искажала его благородные черты, а Эдуард неотлучно находился при нем и с посеревшим лицом наблюдал предсмертную агонию — это горе было чрезмерным для ослабевшего телом и духом короля.
Когда все было кончено, Эдуард, опираясь на меня и поминутно спотыкаясь, возвратился в свои покои и лег там, не шевелясь, ничего не видя, словно смерть старшего из принцев отняла частицу жизни и у самого короля. Я до поздней ночи просидела у его ложа, придя к твердому решению ничего не сообщать ему о тех нападках, которым подвергает меня парламент. Я изо всех сил старалась убедить себя, что Палата общин удовлетворила свою жажду крови, растерзав Латимера и Лайонса. Улики против меня были слишком слабыми, вот меня и оставят в покое, не видя смысла тратить на меня силы понапрасну.
Какое глубокое заблуждение! Если де Ла Мару нужны были доказательства чего бы то ни было, он был готов добыть их волшебством хоть из золы и пепла. Мне следовало и самой понять, что уж меня-то он в покое не оставит. Впрочем, если бы я и поняла это еще тогда, разве смогла бы хоть что-то изменить?
Вскоре мне предстояло увидеть всю низость падения, до которой мог дойти де Ла Мар в своем стремлении отомстить мне.
Мы переехали в замок Шин: там были превосходные угодья для охоты, красивые прохладные дворики, крытые черепицей, окна, сиявшие новенькими стеклами, — и я надеялась, что все эти удовольствия помогут Эдуарду хоть немного взбодриться. Приехал Уикхем, который снова вернулся на высоты мирской власти — его назначили одним из двенадцати благонравных мудрецов, призванных заменить королю продажных министров. Одновременно с ним прибыла депутация лондонского купечества, чтобы повергнуть к стопам короля свою жалобу. Они горько сетовали на то, что Лондоне процветают разбой и всяческие беззакония, и настаивали на том, чтобы король их выслушал, хотя мне очень хотелось отослать их ни с чем. Им давно уже разрешили прислать депутацию, вот они и приехали предстать перед королем и умолять его о заступничестве. Признавая правоту их обращения, а возможно, и не желая давать лишний повод для злопыхательства спикеру де Ла Мару, чье ядовитое дыхание постоянно ощущала своей спиной, я допустила их к королю. Да, пока мне удалось избежать новых нападок спикера, но зачем же подливать масло в разведенный им огонь, не позволяя подданным видеть Эдуарда? Мы постарались сделать все возможное, чтобы король выглядел получше. Купцов допустили не в аудиенц-залу, а в небольшую палату, куда короля привели заблаговременно.
Депутаты Лондона склонились перед ним. Эдуард не ответил им на это ни единым жестом.
«Прости меня, Эдуард! Прости!» Я с трудом не расплакалась над ним снова. Как часто в те дни слезы подступали к моим глазам, хотя прежде они почти всегда были совершенно сухими! Мог ли де Ла Мар, проявив (вопреки своему характеру) сострадание к королю, не признать, что я имела все основания держать короля подальше от взоров его подданных?
Мы нарядили короля в атлас и парчу, привязали к трону, чтобы хоть издалека он выглядел, как обычно, гордым и торжественным, но вместо живого человека на королевском троне, похоже, восседала статуя. Король слушал с отрешенным взором, как купцы взывают к нему, сетуя на то, что под угрозой находится мир в королевстве. А когда они стали перечислять подробности: бесчинства толпы на улицах, произвол, чинимый воинами Джона Гонта, бесстыдное нападение на самого лондонского епископа[92], — Эдуард, ничего не понимая в происходящем, пробормотал несколько бессвязных слов, которых никто толком не расслышал, а тем более не понял.
— Это издевательство, — еле слышно проговорил мне на ухо Уикхем, который вместе со мной стоял чуть поодаль от трона.
— Но я вынуждена была это допустить.
— Отчего?
— Да оттого что де Ла Мар обвиняет меня в попытках оградить короля от общения с народом — и Бог свидетель, он говорит чистую правду! Именно это я и делаю, — сказала я с нарастающим отчаянием в голосе. — Вы же сами видите почему…
— Вижу… — Уикхем снова взглянул туда, где изваянием на троне застыл Эдуард. — Такое нельзя показывать простолюдинам.
— Как нельзя и короля подвергать подобному унижению, — согласилась я — резче, чем хотелось бы. — Выставлять его напоказ в таком виде — это… — Тут я припомнила свой спор с Виндзором по этому же поводу и вдруг почувствовала себя страшно утомленной.
— …это жестоко, — со вздохом закончил мою мысль Уикхем.
Один из рыцарей, стоявших у трона, взял Эдуарда за плечо и заставил его выпрямиться.
— Прекратите эту комедию, Алиса… — пробормотал Уикхем. — Нельзя, чтобы так продолжалось дальше.
Депутация застыла в нерешительности, лица выражали ужас пополам с жалостью, и я поспешила выступить вперед.
— Аудиенция окончена, джентльмены… — Купцы с поклонами вышли из залы, на что Эдуард так и не отреагировал, а я прикоснулась к его руке, но он и на это не отозвался. — Отведите короля в опочивальню, — велела я рыцарям. — Сейчас я к нему приду.
— Сомневаюсь, что он об этом узнает. Я не подозревал, что он сдает так быстро, — грустно проговорил Уикхем.
— Все дело в смерти принца.
— Воистину прискорбно, Бог свидетель.
— И даже более того… — Я отвела глаза от рыцарей, которые подняли Эдуарда с трона и увели его, спотыкающегося, из залы. — Так зачем же вы приехали сюда, Уикхем? Надеюсь, вы привезли добрые вести. — Теперь я разглядела выражение его лица и могла бы не говорить о своих надеждах.
— Увы, нет.
— Так рассказывайте же. Хуже того, что мы с вами только что видели, уже не будет.
— Боюсь, что будет, мистрис. Давайте пойдем куда-нибудь, где вы сможете дать волю чувствам.
— Чувствам?
— Ну, может быть, вам захочется запустить чем-нибудь в стену!
Страх холодной волной прокатился у меня по спине.
— Думаю, вам следует знать, мистрис, что именно говорит де Ла Мар, возбуждая против вас Палату общин.
— Что еще? — У меня не было никакого настроения разгадывать загадки. — Что я спрятала все королевские драгоценности, в том числе и корону Эдуарда, в тайнике, чтобы обеспечить себя на старости лет?
— Куда хуже. — Уикхем дождался, пока мы окажемся вдали от посторонних ушей, и перешел на шепот. — Де Ла Мар упоминает некромантию.
Я резко остановилась на месте, вцепившись в руку Уикхема. Некромантия? Колдовство!
Это было настолько нелепым, что я, кажется, даже рассмеялась, но почти сразу в горле пересохло, а мысли пошли кувырком. Сейчас уже не до смеха. Никто не мог обвинить меня в некромантии… разве что… Джоанна с ее воплями из-за той шкатулки с лекарствами! Но как ее сказанные в запальчивости слова могут быть связаны с новыми нападками де Ла Мара? Всякая добропорядочная хозяйка дома могла бы приготовить те самые снадобья.
— Не может быть, чтобы он выдвигал такие обвинения! — воскликнула я.
— Быть может, мистрис, вы сперва выслушаете меня?
Я отвела его в сад, где мы могли прогуливаться или сидеть, не опасаясь, что нас подслушают. Конечно, посторонним взглядам могло показаться странным, что фаворитка короля беседует с епископом Винчестерским, однако в сложившихся обстоятельствах они могли решить, что у меня возникла острая потребность исповедаться.
Только исповеди мне сейчас и не хватало!
— Я не какая-нибудь ведьма! — с горячностью воскликнула я, едва мы оказались в полном одиночестве, если не считать пчел, собиравших нектар с цветков лаванды и тимьяна.
— А вот лекарь ваш утверждает обратное!
Мой лекарь? Отец Освальд, умный и смиренный бенедиктинский монах, который уже много лет заботился о моем здоровье. Я считала его безукоризненно верным человеком.
— Что же он говорит? — Я лихорадочно пыталась догадаться, что именно могут вменить мне в вину как доказательства общения с дьяволом. Да, я готовила для фрейлин безобидные «приворотные зелья» — так это когда было! В далеком прошлом остались и те снадобья, которые я готовила, чтобы умерить боли, мучившие Филиппу. Никаким колдовством здесь и не пахло. Да и откуда отцу Освальду было знать о том?
— Вашего лекаря подвергли… э-э… некоторому давлению… чтобы он рассказал то, что ему известно. — Уикхем явно знал, о чем говорит. — И обвинения полились из него, как вешние воды в разгар половодья.
— Его пытали?
— Насколько мне известно, да.
Дело приобретало опасный оборот. Сколько раз уже бывало так, что женщину, которая кому-то мешает, обвиняли в сговоре с дьяволом, а затем подвергали смерти через утопление либо от нестерпимых мук на костре… Я сильно вздрогнула, хотя на дорожках между клумбами было очень тепло.
— Я не ведьма, — упрямо повторила я.
— Тогда позвольте поведать вам, мистрис, какие на этот счет ходят слухи.
Уикхем увлек меня дальше по дорожке, пока мы не дошли до самой середины сада и не оказались по обе стороны от солнечных часов, глядя друг на друга. Повторялась старая как мир история, которую излагали с замечательной (и пугающей) точностью. Среди залитых солнцем лужаек и клумб стояли блудница и священник, а я ощущала, как на мне готова сомкнуться зубастая пасть смерти.
— Итак, позвольте мне просветить вас, чтобы не осталось никаких сомнений, — сухо начал Уикхем, суровое лицо которого не было лишено сочувствия ко мне. — Если удастся, они постараются затравить вас до смерти, Алиса. — Уикхем умел облекать мысли в слова — вероятно, потому, что так долго читал проповеди осужденным.
— Откуда они добывают улики? — поинтересовалась я.
— От Джона де Ла Мара, брата спикера — вы подумайте, какое совпадение! — быстро объяснил Уикхем. — Он побывал в Палленсвике, прихватив с собой ночной горшок с мочой. Просил, чтобы помогли определить болезнь, которая ему досаждает, — и ваш лекарь, будучи человеком благочестивым и милосердным, согласился.
— Отец Освальд всегда отличался поразительным легковерием! — заметила я с раздражением. — Он что, ничего не заподозрил?
— Вероятно, ничего. Его привезли в Лондон и подвергли допросу. У меня нет сомнений, что к нему применили пытку. — Уикхем проследил за щеглами, перепархивавшими с куста на куст. — Ваш замечательный лекарь сознался в самых разнообразных действиях, каковые производил по вашему наущению.
— В последний раз он готовил мне мазь, потому что я обморозила руки.
— Дело куда хуже, — мрачно хмыкнул Уикхем. — Мало-помалу стали утверждать, что вы сами были там, в Палленсвике. И что вы побледнели, когда увидели, как арестовали вашего сообщника.
— Бог свидетель! Меня там не было!
— Думаю, Бог к этому не имеет никакого отношения, скорее уж дьявол. Это ваш лекарь утверждает, если ему верить, конечно.
Уикхем прищелкнул пальцами, а я стала обдумывать то, что мне вменяли теперь в вину, — это уже куда серьезнее, чем хищения или мошенничество. Казалось, эти обвинения пропитали самый воздух в очаровательном саду душной вонью некромантии. Все это ложь, конечно. И доказать ничего невозможно, только вот показания отца Освальда роют мне могилу.
— Лекарь ваш утверждает, что по вашему приказу он изготовил две фигурки — вашу собственную и его величества — и связал их вместе, чтобы вы и в жизни оказались связаны неразрывными узами. Отсюда и страсть Эдуарда к вам. Это не я придумал — это они так утверждают. Далее, ваш лекарь изготовил для вас два кольца с колдовскими свойствами, а вы надели их на пальцы Эдуарду. Одно освежает память короля, чтобы вы неизменно были на первом месте в его мыслях. Другое же вынуждает его позабыть обо всех, кроме вас самой. Еще же он готовил приворотные зелья, собирая травы для них в полнолуние, — опять же по вашей просьбе, чтобы приворожить короля. — Он сделал паузу, внимательно глядя на меня. — Похоже, дел у вас хватало, мистрис Перрерс.
— А то нет? И вы всему этому верите?
— Кроме того, — пожал плечами Уикхем, — он признался, что готовил для вас колдовское зелье, дабы вы могли чаровать Гонта и принца Уэльского своей корысти ради.
— Что, обоих? — прохрипела я.
— Да.
— Немного же чести от этого отцу Освальду. — Я и не знала, смеяться мне или рыдать от чудовищной нелепости обвинений. — В попытках склонить принца Уэльского на свою сторону я потерпела полное поражение, а Гонт — союзник непредсказуемый и ненадежный, им движет только стремление достичь собственных целей.
Мы помолчали. Швыряться мне было совершенно нечем.
— Спикер выжимает из этого все, что только можно, — подвел итог Уикхем.
— Конечно, а как же иначе? — Я попыталась вычислить следующий маневр в этом сражении, потому что, без сомнения, это и была битва не на жизнь, а на смерть. — И что же сделали с моим несчастным лекарем?
— Его в плачевном состоянии отправили назад, в аббатство Святого Альбана, чтобы с ним там разобрались его непосредственные наставники. Он им больше не нужен, мистрис. Им нужны вы. — Уикхем холодным взглядом посмотрел мне в глаза. Я ждала, когда он начнет порицать меня, но не дождалась. Значит…
— Вы были так добры, что сообщили мне обо всем, — сказала я, поглядывая на сверкающие металлом солнечные часы, отмеривающие минуты нашей беседы. А мне казалось, что прошло уже много часов с того мига, когда Уикхем впервые произнес слово «некромантия» и мой мир превратился в царство страха. Но тень от часов едва успела чуть сдвинуться за это время, а теперь набежали тучки и закрыли солнце. — Однако вы так и не сказали, верите вы сами этим обвинениям или нет.
— Грех алчности — возможно. Грех гордыни — наверняка…
— Ах, Уикхем!.. — Он что, станет перечислять все мои прегрешения?
— Но колдовство? Нет, не верю. Думаю, вы очень сильно любите короля. Сомневаюсь, чтобы вы решились так или иначе причинить ему вред.
— Ну спасибо. Вы — один из очень немногих. — Его слова немного утешили меня, но не слишком-то. Мы медленно зашагали назад, к дворцу, подгоняемые легким ветерком, который предвещал дождь. Итак, речь шла о гнусных выдумках худшего сорта, предназначенных для того, чтобы очернить меня до крайности. Я остановилась, не обращая внимания на первые крупные капли, упавшие с неба.
— Меня признают виновной? — Уикхем колебался с ответом, и я добавила: — Не нужно смягчать ответ. Скажите то, что думаете сами!
— У меня и в мыслях не было скрывать правду. Думаю, признают. Спикер сейчас напоминает гончую, которую науськали на добычу. — Я невольно попятилась. Пресвятая Дева, епископ и впрямь говорит то, что думает! — Самоуверенность де Ла Мара взлетела до небес после того, как он сумел заполучить Латимера и Лайонса. Всякий раз, когда я с ним встречаюсь, мне трудно не заметить в нем грех непомерной гордыни. Чтоб его черт побрал!
— Боже, сколько выражений, не подобающих духовному лицу! — слабо улыбнулась я. — И каково же будет наказание, если они докажут свое? Смерть?
— Вряд ли, — ответил Уикхем после некоторого раздумья. — Скорее всего покаяние и строгий пост: вы же никого не убили. В худшем случае — заточение.
— Тогда я буду готовиться к худшему, — сказала я, совсем не чувствуя на лице капель начавшегося дождя. — Не думаю, что де Ла Мар удовлетворится тем, что я несколько раз не пообедаю и прочту «Отче наш». — Мысль о заточении в темнице меня весьма пугала, и я пока изгнала ее из своих мыслей. — Что же мне делать, Уикхем?
— Вы можете найти убежище в Палленсвике.
Мне стало не по себе от того, что он этим подразумевал: попытка защититься от обвинений — не более чем пустая трата сил и времени. Но бежать?
— Нет, — ответила я не раздумывая. — Не могу. Вы же видели короля. Я нужна ему.
— Тогда оставайтесь здесь и ничего не предпринимайте. Ждите, вот и все. Быть может, спикер откажется от своего намерения…
— …если найдет против меня еще худшие обвинения, — закончила я фразу, которую он не решался договорить.
— А в чем дело? — впился в меня взглядом Уикхем. — Что вы еще натворили?
Я молча покачала головой и устремила взор вдаль, за деревья сада, которые теперь раскачивались под порывами ветра. Была одна тайна, и я молилась, чтобы она осталась сокрытой от глаз людских еще хоть немного. Иначе она принесет Эдуарду слишком много горя.
А если она все же откроется?
Вернувшись в свою комнату, чтобы сменить перепачканные юбки, я швырнула в стену красивый кувшинчик и тут же пожалела: никакого облегчения это мне не принесло, а служанке пришлось убирать последствия моего дурного настроения.
После отъезда Уикхема я вернулась к Эдуарду, в большую палату его личных покоев. Парадные облачения из золотой парчи с него сняли и аккуратно сложили, и на короле была сейчас домашняя одежда — ярко-алая, отороченная мехом, странно не соответствовавшая той высохшей фигуре, которую она облекала. Устроившись перед камином (он все время мерз, даже в самые теплые дни), он спал в высоком кресле, уронив голову на грудь; рядом на столике стояла кружка эля. Неподалеку застыл камердинер короля Джон Беверли — на случай, если его господин проснется и потребует чего-нибудь. Я жестом разрешила ему уйти, а сама опустилась на табурет у ног Эдуарда — так я любила сидеть, когда он был в расцвете сил, а я была совсем молоденькой. Однако мысли мои сейчас полнились отнюдь не воспоминаниями о прошедших днях. Я прислонилась головой к креслу, а в ушах все звучали предостережения Уикхема. Он не считал, что меня ждет особо строгая кара, но сама я была настроена не столь радужно. Мне казалось, что за мной уже захлопнулись прочные двери темницы.
Эдуард зашевелился, я подняла глаза, радуясь тому, что можно отвлечься от мрачных мыслей. Он медленно разомкнул веки, потом его взгляд упал на меня, стал осмысленным и сосредоточенным. Глаза были такими ясными и внимательными, что у меня сердце затрепетало от радости.
— Приветствую вас, Эдуард.
— Здравствуй, Алиса. — Даже голос у него звучал уверенно и громко. Король все еще не потерял способности удивлять меня. — Милая девочка, я скучал по тебе.
— Я была здесь, с вами рядом, пока вы спали. А до того вы принимали достойных лондонцев.
— Не помню, — вздохнул он. — Дай мне кружечку эля.
Я потянулась за забытой им кружкой, стоявшей рядом, и вложила ее в руку Эдуарда. Порой в нем ощущалось королевское достоинство. Он отхлебнул эля, вернул мне кружку.
— Ты мне споешь?
Сколько он всего позабыл!
— Я бы охотно, да только вам это не доставит удовольствия! Говорят, что мой голос напоминает скрип плохо смазанных дверных петель. — Я улыбнулась, припомнив, что Изабелла выражалась на этот счет гораздо резче, и увидела искорки ответной улыбки в глазах Эдуарда. — Но вот стихи, которые я нашла недавно, — они мне понравились, потому что рассказывают о давней любви, как у нас с вами… — Я оперлась на его кресло, поправила юбки и вытащила из кошеля на поясе маленькую книжечку. — Это стихи о зимних морозах и о том, как согревает человека неугасимая любовь. Вам они тоже понравятся. — И стала читать медленно, негромко, выговаривая каждое слово четко, чтобы Эдуард мог сразу понять смысл.
Пожухли листья, лето отошло. Былая зелень наземь опадает, Лучами солнце нас не согревает, Лишь года круг неспешно замыкает.— Ты хорошо подобрала стихи, Алиса. Зима держит меня в своем плену даже в разгар лета. — Эдуард тяжело вздохнул, словно ему было больно говорить об этом. — Тебе я совершенно бесполезен как мужчина. Это меня огорчает, но ничего поделать я уже не могу.
— Ваша правда, но послушайте дальше, Эдуард. Все не так грустно.
Как искры, гаснет летнее тепло. Лишь я цвету пышней день ото дня, Мне жарко от любовного огня, Что господин зажег внутри меня.— Алиса… У тебя прекрасный голос. — Как только он чувствовал усталость, язык сразу же начинал слегка заплетаться, и не заметить этого было нельзя. — Кажется, он в первую очередь привлек мое внимание.
— Вот уж сомневаюсь! — Я рассмеялась, вспомнив ту встречу. — Помнится, я вопила не хуже хейверингских торговок рыбой, когда меня обвинили в краже! А вас слишком сильно занимали те часы.
— Я уж и позабыл все… — Он взял меня за руку, сжал пальцы. Я чувствовала, как он смотрит на меня, на мои губы, пока я читала последнюю трогательную строфу.
В костер сердечный жару поддают Лобзанья милого и тают на губах, И пламя страсти у него в глазах Прекраснее, чем звезды в небесах[93].— Вот видите, — сказала я и закрыла книгу. — Любовь не угасает ни от зимних морозов, ни под бременем лет.
Наступила тишина. Эдуард снова впал в дремоту, а мне стало горько на сердце, оттого что он так остро переживал потерю своей мужественности. Пусть мы с ним перестали быть любовниками, но нас прочно связывали узы взаимной симпатии, длившейся уже добрых тринадцать лет. Даже во сне он не отпустил мою руку — я знала, что сумела доставить ему удовольствие.
На время мои опасения пострадать за «колдовство» поутихли. Я не допущу, чтобы нас с Эдуардом разлучили. До тех пор, пока смерть не избавит его от нынешних мук.
— Это правда? — грозно вопросил Уикхем звенящим голосом. Он снова появился в замке Шин, на этот раз — вне себя от возмущения.
— Что именно — правда? Если вы хотите мне сообщить очередные нелепые измышления де Ла Мара, то не стоит! Лучше сразу уезжайте!
Я невероятно устала, поэтому не могла проявить необходимое терпение. На этот раз нас не отвлекали никакие королевские аудиенции. Эдуард, погрузившись в прошлое, диктовал распоряжения, где упоминалось огромное количество парчи и множество факельщиков: он собирался должным образом почтить смерть матери и Филиппы. И это — после целой недели молчания, когда он совсем не говорил ни с кем: ни со слугами, ни даже с Господом Богом. И уж тем более не со мной. Я удалилась с его глаз, ожидать, пока он покончит с печальными воспоминаниями и снова придет в себя.
— Так это правда? — гремел Уикхем. Мы с ним стояли посреди Большого зала.
— Что именно?
Уикхем в ответ заорал на меня, не обращая внимания на то, что нас могли услышать, и я поняла, что обречена. Когда Уикхем приехал, чтобы предупредить о нависших надо мной обвинениях в колдовстве, он был озабочен и любезен, он держался как священник. Сейчас он больше походил на ужасного предвестника рока, на палача. От этого мне не уйти.
— Вы и вправду вышли за него?
Пресвятая Дева!
— За кого? — задавая этот вопрос, я уже лишь пыталась разыгрывать непонимание.
— Сами знаете за кого!
Уикхем смотрел на меня во все глаза. Он явно ждал, что я опровергну это обвинение. И уже понимал, что опровергнуть ничего нельзя.
— Да, — вскинула я голову. — Да, вышла.
— Поверить не могу, что вы решились на такой… такой… — он изо всех сил старался взять себя в руки, — такой опрометчивый шаг!
— Ну же, Уикхем! Как вы мягко стелете! — Улыбка у меня вышла совсем не веселая. — А где де Ла Мар откопал это сокровище? Мне казалось, что никто не знает.
— Какая разница? — Голос епископа упал, перейдя в шипение. — Когда?
— Как раз перед тем, как он снова отправился в Ирландию.
— Так давно? Два года назад? Вы уже два года замужем? — Голос снова загремел, гулко отдаваясь под высокими сводами. — Ради всего святого, Алиса! О чем вы только думали?
Мне не хотелось ничего объяснять — думаю, я и не сумела бы объяснить.
— А Эдуард знает? — всплеснул руками Уикхем сразу от отчаяния и от гнева.
— Нет.
— Вы хоть понимаете, что натворили? — На этот раз Уикхему хватило благоразумия говорить потише. — Вы сделали его прелюбодеем!
— Мы с вами вместе, — дернула я плечом, — делали его прелюбодеем, когда была еще жива Филиппа. Тогда это не остановило Эдуарда, который был в здравом уме и твердой памяти. Что меняется теперь?
Уикхем со злости пнул ногой жаровню, из которой дождем посыпались искры.
— Но зачем, Алиса? Зачем вам это понадобилось? Если просто захотелось покувыркаться в постели, почему было этим не ограничиться, не освящая свой союз церковным таинством? Я уж не говорю о мужчине, которого вы себе выбрали! Богом клянусь, я в жизни еще не встречал другого такого закоренелого эгоиста и беспринципного негодяя…
Да потому… потому что… Я смотрела, как падают искры на покрытый пылью пол. Потому что за безжалостным и честолюбивым характером Виндзора скрывалась редкостная порядочность, к тому же он всерьез полюбил меня. Но Уикхему я этого говорить не стану.
— Я вышла замуж, потому что он попросил моей руки.
— Алиса!
Я отбросила легкомысленный тон.
— Перестаньте читать мне нотации, Уикхем! Уж кто бы говорил. Мне нужно обеспечить свое будущее. Я вышла из низов, туда и вернусь, если сама о себе не позабочусь. Не желаю, чтобы мои дочери влачили жалкое существование или жили на чужие подачки, как я сама когда-то.
— Ну, вы-то наверняка приобрели уже достаточно для того, чтобы им хватило на кусок хлеба!
— Возможно, мне нужен мужчина, который станет меня защищать!
— Да, но выходить за него замуж?
— Он сделал мне предложение, когда никто другой и не подумал сделать. И это не прелюбодеяние в буквальном смысле: мы с королем давно уже не имеем плотской близости. — Мой собеседник покраснел до корней волос — это в нем проснулся священник. — Не будьте ханжой, Уикхем. Неужели вас удивляет, что король уже слишком постарел?
— Но король признал прижитых от вас детей. Им не придется терпеть лишения.
— Да, он распорядился выделить им содержание. Но позволит ли принцесса Джоанна и дальше выделять это содержание, когда королем станет ее сын? — Подспудно я всегда этого боялась, и теперь этот страх быстро напомнил о себе. — Я не могу так рисковать. Если брак с Виндзором способен обеспечить приличное приданое для моих дочерей[94], я не стану в этом раскаиваться.
— А что скажет на это Эдуард? — Этот вопрос, как и рассчитывал Уикхем, заставил меня умолкнуть.
— Его это, разумеется, очень обидит, — ответила я после длительной паузы.
— Вы обязаны рассказать ему все. Если только уже не рассказали другие.
— Я молю Бога, чтобы этого не случилось.
Уикхем ушел, оставив меня одну в огромном и пустом Большом зале, и тогда я подумала о единственной вещи, которой не сказала ему. Я вышла замуж за Виндзора (имя которого так ни разу и не прозвучало в нашей беседе) потому, что любила его. Насколько слабой делала меня эта любовь?
Эдуард все уже знал. Боже, как быстро разносятся сплетни! При дворе никогда не было недостатка в злых языках, а разум Эдуарда в те дни был достаточно ясным.
— Ты меня предала, Алиса. Предала мою любовь к тебе.
Он не переставая потирал руки, оставляя на них глубокие царапины. Сознавая свою вину, я опустилась на колени, надеясь, что он перестанет терзать себя, но Эдуард слишком разволновался. Он отвернулся от меня так, как никогда еще не отворачивался.
— Я не желаю тебя здесь больше видеть.
Это я заслужила. Внутри меня все закоченело.
Сжалилась ли надо мной Палата общин? Ничего подобного, Бог тому свидетель! Пылая мстительной радостью, они приказали мне явиться к ним в Расписную палату Вестминстерского дворца. Я подчинилась — а что мне оставалось делать? Не видела никого и ничего, кроме сияющей от скрытого торжества постной физиономии де Ла Мара, пока зачитывали приговор, осуждающий меня за то, что я довела короля Англии до прелюбодеяния. В те минуты я уже была готова к худшему. Сидела на низкой скамье, куда меня посадили, сцепив руки, и радовалась тому, что хотя бы сидеть позволили.
Сидела прямо, исполнившись решимости выслушать приговор с достоинством. Перед де Ла Маром я ни за что не склоню головы. Какое бы наказание они мне ни определили, все равно хуже того, что Эдуард отверг меня, ничего не будет.
Так и ничего?
Ой нет! Оказалось, может быть гораздо хуже. Растворились двери, ведущие в великолепную Расписную палату, и на пороге возник Эдуард, которого привели в парламент, дабы ответить за мой и свой грех. Он обвел многолюдное собрание взглядом, и я увидела в его глазах растерянность и страх. Я вскочила на ноги и, кажется, потянулась к нему, чувствуя свою вину, но он на меня даже не взглянул, сосредоточившись на том, чтобы занять место на троне. Медленно, шаг за шагом, дотащился до возвышения, сел, потом выпрямился и посмотрел на обвинителей. Я же мысленно молилась о том, чтобы они направили стрелы своего мщения на меня, а не на Эдуарда, который того не заслужил. Мне очень хотелось, чтобы он взглянул на меня. О чем бы меня ни стали спрашивать, его я не предам — вдобавок к тому, что уже сделала. Не скажу и не сделаю ничего такого, что подвергло бы его новым унижениям. Разве не ужасно само по себе уже то, что он вынужден находиться здесь?
— Мы горды оказанной нам честью, государь, — поклонился де Ла Мар.
Он обращался к королю, и я снова опустилась на свое место, ожидая, когда он нанесет удар.
— Ваше величество! Мы крайне озабочены тем, что мистрис Перрерс вела себя по отношению к вам неискренно сверх всякого вероятия.
Как гладко он говорил! Как был ужасающе почтителен, готовясь вонзить в сердце ничего не подозревающего Эдуарда словесный кинжал! Эдуард, сцепив руки, только моргал.
— Как мы полагаем, она допустила, чтобы душе вашего величества стала угрожать смертельная опасность.
Посмеет ли он обвинить Эдуарда в том, что король соучаствовал в прелюбодеянии? Я сильно впилась ногтями в ладонь.
— Было ли вашему величеству известно о том, что мистрис Перрерс вступила в брак? Что она уже два года замужем за рыцарем Вильямом де Виндзором?
Эдуард растерянно покачал головой.
— Так было ли это известно вашему величеству?
— Нет!.. — Я снова вскочила на ноги. Как они смеют допрашивать его! Здесь моя вина, а не его.
— Сядьте, мистрис Перрерс.
— Это несправедливо…
— Все очень справедливо. — И де Ла Мар опять повернулся к королю. — Так вы знали, государь? — Я опустилась на скамью, заставив себя смотреть на Эдуарда, оказавшегося в столь тяжелом положении, и признаваясь себе, что повинна в этом я сама. — Известно ли вам было, государь, что женщина, являющаяся вашей признанной возлюбленной, состоит в законном браке? — Он упорно добивался ответа на поставленный вопрос.
— Не знал, — услышала я ответ Эдуарда: ясный, спокойный, даже равнодушный.
— Вы готовы поклясться в том, государь?
Спикер Палаты общин осмеливается требовать у короля Англии, чтобы тот поклялся? На лице Эдуарда отразился сильный гнев, однако он ответил:
— Клянусь именем Пресвятой Девы, не знал.
— Значит, она вас обманула, государь.
— Этого я знать не могу. Откуда?..
«Ах, Эдуард! Как же я могла поставить тебя в подобное положение?»
Большего де Ла Мару и не требовалось. Теперь он повернулся ко мне и драматическим жестом простер вперед руку.
— Вы виновны. Вы умышленно поставили короля в такую ситуацию, когда он оказался прелюбодеем. Ложью и обманом вы завлекли его в ловушку. Вина эта лежит целиком на вас.
Я ждала, когда в палате прозвучит зловещее упоминание о колдовстве.
— Какое же наказание вы заслужили за свое преступление? Некоторые присутствующие здесь требуют смертной казни. Средства, вами употребленные, нечестивы, мерзостны они в очах Господа. Мы располагаем свидетельствами о…
Я застыла. Вот сейчас. Чародейство!
— Сэры!..
Я окинула взглядом палату. Говорил Эдуард. Де Ла Мар остановился в нерешительности.
— Я обращаюсь к вам с просьбой, — отчетливо выговорил Эдуард, взглянув на меня наконец, и во взгляде его читались печаль и смущение. И еще — на удивление твердая решимость, которая давалась ему нелегко. У меня сжалось сердце. — Явите ей свою милость, сэры. Я взываю к вашему состраданию. Она не заслуживает смертной казни. Если вы все еще храните верность мне, вашему королю, то проявите умеренность при вынесении приговора этой женщине. Она согрешила, но не заслуживает смерти.
Я смотрела на Эдуарда не отрываясь. Своей последней фразой он сразу и предал, и поддержал меня. Теперь все висело на волоске.
— Мистрис Перрерс заслуживает меньшего наказания, чем смертная казнь, — повторил Эдуард. — Я обращаюсь к вам с просьбой…
Глубокое горе переполнило мою душу.
— Мы с почтением принимаем вашу просьбу, государь. — Де Ла Мар не скрывал своего торжества, и меня чуть не стошнило при виде его самодовольной физиономии. — Встаньте, мистрис Перрерс.
Я подчинилась, хотя ноги отказывались мне повиноваться.
— Мы пришли к следующему решению…
Де Ла Мар огласил все пункты моего приговора. По тому, как плавно текла его речь с продуманными, четкими формулировками, включавшими все подробности, я поняла, что решено все было заблаговременно. Не было никакой необходимости заставлять Эдуарда пройти через все это. Горе мое постепенно вытеснялось нарастающей злостью; меня затрясло, как в лихорадке, когда я постигла всю глубину его мщения. Даже принцесса Джоанна не придумала бы ничего лучшего.
Удаление от двора!
Это слово раздавило меня своей тяжестью. Меня удаляют, и Эдуарда я больше никогда не увижу.
— Вы должны жить вдали от королевского двора. Вы не смеете к нему возвратиться. Если ослушаетесь, если предпримете любую попытку приблизиться к королю, вас лишат всего принадлежащего вам имущества и вышлют за границу до конца вашей жизни. — Губы спикера слегка раздвинулись в намеке на улыбку, обнажив нездоровые зубы. — Если вы осмелитесь появиться в присутствии короля, все ваше движимое имущество будет конфисковано. — Он так был этим доволен, что я испытала отвращение, но внешне никак этого не выразила, не пошевелилась. Нельзя доставлять ему удовольствие, показывая, как глубоко уязвляет меня этот приговор.
Взглянув в сторону Эдуарда, я увидела, что он не понимает смысла происходящего. Веки его были опущены, рот безвольно приоткрылся. Он не сознавал, какое решение только что прозвучало. И если я сейчас пройду к нему через весь зал, то останусь без всяких средств к существованию и буду изгнана из Англии.
Кровь отлила у меня от лица, руки стали холодными как лед, но я выполнила все их требования: поцеловала поднесенное мне распятие и поклялась, что никогда не попытаюсь вернуться к королю. Я стану жить отдельно, вдали от двора. Больше никогда я не увижу Эдуарда.
Итак, я покинула его — по крайней мере, именно так я это восприняла.
Куда же податься? Я собрала самое необходимое и отправилась в Уэндовер, бывшее поместье Уикхема, подаренное Эдуардом мне. Моему исстрадавшемуся сердцу хотелось бы оказаться в Палленсвике, но я понимала, что парламент сочтет его слишком близким к Шину, Тауэру, Вестминстеру — к тем замкам и дворцам, где может пребывать Эдуард и куда слишком легко попасть по Темзе. Вот я и поехала зализывать свои раны в Уэндовер, но сперва рискнула в последний раз навестить Эдуарда. Не могут же мне запретить попрощаться с ним!
Он меня не узнал.
— Эдуард!
В пустом взгляде не промелькнуло ни искорки узнавания.
— Я пришла проститься.
Ни слова в ответ. Он не простил меня. Разум его блуждал где-то далеко, не замечая меня, не осознавая того, что я совершила. Я поцеловала его в лоб и сделала глубокий реверанс.
— Простите меня, Эдуард. Я не хотела, чтобы все так закончилось. По своей воле я ни за что бы вас не покинула.
Ну что ж, он хотя бы избавил меня от горькой сцены прощания. Глотая слезы, я закрыла за собой дверь в его покои. Алиса Перрерс, больше уже не фаворитка короля. Униженная, отвергнутая, погубленная злыми кознями.
Кто не присутствовал в Расписной палате и не был свидетелем моего падения?
Гонт.
Кто не вступился за меня, даже не попытался повидаться со мной?
Джон Гонт.
Он тоже отступился от меня. Связывавшие нас слабенькие узы не заставили его встать на мою сторону, когда я в этом больше всего нуждалась. Я перестала представлять для него какую бы то ни было ценность. Лорды, опасавшиеся усиления его власти, не пожелали назначить его опекуном Ричарда, и Гонт решил, что я уже не обладаю никаким влиянием, а потому для него бесполезна. Если же мое имя станут хоть в какой-то мере связывать с ним, популярности Гонта это может только повредить.
И он отвернулся от меня.
А что же утраченный мною несчастный Эдуард? О его житье-бытье мне рассказывал Уикхем. Случалось, он, движимый гневом, поносил Виндзора куда более сердито, нежели меня. В иные дни Эдуард вспоминал о старых привязанностях: он искал меня, спрашивал обо мне — ему отвечали, что мне нельзя возвратиться. Бывали дни, когда разум покидал его. Я хорошо знала, как он может часами сидеть, погрузившись в глубокую печаль, ничего не сознавая, только слезы катились у него по щекам. Король стал всего лишь одиноким, всеми забытым стариком, и некому было пробудить дремавший в нем дух. Кто будет предаваться вместе с ним воспоминаниям о былом? Кто сможет напомнить ему о прежних днях славы и величия, как это делала я?
Никто.
Гонт был слишком занят — он замышлял месть де Ла Мару и графу Марчу, который вместе с Уикхемом стал теперь одним из советников Эдуарда. Изабелла возвратилась во Францию, к своему супругу. Некому стало вспоминать с королем о прошлом.
Знала я и о том, что все чаще и чаще Эдуард уходит в себя.
— Вот похороню сына, славного своего принца — и тогда сойду в могилу сам.
Больше я уже не глотала слезы, а рыдала о нем в полный голос. Виндзору я не написала ни строчки: слов нужных было не подыскать, да и не перенесла бы я его жалости.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Первые несколько дней в Уэндовере я горевала. Потом горячая волна ярости обдала меня с головы до ног, словно порыв свежего ветра перед августовской грозой. Во мне страшным зарядом скопилась ненависть к далекому спикеру Палаты общин — самодовольному, упивающемуся своим триумфом.
— Да осудит тебя Господь всемогущий вечно гореть в аду! Чтоб могильные черви поскорее пожрали твою гниющую плоть! Чтоб твои яйца жарились на неугасимом адском огне, чтоб… — Я не сдерживала себя в выражениях, но облегчения это не приносило.
Никогда еще жизнь не представлялась мне такой бессмысленной; я была бессильна, беспомощна, мне было нечем заняться. О том, что происходит в мире за стенами поместья, до меня в те ужасные недели доходили лишь обычные пересуды и слухи, которые доставляли мне слуги или бродячие торговцы. Негусто! Забальзамированное тело принца Уэльского уже много дней находилось в Вестминстерском аббатстве. К похоронам никаких приготовлений не делалось — Эдуард не в силах был что-то решать. Принцесса Джоанна с юным наследником пребывали в Кеннингтоне. Гонт выжидал, кипя злобой от нанесенных ему обид. Добрый парламент завершил свою работу, кичась достигнутыми успехами.
— Боже, а меня изгнали! Да как посмели! Как они только посмели!
Мне нужно было чем-то занять руки и мысли, поэтому я прошлась по усадьбе, загрузила делами и дворецкого, и слуг: там помыть, там почистить, протереть все полы, полки, мебель во всех углах и закоулках. Не было ни малейшей нужды вмешиваться в их добросовестную привычную работу, но я просто не могла сидеть сложа руки. Придется им терпеть мои капризы — быть может, до конца дней моих. Черт возьми! В тридцать один год сама мысль об этом была невыносима[95].
Отважная спала, свернувшись калачиком у моих ног, — ей не было дела до моего настроения, до того, находимся мы в Уэндовере или в замке Шин.
Я бродила по комнатам, и удовольствие от созерцания того, что я успела приобрести, постепенно угасало. Я не испытывала радости даже при виде подаренного Эдуардом роскошного ложа, покрытого искусной резьбой, завешенного пологом из темно-синей камчатной ткани, с начищенными до блеска дубовыми столбиками балдахина. Слишком много прекрасных вещей, с резьбой и вышивками, окружало меня, давило и теснило, так что по ночам меня мучили кошмары. Будь у меня здесь зеркало, я бы выбросила его прочь, ибо в нем слишком заметны были бы последствия грызущих меня неотступно мыслей и полной потери аппетита. Ключицы стали выпирать из-под тонкой ткани платья, а пояс приходилось затягивать потуже, чтобы он не свалился совсем. Потрогав пальцами натянувшуюся на скулах кожу, я недовольно поморщилась: вряд ли я стану выглядеть лучше, если под глазами у меня появятся мешки от усталости.
Солнечные, теплые осенние дни манили на воздух, и я вышла через боковую дверь в сад, где ветви яблонь низко склонились под тяжестью созревших плодов, а с голубятни доносилось воркование голубей: в другом настроении я бы пришла в восторг от этих милых радостей бытия. Я не успела еще вздохнуть полной грудью, как на меня обрушились непрошеные воспоминания. Бессильно опустилась я на траву и на минуту-другую целиком погрузилась в прошлое.
— Сегодня ты будешь Повелительницей Солнца, — говорит король Эдуард и помогает мне удобно устроиться в повозке.
И я сажусь в нее среди гирлянд цветов, облаченная в парчовые одежды, в сияющий плащ, затканный золотом в пышном венецианском стиле, расправляю его так, чтобы видна была подкладка из алой тафты. Платье на мне тоже красного цвета, с каймой из белого шелка, отороченное мехом горностая. Это цвета Эдуарда и королевский мех, достойный венценосной особы. Мерцание золота затмевается блеском бесчисленных самоцветов, играющих под лучами солнца: красных как кровь рубинов, загадочных густо-синих сапфиров, удивительных бериллов, способных лишать силы любой яд. Это драгоценности королевы Филиппы. Пальцы мои густо унизаны перстнями.
— Сегодня ты — королева нашего праздника, Прекрасная дама турнира, — говорит мне Эдуард. Он такой высокий, сильный — просто загляденье!
А я — Повелительница Солнца.
Ах!.. Я непроизвольно моргаю — пролетевший мимо голубь взмахом крыла сметает стоящие перед глазами воспоминания и безжалостно возвращает меня к жестокой действительности. Как низко я пала! Одинока, бессильна, заточена — как некогда лев в зверинце Эдуарда, давно уже умерший, — лишена и тени власти, упрятанная от людей, утратившая все, что сумела нажить своими стараниями. Мне невыносимо было находиться вдали от того, вокруг чего вращалась вся моя жизнь — сколько уже? Десять лет или больше? А мне казалось, что я всегда жила то в одном, то в другом королевском дворце. Яркие краски, роскошь нарядов и украшений, королевские привилегии вытесняли воспоминания о жестоком детстве, заставляли забыть о моем низком происхождении. Я всей душой стремилась снова попасть ко двору — пусть и ненадолго, пока еще жив Эдуард. Не здесь было мое место, не в Уэндовере, как бы ни привлекало меня это обширное и богатое имение, подаренное самим Эдуардом. Мое истинное место — при дворе, среди пышности и блеска, среди нескончаемых празднеств. Там, где за каждой портьерой плетутся интриги и перешептываются сплетники. Там, где сосредоточена власть — такая крепкая и густая, что ее можно, кажется, распробовать на вкус, можно, если постараться, даже разглядеть — будто золотую пыльцу на крылышках пчел, что порхают в жаркие летние дни над зарослями лаванды. Вот там мне хотелось быть.
По ночам сон бежал от меня, только непрерывная ноющая боль в висках не давала оторвать голову от подушки. По утрам я чувствовала себя не намного лучше — ничего, кроме скуки и вялости. Не приносили облегчения даже компрессы из лаванды и мяты, когда я брала на себя труд их приготовить. Но что мои страдания в сравнении с теми, которые терзали Эдуарда? С ним я должна быть рядом, чтобы развеять мрачные тени, сгустившиеся над его рассудком, вернуть его в реальный мир, где он оставался королем. Тоска и безнадежность грызли меня, я вырывала траву пучками и швыряла в стороны.
При дворе я кое-что значила, а здесь была всего лишь сельской помещицей с застрявшими в завязках корсажа семенами и стебельками травы.
Рассердившись на себя и свою хандру, на слезливую жалость к себе, я поднялась на ноги и собралась идти в дом — задать кому-нибудь побольше работы, но тут появились обе мои девочки, удравшие от своей воспитательницы. Светловолосая и крепенькая, как отец, Джоанна, которой исполнилось пять, вела за руку трехлетнюю Джейн — застенчивую, ничем не похожую на меня, кроме разве что темных волос и не блещущего красотой личика. Они со смехом пробежали через сад, оглашая его воплями радости оттого, что удалось вырваться на свободу. Мое сердце дрогнуло, когда я стала свидетельницей их невинных забав. Не припомню, чтобы мне в детстве удавалось побегать, поиграть, посмеяться. Очень мало радостей сохранилось в моей памяти. Да поможет мне Бог уберечь своих девочек от любых напастей.
Увидев меня, они еще больше разрезвились, распрыгались, без умолку треща и спеша поделиться со мной новостями. Мне удалось отправить их назад, к няне, только когда я пообещала, что после обеда мы поедем кататься верхом. Пока им предстояло заняться чтением, письмом и арифметикой. Мои дочери обязательно должны обучиться этой премудрости, как и мои сыновья. Я не желала, чтобы они выросли темными, необразованными дворянками, в жилах которых течет королевская кровь, но в голове совершенно пусто. Джон, как и подобает юному отпрыску короля, набирался ума в семье благородного Перси[96], служа там пажом. Николасу исполнилось одиннадцать, он учился грамоте у монахов в Вестминстере. Я так гордилась ими! Ну а девочки — их ждет приличное образование и выгодное замужество. Я с легкой улыбкой наклонилась и подняла из травы старенькую куклу, оброненную Джоанной. Расчесала пальцами ее спутанные волосы и дала себе клятву, что мои дочери — об этом я позабочусь! — сумеют прожить достойно, даже и без мужей.
Уголком глаза я заметила какое-то движение неподалеку. Над головой метнулась малиновка, спряталась в кроне дерева. Я подняла глаза.
— Вот вы где!
А я ведь ничего не слышала: ни стука копыт, ни мягких шагов по земле. Даже воздух не колыхнулся. На миг я испугалась, подумав, что парламент, возможно, захотел окончательно избавиться от меня, и попятилась. А потом прижала к груди куклу — я узнала этот голос и увидела фигуру, ярко освещенную пробивающимся сквозь листву солнцем.
Я словно перенеслась на много лет назад, в тот самый день, когда впервые увидела Эдуарда в Большом зале Хейверинга. Лучи низкого солнца светили ему в спину, освещая и его собак, и сокола на руке, окружая сиянием его голову и плечи. Как будто на нем была золотая корона. А я стояла и молча любовалась этим ореолом власти.
Но то было в иные времена, в иной жизни.
Виндзор шагнул вперед, сразу оказавшись в глубокой тени. У меня сразу потеплело в животе, во рту пересохло от волнения, а все тело вмиг ослабело, словно желая пасть в его объятия. Хотелось побежать ему навстречу, обнять его, прижаться губами к его губам, ощутить, как бьется под моей ладонью его сердце. Три года я не видела его. Долгих три года! За тот миг, что требуется для одного удара сердца, я могла бы преодолеть разделяющее нас расстояние и…
Нет-нет. Надо держать себя в руках. Я должна действовать осторожно, взвешенно, спокойно. Не теряя способности руководить собой…
Почему так? Да потому, что неразумно вкладывать другому в руки оружие против себя, пусть это даже мужчина, которого я люблю, к которому стремлюсь так сильно, что все тело мое дрожит, как в лихорадке. Это ужасно — бояться отдать себя в подчинение мужчине, любви которого я так страстно жаждала, но если жизнь меня чему-то и научила, то именно тому, что необходимо сохранять гибкость и полагаться только на себя. Мой супруг не должен видеть, как я боюсь дать ему власть над собой — власть ранить меня, обидеть, погубить.
«Но ведь он тебя не ранит, не обидит и не погубит! Ты-то не можешь этого не знать».
Нет, я совсем ничего о нем не знаю!
Но встретившись с ним взглядом, я не смогла сдержать усмешки.
— Пресвятая Дева! Да это Вильям де Виндзор!
— Алиса Перрерс, клянусь Богом! — Сердце мое застучало быстрее. — Собираете яблочки?
— Нет. — Я прижала к груди куклу. — К тому же мне казалось, что я — Алиса де Виндзор, ваша супруга.
— Мне тоже так казалось. Но наши пути не пересекались так давно… — Он снял шляпу и отвесил мне великолепный поклон. — В этом сельском наряде я не сразу признал вас. И отыскать вас оказалось нелегко, я потратил на это несколько дней.
— Вы, вероятно, приняли меня за служанку.
— Это просто невозможно! — Голос его звучал ласково, но ко мне он не приближался. В его фигуре чувствовалось напряжение, напомнившее, что дела обстоят не так-то хорошо. — Я слыхал, что великие мира сего отлучили вас от королевского двора, — небрежно заметил он, и я отступила чуть дальше, сердясь и на себя, и на него.
— Да, как видите. Добрый парламент — Боже, «добрый», подумать только! — в мудрости своей решил очистить королевские дворцы от тлетворного влияния недостойных вельмож. Латимер, Невиль, Лайонс — всех их прогнали.
— И вас заодно.
— И меня. Меня они оставили на закуску, как самый лакомый кусочек. И отправили прозябать сюда. — Переполнявшая меня и долго сдерживаемая горечь вырвалась наружу. — Стоит мне хоть на шаг приблизиться к Эдуарду, и они с великой радостью отберут все, что у меня есть, до последнего гроша и последнего клочка земли, а меня отправят в изгнание в дальние страны. Жена ваша станет жить где-нибудь во Франции до конца дней своих, вы же ее более не увидите!
— Они отмерили вам кару от души. — Виндзор по-волчьи оскалил зубы. — Так вы поэтому отсиживаетесь здесь, не надевая ни единой шелковой ленточки, ни единого камешка, вместо того чтобы обивать пороги замка Шин, требуя, чтобы вас впустили?
— Поэтому. — Я опустила глаза, разгладила простенькую коричневую юбку, поверх которой было наброшено давно вышедшее из моды котарди с открытыми боками, ничем не украшенное, пусть и сшитое из превосходно выделанной шерсти. — Играю новую роль в своей жизни — роль изгнанницы в сельской глуши. Боже, Боже!
— Ну, может быть, мы оба привыкнем к этой роли, и она станет нам нравиться.
— Сомневаюсь!
— Я тоже сомневаюсь. Но нас больше не приглашают отобедать за королевским столом, поэтому придется обходиться теми крохами, которые нам оставили.
Эти слова он чуть ли не прорычал — достаточный для меня повод задуматься, отвлекшись от собственных горестей. Как я сразу ничего не заметила? Надо было спросить его, едва он оказался у меня в саду.
— А что вы делаете здесь?
— А вы не слышали? Меня отозвали из Ирландии — снова! Я в опале — снова! Отставлен от своей должности. — Он резко бросал слова, от которых веяло такой злостью, что и следа не осталось от обычной насмешливости.
— Так Эдуард уволил вас…
— Вот именно. Он больше не нуждается в моих услугах. На этот раз меня уже не восстановят. Ну и удивляться нечему, верно?
— Ах, Вилл! — Я протянула к нему руки. Еще бы ему не огорчаться! Прирожденный политик и вельможа, он не меньше моего возмущался, лишившись власти и оказавшись в тени. Я уже не могла стоять в стороне. Легкими быстрыми шагами пересекла заросшую травой, усыпанную яблоками лужайку. — Мне так жаль, Вилл. Ах, Вилл… я так рада, что вы снова здесь.
Даже просто произносить его имя — уже было для меня удовольствием. Все мои намерения держаться отчужденно разлетелись в прах, потому что теперь он был в опале. Я бросилась к нему на грудь, и он крепко обнял меня.
— Так уже лучше, — проговорил он, справившись с собой, потому что сперва чуть было не оттолкнул меня. — Ради этого, пожалуй, стоило бы возвращаться.
Какое-то время мы стояли молча, не шевелясь, любуясь тем, как меняются узоры света и тени. Так и не выпустив из рук куклу, я прижималась лбом к его плечу, а он терся о мои волосы щекой. Я ощутила, как от этих ласковых прикосновений напряжение медленно, постепенно отпускает его. Над нашими головами выводила свои трели малиновка, но мы не спешили нарушать молчание.
— Так что же поделывает король? — спросил наконец Виндзор, когда малиновка вспорхнула и улетела.
— Совсем ничего. Он стар и одинок. Думаю, он мало понимает из того, что происходит вокруг. — Виндзор открыл было рот, собираясь, наверное, съязвить насчет короля, который безропотно согласился с моим изгнанием, но я положила палец на его губы. — Он заслуживает вашего сострадания, Вилл. Разве он не вступился за меня? Я нужна ему, он ведь совсем беспомощен. А кто еще так умеет за ним ухаживать? — И слезы заструились по моим щекам, падая на его рубашку из камчи.
— Я никогда раньше не видел, чтобы вы плакали! Обо мне вы уж точно никогда не плакали! Наверное, будет лучше, если вы мне расскажете все по порядку. — Виндзор отпустил меня, и мы сели на поросшую травой невысокую насыпь, окружавшую заросли кустов. Он промокнул мои слезы краешком котарди, забрал у меня куклу и усадил между нами, наподобие своего рода дуэньи, взял мои руки в свои и прищурился, взглянув на меня, когда я опять всхлипнула. — Я вижу вас насквозь, Алиса, — вы только подумаете о том, чтобы утаить правду, а я уже вижу. Вы не умеете притворяться. Когда вы в последний раз спали нормальным сном? У вас глаза слишком усталые. — Он провел большим пальцем под моими глазами, а я чуть не задохнулась от прилива чувств. Потом ощутила его теплые губы на своем виске. — Какие ужасы вам пришлось встретить лицом к лицу, храбрая моя девочка?
— Я вовсе не храбрая. — Его сочувствие лишило меня всякой власти над собой. — Я чуть с ума не сошла от страха.
— Почему вы не послали никого за мной?
— А что вы могли сделать?
— Быть может, и ничего. Разве что был бы здесь, не позволял бы вам изводить себя, заставлял бы есть и спать. Вы привыкли сами стоять на ногах, верно?
— Меня некому поддерживать.
— Понятно. — Брови сошлись на переносице — я, должно быть, невольно обидела его. Но что бы он мог сделать, находясь так далеко? — Ну, теперь я здесь, только вы уже выстояли против своих врагов в одиночку. Меня это восхищает. Расскажите же, что вас так пугало. — В его голосе прозвучали давно знакомые нотки раздражения. — Если только не решили держать все при себе.
Да, он обиделся на меня. Ну, так сложилась жизнь у нас с ним.
— Я расскажу вам.
И рассказала, испытывая странное облегчение, хотя поначалу не собиралась ничего ему говорить. Поведала о том, какое мщение уготовил мне парламент. Об обвинениях в некромантии, о возможных происках Джоанны. О том, как меня в конце концов удалили от двора. Наконец, о том, как твердо защищал меня Эдуард, хотя сердце его разрывалось.
— Уже целый месяц прошел, — со вздохом закончила я.
— Значит, Эдуард знает о том, что мы женаты. И винит вас.
— Да, — кивнула я и снова всхлипнула. — Но еще больше он винит вас. — Я расскажу ему всю правду. Какая в том беда? — Эдуард считает вас главным виновником. Меня он винит за ту боль, которую я ему причинила, но дело представляется ему так, что это вы меня подговорили. Он полагает, что вы развратили меня. Даже заказал специальную шкатулку и сложил туда все обвинения против вас — чтобы не забыть, когда потребуется. Сидит, глядит на нее и замышляет месть — так мне об этом рассказывают. — Я взяла Виндзора за руку. — Не думаю, что эта месть когда-либо свершится. У него не осталось на это ни сил, ни твердости.
— Должно быть, так, однако с должности меня сняли, — отозвался Виндзор, и глаза его снова полыхнули гневом. — За мошенничество. Что такое мошенничество? Маленькая частность в цепи сугубо необходимых действий. Я обложил ирландцев тяжелыми налогами. Сколотил состояние себе. Зато я сумел сохранить там мир, да и управление краем налажено очень толково. Их спесивую знать я держал на коротком поводке. И в итоге — уволен. — Он пожал плечами, огонь в глазах погас, сменяясь безразличием. — Ну, с этим я поделать ничего не могу. Если занимаешь высокую должность, то всегда будь готов ее лишиться.
— А если власти достигает женщина, то она наживает множество врагов — если только не родилась принцессой.
— Значит, наши имена втопчут в грязь. — Он снова вытер мои слезы, на этот раз своим рукавом (кажется, мне уже было безразлично, останутся ли грязные пятна на щеках), отодвинул в сторону бесполезную «дуэнью» и стал меня целовать — требовательно, жадно, грубовато, словно и вправду по мне истосковался.
Потом Виндзор поднял голову и посмотрел мне в глаза своими черными бездонными глазами. О чем он думал в ту минуту, я постичь не могла.
— Не плачьте, упрямая жена моя, мы еще выкарабкаемся. А в этой восхитительной усадьбе найдется что-нибудь перекусить и выпить измученному долгой дорогой путешественнику?
Я мысленно встряхнулась и заставила себя вернуться к действительности, к моему саду в Уэндовере, к насущным заботам о долго отсутствовавшем, но теперь вернувшемся супруге. Сейчас не время предаваться мечтам.
— Найдется, — заверила я его. — Я совсем забыла о долге хозяйки.
— Может быть, найдется и горячая вода, чтобы смыть с себя дорожную пыль?
— Об этом я распоряжусь.
— И одежду мне почистят, чтобы не остались на ней случайные вши? Бог свидетель, мне пришлось ночевать на таких жутких постоялых дворах…
— Разумеется, почистят!
— Может, и постель найдется?
— Думаю, найдется.
Я провела его в дом, и к нам обоим понемногу вернулось что-то похожее на хорошее настроение. Мы загнали свои тревоги подальше, за дверь супружеской спальни, и всецело отдались празднику воссоединения. Я успела позабыть, каким он был изобретательным. Его руки и губы пробудили во мне страсть такой силы, что она поглотила меня без остатка. Преследовавшие меня неотступно думы куда-то исчезли. Да и как могли они не исчезнуть, когда муж так настойчиво стремился обладать мною, а я не менее настойчиво позволяла ему это?
С зарею Виндзор был уже на ногах. Я не спешила вставать, представляя себе, как проведу целый день с ним, восстанавливая те узы нежности, которые впервые завязались так давно. Но тут я заметила, что меч, который он бросил вчера у порога, исчез, а между кухней и гостиной, судя по шуму, снуют слуги. Я быстро оделась, уже догадываясь, какую картину застану в столовой. Виндзор завтракал, одетый по-дорожному. На сундуке у двери лежали кожаная сумка, перчатки, меч и прочный дорожный капюшон.
Все мои радужные мечты лопнули, как мыльный пузырь. Должна была и сама догадаться: радости супружеского ложа не удержат Виндзора, когда нужно делать дело и исполнять свой долг. Я немного задержалась на пороге, вглядываясь, пока он ел, в суровые черты его лица, в проворно двигавшиеся пальцы, сильные и умелые, и оживляла перед глазами недавние ночные часы, когда он воспламенил меня страстью. Потом решительно шагнула в комнату.
— Вы покидаете меня, Вилл? — спросила я с улыбкой, хотя его неизбежный отъезд был подобен разверзшейся передо мной пропасти.
— Да, но ненадолго. Только взгляну на свои имения. У меня отличный управляющий, однако мыши любят порезвиться, когда кот далеко, в Ирландии, а у вас, как я понимаю, были другие заботы, — ответил он, расправляясь с окороком домашнего копчения. — К концу этой недели я уже вернусь.
Не могу сказать, что я очень обрадовалась, но в целом приходилось удовлетвориться этим. Я подошла и села напротив него, положив локти на стол, отхлебнула эля из его кружки.
— Вы разузнаете для меня, что происходит при дворе?
— Если вам так угодно. А что поделывает Гонт? Вам известно? — спросил Виндзор, вставая из-за стола и доедая на ходу остатки, после чего старательно стряхнул с себя крошки.
— Нет, неизвестно. Но он не оставит дела просто так — парламент глубоко унизил его.
— Хм-м! Значит, он думает о мести и ищет себе союзников. — Он усмехнулся какой-то пришедшей в голову мысли, а руки деловито укладывали в сумку документы. — Жизнь может стать более интересной. Возможно, и я еще на что-то сгожусь.
Я проводила супруга, не допытываясь о значении его загадочной фразы. Не уверена, что он стал бы объяснять, даже если бы я попросила.
— Вы попробуете разузнать, что удастся, об Эдуарде? Уикхем добросовестно мне пишет, однако…
— Попробую. Пусть он и желает мне поскорее оказаться в преисподней, но вашу просьбу я исполню. Храни вас Бог, Алиса.
Он пристегнул сумку к седлу, я же стояла рядом, как подобает порядочной жене, чтобы пожелать ему счастливого пути. Он вдруг удивил меня — обернулся, взял мое лицо в свои ладони.
— Сделаю все, что смогу. Не тревожьтесь. Я не потерплю, чтобы ваш острый ум и ваша образованность даром пропадали в сельской глуши. Иначе зачем я вернулся?
— Может быть, чтобы получить послушную жену?
— Боже сохрани меня от этого! — Он поцеловал меня на прощание и умчался — меньше чем через сутки после приезда, так и не сказав мне ни одного ласкового слова. И ничего о любви.
Я помахала ему рукой и быстро вернулась в дом, словно все это не слишком меня занимало. Да, но ведь мне было далеко не все равно, а когда через неделю Виндзор все еще не вернулся, я горевала так, будто он умер.
Виндзор хоть и не вернулся, но не забыл моей просьбы о новостях и прислал гонца с торопливо нацарапанной запиской. Я перечитывала ее снова и снова, впитывая каждое слово, — это была ниточка, которая связывала меня с Виндзором, с Эдуардом и придворной жизнью.
Переполненный жаждой мщения Гонт, используя все свое красноречие, объявил беспощадную войну всем решениям Доброго парламента.
Вам будет интересно узнать, сколь многое он сумел сделать за то время, что Вас нет при дворе.
Мне было очень интересно, я смаковала каждую подробность и не могла не восхищаться беспощадной целеустремленностью Гонта, который добивался того, чего желал. Он объявил, что Добрый парламент заседал не так, как было указано Эдуардом, а потому все принятые депутатами решения не имеют законной силы. Исходя из этого, он не замедлил распустить совет из двенадцати человек при Эдуарде, назначенных парламентом ряди того, чтобы держать подальше от короля злодеев вроде меня. Бедняга Уикхем снова лишился придворной должности. А с ним — и граф Марч, к которому я не питала ни малейшего сочувствия. Вот его Гонт отстранил от дел с особым удовольствием, возлагая на этого молодого человека всю ответственность за хитрые козни, которые тот вместе с братьями де Ла Мар строил с целью лишить власти самого Гонта.
Латимера освободили из заключения. Не сомневаюсь, что Вас это обрадует.
А потом Гонт начал охоту всерьез: воины его личного отряда схватили Питера де Ла Мара.
Его надежно заперли в принадлежащем Гонту замке близ Ноттингема. Поговаривают, что обойдется без всякого суда[97]. Постарайтесь не слишком ликовать — леди де Виндзор это не подобает.
Я громко расхохоталась. Не было во мне жалости к человеку, который вынудил Эдуарда публично просить за меня. Ах! Но вот следующие строки не вызвали во мне радости. Наверное, Виндзор догадывался, что мне они будут неприятны, потому и написал просто, никак не комментируя.
Гонт выдвинул против Уикхема обвинения: еще будучи канцлером, тот прибегал к обману. Мне говорили, что доказательств против Уикхема почти нет, но его лишили всех светских должностей и запретили находиться ближе двадцати миль от местопребывания королевской особы. Он удалился в Мертонский монастырь…
Об этом я сожалела: Уикхему снова пришлось пострадать за свою преданность Эдуарду.
И все же одного имени Виндзор не упомянул в своем письме.
Алисы Перрерс.
Что же будет со мной?
После двух с лишним недель отсутствия, когда клонился к закату жаркий день — такой знойный и душный, что дышать было нечем, — Виндзор возвратился ко мне. Я в ту минуту была во дворе и сразу услышала топот копыт. Не дав ему сойти с седла, подбежала и потянула мужа за рукав.
— Ну, что там делается?
— Добрый вечер, жена!
— Что слышно обо мне?
— А! Никто о вас не вспоминает, любовь моя!
— Это хорошо или плохо?
— Совершенно непонятно.
— А Эдуард?
— Болеет, — покачал головой Виндзор. — Полагают, что ему уже немного осталось…
Он выглядел очень усталым, с трудом держал себя в руках — похоже, ему пришлось выдержать долгую скачку. И дела вроде бы обернулись не совсем так, как ему хотелось. Я вздохнула.
— Простите меня, Вилл. Что будет с вами? Я повела себя как эгоистка…
— Как целеустремленный человек, скажем так.
Он бросил конюху поводья, и мы бок о бок вошли в дом. Виндзор дружелюбно взял меня под руку.
— Вы ничего не написали о себе, — упрекнула я его, пока мы шли по освещенным предзакатными лучами комнатам.
— А что было писать?
Невзирая не сгущающиеся тени, я заметила в его глазах вспышку гнева. Да, я вела себя как эгоистка. Проведя всю жизнь в больших и малых заботах о себе самой, я теперь училась тому, что есть и другие люди и они нуждаются в моем сочувствии. Виндзор не тот человек, чтобы просить о сочувствии, — да он ни за что и не попросит! — но, похоже, ему оно было очень нужно. Я начинала все ближе узнавать его. Поспешила взяться за то, что пока не очень удавалось мне: помогла ему снять перчатки, капюшон и накидку, послала слугу принести эля, усадила мужа на скамью под старым дубом, который рос у самой стены дома, давая нам благодатную тень: я видела, как сильно утомился Виндзор. Села рядом, ласковым жестом отвела упавшие ему на мокрый от пота лоб пряди.
— Образцовая жена, — улыбнулся он. Но даже к привычной насмешливости он явно не был расположен.
— Я учусь. Позвольте мне еще раз освоить эти навыки. — Нам принесли эль, и я налила кружку, протянула мужу, подождала, пока он отопьет побольше. — Итак, вы ездили ко двору.
— Да. В замок Шин.
— И что?
— Мое увольнение утверждено. В награду за прежнюю службу дали скудный пенсион — сто фунтов в год. Еще и за то надо спасибо сказать. Король не пожелал меня видеть, его распоряжения передал мне какой-то законник с поджатыми губами!
— Возможно, он был просто не в состоянии принять вас, — попыталась я смягчить его обиду.
— Возможно. Но в любом случае его решение вряд ли было бы иным. — Виндзор сгорбился, разглядывая потертые носки своих сапог. — Там как-то непривычно. — Он поднял глаза на меня. — Такое впечатление, что перестало биться сердце королевского дворца. Все только и ждут, когда король испустит дух.
На это я ничего не могла сказать. Посидели, помолчали немного.
— Что вы теперь станете делать? — наконец поинтересовалась я.
— Определюсь с тем, где жить, — пожал плечами Виндзор. — В Гейнсе скорее всего. Займусь своими имениями. — Он криво усмехнулся. — Думаю, тем же самым и вы займетесь.
Я уже решила, чего хочу. Успела обо всем подумать. Твердо знала, чего хочу больше всего на свете, и сказала об этом прежде, чем дала себе время подумать.
— Останьтесь со мной, Вилл. Останьтесь здесь. Не уезжайте в Гейнс.
— Как это заурядно! — Его брови взметнулись вверх. — Обустраивать гнездышко, как простые супруги?
— А почему бы и нет?
— Я ожидал чего-нибудь похуже.
— Я не была уверена, что вам этого захочется, — ответила я. Ведь мы с ним никогда не жили вместе, если не считать нескольких дней сразу после венчания. Необходимость держать все в тайне и его отъезд в Ирландию вынудили нас жить порознь, а поскольку наш брак был продиктован практическими соображениями, то Виндзор, возможно, предполагал, что и дальше так будет продолжаться. Но теперь необходимость скрывать и притворяться отпала…
— Честно говоря, я не представлял, что мы станем жить как добропорядочные супруги, — проговорил он. — Но раз мы оба оказались здесь, в изгнании…
— А вы можете предложить что-нибудь получше?
— Ничего лучшего мне в голову не приходит. — Он наклонился и прижался ко мне губами. Очень осторожно, будто не был уверен в том, как я на это отзовусь, — а может быть, он не был до конца уверен и в себе.
Я ответила на ласку, поощряя его к продолжению. Мне вдруг остро захотелось его, вся кровь загорелась огнем.
— Проводите меня на ложе, Вилл.
Мы взглянули друг на друга и улыбнулись.
— Вилл!..
— Давайте-давайте. Договаривайте.
— Вы испытываете ко мне симпатию?
— А что, вы сомневаетесь?
— Сомневаться можно во всем.
— Ну испытываю, испытываю.
— Звучит так, словно вы уговариваете капризного ребенка.
— Вы жестко ведете допрос, Алиса. — Ему стало весело, глубокие морщины на лице стали разглаживаться. — Не хуже, чем сам Гонт.
— Можете сказать правду. Я не стану рыдать у вас на плече.
— А я и не возражаю. У меня очень удобное плечо, и оно целиком к вашим услугам.
— Вилл!..
— Испытываю ли я к вам симпатию?.. К кому первому я направился, едва вернулся в Англию?
— Ко мне. Кажется.
— Кому я писал письма, хотя это было не совсем удобно?
— Мне.
— Ну вот вам и ответ. Кажется, я даже говорил, что скучал по вам. А это ведь в первый…
У меня отлегло от сердца, и я ударила его в плечо.
— И это все, что вы можете мне сказать?
— Да. Я утомился. Постарайтесь и в спальне быть образцовой женой.
Ни слова о любви. Симпатия. Ну, хватит и того, должно хватить. Потом, когда мы лежали, прижавшись друг к другу, давая разгоряченным телам немного остыть, он спросил:
— Алиса, а я вам симпатичен?
Он обратил внимание на то, что сразу я ему ничего не сказала. Не мог этого не заметить. Я заставила его подождать, как всегда.
— Да, Вилл. Симпатичны. — Только мое сердце знало, что лгать я умею не хуже любого мужчины.
Наутро я сидела у окна, расчесывала волосы, а супруг мой еще находился в объятиях сна. Потом я услышала, как он пошевелился, но головы не повернула. Мысли у меня были тревожными, несмотря на все удовольствие, полученное совсем недавно.
— О чем думает эта прекрасная головка? — ласковым голосом спросил Виндзор.
— Об Эдуарде.
— Я должен был и сам догадаться.
Но в его тоне не было осуждения за то, что я призвала в нашу спальню тень короля. Я повернулась к мужу.
— Как вы думаете, увижу ли я его, пока он еще жив? Не хочу, чтобы он умер в одиночестве, а между нами стояли старые обиды. — Мне тяжело было вспоминать нашу последнюю встречу. — Он так и не простил меня, понимаете? И мне хочется повидать его еще раз.
— Не занимайте себя этими мыслями. Кто может сказать, позволят ли вам когда-нибудь возвратиться? На то воля Божья.
— Скорее уж Гонта.
Виндзор красноречиво промолчал, и мне от этого не стало спокойнее на душе.
Со мной было не так-то легко ужиться. Я сама это знала, а потому не извинялась и не пыталась ничего изменить. После того как долгие годы я была возлюбленной Эдуарда, поверенной его душевных тайн, его другом, а в последнее время еще и утешительницей, нынешняя разлука казалась мне нестерпимой. Я всем была обязана ему, он раз и навсегда вылепил меня по своему вкусу, и оказаться под конец вдали от него — нет, смириться с этим было невозможно. Виндзор же, если и сожалел, что переехал ко мне со всеми своими пожитками и слугами, ничем этого внешне не проявлял. Хотя менее уверенный в себе человек, не сомневаюсь, давно уже умыл бы руки и ушел прочь, подальше от того жалкого существа, которым я ныне стала. А Виндзор вместо этого предоставлял мне возможность оплакивать еще живого короля. Ночью, зная, что я не сплю, он ласково обнимал меня. Не бранил, как я того заслуживала, даже когда я огрызалась и дерзила ему, потому что больше мне не на ком было сорвать свое дурное настроение.
Но рано или поздно любого мужчину можно вывести из терпения, и однажды Виндзор пожелал направить меня на путь истинный в свойственной ему повелительной манере.
— Чем вы занимаетесь?
— Ничем. — В ту минуту я просто смотрела в окно.
— Это бросается в глаза и не приводит ни к чему хорошему. Поезжайте, женщина, в любое свое поместье, посмотрите, как там идут дела, порядок наведите. Сколько у вас, кстати, имений?
— Пятьдесят шесть, по последним подсчетам, — ответила я рассеянно.
— Сколько?
— Пятьдесят шесть. — От такого ответа он даже рот открыл. — Заодно могу сообщить, пока вы не спросили, — только пятнадцать из них подарил мне Эдуард. Я вполне способна и сама покупать то, что нужно.
— Боже правый! — Он остановился, не в силах ничего больше сказать, не в силах поверить, чего нам с Гризли удалось достичь за несколько лет. — Я даже не подозревал, что женюсь на такой состоятельной особе!.. Неудивительно, что сильные мира сего вами заинтересовались! Будь вы мужчиной, могли бы претендовать на графский титул. — И вдруг громко расхохотался. — А понимаете вы, драгоценная моя, что теперь все эти пятьдесят шесть имений принадлежат мне как вашему мужу?
Тут уж он завладел моим вниманием без остатка.
— Это только так считается! — сердито воскликнула я. На самом деле он не ошибался, но у меня не было настроения для шутливой пикировки по вопросам законных прав.
— И отчего это мне показалось, что если я решусь предъявить свои права, у эля в моей кружке появится какой-то ядовитый привкус?
— Белены скорее всего!..
Но я уже не могла сердиться на него. Сумела даже выдавить бледную улыбку, вспоминая тот день, когда по наивности поклялась себе, что стану приобретать землю, пока количество моих имений не сравняется с числом прожитых лет. Я тогда еще не могла предугадать, что страсть накапливать все новые богатства захватит меня целиком — лишь бы не оказаться без крыши над головой и без гроша в кармане, когда я уже не смогу опираться на Эдуарда. А может быть, приобретение поместий сделалось постепенно самоцелью, моей главной страстью — спорить с этим мне было бы трудно. Но если так, то я сама выковала оружие, которым меня поразили и свергли с высот. Впрочем, спикер де Ла Мар, думаю, сумел бы и без моей помощи отыскать оружие, чтобы отстранить меня от власти.
Не знаю, право… Да и какое это имеет значение теперь?
Виндзор заговорил хриплым от скрываемого волнения голосом:
— Ну, это так, между прочим. Но сидеть здесь сложа руки и вправду незачем. Берите девочек и…
— Эдуард составил завещание.
— О! Вы уверены?
— На рынке только и говорят, что об этом. Он умирает, Вилл. И, должно быть, сам это понимает.
Я слышала, как он вздохнул, отказываясь от дальнейшего спора. Не полагаясь на бесполезные слова, он взял меня за руку, отвел в гостиную (которую давно уже превратил в свой кабинет, где занимался деловыми вопросами) и усадил перед стопкой счетов.
— Сверьте для меня все цифры здесь, Алиса. Если и это не поможет вам отвлечься, то уже ничто не поможет.
— А вы разве Дженин Перрерс?
— Что вы хотите сказать?
Я улыбнулась — впервые за много дней по-настоящему улыбнулась. Я никогда не рассказывала ему в подробностях о своем первом браке.
— За этим занятием я проводила ночи с первым мужем.
— Боже сохрани и помилуй! — Он поцеловал меня в макушку. — И все же я буду неумолим. За дело, женщина!
Пресвятая Дева! Что за нудное занятие!
— И хорошо бы закончить все счета сегодня…
— Я вам что, счетовод?
— Нет. Вы моя жена, к тому же страдающая.
Я снова ощутила на макушке его поцелуй, потом он оставил меня за работой. Все тоскливые ноябрьские дни я провела за приведением в порядок финансовых дел Виндзора, потом своих собственных. Я была благодарна мужу за это, хотя меня и терзал страх, что отныне ничем другим я заниматься уж и не буду.
Однажды утром, когда кусты побелели от инея, а мне настолько наскучили счета, что я готова была изорвать гроссбух на листки, Виндзор вошел в комнату и отобрал у меня перо.
— Что еще? Я не желаю видеть еще хоть один документ о покупке поместий или…
— К нам только что прибыл всадник.
— Бродячий торговец? — зевнула я. Ладно, это хоть даст возможность отвлечься от бесконечных бумаг.
— Нет, более официальное лицо. Я бы сказал, королевский гонец. — Я тут же вскочила на ноги… — Алиса! Для вас в этом может таиться угроза…
— Откуда? Я выполнила их клятое постановление об изгнании до последней буквы!
— И все же…
— Ну, если бы меня хотели арестовать, то прислали бы отряд… — Я кубарем скатилась по лестнице раньше, чем приезжий успел подняться на крыльцо.
— Мистрис Перрерс…
Он приехал не для того, чтобы забить еще один гвоздь в сколоченный для меня парламентом гроб! Далеко не столь уверенная в себе, какой старалась выглядеть, я выхватила у него из рук послание, в спешке срывая печать.
— Принесите ему эля… — Сама я могла тратить время лишь на то, чтобы ознакомиться с содержанием документа. На мгновение зажмурилась, потом открыла глаза и стала читать…
Мне сразу бросилось в глаза слово «удаление», и от страха я покрылась потом, несмотря на ноябрьский холод. Потом я заставила себя читать помедленнее.
И страх понемногу отступил. Было отчего. Письмо написано дворцовым служащим по поручению Гонта. Удаление от двора отменено. Я могу возвратиться к Эдуарду. Все это уложилось в несколько строчек. Голова у меня закружилась, все чувства пришли в смятение, и я опустилась на ближайшую скамью.
— Вилл! — позвала я.
Он стоял в дверях и внимательно смотрел на меня, стараясь на моем лице прочитать содержание письма.
— Вы свободны?
— Да, — ответила я с глубоким вздохом. — О да! — И прижала бумагу к сердцу.
Благодарить за это я должна была Гонта, хоть и не знала, почему он на это пошел. Вспомнил о нашем прежнем союзе? Пожалел умирающего отца? Скорее уж решил еще раз досадить парламенту. Да не все ли равно? Он добился от Королевского совета постановления об отмене моего изгнания. Я вольна была ехать куда вздумается, вольна возвратиться ко двору. И снова увидеться с Эдуардом.
— И что? — спросил Виндзор, по-прежнему ожидающий моего решения.
Я встала со скамьи, чувствуя себя сильной, просветленной, обретшей власть, и медленно приблизилась к нему. Наверное, мои слова удивили не только его, но и меня саму.
— Вы — мой супруг. Мне нужно ваше согласие.
— Вы просите его впервые в жизни.
— Мне необходимо ваше одобрение, — ответила я, покраснев.
— А вы поедете, если я скажу «нет»? — На его лице отразилось сильное сомнение. Я колебалась, что на это ответить.
— Мы же привыкли говорить друг с другом начистоту, Алиса.
— Ну тогда — да, я поеду, хотите вы того или нет. Если я с ним не повидаюсь, это ляжет тяжким бременем на мою душу.
Он обнял меня за плечи, поцеловал в лоб, потом в губы. Мы обнялись напоследок, но столько еще осталось невысказанного, такие страсти кипели в глубине наших душ!
— Мне поехать с вами? — спросил он, не выпуская меня из рук.
— Не нужно.
— Мне, кажется, придется нанимать клерка, чтобы закончить со счетами, — сказал Виндзор с мягкой усмешкой.
— Он не будет таким старательным, — рассмеялась я, прижавшись к его рубашке из тонкой шерсти. Страхи, терзавшие меня столько недель подряд, понемногу отступали, теряли свою власть надо мной.
— Поезжайте к Эдуарду. — Меня глубоко тронуло прозвучавшее в его голосе сострадание. — А потом возвращайтесь ко мне, когда сможете. Когда все будет кончено.
Я позволила себе посмотреть на него, погладить пальцами его подбородок, решительно сжатые губы. Я достаточно хорошо знала его, чтобы понимать: за этой суровостью скрывается тревога за меня. Я прижалась к его губам.
— Хорошо. Я непременно вернусь.
Мои пожитки погрузили на двух лошадей, конюх и один из слуг Виндзора вскочили в седла, чтобы сопровождать меня, я поцеловала дочерей и как ветер помчалась в Элтхем, к Эдуарду. А что стало с документом, который официально возвращал меня из ссылки? Куда он подевался? Не могу припомнить. С несвойственной мне небрежностью я его не сохранила.
Позднее об этом пришлось пожалеть.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Вот и Элтхем. Бросив поклажу нераспакованной, я вошла внутрь, и на душе стало светлее при воспоминаниях об этом дворце, к которому Уикхем пристроил ряд новых покоев. Я шла напрямик к своей цели, впитывая в себя атмосферу дворца, и вынуждена была признать, что многое здесь стало другим. Виндзор не ошибся, сказав, что дворец лишился своего сердца. Мне показалось, что он стал напоминать покрытую пылью каменную гробницу. Попадавшиеся по пути слуги смотрели на меня с явным недоумением. Все они, как и прежде, кланялись или приседали в реверансах, никто не пытался меня остановить, только один, спрятав руку за спину, свернул пальцы колечком, отгоняя злых духов. Я все равно заметила. О том, что я ведьма, здесь помнили крепко.
Но это бы полбеды. Самое трудное — вернуть себе прежнее положение во дворце. Расставив ноги, скрестив на груди руки, готовый отразить вторжение целого воинства, у дверей в личные покои Эдуарда неподвижно застыл Роджер Бичем, новый камергер Эдуарда, сменивший Латимера. Заметив меня, он весь подтянулся. Я приехала сюда издалека, приехала быстро, а теперь этот наемник может не впустить меня к Эдуарду. Я-то знала, что мое удаление от двора отменено, однако прибыла сюда так скоро, что могла опередить это известие. Новость еще не достигла Элтхема — а может быть, и достигла, но вдруг этот прислужник все равно откажется меня впустить?
Вот сейчас я и выясню, сколь много власти у меня осталось. Наверное, совсем немного.
Бичем смотрел на меня как на тех надоедливых насекомых, которых никак не удается выжить даже из парадных комнат дворца.
— Вам нечего здесь делать! Закон запрещает вам находиться здесь! — Ни малейшего почтения, одно лишь откровенное неприятие — поведение Бичема подтверждало мои худшие опасения.
— Я желаю видеть короля, — ответила я как можно спокойнее.
— А я говорю, что вы сюда не войдете.
— Вы помешаете мне?
— Я не допущу этого, мадам!
— Мое удаление от двора отменено.
— И у вас есть доказательство?
Да, чего не было, того не было. Я спешила и даже не подумала, что документ может мне понадобиться. Хотя Бичем все равно не признал бы никакой бумаги, разве только прямое распоряжение короля с его подписью и печатью.
— Все постановления прежнего парламента признаны незаконными и недействительными, — спокойно сообщила я ему. — Так решил сам Гонт. — Несомненно, это имя имеет здесь достаточный вес.
— Мне об этом ничего не известно. — Решимость Бичема нимало не поколебалась.
Как мне хотелось, чтобы на его месте вновь оказался Латимер! И как этот монстр сумел избежать проведенной Гонтом чистки? Я показала на дверь, которую он заслонял собой.
— Пропустите. Король меня примет.
— Вас король не примет. — С этими словами Бичем вытащил из ножен меч.
Я не отступила ни на полшага.
— Если вы хотите остановить меня, вам придется пустить его в ход, сэр. — Я рукой отвела клинок в сторону. — На мне драгоценности королевы Филиппы. Я родила королю сыновей и дочерей. И вы не впускаете меня к нему?
Я изо всей силы застучала кулаком в дверь покоев Эдуарда.
Ответа не последовало. Как бы я ни пыталась убедить камергера, что король будет мне рад, сама я в этом отнюдь не была уверена. Снова громко постучала. Страх начал нарастать во мне, пока не сперло дыхание, а пальцы Бичема не сомкнулись на моем запястье — властно, жестко, неумолимо. Я забарабанила в дверь свободной рукой и громко позвала:
— Государь! Это Алиса! — Попыталась высвободиться из рук Бичема, но он держал меня цепко. Внезапно в глазах у меня потемнело. Меня изгонят отсюда. Обещание Гонта — всего лишь издевка…
— Ваше величество!.. — В моем голосе явственно звучал ужас.
Дверь отворилась.
— Что за шум и суета, Бичем? Мертвого можно поднять из могилы. Успокойтесь, дружище…
Тот отпустил мою руку.
Когда-то я могла входить к Эдуарду, прикасаться к нему, говорить с ним, и никто не мог мне помешать. Теперь я больше не имела на это права — если вспомнить слова, сказанные королем при расставании. Но сердце у меня сильно забилось, когда я увидела, что Эдуард держится на ногах самостоятельно, говорит безо всякого труда, четко и властно. В дверях стоял прежний Эдуард — монарх, царственный повелитель, пусть он и горбился, а щеки ввалились от старости. Не то чтобы он по-прежнему силен и крепок, но сил на то, чтобы стоять ровно, держась одной рукой за дверной косяк, ему хватало.
Я низко присела в реверансе.
— Милорд, я перед вами. — Выждала, пока выцветшие голубые глаза окинули взглядом мое лицо, и лишь после этого выпрямилась во весь рост. — Это Алиса. Я приехала к вам. Позвольте мне войти, побыть с вами.
Отвернется ли он, отвергнет ли меня? Мне показалась целой вечностью та минута, когда Эдуард всматривался в мое лицо. Наконец его глаза прояснились — узнал. Удивление в его взгляде мешалось с нескрываемой радостью.
— Алиса…
— Да, вот я здесь.
— Я спрашивал о тебе. А мне говорили, что тебе нельзя быть со мной… — Он вдруг протянул ко мне руки, и я вложила в них свои ладони.
— Теперь я здесь. Давайте войдем, — предложила я с вернувшейся уверенностью и шагнула через порог.
Глаза Эдуарда увлажнились, но он держал себя в руках, и память ему не изменяла. Как в былые дни, он поклонился и поднес мои пальцы к губам — сначала одну руку, потом и другую.
— Я скучал по тебе, — сказал он просто.
— Мне было невыносимо думать, что вам приходится оставаться в одиночестве.
— Тебя не пускали ко мне…
— Это не я так решила. Но ваш сын меня выручил. И теперь я могу быть здесь, с вами.
— Так входи же… Поговорим.
Он вел меня по комнатам, и я ясно ощущала, как мучительно текли для него минувшие месяцы. Мы были вынуждены двигаться медленно, Эдуард всякий раз подволакивал правую ногу, а рука, которую я держала, была напряжена от усилий, которые он прилагал, чтобы идти самостоятельно. Но настойчивости ему хватало, и мы добрались наконец до большого покоя.
— Алиса… — Не успел он выговорить следующее слово, как я упала перед ним на колени. — Что ты?
— Я должна молить вас о прощении, государь.
— Еще минуту назад ты называла меня Эдуардом и требовала, чтобы тебя впустили. А теперь стоишь на коленях. Я помню Алису не такой. — Призрак улыбки исказил его некогда красивое лицо — правая сторона не подчинялась его желанию улыбнуться.
Я низко опустила голову. Мне было не до смеха.
— Я причинила вам боль. Я изменила вам.
— Было, было. Следовало сразу рассказать мне о нем. Наверное, я бы тебя понял.
— Какой мужчина поймет, если женщина тайком выходит за другого?
— Ладно… Чего я не понимаю — почему именно за Виндзора? Почему ты выбрала такого человека?
Мне в голову не пришло никакого ответа, который мог бы объяснить, почему мы с Виндзором всем существом потянулись друг к другу.
— Он позаботится обо мне, — только и сумела сказать я.
— Да, он сумеет, насколько я понимаю.
— Моя верность вам ничуть не поколебалась, милорд.
— Но ты же молодая женщина, а я…
— Милорд… Простите меня…
— Что ж, нужно иметь мужество признавать границы своих возможностей. Плоть моя не желает прислушиваться к желаниям моего сердца. — И снова эта разрывающая мне душу улыбка. — Сколько стариков говорили это, когда молодая любовница начинала посматривать на сторону? Я не первый. И не последний.
Его прямота поразила меня. К тому же я не могла объяснить ему, что к Виндзору меня влечет не только плотская страсть, но и сходство наших взглядов на жизнь.
— Не по своей воле мне пришлось покинуть вас, милорд. Простите ли вы меня?
— Ты же знаешь, что прощу. Хватит, вставай. Мне слишком утомительно смотреть на тебя сверху вниз. — С тенью своих прежних гордых, изящных манер он поднял меня на ноги. — Ты приехала, чтобы остаться со мной?
— Да. Если вы этого пожелаете.
— А разве я не желаю, чтобы завтра утром взошло солнце? Ты моя, ты мне необходима, если только сможешь терпеть слабости старика.
— Я хочу остаться с вами.
Эдуард наморщил лоб, и мне стало жаль его.
— Те, кто не любит тебя, утверждают, что у тебя нет сердца, Алиса. Что ты холодна, как камень. И тверда, как кремень. А что на это скажешь ты?
Я печально посмотрела на него, сглатывая подступающие слезы.
— Не играет никакой роли, что скажу я. Что скажете об этом вы, милорд? — Подчеркнуто ласково я взяла его руки в свои и положила их ладонями себе на грудь, туда, где билось сердце. — Что вы скажете?
— Я скажу, что со мной ты никогда не бываешь холодна. — Он подался вперед и поцеловал меня в лоб. — Ты нежна, как Божье благословение, от тебя исходит тепло, как от летнего солнышка.
Мы оба понимали, что имя Виндзора больше не должно звучать в наших беседах. По молчаливому уговору, пока жив Эдуард, мужа моего как бы не существовало. Эдуард повернулся и с трудом дошел до ложа с расшитым его геральдическими эмблемами пологом.
— Утомился я, Алиса. С тех пор как ты уехала, я не спал по-настоящему. По крайней мере, мне так кажется… Иногда память меня подводит…
— Значит, вам необходимо поспать сейчас. А я побуду с вами.
Я помогла ему возлечь на величественное ложе, которое некогда мы делили с ним. Сама села рядом, положила голову на подушки, не выпуская руки Эдуарда; веки его стали смыкаться.
— А знаешь… — пробормотал он. — Когда мне сказали, что тебе нельзя приходить сюда, что мы разлучены навеки, меня это буквально раздавило. Такое чувство не слишком-то подобает королю, а?
— Королю — да. Зато приличествует человеку благородному и учтивому. Влюбленному. — Я крепче сжала его руку.
— Я думал, что больше не увижу тебя…
— Но я ведь уже здесь.
— И теперь все будет хорошо.
— Все будет хорошо.
Я не отпускала его руку, пока им окончательно не овладел сон. Мне хотелось бы уверить Эдуарда в том, что он снова окрепнет и предстанет во всем блеске королевского величия. Уверить, что ясность рассудка его больше не покинет, что до конца дней своих он будет видеть мою любовь и заботу. Но сказать всего этого ему я не могла. Подозревала, что нынешнее просветление сознания долго не продлится. Ну, эти размышления могут подождать до худших дней.
Плакала ли я над ним?
Пока еще нет. Ему бы это не понравилось, а я должна была сделать для него все, что в моих силах. Останусь с ним до самого конца. Виндзор меня поймет.
Уж в этом, слава Богу, я могла быть вполне уверена.
Вопреки моим страхам, Эдуард цепко держался за жизнь, а в голове у него крепко засела мысль о последнем красивом жесте. Здоровье не позволяло ему путешествовать, однако он был преисполнен решимости настоять на своем. Его сила воли всегда меня восхищала.
— Я этого добьюсь. На этот счет не потерплю никаких возражений! Уж хотя бы это одно я сделаю во что бы то ни стало! Ты меня слышишь, Алиса? — Я слышала, а кроме того видела вспыхнувший в его глазах прежний огонь неукротимого царственного духа Плантагенетов. Только длилось это недолго, до боли недолго. Голова поникла, упала на грудь, он впал в дремоту. Но и после пробуждения все та же мысль упрямо сверлила его сопротивляющийся старости и болезням разум.
— Я желаю воссесть за столом в Круглой башне Виндзорского замка, которую возвел Уикхем, даже если меня внесут в залу на носилках.
Приближался День святого Георгия[98], последний в жизни Эдуарда, независимо от того, поедет он в Виндзорский замок или нет. Лекари предупредили о том, что ему необходим полный покой. Я отшатнулась при мысли о том, какие ужасные последствия ждут его, если я соглашусь. Это невыносимо!
— Распорядись насчет этого, Алиса. — Даже перекошенным ртом он был еще способен отдавать прямые приказы. — Неужели ты помешаешь мне сделать то, что доставит столько радости тебе самой? Думаю, ты мне не откажешь.
Я вспыхнула при этих словах, но продолжала стоять на своем.
— Самое главное для меня — это ваше здоровье, Эдуард!
— Это я знаю. Как знаю и то, что ты позволишь мне довести это дело до конца. — Запас сил истощался, язык его начал заплетаться, но он крепко держал меня за руку. — Сделай, как я прошу, Алиса!
Ну как я могла ему отказать? Эдуард изо дня в день держался только силой воли. Он хотел побывать в Виндзорском замке — пусть побывает.
— Я распоряжусь. Но вы знаете, чего я попрошу за это.
— Знаю. — Он тяжело вздохнул: я возложила на его плечи тяжкое бремя. — Разве я не знаю тебя как самого себя? Ты просишь о трудном деле, Алиса…
— Просто быть там, все видеть. Разве это так уж трудно?
— Это против правил… — Он еле выговорил эту фразу.
— Вы наделены властью делать любые исключения из любых правил.
Ах, как мне хотелось там оказаться, даже словами трудно передать! Возможность отпраздновать День святого Георгия в этом году значила для меня ничуть не меньше, чем для самого Эдуарда. Я не ожидала, что из-за этого на меня польется такой поток злобы. Впрочем, не так уж это было неожиданно…
— Это совершенно неприлично, милорд! Ее нельзя туда допускать!
Это бушевала принцесса Джоанна. Овдовев, она стала куда настойчивее совать свой нос в дела двора. Не прошло и недели, как она принялась со всех сторон осаждать Эдуарда.
— Но ради такого случая… — Возможно, Эдуард сожалел о том, что разгорелась бурная ссора с принцессой, однако меня он был готов отстаивать до конца. Да только Джоанна ринулась на него, как английская кавалерия, растоптавшая французов при Пуатье.
— Она не награждена орденом Подвязки[99]. Только особы королевской крови удостаиваются подобного отличия. Только Филиппа и Изабелла. Вы же сами так постановили, милорд. Неужели вы поставите какую-то простолюдинку на одну доску с вашей царственной супругой? — Она сознательно умолчала о том, что именно это и произошло, когда я исполняла роль Повелительницы Солнца. — Даже меня туда не допускают…
— Я слышу тебя, Джоанна, — поморщился Эдуард и устало махнул рукой. — С традицией трудно не считаться, тем более что эту я создал сам… — Он улыбнулся мне виноватой улыбкой.
«Раз уж вы сами ее создали, то властны сами и изменить!» Но я видела, как его раздражают эти споры, и закрыла рот, не высказав своих доводов. Пусть Джоанна празднует маленькую победу — разве я не готовлюсь одержать куда большую? И моя победа доставит мне миг светлого торжества.
— Ты поедешь вместе со мной, — приказал Эдуард, порывисто взяв меня за руку.
— Я поеду в Виндзор вместе с вами, — подтвердила я.
— Но она не будет присутствовать на парадной церемонии, — тут же добавила Джоанна для пущей уверенности.
Ну, поживем — увидим.
Мы продумали и подготовили все как можно тщательнее: поплывем по реке и прибудем к цели за день до торжественной церемонии, чтобы жителям Виндзора не пришлось смотреть, как король въезжает в их город не на горячем боевом коне, а в носилках. Уж от позора я его оберегу. Но вот сможет ли он сам войти в парадную залу? Сможет ли поднять большой церемониальный меч?
Это все было в руках Божьих.
И вот забрезжила заря долгожданного дня. Эдуард подкрепился завтраком, щеки его раскраснелись от кубка вина, тело налилось силой. Я отошла подальше, пока слуги облачали и готовили короля к празднеству и предстоящему испытанию. Поверх согревающей шерстяной рубашки, отороченной мехом, на высохшее тело надели великолепные парадные одежды, которые придавали Эдуарду подобие величия. Я отступила в сторонку, когда он гордо вскинул голову и медленным шагом, тяжело опираясь на плечо одного из своих рыцарей, прошествовал в залу, дабы занять место за обширным круглым столом.
О чем он думал в ту минуту? Ответ на этот вопрос я знала: вспоминал самую первую церемонию, состоявшуюся более тридцати лет назад, когда сам он был в расцвете молодости и сил, когда на торжество съехался цвет европейского рыцарства, когда рядом с ним была Филиппа, председательствовавшая на всех последующих празднествах[100]. В этом году особых празднеств, на которых кто-то председательствует, не будет — Эдуарду хватает сил не больше чем на один час. Ну хоть у Джоанны не будет оснований добиваться этой чести для себя. И меня — блудницу, любовницу — не допустят на праздник для посвященных. В торжественном рыцарском ритуале участие королевской фаворитки не предусматривалось, и Эдуард не мог здесь ничего для меня придумать, в отличие от того дня, когда я была Повелительницей Солнца. Я только могла вообразить себе всю церемонию…
Мое внимание привлекла приближающаяся процессия молодых людей в алых одеждах, и я смотрела не отрываясь на одно-единственное лицо среди них.
Меня не смогут не допустить на церемонию! Я не буду отсутствовать на этом славнейшем событии, которое увенчает труды моей жизни. Я тихонько проскользнула в дверь и отошла влево, в тень большого расшитого занавеса, ниспадающего складками. Я просто постою здесь. Посмотрю молча.
Двенадцать юношей, новое поколение властителей Англии, и в жилах почти каждого течет королевская кровь. Я всех их знала в лицо. Два внука Эдуарда первыми преклонили колено и ощутили прикосновение меча к одному плечу, затем к другому: худенький светловолосый Ричард Бордоский, наследник трона; Генри Болингброк, сын Джона Гонта. Вслед за ними — Томас Вудсток. Потом другие юноши: Оксфорд и Солсбери, Стаффорд и Моубрей, Бомонт и Перси. Отпрыски самых знатных фамилий Англии получали от Эдуарда посвящение в рыцарское звание. Я не зря опасалась: его рука так ослабела, что большой церемониальный меч дрожал в ней, однако воля короля, как всегда, поддерживала его силы. Я знала, что он выдержит все до конца, пусть и потребуется глоток-другой вина, чтобы подкрепить его.
Каждый преклонял колено, принимал честь носить звание рыцаря, поднимался на ноги и отступал назад. Но я выискивала среди них только одно лицо — то самое, при виде которого мое сердце начинало гулко стучать. Вот он и появился.
Джон. Наш сын. Мой сын!
Побледневший от волнения Джон опустился на одно колено, и волосы его засияли в потоках света, льющегося в высокие окна. В свои тринадцать лет он был еще неуклюжим подростком, но к сегодняшней церемонии его хорошо подготовили. Я затаила дыхание; Эдуард в последний раз поднял тяжелый меч; наш сын вскинул голову, принимая посвящение в рыцари. Меня переполняло чувство гордости. Место, которое я занимала в жизни Эдуарда, подвергаясь за это насмешкам и оскорблениям, было торжественно признано на глазах у всех. Я выскользнула из залы. Все, что мне нужно, я уже увидела. Мой сын стал рыцарем ордена Подвязки, и я задыхалась от переполнявших меня чувств.
— Отвези меня в замок Шин, — велел Эдуард, когда юноши, прошедшие торжественную церемонию, стали оживленно беседовать друг с другом, то и дело разражаясь веселым смехом. — Я умру там.
Я испугалась, что может так и случиться.
— А в чем дело? — спросила я, когда мы тронулись в путь, и на лицо Эдуарда легли горестные тени.
Он лишь покачал головой вместо ответа.
— Я ведь не отстану, пока не скажете!
— Есть у меня на сердце одна печаль…
— Ну, это дело поправимое.
— Нет, этого не поправишь. Я позволил государственным соображениям перевесить понятия дружбы. То было горькое заблуждение, простить которое, мне думается, невозможно.
Он закрыл глаза и не сказал больше ничего, а я, как ни ломала голову, все не могла догадаться, что так тревожит его душу. И как же я смогу помочь, коль не могу понять, в чем дело?
И только ночью мне пришла в голову здравая мысль. Я поняла, что нужно делать — и быстро, не теряя времени.
Эдуард лежал в постели, грудь его едва вздымалась, лицо совсем побледнело, а кожа почти просвечивала, будто жемчужина, какие находят на устричных отмелях Темзы. Время от времени через полуоткрытые губы вырывалось дыхание, и по одному этому можно было догадаться, что жизнь еще теплится в нем. Час его пробил: долгая героическая жизнь, принесшая Англии столько славы, подходила к своему концу.
У смертного одра в последний раз мне пришлось находиться, когда умирала Филиппа. Я чуть усмехнулась, подумав о той поразительной лжи, на которую ее толкнуло сострадание. Улыбка тут же погасла: кто мог тогда предвидеть последствия? Кто мог подумать, что Эдуард со смертью горячо любимой жены вступит на путь, неотвратимо ведущий его к упадку? За последние восемь лет ему всякий день остро не хватало ее. Я для него стояла на втором месте, так было всегда. Я знала это и давно смирилась. Сегодня Эдуард сложит с плеч своих тяжкое бремя.
А я — свое.
В изножье кровати стоял на коленях духовник Эдуарда, бросая на меня свирепые взгляды. Отец Годфри де Мордон, человек исключительно начитанный, блестящий оратор, сторонник жесткой морали, с малопривлекательным лицом, напоминавшим морду хорька. Я не любила его так же сильно, как и он меня, но молиться ему не мешала. Просто сидела и смотрела, как жизнь неумолимо покидает Эдуарда, пока в мои думы не вторгся голос священника.
— Его величеству нужно исповедаться.
— Потом.
Он немного помолчал.
— Будет лучше, если вы отсюда уйдете.
Я пропустила мимо ушей намеренную непочтительность обращения.
— Я все же останусь.
— Вам нет здесь места, когда король исповедуется в грехах своих. — Мрачный тон священника яснее слов говорил о том, что меня он считает самым тяжким из этих грехов.
Я поразмыслила над этим, пока священник крестился и тянул очередную «Аве»[101]. Отец Годфри почитал Филиппу святой, меня же — худшей из дочерей Евы. Я смиренно сложила руки на коленях. Что сказал бы этот поп, если бы я ему поведала, что кое в чем совершенно не повинна. Откуда ему было знать, кто именно сделал так, чтобы король Англии взял себе в любовницы девушку без роду и племени, лишенную как красоты, так и благородного воспитания?
Эдуард вздохнул, рука его судорожно сжала край одеяла. Ладно, то все дела далекого прошлого. Этот поп не пожелает выслушивать мои оправдания. Мы пришли к концу долгого и трудного пути. В душе мне очень хотелось помолиться о том, чтобы Эдуард удержал связывающую нас нить, но делать этого я не стала: он сам хотел уйти. Он достаточно терпел свою слабость и провалы в памяти, унизительные для королевского достоинства. Поэтому я теперь молилась лишь о том, чтобы смерть наступила быстро и безболезненно, чтобы он мирно уснул вечным сном.
А когда все будет кончено, что тогда?
Ну что же — придет конец и моей службе при дворе. Королевской фавориткой мне оставалось быть уже не годы, а часы и минуты. Когда ушла из жизни Филиппа, я перестала быть фрейлиной, но тогда меня выручил Эдуард. Теперь спасать меня некому.
И как же мне быть?
Я, понятно, вернусь к Вильяму де Виндзору, но со смертью короля по моим следам вновь могут кинуться злобные волки, и кто знает, сумеет ли Джон Гонт отогнать их? Мысли о Виндзоре меня успокоили. Он придаст мне сил, крепко обнимет, развеет кошмары своими сильными руками и жаром прижимающегося ко мне тела.
По ту сторону ложа Джон Беверли все прибрал, привел в порядок, сделал все для того, чтобы королю было как можно удобнее.
— Ступайте, — тихонько проговорила я. — Больше вы ничего не в силах для него сделать.
Мы со священником остались наедине с Эдуардом, погрузившимся в предсмертное забытье. Я вдруг почувствовала себя страшно уставшей и закрыла глаза.
— Мистрис Перрерс! — царапнул меня по нервам голос священника, поднявшегося с колен. — Его величество должен исповедаться перед Богом…
— Разумеется. — Да, это необходимо, но у меня мелькнула одна мысль. Очень хотелось немного уязвить слишком самодовольного служителя церкви, который презирал меня до глубины души. — Раз вы поднялись на ноги, возьмите на себя труд зажечь побольше свечей. Слишком уж здесь темно.
Эдуард должен умереть при свете, в сиянии власти, а не в темной комнате, лишенный всех атрибутов своего сана и должного почтения. Он не холоп какой-нибудь.
— Так не положено…
— Зажигайте! Почему он не может умереть при свете, как жил всю жизнь?
С величайшей неохотой отец Годфри подчинился, и вся комната ярко осветилась, будто перед началом королевского пира. Я тронула Эдуарда за руку, уже без уверенности в том, что он проснется. Однако веки его слабо дрогнули. Он повернул ко мне голову.
— Пить.
Говорил он тихо, с трудом, дышал тяжело. Я налила в кубок вина, поднесла к его губам, потом взбила повыше подушки, чтобы ему было удобнее смотреть на нас. Его взгляд упал на корону, которую я приказала принести сюда и положить на ложе рядом с ним.
— Это ты распорядилась? — спросил он, едва шевельнув губами, — все, что осталось от его некогда неотразимой улыбки. — Спасибо. — Протянул руку и коснулся усыпанного драгоценными камнями золота. — Надеюсь, я поддерживал веру всеми силами, какие Господь мне даровал… — Сердце мое переполнилось восхищением перед ним и болью от неизбежной скорой потери. Эдуард снова тяжело вздохнул. — Она уже больше не принадлежит мне. Ее станет носить мальчик, да поможет ему Бог и да укрепит его. Разве может десятилетний ребенок?..
— Вас ждут сейчас дела более важные и неотложные, государь. — Священник шагнул к ложу и поднял висевшее на шее распятие. — Вашей бессмертной душе…
— Рано. Душа подождет.
— Государь… Я призываю вас покаяться в грехах.
— Я сказал: рано. Поговори со мной, Алиса.
Поговорю. Без слез и причитаний. Притворимся, что нам некуда торопиться, и я стану, как всегда, развлекать короля. Эдуард умрет так, как ему хочется. Я присела на краешек постели, повернулась спиной к священнику — словно мы с королем наедине, как часто бывало когда-то.
— О чем поговорим? — спросила я.
— О днях моей славы. О том времени, когда я был самым могучим королем Европы.
— Что же я скажу? Я еще не знала вас, когда вы одержали свою блестящую победу при Креси.
— Ах да!.. Я и забыл. Ты же была тогда ребенком…
— Даже не родилась еще.
— Верно… Тогда со мной была Филиппа.
— Конечно. Она ни на минуту не переставала любить вас за все годы, что провела с вами вместе.
— Государь!.. — высунулся из-за моей спины священник.
— Оставьте его в покое!.. — шикнула я на него.
— Тогда давай вспомним тот день, когда мы в последний раз охотились на оленей в Элтхеме, — попросил Эдуард.
— Ваши гончие подняли матерого оленя. Конь под вами был выносливый, и вы мчались за дичью, не уступая никому. — То было в один из дней, когда к нему вернулись силы. У меня перехватило горло.
— Никому, правда ведь? Несмотря на свои годы…
— Никто не мог сравниться с вами.
— Славный был денек. — Эдуард прикрыл глаза, словно видел мысленным взором картины былого величия.
— Это святотатство — говорить с ним об охоте, — прошипел мне отец Годфри. — И потакать ему в этом. — Он повернулся к Эдуарду. — Государь!..
Король поднял на него усталые глаза.
— Я еще не умер, Годфри.
— Вам нужно примириться с Богом!
— Как? — Взгляд Эдуарда вдруг стал до ужаса проницательным. — Просить прощения за всех, кто пал на полях сражений во Франции? И вы воображаете, будто Он простит мне то, что я послал стольких людей на смерть?
— Простит, если вы покаетесь. — Отец Годфри снова высоко воздел распятие.
— Как может он каяться в том, что принесло ему величие и славу? — вмешалась я.
— Перестань, Алиса! — Как всегда, Эдуард проявлял больше сдержанности, чем я. — А помнишь, как мы пускали соколов со стен Виндзорского замка? Вот на это стоило посмотреть… — Эдуард умолк, слышалось только его тяжелое дыхание. Потом позвал меня: — Алиса!
— Я здесь.
— Мне… очень жаль, что все это закончилось.
— Он уходит от нас. — Отец Годфри налетел на меня, как жалящее насекомое. — Дайте же ему покаяться. Он не должен умереть без отпущения грехов.
— Он поступит так, как пожелает сам. — Я погладила руку Эдуарда, ощущая, какой хрупкой она стала. — Он всегда делал все по-своему. Всевышний неизменно являл ему Свою милость и знает за ним много благочестивых дел, так что в рай он попадет независимо от отпущения грехов.
— Пресвятая Дева! Уговорите же его исповедаться!
Терпение мое лопнуло. Я вскочила на ноги, вынудив священника попятиться.
— Ступайте прочь!
— Я никуда не уйду, — заупрямился отец Годфри, но смотреть мне в глаза не посмел. Я подошла к двери, распахнула ее.
— Позовите Уикхема сразу, как только он приедет, — приказала я дворянину, стоявшему на часах у двери, и увидела, как лицо Эдуарда осветилось радостью. Единственное, о чем он еще сожалел, — это о разрыве с Уикхемом. Я правильно поступила, когда решила вызвать его сюда. Если уж кому и отпускать грехи Эдуарда, так только Уикхему.
— Когда король умрет, кто сможет защитить вас, мистрис? — сердито бросил мне отец Годфри, тихонько выходя из королевской опочивальни.
Увы, он повторил мысль, неотступно терзавшую меня.
* * *
Уикхем приехал, и Эдуард, оживившись, приветствовал его немного неуклюже и даже небрежно, что ничуть не огорчило невозмутимого прелата.
— Это ты, Уикхем? Ты чуть было не опоздал! Ну, давай покончим с… Я прошу у тебя прощения за то, что незаслуженно уволил от должности. И еще я каюсь во всех своих грехах. Довольно этого?
— Лично я глубоко благодарен вашему величеству. — В глазах Уикхема блеснули слезы, которые он сдерживал усилием воли. — Что же до Всевышнего, то я полагаю, Ему требуется от вас гораздо больше, государь.
— Так отмоли мои грехи сам, черт возьми. — Эдуард попытался улыбнуться, в нем вспыхнула на миг искорка прежнего огня. Я стояла рядом, радуясь этому желанному примирению. — Для чего я сделал тебя епископом, если ты не можешь даже замолвить за меня словечко перед Господом Богом? — Он произносил дерзкие слова, но голос уже едва повиновался ему.
— Я не уверен, что Господь Бог примет посредничество третьего лица, когда речь идет о грехе блудодейства. — Меня удивила резкость Уикхема, но, в конце концов, он был священником. — И о прелюбодеянии, — добавил он. — Если вы надеетесь получить прощение, то должны сами покаяться в этом грехе.
— Тогда, значит, гореть мне в аду. Я не предам Алису своим покаянием. И о колдовстве мы речь вести не станем, никто меня не привораживал. Все поступки я совершал по своей воле, мне за них и ответ держать. — Эдуард сжал мою руку, отдышался. — Судя по всему, совсем скоро. Я вижу, что смерть уже ждет у дверей своего часа. — Эдуард посмотрел на меня, но теперь взор его затуманился. — Как ты думаешь, Филиппа встретит меня там?
— Надеюсь, встретит.
— Встретит… Как хорошо будет повидаться с ней… — Мне стало больно от этого удара, нанесенного так внезапно, однако я должна была его ожидать. Все равно больно. — Помоги мне приподняться, Алиса.
Я встала коленями на ложе, протянула руки, обхватила его за плечи, ужаснувшись тому, каким он стал худым, почти невесомым. Я давно уже предвидела наступление этой минуты, но теперь, когда она настала, меня ужаснула ее неотвратимость. Эдуард уходил от меня, я теряла и его, и ту жизнь, средоточием которой он был. Разум мой так застыл от страшной неизбежности, что я была не в силах вымолвить ни слова. Заговорил Эдуард.
— Ты ведь не была ведьмой, правда?
— Правда. Не была. Вы и без меня всегда знали, как вам поступать.
— Знал, знал. — Он сделал глубокий вдох. — Забери их себе… — Тело его слегка затряслось от неслышного смеха. — Забери, как я и говорил. Сам я не могу этого сделать… но ты можешь. Они твои… чтобы ты окончательно могла быть уверена: нищета тебе не грозит… — Он снова с трудом набрал воздух в легкие. — Ты осветила мои последние годы, была отрадой моей старости. — Тяжелое дыхание стало прерываться. — Ты когда-нибудь жалела, Алиса? О том, что мы делали?
— Нет. Ни о чем никогда не сожалела.
— И я тоже. Я люблю тебя… — Голос его замер, потом он чуть слышно прошептал: — Иисусе, смилуйся надо мною.
И перестал дышать.
Так великий король Англии скончался у меня на руках, положив голову мне на грудь. Кожа его засияла, отражая свет свечей, будто он уже был в раю. А я погубила свою душу, отказавшись сожалеть о чем бы то ни было.
— Смилуйся над ним, Господи. — Уикхем, не поднимаясь с колен, перекрестил усопшего.
— Прощайте, Эдуард. — Я не стала рыдать сразу. — Когда вы приблизитесь к престолу Господню, Филиппа будет рядом с вами.
Я выпрямилась и исполнила свой последний долг перед Эдуардом: убрала подушки, чтобы он лежал ровно, пригладила ему волосы, поправила простыни, закрывая его до самого подбородка, как он и хотел, потом уложила вытянутые руки вдоль тела, ладонями вниз.
А потом… раз уж он сам напомнил об этом… я стала снимать с его пальцев перстни. Большой неограненный рубин. Сапфир с алмазами по бокам, окруженный множеством жемчужин. Перстень с тремя бериллами. Великолепный аметист, красующийся в гордом одиночестве. Я сняла их один за другим, задушив все чувства усилием воли. Самоцветы засверкали на моей ладони…
Уикхем, прервав молитву и громко выругавшись, вскочил на ноги.
— Ради Бога! Что вы делаете?
Я повернулась и посмотрела ему в глаза. Яркий свет озарял его лицо, резко выделяя глубокие морщины и не оставляя места сомнениям в том, что именно он думает о моем поступке: негодование его было столь сильным и острым, что пронзило мне сердце. На мгновение я была так поражена, что не могла шелохнуться. Неужто Уикхем, лучший из всех церковников, каких я только знала, верит, что я способна обобрать покойника? Из одной только жадности снять с мертвого тела Эдуарда все, что представляет хоть малейшую ценность? Неужели даже Уикхем считает меня способной на подобную низость? «Жалеешь ли ты о чем-нибудь?» — спросил меня Эдуард, и я ответила, что не жалею. Однако иной раз окружавшее меня злословие становилось слишком тяжким бременем. Отчего же я одна должна служить мишенью всеобщего осуждения?
Чувства горели во мне не менее жарко, чем в Уикхеме, хотя и с большей, я думаю, злостью. Злость и ярость смешались с острой горечью потери, образуя дьявольскую смесь. Значит, Уикхем думает обо мне самое плохое, вот как? Ну что же, раз он готов осудить меня столь же решительно, как и отец Годфри, пусть так и будет. Отчаяние породило во мне желание причинять боль и самой ее испытывать, желание столь сильное, что я не могла ему противиться. Во мне кипела ярость. Самобичевание. Жажда крушить все вокруг.
Ну и пусть!
Я порву узы так называемой дружбы с Уикхемом. Растопчу остатки его уважения ко мне. Буду держаться так, как повелевает мне дурная молва. Кому какое дело? Единственный человек, которому я не была безразлична, уже умер.
«Виндзору ты не безразлична!»
Эту мысль я тут же прогнала прочь.
О, лицемерить я научилась в совершенстве, как и смеяться над собой. Подняла руку, в которой мириадами искр засверкали перстни, отражая пламя множества свечей. Уикхем меня уже рассудил и осудил. Я дам ему требуемые улики.
— Разве я не заслуживаю этого за то, что отдала старику свою молодость? — вызывающе спросила я у него. Никогда еще я не говорила с ним таким холодным, бездушным тоном.
— Вы грабите покойника, — проговорил пораженный ужасом Уикхем, словно не в силах был поверить собственным глазам. Я стянула с большого пальца Эдуарда украшенный опалами перстень, ощущая на себе пламенный взор Уикхема. — Мерзость творите вы!
— Это жестокие слова, Уикхем! — Я положила перстень в свою горсть, рядом с остальными.
— Некогда я считал, что вы достойны моей дружбы. И не верил тому, что о вас говорят…
Дружбы? Боже правый! Я только что видела границы, через которые не в силах переступить его дружба: он осудил меня без всякого суда.
— Глупенький Уикхем. Надо было вам прислушаться к всеобщей молве. — Я гордо вскинула голову, молясь только о том, чтобы меня не выдали слезы, подступившие к горлу и уже душившие меня. — А что обо мне говорят? Придворные, члены Палаты общин?
— Вы и сами знаете, что они говорят.
— Но скажите это своими устами. Доставьте мне такое удовольствие. Я хочу услышать собственными ушами. — Ах, как мне хотелось, хлестать, ломать и крушить все вокруг! И самой почувствовать боль от ран. Пусть я заново услышу распускаемые обо мне гнусные сплетни. От горя и злости я окончательно потеряла голову.
— Говорят, что вы шлюха, у которой нет ничего святого за душой… — проговорил он, и губы от отвращения сжались в тоненькую ниточку.
— Хорошо, так и есть.
— …и что у вас нет никакого стыда.
— И все? — Кажется, я вызывающе тряхнула головой. — Мне кажется, что говорят еще и похуже.
— Вы шлюха, жадная, алчная, своекорыстная. — В его глазах сверкнул огонь праведного гнева.
— Клянусь, это уже ближе к истине!
— Неужели ничто не в силах вас устыдить? — Ярость вдруг обуяла его не меньше, чем меня, он заговорил, не стесняясь в выражениях: — Говорят, что вы затрахали короля, чтобы отнять у него всю силу и власть. Вы ничтожная тварь, прелюбодейка, предавшая королеву Филиппу и…
Я дала ему пощечину. По-настоящему ударила изо всех сил по щеке свободной рукой. И этот человек всегда считался моим другом, зная, что на самом деле кроется за придворными пересудами!
— Ваше преосвященство! — воскликнула я с укором в голосе. — Это недостойно! Да еще произносить самому подобные непристойности! — Я рассмеялась.
— А вам не нравится правда, вот как? — не остался он в долгу. Щека его пылала.
— Я не думала, что вы и впрямь скажете мне такое в лицо. Действительно не предполагала… Но вот что я вам отвечу: всегда верьте тем сплетням, которые передают в борделях и прочих домах разврата. Всегда верьте тому, что говорят о женщине, которая осмеливается пользоваться теми способностями, которыми наделил ее Господь Бог. — В эти слова я вложила все презрение, на какое только была способна.
Мгновение Уикхем не мог вымолвить ни слова. Потом молча показал пальцем на лежавшие в моей горсти драгоценности.
— Вы горды тем, что совершили?
— А почему бы и нет? Не будь я шлюхой, для которой нет ничего святого, я оказалась бы в сточных канавах Лондона. Или вообще умерла бы. Или стала бы монашкой, что еще хуже, наверное.
— Господи, сжалься над нею. — Уикхем простер руку и ткнул пальцем вперед. — Один вы пропустили! Еще остался перстень с изумрудом. Не бросайте его просто так — этот перстень дороже всех остальных, вместе взятых. На него вы сможете прожить в шелках и мехах до конца своей презренной жизни!
Изумруд. Я не двинулась с места.
— Зачем же останавливаться теперь? Или в вас вдруг пробудились благородные чувства? Вы стащили с него все, до чего смогли дотянуться. Забрали себе то, что по праву принадлежало Филиппе. Его дружбу, верность, привязанность в старости… — Я отшатнулась было при последних словах, но быстро поняла, что они значат: Уикхем бичевал меня, разрываемый собственным горем, — пусть его. — Забирайте! — прошипел он, стащил перстень с пальца и протянул мне.
— Нельзя…
— Ну, вам-то еще как можно!
— Это личная королевская печать… — Я отступила на шаг.
— И давно вас останавливают такие мелочи?
— Это коронационное кольцо… Оно принадлежит теперь Ричарду… Эдуард не мог подарить его мне…
Тут я допустила ошибку и поняла это сразу, едва открыла рот. От нескольких необдуманных слов все возведенное мной здание рухнуло. Уикхем молча уставился на меня, лицо его побелело, лишь следы моих пальцев остались красными. Он уронил руку, державшую кольцо с изумрудом.
— Ах, Алиса!
Наполнявшая опочивальню злоба рассеялась, теперь здесь царили лишь тишина и холод, несмотря на яркий свет множества свечей. Наконец горе обрушилось на меня, как буран зимой, и слезы прорвались наружу, как ни старалась я их сдержать.
— Алиса…
— Я не нуждаюсь в вашей жалости, Уикхем. — Вся моя бравада улетучилась, и я отвернулась от него. — Прощайте, Эдуард. Надеюсь, мне удалось дать вам счастье в то время, когда вы на него уже не надеялись. — Я в последний раз поцеловала его руку, опустившись на колени. — Я любила его, вы же знаете. Вопреки всему. Он всегда был таким добрым. Наверное, он немножко любил меня. Я не Филиппа, и все-таки мне кажется, что он меня любил…
— Куда вы теперь направитесь?
— В Палленсвик.
— К сэру Вильяму?
— К нему.
— Пусть он заботится о вас получше.
— Я не нуждаюсь в нем. Ни в ком не нуждаюсь… — Я все еще мысленно бичевала себя.
— Алиса…
— Не нужно! Не нужно, и все! Если вам хочется благословить меня, даже и не думайте! — Я рукавом стерла слезы со щек. — Ваш Бог только порадуется моим страданиям. Может быть, вам лучше прочитать лишний раз «Аве» или «Деи грациас»[102] за то, чтобы я была окончательно осуждена.
Слезы ручьем текли у меня из глаз.
— Но вы же не можете вот так уехать…
— А что вы сделаете? Измените всеобщее мнение? Изобразите меня добродетельной женщиной? Вам никто просто не поверит… Я навсегда останусь королевской шлюшкой. Собственно, так и было, и мне кажется, я отлично справлялась со своей ролью… — Я подошла к двери, оглянулась через плечо на сиявшую золотом и самоцветами корону, которая лежала на ложе рядом с Эдуардом. — Как вы думаете, сможет ли мальчонка носить корону с таким достоинством, с каким носил ее он?
— Нет. Не сумеет, как мне кажется.
— Прощайте, Уикхем. — Я понимала, что больше мы, скорее всего, не увидимся. — Понимаете, он сам велел мне взять перстни себе…
— Верю, что он так и сказал, — с низким поклоном отвечал Уикхем. — Будьте осмотрительнее.
Я взялась за ручку двери и вдруг почувствовала, что у меня уже нет сил ее отворить. От меня осталась лишь пустая оболочка. Я понимала, что меня ждет еще множество дел. Да только в ту минуту я совершенно позабыла, что это за дела.
Единственное, что помнила: мне хочется оказаться рядом с Виндзором.
В тот день, однако, меня ждали новые ужасные испытания. Неужели могло произойти что-то худшее, чем то, что уже случилось? Могло. И произошло. Единственное, чего я хотела, — бежать отсюда, от своего горя, от той чрезмерной несдержанности, к которой я прибегла, чтобы оправдать обвинения Уикхема. Но в Большом зале появились двое новоприбывших: один говорил высоким мелодичным голоском, у другой на лице было выражение, достойное палача.
Король-ребенок и его матушка.
На мгновение страх так захлестнул меня, что я подумала, не ускользнуть ли через лабиринт покоев и переходов, пока Джоанна меня не заметила. Теперь ей принадлежала власть, она могла хоть всю кровь из меня выпить. А в свете того, что происходило раньше, я не сомневалась, что буду обескровлена очень быстро.
«Нет! Нет! Ты перед нею не отступишь!»
Никогда я не уклонялась от схватки, не стану этого делать и сейчас. Собрав в кулак все силы, я с большим трудом надела на себя маску высокомерия, словно бы Эдуард и не умер только что у меня на руках. Шелестя бархатом юбок, я спустилась по лестнице и сделала великолепный реверанс десятилетнему мальчику, который теперь будет носить корону, принадлежавшую недавно моему любовнику.
— Приветствую вас, ваше величество.
Ричард, помилуй его Бог, явно не знал, что нужно делать, что говорить. Он в волнении наморщил лоб и неуверенно улыбнулся мне.
— Здравствуйте, мистрис Перрерс… — Он поднял глаза на мать в поисках подсказки, как поступить дальше. Потом поклонился мне, старательно изображая важность.
— Не нужно кланяться, Ричард. — От накрашенного лица Джоанны веяло лютым морозом. Она быстро что-то соображала. — Значит, Эдуард умер, так?
— Умер, миледи, — ответила я ей с безукоризненной вежливостью.
— Мама… — потянул ее за рукав сын.
— Ты теперь король, Ричард, — сказала ему Джоанна.
Все равно это ему ни о чем не говорило. Он повернулся к ней спиной, лицо побледнело от предвкушаемого удовольствия.
— А вы отведете меня в королевские конюшни, мистрис Перрерс, — поглядеть на королевских соколов?
«Твоих соколов!» — больно уколола меня мысль.
— Нет, государь, — мягко ответила я, борясь с желанием оказаться как можно дальше отсюда, подальше от Джоанны и ее сына. — Сегодня уже слишком поздно. Прикажете подать вам закуски, ваше величество?
— Да. Если вас не затруднит. Я проголодался… — Он чуть не прыгал на месте от нетерпения. — А потом можно будет пойти посмотреть на ловчих птиц…
Рука Джоанны легла на плечо сына, как тяжкая цепь.
— Мистрис Перрерс — или лучше сказать леди де Виндзор, кто знает? — так вот, мистрис Перрерс здесь не задержится, Ричард. — Она повернулась ко мне со злобной усмешкой на губах, с загоревшимися от удовольствия глазами. — Вам здесь нечего больше делать. Закончилось ваше царствование, королева Алиса. — Наконец-то она получила власть в свои руки и не замедлит ее употребить с превеликой радостью. — Я отдам распоряжение незамедлительно освободить ваши покои. Надеюсь, вы уедете отсюда… Погодите… Думаю, я могу позволить себе быть великодушной. До рассвета. — Погладив рукой светлые волосы сына, она вскинула голову и обнажила зубы в хищной усмешке. — И постарайтесь ничего не увезти с собой, иначе, — снова блеснули зубы, — я потребую возмещения, можете не сомневаться.
Значит, она желает отнять у меня все мои пожитки. Следовало ожидать. Да и упрекать ее за это я не могла — слишком много разочарований пришлось ей пережить за свою жизнь. Но и без борьбы я не сдамся.
— Я не возьму с собой ничего такого, что не принадлежит мне по праву, что не было мне подарено, — ответила я, сжав в руке перстни с такой силой, что камни глубоко врезались в плоть.
— Потерявшим голову от любви стариком, который не понимал, что вы собой представляете?
— Человеком, который меня любил.
— Человеком, которого вы приворожили неведомо какими чарами.
— Человеком, которого я почитала более всех иных. Все, что он дарил мне, было подарено по его собственному желанию. И я заберу то, что мне принадлежит, миледи.
Я сделала ей глубокий реверанс, словно она сама стала королевой Англии.
— Поди прочь с глаз моих!
Я повернулась и пошла, слыша через весь зал чистый голос юного короля:
— Ну можно мы пойдем посмотреть на соколов сейчас же? Почему мистрис Перрерс не хочет отвести меня?..
Да, ему трудно будет сидеть на троне. А сравняться с Эдуардом — просто невозможно.
Я уехала из замка Шин. Мне не хотелось больше возвращаться сюда, как и в любой другой королевский дворец, долго бывший мне родным домом. Джоанна сказала правду, какая бы злоба ею при этом ни двигала: мое царствование (если я вообще когда-нибудь царствовала) закончилось. Я сама не знаю, что я при этом испытывала — все чувства мои стали холодными и неживыми, как те самоцветы, что я сжимала в руке.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Во всем Лондоне не было ни единой живой души, которая бы не присутствовала при погребении Эдуарда: оно состоялось в пятый день июля в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилой Филиппы, как он ей и обещал. Разве не запрудили улицы толпы достойных горожан, провожая взглядами деревянный гроб с ужасающе похожей на живого Эдуарда посмертной маской? Даже рот маски был скошен вправо — память о том спазме мышц, который стал предвестником смерти. Подданные Эдуарда в скорбном молчании провожали короля, вспоминая его великие деяния.
Так мне рассказывали.
Эдуард был обряжен в белые и красные шелка — цвета его королевских эмблем — и сверкавшую золотыми нитями парчу; красной парчой был обит и сам гроб. В могилу его провожали колокольный звон, множество факельщиков и вывешенные по пути на каждом доме черные траурные полотнища, которых хватило бы на рясы всем монахиням, сколько ни есть их в христианском мире. Поминальная трапеза обошлась в пять сотен фунтов — в то время, когда под заборами Лондона лежали вповалку умирающие с голоду. Вот такая бездумная расточительность. Но почивший король был добрым человеком, и лондонцы не стали ворчать на бесполезные траты. Отчего не помянуть добром жизнь ушедшего короля? Те, кто провожал его в последний путь, отбросили воспоминания о принесших одни неудачи последних годах, проведенных им в уединении, — когда кому-нибудь из них удавалось хоть мельком увидеть монарха за эти годы?
А что же я?
Разве не следовало позволить и мне проводить его в последний путь? Я собиралась это сделать, но мне очень ясно дали понять, что мое присутствие нежелательно. Противоречит приличиям. Это мне без обиняков сообщил гонец от матери малолетнего короля — сообщил с таким каменным лицом, как будто механически затвердил наизусть каждую строчку сурового приказа. Вероятно, так оно и было.
А что, написать бумагу эта жалкая Джоанна не могла? Могла, конечно, но это подразумевало бы признание меня равной, а на такое она ни за что не пойдет. Даже если бы она лежала на смертном одре, а я протянула ей лекарство, дарующее жизнь, то и тогда, готова поклясться, она плюнула бы мне в лицо.
— Вы не должны приезжать в Лондон на погребальную церемонию, мистрис. — Хорошо хоть гонец дал себе труд спешиться и подойти к крыльцу, где я его ожидала, а то я уж было подумала, что он прокричит свои вести прямо из-под арки ворот. — Не подобает идти за гробом тому, кто не принадлежит к королевской фамилии. Его величество король Ричард повелевает вам не въезжать в Лондон, пока будет идти прощание с усопшим монархом.
— Его величество?
— Он самый, мистрис. — Ни один мускул не дрогнул на лице вестника, но мы оба знали, как обстоит на самом деле.
— Я обдумаю эту просьбу.
Гонец ошарашено взглянул на меня, однако в Вестминстере он, вероятно, смягчил мой ответ. Я же тем временем призывала все беды на голову злобной Джоанны. Но теперь она имела власть приказывать от имени сына, я же находилась в опале. Я должна оставаться в Палленсвике, где рядом со мной снова был Виндзор. Проводив взглядом гонца, покидающего принадлежащие мне земли, пока тот окончательно не скрылся из виду, я лихорадочно взялась за дело.
Приказала на завтра приготовить мою барку и охрану, а сама бегом поднялась на второй этаж, в свою комнату — подобрать одежды, в которых прилично провожать Эдуарда. Но не успела отбросить и трех платьев (одно было слишком поношенным, другие слишком нарядными), как в дверях появился Виндзор.
— Я не знала, что вы здесь, — сказала я, погруженная в свои размышления. — Мне казалось, вы ускакали проверить, как идет ремонт колеса на мельнице.
— К чертям мельницу вместе с колесами! Не смейте этого делать! — приказал он безо всякого вступления.
— Чего «этого»?
— Не делайте из меня дурака, Алиса! Я вас насквозь вижу! Не смейте уезжать!
Значит, он разгадал мои намерения. И как ему удавалось читать мои мысли? Ни у кого другого это не получалось. Я не сводила глаз с того, что держала в руках, прикидывая, подойдет ли отороченное мехом сюрко к платью из черного шелка.
— А почему, собственно? Разве я обязана беспрекословно подчиняться Джоанне?
— Не смейте уезжать, — ответил Виндзор, бросив на меня устрашающий взгляд, — потому что мне вовсе не хочется навещать вас завтра к вечеру в темницах Тауэра!
— Так не навещайте меня. Я не стану ожидать вас. — Злясь и на Джоанну, и на мою собственную слабость (ей ведь удалось обидеть меня, чего она и добивалась!), я сердито разложила одежды на кровати, потом стала рыться в сундуке в поисках подходящей обуви.
— Значит, вы признаете, что дело может кончиться Тауэром?
— Ничего я не признаю. Просто знаю, что мне нужно ехать, — и все!
— И вы никогда не принимали добрых советов, правда?
— Ваш совет я приняла, вышла за вас замуж — и к чему это привело! Целое море врагов, да к тому же еще и опала! — Разумеется, это было совершенно несправедливо, но мне хотелось излить на кого-то свою злость. Я выпрямилась, уперла руки в бока и посмотрела на него — станет ли он спорить?
Стал, конечно стал.
— Я полагаю, вы прекрасно умели наживать себе врагов и без моей помощи.
Я набрала в грудь воздуха, принимая его рассчитанный вызов.
— Это правда. — И слабо улыбнулась, потому что от одного взгляда на Виндзора, сильного, уверенного в себе, заполнившего весь дверной проем, сердце стало не так сильно болеть. Я быстро повернулась к нему спиной: мне вдруг очень захотелось его, захотелось сказать ему, как сильно я его люблю, только на это я не осмелилась.
— Вы любили его, правда? — Это был не столько вопрос, сколько утверждение.
Удивленная, я оторвала взгляд от пояса, расшитого неяркими узорами: отдать дань уважения Эдуарду нужно, соблюдая меру в каждой детали.
— Да. Любила. — Я задумалась над тем, что хочу сказать, и стала объяснять — не только Виндзору, но и самой себе: — Он был настоящим мужчиной во всех отношениях. Храбрым, рыцарственным, щедрым на внимание и привязанность. Он держался со мной как с женщиной, которая ему небезразлична. Он был верным, имел твердые убеждения и… — Я оборвала себя. — Вам неприятно все это слушать.
— Достойное надгробное слово!
— Если угодно, да. А вы ревнуете? — Теперь я уже совсем забыла о тяжелом поясе, который еще держала в руках, вскинула голову и внимательно посмотрела на Виндзора. Никакого сомнения: вся атмосфера в комнате пропиталась ревностью, такой же жаркой, как сияние драгоценных камней на королевской короне. — Думается, вы не отличаетесь ни верностью, ни твердыми убеждениями, если только это не сулит выгоды.
Теперь я бросила ему перчатку. Поднимет ли он ее?
— Черт побери, Алиса! — воскликнул он с такой горечью, что у меня мурашки побежали по коже.
— Значит, все-таки ревнуете!
— Нет, если только вы стремитесь ко мне сильнее! — ответил он, немного подумав. Это заставило меня рассмеяться.
— Стремлюсь. Вы и сами знаете. — Это прозвучало чересчур откровенно — Виндзор всегда умел удивлять меня, — а признаться в страсти гораздо легче, чем в любви. При таком раскладе я сохраню власть над собой. — К Эдуарду я испытывала любовь… глубокое уважение, но к вам я испытываю сильнейшую страсть, как и вы ко мне. Легче вам от этого?
— Возможно! Докажите свои слова!
Смягчившись под его натиском, я оставила в покое одежды, подошла к нему, и он заключил меня в свои объятия. Мы ведь очень хорошо понимали друг друга, разве нет?
— Я хочу только вас, Вилл, и никого другого, — проговорила я и прижалась к его губам.
Я надеялась, что это его убедит, и он, к моему облегчению, меня не оттолкнул, хотя я и побаивалась. Что заставляло меня так крепко любить его?
Я ведь любила его. Хотя и притворялась, что не люблю.
— Приятно слышать. — Он поцеловал меня в губы с заметной страстью. — Поехать с вами?
— Не нужно. Я поеду одна.
— И все же я настаиваю на том, что вам не…
— Вилл, не надо… — Я положила палец ему на губы.
— Хотите, чтобы я остался на ночь с вами? — спросил он, покусывая мне кончики пальцев.
— Хочу.
Он и остался.
— Я сумею вас защитить, не сомневайтесь, — проговорил он, целуя меня в шею, когда я уже доказала всю безосновательность его ревности.
— Не сомневаюсь, — ответила я, отгоняя подступающий страх: слишком могущественны могут оказаться силы, направленные против меня и против него, если он станет меня защищать. Королевское гостеприимство в подземельях Тауэра — вовсе не досужие вымыслы.
— Я никому не позволю обидеть вас.
— Знаю.
Его сильные руки помогали мне на время справиться со своими страхами. Мне было хорошо с ним. А когда поднялось солнце, на сердце у меня стало гораздо легче.
— Не уезжайте! — пробормотал Виндзор.
И снова мы сумели избежать рискованного слова «любовь». Приходилось смириться с тем, что оно так и не прозвучит.
Но к совету Виндзора я не прислушалась и двинулась в путь к Вестминстеру.
Все же я не до конца утратила здравый смысл: не привлекающая внимания в своем черном с серым одеянии, вполне похожая на зажиточную вдову, я прошла сразу к Вестминстерскому аббатству, а двое дюжих слуг помогали мне прокладывать путь сквозь толпу. Я буду ждать там. Пусть над моей головой вознесутся ввысь торжественные голоса монахов, отпевающих Эдуарда, а я возблагодарю Бога за то, что Эдуард избавился наконец от ужасов длившейся несколько дней агонии. Никто не сможет прогнать меня отсюда — ни Джоанна, ни сам дьявол. Пробираться через большую толпу народа, как и следовало ожидать, было совсем не просто, но решительная женщина вполне могла это сделать, не стесняясь пользоваться локтями.
Мы дошли до дверей. Еще несколько шагов, и можно будет проскользнуть внутрь собора. Я удвоила свой натиск, проталкиваясь среди множества столпившихся здесь людей. Джоанна меня не увидит.
Раздались громкие звуки труб, и все вокруг замерли, хотя со всех сторон меня все равно давили и толкали, пока королевская стража не оттеснила передних, используя алебарды и древки копий. Я продвинулась как можно ближе к первым рядам и увидела, как к огромным дверям идет новый король, еще не коронованный — бледный, почти незаметный в траурных черных одеждах, с развевающимися на ветру светлыми волосами. «Бедняга!» — подумала я. Ничего похожего на силу и властность отца и деда — нет сейчас, не будет, как я предчувствовала, и в дальнейшем.
А рядом с ним? Я даже зашипела сквозь стиснутые зубы. Рядом с ним шествовала его матушка, державшаяся покровительственно, упивающаяся собственной важностью. Кислая мина Джоанны Прекрасной плохо скрывала ее торжество. Не по годам располневшая и постаревшая, закутанная в черный бархат и соболий мех, она больше всего напоминала одного из тех откормленных воронов, которых держат по традиции в Тауэре.
«Будь ты проклята за то, что не даешь мне побыть рядом с Эдуардом!»
Она проходила так близко, что я могла бы дотронуться до нее. Пришлось сдержаться, чтобы не ударить ее, ибо в ту минуту слепой ненависти я отвергала ее превосходство, ее знатность, ту власть, которую она захватила, отняв у меня. Но противопоставить ее власти мне было нечего.
«Надеюсь, твой дражайший сынок сумеет избавиться от твоей опеки, едва подрастет! Надеюсь, с годами он станет прислушиваться к Джону Гонту!»
Ощутила ли она волну моей враждебности? В ее походке появилась некая неуверенность, словно она учуяла насылаемые мною на ее голову проклятия. Поравнявшись со мной, повернула голову. Мы встретились взглядами, ее глаза расширились, рот чуть приоткрылся, черты лица окаменели, и я испугалась той угрозы, которая читалась на ее лице. Несмотря на всю торжественность погребальной церемонии, она вполне могла обрушить кары на мою голову. От ее пухлых рук зависело сейчас все мое будущее. Для чего я столь необдуманно пошла на такой риск?
Джоанна закрыла рот, щелкнув зубами; от нерешительности не осталось и следа. Ах, какой она стала самоуверенной! Чуть улыбаясь, она крепко взяла сына за плечо, подталкивая его к дверям аббатства. Каким красноречивым был этот малозаметный жест! Они прошли мимо меня, и неприятный холодок страха, пробежавший по затылку, исчез. Она решила оставить меня в покое. Я облегченно вздохнула.
Слишком рано! Слишком! Джоанна остановилась, резко развернулась на каблуках. Стоявшая вдоль всего пути стража вытянулась по стойке «смирно», воздела свои алебарды, и страх с удесятеренной силой захлестнул меня, выдавливая воздух из легких. Решится ли она? Наши взгляды снова скрестились, как у неподвижных каменных изваяний, смотревших друг на друга со стен собора у нас над головами. В ее взгляде сверкала злоба, в моем светился вызов. Посмеет ли она покарать меня за все, что я защищала, за все, чем я была для Эдуарда? За это открытое неповиновение недвусмысленному приказу?
Джоанна улыбнулась шире, показывая свои зубы. Посмеет. Я уже почти ощущала, как меня хватают грубые руки, как влекут в темницу. Но Джоанна удивила меня.
— Когда мы войдем, закрыть двери собора. Не пропускать внутрь никого! — приказала она. — Король прибыл, начинается траурная церемония. — И отвернулась, словно я не представляла для нее ни малейшего интереса, но в конце концов не выдержала все-таки. — Твои деньки остались в прошлом, — услышала я ее негромкое бормотание, которое одна я и могла разобрать. — Зачем же мне связываться с такой, как ты?..
На какой-то безумный миг, под влиянием ее оскорбительного высокомерия, мне захотелось броситься впереди королевского кортежа, проскользнуть внутрь, пока двери собора не захлопнулись у меня перед носом, отрезая меня от законного места у гробницы моего возлюбленного. Я собиралась настоять на своем праве находиться там.
Ах нет!
Ко мне вернулся здравый смысл. Не было у меня там законного места. С болью в сердце я пробралась снова через толпу — к реке, где осталась моя барка, возле которой меня поджидал Виндзор. Ну, это меня не слишком удивило. И не огорчило, хоть я и сорвала на нем свою злость на Джоанну, а главным образом на себя саму — за то, что не проявила должного благоразумия. Что ж, я поступила с чисто женской логикой.
— Приехали меня спасать! — бросила я с нескрываемым раздражением.
— Надо же кому-то вас спасать, — ответил он коротко, что в данном случае было вполне уместно. — Садитесь в барку.
Я опустилась на скамью и всю дорогу молчала, искоса бросая сердитые взгляды. Последней фразой больше, чем всем остальным, Джоанна жестко поставила меня на место. Виндзор же позволил мне предаваться грустным мыслям, не делая ни малейших попыток разговорить меня, выяснить, что так сильно задело мои чувства; он просто созерцал задумчивым взглядом жизнь, протекавшую на берегах реки.
«Зачем же мне связываться с такой, как ты?..»
Мне всегда было понятно, что время, когда я находилась под покровительством Эдуарда, рано или поздно закончится. Но что меня отсекут от двора мгновенно… так безжалостно и недвусмысленно? В Англии воцарился новый двор, места при котором мне не было отведено. И с этим придется мириться до самой смерти.
А как я сама почтила память Эдуарда? На мой взгляд, гораздо лучше, чем официальный двор, — я делала то, что он наверняка бы одобрил. Возвратившись в свои владения, я занялась тем, что ему нравилось, о чем он вспоминал, когда сил еле хватало на то, чтобы сидеть, опираясь на гору подушек, не говоря уж о том, чтобы взобраться в седло. Я выехала верхом, с ловчей птицей на руке, с несущейся рядом Отважной (уже начавшей стареть, но так и не поумневшей), и поохотилась на кроликов в окружающих Палленсвик лугах. Охота оказалась удачной. Когда сокол сбил голубя, щеки мои стали мокрыми от слез. Эдуард насладился бы каждым мигом этой охоты. А потом, возвратившись в свою комнату, выпила чашу доброго гасконского вина (милый Эдуард, в моей памяти вы будете жить всегда) и уже после этого повернулась спиной к прошлому и обратилась взором в будущее.
Какое будущее? Вдали от всех. Скука невыносимая! Но все лучше, чем быть дичью, на которую охотится помешанная на мести женщина, пусть и утверждавшая, что я для нее ровно ничего не значу. Я знала, что не в характере Джоанны останавливаться на полдороге. И сунуться прямо ей под нос — это был не самый разумный из моих поступков.
— Не нужно было ездить, правда? — Закутавшись в теплую накидку, не в силах согреться, я скорчилась в кресле перед камином: погода стояла не по сезону холодная и дождливая, с сильными ветрами.
— Я же говорил, чтобы вы не ездили! — без всякого сострадания заметил Виндзор (правда, при этом он согревал на удивление теплыми ладонями мои закоченевшие руки).
— Да, говорили, помню. — Настроение у меня было мрачным, под стать погоде за окнами.
— Не тревожьтесь. Им до вас не добраться, понимаете? Опалу снял с вас сам Гонт.
— Вы полагаете, она обо мне забудет? — Его радужное настроение удивило меня.
— Отнюдь. — Вот тебе и радужное настроение! Он хмуро посмотрел на свои пальцы, державшие мои ладони; его цинизм я ценила выше, чем принятые при дворе лесть и пустые обещания. — Сколько король оставил ей в своем завещании?
— Тысячу марок, — ответила я без всякой интонации. — На это не очень разгуляешься. А Ричарду досталось ложе Эдуарда с украшенным гербами балдахином.
Виндзор перестал хмуриться и захохотал во все горло.
— Куда лучше было бы, если бы ложе досталось вам!
— Скорее всего, Джоанна велит его сжечь, чтобы избавиться от заразы, которую, по ее мнению, я оставила там. Уж сыну она спать на нем ни за что не позволит.
— А вы упомянуты в завещании? — продолжил расспросы Виндзор.
— Нет. — Я не ожидала этого: для меня не нашлось места в завещании Эдуарда. Все, что он мог и желал мне дать, он дал сам.
— Ну вот, у нее уже есть повод для радости!
— Сомневаюсь!
Покидая Шин, я удостоверилась, что драгоценности Филиппы уложены в переметную суму, а перстни Эдуарда находятся в безопасности за корсажем моего платья. Она никак не могла их захватить, разве что решилась бы обыскать меня при всем честном народе!
Виндзор снова рассмеялся, потом посерьезнел.
— Ну хватит о Джоанне Прекрасной. Не можем же мы весь остаток дней своих провести в непрерывной тревоге, а? Вот и не будем.
Приходилось признать, что лучшего совета и придумать нельзя.
Виндзор отпустил мои руки и поднял свою кружку эля.
— За бури и ливни. Пусть длятся как можно дольше. Пусть затопит все дороги и берега реки от Лондона до Палленсвика — до тех пор, пока Джоанна о нас не забудет.
— Клянусь Пресвятой Девой, скорее рак на горе свистнет! — Но кружку у него я взяла и повторила его тост: — За бури!
Ливни и ветры понемногу стихли, дороги вскоре вновь сделались проезжими, а на Темзе было не повернуться от множества сновавших туда и сюда судов и суденышек. До нас дошли вести о том, что делается в Лондоне и не только в нем. Некоторые новости меня вообще никак не затрагивали — даже удивительно.
Юного Ричарда, наряженного в белые с золотом одежды, короновали в шестнадцатый день июля месяца. Подумать только, в четверг! Весьма необычно, но день выбрали потому, что это был канун праздника святого Кенельма, малоизвестного короля Мерсии, — ребенка, который принял мученическую смерть[103].
— Вижу, Джоанна Прекрасная решила, что парню пригодятся любые счастливые предзнаменования, какие только найдутся! — проворчал Виндзор.
Он рассуждал очень здраво: Англию ожидали невзгоды. Сильного войска под командованием короля у нее не было, а французы осмелели и стали совершать набеги на многие городки и деревни вдоль нашего южного побережья, после разграбления предавая их огню. В пылающий ад превратился город Рай, и даже до Льюиса[104] добрались французы, хотя отдаленный от моря Палленсвик был в относительной безопасности.
Как странно — меня это никак не касалось, я не была рядом с королем, который строил замыслы, как изгнать французов. Кто же будет направлять нашу внешнюю политику? Гонт, вероятно. Я отгородилась от этих размышлений — все это было теперь слишком далеко от меня.
Впрочем, кое-какие события меня затрагивали, хотя и косвенно.
Старый добрый Уикхем получил полное прощение, чем было подтверждено примирение между Эдуардом и его бывшим канцлером. По крайней мере, хоть этого мне удалось добиться для старого друга. Уикхем мне написал:
С меня снята опала, но никакой должности при дворе я не получил. Подумываю о том, чтобы посодействовать делу просвещения в Оксфорде, построив там два новых колледжа. Уверен, Вам будет приятно об этом услышать, хотя ни одна женщина никогда не переступит порога этих храмов науки! Вероятно, я перед Вами в долгу, однако и мне, и Вам приходится смириться с тем, что есть вещи невозможные.
Я невольно улыбнулась. Нелегко священнику признать, что он в долгу перед грешной дочерью Евы, однако же Уикхем сделал такое признание, и не без изящества. Я от всей души желала ему добра. Вряд ли нам придется увидеться еще хоть раз.
Потом он сообщал вести тревожные, которые заставили меня сперва рассмеяться, а потом нахмуриться. Собрался новый парламент, и Гонта пригласили войти в комитет Палаты лордов, которому было поручено бороться с угрозой, исходившей с южного берега Ла-Манша.
— Стало быть, звезда Гонта снова на подъеме, — заметил Виндзор, читавший письмо Уикхема через мое плечо.
— Этого следовало ожидать, — ответила я. — На его стороне знатность и опыт.
— К сожалению, победами он не может похвастать!
Скептицизм Виндзора меня не тронул — что значит для меня теперь возрастающая власть Гонта? Мои и его честолюбивые устремления больше никак не пересекались. Однако Виндзор задумался и взял письмо Уикхема с собой — перечитать на досуге. Мне всегда становилось тревожно на душе, когда Виндзором овладевало желание поразмыслить за кружечкой эля.
А смех разобрал меня, когда я прочитала, какую невероятно надменную петицию направил парламент юному Ричарду. Впредь только парламенту будет принадлежать право назначать канцлера, казначея и всех прочих высших должностных лиц, каких парламент пожелает. Каждый шаг короля окажется под контролем. Никому не будет дозволено делать то, что делала я, когда Эдуард был тяжело болен и не мог принимать решения самостоятельно. Не должно впредь быть другой Алисы Перрерс, правящей королевским курятником.
Да, над этим я посмеялась, хотя смешного было мало.
А потом мне стало вовсе не до смеха. Кто-то громко забарабанил в дверь усадьбы Палленсвик (похоже, кулаком в кольчужной перчатке), оторвав меня от счетов и записей о доходах и расходах. Виндзор в то время занимался осушением заливных лугов в Гейнсе. Да и если бы вернулся, то уж не стал бы колотить в дверь. Мы с ним по-прежнему жили странной жизнью, то разъезжаясь, то съезжаясь, — у нас не было никакого общего хозяйства, словно мы не состояли в законном браке, а были всего лишь партнерами в деле, которое иногда требовало близости, а иногда и не требовало. Нет, Виндзор так колотить в дверь не стал бы. Скорее просто распахнул бы ее да и вошел в дом, громким голосом сообщая мне о своем прибытии, наполняя всю усадьбу своей неуемной энергией. Нет, это не Виндзор. Мое сердце затрепетало — в нем проснулся тот давний страх, который никогда полностью не исчезал, но прятаться он меня не заставит… Я решительно пошла к сотрясаемой ударами двери.
— Там чуть не целый отряд, мистрис, — сообщил мне дворецкий, который неуверенно топтался в холле. — Отворить им?
— Отворяй. — Что толку здесь раздумывать! Пришла опасность, ей нужно смотреть в глаза.
— Добрый день, мистрис.
Стучали не кулаком в кольчужной перчатке, а жезлом, положенным по должности. Стоявший у двери человек, судя по его одежде, был из числа старших служащих — клерк или секретарь важного господина. А может быть, шепнул мне на ухо внутренний голос, судебный пристав. Никогда прежде я его не встречала, и мне не понравились ни его лицо (хотя держался он учтиво и отвесил мне низкий поклон), ни сопровождавший его отряд из двенадцати человек. Весь двор был битком набит вьючными лошадьми и двумя большими повозками.
— Мистрис Перрерс?
— Да, это я. А кто вы, сэр? — спросила я, стараясь быть предельно учтивой.
Уже несколько месяцев в Лондоне все было тихо, Ричард понемногу привыкал к тяжести короны, а Джоанна царила над придворными. Я сидела в добровольной ссылке и не показывалась им на глаза.
— Не высовывайтесь, — посоветовал мне Виндзор после того, как я едва не нарвалась на нешуточные неприятности. — У них слишком много своих хлопот, чтобы думать еще и о вас. Оборона королевства от французов вышла на первый план, оттеснив бывшую фаворитку короля. Еще несколько таких месяцев — и о вас забудут окончательно.
— Не уверена, что эта мысль мне нравится. — Мне как-то не очень хотелось жить в полной безвестности. — Хочу ли я, чтобы обо мне забыли?
— Хотите, если в вас осталась хоть капля здравого смысла. Сиди тихо, женщина.
Я так и делала. Неделя проходила за неделей, злоба Джоанны ни в чем больше не проявлялась, и страхи мои стали отступать. Но, если Виндзор был, как и всегда, хорошо осведомлен о том, что происходит при дворе, кто же тогда появился у моих дверей? Эти гости добра не сулили. Мысленно я отругала Виндзора — и за его отсутствие, и за чрезмерную самоуверенность. Ну почему этого человека никогда нет рядом, когда он нужен больше всего? Да и зачем он мне вообще нужен, разве я сама не смогу справиться с теми, кто посмел вторгнуться в мои владения? Я смерила посетителя взглядом. Слишком уж властным он выглядел в своем черном одеянии и с кожаной сумкой для бумаг. Его равнодушный взгляд скользнул по мне с головы до пят, и у меня пересохло в горле.
«Но они не могут тебя арестовать. Ты не совершила никакого преступления. На твоей стороне Гонт! Это ведь он снял опалу!»
Дышать стало чуть легче.
Чиновник поклонился еще раз. Он, по крайней мере, держался учтиво, а вот у его подчиненных глаза так и блестели от жадности.
— Меня зовут Томас Вебстер, мистрис. — Он вынул свиток из своей сумки. — Меня направила сюда комиссия, учрежденная парламентом. — Говорил он вежливо, даже почтительно, разве что взгляд был оценивающим. Протянул мне документ. Я развернула свиток и прочитала, стараясь, чтобы пальцы не дрожали. Смысл бумаги стал ясен буквально с первых строк.
Дыхание у меня снова стало прерываться. Я сломала одну из официальных печатей красного воска и сделала вид, что еще раз перечитываю, в то же время пытаясь сделать глубокий вдох. Потом я крепче уперлась ногами в порог, словно могла преградить им путь в мой дом.
— Что такое? Ничего не пойму. — Но в бумаге, которую я держала, все было написано ясно, черным по белому.
— Мне дана власть, мистрис, забрать у вас все, что я найду здесь ценного.
— А если я буду этому препятствовать? — Сердце билось в горле, грозя задушить меня.
— На вашем месте я не стал бы этого делать, мистрис, — сухо ответил он. — Вы не в силах помешать мне. У меня имеется список предметов, которые подлежат изъятию в первую очередь. Так что позвольте…
И они, громко топая сапогами, вошли в дом, Вебстер развернул свой отвратительный список. Там содержался перечень всех моих ценностей, всего имущества, которое имелось в Палленсвике и принадлежало мне.
Мой страх перерос в панику, совладать с которой уже было невозможно.
— Этот дом принадлежит мне! — возмутилась я. — Он не находится в собственности короны. Он не был подарен мне королем, я сама купила его.
— Да, но на чьи деньги, мистрис? Откуда вы взяли деньги на него? — Он, кажется, даже усмехнулся. — И кому принадлежит то, что в доме? Все это тоже вы купили? — Он повернулся ко мне спиной и дал знак своим подручным приступать к делу.
Мне нечего было им ответить. Я стояла и смотрела, как выполняется приказ комиссии парламента. Все мое имущество на моих глазах выносили во двор и грузили в повозки либо на вьючных лошадей: белье, мебель, даже мою кровать; драгоценности, одежду, безделушки, — а Вебстер все читал и читал, что перечислено в его жалкой бумажонке.
— Диадема с жемчугами. Цепь золотая, украшенная рубинами. Лента шелковая, алого цвета — один ярд. Пара перчаток кожаных теплых, перчатки легкие, шитые серебром…
— Лента в один ярд?.. — вырвался у меня возглас уже на грани истерики.
— Вы же сами знаете, мистрис: курочка по зернышку клюет. Нам нужно собрать много денег, чтобы вести войну, — язвительно отозвался Вебстер. — Одни драгоценности потянут, по нашей оценке, фунтов на пятьсот. Чем висеть у вас на шее, лучше эти украшения пойдут на то, чтобы вооружить доброе войско и отстоять Англию!
Спорить с ним было бесполезно. Я молча смотрела на то, как из моего дома выносят все, что принадлежало мне. Лишь сглотнула бессильные слезы, когда один из дюжих слуг Вебстера пронес бесформенную кучу меха, шелка и камчи ярко-синего цвета с серебром: платья, которые Эдуард специально велел сшить для второго большого турнира в Смитфилде. Я ни разу их не надела, потому что второй турнир так и не состоялся. Платья бросили в повозку вслед за всем остальным.
Я же осталась стоять в прихожей своего опустевшего дома, по которому гуляло гулкое эхо.
— Вы закончили?
— Закончили, мистрис. Но должен вас предупредить еще вот о чем. Парламент взял на себя бремя взыскания с вас долгов. Любому, у кого есть к вам претензии, предложено их заявить комиссии.
— Моих долгов? — Дело оборачивалось чем дальше, тем хуже.
— Именно так, мистрис. Всякий, кто имеет жалобы на утеснения, вымогательство или иной ущерб, причиненные вами лично, — он говорил это с величайшим наслаждением! — вправе обратиться к парламенту за возмещением такового ущерба.
— От кого… от кого исходит этот приказ? — воскликнула я. Ах, ответ был известен мне и без того!
— От парламента, мистрис.
Я сделала медленный вдох, крепко сжав кулаки и подавляя рвущийся наружу вопль негодования. Не от парламента исходил этот приказ. Готова поспорить на жемчужную диадему, только что исчезнувшую во вьюке одного из мулов, что твердо знаю, кому это все понадобилось. Значит, она вовсе не собиралась позволить мне жить в тиши и забвении! Я видела, кто стоит за этим актом мести, пылая злобой! Я даже хорошо представляла себе, как она довольно потирает руки.
Черт возьми!
Я заставила себя мыслить хладнокровно и логично. Если она решила забрать только это… Что ж, у меня есть и другие усадьбы, недурно обставленные. А это я ей прошу, сколь бы оно меня ни сердило.
И тут я увидела, что Вебстер вынимает из своей сумки еще один свиток пергамента.
— Да разве вы не все еще забрали?
— Это приказ не об изъятии имущества, мистрис. Вам надлежит лично явиться в Лондон.
Я выхватила пергамент у него из рук. Прочитала. Мне надлежало предстать перед Палатой лордов.
— Суд? — задохнулась я. Чиновник стоял молча, с каменным лицом. Какие обвинения они могли откопать на сей раз? — Да говорите же! — потребовала я. — Меня ждет суд?
— Здесь все сказано, мистрис. — Вебстер указал на документ, который я мяла в руках. Мне надлежит предстать перед Палатой лордов в двадцать второй день декабря месяца. А в чем меня обвиняют? В мошенничестве. В измене!
Измена? Но это невозможно!
Впрочем, я знала, что в этом мире возможно все. Ярость моя сменилась страхом. Это уже не политический щелчок по носу, это судебный процесс со всеми вытекающими последствиями. Как далеко готова зайти Джоанна в своей жажде мести? Наказание за государственную измену одно — смерть.
Виндзор вернулся после дня, проведенного в сырых заливных лугах близ Гейнса, и нашел меня сидящей прямо на полу в опустевшей гостиной. Ни мебели, ни гобеленов — унесли даже корзину для поленьев, стоявшую у камина… Я чувствовала себя пришибленной, будто Джоанна ударила меня по лицу, как она однажды и сделала много лет назад. Я никак не отреагировала на стук его сапог по натертым до блеска половицам, и Виндзор опустился на колени, взял из моих вялых пальцев документ. Быстро пробежав его глазами, витиевато выругался, швырнул на пол перчатки и меч и сел рядом со мной.
— Вижу, здесь побывали стервятники.
— Побывали. — Его сапоги, едва не касавшиеся моих юбок, были покрыты грязью, тиной и болотной ряской. Мне это было безразлично.
— Во всех комнатах так же пусто, как и здесь?
Я не могла говорить, лишь взмахнула руками и бессильно уронила их. Я чувствовала себя раздавленной.
— И что же вы собираетесь делать? — разорвал повисшую тишину его новый вопрос.
— Наверное, буду сидеть здесь и ждать, пока на мою голову не обрушится топор.
— Правда? — Виндзор поднялся на ноги, взял меня за локти и легким рывком поставил рядом с собой. — Вставайте, Алиса. Вам нужно твердо стоять на ногах. Вам необходимо думать!
— Не могу.
— Неужто женщину, которую я люблю, так легко запугать?
Я напряженно застыла в его объятиях, не способная отвечать на ласки. В какие бездны кануло все мое мужество? Жалость к себе переполняла меня до краев, и я, утратив мужество, горько оплакивала свое бессилие и все то, что потеряла. Подарки Эдуарда, сделанные им в знак любви и признательности, по злобе отобраны у меня, чтобы уничтожить доказательства того, какую роль занимал в моей жизни король. Честность вынуждала меня признать, что я не всегда поступала безупречно, и об этом я тоже рыдала. Я наслаждалась властью в роли фаворитки короля. Нельзя спорить с тем, что я употребляла золото из королевской казны на то, чтобы приобретать себе поместья, но ведь я всегда возвращала эти деньги. Разве нет? Ну, чаще всего возвращала долги. А теперь наступил час окончательной расплаты. Я рыдала, уткнувшись в плечо Виндзора.
— Неужели женщина, которую я люблю, настолько утратила всякую силу воли, что способна лишь стоять и плакать вместо того, чтобы драться за принадлежащее ей по праву?
Слова прозвучали сурово, но он крепче прижал меня к себе и положил подбородок мне на макушку. Наконец напряжение стало отпускать меня. Ровное биение его сердца вселяло в меня уверенность. А когда я наконец спокойно прислонилась лбом к его плечу и опять задышала ровно…
В голове снова раздались сказанные им слова. Я резко вскинула на него глаза, видя в них свое отражение.
— Что вы сказали?
— Что именно? Что вам не хватает силы воли?
Я облизнула пересохшие губы, вытерла лицо куском полотна, который услужливо протянул мне Виндзор, и нахмурилась.
— Кажется, вы назвали меня женщиной, которую вы любите?
— Так и есть. А вы не знали? Судя по вашему виду, вам это пришлось не по душе.
— Повторите. — Я крепче сжала рукав его камзола. — И постарайтесь, чтобы это звучало правдиво. — Это на тот случай, если он ничего такого на самом деле не чувствует. Дай Бог, чтобы чувствовал!
— Милая Алиса! Я люблю вас. Вы — мое солнце и моя луна!
— Да вы заговорили как поэт!
Мне показалось, что улыбка у него вышла чуть кривая. Я не могла ему верить! Но что поделаешь, пришлось. Не такой человек Виндзор, чтобы бросаться словами. Мною овладела безудержная радость, словно яркий луч света разогнал тучи, скопившиеся в моем разуме и на душе. Пока я не вспомнила обо всех событиях минувшего утра…
Пристально посмотрела на него.
— А почему вы только сейчас сочли нужным сказать мне об этом?
— А когда надо было?
Виндзор старался подбодрить меня, отвлечь от мрачных раздумий. Я оттолкнула его руки и твердо встала на ноги.
— Завтра. На прошлой неделе. В любое время, но только не тогда, когда лицо мое залито слезами, а мой дом разорен дотла и в мыслях нет ничего, кроме коварства Джоанны.
— Я думал, вы и так об этом знаете.
— Не знала! Откуда мне было знать? Вы же никогда раньше этого не говорили. — Ну почему он такой бестолковый? Вот он стоит передо мной — такой могучий, живой и… своенравный! И бесконечно мною любимый. — Я хочу радоваться этому, а не считать просто утешением, потому что меня ожидает полный финансовый крах, а может быть, и смерть — если им удастся доказать обвинение в измене! Думаю, вы и сами должны понимать… — Следующие слова я выговорила без малейшей запинки: — Я тоже люблю вас!
— Ну вот и дождался! — улыбнулся Виндзор.
— Я не собиралась вам этого говорить! — Я зажала рот руками.
— Совершенно не понимаю почему. — Он снова завладел моими руками, не переставая чуть заметно улыбаться. — Будем радоваться нашей любви и вместе тревожиться о происках Джоанны Ядовитой.
Он крепко, жарко поцеловал меня.
— Ах, Вилл…
— Что происходит? Я только что признался вам в вечной любви. А вы, кажется, не очень-то этому рады!
— Я сейчас приду в себя, — вздохнула я.
— Позвольте, я помогу. — И снова поцеловал меня.
Я упала в его объятия, и в голове не осталось ни одной мысли. Но ненадолго. Сейчас было не время для любовных томлений и чувственных наслаждений. Виндзор и сам прекрасно понимал, что я не могу предаваться беззаботной радости. Он обхватил руками мое лицо, заставив сосредоточиться и слушать его внимательно; он заговорил тихим ровным голосом, который позволял догадаться о глубоких чувствах, бурливших в его душе.
— Теперь послушайте, что я скажу. Вы должны набраться мужества, Алиса. Слушайте же! — Взяв за подбородок, Виндзор заставил меня смотреть ему в глаза. — Вы предстанете перед лордами и ответите на все вопросы, которые они вам поставят. Нет никаких доказательств, будто вы мошенничали. Ну а измена… Они не сумеют ничем ее подтвердить.
— Вы говорите так уверенно. — Я нахмурилась, отнюдь не убежденная его словами.
— Да черт возьми! Ни в чем я не уверен! Я слишком трезво смотрю на вещи. Но вы должны выглядеть очень уверенной в себе, иначе они разорвут вас на части.
— Для чего им это? Теперь-то, когда я больше не нахожусь при дворе!
— Вы знаете для чего. Они уничтожат вас в отместку за то время, когда вы, а не они держали власть в своих руках.
— Можем мы как-то помешать им?
— Еще не знаю. Как можно это знать, пока нам не известно, какими уликами они располагают? Но мы не сдадимся просто так.
Я глубоко вздохнула, ощущая наконец, что отчаяние постепенно отступает, и задала себе вопрос: чего я хочу больше всего на свете?
— Когда мне придется ехать в Лондон… вы поедете со мной?
— Сам дьявол не сможет удержать меня! Хватит плакать… Слезы — не та монета, которой платят в этой игре! — С горящим взором он взял кусок полотна и решительными движениями вытер мне лицо — так тщательно, словно вытирал своего коня, побывавшего под дождем. — Разве вы не жена мне? Разве я вас не люблю? Смелее, Алиса. Вы же всегда были храброй. Мы вместе поедем в Вестминстер и встанем лицом к лицу с этими падальщиками в их собственном логове. Ну а пока… Думаю, мы вправе уделить немного времени самим себе. Богом клянусь, в течение многих лет мы не так уж много требовали.
— Требовали чего? — Мыслями я блуждала далеко отсюда, представляя себе, как ухмыляются мои недоброжелатели при дворе Эдуарда.
Виндзор, нетерпеливо фыркнув, схватил меня за плечи и встряхнул.
— Хватит думать! Марш в постель, и я докажу всю неосновательность ваших сомнений: я вас действительно люблю, это вам вовсе не приснилось и не почудилось… С другой стороны, однако, у нас и кровати-то не осталось, а?..
— Не осталось! — Я почувствовала, как к глазам снова подступают слезы, но сумела издать хриплый смешок.
— Клянусь, это препятствие нас не остановит!
В моей опочивальне — в нашей опочивальне — Виндзор расстелил на полу, на пятачке солнечного света, свой плащ, а вместо подушки положил свернутый в несколько раз камзол. И среди бела дня показал мне нечто дотоле не изведанное — колдовской хмельной напиток раскрепощенной любви, которую он по собственной воле дарил мне, а я по собственной же воле принимала. Я всем существом своим ощущала, как спадают с меня оковы долга и расчетов, как заменяют их нежные узы наслаждения, страсти и жарких желаний.
— Убедил? — спросил он между поцелуями.
— Ой, Вилл…
Чувства захватили меня без остатка, я и двух слов не могла связать в ту минуту. Он проворно снимал штаны и сапоги, а я не могла не любоваться его телом воина — ладно скроенным, мускулистым, гибким. Солнечный свет смягчил суровость его лица, но подчеркнул крепкие плечи и бедра.
— Пуатье? — прошептала я, прижимаясь губами к старому шраму, который тянулся от грудины до пояса, пересекая ребра.
— Да. — Он распрямился, увлек меня за собой, спрашивая при этом: — Вы намерены перецеловать все мои шрамы?
— На это нужно слишком много времени. — Он развязал мою сорочку, и я осталась стоять совершенно обнаженной. — Я сгораю от страсти и желания, Вилл. Меня уже ноги не держат — так мне вас хочется…
— И от любви? — Его страсть и желание были ясно видны, как и влага, покрывшая мои бедра.
— Да, и от любви.
На полу было жестко: ни пухового одеяла, ни белья, ни пахнущих лавандой простыней. Ну, это не играло ни малейшей роли, как и набитые нежным пухом подушки, которых у нас теперь не было. Я позволила ему взять меня так, как ему хотелось. А может быть, я и не позволяла ничего — не такой это был человек, чтобы просить разрешения, а я не собиралась его переделывать. В моих мыслях ни для чего не осталось места, кроме нас самих, оставшихся вдвоем в пустом доме; солнце нежно ласкало грудь и бедра. Два человека были полностью поглощены друг другом, и окружающему миру не было до нас никакого дела.
— Как случилось, что мы полюбили друг друга, Вилл?
— Понятия не имею. Не забивай себе голову. Бывает на свете такое, чему нужно просто радоваться…
Он так наслаждался мною, что это проливало бальзам на мою душу, я ощущала его немалый вес, чувствовала, как он полностью завладел мною. Я тесно прижалась к нему, каждый мускул и каждый нерв во мне с трепетом отзывались на его ласки — я никогда прежде не испытывала такой потребности прижаться к мужчине. Сердце мое до краев наполнилось такой радостью, что в любой момент я могла снова расплакаться. Удержалась. Мне нужно было наслаждаться радостью, пока умелые руки Виндзора разгоняли собравшееся над моей головой тучи.
Но так не могло длиться вечно.
Он уснул — волосы в полном беспорядке, лицо уткнулось в складки камзола, — а я лежала без сна. Суд? Неведомые улики? Я держалась за любовь Виндзора, как за амулет, рассеивающий мои страхи.
— Так они забрали и драгоценности Филиппы? — поинтересовался Виндзор, когда настало время нам одеваться.
— А как вы сами думаете? — Боюсь, что лицо у меня в эту минуту было слишком самодовольное.
— Черт возьми! — Его смех непривычно гулко разнесся по пустой комнате. — Так расскажите же.
— Всегда следует быть осторожной и ко всему готовой. Но драгоценности придется хорошенько почистить.
Благодаря тому, что я заблаговременно дала распоряжения на такой именно случай (разве я не жила вечно с оглядкой на то, что нечто подобное может произойти?), мой дворецкий, едва Томас Вебстер стал отдавать приказы, поспешил спрятать и драгоценности Филиппы, и перстни Эдуарда в мешок с мукой, попорченной долгоносиками. Вебстер, слава Богу, счел ниже своего достоинства забирать еще и всякий хлам, валявшийся в моих подвалах.
Виндзор затягивал на себе камзол.
— Между прочим, у меня вот что есть для вас… Совсем запамятовал. — Он порылся за подкладкой. — Кажется, раньше я вам подарков еще не делал.
И вытащил на свет божий зеркальце в серебряной оправе. В свете уже неяркого солнца оно притягательно сияло, а выгравированные на ручке стебельки и листья искусно сплетались в узор, охватывавший зеркальный кружок подобно объятиям любовника.
— Не нужно! — воскликнула я сердито, позабыв о всякой учтивости.
Виндзор с глубочайшим изумлением поглядел на зеркальце, потом на меня, словно не в силах был постичь женскую логику.
— Алиса, любовь моя! Я же не украл его! Добыл честным путем, а покажите мне женщину, которая не любит смотреться в зеркало.
— Такая женщина — перед вами.
— Да отчего же? Почему вы его не хотите?
— Мне не нравится то, что я в нем вижу. — Я констатировала факт, а не напрашивалась на комплименты.
— Что именно вам не нравится?
Уместно ли было шутить сейчас, когда я, растрепанная, сидела в одной сорочке?
— Ничего не нравится… Я же не… Ах, Виндзор! — Очень сердитая (потому что вещица была весьма красивая), я впилась пальцами в бедра.
— В каком возрасте женщина перестает беспокоиться о своей внешности? Наверное, не раньше, чем на смертном одре.
Он опустился на колени, встал рядом со мной на помятый плащ, поднял зеркальце, а свободной рукой разгладил мои слишком черные брови.
— Я не вижу ничего уродливого, — ласково проговорил он, — потому что в моих глазах вы красивы. Я хочу, чтобы вы увидели Алису, посмотрели на лицо моей супруги, женщины, которую я люблю.
Этими словами он отнял у меня все мыслимые возражения. Отказаться от подарка значило бы проявить непростительное хамство. А отражение в зеркале оказалось совсем не таким ужасным, как я боялась. Лицо, которое смотрело на меня оттуда, не блистало красотой, однако отсутствие симметрии в чертах привлекало само по себе. Даже брови были вполне терпимыми. Я вскинула голову и улыбнулась, а мое отражение повторило эти движения: возможно, неожиданное счастье смягчило мои черты. Так я стала обладательницей зеркала, хотя и поклялась когда-то, что этого никогда не случится. И вовсе не огорчилась, когда Виндзор покрыл поцелуями каждую черточку, отражавшуюся в этом зеркальце.
Мы переехали в Гейнс, где у нас была хотя бы кровать, — пока была, во всяком случае. Потом я предстала перед Палатой лордов, хорошо представляя себе, какое именно впечатление хочу на них произвести. Мне думалось, что я буду раздраженной, переполненной тревогой за исход дела. Перепуганной, если говорить откровенно, с пересохшим горлом, сильно бьющимся сердцем, из-за чего придется часто глотать, борясь с подступающей тошнотой. Все это, конечно, было, но прежде всего я держалась дерзко! С того печального дня, когда меня посетил на редкость исполнительный Вебстер, Джоанна — при поддержке судов — заходила в своих гнусных посягательствах все дальше и дальше. Мое любимое поместье близ Уэндовера, подаренное Эдуардом, отобрали, слуг моих оттуда прогнали, мебель конфисковали — и все это без меня, даже не спросив, согласна я или возражаю. Меня просто уведомили: мое владение этим поместьем не имеет законной силы. Его возвратили короне, и теперь оно принадлежало королю Ричарду. Ему от того, правда, не было ни проку, ни удовольствия: по совету матери, он передал имение своему единоутробному брату Томасу Холланду[105] — сыну Джоанны от одного из ее прежних сомнительных браков, когда у нее было сразу два мужа.
Не сомневаюсь, эти приобретения доставили ей невыразимое удовольствие! Черт побери! У меня в душе кипела бессильная злость.
А что же Гонт? К моему разочарованию и большой тревоге, он тоже воспользовался моей неспособностью защитить себя. В его руки легко уплыл мой дом на берегу Темзы. Земля вдоль квартала канатчиков, принадлежавшая мне, также пополнила список лондонских имений принца. Зятю Гонта перешли два мои поместья из числа самых красивых и доходных. В глазах Гонта я утратила всякую ценность. Ему я была теперь совершенно бесполезна, и мне пришлось усвоить еще один горький урок: никогда нельзя верить человеку, для которого власть важнее верности. Пресвятая Дева!
Я пыталась связаться с Гризли, посылая письма в таверну «Кафтан», но без всякого результата: он, подобно обложенному охотниками лису, спрятался глубоко в своей норе. Я могла сколько угодно негодовать на то, что он предпочел скрыться, но не могла не согласиться с тем, что тактика его вполне разумна: если меня признают виновной, то мой поверенный окажется по уши в грязи, а там уж ничто не спасет его и от ареста.
Итак, отправляясь на суд, я облачилась не в скромные одежды (как предписывала разумная осмотрительность), а в вызывающе роскошный наряд — одно красивое платье у меня все же осталось.
— Ну вот! — Я разгладила платье и надела на запястье золотой браслет с опалами, гармонирующий с уютно лежащим на груди ожерельем. Мои слова были обращены к Джейн, которая сидела на полу в моей опочивальне и наблюдала, как из заурядной сельской помещицы я превращаюсь в высокопоставленную даму королевского двора. Не все же мои платья хранились в Палленсвике! — Я сразу покажу, что не боюсь их! — объявила я и прошествовала в гостиную, где меня поджидал Виндзор. Он довольно долго критически рассматривал меня, сидя в кресле.
— Во имя всего святого, Алиса! — воскликнул он весьма неодобрительно.
— Так идет мне или нет? Мне кажется, я выгляжу наилучшим образом для того, чтобы предстать перед Палатой по ее вызову и преклонить колена перед могущественными лордами.
Плотно сжав губы, не говоря ни слова, Виндзор отвел меня назад, в мою комнату, подхватил на руки Джейн, все так же сидевшую на полу, и устроил на моей кровати, рассеянно пригладив ее кудряшки.
— Мне не нравится, как высокомерно вы себя держите! — воскликнула я, сжимая кулаки.
— А меня приводит в отчаяние ваша недальновидность! — Он посмотрел мне в глаза; держался он исключительно властно, слова падали, как удары кнута. Да и сами слова мне очень не нравились. — Разве вы настолько глупы? Вас же судят, Алиса! По обвинению в мошенничестве и измене. Вы хотите еще более усугубить свое положение? Вы действительно хотите настроить против себя всех этих титулованных ублюдков, своих судей, еще прежде, чем на процессе прозвучит первое слово?
Я почувствовала, как кровь приливает к лицу.
— Они уже настроены против меня! Какая разница, во что я одета?
— Разница большая! У вас вид королевской фаворитки!
— Я и была фавориткой!
— Я знаю. И все это знают. Но нет никакой нужды давать пощечину этим высокородным мордам, наряжаясь таким образом. Постарайтесь сами посмотреть на себя беспристрастно!
Он широко развел руки, словно обнимая меня, и заставил увидеть Алису Перрерс его глазами, глазами членов Палаты лордов. Кажется, вид мой граничил с изменой короне. Будто бы я самочинно присвоила себе власть, принадлежащую по праву монарху. Может быть, я была одета и не так роскошно, как в тот день, когда изображала Повелительницу Солнца, но с достаточным блеском, чтобы привлечь внимание, ибо на мне была то самое котарди из фиолетового шелка с золотом, которое довело до бешенства Изабеллу.
— Вам же предстоит бороться за свою свободу, а может быть, и за…
— За жизнь? — резко бросила я, и румянец на моем лице уступил место смертельной бледности.
— Не нужно преувеличивать. — Он не стал долго колебаться. Бог свидетель, он был очень умным человеком! — Не могу сказать, что вижу вас на эшафоте, но и вы не можете возразить против того, что среди собравшихся не один и не двое станут требовать для вас смертной казни.
— Мне видится противоречие в ваших словах.
— Мне тоже оно видится, воинственная жена моя. — Он взъерошил свои волосы и застонал. — Вам нужно быть крайне осмотрительной, неужели вы не понимаете? Если они решат снова вытащить на свет Божий обвинение в колдовстве… — Я поняла, что он встревожен. — Вам нужно одеться не так… не так вызывающе.
— Ну, если вам так угодно. — Я понимала, что он прав. Разумеется, он был прав. Я со вздохом стала снимать с себя роскошный наряд, способный оскорбить лордов. — Трудно приходится, когда на тебя точит когти мать самого короля, разве нет?
Он ничего на это не сказал. Стоя со смятым платьем в руках, я призналась, ибо остро нуждалась в его поддержке, в частице его уверенности:
— Мне страшно. Ах, Вилл, как мне страшно!
— Я понимаю. — Голос Виндзора наконец зазвучал ласково. Он забрал у меня платье, положил его на кровать, аккуратно расправил складки. — Это дело очень опасное. Но ведь мы с вами знаем, как нужно вести себя с врагами, правда?
— О, еще бы не знать. — К моим ногам упало нижнее платье, развязанное ловкими пальцами Виндзора, и я снова вздохнула. — Извините. Я позволила своим чувствам взять верх над здравым смыслом.
— Именно так. Но вы женщина. Женщина, которой я очень дорожу. Я не допущу, чтобы они причинили вам вред.
— Думаю, вам не дадут права голоса при решении этого дела!
— Как вы мало мне доверяете! — Он сунул мне пару простеньких кожаных туфель. — Не слишком забивайте себе голову размышлениями. Если опоздаете, то эти аристократы станут фыркать еще презрительнее. Помните одно: я буду с вами. Я не допущу, чтобы вы страдали в одиночестве.
— Страдала! Ну спасибо!
Я быстро надела более скромное платье и отправилась на судилище — рассуждая здраво и имея приличествующий случаю вид. Ни единого украшения! Надеть хоть одну из драгоценностей Филиппы значило бы поднести факел к куче хвороста, уже запасенной для моего костра.
Так я снова оказалась в Лондоне — впервые после похорон Эдуарда. Мне казалось, что прошло гораздо больше времени, чем на самом деле, с той минуты, когда я бежала от дверей Вестминстерского аббатства, а в ушах звучали зловещие предсказания торжествующей Джоанны. Настроение у меня сразу улучшилось от привычного шума и кипения толп, от вида зажиточных купцов и их жен, одетых настолько богато, насколько им позволяли ограничительные законы Эдуарда. Потянулись сплошные торговые склады, и меня привлек вид Темзы, на морозе напоминавшей мутное стекло. Я так и не привыкла к деревенской жизни и никогда не привыкну — и тут ледяная рука стиснула сердце: я вспомнила, что приехала сюда не ради тех развлечений, которыми изобиловал Лондон.
Мне требовалась поддержка, и я прикоснулась к руке Виндзора, а он — спасибо ему за это — накрыл мою руку своей. Если дело обернется для меня скверно, я могу провести остаток дней своих в темнице или же меня вышлют из Англии. А может быть, и кое-что похуже… Мы двигались вдоль берега реки зигзагами, объезжая нищих, блудниц и прочих обитателей лондонских сточных канав. Я вспомнила смутные намеки Виндзора и проглотила комок, подступивший к горлу от страха.
Спешившись у Вестминстерского дворца, Виндзор занялся нашими лошадьми, а я обратилась с расспросами к одному из чиновников. Где именно собирается заседать Палата лордов? Меня направили в залу, где Эдуард изредка давал торжественные аудиенции — например, принимал трех королей много лет назад. Значит, сейчас тоже все будет поставлено на официальную ногу. Впрочем, времени на долгие размышления не было. Виндзор потянул меня за край накидки, и мы быстро зашагали навстречу моей судьбе. У дверей нам преградили путь стражники: лорды еще не собрались на заседание. Я в нетерпении огляделась вокруг и увидела на скамье, где обычно теснились просители, ожидавшего нас человека.
— Здравствуйте, Уикхем. — Виндзор коротко кивнул.
— Здравствуйте, Виндзор, — отозвался тот.
Мужчины обменялись взглядами, в которых не было особого дружелюбия. Их отношения установились раз и навсегда.
— Я думала, что уж кто-кто, но вы станете держаться подальше отсюда! — проговорила я, пытаясь скрыть свое удивление по поводу того, что епископ счел нужным сюда явиться. — Разумному человеку не стоит показываться в моем обществе.
— Вы кое-что забыли, — произнес он с легкой гримасой, поцеловал мне руку и попытался даже улыбнуться. — Я свободный человек, получивший полное прощение. Честь моя восстановлена, я сияю всеми добродетелями. Парламент в мудрости своей явил мне свою милость, так что мне бояться нечего.
Никогда раньше он не говорил с таким цинизмом.
— Надеюсь, я смогу сказать то же самое о себе после сегодняшнего заседания, только я не столь в этом уверена.
— Полагаю, вы сумеете переговорить их всех! — произнес он с нескрываемым сарказмом. Я была благодарна ему за эту попытку подбодрить меня, пусть она и не удалась, и обратилась к нему с весьма необычной для меня просьбой:
— Помолитесь обо мне, Уикхем.
— Обязательно. Хоть я и не уверен, что для вас это так важно. Вы заступились за меня, когда я в этом нуждался. — Он пожал мою руку, прежде чем отпустить. — Я сделаю все, что в моих силах, леди. Лорды могут прислушаться к моим словам в вашу защиту…
А могут и не прислушаться. Но его непривычно почтительное обращение едва не довело меня до слез.
— Среди ваших друзей есть люди очень странные, любовь моя, — заметил Виндзор, когда Уикхем удалился. — Этот человек, хоть он и священник, влюблен в вас. Помилуй его Боже!
— Глупости! Я приложила руку к его удалению от двора.
— И помогли ему помириться с Эдуардом. Вы слишком строго судите себя. — Он взял меня за руки, поцеловал в губы, в щеки. — Не забывайте, что я вам говорил, — прошептал он, целуя меня в висок.
Потом я осталась одна.
Без всякой суеты и помпы меня препроводили в залу. На этот раз для меня не приготовили стула — предстояло стоять в продолжение всего процесса. А Виндзору так и не удалось сдержать свое обещание: стража не впустила его в залу. Натолкнувшись на скрещенные алебарды, он не стал препираться. Могу представить, в какой ярости он бесцельно мерил шагами переднюю.
Я обвела взглядом присутствующих: знакомые лица и никогда прежде не встречавшиеся. Ожидает ли меня правосудие? Должно быть, нет.
«Держитесь спокойно. Уверенно. Не теряйте здравого смысла. Не позволяйте выудить у вас какие бы то ни было признания, которые потом можно будет использовать против вас. Где только возможно, говорите правду. Не забывайте о том, что Господь дал вам способность мыслить. И старайтесь не говорить, когда вас не спрашивают, а равно не говорить с неуместным высокомерием».
Виндзор давал мне советы, откровенные до грубости.
Но сейчас мне было очень одиноко. Даже сознание того, что он любит меня, не могло успокоить бешеного биения моего сердца.
— Мистрис Перрерс.
Я резко вскинула глаза. Председательствовать на процессе они назначили Генри Перси, графа Нортумберленда, маршала Англии. Одного из ближайших сподвижников Гонта. Мне это не понравилось. Очень сильно не понравилось, но я решила придерживаться своего первоначального решения и склонила голову.
— Да, милорд.
— Вас вызвали сюда, чтобы выслушать ваши ответы на обвинения самого серьезного характера. Это вам понятно?
Значит, вот как поставлено дело: строго по закону, строго официально и внешне беспристрастно. Обвинения мне до сих пор предъявлены не были.
— Да, милорд. Понятно.
— Нам требуется получить ответы на вопросы, касающиеся ваших поступков в прошлом. Против вас выдвинуты очень тяжкие обвинения.
— И каковы же они? — Вопреки моим желаниям, страх все рос.
— Мошенничество, мистрис. И государственная измена. Что вы на это скажете?
— Невиновна, — ответила я не задумываясь. — Ни в том, ни в другом. И я сомневаюсь в обоснованности любых показаний против меня.
— Это серьезные обвинения, мистрис. Быть может, вам нужно время, чтобы обдумать…
— Каким образом я совершала мошенничества? — Выпрямившись, как древко копья, я говорила твердым и громким голосом. — Я ни разу не прибегала к бесчестному обману или жульничеству ради того, чтобы извлечь выгоду для себя. Никогда не прибегала ни к каким измышлениям. Если вы сомневаетесь в законности моего владения королевскими поместьями, то они были даны мне королем Эдуардом по его собственной воле, в качестве дара, сделанного из щедрости и из его симпатии ко мне. — Пусть проглотят это заявление! — Те же, которые я приобрела на свое имя, были мною куплены открыто и вполне законно, через моего поверенного. Я искренне отвергаю обвинение в мошенничестве, милорды.
Дышала я ровно и медленно, хотя это стоило мне немалых усилий, голос звучал твердо и властно. Какими доказательствами они могут располагать?
— Но по вопросу измены, мистрис…
— Измены? В каком же это случае я нарушила свою присягу хранить верность моему королю? — Здесь я чувствовала себя уверенно. Даже это почтеннейшее собрание не сможет отыскать никаких доказательств того, что я ставила короля под угрозу. — Я призываю вас предъявить какие-либо доказательства того, что я представляла опасность для здоровья короля или же для благополучия государства. — Быть может, это было неразумно, однако страх вынудил меня изложить свою позицию открыто и резко. Я обвела изучающим взглядом обращенные ко мне лица. Одни из них смотрели мне в глаза, другие спешили отвести взоры. — Так что же, милорды? Где доказательства моей вины?
Лорды заерзали на своих скамьях, зашептались. Граф Генри перекладывал документы.
— Нам нужно посовещаться, мистрис. Не соблаговолите ли подождать в передней?
Я удалилась величавой походкой.
— Что там происходит? — Виндзор тут же подбежал ко мне и усадил на скамью, где совсем недавно сидел Уикхем.
— Совещаются.
— О чем, Боже правый? Вы же там и пяти минут еще не пробыли!
— Даже не знаю. — Сидеть я была не в силах и стала шагать от стены к стене.
— Как я понимаю, что-то пошло не так?
— Там все не так. Мне предъявили обвинения, но отказались представить какие бы то ни было доказательства моей вины. Как это понимать? Если у них нет доказательств, то зачем же они меня вызвали? Мне страшно, Вилл. Я боюсь, а чего — и сама не знаю.
— Мне хотелось бы быть там, с вами. — Он встал со скамьи и зашагал рядом со мной.
— В этом я не сомневаюсь. — Я оперлась на его руку. — Но думаю, толку от этого все равно не будет. Сам архангел Гавриил — и тот не сумел бы помешать лордам перегрызть мне горло.
Через полчаса меня снова позвали в залу.
— Мистрис Перрерс, — начал с самодовольным видом граф Генри. — Лорды обсудили имеющиеся против вас улики. Вы оказали умышленное и дерзостное неповиновение постановлениям Доброго парламента.
Как это понимать? Они предъявляют совсем другие обвинения? Вдруг разом позабыли о мошенничестве и измене, если не считать изменой неповиновение парламенту. Тут я сообразила, что лорды с самого начала понимали: эти обвинения им подкрепить нечем. Но чего они добиваются теперь? Я почувствовала, что земля уходит у меня из-под ног. По спине, как предчувствие грозящей мне опасности, пробежали холодные мурашки. Мне очень хотелось, чтобы сейчас рядом был сильный Виндзор, но за себя мне придется сражаться самой.
— Каким же это постановлениям? — спросила я с неподдельным изумлением. Разве я не выполнила постановление парламента до последней буквы? Они же не собираются снова поднимать вопрос о колдовстве? Желудок стал подниматься к горлу.
— Те постановления, кои отлучали вас от особы короля и запрещали вам проживать вблизи местопребывания королевского двора…
Да разве я не выполнила эти постановления до последней буквы?
— Это обвинение я отвергаю.
— Вот как? — Уголки рта графа Генри изогнулись в самодовольной усмешке, говорившей, что мое отрицание вины не имеет в их глазах ни малейшего веса. — Вы были высланы и, однако же, возвратились и снова находились при его величестве покойном короле многие недели до его смерти…
«Только спокойно! Твоей вины в этом они не докажут…»
— Я выполнила постановления, — заявила я, тщательно подбирая слова, а сердце тем временем билось, как у перепуганной лошади. — Я уехала и жила вдали от двора. И не возвращалась до тех пор, пока милорд Гонт не добился отмены направленных против меня постановлений. Я заявляю об этом факте, без сомнения, хорошо известном всем присутствующим, в доказательство моей невиновности.
— Нашей Палате об этом ничего не известно. Палата считает, что вы нарушили условия высылки, назначенной вам парламентом, чем совершили гнуснейшее преступление.
— Нет! Я не совершала преступления! Милорд Гонт собственноручно известил меня о том, что я вольна возвратиться ко двору.
— И у вас имеется доказательство этого?
— Нет. Но помилование должно быть где-то отражено.
То письмо. Куда оно подевалось? Мысли мои метались, как зверьки, попавшие в капкан. Должно же быть доказательство…
— Далее, — продолжал граф Генри, будто и не слыша меня, — вы обвиняетесь в том, что использовали свое пагубное влияние на его величество короля Эдуарда в последние дни перед его кончиной, дабы получить помилование для Ричарда Лайонса, какового парламент осудил за тяжкие вины в делах финансовых. По вашему наущению Лайонса освободили из Тауэра.
Это была грубая ложь. Я обдумала предъявленное обвинение, лихорадочно перебирая в уме все события. Не существовало ни малейших доказательств моей причастности к этому. Ни единого! Настроение мое поднялось, но все же само обвинение меня озадачивало.
— Лайонс был помилован властью милорда Гонта от имени короля, когда решения парламента были уже отменены, — возразила я, снова почувствовав себя увереннее. — Освободили и Лайонса, и милорда Латимера — это ведь ни для кого не тайна. Вашим сиятельствам это должно быть хорошо известно.
Граф Генри отмахнулся от моего ответа.
— Палата считает, что вы виновны в получении помилования для этого человека, который представляет собой угрозу для государства.
— Нет!..
— Размеры совершенных им хищений колоссальны. И добиваться помилования для него есть деяние, направленное на подрыв авторитета парламента…
— Существуют вельможи двора, которым известна истина в этом деле. И сам Гонт…
— Нам таковые неизвестны. — Граф Генри посмотрел на меня своими чистыми голубыми глазами, и взгляд его был исполнен пугающего чувства превосходства. — Никто не высказался в вашу защиту.
— Я могу сыскать таковых. — Мои слова прозвучали на удивление спокойно, хотя руки стали липкими от пота. — Те законники, кто имел отношение к данному помилованию, подтвердят, что я в том не участвовала. Я не имела никакого отношения к помилованию Лайонса. Должны были сохраниться записи о том, что все юридические распоряжения были составлены по указанию милорда Гонта.
Гробовая тишина. Мои достопочтенные судьи неподвижно застыли на своих скамьях. Я же почувствовала, что руки у меня сжались в кулаки, а ногти глубоко впились в нежную плоть. Наконец граф Генри коротко кивнул.
— Никто не должен говорить, что наша Палата попирает правосудие. Мы предоставим вам время, чтобы вы могли найти себе свидетелей, мистрис. Мы их выслушаем и оценим их показания.
— Сколько времени? — уточнила я. — Сколько времени вы мне предоставляете?
— Вторую половину сегодняшнего дня и предстоящую ночь, мистрис. — Он приторно улыбнулся, если мне только не померещилось.
— Но это же невозможно…
— Назначенный нами комитет будет заседать завтра в десять часов и заслушает ваши показания.
— Я прошу больше времени, милорды… — Я обвела взглядом их лица, уже понимая, что никто из них не желает меня слушать.
— Мы делаем для вас все, что можем.
Я вышла из залы, расправив плечи и высоко подняв голову. Они не могли не понимать, что я проиграю дело.
— Полдня и одну ночь! Боже правый! Как они самоуверенны! А мне еще не нравится то, что у меня перед носом захлопнули дверь! — Виндзор ударил кулаком по стене, потом с убийственным спокойствием взялся за дело. — С чего же начнем?
— Это была затея Гонта — он приказал освободить Лайонса. Должны были сохраниться доказательства, — горячилась я. — Мне нужен тот, кто способен отыскать такое доказательство в архивах и представить его комитету Палаты лордов.
— Кто же? Кто может это знать?
Мы с ним быстро шли по переходам обширного дворца в то крыло, где размещались писцы, обслуживавшие нужды королевского двора.
— Не знаю точно. Кто-нибудь из придворных законников. Их тут предостаточно.
— Но захотят ли они?
— Захотят чего? — Мысли мои уже устремились галопом вперед. Кого мне удастся здесь поймать?
— Искать для вас доказательства. И представлять их в комитет. Ради всего святого, кто согласится предстать перед лордами и оспаривать их мнение?
— Почему бы и нет? — Я остановилась на полдороге.
— Если некто заинтересован в том, чтобы сокрыть улики… — Виндзор предостерегающе поднял руку, когда я открыла рот, чтобы отвергнуть такую возможность. — Если, говорю я… тогда всякого, кто осмелится выступить в вашу защиту, ждет кара быстрая и суровая. Этого достаточно, чтобы они держали язык за зубами. Даже если такой документ все еще существует… Но я в этом сомневаюсь!
Я заморгала, когда он высказал все это так безжалостно. Разве сама я не этого как раз и боялась? Твердая уверенность графа Генри затопила меня волной страха.
— Я не могу сидеть сложа руки! Не могу просто смириться с их обвинениями! — воскликнула я.
— Верно. А время неумолимо бежит. — Виндзор ускорил шаги. — Давайте прикинем, кого мы можем отловить в этой берлоге законников. Как зовут того человека, который вывез из Палленсвика все ваше имущество? Возможно, он посчитает себя обязанным по крайней мере сказать вам правду.
— Как это получается, Вилл, — проворчала я, — что вы всегда думаете в первую очередь о долгах, которые можно востребовать, и об услугах, за которые можно потребовать ответных услуг?
— Да потому, что я всю жизнь только и делал, что либо взыскивал долги, либо выплачивал их сам! — Он решительно устремился вперед, увлекая меня за собой. — Вы помните, как его зовут?
— Томас Вебстер.
— Идите поговорите с ним. — Он подтолкнул меня к двери, которая вела в логово законников. — А я пока поищу кого-нибудь из слуг Эдуарда: возможно, у кого-то из них хорошая память и мне удастся ее освежить. Если придется, то и с помощью кинжала.
Я отыскала Томаса Вебстера в маленькой убогой комнатенке, где он сидел среди свитков пергамента, печатей и ленточек, которыми перевязывают документы; комнатка вся пропахла чернилами и запыленными хартиями. Сколько воспоминаний о минувших днях будил во мне этот запах! О благополучных днях. Когда я переступила порог, мастер Вебстер недовольно оторвался от бумаг, увидел меня и сразу отослал прочь своего писца. Я решила, что это предвещает мало хорошего.
— Здравствуйте, мастер Томас Вебстер! — Я остановилась прямо у его стола, уперев руки в бока; он медленно поднялся с табурета.
— Здравствуйте, мистрис Перрерс…
— Они сохранились?
Он хорошо понимал, что привело меня в это логово. Опустил глаза, уставился на свою руку, которая поигрывала пером. Он знал, о чем я спрашиваю: о документах, подтверждающих, что помилования были даны по распоряжению Гонта.
— Уверен, что сохранились, мистрис.
— Вы найдете их мне? Выступите с ними на суде как мой свидетель?
— Нет, мистрис.
Ну по крайней мере откровенно.
— Почему же?
— Вы сами знаете почему. — Теперь он посмотрел мне в глаза. — Мне должность дороже.
— И вы не поможете мне доказать, что моя высылка была отменена милордом Гонтом?
Он даже не дал себе труда ответить на этот вопрос.
— А кто может помочь? — настойчиво спросила я. — Кто может помочь мне?
Он швырнул перо с измочаленным острием на стол, лицо не выражало ничего, словно передо мной был не живой человек, а свежеиспеченный пирог. Ему и отвечать было незачем. Как показали дальнейшие бесплодные поиски, на которые я потратила всю вторую половину дня, помочь мне не хотел никто. Королевские законники исчезли из поля зрения, забились в щели каменных стен, обшитых деревом, словно тараканы, когда к ним подносят свечу. Те же, кого мне удалось прижать к стене, демонстрировали поразительную потерю памяти.
— Безнадежно! — воскликнула я, встретившись в тронном зале с Виндзором, у которого вид был необычайно встревоженный.
— Значит, Вебстера уломать не удалось?
— Вебстер — ублюдок, который заботится только о себе самом!
— Слуги Эдуарда тоже совершенно не склонны к сотрудничеству, — заметил он. — Нашел я, однако, одного, который может оказаться человеком порядочным…
— И сколько вы ему заплатили?
— Лучше не спрашивайте! Я не стал бы ставить на то, что в конце концов он явится на заседание, но он хотя бы не отказался сразу.
Это не вселило в меня больших надежд. Если законник, имея в руках все необходимые юридические документы, не желает вступиться за истину, то как же можно ожидать, что паж или простой слуга посмеет выступить против воли парламента?
— Не спешите сдаваться, Алиса, — сказал Виндзор очень мрачно. — Хотя бы до тех пор, пока не будет зачитан окончательный приговор. Надежда умирает последней.
— Я не настолько верю в успех.
— Как и я! Но мы оба не смеем сдаваться, пока сражение еще даже не началось! — Меня неприятно удивила его неожиданная резкость, но Виндзор тут же взял меня под руку и повел к скрытой занавесью двери в конце коридора.
— Чем мы займемся теперь? — поинтересовалась я.
— Переворошим кухни в поисках эля и чего-нибудь такого, что сойдет за обед. А потом понаблюдаем за моим ненадежным свидетелем. — При этих словах он улыбнулся довольно хищно. — Если он передумает, мы сделаем все возможное, чтобы он передумал снова!
В ту ночь нам почти не пришлось спать.
Десять часов. Любимые часы Эдуарда в Хейверинге должны пробить десять раз. Комитет, которому было поручено выслушать и взвесить представленные мною свидетельства, собрался в меньшей комнате, способной вместить только полдюжины членов комитета да саму обвиняемую. И свидетеля, если отыщется такой храбрец. Или непроходимый глупец…
Я вошла в помещение и сделала реверанс избранным лордам, восседавшим за большим столом, который надежно отгораживал обвинителей от обвиняемой. Я переводила глаза с одного из них на другого, пытаясь определить, от кого именно будет зависеть моя судьба.
Атмосфера в комнате была холодна, как лед.
В центре восседал сам Гонт — он председательствовал при рассмотрении дела против меня. Былой сторонник, союзник, который изо всех сил добивался моей поддержки; тот, кто отменил мое отлучение от двора и позволил мне возвратиться к Эдуарду.
И он будет беспристрастно судить меня?
Я медленно сделала глубокий вдох, борясь со вновь вспыхнувшим во мне смертельным страхом. Что толкнуло его на такие действия? И какое влияние на вынесение окончательного решения будет иметь присутствие столь высокопоставленного лица? Впрочем, этот вопрос был излишним. Ответ на него был виден не хуже, чем черно-красный атлас его роскошного камзола. Я посмотрела ему в глаза. Он ответил мне таким же откровенным взглядом. Если я надеялась отыскать хоть одного друга среди лордов, то, выходит, жестоко заблуждалась. Впрочем, ему-то я ведь никогда и не доверяла, правда? И правильно делала. Присутствие Гонта, как я отлично поняла, уничтожает единственную слабую надежду, за которую я еще держалась, пусть и не очень крепко: в течение бесконечной предыдущей ночи я утешала себя тем, что он может выручить меня снова. А он пришел сюда, чтобы покарать меня. Добившись примерного наказания для меня, он сможет уничтожить все свидетельства того, что в прошлом мы с ним работали рука об руку. Он вышел на охоту со взглядом твердым и холодным, как гранит. Ждать помощи отсюда не приходится.
— Мистрис Перрерс…
Допрос снова вел граф Генри, и я обратила свой взор на него. Не столь уж важно, конечно, кто именно задает вопросы. Гонт мог и не брать на себя задачу получить мои показания лично, но самим своим присутствием он направлял весь ход судебного заседания. И я опасалась, что исход будет таким, каким захочется ему.
— Мистрис Перрерс, мы готовы взвесить показания в защиту вашей невиновности. Отыскали ли вы какого-либо законника, который может прояснить причину помилования Лайонса? Нашли какие-либо документы?
— Нет, милорды, не нашла.
— В таком случае обвинение против вас остается в силе и вас следует полагать виновной. — Как ласково звучал его голос! И как ядовито!
— Я нашла человека, который может высказаться в мою защиту, — объявила я.
— Вот как? — В этом коротком восклицании чувствовалось большое недоверие, и холод охватил мою душу до самых глубин.
— Я желаю вызвать для дачи показаний Джона Беверли, — сказала я.
— А кто он?
— Слуга из свиты короля Эдуарда. Его камердинер. Человек, которому король — покойный король — доверял безгранично.
— Что ж, мы готовы выслушать его.
Отворилась дверь у меня за спиной. Я молилась, молилась изо всех сил, чтобы Джон Беверли никуда не сбежал.
— Удержите его здесь любой ценой! — сказала я утром Виндзору. — И перестаньте бросать на него такие сердитые взгляды.
Джон Беверли, камердинер Эдуарда, оказался единственным человеком, у которого осталась хоть капля храбрости и уважения к истине. Чего бы это ни стоило Виндзору, мы сумели по крайней мере довести его до дверей комнаты, где заседали судьи. Я допускала, что мой решительный супруг мог воздействовать на него физическим принуждением — Беверли сильно нервничал. Я опасалась и того, что Беверли окажется ненадежным. Но мне оставалось лишь вверить в его руки мою свободу — другого выхода просто не было. Единственное, что я могла еще делать, — это молиться, чтобы в его сердце сохранилась былая верность. Он вошел: редеющие волосы кое-как причесаны пальцами, взгляд неуверенно блуждает по лицам членов комитета. Когда этот взгляд упал на Гонта, волнение Беверли сменилось ужасом. Он посерел лицом, и надежда во мне тут же угасла.
— Джон Беверли? — обратился к нему граф Генри.
— Да, милорд. — Он намертво сцепил руки, все черты лица выражали крайнее волнение.
— Вы служили королю Эдуарду в качестве камердинера?
— Да, милорд.
— Мы собрались здесь, чтобы выяснить правду о помиловании Ричарда Лайонса. Вы припоминаете дело, о котором я говорю? Известно ли вам, что мистрис Перрерс уговорила его величество покойного короля даровать прощение Лайонсу?
— Нет, милорд, об этом мне ничего не известно.
— Твердо ли вы уверены в своих словах?
— Уверен, милорд.
Я вздохнула. Беверли по природе был человеком немногословным, а сейчас глаза у него были как у затравленного оленя, со всех сторон окруженного собаками. Дай Бог, чтобы он хоть немногие слова обратил мне на пользу.
— Отчего? Отчего вы так уверены в этом?
— В последние дни жизни его величества, милорд, я находился при нем безотлучно. — Робкие ростки надежды снова стали распускаться в моей душе. Голос Беверли креп по мере того, как он чувствовал себя все увереннее: речь шла о вещах, которые ему были известны во всех подробностях. — И я ни разу не слыхал, чтобы король или мистрис Перрерс упоминали о помиловании.
— Значит, ни один из них об этом не говорил?
— Да, милорд. Ни король, ни его… ни мистрис Перрерс. Я клянусь, что король не давал приказа о помиловании этого человека.
Это было очень опасное заявление, если вдуматься. Раз помилование не исходило от Эдуарда, то оно могло исходить лишь от Гонта. А значит, принц самочинно присвоил себе королевскую власть, посягать на которую был не вправе. Атмосфера в комнате накалилась, я затаила дыхание. Члены суда зашевелились, зашуршали их шелка и атлас, заскрипели по полу сапоги. А чело Гонта омрачила настоящая грозовая туча. И если Беверли этого не заметил, то он просто глупец. Будет ли он стоять на своем или же струсит? Запугивания Виндзора, как и соблазн получить деньги, сразу меркли перед еще не высказанным гневом Гонта.
— Вы готовы поклясться в этом? Вы готовы принести присягу, что сказали нам правду? — спросил его граф Генри. — В том, что мистрис Перрерс ни разу не уговаривала покойного короля издать указ о помиловании Ричарда Лайонса?
— Ну-у… Готов, милорд.
— Вы понимаете, что опасно клясться, если вы хоть немного не уверены в своих словах?
— Э-э… — Я заметила, как глаза Беверли перебегают с графа Генри на Гонта.
— Итак, утверждаете ли вы, мастер Беверли, что мистрис Перрерс не имела никакого влияния на принимаемые королем решения? Вы сказали ведь, что постоянно находились при покойном короле.
— Да, милорд.
— Но разве не случалось так, что мистрис Перрерс оставалась с королем наедине, а вас при этом не было?
— Конечно, так случалось, милорд.
— А можно допустить, что она в один из таких моментов могла поднять вопрос о Лайонсе, о его помиловании?
— Ну-у… могла, милорд. — Беверли нервно дернул кадыком.
— А если так, то можете ли вы с уверенностью утверждать, что мистрис Перрерс не предпринимала ничего для помилования Ричарда Лайонса?
У Беверли опять пересохло в горле, когда он увидел разверзающуюся перед ним мрачную бездну судебного крючкотворства — яму, которую он сам себе выкопал. Я тоже все видела и понимала, но заставила себя стоять не шевелясь, только вглядывалась в лицо Гонта.
— Нет, милорд. Как мне кажется, не могу.
— Значит, насколько я понимаю, вы не можете дать показаний в защиту мистрис Перрерс. Так ведь?
— Да, сэр. Положа руку на сердце, не могу. — Мне показалось, что у Беверли камень с души свалился, когда решение приняли за него другие.
— Благодарю вас. Мы высоко ценим вашу честность. Вы можете идти.
Гонт снова стал вполне спокойным, взглянул на меня, и в его взгляде отразилось то, как он доволен проделанной графом работой. Мне казалось, что мы остались в этой комнате с ним вдвоем, а ждать пощады от него мне не приходилось.
Члены комитета тихонько посовещались между собой.
Джон Беверли вышел, ни разу не взглянув в мою сторону, стараясь не дать повод к подозрению, будто мы с ним состояли в сговоре. Мне трудно было осуждать его за это. Не у всех хватает смелости стоять за правду до последнего. Не все мужчины подобны Виндзору, который, как я знала, будет отстаивать меня, пока жив. Сейчас, стоя перед Гонтом и его тщательно отобранными высокородными приспешниками, я чувствовала, что нуждаюсь в Виндзоре как никогда. С того дня как Филиппа перевернула мою жизнь, я изо всех боролась и изворачивалась, чтобы устоять на ногах в бурном водовороте придворных интриг. Я боролась за то, чтобы надежно обеспечить свое будущее и будущее своих детей. Я даже гордилась теми успехами, которых мне удалось достичь. И все, как выясняется, напрасно. Теперь я осталась беспомощной, беззащитной, без единого друга.
Кроме Вильяма де Виндзора.
Единственным проблеском надежды в те ужасные минуты стало удивительное облегчение, которое я испытала, сознавая, что не совсем одинока, что бы ни случилось.
— Мистрис Перрерс! — Граф Генри настойчиво потребовал моего внимания. На лице Гонта застыло каменное выражение. Граф Генри вышел вперед. — Мы вынесли решение. Вот что мы постановляем…
Как же мало понадобилось времени, чтобы разрушить все то, что я созидала всю жизнь!
— Мы считаем вас виновной в получении помилования для Ричарда Лайонса.
Виновной!
— Исходя из этого, комитет от имени Палаты лордов Английского королевства подтверждает первоначальный приговор, вынесенный вам Добрым парламентом, — приговор об изгнании…
Снова изгнание! Это слово тяжелым звоном отдалось в моих ушах.
Но граф Генри еще не до конца провернул свой кинжал в ране, нанесенной мне в самое сердце.
— …мы также постановляем конфисковать все оставшиеся у вас земли и прочее имущество, приобретенное посредством обмана и мошенничества.
Этот чудовищный приговор потряс меня. Ведь он просто утверждал незаконность моих действий, не представляя ни малейших тому доказательств. Подразумевалось, что я приобретала поместья и иную собственность обманным путем, поэтому у меня отнимали все. Подразумевалось, но вовсе не было доказано, что я виновна. Вот вам и вся беспристрастность законов. Как же они меня, должно быть, ненавидят! Впрочем, разве так не всегда было?
— Вам понятны принятые нами решения, мистрис Перрерс?
Я стояла неподвижно, понимая, что все взгляды судей устремлены на меня: кто-то из них смотрел на меня с осуждением, кто-то с ханжеским сочувствием, кому-то было просто любопытно, как я себя поведу. В глазах Гонта сверкали торжество и алчность. Теперь он сможет присвоить любые мои имения. Вмиг из союзника он превратился в заклятого врага. Я с трудом понимала такую метаморфозу. А когда поняла, стала презирать его от всей души.
— Мне все совершенно понятно, милорды, — ответила я. — Могу ли я теперь идти?
— Мы завершили рассмотрение дела.
Я присела в глубоком реверансе и вышла из комнаты.
«Могу ли я теперь идти?» — спросила я у них. И куда же я пойду?
Я оказалась в прихожей, еще толком не поняв всего масштаба происшедшего. Приговор был произнесен. Меня не заключили в темницу, но выслали, и это давило на меня, подобно тяжелой мрачной туче. Я устремила невидящий взор на Виндзора, ожидавшего у окна. Наверное, я пошатнулась, потому что он в три прыжка подскочил ко мне и поддержал под руку.
— Полагаю, Беверли струсил, как заяц! Он умчался отсюда прежде, чем я успел схватить его за тощую шею.
Я заморгала, не в силах поймать разбегающиеся мысли или подыскать слова, чтобы объяснить, к чему меня приговорили.
— Алиса!
— Я… — Я покачала головой. — Не могу… но мне нужно…
Ему хватило одного взгляда на мою угрюмую физиономию.
— Не пытайтесь ничего рассказывать. Идемте со мной.
Не теряя времени, он вывел меня на морозный воздух. Я задрожала, но все же моему разгоряченному лицу был приятен царивший на улице холод. Во дворе слуги Виндзора держали под уздцы наших лошадей. Словно бы глядя со стороны на все происходящее вокруг, я сообразила, что он опасался этого процесса и подготовился к неожиданностям, хотя меня уверял в благосклонности правосудия.
— Спасибо, — прошептала я. Как дорог он был мне! Как сильно я уже привыкла полагаться на его здравый смысл, на его цинизм и практичность!
Он поднес к губам мою руку, потом, увидев, что я замерзла, сорвал с себя перчатки и натянул на мои руки, а плечи закутал в свой плащ. Мне стало тепло и уютно, несмотря на покалывание в пальцах.
— Вы очень… добры ко мне.
— Добр, Боже правый! Разве я не люблю вас, глупышка? — Он заглянул в мое застывшее лицо. — Кажется, вы мне так и не поверили. Ну, не время и не место убеждать вас в этом. Просто поверьте мне на слово и будьте уверены в том, что я вас не оставлю. Чувствуете? — Он прижал мою руку к сердцу. — Оно бьется в унисон с вашим. Для вас это звучит достаточно поэтично? Может быть, и нет, но в данную минуту ничего лучшего вы не услышите. — Он крепко поцеловал меня в губы. — Теперь займемся вами, пока эти стервятники не передумали. Я отвезу вас домой.
— А где теперь мой дом?
— Там, где я.
Какое странное место и время он выбрал для такого заявления! Под суровой внешностью Виндзора скрывалось сердце, нежность которого всегда трогала меня до глубины души. А интуиция у него была просто поразительная. И каким-то образом он сумел понять, что мне необходимы именно такие слова, чтобы вырваться из пут парализующего страха. Он не ожидал от меня утвердительного ответа. Оглушенная невероятным приговором, скованная страхом, я не могла ничего рассказать ему о происшедшем. Теперь я уже дрожала непрерывно, и причиной тому был вовсе не налетавший с реки порывистый ветер. Я сжала поводья, которые Виндзор вложил мне в руки, но сидела в седле неподвижно, не в силах принимать самые простые решения, пока он не наклонился ко мне и не взял мою лошадку за повод. С возгласом нетерпения потянул ее за собой, и она пошла неровной рысью.
Это рывок привел меня в чувство, я подтолкнула лошадь к его скакуну.
— Станут ли они и теперь настаивать на строгом соблюдении изгнания? — спросила я, хотя и сама знала ответ.
— Значит, вот что они решили. А то я все думал, отчего это вы лишились дара речи.
— Это и кое-что похуже. — Я не смогла улыбнуться его тяжеловесной шутке.
— Кто там был?
— Гонт. Он лично присутствовал. Он судил меня. — Перед глазами неотступно стояло его безжалостное лицо. Как страстно ему хотелось умыть руки, будто он никогда и не имел дела со мной!
— Тогда мы не станем ждать здесь, что будет дальше. — Виндзор перевел наших лошадей на более размашистую рысь, слуги спешили за нами.
— Куда мы скачем?
— В Гейнс. Согласны?
А почему бы и нет? Разве я где-нибудь смогу чувствовать себя в безопасности?
— Согласна. В Гейнс. Он принадлежит нам. И они не смогут поставить под сомнение мои права на это имение, потому что оно записано и на ваше имя тоже. — Я заметила вопросительный взгляд Виндзора. Ну да, он же еще ничего не знал. — Ах, Вилл! У меня отбирают все имущество, все земли…
Он ничуть не удивился.
— Я могу отвезти вас в одно из своих поместий, если пожелаете. И вас, и девочек…
Я обдумала это предложение, и холод в душе стал понемногу отступать. Виндзор обо мне позаботится, что бы ни случилось. И все же я нуждалась в уюте привычной обстановки.
— Нет. Отвезите меня в Гейнс. И еще… Вилл… — Он посмотрел на меня. Лицо у него было оживленное, возбужденное — этот сильный человек был готов встретить лицом к лицу любую опасность. — Я знаю, что вы меня любите. Я тоже люблю вас.
— Не сомневаюсь. А теперь вперед, женщина. Чем быстрее мы выберемся из Лондона, тем лучше — пока они не придумали другого преступления, за которое смогут вас повесить.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Но лорды подыскивали петлю не на мою шею, а на шею Виндзора. Новую атаку лорды начали не на меня, а на него — обвинением, от наглости и подлой низости которого просто дух захватывало: ему предъявили самое очевидное, то, что отрицать было совершенно невозможно. Виндзора обвинили в укрывательстве женщины, приговоренной к изгнанию. Последовал вызов в Лондон, где он должен был предстать перед судом Палаты лордов.
— Да как они смеют! — бушевала я. Гнев наверняка мог прогнать подкрадывающийся смертельный страх. — Как смеют они переносить мою вину на вас?
— Смеют, и пока что без малейших угрызений совести, — заметил Виндзор с поразительным равнодушием. — Гонт или принцесса Джоанна пришли к очень практичному решению — как осложнить вам жизнь. — Меня даже бесило то, что, в отличие от меня, он, кажется, ни о чем не волновался, открыто признав свою вину перед чиновником, который доставил ему вызов на суд. Я стояла рядом с ним, крепко держа мужа под руку, будто наглядно подтверждая его слова.
— Мне трудно это отрицать, правда? — мягко сказал он, предложив гонцу выпить на дорожку кружку эля. — Мы живем под одной крышей, делим ложе, и об этом знает всякий, кому не лень сунуть нос в наши дела. Нет никакой тайны в том, что мы женаты, так ведь, леди де Виндзор? — Он поклонился мне и добродушно усмехнулся пораженному чиновнику. С каких это пор обвиняемые стали сразу признавать свою вину?
Я лишь недовольно фыркнула в ответ.
Виндзор уехал в Лондон, чтобы лицом к лицу встретиться со своими обвинителями.
— Ждите меня в течение месяца. Если за это время я не вернусь, значит, я в Тауэре. Пришлите мне туда еды и вина! — Его теплые губы прижались к моим, но ненадолго — мыслями он уже был там, в Лондоне. — И не беспокойтесь! Ради своей безопасности, никуда не отлучайтесь из Гейнса, иначе глазом моргнуть не успеете, как вас обрядят в белую сорочку и дадут в руки распятие[106]. А этого нам не хочется, верно? — Я увидела искорки смеха в его глазах. — Разве я знаю, как воспитывать девочек? Им нужна материнская забота, нужно, чтобы мать была с ними, а не бродила босиком по берегу моря, ожидая, пока проходящий мимо корабль отвезет ее в какой-нибудь забытый богом уголок Франции! Поэтому сидите здесь и не высовывайтесь!
Что это за совет? Я вся извелась от тревоги. Дни тянулись за днями, а я только сидела дома да покрикивала на слуг; все прежние страхи ожили, я никак не могла согреться — перепуганная и невыносимо одинокая. Ползли недели, и постепенно до меня стало доходить, сколь многого меня лишили: всего, что я приобрела с таким трудом, всего, что давало мне достойное положение в обществе. Меня лишили той независимости, которой я столь сильно дорожила: каждая крошка хлеба, каждое платье, которое я могла надеть, — все это я получала лишь по доброй воле Виндзора, который в эти самые дни и минуты был вынужден бороться за свою свободу перед лицом Палаты лордов. А что я стану делать, если его упрячут за решетку? Как мне жить тогда?
Как сможет мое сердце пережить потерю Виндзора?
Мысли мои были в страшном смятении.
Отчего так происходит, что время позволяет усилиться всем нашим страхам вместо того, чтобы оживлять светлые надежды? Некогда я была уверена, что Виндзор сумеет вступиться за меня, а значит, я не буду снова страдать от одиночества. Я так была в этом уверена. Но теперь меня одолели сомнения: а что, если я ошибалась? Не предаст ли он меня, столкнувшись с угрозами парламента? Не покинет ли он меня, не оставит ли на милость Джоанны? Пообещает ли не видеться больше со мной, если от него потребуют этого в обмен на собственную свободу? Ведь никто не станет отрицать, что Виндзор всегда отличался эгоизмом, необъятным, как разлившаяся Темза.
Тянулись бесконечные дни, и я все больше утрачивала веру в будущее.
Слава Богу! Слава Богу! Через четыре недели, которые тянулись, кажется, целую вечность, Виндзор возвратился.
— Что они постановили? — набросилась я на него с расспросами, вглядываясь в его лицо и даже не пытаясь скрыть той тревоги, которая терзала меня со дня его отъезда. Я не стала ждать, пока он спешится, — выбежала во двор прямо из спальни, без покрывала, без туфель, изо всех сил вцепилась в повод коня, так что бедное животное даже попятилось и замотало головой. Я крепко держала его, морщась от боли, когда камешки попадали под мои босые ступни.
— И вам добрый день, миледи! — ответил он, усмиряя храпящего коня.
— Не томите меня, Виндзор…
— Даже не мечтайте, дайте только сойти с седла…
— Так что же? — Я отступила немного. Он спрыгнул с седла, подняв тучу пыли, отряхивая свой камзол и плащ. — Что вы мне скажете? Отчего заставляете меня ждать?.. — Страх сжимал мне горло, а кровь молотом стучала в ушах.
Он окинул меня изучающим взглядом.
— Они отказались от своих обвинений в мой адрес.
Вот так просто?
— Не верится!
— Да почему? Я же говорил, чтобы вы не переживали!
— Говорили. — Я недовольно поморщилась: в его голосе звучала такая безоглядная самоуверенность, какой могла когда-то похвастать и я. — Я так рада, Вилл… но мне все-таки не верится…
— Это еще не все!
Я вздохнула. Значит, еще не все. Ну конечно! Под ложечкой у меня опять засосало, а кровь отлила от лица.
— Говорите же. Чего они потребовали?..
— Члены парламента в своей мудрости согласились изменить свое узколобое решение относительно такой мелочи, как ваше изгнание.
— Изменили свое решение?..
— Со вчерашнего дня вам предоставлена полная свобода. А я, соответственно, освобожден от обвинений в том, что умышленно женился на изгнаннице.
Все еще сомневаясь, я всмотрелась в лицо Виндзора, стараясь отыскать подтверждения сказанному. Напрасно. Лицо его было словно высечено из камня. Он не поделился подробностями, не попытался обнять меня. Что-то стояло между нами, нечто вроде тех прочных стен, какие возводил из каменных глыб Уикхем. Виндзор чего-то недоговаривал.
— В этой бочке меда есть ложка дегтя, — сказала я, сердясь, что приходится его расспрашивать, и в то же время боясь его ответа. — Где же деготь?
— А откуда вы знаете, что он есть?
— По лицу вижу.
— А я-то думал, оно у меня непроницаемое!
Я ударила его по руке, совсем не в шутку.
— За такие вещи всегда кому-нибудь приходится расплачиваться. — Я нахмурилась. — Просто я не понимаю, как это могло получиться… Джоанна ни за что не отменила бы мое изгнание! — В этом я была совершенно уверена. Так отчего же мне улыбнулась удача?
— Налейте мне кружку эля, любовь моя, — нужно смыть яд, оставшийся после переговоров с вельможами, — сказал Виндзор и бросил поводья давно ожидавшему конюху. Потом обнял меня за талию — такое приветствие стало уже привычным и неизменно успокаивало меня. — Вот тогда я расскажу вам все до конца. Эти недели тянулись для меня долго, я соскучился по домашнему теплу и уюту.
Мне пришлось ждать, пока он опустошил целую тарелку говяжьего жаркого с лепешкой. Все это время я едва могла усидеть за столом от нетерпения, но, уже хорошо зная своего супруга, держала язык за зубами и страдала молча. Сидела за столом напротив него, не отрывая взгляда ни на миг, пока он, черт его возьми, не наелся, и ждала. Наконец он осушил кружку.
— Хотите еще эля? — спросила я с любезной улыбкой.
— Неплохо бы…
Я протянула руку, взяла глиняный кувшин, но сразу наливать не стала.
— Может быть, кусочек сыра? Или ломтик жареной баранины?
— Пожалуй, вы меня убедили…
— А потом вот этот кувшин я вылью вам на голову!
— Вам не удастся меня рассердить! — рассмеялся он.
— Зато вы уже рассердили меня!
— Ладно, больше не буду. — Морщины резче обозначились на его лице. — Ваша ссылка отменена, Алиса, — будьте рады этому.
— Видимо, мне вовсе не понравится то, чего они потребовали взамен.
— Да, не понравится. Там есть непременные условия…
Ну а как же иначе?
— Вы сказали, — проговорила я сдавленным голосом, — что они передумали… — Он ведь не станет скрывать от меня самое худшее? Нет-нет, он не стал бы вот так молчать в продолжение всего обеда. А он сказал, что я отныне свободна — мы оба свободны. Но как же все-таки поступила эта негодяйка? Как далеко способна зайти в своей мстительности Джоанна? — Да черт вас побери, Вилл!
— Нет-нет, я сказал вам правду. — Он отложил хлеб и нож и взял меня за руки. — Неужели вы думаете, что я так жесток? Вы свободны, Алиса, как я и сказал. Ссылка отменена. Поместья вам не вернут — нельзя же ожидать чудес! — но это единственное ваше наказание. Есть, однако, одна оговорка. — В глазах его вспыхнули озорные искорки. — Вы свободны постольку, поскольку живете вместе со мной, в качестве моей супруги, а я вполне готов держать вас при себе и выступать поручителем вашего благонравного поведения.
— Готовы, по сути, быть моим тюремщиком! — задохнулась я от возмущения.
— Я предполагал, что вы увидите это именно в таком свете!
— Я, значит, нахожусь в полной зависимости от вас. — Он подал мне свою кружку, и я жадно проглотила пиво, не заботясь о хороших манерах.
— Всякая жена зависит от своего мужа. А парламент в мудрости своей постановил сохранить угрозу возобновления ссылки, дабы обеспечить ваше благонравие, хотя вы и не заслуживаете его милостей. — Зубы блеснули в холодной усмешке.
— Стало быть, я не помилована.
Помилованы, но не до конца. — Выражение лица его смягчилось. — А меня вы по необходимости должны ублажать, дабы я вас не отринул.
— Не можем же мы жить и не ссориться! — горячо воскликнула я.
— Еще как можем. — Он снова протянул ко мне руки и сжал мои беспокойные пальцы. — Вы разве не доверяете мне? После всего, через что нам пришлось пройти? А мне-то казалось, что вам нравится со мной жить!
— Ну да… нет! Конечно нравится! Но ах, Вилл! — Слова полились потоком, который я не успела сдержать. — Вас все не было и не было… Я боялась, что вы меня предадите, — честно призналась я. — Думала, вы согласитесь больше со мною не видеться и я останусь совсем одна…
— Дурочка! — Моя недоверчивость ни капли не рассердила его. Он уже весьма хорошо изучил все мои тайные страхи. — Бросить вас и выгнать за порог я могу лишь в том случае, если вы станете вести себя совсем дурно и спорить со мной на каждом шагу.
Я взяла его за руки, тихонько вздохнула и дала достойный ответ на его не очень веселую шутку.
— Тогда мне остается быть послушной, и лучше я начну прямо сейчас! — Потянулась снова за кувшином, наполнила его кружку, но в голове вертелся еще один вопрос, который требовал ответа. — А почему они пошли на это, Вилл?
— Все очень просто, любовь моя. Положение во Франции непрерывно ухудшается, они нуждаются в способных военачальниках.
Я смотрела на него во все глаза, и смысл сказанного постепенно доходил до меня, словно зловещая бездна разверзалась у ног.
«Нет! Ой нет!»
По спине прокатился холодок, сперло дыхание. Разумеется, подобного следовало ожидать. Или я пыталась себя убаюкать надеждами на то, что этого не случится? Наверное, пыталась — положилась на то, что он слишком отдален от двора, и мне это только на руку: он будет оставаться рядом со мной. Но такой volte face[107] со стороны правительства был совершенно оправдан, если смотреть на дело хладнокровно, без наползавшего на меня ужаса. Такому талантливому деятелю они подыщут должность, а он ее примет, потому что был и остался человеком крайне честолюбивым. Он уедет от меня. Уедет, как бы ни любил меня. Разве не этого я всегда боялась? Я подыскивала слова, а сердце лихорадочно билось, как птица в клетке.
— И им понадобились вы, — промолвила я как можно спокойнее.
— Совершенно справедливо. Думаю, они уже прикинули, кем меня назначить. Вот и стараются найти… общий язык.
— Вы заключили с ними сделку…
— Да. Слишком много у них неотложных забот, не в последнюю очередь из-за малолетства короля, поэтому им некогда заниматься еще и нами.
— А что сказала Джоанна? Вы виделись с нею? — расспрашивала я, пытаясь отвлечься от той единственной мысли, которая заполнила весь мой разум без остатка.
— Очень недолго. — Он недовольно скривил губы, но в глазах промелькнула тень удовлетворения. — В присутствии советников юного короля Джоанна предпочла держать свои мысли при себе. Она сумела удержаться и не проклинать вас — но, судя по тому, как сверкали у нее глаза, унаследованное Ричардом ложе она все-таки предала огню. В данном же случае она сумела прийти к верному решению: благо государства — те услуги, которые я могу оказать, имея немалый опыт, — она поставила выше личного желания мстить вам, любовь моя. Она нуждается во мне.
Виндзор зевнул во весь рот. Как он мог спокойно сидеть и не думать о том, что меня заливают ледяные волны страха, подобные разыгравшейся зимней буре? А он вдруг удивил меня, как это частенько ему удавалось, — потянулся через стол, ласково взял меня за руки.
— Вам совершенно незачем волноваться. А раз вы теперь по закону обязаны быть послушной женой, чтобы я не выгнал вас из дому за пренебрежение супружеским долгом, подите сюда и помогите снять сапоги. Я не уеду от вас сегодня, не уеду и завтра… Побудьте же со мной рядом, Алиса.
Я засмеялась. Он вовсе не был ненаблюдательным. Поглубже запрятав свои страхи (еще будет время стенать и рыдать), я сняла с него не только одни сапоги. И исполнила свой долг без всякого пренебрежения.
Хорошо, когда он дома.
Шли дни. Неделя, потом другая. Гонец от королевского двора не появлялся. Быть может, Виндзор неправильно истолковал намеки вельмож и продолжает пребывать в немилости? Его это, кажется, нимало не заботило. Он взял в свои руки все дела по управлению поместьем, словно никуда и не отлучался, а я позволила себе надеяться на лучшее, и мучившая меня неотступно тревога стала понемногу угасать.
— У вас на редкость довольный вид, Алиса, — насколько вы вообще можете выглядеть довольной, — сказал он однажды, когда нам удалось улучить время и выехать на прогулку, оторвавшись от бесконечных хозяйственных хлопот. — С чего бы это?
— Да просто так. — Не стану же я признаваться ему в своей слабости, правда?
— Понимаете, должность мне непременно дадут, — проговорил он угрюмо. — Вот-вот.
Иной раз я жалела о том, что он видит меня буквально насквозь. И все же надеялась на то, что он ошибается.
Но Виндзор, черт его побери, оказался прав. Какое удивительное чутье у него было на политические интриги! Когда луна стала прибывать, ему предложили видную должность коменданта в только что захваченном портовом городе Шербуре. При этом сообщении глаза его зажглись огнем удовлетворения, и я ясно увидела, что от такого назначения он не откажется. Да и с чего бы отказываться ему — политику до мозга костей?
Передо мной замаячил призрак полного одиночества. Бесконечно долгих часов, когда он окажется вдали от меня… Я сердито прогнала эти зловещие мысли.
— Вы примете предложение? — Я не столько спрашивала его, сколько констатировала факт. И даже сумела улыбнуться, хотя душа моя требовала, чтобы он отказался.
— Наверное, приму. — Он бросил на меня вопросительный взгляд, оторвавшись от официального документа, густо покрытого каллиграфически выведенными письменами и отягощенного печатями красного воска. — Но задешево они меня не купят. Я заставлю их платить за мою верность.
— Платить чем?
— Ах, какая любопытная!
— Скажите же!
— Ну уж нет! По крайней мере до тех пор, пока не удостоверюсь сам.
Уже не в первый раз меня потрясло его отвратительное чувство превосходства.
— А вы уверены, что сумеете найти достаточно соблазнительную наживку для парламента?
— Само собой разумеется. Не так уж много у них людей, которые имеют такой, как у меня, опыт в управлении непокорными провинциями или умеют выжимать деньги из недовольных подданных.
Следующие несколько дней он провел в гостиной, совещаясь со своим приказчиком и законником при закрытых дверях, из которых он выходил, кажется, только поесть и поспать. Если судить по количеству сломанных перьев, работа шла долгая и трудная.
Потом, ничего не объясняя, он уложил вещи, взял меня, и мы отправились в Лондон.
— Почему вы мне ничего не сказали?
— Дурная примета — говорить заранее. Мне еще нужно уговорить Палату лордов. — Он был угрюм, погружен в свои мысли, взгляд устремлен в пространство. Вероятно, он сам был далеко не так уверен в исходе, как пытался убедить меня, и меня пробрала дрожь. Потом Виндзор вдруг усмехнулся. — Однако им ничего не удастся противопоставить моим доводам, а потому вам совершенно незачем печалиться.
Вестминстер. Он будил во мне воспоминания, и я даже стала оглядываться по сторонам. Отчего так происходит, что страх въедается в нас крепко и легко пробуждается, даже когда для него давно уже нет оснований? Когда мне пришлось предстать перед Палатой лордов, Виндзора туда не допустили. И меня заставят долго ждать в передней, среди пажей и слуг, пока он будет пытаться заключить сделку с высокочтимыми лордами — сделку, от которой те не смогут отказаться? Мне эта мысль была крайне неприятна, потому что она подчеркивала мое полнейшее бессилие как-то повлиять на происходящее.
Я даже толком не знала, почему Виндзор настоял на том, чтобы я поехала вместе с ним.
— А зачем я нужна здесь, Вилл? — задала я вопрос, когда мы оказались в той самой злополучной передней, где я чуть не лишилась чувств после приговора о ссылке.
— Вы так напуганы? — Он посмотрел на меня с удивлением. — Алиса, любовь моя! Неужто я привез бы вас снова сюда, если бы вам угрожала малейшая опасность? — С неожиданной торжественностью он поднес мою руку к губам и поцеловал. — Вы прибыли сюда как леди де Виндзор, моя замечательная супруга, и находитесь под моей защитой. Со стороны закона вам ничто не грозит…
— Да нет, дело не в этом, — призналась я. — Просто я не понимаю, зачем я вам здесь нужна…
— Затем, что мне важно, чтобы вы были рядом. Как вы думаете — сумеете вы в течение следующего часа изображать из себя оскорбленную невинность?
Я смотрела на него и ничего не понимала.
— Вероятно, не сумеете. Ладно, ничего не говорите, пока никто не обратится прямо к вам. Взор держите потупленным, как надлежит почтительной жене. И поддакивайте мне. Да, вот еще…
Он порылся в висевшем на поясе кожаном кошеле и извлек оттуда нечто, сверкнувшее золотом. Взял мою левую руку и стал надевать мне на палец. Кольцо шло очень туго. Виндзор, недовольно бурча (как будто я была в этом виновата!), налег, и кольцо все же оказалось на месте.
— Постарайтесь, чтобы его заметили все присутствующие!
Я не успела его больше ни о чем расспросить, потому что Виндзор пропустил меня внутрь залы; я стала разбираться в царившей там атмосфере. Лорды беззаботно сходились на заседание, чтобы без хлопот утвердить назначение Виндзора на должность. Вид у всех был донельзя самодовольный — пока я не вошла в залу вместе с Виндзором, пока он, отметая всякие возражения, не обратился к Палате лордов с поразительной настойчивостью. Я едва сдержала смешок: приятно было наблюдать, как на всех без исключения лицах проявилось крайнее раздражение. Виндзор не обратил на это ровно никакого внимания.
— Милорды! — Его уверенный голос и горделивая поза привлекли к себе их взоры. — Эта леди, всем вам хорошо знакомая, находится здесь по моему приглашению. Она — моя жена, милорды. Леди де Виндзор. Дело прямо ее касается, а закон в таком случае требует ее присутствия. Не годится, чтобы она стояла. Будьте любезны подать ей табурет.
Служитель поспешил принести табурет. Виндзор усадил меня, не обращая внимания на шумные протесты. Я опустилась на табурет, пытаясь изобразить оскорбленную невинность, а кровь шумела в ушах от нахлынувших предчувствий. Я вертела на пальце золотое кольцо с вправленным в него рубином. Поворачивалось оно с немалым трудом. Ради Бога, что это должно значить? К моему облегчению, Гонта не было на заседании, однако для Виндзора, подозреваю, это не имело никакого значения.
Виндзор поклонился мне, затем почтенному собранию и начал свою речь без долгих вступлений.
— Я считаю великой честью для себя, милорды, ваше предложение занять пост коменданта Шербура.
— Мы высоко ценим ваш опыт, сэр Вильям. — Граф Генри, к моему большому удовольствию, говорил с заметной неуверенностью.
Виндзор снова поклонился, проявляя в своей учтивости исключительную сдержанность.
— Я польщен этим. И тем не менее я нахожу, что мое согласие принять эту честь стоит под вопросом, я пребываю в нерешительности. Речь идет о мелочи, уладить которую только в вашей власти, милорды.
— Мы сделаем все, что в наших силах…
— Речь идет о положении моей супруги, милорды.
Похоже, все в зале затаили дыхание. Я тоже.
— Вот как, сэр? — На этот раз у графа Генри не было в руке бумаг, которые могли бы его выручить. Я не улыбнулась: сидела, кротко потупив очи.
— Я прошу вас, милорды, отменить все принятые против нее постановления. — Голос Виндзора ясно разносился по всей зале. Сам воздух, казалось, сгустился, как дым.
«Что ты затеял, Виндзор? Они же никогда не пойдут на это».
— Закон требует, чтобы всякого человека — мужчину или женщину, — обвиненного в столь тяжких преступлениях, как мошенничество и измена, судил суд Королевской скамьи[108]. Когда моя жена предстала перед вами по вашему требованию, достопочтенные милорды, ее судила назначенная вами комиссия. — Он позволил себе обвести задумчивым взглядом растерянные лица членов Палаты. — Суд Королевской скамьи не рассматривал надлежащим образом дело моей жены, хотя на это она имеет законное право. Исходя из этого, я считаю, что принятые против нее решения комиссии: об изгнании из пределов королевства, а более всего — о конфискации принадлежащего ей имущества, — противоречат закону.
— То было время крайней неустойчивости в государственных делах, сэр Вильям, — пробормотал граф Генри.
— То было время, когда закон следовало всемерно поддерживать и соблюдать, милорд, и нам обоим это совершенно понятно. — Виндзор перешел в атаку. — Более того, моей жене не позволили присутствовать в зале в продолжение всего обсуждения вопроса о ее виновности или невиновности. Ее попросили покинуть зал заседаний. Мне это хорошо известно, как и все события, происходившие в период упомянутого обсуждения. Это противоречит закону, милорды. Надо ли продолжать? Ибо мне, к великому сожалению, известно и о другом серьезнейшем расхождении между вашими поступками и законами нашей страны.
— Э-э-э… Я не уверен…
— Моей жене, милорды, не было предоставлено достаточное время для отыскания свидетелей и надлежащей подготовки защиты по делу.
— Но, сэр Вильям…
Ах, как он заставил их юлить и изворачиваться! Ах, как я этому радовалась!
— Только вторая половина дня и одна ночь, милорды. Я знаю об этом совершенно точно, поскольку был вместе с женой и помогал ей отыскивать тех, кто мог бы выступить в ее защиту. Предоставленное время не являлось достаточным. А это противоречит закону.
Наступило молчание. Граф Генри рассматривал пол у себя под ногами.
— И последнее, милорды. Мою жену судили как femme sole, то есть одинокую женщину, под тем именем, которое она носила до замужества. — Как решительно он выступал перед собравшимися лордами! Говорил он не громко, и все же мне казалось, что его голос эхом отдается от каменных сводов. Правда, в моих ушах его почти заглушал отчаянный стук сердца.
— Так не должно было произойти — вы и сами понимаете это, милорды. Вы сочли более выгодным иметь дело с одинокой женщиной. Однако Алиса де Виндзор моя жена — следовательно, она находится под моим покровительством. По закону все ее имущество принадлежит мне. В чем бы ее ни обвиняли, у парламента не было никакого права конфисковать ее имения, поскольку, говоря простым языком, милорды, эти имения уже не находились в ее собственности. — В его голосе ясно слышались нотки презрения. — Они принадлежат мне, милорды, и я требую, чтобы мне их возвратили. Без промедления. Равно я требую отмены приговора, осудившего леди де Виндзор, как вынесенного вопреки требованиям закона.
О, он нашел убийственные аргументы и мастерски их изложил. Но повлияют ли на лордов эти безукоризненные юридические выкладки? Я увидела, с какой силой его пальцы мнут шляпу.
— Если вы надлежащим образом рассмотрите мои доводы, милорды, и восстановите в этом деле законные права моей супруги, я охотно рассмотрю вопрос о принятии на себя предложенной мне должности. В противном же случае…
Он надолго замолчал. Молчали лорды, и Виндзор не спешил закончить свою фразу. Невысказанная угроза так и повисла в воздухе.
Нас попросили подождать снаружи, пока лорды будут совещаться. Я все время не могла найти себе места от волнения, Виндзор же сидел, прислонившись к стене, скрестив обутые в сапоги ноги, и молча что-то обдумывал, словно припоминал события далекого прошлого. Лишь когда нас пригласили снова войти в залу, он взял меня за руку и крепко сжал ее.
И провел меня в залу.
Ни он, ни я не сели. Решение Палаты было зачитано так быстро, что неторопливый солнечный лучик едва успел переместиться по полу на ширину ноготка. Члены Палаты лордов, трусы по натуре, до смешного цеплялись за внешние признаки своего высокого достоинства. Вопрос о том, как в моем деле были попраны все требования закона, они постановили отложить до созыва нового парламента. Потрясающий пример того, как можно уйти от решения проблемы. Я ощутила, как храбрость вновь покидает меня.
«Ты проиграл, Вилл. Безнадежное дело — заставлять их признать мою невиновность. Я преклоняюсь перед тобой за эту попытку. Я обожаю тебя. Но ни в коем случае не стоило нажимать на них. Ты потеряешь всякую возможность выдвинуться… Ах, Вилл! Зачем ты пошел на такой риск?»
— Но вы же признаете справедливость моих доводов? — настаивал на своем Виндзор, не чуя надвигающейся беды.
— Мы полагаем, что ваши доводы должны быть рассмотрены и оценены новым парламентом, сэр Вильям, — нараспев произнес граф Генри.
— Замечательно. Вот тогда и я рассмотрю возможность принять должность коменданта Шербура.
— Э-э… мы полагаем, что вы не только рассмотрите этот вопрос, сэр Вильям…
— Это все взаимосвязано, граф Генри…
Они прекрасно понимали друг друга.
Этим дело и закончилось.
— Я получу это назначение, — отмахнулся Виндзор, когда я высказала ему свои сомнения. — А вы получите полное прощение.
— Они захотят, чтобы угроза изгнания так и висела надо мной до последнего вздоха…
— Знаете, у них это не выйдет.
— А поместья мои потеряны навеки, особенно те, что попали в загребущие руки Гонта!
— Я еще до конца нынешнего месяца стану комендантом Шербура. Хотя бы раз, Алиса, признайте, что вы неправы!
— Не хотите забрать это? — сердито спросила я, уже давно и безуспешно пытаясь стащить с пальца кольцо. Мне не нравилось, что Виндзор так доволен предстоящим возвышением. — Мне ведь теперь нет уже нужды носить его! Если б оно только слезло! Наверное, вам придется поддеть его мечом…
Виндзор, не скрывая улыбки, наблюдал за моими тщетными потугами, потом прекратил их, взяв меня за руку.
— Оставьте! Вы великолепно сыграли роль достойной жены. Кроме того, — добавил он, целуя мою ладонь, а затем и натертый палец, — я должен был подарить его вам уже много лет тому назад. Это кольцо не такое уж и дорогое, но оно принадлежало моей матери. Думаю, она не благословила бы наш брак, и все же…
— Я, наверное, не достойна вас! — сердито воскликнула я, чтобы скрыть, какое удовольствие доставил мне этот простенький подарок. Для меня он был бесценным.
— Это так. Мама заклеймила бы вас как неисправимую эгоистку и первостатейную развратницу. — И добавил, заметив, как сошлись на переносице мои брови: — Да не переживайте! Обо мне она была не лучшего мнения…
Он что, не умел говорить серьезно? Я так рассердилась, что даже зашипела. Виндзор целовал меня, пока я не утихомирилась. Впрочем, он, конечно, был во всем прав.
— И вы действительно откажетесь от блестящей должности? — поинтересовалась я. — Если не выйдет по-вашему? — Кто знает, как может поступить такой загадочный и противоречивый человек?
Его лицо раскраснелось от радости одержанной победы.
— Они никогда этого не узнают. И вы тоже.
ЭПИЛОГ
Когда Виндзор отбыл в Шербур, он до кончиков ногтей выглядел могущественным английским наместником: доспехи начищены до блеска, богато расшитый чепрак коня сверкает золотом, новый камзол и сапоги за версту указывают на высокое положение своего хозяина. Порт и хорошо укрепленный город Шербур Англия получила на выгодных условиях от Карла Наваррского[109], а должность коменданта сулила своему обладателю и почет, и немалые доходы. Я смотрела, как удаляются к горизонту его повозки и вьючные мулы, и не сомневалась, что Виндзору доставит немалое удовольствие трудная задача удерживать в узде новое владение Англии и взыскивать пошлины с тамошних купцов. В последние дни энергия так и бурлила в нем. После вынужденного возвращения из Ирландии жизнь казалась ему слишком пресной. Виндзор так же мало, как и я, подходил на роль сельского помещика.
А как же прелести домашнего очага — ведь можно было дожить в любви и согласии до глубокой старости?
Ни за что. Любовь у нас была настоящая, это она исцелила мою исстрадавшуюся душу. Но мы с ним оба были слишком независимы, чтобы полностью опереться друг на друга.
— Поезжайте со мной! — предложил он уже в одиннадцатом часу, когда кони нетерпеливо били копытами и приплясывали на месте от нетерпения. — Уложите быстренько вещи, и поедем в Шербур.
Его взгляд манил меня, голос звучал повелительно, сильные руки сжимали мои запястья. Клянусь Пресвятой Девой, я испытывала сильное искушение послушаться его. И все же…
— И что мне там делать? Сидеть в светелке и вышивать алтарный покров, пока вы разыгрываете из себя великого человека?
— Вы могли бы развлекать купцов и их женушек, побуждая их наполнять золотом английские сундуки.
Я вопросительно подняла брови.
— Можно ведь скупать имения в самом Шербуре и в его окрестностях.
Я покачала головой.
— Можно наряжаться в шелка и парчу, носить изумруды и играть роль леди де Виндзор просто для собственного удовольствия.
— Были у меня и шелка, и изумруды. В прошлой жизни.
— Другим женщинам такая жизнь понравилась бы. — Он торопился, но губы его очень соблазнительно касались моих висков, губ…
— Я — не другие женщины.
— Да, это правда. — Он криво улыбнулся. — За одно это я вас люблю. Ну что ж, оставайтесь и управляйте моими поместьями. — Он снова поцеловал меня, потом подхватил Джейн, поднял ее высоко-высоко. — Присмотри ради меня за госпожой своей матушкой. И не позволяй ей становиться слишком воинственной, коль кто-то замешкается с исполнением хозяйской воли.
Джейн хохотала, вертелась в его руках и не очень-то понимала полученные наставления. Джоанна, вдруг застеснявшись, спряталась за моими юбками, а Отважная не замедлила последовать ее примеру.
— Прощайте, моя Алиса.
— Счастливого пути, Вилл. Берегите себя.
С тем он и уехал.
Я рыдала в тиши своей спальни. Тихонько плакала в дальнем углу большого сарая, где никто не мог меня услышать. Откуда взялось столько слез, которые я проливала по одному неблагодарному мужчине? Я тосковала по нему. Ах, как я по нему тосковала! Слезы слепили меня, и я снова и снова повторяла: «Надо было поехать с ним вместе. Ты сама во всем виновата — кто мешал тебе поселиться по ту сторону Ла-Манша?» Формально угроза изгнания все еще висела надо мной: новый парламент пока еще не был созван и не мог, следовательно, пересмотреть мое дело, — однако Виндзор не сомневался в положительном решении, а пока я жила под его кровом, мне ровно ничего не грозило. Что с того, что мне нечем было бы там заняться, кроме как отдавать распоряжения по хозяйству, орудовать иглой да сплетничать с купчихами? Зато я была бы вместе с Виндзором.
«Он уехал! Он меня покинул! И как мне теперь жить без него? Кто меня утешит? А что я стану делать, если он меня вообще забудет?..»
— Пресвятая Дева! Как ты еще смеешь называть себя здравомыслящей женщиной! — одергивала я себя.
«А если я когда-нибудь не смогу вспомнить его лицо, его волосы?..»
«Но ведь ты прекрасно жила, пока он был в Ирландии. Хватит хныкать!»
И я принималась за работу, которая всегда и всем помогает отвлечься от дурных мыслей. Я поступила так, как захотела сама. Как бы я ни блаженствовала в обществе Виндзора, как бы сильно ни нуждалась в нем для того, чтобы чувствовать себя счастливой, жизнь супруги коменданта Шербура меня не привлекала, да и слишком велика была тяга к моим поместьям, все еще считавшимся конфискованными. Потому-то я и оставалась в Гейнсе со своими подраставшими дочерьми и с Отважной — теперь уже поседевшей, но по-прежнему гонявшейся в саду за кроликами, — а Виндзору писала длинные письма с изложением множества подробностей. Время от времени он на них отвечал, когда выдавалась свободная минутка.
И каждый раз я снова рыдала.
Его наезды домой приносили мне счастье. Для него путь был не так уж долог, но мне всегда казалось, что он приезжает слишком редко.
* * *
— Алиса! — Он сиял, как всегда. — Подите сюда, встречайте своего господина и повелителя.
— Не вижу ни господина, ни повелителя. — Я искоса посмотрела на него, почти как в ту самую первую нашу встречу, только теперь я сидела в седле, возвышаясь над Виндзором. Сердце колотилось так бешено, что я могла упасть с седла прямо к его ногам. — Мы разве знакомы?
Он оглушительно рассмеялся, и внизу живота у меня все запылало от нахлынувших желаний.
Я вернулась в Гейнс после объезда поместья: пришлось решать спор о меже, разгоревшийся между двумя твердолобыми арендаторами, — и застала дома обычный для приездов супруга беспорядок. Виндзор был в центре событий, распоряжаясь, куда вести лошадей, куда относить поклажу; увидев меня, он зашагал навстречу. На лице сияла та самая дьявольская улыбка, которая пробудила мое любопытство к нему давным-давно, при дворе Эдуарда.
— Мне сказали, что вы тут отправились воевать за мои интересы — против моих арендаторов. — Он протянул руки, и я соскользнула с седла в его объятия. — Любимая, драгоценная, невероятно воинственная жена.
Не обращая внимания на взиравших на нас с большим любопытством невольных свидетелей, я крепко обняла его. Он вернулся. Его объятия были могучими, знакомые теплые губы нежно приникали к моим. В этих объятиях мгновенно растаяла тягучая пустота, царившая в моей груди. Похоже было, он никогда не выпустит меня из своих рук, хотя я знала: наступит время — выпустит.
— Надолго, Вилл? — Только это имело для меня значение. Я прижималась к нему, положив голову на его плечо и позабыв от радости обо всем остальном.
— По меньшей мере на две-три недели, а то и больше. До Шербура же рукой подать. — Он отпустил меня и стал рыться в переметных сумах. — Всему свой черед. Вот что я вам привез.
Я сообразила, что стою и глупо улыбаюсь. Так приятно было видеть его снова! Подарок как таковой меня мало интересовал: самоцвет ли, пара ли перчаток, еще что-нибудь небольшого размера, что могло поместиться в переметной суме. Но я не угадала. Сияя улыбкой, Виндзор достал письмо и с изящным поклоном вручил его мне.
— Это вам, леди де Виндзор. Скромный клочок пергамента, изрядно истрепавшийся в дороге, зато имеющий огромную ценность.
Он хранил торжественное молчание, пока я разворачивала пергамент и разглаживала складки на сгибах. Я настороженно пробежала глазами текст, потом вернулась к началу, к изображению геральдической эмблемы и скреплявшей документ красной печати.
— Они сдались, Вилл! — Я даже задохнулась от волнения. — Наконец-то они с нами согласились!
Да, так и было — сверх всяких ожиданий. Мое изгнание отменялось — по всем правилам, с соблюдением формальностей, согласно закону. Мне даровалось прощение за нарушение распоряжения парламента, хотя этого преступления я в жизни не совершала.
— А вы сомневались? — спросил Виндзор, и его улыбка, словно луч солнца, согрела мне сердце.
— Да, еще как! Сомневалась, — ответила я, а голова шла кругом от радости.
— А вот я не сомневался, — заявил он со снисходительной самоуверенностью, к которой я уже привыкла за эти годы. — Я представляю для них слишком большую ценность, чтобы они могли позволить себе превратить меня во врага. Они же понимают, что в любую минуту я могу передумать, а тогда им придется отчаянно подыскивать нового коменданта. Ну-ну, не нужно плакать! — Он взял из моих рук пергамент, заткнул себе за пояс. — Слишком важный документ, чтобы размывать его текст неуместными слезами! Вы потеряли тогда письмо Гонта, уж эту бумагу мы не потеряем.
Я закрыла лицо руками, чувствуя неописуемое облегчение, и слезы потекли с новой силой. Виндзор ласково, но крепко взял меня за руки, отвел их в стороны.
— Ну, ваша беспокойная душа хоть немного довольна теперь?
— Немного. — Я сумела даже рассмеяться. — Спасибо вам, Вилл.
— Это еще не все. — Он немного помолчал, ожидая, когда полностью завладеет моим вниманием. — Вы получите назад свои владения, юридически признанные принадлежащими вам.
— Все? — Вот в это поверить я не могла.
Он покачал головой.
— Кроме тех поместий, которые подарил вам Эдуард. Их не вернут ни за что. Но те имения, которые вы приобрели вместе с Гризли, — вот они возвращаются вам.
— Их вполне хватит… — с трудом пробормотала я. — Это же великолепно! У меня снова будет Палленсвик…
— Они, впрочем, не совсем ваши… — проговорил Виндзор, ведя меня к дому.
Я замерла на месте.
— Как?
— Их возвращают мне — вашему супругу. — Увидев на моем лице крайнее замешательство, он залился таким громким смехом, что поселившиеся под крышей конюшни голуби тревожно забили крыльями и белой тучей поднялись в воздух.
— Чтоб их черти забрали! Я не согласна так…
— Я и не думал, что вы будете согласны.
— Но я…
— Лучшего решения вы не добьетесь, Алиса. Вы же знаете, что говорит закон. Все ваше имущество принадлежит мне. Но я — очень щедрый супруг. — Он снова посерьезнел, крепко сжимая мои руки, чтобы я не вздумала буянить: мои глаза горели огнем, и он это видел. — Я предоставляю вам полную свободу действий в ваших имениях. Все доходы от них — ваши, тратьте их на себя и своих детей.
— Какой вы щедрый!
— Даже чрезмерно! Неужели вы все еще недовольны, Алиса?
Я тихонько вздохнула, стараясь привести в порядок свои мысли. Испытывать удовлетворение — разумом, сердцем, душой — было мне не свойственно от природы. Не такова была моя натура. Разве не была я вечно непоседливой, беспокойной, стремящейся к невозможному — ради того, чтобы обеспечить безбедную жизнь себе и своим детям? Я никогда не была довольна своим местом в жизни. Я не пожелала оставаться всего лишь фрейлиной Филиппы, а стремление приобретать земельные владения стало у меня, как многие могут сказать, навязчивой идеей. Я же могла бы возразить, что это был способ борьбы за выживание в мире, который с одинаковой легкостью может вмиг осудить и уничтожить человека или же обогатить его и вознести к самым вершинам. Я изведала и взлеты, и падения, и теперь, оглядываясь назад, ни о том, ни о другом не жалела.
Прищурив глаза из-за яркого солнечного света, я оглядела свой дом. Конечно, не королевский дворец — но стены прочны, а земли вокруг плодородны. У меня было гораздо больше того, что признавал за мной закон, разве нет? В свое время я изведала высшую власть. Теперь же меня окружала горькая действительность, и простая честность вынуждала меня признать, что власти в моих руках уже никогда больше не будет. Я изо всех сил старалась смириться — даже с тем, что мои земли отныне были владением моего мужа. Женщина всегда зависит от мужчины, как бы ни хотелось ей с этим спорить, и если уж мне суждено зависеть от какого-либо мужчины, то пусть это будет Вильям де Виндзор.
Он стоял передо мной, наполняя своей энергией весь парадный двор, виски сверкали серебром в солнечном свете, а на губах играла обворожительная улыбка, которую я видела даже во сне. Кто бы мог подумать, что у имеющего столь дурную репутацию Виндзора улыбка окажется такой привлекательной? Но меня она очаровывала. И внезапно все мои давние стремления к недостижимому померкли. Ну, хотя бы на этот день.
— Так что? — спросил он и указал рукой на залитые солнцем стены. — Больше этого я ничего не мог для вас сделать, неблагодарная девчонка.
— Понимаю. Я очень признательна вам, — отозвалась я, взяла его за руку, и мы вместе шагнули через порог нашего дома. И я проговорила с улыбкой: — Я всем очень довольна.
Октябрь 2011
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Эдуард III (1312–1377) — английский король (1327–1377) из династии Плантагенетов. Был связан кровным родством с династией Капетингов, и его притязания на французский престол привели к Столетней войне (1337–1453). (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)2
В Средние века мех горностая мог украшать лишь парадные одеяния царствующих особ.
(обратно)3
Филиппа Геннегау (1314–1369) — третья дочь Виллема I Доброго, графа Геннегау, Голландии и Зеландии, с 1328 г. — супруга Эдуарда III, королева Англии.
(обратно)4
Кеннингтон — в Средние века пригород на южном берегу Темзы, ныне — один из районов Лондона.
(обратно)5
Принцесса Джоанна, графиня Кентская (1328–1385) — внучка короля Эдуарда I, двоюродная сестра Эдуарда III. Современники считали ее самой красивой женщиной в Англии.
(обратно)6
Догмат католической церкви, согласно которому Мария родилась естественным путем от Иоакима и Анны, однако была изначально лишена первородного греха.
(обратно)7
В средневековой Англии красавицей могла считаться только блондинка.
(обратно)8
Дословно: «живущие (при монастыре)» (лат.). Мирские братья и сестры, набираемые преимущественно из крепостных. Они принимали все монашеские обеты, однако не пользовались правами духовных лиц и выполняли самые тяжелые работы при монастырях.
(обратно)9
Мастер — так обращались в старой Англии друг к другу купцы, ремесленники, мелкие чиновники и другие лица, не имевшие дворянства. Мистрис — уважительное обращение к женщине того же круга.
(обратно)10
Один из 12 апостолов. Назван Иудой в Евангелиях от Луки и от Иоанна. Матфей и Марк в своих Евангелиях именуют его Фаддеем.
(обратно)11
Предыдущая эпидемия прокатилась по Азии и Европе в 1346–1353 гг., причем ее пик в Англии и других странах Западной Европы пришелся на 1348 г., год рождения Алисы.
(обратно)12
«Одинокой женщиной» (англо-норманд.). Юридический термин, обозначавший в Средние века разведенную или овдовевшую женщину, владевшую собственностью самостоятельно.
(обратно)13
Саутуорк — в те времена южная окраина Лондона, ныне район недалеко от центра.
(обратно)14
Нобль — старинная английская золотая монета.
(обратно)15
Матушка (фр.).
(обратно)16
Королева Филиппа на 34 года старше Алисы, и ей, следовательно, должен быть уже 51 год. Однако события в романе сдвинуты на два года по сравнению с историческими фактами: Алиса была взята ко двору и стала возлюбленной короля в 1363 г., в возрасте 15 лет (когда королеве было действительно 49). У Перрерса же она служила двумя годами ранее.
(обратно)17
Одна из королевских загородных резиденций того времени.
(обратно)18
Уикхем, Уильям де (1324–1404) — видный деятель при дворах Эдуарда III, Ричарда II и Генриха IV. Впоследствии — епископ Виндзорский, лорд-хранитель печати и наконец канцлер Англии. Перестроил королевский Виндзорский дворец.
(обратно)19
Алаунты (сейчас их называют аланами) — старинная порода собак, разновидность мастифа.
(обратно)20
В 1346 г. войска Эдуарда разбили французских рыцарей Филиппа VI вблизи деревушки Креси-ан-Понтье в Пикардии.
(обратно)21
Овдовев в 1360 г., Джоанна Кентская в 1361 г. вышла замуж в третий раз, теперь за своего троюродного племянника Эдуарда, принца Уэльского (Черного Принца), наследника престола. Однако ее супруг неожиданно заболел и умер в 1376 г., на год раньше своего отца. Таким образом, после смерти Эдуарда III в 1377 г. престол перешел к Ричарду II, сыну Черного Принца и Джоанны, которая так и не стала королевой.
(обратно)22
Маршал двора (гофмаршал), согласно Статуту Эдуарда I (1279) — второй по значению придворный чин, в частности ведавший судебными вопросами.
(обратно)23
Узкая, облегающая фигуру верхняя одежда мужчин и женщин, распространенная в средневековой Западной Европе. Женское котарди было узким до середины бедер, расширяясь затем книзу. В юбке нередко были разрезы, служившие карманами.
(обратно)24
Верхняя одежда знатных женщин того времени: род жакета, с рукавами или без них, с большим декольте.
(обратно)25
В древнем мире и в Средние века красители были редкостью и стоили дорого, поэтому цветные ткани являлись привилегией аристократии.
(обратно)26
Девушка, барышня (лат.).
(обратно)27
Барыня, госпожа (лат.).
(обратно)28
Гиттерн — средневековый струнный музыкальный инструмент, предшественник цитры.
(обратно)29
Разновидность игры в шашки.
(обратно)30
Эдуард III отметил свое пятидесятилетие в 1362 г., когда Алисе было 14. Вполне возможно, что в то время она уже была не в монастыре, а при дворе.
(обратно)31
Томас Вудсток, герцог Глостер (1355–1397) — лорд верховный коннетабль Англии (главнокомандующий), самый младший из сыновей Эдуарда III и Филиппы Геннегау.
(обратно)32
Турнир подразумевал общую битву двух отрядов рыцарей. Кроме того, проводились поединки отдельных рыцарей.
(обратно)33
Эдуард стал королем в 15 лет, после убийства отца, а фактическими правителями государства стали организаторы убийства — мать Эдуарда французская принцесса Изабелла и ее любовник Роджер Мортимер, граф Марч. Эдуард три года копил силы, пока сумел заточить мать в монастыре, а графа Марча казнить.
(обратно)34
Герои рыцарского романа XII в., ставшие в Средние века образцом верной и страстной любви.
(обратно)35
Тысяча извинений! (фр.).
(обратно)36
Средневековая медицина объясняла темперамент и здоровье человека распределением и взаимодействием четырех жидкостей: крови, флегмы, желтой и черной желчи.
(обратно)37
В возрасте 16 лет Алиса уже родила королю сына Джона (впоследствии сэр Джон де Саутрей), а затем еще двух дочерей — Джейн и Джоанну.
(обратно)38
В 1363 г. Эдуард и Филиппа были женаты уже 35 лет (их свадьба состоялась в 1328 г.).
(обратно)39
Филиппа родила Эдуарду семерых сыновей, но двое из них умерли в младенчестве.
(обратно)40
Лайонел Антверпенский (1338–1368), герцог Кларенс — второй по старшинству из выживших сыновей Эдуарда.
(обратно)41
Джон Гонт (Джон Гентский; 1340–1399), герцог Ланкастер — третий сын Эдуарда, видный государственный деятель. После смерти старших братьев и отца фактически правил страной при малолетнем племяннике Ричарде И, что положило начало длительному (без малого столетнему) соперничеству Ланкастерской и Йоркской ветвей дома Плантагенетов.
(обратно)42
Эдмунд Лэнгли (1341–1402), герцог Йоркский, граф Кембридж, кавалер ордена Подвязки — четвертый сын Эдуарда. В именах принцев того времени второй элемент указывает на место рождения: Лэнгли и Вудсток — королевские резиденции в Англии.
(обратно)43
В то время Изабелле было уже за тридцать.
(обратно)44
Кипр, ранее входивший в состав Византии, был в 1191 г. завоеван Ричардом Львиное Сердце, который продал остров бывшему королю Иерусалимскому Ги де Лузиньяну. Во владении крестоносцев остров оставался до 1489 г. В описываемое время королем Кипра был Пьер I де Лузиньян (Петр I Кипрский). Франция и Шотландия в тот период, после победоносных походов Эдуарда, во многом зависели от английской короны.
(обратно)45
Дворец в графстве Кент (ныне в черте Большого Лондона, в районе Гринвич), подаренный епископом Даремским Эдуарду II, отцу Эдуарда III.
(обратно)46
29 сентября (у православных — 21 ноября).
(обратно)47
Иоанн II Добрый (1319–1364) — король Франции (с 1350 г.) из династии Валуа. Пленен Черным Принцем в сражении при Пуатье (1356), содержался в различных английских королевских замках. Ему наследовал старший сын, Карл V Мудрый (1338–1380), умелый политик и дипломат, который сумел сплотить Францию и со временем отвоевать почти все утраченные территории.
(обратно)48
Испания станет единым государством лишь в конце XV в., а в описываемое время она разделялась на несколько королевств, главными из которых были Кастилия и Арагон.
(обратно)49
В то время парламент не заседал постоянно, а созывался королем по мере необходимости — главным образом для регулирования налогов и получения в казну дополнительных средств.
(обратно)50
Нехватка товаров и постоянный рост цен из-за военных расходов вынудили парламент принять так называемые «законы против роскоши».
(обратно)51
Ангерран VII де Куси (1340–1397) — знатный французский дворянин, видный военачальник. После женитьбы на принцессе Изабелле (1332–1382) был пожалован титулом графа Бедфорда, многочисленными поместьями в Англии и орденом Подвязки.
(обратно)52
Неточность: титул герцога Бедфорда был учрежден полвека спустя — для будущего регента Франции Джона, третьего сына Генриха IV. Де Куси стал графом Бедфордом.
(обратно)53
Орден Подвязки, высший орден Англии и Уэльса, был учрежден Эдуардом III в 1348 г. Общее число награжденных (живущих) не должно превышать 24 человек (не считая иностранцев), а монарх и принц Уэльский награждаются им автоматически.
(обратно)54
Старинный танец-пантомима на темы баллад о Робине Гуде и его товарищах.
(обратно)55
Педро I (1335–1369), король Кастилии и Леона, получил прозвище Жестокого за крайнюю беспощадность в отношении потенциальных противников. Он был смещен с престола сводным братом, но затем восстановлен при содействии англичан. В 1369 г. Педро был обманом захвачен своим братом Энрике и убит его рукой. Два сына Эдуарда III — Джон Гонт и Эдмунд Лэнгли — впоследствии женились на внебрачных дочерях Педро Жестокого.
(обратно)56
Намек на Вильгельма Завоевателя, который покорил Англию в 1066 г. Основатель династии Плантагенетов, Генрих II, приходился тому правнуком по материнской линии.
(обратно)57
За пленных рыцарей неизменно полагался немалый выкуп, на чем и основывался рыцарский кодекс поведения, в частности гуманное обращение со знатными пленниками.
(обратно)58
Пер. Ю. Поляковой.
(обратно)59
Сэр Роберт Тиллиол, один из видных придворных, умер в апреле 1367 г. Его сыну Питеру было тогда 11 лет. На время опеки доход от земель получал опекун, и без его разрешения дети покойного владельца поместья не могли заключать браки, поэтому платили опекуну немалые суммы, чтобы жениться на своей избраннице или чтобы избежать брака, навязываемого опекуном.
(обратно)60
По давней традиции, английский монарх на свой день рождения награждает отличившихся подданных титулами и орденами. Но титул герцога Кларенса Лайонел получил на свой день рождения за 5 лет до описываемой сцены, в ноябре 1362 г., когда Алисы еще не было при дворе.
(обратно)61
Уэстморленд — графство на северо-западе Англии, на границе с Уэльсом. Тамошний рыцарский замок Виндзор имел дополнительное название по окружающей местности, чтобы отличить его от королевского Виндзорского замка-дворца на юге страны, на р. Темзе.
(обратно)62
Большинство современных английских историков пришло к выводу, что более поздние обвинения во взятках и хищениях были вызваны происками его политических противников, на деле же сэр Вильям Виндзор был вполне честным администратором. Что касается выкупа за плененных вражеских рыцарей и разграбления городов, это было в то время непреложным законом войны.
(обратно)63
С конца 1066-го по 1362 гг. государственным языком Англии был французский (нормандский диалект). Эдуард 111 восстановил роль английского языка как государственного. Поэтому имена вельмож того времени, по сути уже давно английские, встречаются как во французском варианте (Вильям де Виндзор), таки в английском (Уильям оф Виндзор). В русских текстах предлог «оф» (в отличие от французского «де» или немецкого «фон») часто опускается: Вильям (Уильям) Виндзор.
(обратно)64
В описываемое время сэру Вильяму Виндзору (ок. 1330–1384) действительно было лет 35–38, а вот Алисе — только 19.
(обратно)65
Лорд-канцлер — председатель Палаты лордов. В то время являлся также фактически первым министром короля.
(обратно)66
Такой подарок Алисе Перрерс действительно зафиксирован в документе 1366 г.
(обратно)67
Марка — английская серебряная монета в 13 шиллингов и 4 пенса (чуть больше 2/3 фунта стерлингов), имевшая хождение в XVI в. 200 марок равны примерно 135 фунтам, что по тем временам составляло немалую сумму для частного лица.
(обратно)68
Акр — принятая в Англии мера земельной площади, равная 0,4 га.
(обратно)69
По договору Бретиньи Эдуард отказывался от притязаний на корону Франции в обмен на отказ короля Иоанна II Доброго от захваченных англичанами обширных французских территорий. Однако безвременная смерть Иоанна не позволила довести дело до конца — обменяться взаимными клятвами об отречении, без чего договор не имел юридической силы. Это послужило для Карла V Мудрого предлогом к возобновлению военных действий, а для Эдуарда — к возобновлению притязаний на французский престол.
(обратно)70
Стюард в то время управлял всем хозяйством королевского двора. При Эдуарде III это была одна из высших должностей в государстве.
(обратно)71
Из-за частых войн с Францией многие английские короли, включая Вильгельма Завоевателя, Генриха II (основателя династии Плантагенетов), Ричарда Львиное Сердце, были похоронены в своих французских владениях, а не в Вестминстере, где находятся королевские усыпальницы.
(обратно)72
Эдуард Исповедник (1002/1003—1066) — англосаксонский король Англии в 1042–1066 гг. По его распоряжению был построен знаменитый собор Вестминстерского аббатства (1065), где он и был похоронен. Католическая церковь впоследствии провозгласила Эдуарда святым.
(обратно)73
Назван в честь битвы при Халидон-Хилле во время Второй войны за независимость Шотландии, 19 июля 1333 года. Тогда Эдуард III наголову разгромил шотландское войско и сумел на время подчинить Англии ее северного соседа.
(обратно)74
Бордо, самый крупный город Аквитании, служил политическим и административным центром завоеванных англичанами владений: Гиени, Пуатье, Гаскони.
(обратно)75
Карл V Мудрый заставил своих военачальников применять тактику древнеримского полководца Фабия Кунктатора: избегая решительного сражения, непрестанно тревожить врага стычками, уничтожать его мелкие отряды, лишать продовольствия и т. д. Таким образом он за несколько лет сумел вернуть себе почти все утраченные территории.
(обратно)76
Генри Болингброк (1367–1413) — сын Джона Гонта, король Англии в 1399–1413 гг. (Генрих IV). Подавив несколько мятежей, восстановил на время сильную централизованную власть, расшатанную в правление Ричарда II.
(обратно)77
Отец Джоанны — Эдмунд Вудсток, граф Кентский (1301–1330) — был единокровным младшим братом короля Эдуарда II, лишенного престола в 1327 г. Поскольку граф твердо выступал на стороне короля, по приказу захватившей власть королевы Изабеллы он был казнен в марте 1330 г. Заботу о его вдове и четырех детях взяли на себя Эдуард III и королева Филиппа.
(обратно)78
Шталмейстер — одна из высших придворных должностей, обладатель которой заведовал королевскими конюшнями.
(обратно)79
«Брак втроем» (фр.).
(обратно)80
Летом 1377 г., когда 10-летний Ричард II был провозглашен королем, этот вопрос не поднимался. О нем вспомнили лишь 20 лет спустя, когда уже вполне взрослый монарх сумел освободиться от опеки баронского совета и стал править единолично. Еще через два года, в 1399-м, сын Джона Гонта отстранил Ричарда от власти, а парламент предъявил низложенному королю 33 обвинения, ответить на которые ему даже не было позволено. Свергнутый Ричард был арестован и через полгода с небольшим «скоропостижно скончался» (в возрасте 33 лет) в замке Понтефракт, служившем ему тюрьмой.
(обратно)81
После убийства в марте 1369 г. короля Педро Жестокого, пользовавшегося поддержкой англичан, престол снова перешел к его сводному брату Энрике II, который опирался на союз с Карлом Мудрым.
(обратно)82
«Милость Божия» (фр.).
(обратно)83
Сэндвич — в то время город-крепость на юго-востоке Англии, один из Пяти портов, охранявших пролив Па-де-Кале (Дуврский пролив), который отделяет Англию от европейского континента.
(обратно)84
Здесь понятие «Гасконь» трактуется расширительно: Ла-Рошель (центр нынешнего французского департамента Приморская Шаранта) никогда не входила в состав исторического герцогства Гаcконь, однако принадлежала Аквитании, включавшей в себя Гиень, Гасконь и Пуату.
(обратно)85
Апминстер — небольшой город (с середины XII в.) недалеко от Лондона, ныне — район в черте Большого Лондона.
(обратно)86
Рыцарей — низшее дворянство, не лордов — титулуют обращением «сэр», однако их жен называют «леди».
(обратно)87
Палата общин в целом представляла интересы горожан — главным образом купечества и богатых ремесленников, однако депутатами ее часто избирались незнатные дворяне — рыцари и даже простые джентльмены. Сэр Питер де Ла Мар имел рыцарское звание.
(обратно)88
Маршал Англии — по Статуту Эдуарда III восьмой по важности государственный и придворный ранг.
(обратно)89
Историки почти единодушно считают, что реальные действия Джона Гонта не подтверждают тех коварных замыслов, в которых подозревали его современники.
(обратно)90
Именно Палата лордов являлась высшей судебной инстанцией Англии. Спикер Палаты общин представлял лордам мнение своей палаты и имел право присутствовать при рассмотрении лордами обвинений против высших сановников, если эти обвинения выдвигала Палата общин.
(обратно)91
Парламент (прозванный в истории Добрым) назначил главными королевскими советниками Эдмунда Мортимера, графа Марча; Вильяма Кортнея, епископа города Лондона; Уильяма Уикхема, епископа Винчестерского. Все трое находились в непримиримой оппозиции к Джону Гонту.
(обратно)92
Эти события происходили позднее, через год, когда Джону Гонту удалось добиться от парламента введения в Англии подушного налога, тяжким бременем легшего на бедняков. Лондонцы активно выступили против налога, давая отпор воинам Гонта. Дворец принца был разгромлен и сожжен.
(обратно)93
Пер. Ю. Поляковой.
(обратно)94
Алиса не случайно говорит только о дочерях: ее первенец довольно рано был возведен в рыцарское достоинство и пожалован землями для поддержания своего положения (сэр Джон де Саутрей). О втором сыне, Николасе, источники упорно молчат, хотя автор эпизодически упоминает его в романе.
(обратно)95
В 1376 г. Алисе было не более 28 лет, поскольку родилась она в 1348-м (по некоторым данным, даже в 1349-м) году.
(обратно)96
Генри Перси (1341–1408) — восьмой барон Перси оф Алник, с 1377-го — первый граф Нортумберленд, один из самых родовитых английских дворян.
(обратно)97
Питер де Ла Мар действительно пробыл некоторое время в заключении, причем Плохой парламент, созванный весной 1377 г., отказался его освободить. Де Ла Мар вышел на свободу летом 1377 г., после смерти Эдуарда III, по указу нового короля Ричарда II (указ 10-летнего короля был явно инспирирован его матерью Джоанной, вдовствующей принцессой Уэльской).
(обратно)98
23 апреля. Святой Георгий считается покровителем Англии.
(обратно)99
Речь идет о посвящении в рыцари ордена Подвязки представителей высшей знати Англии: на этой церемонии присутствовали лишь король, особы королевской крови и лица, уже имеющие этот орден.
(обратно)100
Орден Подвязки был учрежден Эдуардом в 1344 г., когда ему было 32 года, а королеве Филиппе 30.
(обратно)101
Имеется в виду католическая молитва «Аве Мария».
(обратно)102
Католическая благодарственная молитва.
(обратно)103
Легенда о святом Кенельме (др. — англ. Кюнегельм) возникла через 300 лет после его смерти. Согласно ей, этот мальчик 7 лет от роду, едва унаследовавший трон отца в 819 г., был зарезан по наущению старшей сестры, стремившейся к власти. Католическая церковь отмечает день его памяти 17 июля. Мерсия (на территории современной Центральной Англии) в ту эпоху была самым сильным из семи англосаксонских королевств.
(обратно)104
Рай, Льюис — небольшие города на юго-востоке Англии, в графстве Восточный Суссекс.
(обратно)105
Томас Холланд (1350–1397) — старший сын Джоанны от первого брака, названный в честь отца.
(обратно)106
То есть поведут на казнь.
(обратно)107
Поворот на 180 градусов, резкий поворот (фр.).
(обратно)108
Своеобразный эквивалент Верховного суда того времени. Возник при Генрихе I в начале XII в. Рассматривал важнейшие уголовные дела и апелляции на решения судов первой инстанции, разъезжая по стране вслед за королем или находясь при нем в Лондоне.
(обратно)109
Карл II Злой (1332–1387) — король Наварры, граф д’Эвре, представитель боковой ветви династии Капетингов. В 1377 г. сдал порт Шербур на 3 года в аренду Ричарду II, в следующем году потерял все свои владения во Франции в связи с неудачной попыткой покушения на короля Франции Карла Мудрого. Шербур англичане оккупировали и удержали за собой.
(обратно)
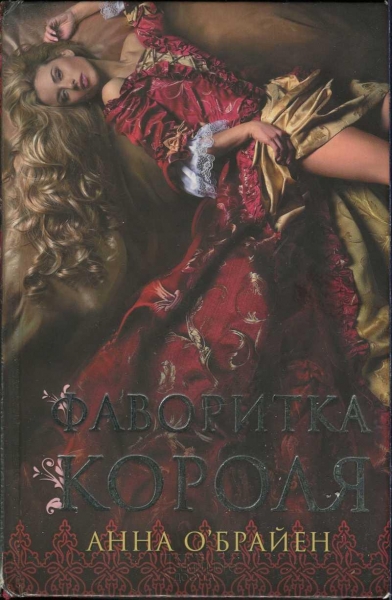




Комментарии к книге «Фаворитка короля», Анна О'Брайен
Всего 0 комментариев