Елена Юрьевна Раскина Под знаком Софии
© Раскина Е.Ю., Никольский В.М., 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2013
* * *
Вместо предисловия Прощание
Отец Иоанн, настоятель Херсонского крепостного собора, любил постоять в благоговейном молчании перед гробницей светлейшего князя Григория Александровича Потемкина. Каждый день, наряду с церковными службами, совершал он один и тот же торжественный ритуал: спускался в подвал собора по узкой кирпичной лестнице – осторожно, медленно, боясь оступиться. Свеча была единственным источником света в окружавшей отца Иоанна темноте, и он ежеминутно боялся выронить слабый, хрупкий, оплывавший в руках воск. Иногда, впрочем, свеча гасла, и отец Иоанн продолжал путь к гробнице светлейшего в густом, чернильном мраке, а потом добрых пятнадцать минут так же медленно и осторожно поднимался наверх, в собор.
Здесь, в подвале собора, на невысоком кирпичном постаменте, стоял гроб, покрытый черной тканью. Внутри был еще один гроб – свинцовый, обитый серебряным позументом. Над гробом утешительным малиновым светом теплилась лампадка. Сквозь небольшое окошко, выдолбленное в крышке, можно было увидеть набальзамированное тело князя Потемкина – в мундире и при орденах. Сюда, вслед за отцом Иоанном, поклониться праху светлейшего приходили многие благодарные души: греки, которых Григорий Александрович вызвал из Турции и поселил в землях Новороссии, в Северном Причерноморье, жители основанных князем городов, друзья, единомышленники и до сих пор любившие усопшего женщины. Когда гостей не было, отец Иоанн спускался к гробу один: помолиться в тишине и темноте о душе Григория Александровича, искупившей великими делами и начинаниями все земные грехи и заблуждения. Вот и сейчас отец Иоанн мысленно произносил слова молитвы за упокой души светлейшего князя…
Несколько недель назад рядом с отцом Иоанном стояла красавица и умница Сашенька Браницкая, племянница Потемкина, которая, казалось, до сих пор не могла поверить в преждевременную смерть своего блистательного дядюшки и беседовала с ним, как с живым. Иногда Сашенька плакала над гробом – отчаянно, навзрыд, как ребенок, и шептала дядюшке слова любви. Когда-то Александра Браницкая любила Потемкина совсем не родственной любовью, и он отвечал ей тем же – до тех пор, пока в жизни князя не появилась таинственная гречанка, София Витт, неверная жена коменданта Каменец-Подольской крепости Иосифа Витта…
О Софии Витт отцу Иоанну рассказал бывший начальник канцелярии Потемкина, генерал Василий Степанович Попов, который привозил в Херсонский крепостной собор проекты надгробного памятника светлейшему, одобренные было императрицей Екатериной, но потом отложенные в долгий ящик. Некоторые подробности последней любви князя сообщил священнику полковник Михаил Леонтьевич Фалеев – градоначальник основанного Потемкиным Николаева. Отец Иоанн ни о чем не расспрашивал своих гостей – они рассказывали сами, торопливо, сбивчиво, волнуясь и начиная снова.
– Я умоляю вас запомнить мои слова, отец Иоанн, – говорил Фалеев. – Смерть князя Григория Александровича была столь внезапной, что многие подозревали яд. И только женщины, которые в последние мгновения были рядом с князем, могли знать правду. О последних днях Григория Александровича многое рассказала бы гречанка София Витт, с которой князь хотел обвенчаться во вверенном мне Николаеве… Но сейчас она стала графиней Потоцкой и, говорят, забыла все былое в чудесных садах, которые подарил ей муж…
– Напишите мемуары, батюшка, – умолял отца Иоанна Попов. – То, что мы доверяем вам, должно быть открыто потомкам. Все друзья князя, вынужденные молчать нынче, просят вас об этом. Будьте хранителем не только гробницы князя, но и памяти о его великих делах!
– Что же заставляет молчать вас, сын мой? – спрашивал отец Иоанн.
– Боюсь, батюшка, гнева государыни нашей Екатерины! – отвечал Попов. – Наказания боюсь за разглашение тайны, которую она хочет скрыть. А наследник Павел Петрович, если воцарится, и самую память о князе пожелает искоренить. Только на вас и Господа уповаю.
Отец Иоанн прислушался к просьбам друзей покойного князя и стал на досуге писать мемуары. Тщательно, скрупулезно сохранял для потомков все то, что доверяли ему Попов и Фалеев, пересказывал сбивчивые, взволнованные признания Сашеньки Браницкой. Но однажды, душным августовским днем 1798 года, к отцу Иоанну пожаловали два необычных посетителя…
Первой пришла женщина под вуалью. Молодая, красивая – даже вуаль и траурное платье не могли стереть ее необычайной, но какой-то нерусской красоты. Незнакомка появилась в Херсонском крепостном соборе, когда новороссийское небо налилось зноем и тяжестью, и только в храме было легко и прохладно. Она попросила отца Иоанна отслужить панихиду по убиенному Григорию.
– Кто вы, сударыня? – спросил у незнакомки священник.
– Я не могу назвать свое имя, – ответила женщина, – да и к чему оно вам? Я приехала защитить того, кто покоится здесь. Мне сказали, что вы, батюшка, – один из друзей светлейшего – и ревностно относитесь к его памяти.
– Что же угрожает памяти князя? – незнакомка все больше и больше удивляла отца Иоанна, а ее низкий, грудной голос действовал на него поистине магнетически.
– Ненависть императора Павла! – голос женщины задрожал от негодования. – Я знаю наверняка, что император скоро явится к вам. Государь отправился в тайное путешествие по Новороссии – инспектировать города, основанные светлейшим князем. Он уже был в Николаеве, заедет и в Херсон. И все с одной целью – доказать, что начинания Григория Александровича пошли прахом!
– Для этого нужно быть слепым… – попытался успокоить взволнованную женщину отец Иоанн. – Вся Новороссия и поныне благословляет князя!
Впрочем, настоятель понимал, что императору нет дела до начинаний Потемкина. Еще совсем недавно генерал-майор Попов, вздыхая, сообщил отцу Иоанну, что император Павел Петрович называет покойного князя не иначе, как мерзавцем. А когда получил известие о кончине Григория Александровича, то якобы сказал: «Слава Богу, одним негодяем стало меньше!».
– У императора есть план, – продолжала гостья, и в голосе ее звучала упрямая, непреходящая, страстная боль, – он хочет отомстить мертвому, ибо не смог справиться с живым. Павел Петрович с юных лет ненавидит князя. Император уверен, что Потемкин настраивал против него государыню Екатерину. Советовал назначить наследником цесаревича Александра Павловича.
– Мертвые недоступны мести живых, – прервал незнакомку отец Иоанн, – душа Григория Александровича ныне обретается в сферах, недоступных земной власти.
– Душа да, – согласилась женщина, – но тело… Мы приходим на могилу к близким, чтобы вспоминать, горевать и плакать, а император хочет лишить князя могилы.
– Да как же это, сударыня? – изумился отец Иоанн.
– Я слышала от верных людей, – шепотом, испуганно озираясь по сторонам, продолжила женщина, – что император намерен сравнять гроб князя с землей, сделать так, чтобы само место упокоения светлейшего навсегда забылось. Он приедет и отдаст вам такой приказ. Я же приехала умолять вас, батюшка, дерзнуть ослушаться государевой воли. Если только вам дорога память князя… Поверьте, у него нет иного заступника.
– Господь – ему заступник, – заверил незнакомку отец Иоанн, – Всевышний не допустит такого кощунства. Я же нарушу приказ императора, ибо кесарю кесарево, а Богу – Богово.
– И вы не побоитесь последствий императорского гнева? – с робкой надеждой переспросила женщина. – В гневе император невоздержан…
– Я слишком стар, чтобы бояться, сударыня, – ответил отец Иоанн. – Будьте покойны, князь не лишится могилы… Пока я – настоятель этого храма.
Женщина рухнула на колени и прижалась губами к руке отца Иоанна.
– Благодарю вас, батюшка, – сказала она, – я – ваша вечная должница!
– Не моя, а храма сего, – священник поднял гостью с колен, спросил только: – Да как зовут вас, сударыня? Хоть имя скажите, буду в молитвах вас поминать.
– София, – ответила женщина. И добавила еле слышно: – Женой я князю не стала, так хоть могилу его спасу…
Отец Иоанн перекрестил ее, и незнакомка на мгновение подняла вуаль. Священник увидел дивной красоты лицо, черные греческие глаза, опухшие от слез веки. «Да неужто та самая гречанка?! – мелькнуло у него в голове, – София Витт… Графиня Потоцкая…» Но на лицо женщины снова упала пелена вуали.
– К могиле князя не хотите ли спуститься? – спросил ее священник, и лицо гостьи озарилось тихой радостью свидания.
– Ведите, батюшка, – ответила она.
Отец Иоанн показал незнакомке спуск в подвал, и они медленно спустились по узкой кирпичной лесенке. Священник впереди, со свечой в руках, женщина вслед за ним. София испуганно охнула – в подвале было темно и сыро.
Гречанке показалось, что они вступили в царство теней, и не священник идет впереди со свечой, а Вергилий ведет ее по кругам ада.
– Не бойтесь, сударыня, – успокоил гостью отец Иоанн, – мы уже пришли.
Незнакомка увидела склеп со сводчатым потолком из красного кирпича. Слева – небольшая ниша в стене, в нише – икона, над которой теплилась малиновая лампадка. «Это она, походная икона Григория, – подумала женщина, – та самая, которую он поцеловал перед смертью… Как же давно это было!».
Ей вспомнилась узкая, пыльная лента дороги, степь между Яссами и Николаевом, смертельная болезнь Григория, и эта икона, к которой он в последнее мгновение успел приложиться губами… Две женщины сопровождали князя – она и графиня Браницкая. Но Александре Браницкой позволено было похоронить светлейшего, а она, София Витт, вынуждена была исчезнуть, чтобы вернуться в мир под другим именем и рядом с другим мужчиной. Так решила за нее императрица Екатерина. И вот теперь, после долгой разлуки, она снова рядом с князем. Но некому, как прежде, назвать ее Софьюшкой и поговорить с ней на родном языке… Новый муж Софии, граф Станислав Потоцкий, увы, не знал новогреческого.
– Что же вы сделали с сердцем светлейшего? – спросила у священника гостья. – Помнится, перед смертью Григорий Александрович просил, чтобы его сердце отвезли в родное Чижово и погребли там.
– Графиня Браницкая исполнила желание дядюшки, – успокоил незнакомку священник. – Она увезла сердце князя с собой – верно, для того, чтобы упокоить там, где Григорий Александрович увидел свет.
– Как жаль, что я сама не сделала этого! – горько вздохнула женщина. И добавила, видимо, желая оправдаться перед священником: – До недавних пор, батюшка, я была почти что пленницей. Безвыездно жила в уманском имении мужа. Но когда случайно узнала о кощунственных планах императора – поспешила сюда. Чтобы предупредить вас…
– Не так уж важно, кто исполнил предсмертное желание князя… – назидательно заметил священник. – Важно, что оно исполнено.
– Вы, правы, батюшка, – еще тяжелее вздохнула гречанка, – но, как жаль, что мне не удалось опередить графиню! Сердце, бившееся для меня, я должна была и похоронить!
Отец Иоанн поморщился: женское соперничество над гробницей светлейшего вызывало у него раздражение.
– Не время сводить счеты, сударыня! – одернул он гречанку. – Чаю, вы приехали не за тем, чтобы досадовать на графиню Александру Васильевну.
– Верно, не за этим! – опомнилась женщина. – Я приехала, чтобы предупредить вас и попрощаться… с ним… – нежная ручка гостьи коснулась свинцового гроба.
– Стало быть, прощайтесь, – ответил отец Иоанн. – Я оставлю вас здесь на несколько минут.
– Кто кроме вас приходит в этот склеп? – спросила гречанка.
– Поклониться гробнице светлейшего приходят многие! – ответил отец Иоанн. – Жители Херсона, да что там – Херсона, всей Новороссии, товарищи его походов!
Приезжают и греки… Князь Потемкин для многих был отцом и благодетелем.
– Это хорошо, что не забывают, – сказала женщина, и лицо ее озарилось нежным, тихим светом. – И я не забыла… Оставьте нас вдвоем, батюшка.
– Вам, сударыня, довольно будет света лампады… – сказал напоследок священник и стал медленно, осторожно, подниматься по ступенькам. – Я вернусь за вами… Молитесь…
Женщина рухнула на колени перед гробом и тихо заговорила на языке, который отец Иоанн изучал в семинарии, но потом почти забыл. Сладкая эллинская речь полилась из ее красиво очерченных, сочных губ, и отцу Иоанну показалось, что князь вот-вот ответит ей – на языке Гомера. Чтобы не помешать этому деликатному разговору, священник вышел.
Гречанка ушла так же внезапно, как появилась. А через несколько дней после этого загадочного визита в Херсонский крепостной собор пожаловал сам император Павел.
Прямой, непоколебимый, в напудренном парике и скрипучих ботфортах, Павел вошел в собор, бряцая шпорами и тяжелой шпагой. Словно был на плацу, а не в храме Божьем! Прозрачными, слегка навыкате, глазами, оглянулся по сторонам так, как будто совершал очередную инспекцию. Потом бросил сердитый взгляд на отца Иоанна. За спиной у императора замер вездесущий Кутайсов, но священник нисколько не испугался – земная власть не внушала ему ни страха, ни благоговения.
– Что угодно Вашему Императорскому Величеству? – спросил соборный настоятель.
– Где похоронен Потемкин? – рявкнул император, и отец Иоанн заметил, что голос у государя неприятный, лающий, а в минуты гнева срывается на фальцет.
– Гробница светлейшего князя в подвале собора, – ответил отец Иоанн. – Изволите спуститься?
– Изволю, отец мой, – нетерпение императора было столь очевидным, что настоятель недоуменно пожал плечами. – Ведите…
Павел Петрович шагнул вперед, и вслед за ним шагнул было Кутайсов… Но государь жестом остановил своего спутника, и тот послушно застыл на месте.
Священник с императором спустились в подвал, но Павел Петрович и не думал в скорбном молчании стоять над гробом.
– Я предписываю вам, батюшка, – прокричал император, и голос его действительно сорвался на фальцет, – после моего отъезда выполнить одно тайное распоряжение! Надобно покарать этого государственного преступника, так долго вредившего мне во мнении матери, императрицы Екатерины! Человек, который лежит здесь, не имеет никаких заслуг перед Отечеством! И память его, как и гроб, следует сравнять с землей! Никакого склепа, никаких баб, рыдающих над гробом! Никаких паломников и молитвенников за его душу! В яму его, как самоубийцу, как собаку, как падаль! Да так, чтобы никто не узнал, где эта яма!
Отец Иоанн промолчал, и Павел Петрович принял его молчание за боязнь ослушаться императорской воли.
– Я покидаю сей храм, отец мой, и уповаю, что вы выполните сие предписание! – продолжил Павел и, как мальчишка, побежал вверх по ступенькам. Соборный настоятель помедлил несколько минут, а, когда оказался наверху, то увидел, что император с Кутайсовым покинули храм.
«Права была гречанка, когда с предупреждениями приходила… – подумал отец Иоанн. – Император не смог поквитаться с живым и решил отомстить мертвому. Но не мне ему пособничать. Князь Потемкин не лишится могилы, пока я жив…»
Отец Иоанн исполнил просьбу гречанки, но как именно он это сделал – осталось тайным. Поговаривали, правда, что верное решение настоятелю подсказала графиня Браницкая, вскоре после визита императора приехавшая помолиться над дядюшкиным гробом. То ли Александре Васильевне удалось вывезти тело князя и предать его земле в своем имении в Белой Церкви, то ли гроб светлейшего перенесли в подпол собора, где покоился его первый настоятель, – никто не знал наверняка.
Священник словно воды в рот набрал, а прихожанам объяснял, что лучший памятник князю – не надгробная плита, а его славные дела. Города, воздвигнутые в татарских степях, основание Черноморского флота, помощь единоверцам-грекам… И беспрестанно служил панихиды за упокой души раба Божьего Григория. Император Павел Петрович больше в Новороссии не появлялся. Не приезжала и гречанка, некогда ошеломившая настоятеля своим появлением. И только отец Иоанн иногда вспоминал, как лилась из уст гостьи сладкая эллинская речь и как, казалось, вот-вот ответит ей светлейший князь Потемкин.
Часть первая Фике
Глава 1 Маленькая герцогиня из Цербста
Юной герцогине Ангальт-Цербстской часто рассказывали о России.
– Если бы тетушка Эльза оказалась у власти, – вздыхала ее мать, – то и нам бы перепало от российских щедрот… Мы ведь родственники тамошнего императорского дома по линии герцогов Голштинских. Муж принцессы Анны, родной сестры тетушки Эльзы, герцог Карл Голштинский, приходился мне двоюродным братом. Тетушкой Эльзой в семье герцогов Ангальт-Цербстских называли цесаревну Елисавету Петровну, старшая сестра которой – покойная Анна Петровна – была некогда замужем за Карлом-Фридрихом Голштинским.
– Неужели русские императоры так богаты? – волнуясь, спрашивала дочь. – Богаче, чем дядя Фриц?
– Что ты, Фике! – снисходительно пожимала плечами герцогиня Иоганна. – Дядя Фриц – нищий по сравнению с русской императрицей Анной…
– Почему же тетушка Эльза не отберет у императрицы Анны трон? – резонно спросила одиннадцатилетняя Фике.
– Кто знает, Фике… Кто знает… – вздохнула мать. – Говорят, у нее нерешительный нрав.
– А я бы решилась! – уверенно заявила девочка. – Я бы непременно стала императрицей!
– Может, и станешь, если тетушка Эльза придет к власти, а дядя Фриц позаботится о твоей судьбе. Юному Карлу-Петеру-Ульриху, герцогу Голштинскому, племяннику тетушки Эльзы, скоро понадобится невеста… – мечтательно заметила Иоганна.
Фике вспомнила, как летом она ездила с матерью в Гамбург, к бабушке Альбертине, которую подданные почтительно именовали герцогиней Баден-Дурлахской. Бабушка Альбертина была вдовой Христиана-Августа Голштин-Готторпского, епископа Любекского. В Гамбурге они пробыли недолго, потому что бабушка увезла родню в Эйтин, резиденцию принца-епископа Любекского, правителя Голштинии. Тогда-то Фике и увидела «гадкого мальчишку» – одиннадцатилетнего герцога Голштинского Карла-Петера-Ульриха.
Мальчишка был, впрочем, не таким уж гадким, и иногда, когда вставал с надлежащей ноги, выглядел благовоспитанным и даже остроумным. Петер люто ненавидел своих «надзирателей» – и, прежде всего, принца-епископа Любекского, который в управлении Голштинией прекрасно обходился без советов ее одиннадцатилетнего властителя.
К удивлению Фике, мальчик привязался к будущей свекрови, Иоганне-Елизавете, а саму Софию-Августу-Фредерику терпеть не мог. То ли завидовал свободе, которой пользовалась маленькая герцоргиня, до которой не было дела никому из близких, то ли считал Фике некрасивой дурочкой. Петер-Ульрих был окружен вездесущими гувернерами, и все шаги его были распределены и рассчитаны, как унылые линейки в школьной тетради. Правда, в те дни Фике почти не обращала внимания на своего будущего мужа. Маленькая Фике была занята молочным супом, который дважды в день готовила с горничными бабушки, а затем благополучно съедала. И вот теперь мать снова напомнила ей о противном одиннадцатилетнем герцоге.
– Кому понадобится невеста? Этому гадкому мальчишке? – от негодования девочка чуть было не поперхнулась яблоком, доставшимся ей после набега на сад одного из штеттинских бюргеров. Маленькая герцогиня охотно забиралась в чужие сады вместе с сорванцами-мальчишками.
– Как ты смеешь, Фике! – герцогиня встряхнула дерзкую девчонку за плечи. – Сколько я не бьюсь с тобой, ты все так же глупа и невежественна! Юный герцог унаследует сразу три короны!
– И ни одну из них не сможет носить… – фыркнула Фике, вырываясь из цепких материнских рук.
– Вот ты и поможешь ему справиться с этой ношей, – наставительно заметила мать, и от ее очередной затрещины Фике отлетела в угол. – Только бы тетушка Эльза стала императрицей…
В ноябре 1741 года тетушка Эльза – цесаревна Елисавета Петровна – с помощью молодцов-лейб-гвардейцев отняла российский трон у робкой, вечно печальной правительницы Анны Леопольдовны и ее младенца-сына. Немецкие родственники новой императрицы выстроились в очередь – за дарами. Юного герцога Голштинского Елизавета срочно выписала в Россию – наследовать престол.
Перепало и Ангальт-Цербстскому семейству. Дядя Фриц – король Пруссии Фридрих – пожаловал отцу Фике чин генерал-лейтенанта и губернаторство в небедном городке Штеттине. Затем его высочество Христиан Ангальт-Цербстский стал герцогом Цербста не только на бумаге. Старший брат Людвиг разрешил ему стать соправителем этого крохотного померанского княжества. Фике подарили новые чулки вместо старых, штопаных, а ее мать, герцогиня Иоганна, стала принимать пищу под музыку. И все это благодаря тетушке Эльзе и великой России!
– Какая она, императрица Эльза? – настойчиво спрашивала Фике у матери. – Говорят, необыкновенная красавица?
Герцогиня Иоганна хмурилась, назойливые вопросы дочери раздражали ее – особенно по вечерам, когда герцогиня торопилась на свидание. Иоганну-Елизавету Голштин-Готторпскую выдали замуж пятнадцати лет от роду, а ее супругу, Христиану-Августу Ангальт-Цербстскому ко времени свадьбы было уже 42 года. Естественно, молодая пылкая красавица не упускала случая изменить своему флегматичному мужу. Поэтому в предвечерние часы она не собиралась описывать не в меру любопытной дочери красоту ее всемогущей русской тетки.
– А я? – не унималась Фике. – Я хороша?
В ответ девочка получила затрещину. Герцогиня Иоганна не отличалась деликатностью.
– Скоро ты увидишь тетку Эльзу! – сухо, резко, словно нерадивой служанке или надоевшему любовнику, сообщила мать. И, расчувствовавшись, добавила: «Мне нагадали, что она непременно вызовет нас в Россию. Императрица уже объявила своим наследником герцога Карла-Петера Ульриха…»
Глава 2 Таинственный гость
Через два года после воцарения императрицы Елизаветы Петровны в Штеттине появился таинственный человек, который, как поговаривали, считал себя современником Иисуса Христа и собеседником Понтия Пилата. Гость в совершенстве знал древнегреческий, древнееврейский и халдейский, не говоря уже о таких «будничных» языках, как английский, итальянский, французский, испанский, португальский, немецкий, русский, шведский и датский, и слыл личным предсказателем и другом короля Пруссии Фридриха. Звали его графом Сен-Жерменом, а иногда, при случае, графом Ракоци, маркизом Монфера и г-ном Салтыковым…
Этот авантюрист, которого гораздо охотнее сочли бы сумасшедшим, действительно владел поместьем Сен-Жермен в итальянском Тироле. Титул графа таинственный господин купил у папы и ловко скрыл под именем Сен-Жермен свое подлинное прозвание. Впрочем, у собеседника Понтия Пилата могло оказаться такое диковинное имя, что ни один язык просвещенной Европы не смог бы его произнести…
Про графа Сен-Жермена рассказывали разное: говорили, что он умеет читать запечатанные письма, превращать металлы в золото и предсказывать будущее. Мсье Сен-Жермен был виртуозным музыкантом и играл на флейте лучше своего царственного друга – Фридриха Великого.
Кроме того, как, облизывая пересохшие от волнения губы, рассказывала герцогиня Иоганна, граф – редкий красавец, не чета померанским коротышкам, высокий, стройный, черноволосый, словом, настоящий итальянец! «Ну почему же итальянец? – скептически замечал ее прозаичный муж. – Этот авантюрист называет себя египтянином, хотя с такой же вероятностью может оказаться жидом…»
– Но зачем же он появился у нас в Штеттине? – замирая от волнения, спрашивала герцогиня. – Вот уже несколько дней, как приехал, и нет, чтобы пожаловать к нам в замок! Сидит себе в плохонькой гостинице и никого не принимает…
– Граф здесь проездом, – терпеливо объяснял герцогине муж, – его цель – Берлин. Едет в гости к Его Величеству королю Фридриху. А пока решил побаловаться штеттинским пивом… Или завести интрижку с какой-нибудь здешней красоткой…
Герцогиня Иоганна была другого мнения об этом таинственном визите, но даже она не могла предположить, что личный предсказатель короля Фридриха приехал в Штеттин ради ее дочери, которая еще недавно ходила в штопаных чулках и, вместе с веселыми сыновьями скучных бюргеров, воровала яблоки в окрестных садах… Фике росла странным ребенком – угрюмым, неулыбчивым, вечно погруженным в свои грезы, которые она доверяла лишь французской гувернантке.
С матерью Фике разговаривала редко – и не потому, что боялась обильно сыпавшихся на ее головку крепких затрещин (рука у герцогини была фельдфебельская!), а потому, что считала Иоганну неумной и суетной. Герцогиня платила дочери такой же неприязнью, в присутствии отца называла ее мартышкой, отбирала подарки дядюшки Фрица – короля Фридриха – и частенько запирала Фике в комнате, для острастки. Отпирала принцессу сердобольная гувернантка Елизавета Кардель – мадемуазель Бабетта – и, чтобы утешить обиженную девочку, рассказывала ей о чудесном городе Марселе, откуда была родом, и о далеком Средиземном море, на берегах которого родилась Европа…
Но Фике гораздо больше интересовала далекая Россия, благодаря которой у нее появились новые чулки, а на хорах штеттинского замка заиграли музыканты. Богатая, сказочная Россия и ее правительница – красавица Эльза, вот о чем Фике была готова говорить день и ночь. Но мадемуазель Бабетта этих тем не поддерживала, а Иоганне надоело отвечать на вопросы дочери.
Фике попыталась заговорить о таинственной России со своим наставником, обучавшим ее Закону Божию, истории и географии. Он рассказал девочке, что православная или греческая церковь – древнейшая из христианских церквей, потому что более всех приближена к вере апостолов. Однако дальнейшие разговоры о России наставник почему-то прекратил – наверное, понял, что не стоит внушать примерным лютеранам уважение к греческой церкви. Так что Фике мечтала о России в одиночку, но в канун нового, 1743 года, в шттетинском замке случилось необыкновенное событие, перевернувшее скучную жизнь Ангальт-Цербстского семейства…
Вечером первого января вся семья собралась в сумрачной капелле штеттинского замка, где играл лучший в городе органист. Фике слушала суровый рокот органа, и ей казалось, что это море, которого она никогда не видела, но о котором слышала от француженки воспитательницы, шумит у самых сводов и пытается ворваться в залу. Ну, наверное, чтобы затопить ее вместе с присутствующими. Мадемуазель Бабетта говорила, что римляне называли это море внутренним, потому что его берега заключали в себя весь мир. Фике закрывала глаза и представляла себе реку без берегов, сияющую словно весеннее небо над Штеттином и рокочущую словно орган.
Герцог Иоганн отбивал сапогом такт, его жена мечтала о предстоящем свидании с очередным «cher ami»… А француженка гувернантка поеживалась от холода – она никак не могла привыкнуть к померанским морозам, да и капеллу так плохо протопили! Герцог, увы, был очень скуп…
Фике, зажмурившись, блуждала по берегам своих грез, как вдруг в зале появился незнакомец. Вошел – и стал за спиной Фике, полуобняв деревянное кресло с резной спинкой, в котором сидела девочка.
Фике не сразу заметила вошедшего, но герцогиня Иоганна обернулась и замерла от изумления. За спиной ее дочери стоял смуглый темноволосый человек – высокий, худощавый, с точеными кистями рук, тонкими, длинными пальцами музыканта и улыбкой, в которой знание мешалось с печалью. Под пристальным, пронизывающим взглядом его слегка косящих глаз бесцеремонная Иоганна впервые в жизни почувствовала себя неловко. Она облизнула пересохшие от волнения губы, тихо спросила: «Кто вы?». «Граф Сен-Жермен, сударыня, – улыбаясь, ответил ей гость. – Я хотел бы поговорить с вашей дочерью. Наедине…»
– Но это совершенно невозможно! – охнула Иоганна, а ее супруг, только заметивший вошедшего, сердито буркнул:
– Моя дочь не разговаривает с посторонними!
А Иоганна спросила, каменея от испуга:
– Да как вы вошли сюда?
Взгляд гостя внезапно потеплел. Незнакомец ласково улыбнулся герцогине, и она совершенно успокоилась, как будто в неожиданном появлении таинственного господина не было ничего необычного и пугающего. Потом гость прикоснулся рукой к головке Фике, и девочка кубарем скатилась со стула и подбежала к загадочному графу, улыбаясь ему так, как никогда не улыбалась домашним.
– Оказывается, этот волчонок умеет улыбаться! – сказала герцогу Иоганна.
– Да сядьте же вы! – приказал дочери герцог.
В чудеса он не верил, в магнетизм тоже и собирался было указать гостю на дверь, как вдруг граф Сен-Жермен, словно прочитав мысли и намерения Иоганна-Христиана Ангальт-Цербстского, протянул ему запечатанное письмо.
– Это письмо от Его Величества короля Прусского, – спокойно и дружелюбно объяснил граф, – в нем король просит разрешить мне свидание с вашей дочерью. Но я прибыл в Штеттин не по приказу короля и даже не по собственному желанию. Вашу дочь ожидает дальняя дорога и тяжелые испытания. Я должен помочь ей, внушить веру в себя и упование на милость Божью.
– Моя Фике и так уповает на милость Божью… – возразил герцог, но письмо все же раскрыл, прочитал и немедленно со всем согласился.
– Королевская воля – закон в доме его подданного, – сообщил гостю Иоганн-Христиан. – Где вы намерены говорить с Фике?
– Здесь… – ответил нежданный гость. – После… Когда все мы насладимся дивными звуками органа… Флейта нашего доброго короля Фридриха чуть было не отбила у меня вкус к музыке!
– Говорят, вы сами – музыкант? – осмелилась спросить оробевшая Иоганна.
– Я чтец, сударыня, – ответил Сен-Жермен, и его ласковая улыбка медом пролилась в душу герцогини, – читаю человеческие души словно запечатанные письма. Такой дар ниспослал мне Господь.
Когда рокот органа стих и наступило время покинуть капеллу, родители оставили Фике наедине с незнакомцем.
– Прочитайте и мою душу, сударь! – предложила девочка и осторожно прикоснулась исцарапанными пальцами к тонкой, точеной кисти посланца дяди Фрица.
Сен-Жермен встал за спиной девочки, коснулся ее затылка прохладными, словно весенний воздух, руками. И Фике вдруг почувствовала, как проваливается в сон – легко, стремительно, не успевая задуматься или испугаться. Сен-Жермен не оставлял ей времени на бесполезные сомнения и лишние чувства – веки стали тяжелыми, как мельничные жернова, руки безвольно упали. Ладони графа, обнимавшие затылок Фике, казалось, проникали в самые потаенные уголки ее сознания…
– Я не ошибся, – тихо, уверенно сказал Сен-Жермен, – именно в этой девочке нуждается Российская империя. Только бы у нашей штеттинской непоседы хватило сил на ожидание…
Они вышли из капеллы вместе – четырнадцатилетняя девочка и проживший не одно столетие граф. Их встреча продлилась недолго – всего несколько минут, но потом сгоравшая в огне любопытства Иоганна не смогла добиться от дочери ни единого слова – даже с помощью затрещин. Граф Сен-Жермен покинул замок так же неожиданно, как появился. О разговоре с Сен-Жерменом Фике рассказала лишь мадемуазель Бабетте…
– Он сказал мне, что я стану русской императрицей! – захлебываясь от восторга, объясняла Фике, когда гувернантка зашла пожелать ей спокойной ночи. – Представляете, мадемуазель, русской императрицей! Как тетушка Эльза! Но случится это не скоро, через много лет, если я не устану ждать… Он скажет мне, когда…
– Да как же граф сможет рассказать вам об этом? – дрожа от предвкушения будущих великих событий, спрашивала гувернантка.
– Через много лет мы встретимся с ним еще раз. Когда наступит мое время стать императрицей.
– Должно быть, вы выйдете замуж за юного герцога Голштинского, который стал наследником русского престола, и императрица Эльза призовет вас в Россию… – догадалась француженка.
– Нет, Бабетта, – частила Фике, – граф сказал мне, что я сама буду править Россией. Без этого гадкого мальчишки… Через много лет. А потом встречу главного человека в своей жизни. Он расскажет мне о море…
– О каком море, Фике? О Средиземном? – замирая от волнения, спросила Бабетта.
Она присела рядом с девочкой, ласково обняла ее за плечи и приготовилась услышать сказку. Но сказка превзошла все ожидания экзальтированной француженки.
– Он называл его греческим, – охотно объяснила Фике. Каждое слово Сен-Жермена намертво врезалось в ее память. – Помнишь, учитель истории рассказывал мне: Греческое море, которое захватили турки. Они не верят в Господа нашего Иисуса Христа. Сен-Жермен сказал, что я отвоюю это море для России. Вместе с человеком, который расскажет мне о нем.
– Да какое вам дело до Греческого моря, сударыня? – скептически пожала плечами гувернантка. – Просите короля Фридриха сватать вас за герцога Голштинского. Тогда императрица Эльза вызовет вас в Россию.
– Дядя Фриц уже позаботился обо мне, – уверенно заявила Фике. – Скоро в Штеттин прибудет гонец. И мы с матушкой поедем в Берлин. Так сказал Сен-Жермен.
– Граф – друг короля Фридриха, ему ли не знать об этом… – согласилась гувернантка, а потом грустно добавила: – Так, значит, мы расстанемся с вами, Фике?
– Я вызову тебя в Россию, Бабетта! – воскликнула Фике и повисла на шее у француженки. – Верь мне, так и будет.
Они еще долго сидели, обнявшись и не говоря ни слова. Свеча догорела, и в комнате стало совсем темно. Только где-то далеко, на юге, словно орган, рокотало Греческое море, которое Фике должна была отвоевать для России вместе с еще неизвестным ей человеком. И четырнадцатилетняя немецкая принцесса знала наверняка, что к берегам этого моря упрямо стремится могущественная Россия, чтобы когда-нибудь на них обосноваться… Так сказал граф Сен-Жермен.
Лишь об одном девочка не рассказала любопытной гувернантке: граф оставил на память Фике занятную книжицу в кожаном переплете – сочинение некого Иоганна-Генриха Дрюмеля, посвященное России. «Опыт исторического доказательства о происхождении Россиян от Араратцев, как от первого народа после всемирного потопа» – так назывался подарок графа. Из сочинения Дрюмеля Фике узнала, что всемирная история началась отнюдь не с ее милой, чинной Германии, а с неизвестного маленькой Ангальт-Цербстской герцогине Ассирийского царства. Дрюмель называл Ассирию царством Скифов, Казаков, Гога и Магога, а затем и Россией!
Фике почтительно переворачивала страницы и ощущала великую Россию в каждой строке, в торжественных, источающих славу и доблесть словах. Как счастлива, верно, красавица Эльза, раз ей выпало править такой древней и дивной, а главное, такой богатой страной! Даже библейский Немврод был скифом, то есть русским, – утверждал Дрюмель, и Фике была с ним полностью согласна. Кем же еще мог быть такой герой?!
Дрюмель называл немцев братьями скифов, то бишь русских, и Фике не переставала удивляться тому, как мог этот неизвестный мудрец разгадать ее тайные мысли. Разве она, предводительница ватаги штеттинских сорванцов, не ощущала себя младшей сестрой великой России, изнывающей в разлуке с этой дивной страной «рисов, гигантов, скифов, араратцев»? Разве она, Фике, не ожидала ежечасно встречи со своей славной северной родственницей? Когда же наконец наступит долгожданное свидание?!
На следующий день в Штеттин прискакал гонец и передал Ангальт-Цербстскому семейству королевскую волю: Иоганне с дочерью предстояла поездка в Берлин. Начинался новый, 1743 год…
Глава 3 Дорога в Россию
Фике никогда бы не подумала, что дорога в необыкновенную, великую Россию окажется такой скучной. С тех пор как остался позади приветливый, гостеприимный Берлин, где их с матерью так радушно встречал дядя Фриц, красавицей, спешащей на бал, промелькнула все еще пышная, веселая Речь Посполитая и потянулись чинные балтийские провинции, принцесса Ангальт-Цербстская видела только снег и ничего, кроме снега. Впрочем, были еще города, огни, летевшие навстречу карете, но эти города немедленно растворялись, тонули в снежном мареве, как будто они только пригрезились Софии-Августе-Фредерике, к вечеру бессильно закрывавшей уставшие от белизны глаза.
Они с матерью ехали в Россию под чужими именами – дядя Фриц велел назваться графинями Рейнбек, но Фике, с самого начала путешествия почувствовавшая себя избранницей великой империи скифов и араратцев, почти не заметила этой досадной подробности. Графиня София Рейнбек – пусть так! Лишь бы капризная тетушка Эльза не передумала и не отправила счастливую невесту обратно. За время пути Фике ни разу не вспомнила о том, что едет к жениху, противному голштинскому мальчишке, она ехала венчаться с великой Россией, а там – будь что будет! Иногда София вспоминала Сен-Жермена, его слова о Греческом море, которое она непременно отвоюет для России вместе с еще незнакомым ей человеком, и почтительно-трепетно, как Священное Писание, перелистывала книжечку Иоганна-Генриха Дрюмеля, подаренную графом.
Карета останавливалась у плохоньких постоялых дворов, где графиням Рейнбек предлагали грубую пищу, плохое пиво и холодную комнату для ночлега. София и Иоганна засыпали, прижавшись друг к другу, и Фике снилось, что священник соединяет ее не с Петером-Карлом-Ульрихом, а с великаном в военном мундире и с черной повязкой, по-пиратски закрывающей глаз. Потом она видела море – сияющее, царственное – и это море, с его чудесами и тайнами, смиренно приникало к ее ногам. Фике просыпалась раньше матери, торопливо одевалась, выходила во двор, зачерпывала ладонями снег и погружала в него пылающее лицо.
– Сколько можно мечтать, Фике! – отчитывала ее Иоганна. – Вы должны помнить о поручениях Его Величества короля Фридриха. Мы проделали такой утомительный путь отнюдь не ради варварской России и ее скифских богатств – интересы Пруссии, вот что должно нас тревожить…
Но Фике нисколько не тревожили прусские дела – она забыла о них в тот самый момент, когда пересекла границу королевства.
В Риге графинь Рейнбек ожидала торжественная встреча: пушечная пальба, приветственные крики, фейерверк…
– Бог мой, Фике, как рады нам все эти люди! – шептала дочери герцогиня Иоганна. – Разве в Штеттине мы могли мечтать о чем-нибудь подобном?!
Фике молчала, немея от счастья: великая Россия была рада ей, загадочная страна скифов и араратцев раскрывала объятия маленькой немецкой принцессе! Ради этого можно будет стерпеть противного голштинского герцога!
Гостеприимную Ригу покидали наутро. Теперь за каретой графинь Рейнбек ехал целый обоз: тетушка Эльза отправила навстречу ангальт-цербстским дамам своего камергера Семена Кирилловича Нарышкина, гвардии поручика Овцына, солдат и камеристок. Но выехать из города было не так-то просто: дорогу перегородили чьи-то сани. Герцогиня Иоганна соизволила выйти из кареты и лично узнать, в чем дело. Фике ненадолго осталась одна. Вдруг дверца кареты распахнулась, и рядом с Фике оказался высокий смуглый господин в шубе до пят. Он ласково улыбнулся невесте наследника русского престола и спросил, указывая на книжку Дрюмеля, лежавшую у Фике на коленях: «Понравился вам мой подарок, принцесса?».
– Граф Сен-Жермен! – ахнула Фике и собралась броситься на шею своему учителю и другу, но граф деликатно отстранил Софию-Августу-Фредерику.
– Это очень хорошо, что вы не расстаетесь с Дрюмелем, принцесса, – невозмутимо продолжил Сен-Жермен, и его точеные, тонкие пальцы на мгновение коснулись доверчиво раскрытой ладони Фике, – еще вам следует читать Священное Писание.
– Я ежедневно читаю Писание, – ответила Фике, – но почему вы спрашиваете?
– Вам знакома история с Вавилонской башней, принцесса? – в спокойных и, казалось, бездонных глазах Сен-Жермена на миг отразилось смятение его четырнадцатилетней собеседницы.
– Конечно, знакома, – ответила она. – Но почему вы напомнили мне об этом?
– Потому что эта история весьма поучительна, – объяснил Сен-Жермен. – Господь наказал людскую гордыню и смешал языки строителей башни. Поэтому ее так и не смогли достроить… Запомни хорошенько, дитя мое: если ты хочешь построить башню, необходимо, чтобы ты понимала речь своих поданных, а они – твою. Прежде чем издать закон, узнай, согласен ли с ним народ. В империи должен быть один язык и одно наречие – в этом успех всего.
– Значит, я должна говорить на одном языке со своими будущими подданными? – переспросила Фике. – И тогда они сделают меня императрицей?
– Не спрашивайте у меня об этом, принцесса, – улыбнулся прорицатель, – просто скажите твердо и уверенно: я стану императрицей.
– Я стану императрицей! – как эхо, повторила Фике.
– Голос ровный и уверенный, – удовлетворенно заметил граф, – так и случится. На вашем лбу, принцесса, я четко вижу, короны. По крайней мере три… Прощайте, дитя мое.
– Когда я снова увижу вас? – замирая от волнения, спросила Фике.
– Мы увидимся дважды, – ответил Сен-Жермен. – Я дам вам знать о себе.
– Постойте, – остановила его София-Августа-Фредерика. – Вы обещали указать мне того человека, вместе с которым мы отвоюем для России Греческое море.
– Терпение, – усмехнулся Сен-Жермен, – всему свой черед. Сюда идет ваша мать…
Он вышел из кареты, любезно поклонился онемевшей от изумления герцогине Иоганне и сел в те самые сани, которые преграждали дорогу русскому обозу. Теперь невеста наследника Петра Федоровича могла продолжать свой путь. Ее ожидало венчание… И не только с цесаревичем Петром Федоровичем, а с Россией.
Часть вторая Григорий
Глава 1 Погоня за Мазепой
Гриша, единственный сын и наследник смоленского помещика Александра Васильевича Потемкина, хотел быть архиереем до тех пор, пока ему не рассказали о запорожских рыцарях – воинах-монахах, которые служат Всевышнему на поприще войны, подобно тому, как священники делают это на поприще мира. Грише было тогда семь лет – в сельцо Чижово, принадлежавшее Александру Васильевичу, приехал запорожский козак Андрей Коваль, который в былые, славные времена спас жизнь Потемкину-старшему. Коваль воевал вместе с Александром Васильевичем под Полтавой, встал под знамена государя Петра Алексеевича, а не шведского короля Карла XII и гетмана Мазепы. Не получил ни медали, ни иных наград, но участием в Полтавской битве гордился, о чем неоднократно рассказывал сыну Антону.
Десятилетний Антон был умным мальчиком, не по годам сообразительным, за что ровесники прозвали его Головатым. Вот отец и решил отправить Антона учиться в Киев, но для этого Ковалю-старшему следовало доказать, что он имеет серьезные заслуги перед Отечеством и обзавестись поручителем из господ-офицеров. Поручителем Андрей Коваль выбрал Александра Васильевича Потемкина, для чего и явился в Чижово. Не по годам умного сынка Коваль привез с собой и отправил поиграть с хозяйским сыном Грицем. Тут-то красноречивый Антон и рассказал семилетнему Григорию о Запорожской Сечи и даже предложил поиграть в запорожцев…
Для этой игры Антон разделил дворовых мальчишек на запорожцев, татарву и ляхов. Григорию он предложил стать запорожцем – Головатый не мог обидеть сына хозяина и отнести его к заведомо слабой стороне. Как объяснил Антон, запорожцы всегда побеждали своих врагов… Но тут Гриц ошарашил Антона – отказался от участия в игре!
– Я готовлюсь стать архиереем, – ответил семилетний мальчик, – и потому не могу брать в руки оружие. Где ж это видано, чтобы попы воевали?
– А почему ты решил в попы идти? – удивился Антон. – Я вот буду запорожским казаком, как отец.
– Я хочу служить Богу! – торжественно ответил Гриша.
– Запорожские казаки тоже Богу служат, – снисходительно объяснил мальчишке Антон. – Они – рыцари, значит – и воины, и монахи. Защищают христианские земли от врагов Христовых – басурманов.
Гриша недоверчиво посмотрел на Антона и представил себе сельского священника, отца Иннокентия, у которого учился грамоте, на коне и с саблей в руках. Выходило неубедительно – взобраться на коня отцу Иннокентию помешала бы ряса.
– Что же, твои запорожцы в рясах воюют? – спросил Потемкин-младший у Головатого.
– Зачем же рясах? – удивился Антон. – У них свой наряд – воинский. А монахи они в душе.
Гриша удивленно посмотрел на отца. Тот с самым серьезным видом кивнул головой, чем дал понять своему отпрыску, что приезжий мальчишка говорит сущую правду.
– Ну тогда и я буду запорожцем! – решил Григорий.
Через несколько минут кошевой атаман Антон Головатый, он же – полковой писарь, записал в реестр нового запорожца – Грицько Нечесу. Причиной подобного прозвища стали озорные вихры на голове будущего фельдмаршала Григория Александровича Потемкина…
– Грицу моему либо быть в чести, либо – не сносить головы! – прокомментировал это событие Потемкин-старший.
Андрей Коваль с сыном задержались в Чижово. Конечно, в первый же день их пребывания в усадьбе Александр Васильевич составил письмо, в котором подтверждал воинские заслуги Андрея. Тут-то гостям и следовало отправиться восвояси, но письмо оказалось только поводом для встречи. Старые друзья каждый вечер глушили «горзалку»[1], опустошая запасы хлебосольной жены хозяина – Дарьи Васильевны, и вспоминали о славном, канувшем в прошлое, времени. На второй день такого пьянства и буйства Дарье Васильевне показалось, что гости никогда не покинут усадьбу. Кто же еще сможет поговорить с ее неугомонным мужем о Полтавской баталии или о том, как он преследовал гетмана Мазепу и короля Карла XII?!
Пил козак Андрей с присказками и прибаутками, чем несказанно веселил хозяев усадьбы. «Горзалку» он называл по-казацки «горилкой» или «оковытой» и обращался к ней словно к живому существу.
«Хто ты?» – «Оковита!» – «А з чого ти?» – «Iз жита» «Звiдкиля ти?» – «Iз неба!» – «А куди ти?» – «Куди треба!» – «А квиток у тебе є?» – «Ні, нема!» – «Так отут тобі й тюрма»… После чего опрокидывал чарку.
Однажды утром хозяйка услышала громоподобный бас гостя из светелки: «Вонзым копия в души своя!». Вошла в светелку и увидела, что старые друзья, только продрав глаза, уже чокаются. Тогда Дарья Васильевне пришлось усовестить мужа словами из «Поучения апостолов»: «Горе воcстающим заутра и питье гонящим».
– Так, чоловік же не скотина, більш ведра не вип`є! – вмешался Коваль, и собутыльники расхохотались.
По вечерам обильные возлияния сопровождались нескончаемыми воспоминаниями об удалой молодости.
– Помнишь, Андрей, – в сотый раз напоминал разомлевший от горзалки Александр Васильевич своему старому другу, – дали мне приказ догнать изменника Мазепу и шведского короля Карла. Тогда я был молодой и красивый – не то что сейчас, и командовал отрядом драгун.
– А меня с хлопцами прислали тебе на подмогу, чтобы вы, москали, не заблудились в наших краях, – продолжал Коваль, расставляя на столе пустые бутылки. – И скажу я тебе – славное было время! Не понравилось братьям-запорожцам, что Мазепа привел на Украину шведов. Выбрали в Глухове нового гетмана – старобудского полковника Ивана Скоропадского.
– Что же дальше было, отец? Вы догнали Мазепу? – дрожа от нетерпения, спрашивал Гриц, которого Дарья Васильевна никак не могла увести спать. Антона хозяйка усадьбы и не пыталась уложить – было ясно, что мальчик останется с отцом, пока тот в сотый раз не расскажет историю о погоне за Мазепой.
– Скакали мы долго по Дикому полю, через Долину Мертвых до самых татарских пределов, – рассказывал Александр Васильевич, – до того места, где Великий Ингул в реку Бог впадает, и сделали привал. На другой стороне был вражеский лагерь. Когда стемнело, переправились мы на другой берег…
– Спешились мы, сынку, – продолжил Коваль, – и подошли к ним совсем тихо, так что все балачки их слыхали. Курган там рядом был какой-то, руины каменные… Тут бы и накрыть их, всех разом, но мало нас для поимки оказалось, вот и велел твой батько утра дождаться и за беглецами проследить.
– Узнать я хотел, – вмешался Потемкин-старший, – зачем они у кургана этого остановились и что дальше делать решат. Послал я гонцов к начальнику своему, князю Волконскому, за подмогой, и тут, видно, Лукавый решил нам помешать.
– Да как же помешать? – охнул Гриц.
– Волки тут завыли, сынку, – объяснил Коваль, – и туман на наши души лег.
– Я еще удивился: откуда здесь волки, – вспоминал Александр Васильевич, – а Коваль мне объяснил, что не волки это, а вовкулаки – оборотни…
– Сказывали мне казаки, – снова вмешался Коваль, – что курган этот – могила скифийского царя Сарда Артаферна. И царь этот в лютости своей равных не имел. Когда умирал, велел рядом с собой сотни слуг и воинов похоронить. Боялся, видно, один на тот свет отправляться. Вот с тех пор и бродят души невинно убиенных в этих краях, покоя не находят, в волков, когда стемнеет, превращаются и страшно воют…
– Господи, твоя воля! Страсти-то какие на сон грядущий рассказывают! Как я теперь спать-то буду! – запричитала Дарья Васильевна.
– Тут-то Мазепа с солдатами в путь собрались. Курган обогнули – и дальше на юг. Прямиком к мысу Четик-Дересси, что супротив Бозавической крепости, султану принадлежащей. А мы за ними… – Александр Васильевич вскочил и рубанул кулаком по столу, как будто снова решил отправиться в погоню.
– Что же, батюшка, вы их не пленили? – удивился Гриц.
– Мало нас было, сынку, – ответил за Потемкина-старшего Андрей Коваль, – батько твой за подмогой послал, но не пришла вовремя подмога. Москали сами в Диком поле заблукали. Решили мы за мазепинцами дальше следовать. Лиман самовольно переплыть они бы все равно не смогли – для этого разрешение султанского наместника требовалось. Стали они днем на мысу у старой казацкой переправы, а мы – рядом… Отправили мазепинцы гонца в Бозавическую крепость – чтобы впустил их султанский наместник, а сами остались ждать.
– Было это на мысу Четик-Дересси, по-нашему – на Валашской косе, откуда путь через лиман шел прямехонько в Валахию… – добавил Александр Васильевич. – Враги наши лагерем стали, и по всему видно было – к бою приготовились. Верно, нас ждали! Но мы пока себя не показывали – ждали подкреплений от князя Волконского. Турецкие суда в бухте этой на рейде стояли, и турки товар всякий в лагерь к Мазепе возили.
– А что же шведский король? – вмешался Антон. – Ты говорил, батьку, он – славный воин…
– Славный-то славный, но москали сильнее оказались, – объяснил Андрей. – Отправил шведский король своего секретаря к коменданту Бозавической крепости…
– А Мазепа – польского генерала Понятовского к нему присовокупил, – добавил Александр Васильевич. – Но комендант этот не дурак оказался и решил принять у себя только шведского короля и его ближайших советников. Тут и понял Мазепа, что нет ему пути в Бозавическую крепость. Но король и гетман сами о себе позаботились – велели своим людям захватить турецкие корабли, что на рейде стояли. Перестрелка началась, а тут и наши подоспели – четыре конных полка под командованием генерала Волконского и бригадира Кропотова.
– Так, значит, не удалось бежать Карлу с Мазепой?! – обрадовался Гриц.
– Нет, сынок, удалось… – вздохнул Потемкин-старший. – Один корабль они все-таки захватили, взошел на него шведский король со своей свитой… И изменника Мазепу с собой прихватили. Но не все погрузиться успели – удалось солдатам Волконского перышки беглецам пощипать. Пустились они врассыпную, а мы за ними… Доскакали мы до Широкой балки и увидели: два десятка лошадей у горы пасется, а всадников – нет как нет.
– И куда ж они делись? – охнула Дарья Васильевна. – Сквозь землю провалились, что ли?
– В том-то и дело, хозяйка, что сквозь землю, – рассмеялся Андрей Коваль. – Мне потом местные жители сказывали, что пещер в этих местах много. С древних времен остались… Вот мазепинцы в эти пещеры и ушли…
– Что за пещеры такие? – спросил любопытный Гриц.
– Какие нерукотворного свойства, а какие людьми сделаны. С древних времен остались. Одни турецкие, а другие – постарее будут, – объяснил Андрей Коваль.
– Оставил я пятерых драгун беглецов караулить, – как ни в чем не бывало продолжал Потемкин-старший, – а с остальными за мазепинцами в пещеру отправился. Сделали мы себе из лоскутов одежды и сабель факелы – горзалкой облили и подожгли.
– А разве горзалка горит? – удивилась Дарья Васильевна.
– Еще как горит, – снисходительно объяснил ей муж. – Наверное, потому казаки ее горилкой называют. А делается она из чистого погона хлебного вина, родниковой водой не разбавленного.
Из чего делается горзалка, Дарья Васильевна лучше мужа знала, и рассказов о ней слушать не стала. Так что Александру Васильевичу пришлось продолжить повествование о пещерах.
– Так вот, – снова начал он, – полчаса под землей шли, пока пол под ногами не стал ровным, словно камнем тесаным вымощенным, а проход – узким. Гуськом друг за другом идти пришлось, а беглецов все нет. Долго бродили по лабиринтам. Заблудились. Потом вдруг вошли – словно в огромную залу. Факелами посветили – и обомлели. Посреди залы этой – сокровищ словно в казне императорской! Оружие старинное, монеты золотые, украшения серебряные, шлемы, доспехи… И на стенах – надписи на непонятном языке. Правда, отец Иннокентий, священник чижовский, объяснил мне потом, что надписи эти на старом греческом были…
– Что ж ты мне, друже, про надписи раньше не рассказал? – огорчился Коваль. – Про греков я слышал. Хороший народ, благонравный, но под турками томится. Только откуда им в тамошних краях взяться?
– Рассказал мне отец Иннокентий, что в тех краях греки раньше жили… – пояснил Потемкин-старший, – вот и набрели мы на греческие сокровища. Стали солдаты мои монеты в одежду прятать, но не очень много набрали, потому что надо было не о сокровищах думать, а на свет Божий выбираться. Еще долго мы по подземным переходам бродили… А когда вышли на свет Божий, то оказались в том самом месте, где Великий Ингул с рекой Богом сливается.
– Там, где мы на курган скифийского царя Сарда Артаферна набрели и волчий вой слушали… – уточнил Коваль. – Вот как кружил нас Нечистый!
– И что же, батьку, вы больше не возвращались в те пещеры? – сглотнув слюну, спросил Антон.
– Рады были, что на свет Божий выбрались и живы остались… – объяснил Коваль. – Куда возвращаться было?!
– Монета у меня с тех пор осталась, – продолжил Андрей Васильевич, – Гриц мой ее видел и отцу Иннокентию показывал. Говорит поп, что греческая…
Гриц выбежал из комнаты и вернулся с золотой монетой, на одной стороне которой был вытеснен орел, сжимающий в когтях рыбу, а на другой – еле различимая надпись ΟΛΒΙΟ.
– Что же это значит? – спросил Коваль.
– Отец Иннокентий у нас книгочей и по-гречески знает, – объяснил Потемкин-старший. – Говорит поп, что была такая страна греческая в древние времена – Ольвией называлась. По нашему «Счастливая» значит. Потом, видно, города и селения счастливой этой страны землей засыпало, а мы на сокровища греков и набрели.
– Мы с отцом Иннокентием решили, – вмешался Гриц, – когда я вырасту, Ольвию эту разыскать…
– Гриц у меня фантазер, – Александр Васильевич ухватил Грицько Нечесу за вихры, – а отец Иннокентий ему потакает. Вырастет – учиться в Москву или Петербург поедет, а не города подземные разыскивать.
Гриц, видимо, считал иначе, но отцу перечить не стал – откровенничал мальчик только с отцом Иннокентием. От сельского священника Гриц впервые услыхал о греках – благородном, но несчастном народе, порабощенном нехристями-турками. И народ этот обладал такой диковинной историей, что мальчик предпочел бы родиться греком, а не русским. Ведь только у греков были триста спартанцев и мужественный царь Леонид, слепой поэт Гомер, красавица Елена, ради которой затевались войны, и могучий, непобедимый Ахиллес, воспитанный кентавром Хироном… А еще отец Иннокентий то и дело напоминал о том, что именно греки крестили Русь, и киевский князь Владимир принял крещение в славном городе Херсонесе, расположенном на берегу захваченного турками моря.
Гриц знал, что на это море претендовала Россия, упрямо пробивавшаяся к его берегам, чтобы на этих берегах обосноваться. Но от Смоленской губернии до этого моря было так же далеко, как и от Петербурга с Москвой, куда его непременно пошлет учиться отец. Стало быть, он, Гриц, должен выучиться, а потом обязательно добраться до желанных берегов Понта Эвксинского…
В ожидании этих чудес мальчик попросил отца Иннокентия научить его греческому. Священник согласился, а Потемкин-старший поморщился. Александр Васильевич считал, что его упрямец-сын мог бы обойтись и без этих изысков. Воинский артикул – вот чему следовало учиться! Впрочем, без образования нынче прослывешь медведем и увальнем – государыня Елизавета предпочитает воспитанных молодых людей… И Александр Васильевич закрыл глаза на то, что его сын все больше и больше подпадает под влияние отца Иннокентия.
Пока Гриц мечтал о Греции, Потемкин-старший возобновлял старые московские связи – Гришу ожидала учеба в университете. Разве мог Александр Васильевич всерьез подумать о том, что его сын предпочел бы учиться у мудрого кентавра Хирона или, на худой конец, у Платона в его академии? Монету с надписью ΟΛΒΙΟ Гриц стал носить на шее, рядом с крестильным крестиком. Она ежеминутно напоминала мальчику о далеком греческом море и чудесных городах, возведенных на его берегах. Иногда Грицу казалось, что он слышит шум этого моря, пение сирен… Тогда мальчик вскакивал, как по тревоге, подходил к окну и, вдыхая терпкий, земляной запах чижовских лесов, мечтал о морской свежести и легкости.
Из родительской половины, вздыхая, приходила Дарья Васильевна и уговаривала сына вернуться в постель, которая в эти минуты казалась ему нестерпимо жесткой и узкой.
«Я хочу увидеть море, мама…» – говорил Гриц. «И зачем тебе сынок море это сдалось? – сетовала Дарья Васильевна. – В колодце, чай, водицы довольно будет! И куда как вкуснее! Не соленая! Сидеть бы нам дома, за имением следить, добра наживать… И не по свету мотаться. А от учения энтого – только разорение одно!».
Но Греческое море все ближе подходило к Чижово, рокотало у окон Потемкина-младшего. Уезжая учиться в Москву, выросший Гриц увозил с собой мечту о Понте Эвксинском и уверенность в том, что настанет время, когда он сам будет возводить города на его берегах… Кто знал, что он не только возведет эти города, но и умрет по дороге в один из них?
Глава 2 Студент Московского университета
– Нынче пиво у студиозусов в большой чести… А вы, сударь, по всему видно, студент – и от пива не откажетесь… – смуглый, худой, черноволосый, с удивительно красивыми, точеными кистями рук незнакомец подсел к студенту Московского университета Григорию Потемкину в одном из трактиров Первопрестольной.
Григорий ревностно относился к учебе, не пропускал классов, особенно усердствовал в истории, философии и древнегреческом, но от немецкого пива не отказывался, особенно, когда можно было полистать за пивом книгу. Так и страницы быстрее перелистывались, и кружка скорее пустела. Но дружеское предложение незнакомца вызвало у него удивление – этого похожего на итальянца, странного человека Потемкин видел впервые.
– Говорят, господин Потемкин, у вас большие успехи в учении и великолепная память? – продолжил итальянец, и потрясенный его осведомленностью о своих делах Григорий долго не мог произнести ни слова. Спокойный, уверенный, певучий голос незнакомца и магнетический взгляд его, казалось, бездонных глаз смутили усердного студента Московского университета.
– Не жалуюсь, – собравшись с духом, ответил Григорий, – читаю быстро, прочитанное запоминаю целиком. Многие не верят, говорят, что я лишь перелистываю страницы. Вот, на днях Матвей Афонин, мой однокашник, купил «Натуральную философию» Бюффона. Я возвернул книгу на следующий день. Матвей обиделся и стал говорить, что я книги и не открывал.
– Ну а вы что же? – спросил итальянец.
– Пришлось убедить его в обратном, – рассмеялся Потемкин, – я коротко изложил содержание книги.
– И что же, приятели больше не экзаменовали вас? – лукаво улыбнулся незнакомец.
– Ничуть. В другой раз Ермил Костров дал мне по моей же просьбе с десяток книг, которые я и возвратил ему через несколько дней. Ермил съязвил, что на почтовых хорошо летать в дороге, а книги – не почтовая езда… Я ему возразил, что прочитал сии книги от доски до доски. Он не поверил. Тогда я сказал: коли не веришь, изволь, экзаменуй!
– И что же? – все с той же лукавой улыбкой спросил этот странный человек.
– Убедил, – ответил Григорий, – когда наизусть целые страницы пересказывал.
– Неужели наизусть?
– А вы что же, сударь, – рассердился Григорий, – тоже экзаменовать меня пришли? Да и кто вы наконец?
– Я и вправду забыл представиться! – губы незнакомца дернулись в улыбке, но глаза, казалось, не умели улыбаться. – Меня зовут граф Монфера, и я давно наблюдаю за вами. Говорят, вы один из лучших студентов Московского университета. Но, скажите, сударь, каковы ваши успехи в древнегреческом?
Магнетический взгляд незнакомца вытеснил из сердца Потемкина удивление и раздражение, так что на этот вопрос графа Григорий ответил легко. Рассказал, что язык Гомера, Платона и Аристотеля изучает с детства. Благо, у него был прекрасный учитель, сельский священник отец Иннокентий.
– Вам следует выучить новогреческий, сударь, – продолжил странный господин. – Вы должны свободно разговаривать на этом языке.
– В Московском университете не учат новогреческому… – пожаловался Потемкин.
– Тогда я сам буду учить вас, – предложил таинственный граф, и Григорий почувствовал, что не в состоянии отказать ему. Потемкин вел себя сейчас помимо собственной воли, но почему-то был уверен в том, что должен подчиниться странному собеседнику. Никогда и никому не подчинялся раньше строптивый Гриц, даже с собственным отцом он привык спорить, но графу Монфера хотелось верить безоговорочно. И даже выучиться новогреческому, если граф сочтет это необходимым.
– Где вы квартируете, сударь? – спросил Монфера, и Потемкин мгновенно, без сомнений и колебаний, назвал ему свой адрес. Вечером следующего дня Монфера навестил студента в его скромном жилище, и начались уроки новогреческого.
– Зачем мне знать, как нынче говорят греки? – спросил однажды Потемкин. – Философы великой Эллады говорили иначе. Эллинскому учил меня отец Иннокентий. Университетские профессора считают, что я изрядно в нем преуспел.
Монфера недовольно пожал плечами. Ему не нравилось нетерпение юноши. «Если бы я был столь нетерпелив, то не прожил бы и века», – подумал граф.
– В свое время, г-н Потемкин, – ответил он, – я открою вам ваше предназначение. А пока скажу только одно – Россия нуждается в Греческом море, а греки – в свободе. Падения Константинополя в руки агорян, сиречь турков, нельзя было допустить! Но коль скоро это произошло, все просвещенные умы человечества жаждут освобождения греков и возрождения Византии. Юноша, носивший на груди монету с надписью ΟΛΒΙΟ, надеюсь, поймет меня!
Потемкин вздрогнул: все он мог понять и принять – только не это таинственное всеведение графа.
– Да откуда вы знаете о монете, которую я носил на груди? – немея от удивления, спросил он.
– Я все про вас знаю, – нимало не смутившись, ответил граф. Монфера улыбался одним губами: глаза его нисколько не менялись, оставались невозмутимо спокойными, как воды подземных рек. – И даже история погони за Мазепой не составляет для меня тайны. Ваш отец был в эллинском святилище, скрытом в подземных лабиринтах. Ему посчастливилось пройти мерцающим тоннелем. Впрочем, я и сам был там когда-то…
– Кто вы? – отшатнулся от своего друга и учителя Потемкин. – Кто вы такой, сударь?
– Я человек, – горько усмехнулся граф, – человек, обреченный на бессмертие. Но Бог простит меня и пошлет мне смерть. Когда я исполню предначертанное.
На последнем уроке, перед тем, как на долгие годы расстаться со своим учеником, граф Монфера сказал, впервые обратившись к нему на ты: «Хочешь знать свое предназначение? Что ж, я расскажу тебе. Ты отвоюешь для России Греческое море. Две Софии помогут тебе в этом. Одна из них предназначена тебе Провидением. Другая принесет тебе смерть. Но ты успеешь выполнить предначертанное. Во славе войдешь во храм Софии».
– Какой храм? – спросил Григорий. – Константинопольский? Тот самый, где крест заменен полумесяцем?
– Об этом тебе еще рано знать, – сурово ответил граф. – Истинная София расскажет тебе об этом. С ней ты и заговоришь на языке эллинов. Когда придет время. Больше я ничего не скажу. Научись ждать. В свое время я подам тебе знак. Одну из Софий ты узнаешь по темляку … На вторую тебе укажет сама Эллада.
– Что же мне делать сейчас? – спросил Потемкин, для которого это предсказание было таким же темным и туманным, как сны, приходящие на рассвете.
– Я ведь сказал тебе, – недовольно передернул плечами граф, – научись ждать. Не пытайся узнать больше, чем тебе положено.
– Что же ожидает меня? – настаивал Григорий.
– Ты увидишь Петербург, – заговорщицки произнес Монфера, – тебя, в числе лучших студентов, представят императрице Елизавете. Граф Иван Шувалов произведет тебя в капралы лейб-гвардии. Твое знание богословия и греческого поразит всемогущего любимца государыни. А потом…
– Что же будет потом? – Гриц не смог дождаться конца фразы и прервал графа на полуслове.
– А потом, – резко и сухо закончил граф, – ты вернешься в Москву, и тебя отчислят из университета за леность и нехождение в классы… Нетерпение – твой главный порок. И каждый раз, поддавшись ему, ты будешь сворачивать с намеченного Провидением пути. Сворачивать и снова возвращаться. Поэтому я больше ничего не скажу тебе – научись быть терпеливым.
– Зачем же вам понадобился нерадивый студент, которого исключат из университета – за леность? – недоверчиво улыбаясь, спросил Гриц.
Усердный студент ни на минуту не поверил в последние слова графа. Благосклонности графа Ивана Шувалова и стареющей императрицы Потемкин был вполне достоин, а вот исключить из университета его никак не могли.
Но граф не ответил Григорию. Нетерпение молодых людей раздражало его. Монфера знал наверняка, что умение терпеть и ждать – высшая добродетель.
Всемогущий Бог наделил графа терпением и бессмертием, и зачем ему было утешать юношу, которому не хватало сил и душевного спокойствия дождаться зреющих в небесных недрах событий? Принцесса София-Августа-Фредерика была не в пример терпеливее, и граф остался доволен ею. Потемкин узнает первую Софию по темляку… Кто же та вторая София, о которой Грицу расскажет сама Эллада?
Часть третья «Ты узнаешь его по темляку…»
Глава 1 Письмо от графа Сен-Жермена
Перед великой княгиней Екатериной Алексеевной лежала записка от графа Сен-Жермена: крохотный, сложенный вчетверо листок бумаги, которого она ожидала четырнадцать лет. Сколько русских медлительных вод утекло с тех пор, как Фике в последний раз видела графа! Он ни разу не вспомнил о ней за все эти долгие годы, пока она пыталась понравиться капризной русской тетке, ласково улыбалась малороссийскому увальню Кириллу Разумовскому, философствовала с юной тезкой – крестницей императрицы, княгиней Екатериной Дашковой – и, дрожа от отвращения, выслушивала глупости мужа, наследника Петра Федоровича.
Тетке Эльзе она так и не понравилась: императрица за версту чуяла лицемерие и однажды, встряхнув невестку за плечи, пытливо заглянула в ее голубые немецкие глаза. Встряхнула и сказала резко, сердито: «Императрицей хочешь быть, Катя? Смерти моей невмоготу дождаться? Потерпи, жива я еще, да и ты под Богом ходишь… А будешь заговоры против меня составлять – обратно в Пруссию отправлю, как мать твою отправила. Наследничка мне рожай поскорее, сколько лет уже с Петрушкой венчаны, а все без толку!». Правда, иногда устремленный на невестку суровый взгляд Елизаветы чудесным образом теплел: Фике напоминала императрице ее первого, накануне свадьбы умершего от оспы жениха.
Наследник Петр Федорович – еще недавно – герцог Голштинии Карл-Петер-Ульрих – едва терпел Фике невестой, а женой и вовсе возненавидел. Правда, граф Кирилл Разумовский не сводил с великой княгини влюбленных глаз («Все влюбленные глупы одинаково!», – язвила Фике). А княгиня Дашкова, в девичестве Екатерина Воронцова, сразу же решила, что поведет великую княгиню к славе.
Но Россия – великая Россия – оправдала все ожидания Софии-Августы-Фредерики. С Империей венчалась она в переполненном зрителями соборе, на руку Империи опиралась дрожащими от волнения пальцами, Империи клялась в верности и любви («Пока не разлучит нас смерть!»). И кольцо Империи, а не наследника Петра Федоровича, сияло на ее руке. Какое Фике было дело до стоявшего рядом изуродованного оспой юнца, который тщетно пытался отыскать в торжествующем взгляде невесты хоть каплю нежности? Ради Империи она так старалась понравиться тетке Эльзе и ее надменным сановникам. «Полюби же меня, Россия!», – шептала Фике, и ей казалось, что Империя откликается на ее страстную мольбу благосклонным шепотом.
Так прошли годы: великая княгиня Екатерина родила императрице наследника, цесаревича Павла Петровича, которого довольная Елизавета тут же отобрала у матери; пролистала немало сердец и книг. Но граф Сен-Жермен ни разу не навестил ее, ни разу не напомнил о себе хотя бы запиской. Фике, терпеливо ожидавшая обещанной встречи, вдруг перестала ждать, смирилась, зажила, как все, – от балов к картам и от карт к балам. В одну зиму проиграла столько, что даже чудовищно расточительная императрица назвала великую княгиню мотовкой и запретила садиться за игорный стол.
Екатерина остыла, забросила карты и принялась за книги: бойко перелистывала страницу за страницей, принимая ухаживания посланника Речи Посполитой Станислава-Августа Понятовского. До этого она смягчалась лишь в присутствии Сережи Салтыкова, про которого фрейлины императрицы говорили, млея от волнения: «Il est beau comme le jour!»[2]
В 1757 году императрица Елизавета захворала. Лейб-медики Кондоиди и Буассонье были всерьез обеспокоены здоровьем государыни. А российская Венус капризничала, отказывалась глотать горькие пилюли. Терпеливые врачи закатывали их в мармелад, щербет и прочие сладости, которые императрица обожала. С тех пор как Елизавета сослала в Великий Устюг своего лейб-медика и советчика графа Лестока, ей повсюду мерещились заговоры и яды. «Съешь-ка сам сначала свои пилюли!», – говорила она Кондоиди, и бедный врач давился мармеладом, в котором было спрятано лекарство.
«А теперь ты, француз!», – приказывала императрица Буассонье, и бедняга принимал вторую порцию снадобий. Только после этого Елизавета, вздыхая, соглашалась подвергнуться тягчайшему испытанию в виде пилюли, спрятанной в щербете. «Когда же эта колода умрет?», – писала великая княгиня английскому посланнику, наградив столь нелицемерным прозвищем матушку-государыню.
Предусмотрительная Екатерина давно уже разработала план действий на случай внезапной смерти Елизаветы. По вечерам, оставаясь наедине с собственными преступными мыслями, она твердила его вслух, шепотом. Заговорщице казалось, что граф Сен-Жермен не только слышит ее, но и одобряет все ее действия.
– Когда я получу безошибочные известия о наступлении агонии императрицы, – размышляла Екатерина, – я отправлюсь прямо в комнату моего сына. Если я встречу или буду иметь возможность немедленно призвать обер-егермейстера Алексея Григорьевича Разумовского, то оставлю его с его подчиненными при сыне, если нет – отнесу сына в мою комнату. Вместе с тем я пошлю верного человека известить пять гвардейских офицеров, в которых вполне уверена. Они приведут мне каждый по пятьдесят солдат – это будет исполнено по первому же знаку. Может быть, я и не обращусь к их помощи, но они останутся в резерве и будут принимать повеления только от великого князя или от меня.
Я пошлю за Апраксиным и Ливеном, а в ожидании их направлюсь в комнату умирающей, куда призову командующего караулом капитана, велю ему присягнуть и оставаться при мне. Местом сбора должна быть моя приемная. Если я замечу хотя бы самое малейшее движение, то отдам под стражу Шуваловых и дежурного генерал-адъютанта. Младшие офицеры лейб-кампании – народ надежный, и хотя я в сношениях не со всеми ими, но на двух или трех вполне могу рассчитывать. Я уверена, что имею достаточно влияния, чтобы заставить себе повиноваться всякого, кто не подкуплен. Не правда ли, я все хорошо придумала, граф?
И Фике казалось, что Сен-Жермен отвечает ей: «Прекрасно, ваше высочество…».
Опасения Екатерины имели под собой самую твердую почву. Великая княгиня давно знала, что тетка Эльза хочет оставить русский престол отнюдь не племяннику с женой, а их маленькому сыну, цесаревичу Павлу Петровичу. Елизавета некогда забрала новорожденного Павлушу у родителей и с тех пор души не чаяла в мальчике.
«Племянник мой Петрушка – дурак! – жаловалась Елизавета Ванечке Шувалову. – Катька – гордячка немецкая. А русский престол ума и гибкости требует. Думаю я Павлуше его передать. А тебя, Ванечка, при нем регентом. Или Алешу Разумовского…»
Граф Кирилл Разумовский, по-прежнему влюбленный в Екатерину, как-то намекнул ей и на другие планы тетки Эльзы. Он подтвердил слухи о том, что у Елизаветы и его брата – Алексея Григорьевича Разумовского – есть дочь. А если «колода» решится передать трон этой таинственной дочери в обход племянника с супругой? Следовало действовать, искать сторонников, и Екатерина ежедневно добавляла к своему плану новые, многообещающие детали.
Весной 1759 года Елизавета все еще была жива, а Екатерина устала ждать своего часа. И тут у великой княгини попросил тайной аудиенции гвардии капитан Григорий Орлов, храбрец и красавец, перед которым млели чувствительные придворные дамы. Оставшись наедине с Екатериной Алексеевной, Орлов протянул изумленной претендентке на русский престол сложенный вдвое пакет. Почерк на конверте был незнакомым, печать – на первый взгляд тоже. Екатерина забеспокоилась – неужели этот гвардейский капитан – шпион? Быть может, «колода» что-то заподозрила?
– Откуда этот пакет, капитан? – строго спросила она.
– Посмотрите на печать, Ваше Императорское Высочество, – понизив голос до таинственного шепота, ответил ей Орлов. – Неужели вам ничего не говорит имя князя Ракоци?
– Князя Ракоци? – переспросила Екатерина. – Кажется, я где-то слышала это имя…
– Это одно из имен графа Сен-Жермена, – тихо сказал гвардейский капитан. – И пакет от него. Еще он называет себя графом Монфера и Сен-Жермен.
Дрожащими руками Екатерина разорвала пакет, оттуда выпала записка. На этот раз граф Сен-Жермен оказался немногословным. На клочке бумаги значилось только: «Можете вполне доверять капитану Григорию Орлову. Ваш Сен-Жермен».
«Так, значит, это тот самый человек, который расскажет мне о Греческом море, – мысли Фике были лихорадочными и спутанными, как ее нынешнее состояние, – и мы отвоюем это море для России!»
– Скажите, капитан, – голос великой княгини дрожал, – вы любите море?
– Ваше высочество, – офицер склонился в почтительном поклоне, – относительно моря я не скажу ничего определенного. Морями больше интересуется мой брат Алексей или попросту Алехан. Однако разрешите встречный вопрос? Причем тут море?
– Наберитесь терпения, – улыбнулась Екатерина, – в свое время вы все узнаете…
Глава 2 Ожидание славы
Екатерина Алексеевна была уверена в том, что Григорий Орлов – тот самый человек, о котором еще в Штеттине ей говорил граф Сен-Жермен. Поэтому в отношении красавца капитана она сменила свою обычную скрытность и недоверчивость на непоколебимую уверенность в его преданности и любви. Да и как могло быть иначе, если долгожданную записку от Сен-Жермена она получила именно из рук Орлова!
Правда, история знакомства Григория Орлова с Сен-Жерменом разочаровала Екатерину. Ничего таинственного и мистического – лишь карты, азарт и долги. Фике узнала, что Григорий познакомился с графом во время Прусской кампании, когда русская армия чуть было не взяла Берлин, и в пух и прах проигрался ему в каком-то трактире. На днях к Орлову явился посланец от графа – так, ничего особенного: вертлявый и суетливый итальяшка – и просил, в память о старом знакомстве и не менее старом проигрыше, – передать Екатерине Алексеевне некий пакет.
Лихой капитан, правда, скромно умолчал о том, что до сих пор остался должен Сен-Жермену кругленькую сумму и поэтому, попросив Григория Орлова об услуге, граф лишь взыскал старый должок. Впрочем, Екатерине было достаточно лаконичной записки графа, чтобы поверить в исключительность посланного ей судьбой гвардейского капитана.
Граф Сен-Жермен даже на расстоянии внушал ей трепет. Фике ни на минуту не усомнилась в том, что картежник и дамский угодник Григорий Орлов – тот самый человек, вместе с которым она отвоюет для России Греческое море. Но морями был увлечен брат Григория – Алексей, Алехан – а сам гвардии капитан оказался человеком вполне сухопутным и ценил лишь твердую почву под ногами.
Екатерина не любила изменять своим ошибкам – она следовала им не меньше, чем правоте. Она приблизила гвардейского капитана к себе. И потом, вместо того чтобы небрежно перелистать его сердце, позволила заглянуть в свое.
Когда 25 декабря 1761 года на руках у Ивана Шувалова скончалась императрица Елизавета, Фике ждала ребенка от Григория Орлова. В этот решающий момент Екатерину интересовали лишь постоянная тошнота и слабость, сопутствовавшие ее внезапной беременности. Она позволила ненавистному мужу занять трон тетки Эльзы – а что было делать, гвардейцев не вдохновишь на заговор, когда тебя то и дело тошнит. Тут нужно лихо вскочить в седло, распустить непудреные волосы, сказать: «Ребята, за мной!», а не сгибаться в три погибели от внезапно нахлынувшей дурноты. Григорий Орлов нервничал: беременность Екатерины спутала ему карты. Он рассчитывал на приятную должность фаворита всевластной императрицы, а не на опальное положение любовника постылой императорской жены.
– И все-таки эти русские – дураки! – сообщил Петр Федорович супруге. – Иван Шувалов представил меня дворцовой страже. Он сказал гвардейцам, что я – их император. Кретин! Будто бы кроме меня – внука Петра Великого, могут быть другие наследники!
Екатерина промолчала: она не собиралась открывать глаза своему наивному голштинскому мужу. «Другой наследницей» должна была быть она, и только она! Ах, если бы не внезапная беременность! Она представилась бы гвардии сама, не дожидаясь любезности Ивана Шувалова.
А там – в седло, а потом и в Первопрестольную – короноваться!
Впрочем, дела шли не так уж плохо: великая княгиня стала императрицей, правда, пока при муже. Но этот туповатый, ограниченный голштинец – не помеха, только бы разрешиться от бремени, и тогда Екатерина покажет себя! Главное, чтобы никто не вспомнил о цесаревиче Павле Петровиче или о таинственной дочери Елизаветы и Разумовского. Да и права томившегося в крепости императора Иоанна Антоновича, некогда свергнутого Елизаветой, казались гвардии миражом, химерой. Об Иванушке позабыли все, кроме Екатерины. Настанет время, и она избавится от этой тени за императорским троном… А пока оставалось только ждать. «Если только вы не устанете ждать…», – сказал ей когда-то граф Сен-Жермен. Нет, она не устанет… Что может быть слаще ожидания славы?
Глава 3 Вещий сон
28 июня 1762 года настал час великой княгини Екатерины. Подошло к концу почти двадцатилетнее ожидание собственного величия. Все было подготовлено для заговора: ни о чем не подозревавший Петр III покинул Петербург ради аллей и фонтанов Петергофа, пока его предусмотрительная супруга собирала в столице войска. На сторону императрицы перешли три пехотных гвардейских полка, конногвардейцы, полк гусар и два полка инфантерии. Командование Екатерина передала графу Кириллу Разумовскому, который перенес на императрицу то безоглядное обожание, которое некогда испытывал к великой княгине. Григорий Орлов и княгиня Дашкова всюду сопровождали Екатерину, но за кулисами переворота стоял граф Сен-Жермен.
В ночь на 28 июня Екатерине приснился странный сон. Они с княгиней Дашковой стояли на ярко освещенной сцене придворного театра. Впрочем, нет, этот театр мало походил на санкт-петербургский. Ничего пышного, аляповатого, чрезмерного – ни позолоты, от которой рябит в глазах, ни обожаемых Елизаветой зеркал, в капризной глади которых еще совсем недавно тонула тощая штеттинская девчонка. До боли знакомая обстановка, строгие, классические линии…
Где же она видела все это раньше? Конечно же это была гамбургская опера, в которую еще ребенком водила Фике бабушка. Юная Ангальт-Цербстская герцогиня сидела с бабушкой в ложе, а на сцене актриса в голубом бархатном платье, расшитом золотом, утирала подведенные глаза кружевным платочком, а потом, картинно заламывая руки, пела о любви и ненависти. Впрочем, все было лживым – и слезы, и платок у равнодушных глаз! Женщина в голубом бархате переигрывала, и предводительнице штеттинских сорванцов совершенно не хотелось на нее смотреть. Тогда Фике еле дождалась конца длиннейшего оперного представления, и вот теперь, через много лет, Фике снова приснилась гамбургская опера. Только вместо певицы в голубом бархате на сцене стояла она сама – в гвардейском мундире и с саблей в руках.
В ложе сидела тетушка Эльза и, опираясь на руку стоявшего рядом с ней голштинского племянника, не сводила глаз с двух Екатерин – Фике и княгини Дашковой. Елизавета улыбалась, но улыбка эта была наполнена скорбью, как чаша – вином.
«Мое время ушло, – говорили ее бесконечно усталые глаза, – а твое наступило…» Лицо Петра Федоровича было неподвижным, неестественно бледным, как застывшая посмертная маска. Екатерина отвела глаза от императорской ложи – невыносимо смотреть на тех, кто должен уйти, чтобы уступить тебе дорогу.
«Это будет наша общая слава!», – сказала на ухо Екатерине ее тезка, княгиня Дашкова. Фике благосклонно улыбнулась в ответ, хотя знала наверняка – славу в отличие от счастья невозможно разделить на двоих.
«Пора начинать, Като!», – сказала княгиня Дашкова, и Екатерина сделала шаг к краю сцены. В партере сидели придворные тетки Эльзы, все эти русские дворяне, которых великая княгиня очаровывала двадцать лет и вот, наконец-то, очаровала. Фике сладко улыбнулась переполненному зрительному залу, а потом бросила быстрый взгляд за кулисы, где терпеливо дожидался единственный человек, которому она была и будет обязана. Князь Ракоци, граф Сен-Жермен или как там его?!
«Виват, матушка-императрица!», – закричали стоявшие на галерке гвардейцы, эти великаны в зеленых мундирах, которые полюбили ее, как когда-то любили Елизавету. Они кричали «Ура!», они рукоплескали ей, хотя Екатерина еще не сказала ни слова из затверженной наизусть роли. Услыхав эти крики, тетушка Эльза поднялась и вышла из ложи в сопровождении Петра Федоровича.
Екатерина проснулась в холодном поту… Теперь императрица-заговорщица знала наверняка – к власти ее приведет гвардия. Граф Сен-Жермен обещал Екатерине сразу три короны, но русскую она непременно получит…
Глава 4 Восшествие на престол
Еще одно послание от Сен-Жермена Екатерина получила утром 28 июня, перед выступлением на Петергоф, где несчастный император Петр III укрылся от своей жены и от подданных. Его передал все тот же Григорий Орлов – небрежно, как бы между прочим. Заглянул в дальнее крыло еще не отделанного Растрелли Зимнего дворца, чтобы поторопить Екатерину.
Императрица жила во дворце словно в ссылке, – Петр III отвел ей самые отдаленные и неудобные покои, чтобы порадовать фаворитку, Лизаньку Воронцову, мечтавшую поселиться рядом с императором. Надежды Лизаньки оправдались, а Екатерина была отправлена в дворцовое изгнание. Впрочем, терпеть оставалось недолго. Фике знала наверняка – ее час настал!
– Откуда у тебя это, Гриша? – немея от посетившей ее холодное немецкое сердце радости спросила Фике.
– Итальяшка принес… – рассеянно ответил Орлов. – Просил тебе передать. Должок за мной карточный – записочками этими его графу Сен-Жермену и отдаю. Недосуг сейчас, Катя, выступать пора. Гвардия ждет.
Но вместо того, чтобы выйти к гвардии, Екатерина нетерпеливо распечатала письмо.
– Поди, Гриша, – сказала она Орлову. – Изволь за дверью подождать. Пока послание графа не прочитаю, на Петергоф не выступим. Совет он мне, верно, хочет дать или наставление последнее.
Капитан недовольно пожал плечами и вместо того, чтобы выйти из комнаты, встал за спиной Екатерины.
– Любопытно мне знать, Катя, что тебе итальянец этот пишет… – обронил он, обнимая сладкие, нежные плечи Фике. – Может статься, записки амурные!
Екатерина сбросила с плеч жесткие ладони Орлова: глубины политики в отличие от тайн сердца она не собиралась делить ни с кем, да и сердце ее устало от посягательств. Холодность – прекрасная вещь, особенно если вовремя прибегнуть к ее защите.
– Поди, Гриша, – сурово повторила она, – не место тебе здесь! После переговорим.
Орлов из комнаты не вышел, но и в послание Сен-Жермена заглядывать не стал. Небрежно развалился на стуле, стал разбирать предназначенные для императрицы пакеты, зашелестел бумагами.
«Играет в императора, – подумала Екатерина, – что ж, пусть потешится! Я сумею защитить свои права. После…» Граф Сен-Жермен опять был на редкость лаконичен.
«Все (или почти все) вы делаете верно, – писал он, – Пришло время указать Вам мужчину, вместе с которым вы отвоюете для России Греческое море. Вы его узнаете по темляку[3]. Ваш граф Сен-Жермен».
«Бог мой, да разве граф не указал мне его? – записка Сен-Жермена в мановение ока разрушила хваленое спокойствие Екатерины. – Разве не советовал во всем доверять Григорию Орлову? И о каком темляке он пишет? Снова тайна – и когда, зачем? Нынче не время разгадывать загадки – пора действовать…»
«Пора выступать, Катя!», – напомнил императрице Орлов, но, к удивлению красавца капитана, Екатерина взглянула на него так, словно он был камнем, внезапно упавшим ей под ноги. Недовольно передернула плечами, встала, вместе с Орловым прошла через покои великого князя Павла Петровича и императора Петра Федоровича. Скорей на Дворцовую площадь, к войскам! Волосы небрежно брошены на плечи, располневшее за последние годы тело затянуто в гвардейский мундир, на плече Андреевская лента… Такой, верно, была Елизавета, когда решилась на переворот.
Гвардейцы встретили ее восторженными криками. Навстречу шагнула княгиня Дашкова, тоже в гвардейском мундире. «Эта Екатерина Малая метит на мое место, – поморщилась Екатерина Великая, – в свое время я напомню ей и об этом… Когда буду в силе и власти!».
«Матушка Екатерина Алексеевна, в вашей амуниции не хватает одного пустячка…» – тихо сказал императрице гвардейский офицер Хитрово.
– Какого же? – рассеянно переспросила Екатерина. Ей оставалось только вскочить в седло, а там – вперед на Петергоф!
– На вашей сабле нет темляка… – продолжил Хитрово.
– Темляка? – эхом прозвучал вопрос императрицы.
В это мгновение с лошадью Екатерины поравнялась лошадь молодого гвардейца. Тот, склонив голову, протянул ей свой темляк. Потом отсалютовал шпагой и хотел было вернуться в строй, но императрица остановила его.
– Как ваше имя, сударь? – спросила она.
– Григорий Потемкин, Ваше Императорское Величество! – ответил даритель.
Гвардеец был статен и красив, но Екатерину смутила не его красота, а магнетический, пропитанный силой и тайной взгляд. Так смотрел на нее лишь один человек – друг и наставник, беседовавший с герцогиней Фике в Штеттинском соборе и потом в Риге, на пути в Россию. Лишь один человек в мире был так уверен в своей правоте и силе, что не опускал глаза перед Екатериной, когда на ее лице замирала холодная, властная улыбка. Когда-то она разучивала улыбки, как фигуры танца, но разучила лишь одну – улыбку властительницы. И вот теперь этот молодой офицер, назвавшийся Григорием Потемкиным, смотрел на Екатерину так, как будто удостоился высшего права – не отягченной страхом свободы.
Екатерина тоже улыбнулась ему – неловко, неумело, не так, как улыбалась обычно. Еле заметная теплота скользнула по ее строгим губам.
– Я запомню вас, господин Потемкин! – пообещала она и надела на запястье подаренный офицером темляк. А потом жестом властительницы взметнула над головой блеснувший на июньском солнце клинок…
Глава 5 Камер-юнкер Григорий Потемкин
Екатерина привыкла во всем верить графу Сен-Жермену, но его последнее предсказание казалось ей совершенным курьезом. Новоиспеченная властительница была уверена, что отвоюет Греческое море вместе с Григорием Орловым или, на худой конец, с его братом Алеханом, который больше, чем Гриша, интересовался морями и стратегическими интересами России. Однако в своей последней записке Сен-Жермен указывал на незаметного гвардейца, которого Екатерина, впрочем, решила наградить – пожаловала поместьем, а затем присовокупила к этому щедрому подарку 6 000 рублей.
Григорий Потемкин стал подпоручиком, а потом и камер-юнкером, а в придачу обзавелся скверной привычкой все время попадаться на глаза императрице. Он караулил Екатерину в бесчисленных коридорах Зимнего дворца и с редкой настойчивостью объяснялся ей в любви. Ученице графа Сен-Жермена казалось, что гвардейский подпоручик не повторяет одно и то же, а всего лишь продолжает прерванную беседу, на которую, бесспорно, имеет право.
Страсть Потемкина к императрице началась в то самое мгновение, когда Фике надела на запястье его темляк и взметнула над головой саблю. Длинные непудреные волосы небрежно брошены на плечи, в глазах – блеск славы и победы! Такими, верно, были амазонки, девы-воительницы, о которых некогда рассказывал Григорию отец Иннокентий.
Подпоручик Потемкин не искал в Екатерине нежности или мягкости, и ее твердый, как сталь, взгляд не ранил его душу. Он видел в императрице подругу под стать своим помыслам, ту, с которой можно скакать рядом по торным дорогам жизни, чтобы однажды, в силе и славе, войти в Константинополь. Та любовь, которой тешат себя не отягченные дерзновенными замыслами люди, казалась Григорию пустячком, капризом, изящной фарфоровой безделушкой, бесполезной и сомнительной роскошью.
Григорий был уверен, что новая российская государыня – та самая София, о которой ему рассказывал граф Монфера. София-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская – подлинное имя императрицы ни для кого не составляло тайны. Наконец-то он нашел ее! Оставалось только рассказать о своей страсти, поделиться дерзкими прожектами. Потемкина нимало не смущало напускное равнодушие императрицы – он был уверен, что рано или поздно будет услышан. Его голос раскачает ее сердце, как веревка – огромный, неповоротливый колокол, и звук получится властный, громкий – на века!
– Откуда вы знаете графа Сен-Жермена? – спросила однажды императрица, которая выслушивала бесконечные признания назойливого офицера лишь потому, что на него указал граф.
– Этот человек называл себя разными именами, – ответил Потемкин. – Сен-Жермен, Монфера, Ракоци… Один Бог знает, сколько у него имен!
– И какое же из них по вкусу вам, подпоручик? – улыбка скользнула по губам Екатерины, но ее голубые немецкие глаза смотрели холодно и напряженно.
– Граф Монфера, Ваше Императорское Величество! Беседуя со мной, он называл себя так. Он учил меня греческому.
Потемкин вспомнил былые времена, учебу в Московском университете и странного человека, который предсказал ему мирскую славу. Обещанная спутница, София-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская стояла сейчас перед Григорием и досадовала, что скромный гвардейский подпоручик вздумал безнаказанно объясняться ей в любви.
– Неужели вам знаком язык Гомера? – по невозмутимому лицу Екатерины скользнуло удивление, словно ветер – по зеркальной озерной глади.
– Я знаю не только эллинский, но и язык, на котором говорят наши братья-греки, томящиеся под властью турок! – отчеканил подпоручик, и Екатерине показалось, что перед ней античный герой, новоявленный Ахиллес, забавы ради надевший гвардейский мундир.
Крепок был юнец – и душой, и телом – не чета ее слабовольному Гришке Орлову. Да и старший из Орловых, Алехан, из-за огромного шрама, уродовавшего лицо, прозванный Balafré, уступал этому гвардейскому Ахиллесу с лучшей во всей империи шевелюрой. Екатерина со вздохом отметила, что шелковистые кудри Потемкина красивее ее собственных волос.
– Я слыхала, вас зовут Григорием? – кокетливая нота, внезапно прозвучавшая в голосе Екатерины, ободрила гвардейского ценителя античных древностей, и он упал на колени перед императрицей.
Фике недовольно отстранилась – еще немного, и он станет целовать край ее платья, как делали все эти влюбленные дурачки – Захар Чернышев, Кирилл Разумовский. Чего доброго, увидят Орловы – и по-свойски расправятся с гвардейским наглецом!
– Извольте встать, господин камер-юнкер! – Екатерина уже потеряла интерес к этому бесполезному разговору.
Как мог граф Сен-Жермен указать ей на дерзкого мальчишку, да еще десятью годами ее младше?! О возрасте подпоручика Потемкина императрица успела справиться в полковых списках.
Потемкин поднялся с колен, но глаза его смотрели все так же дерзко. Этот молодой человек, казалось, совершенно не умел смущаться.
– При крещении меня нарекли Григорием, – рассказал он. – Отец звал меня Грицем, а в полку дали иное имя – Алкивиад. Его светлость граф Григорий Орлов уверен, что я – самый забавный малый во всей гвардии.
– Его светлость недооценивает вас, – отпарировала Екатерина, – вы еще и первый наглец среди моих офицеров! Вы красивы, как Алкивиад, и, верно, так же дерзки и легкомысленны. Но я не уподоблюсь легковерным афинянкам и не стану слушать вас. Извольте больше не попадаться мне на глаза!
– Одно слово, государыня! – Потемкин перешел от любовных признаний к своим давним, тайным мыслям. – У Российской империи много врагов, но самый могущественный из них – Оттоманская Порта. Черное море, которое в былые времена именовали Греческим, пребывает ныне под властью султана. Турки говорят, что оно подобно непорочной деве, которую гяуры не должны осквернить своим прикосновением. Однако же Россия нуждается в Греческом море! Я хочу предложить вашему августейшему вниманию один прожект…
– Империи Российской ныне не до прожектов, – холодно ответила Екатерина, но сердце ее томительно забилось в груди. Греческое море! Стало быть, Сен-Жермен не зря указал ей на этого юнца. – Я выслушаю вас. После. Когда иные дела не будут докучать мне. Извольте подождать…
– Я выслушаю его, – мысленно продолжила Екатерина, – когда укреплюсь на троне и избавлюсь от постылой опеки всех этих Орловых и Паниных! – Вслух же она больше не произнесла ни слова и оставила нетерпеливого юношу наедине с его тревогами и надеждами. Ждать Григорию Потемкину предстояло одиннадцать лет…
Глава 6 Кто такой граф Сен-Жермен?
Мистический ужас – это роскошь, которую нельзя растянуть на всю жизнь. Маленькая Фике восхищалась Сен-Жерменом, великая княгиня Екатерина Алексеевна боготворила и боялась графа, императрица испытывала перед этим таинственным человеком мистический ужас, смешанный с недоверием. После того как на глаза государыне слишком часто стал попадаться гвардейский подпоручик Потемкин, недоверие перевесило. Бесспорно, братья Орловы забрали слишком много власти и стали бы только помехой для дальнейших планов императрицы. Но разве могла проницательная правительница решиться покорять Оттоманскую Порту в компании молоденького подпоручика?! Разве этот дерзкий мальчишка годится на то, чтобы отвоевать для России Греческое море? Фике была уверена – он для этого слишком молод.
Стало быть, Сен-Жермен ошибался. Но как мог ошибаться тот, кого мечтательная дочь Ангальт-Цербстского герцога считала своим ангелом-хранителем, а великая княгиня Екатерина Алексеевна – великим посвященным? Ошибаются люди, но Екатерина все еще надеялась на то, что Сен-Жермен – по меньшей мере полубог.
И вот дождливым осенним днем, тусклым и серым, как допросные листы, которые сильные мира сего любят перелистывать на досуге, Екатерина вызвала к себе незаметного человечка, наводившего ужас на весь Петербург. Это был обер-секретарь Тайной экспедиции и главный сыщик империи Степан Иванович Шешковский. Этот кнутобой иногда умел быть приятным собеседником…
– Милейший Степан Иванович, – начала Екатерина, – у меня к вам, как бы это сказать… – Императрица замешкалась на мгновение, а потом решительно продолжила: – Некое деликатное дельце. Само собой, не для огласки.
Шешковский молча поклонился и напряг слух. Он имел право внеурочного доступа к императрице и не в первый раз срочно и тайно прибывал во дворец по безотлагательным и деликатным делам.
– Все будет исполнено наилучшим образом и без огласки, – медовым голосом ответил сыщик. – Мои люди умеют держать язык за зубами… Пока он у них есть.
Степан Иванович чуть скривил губы в подобии улыбки. Он был очень доволен своей шуткой, но Екатерина, напротив, недовольно поморщилась. Отрезать язык в ее просвещенное правление?! Это могло быть только при самодурке тетушке – Елизавете Петровне. Впрочем, она позвала Шешковского не для душеспасительной беседы.
– Я хочу знать, – заявила Екатерина, – кто такой граф Сен-Жермен!
– Ваше Величество, – переспросил сыщик, – какие будут вопросные пункты в нашем сыскном деле?
– Их пока не будет, – отрезала императрица. – Граф Сен-Жермен – иноземный подданный. Но я хочу, нет, я должна знать, кто он такой! Авантюрист, или…
– Или, Ваше Императорское Величество? – переспросил Шешковский.
– Или великий маг… – договорила Екатерина. – Я жду от вас подробного и достоверного – слышите, достоверного! – рассказа.
Шешковский согласно кивнул головой и вышел из кабинета государыни. В великих магов он не верил, а авантюристов на своем веку перевидал и переломал на дыбе достаточно. Спустя некоторое время императрице был предоставлен следующий документ.
Секретно
«17**-го года сентября 16 дня мною, обер-секретарем секретной комиссии, относительно особы, именующей себя графом Сен-Жерменом, графом Монфера, князем Ракоци и господином Салтыковым, удалось выяснить:
Сен-Жермен (Saint-Germain) по происхождению, вероятно, граф. Точное время его рождения установить не удалось.
Место рождения установить не удалось. Иногда он именует себя Аймаром или маркизом де Бетмер.
Точные обстоятельства его жизни, а главное – источники его чрезвычайного богатства – остаются неизвестными.
Впервые о нем стало известно в 40-х годах нынешнего столетия. Появляясь в Италии, Голландии и Франции, граф распространял слухи, что владеет философским камнем, искусством изготовлять бриллианты и эликсиром бессмертия. Кроме прочего, граф утверждает, что прожил много веков и помнит первое время христианской эры. Оставив Францию, граф отправился в Англию, затем в Германию, Пруссию и Оттоманскую Порту. В эти годы несколько раз был замечен в России. Как показывают отдельные личности, принимал участие в событиях июня 1762 г. в Петербурге. Является близким другом или приятелем братьев Орловых.
Ныне где обретается, – того я точно не знаю».
– Я просила сведения, а не отписки! – негодовала Екатерина, прочитав содержимое отчета. – Где же ваше пресловутое всеведение, милейший Степан Иванович?! Или осталась одна лишь суровость? Меня интересует все, что известно о графе. Друг мой, не мне вас учить! Применяйте свой «эликсир правды» – кнут, или используйте деньги! Щедро награждайте тайных лазутчиков. Слухи и сплетни стоят денег. А правда – стоит немалых средств…
Плодом еще нескольких месяцев сыскной работы стал следующий документ.
Секретно
«Его рождение и личность окутаны тайной.
Мне удалось собрать ряд упоминаний о нем и его поступках. Сведения об этом таинственном человеке получены из газет и приватной переписки ряда европейских особ.
Просвещенный господин Вольтер в письме к Фридриху II назвал Сен-Жермена «человеком, который живет вечно и знает все».
В письмах мадам де Помпадур, принца Карла Гессенского и мадам д'Адемар Сен-Жермен упоминается как l'homme extraordinaire[4].
Господина Сен-Жермена описывают как человека весьма хрупкого, но пропорционального телосложения. У него – высокий рост, приятные черты лица и гипнотический взгляд. На пальцах рук, а также на пряжках туфель, он носит бриллианты.
Мною получена запись его беседы с графиней де Жержи.
«Будьте добры, скажите, – спросила графиня, – был ли ваш отец в Венеции около 1710 года?»
«Нет, мадам, – ответил граф, – я потерял отца за много лет до этого. Однако я жил в Венеции в конце прошлого и в начале нынешнего столетия и имел честь ухаживать за вами».
«Простите, но это невозможно, – ответила графиня. – Графу де Сен-Жермену, которого я действительно знала в те дни, было по меньшей мере сорок пять лет, а вам, насколько я могу судить по вашей внешности, столько же сейчас. Вы не могли так хорошо сохраниться!».
«Мадам, – ответил, улыбаясь, граф, – я очень стар… Но годы не властны надо мной!».
«Но тогда вам должно быть около ста лет или более!»
«В этом нет ничего невозможного… Я прожил не одно столетие…» – сказал в ответ Сен-Жермен.
Его называют удивительным человек без возраста. Некоторые при этом добавляют, что Сен-Жермен и есть библейский «Вечный Жид», обреченный вечно скитаться по земле за то, что не подал воды Христу, когда Спаситель шел на Голгофу.
Сен-Жермен вызывает восхищение многих – как великий философ, дипломат, ученый, целитель, художник и музыкант. К тому же он еще и тонкий политик. Некоторые считают его величайшим гипнотизером.
Историю Сен-Жермен знает настолько хорошо, что возникает впечатление, словно он сам принимал участие в событиях, о которых рассказывал.
Мадам де Помпадур вспоминала, что «иногда он рассказывал анекдоты о дворе Валуа или о правителях еще более далекого прошлого, с такой точностью и скрупулезностью соблюдая детали, что возникала иллюзия, будто он видел собственными глазами то, о чем повествовал».
«Он путешествовал по всему миру, – писала мадам де Помпадур, – и король благосклонно слушал повествования о странствиях по Азии и Африке и рассказы о дворах России, Турции и Австрии».
«Ученые и знатоки восточных языков подтвердили познания графа де Сен-Жермена, – писала некая графиня, одна из приближенных ко двору Людовика XV, – первые находили его более искушенным в языках Гомера и Вергилия, чем они сами. Со вторыми он говорил на санскрите, китайском, арабском так, что они думали, будто он прожил долгие годы в Азии».
Он был в Индии с генералом Клайвом[5] в 1755 году, где якобы научился выплавлять драгоценные камни. При дворе персидского шаха, где он якобы находился с 1737 по 1742 год, граф де Сен-Жермен проявил редкое умение в совершенствовании драгоценных камней, особенно алмазов.
Граф совершил путешествие и в Японию, как он о том сообщил мадам д'Адемар.
Принц Карл Гессенский писал: «Он досконально разбирался в травах и растениях и изобретал лекарства, которые постоянно применял и которые продлевали его жизнь и улучшали здоровье».
Сен-Жермен дал мадам де Жержи эликсир, благодаря которому она, по свидетельствам современников, в течение долгих лет выглядела двадцатипятилетней и полной красоты. Мадам де Жержи жила столь долго, что ее прозвали «старая, вечная графиня».
Граф де Сен-Жермен никогда не подтверждает и не отрицает того, что о нем говорили или говорят. На все сплетни и слухи о его персоне он отвечает с улыбкой или с обдуманной уклончивостью. Познания графа в алхимии получили высокую оценку Его Христианнейшего Величества, короля Франции Людовика XV. Король обеспечил его лабораторией и поселил в своем дворце на Луаре – Шамборе.
Мадам дю Оссе, которая была femme de chambre[6] мадам де Помпадур, описывает со всеми подробностями чудеса, совершенные графом Сен-Жерменом. Так, мадам дю Оссе поведала о том, как в 1757 году «король приказал принести второсортный бриллиант, который имел дефект. После того как бриллиант был взвешен, Его Величество сказал графу: «Стоимость этого бриллианта, такового как он есть сейчас, – с дефектом, составляет шесть тысяч ливров, а без пятна она составит десять тысяч. Не соблаговолите ли, дорогой граф, предпринять что-нибудь, чтобы я мог извлечь выгоду в четыре тысячи ливров?»
Граф Сен-Жермен осмотрел камень очень внимательно и сказал: «Это возможно, Ваше Величество. Я могу помочь вам извлечь немалую выгоду и принесу этот камень вам через месяц».
«В назначенное время граф Сен-Жермен принес камень (но уже без пятна!) и отдал королю. Камень был завернут в льняное полотно. Король немедленно взвесил камень и нашел его весьма незначительно уменьшившимся в весе.
Затем Его Величество отослал бриллиант своему ювелиру, не сказав ни слова о Сен-Жермене.
Ювелир сообщил, что готов выплатить за камень девять тысяч шестьсот ливров. Король, однако, попросил ювелира вернуть ему бриллиант, чтобы сохранить этот камень как небывалую диковину».
Граф Карл Кобенцль писал, что Сен-Жермен совершил на его глазах «трансмутацию железа в металл прекрасный, как золото, по меньшей мере подходящий для любой работы золотых дел мастера».
Маркиз де Вальбель также описывал якобы увиденное им чудо. На его глазах граф Сен-Жермен превратил шестифранковую монету в десятифранковую.
«Похоже, этот загадочный граф более осведомлен о тайнах каждого двора, чем поверенные в делах Его Величества короля!», – удивлялась мадам де Помпадур. Господин Вольтер отмечал, что Сен-Жермен знал тайны премьер-министров Англии, Франции и Австрии.
Принц Карл Гессенский описал графа Сен-Жермена как «друга гуманности, желавшего денег только для того, чтобы раздавать их беднякам; другом всего живого, сердце которого полно заботы о счастье других».
Маркиз де Вальбель утверждает, что граф называл себя Вознесенным Владыкой, который является время от времени в мир в человеческой плоти.
Граф часто меняет имена. Как то – граф Сен-Жермен, господин Аймар, маркиз де Бетмер, монсеньер Монфера и князь Ракоци.
В то же время имеется суждение, что он и есть исчезнувший сын принца Ференца Ракоци II, свергнутого венгерского правителя и бывшего властителя Трансильвании. Тот был в дружеских отношениях с российским императором Петром Великим и посещал русского государя в польском городке Яворов, в замке, принадлежавшем некогда королю Яну Собесскому. В этом замке Ракоци-старший беседовал не только с государем Петром Алексеевичем, но с его нареченной невестой Екатериной Алексеевной, будущей императрицей всероссийской Екатериной I. Ракоци-старший имел беседы также с вице-канцлером государя Петра Алексеевича бароном Шафировым и с молдавским господарем князем Дмитрием Кантемиром. Государь Петр Алексеевич предложил Ракоци-старшему занять трон Речи Посполитой, но трансильванский князь отказался, заявив, что хочет управлять лишь свободной от австрийцев Венгрией.
Сен-Жермен, якобы выполняя последнюю волю своего отца, князя Ракоци, поставил своею задачей всеми силами способствовать осуществлению в жизнь «Завещания Петра Великого», содержащего «ПЛАН ПОКОРЕНИЯ ЕВРОПЫ И ВСЕГО МИРА».
Постоянно с собой имеет две книги: «О расширении рода славянского» Мавро Орбини и «Опыт исторического доказательства о происхождении Россиян от Араратцев как от первого народа после Всемирного потопа» Иоганна Генриха Дрюмеля».
– И все-таки он человек, этот граф Сен-Жермен… – заключила Екатерина, внимательно изучив донесение Шешковского. – Только на редкость долго зажился на свете… И потому мудрее тех, кто едва протянет столетие. Сен-Жермен еще пригодится Российской империи. И мне…
Глава 7 Как Алкивиад стал Циклопом
Григорий Потемкин сжег свою душу на огне любви к первой встреченной им Софии – государыне Екатерине. Первую Софию – бывшую принцессу Ангальт-Цербстскую – Потемкин узнал по темляку, который она попросила у него когда-то, чтобы взметнуть над головой блестевшую на июньском солнце саблю… Он страстно и горячо полюбил Екатерину – с самого дня июньского государственного переворота. Однако государыня долго считала его всего лишь дерзким юнцом, одним из своих бесчисленных поклонников, этих влюбленных в нее (или в ее власть и славу?) дурачков.
После июньского переворота 1762 года, благодаря которому София-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская стала русской императрицей, Григорий Потемкин начал свое восхождение по лестнице славы, ненадолго прерванное слепотой. Алкивиад лишился глаза по вине незадачливого лекаря, наложившего на лицо молодого камер-юнкера слишком тугую повязку. Повязку наложили после того, как в пьяной ссоре в бильярдной Григорий Орлов случайно, а может быть, намеренно, угодил Потемкину в глаз бильярдным кием. С тех пор красавца Алкивиада называли Циклопом – он смотрел на мир Божий только одним глазом, другой, изуродованный, плотно закрывала повязка. «Пиратская…» – как изволила выразиться государыня Екатерина.
Это внезапное уродство пренеприятнейшим образом повлияло на характер первого придворного остроумца, который осмеливался дерзить самой государыне. Потемкин оставил службу, отпустил бороду и стал готовиться к пострижению в монахи. Проходили недели и месяцы, в течение которых Екатерина тщетно пыталась вернуть Алкивиада ко двору. Но Алкивиад, превратившийся в Циклопа, никого не хотел видеть. Прежде всего он рассчитывал быть забытым женщиной, которую продолжал любить.
Потемкин не принимал посетителей, а от государыни Екатерины, решившей однажды его навестить, попросту сбежал. И лишь одному человеку он не смог отказать. На второй год затворничества Григорий согласился принять внезапно приехавшего в Петербург таинственного человека, который умел читать чужие сердца, словно запечатанные письма.
Монфера, Ракоци или Сен-Жермен появился в унылом и запущенном жилище Циклопа в тусклый осенний день, не предвещавший приятных новостей. Григорий пребывал в глубоком унынии – в монастырь идти не решался, ко двору возвращаться не хотел, читал святоотеческую литературу, которая одна спасала его отчаяния. Жития святых монахов-отшельников, выбравших для молитвенного подвига Пустыню Египетскую, врачевали душу двадцатичетырехлетнего камер-юнкера, израненную пребыванием при дворе и преклонением перед женщиной, отвергшей его искания.
Собственная душа давно уже казалась Григорию письмом, которое он медленно жег на огне свечи, и свеча эта была любовью к Екатерине. Только мечта о Греческом море мешала душе-письму обратиться в пепел, когда свеча-любовь разгоралась слишком сильно. Неожиданное уродство указало Потемкину на тщетность его исканий и несбыточность надежд. Свое увечье он счел наказанием за гордыню и теперь рассчитывал отмолить вину в лоне Православной церкви. Но на последний шаг так и не решился и на постриг не пошел. В эти решающие минуты, которые так и не привели Потемкина к окончательному решению, в келье мирянина-монаха появился гость.
– Монфера, Ракоци или Сен-Жермен… Зачем вы здесь? – спросил Алкивиад, превратившийся в Циклопа.
– Хочу помочь тебе, Григорий, – ответил тот, – уйти от мира можно всегда. Но стоит ли делать это на полдороге к великими свершениям? Чудесная судьба ожидает тебя: ты вернешь России Греческое море! Как рано ты забыл мои предсказания и нашу встречу в Москве!
– Я не забыл, – вздыхая, ответил Григорий, – я пытался добиться любви Софии Ангальт-Цербстской, государыни нашей Екатерины. Но разве она сможет полюбить Циклопа?
– Откуда тебе знать, – строго спросил Сен-Жермен, – кого полюбит женщина, сердце которой столько раз попирали? Я долго думал над этим вопросом. Если в античной мифологии упомянуты сыновья циклопов, значит, прекрасные нимфы отнюдь не пренебрегали ими!
– Не издевайтесь над бедным калекой, граф! – едва не плача, сказал Григорий, которому в эту минуту стало до слез жалко себя.
– Твое увечье не имеет никакого значения! – заверил его граф. – Екатерина отказала тебе по ошибке. Она неправильно истолковала одну мою записку. Я писал великой княгине о человеке, с помощью которого она отвоюет для России Греческое море. Но Екатерина приняла за этого человека Алексея Орлова! Государыня попросту не поверила, что никому не известный юноша, гвардейский поручик, сможет помочь ей в таком важном деле. Не забывай, ты на десять лет моложе Екатерины, а женщины крайне щепетильны в отношении возраста – своего и чужого…
– Что же заставит ее изменить свое мнение? Бельмо на моем глазу? – горько усмехнулся Потемкин.
– Страх потери… – невозмутимо продолжил Сен-Жермен. – Екатерина могла отказывать тебе, но она не захочет тебя потерять. Не стоит останавливаться перед первым препятствием – на твоем веку будет довольно несчастий. Но будет и другое – слава, военные победы, завоевание Греческого моря. Ты завоюешь и государыню Екатерину, но потом откажешься от этого завоевания, потому что другая София войдет в твою душу, как в предназначенный ей храм.
– Не может быть! – не поверил Григорий. – Разве можно добиться благосклонности у судьбы после того, как она отказала тебе в этом?
– И да и нет, – ответил Сен-Жермен. – Если человек попытается что-то изменить только для себя или из корысти – он окажется в худшем положении, чем был. Если же смельчак, подобный тебе, попытается переломить судьбу для благого дела, он добьется желаемого. Но то, что написано в книге судьбы, его рано или поздно настигнет. В книге твоей судьбы много славных дел, и одна строка сияет ярче других – ты должен помочь поверженной Византии и отвоевать у Оттоманской Порты Греческое море. Ты можешь забыть о предначертанном свыше пути, но рано или поздно на него вернешься. Только идти будет тяжелее. Вдвойне.
– И ты утверждаешь, что военные победы и любовь Екатерины – все это ожидает меня впереди? – недоверчиво улыбаясь, спросил Потемкин у Ракоци.
– Непременно, – спокойно и торжественно ответил тот. – А еще – кровь – твоя и вверенных тебе солдат, страдания, лишения и внезапная смерть в завоеванной степи. Ты не сможешь навсегда спрятаться в этом чулане. Иди и исполни предначертанное свыше! Всевышний наделил тебя особым даром и особой судьбой. От даров Господних не отрекаются из упрямства и страха. Иди и ничего не бойся! Императрица полюбит тебя и таким.
– Если ты говоришь правду, – медленно словно в наитии проговорил Григорий, – то сию же минуту к моему дому подъедет карета и из нее выйдет…
– Екатерина Малая, – губы Сен-Жермена дернулись в подобии улыбки. – Подойди же к окну!
Григорий неохотно заглянул в грязное окошко. Около его дома и вправду стояла карета, из кареты вышла женщина под вуалью. Это была княгиня Екатерина Романовна Дашкова, которая приехала сюда по просьбе императрицы.
– Весьма жаль, что человек cтоль редких достоинств пропадает для света, для Отечества и для тех, кто умеет его ценить и искренно к нему расположен, – после велеречивых приветствий обратилась гостья к Григорию.
Дашкова хотела сказать что-то еще, но, заметив Сен-Жермена, замолчала. Присутствие знаменитого итальянского авантюриста, тайно приехавшего в Петербург, вызвало у нее вполне понятное замешательство.
– Передайте государыне, – ответил Григорий, – что я хочу явиться в свете, но не для света, а для нее одной. Не иначе соглашусь на сие, как получив на то от собственной руки ее приказание.
– Приказание не замедлит явиться, – заверила Потемкина княгиня Дашкова. – Вы получите его очень скоро…
Заветное приказание Потемкин получил после того, как у императрицы побывал странный посетитель. Таинственный визитер спросил, получала ли государыня записку накануне переворота 28 июня 1762 года. Екатерина ответила утвердительно. Тогда гость спросил, какова судьба того человека, о котором он ей писал. Императрица ответила, что человек этот – Алексей Орлов – взыскан чинами и отличиями. Визитер сообщил государыне, что в своей записке он сообщал не об Алексее Орлове или его брате Григории, а о молодом человеке, которого императрица узнает по темляку. И, стало быть, именно этот человек поможет Екатерине Алексеевне отвоевать для России Греческое море…
Таинственный гость оставил Екатерину в смущении и растерянности, от которых она давно отвыкла. Бесспорно, государыне давно нравился остроумный и смелый Алкивиад, и даже его изувеченный глаз ничего не менял в этой приязни. Более того, императрица находила, что с пиратской повязкой на глазу Алкивиад (ах, пардон, теперь уже – Циклоп) стал как-то интереснее и взрослее. Екатерина никогда не забывала, что Потемкин на десять лет младше ее, но это неожиданное увечье несколько состарило красавца камер-юнкера и даже сблизило их. Григорий Орлов, намеревавшийся с помощью ловкого удара бильярдным кием в глаз соперника, убрать Потемкина с глаз Екатерины, понял, что неожиданно оказал своему врагу подлинную услугу. Государыня заинтересовалась Циклопом – так, как никогда не интересовалась красавцем Алкивиадом. Конечно, визит графа Сен-Жермена подстегнул и оформил ее неясные чувства по отношению к Потемкину. Но эти чувства давно зрели в душе государыни, только она привыкла не давать им выхода. Ну как же можно полюбить юнца, на десять лет младше ее! Рядом с этим мальчишкой она будет ощущать себя старухой! А вот Циклоп, состарившийся (или позврослевший?) из-за своего увечья, был ей как раз под стать! Да и потом, Циклоп как нельзя полезен ей – он поможет расширить завоевания Империи, он отвоюет для Екатерины Греческое море!
Екатерина давно уже не отделяла любовь от власти. Она разучилась (а может быть, и никогда не умела!) любить просто так. Она пылала страстью исключительно к тем мужчинам, которые могли быть полезны Империи и ей самой. Точнее, ей самой и Империи. А Потемкин сейчас был, как никогда, полезен! Григорий, правда, хотел, чтобы любили его самого, а не его полезность Империи и императрице, но Екатерина, увы, не умела любить по-другому… Так что влюбленного Циклопа вскоре ожидало тяжелое разочарование…
Вскоре после визита графа Сен-Жермена императрица еще раз отправила к Потемкину княгиню Дашкову, которой велела как особе ученой и сведущей в медицине лично проинспектировать изувеченный глаз Циклопа.
– Прескверно, что и говорить… – поджав губки, сочувственно пропела Екатерина Романовна. – Но это не беда, Григорий Александрович, мы на ваш глазик платочек набросим! Вот эдак… По-пиратски! Очень даже comme il faut будет!
И, сняв с собственной белой и нежной шейки кисейный шарфик, Екатерина Малая ловко соорудила из него живописную повязку.
Потемкин не сопротивлялся. Он был готов согласиться с тем, что его рана, о происхождении которой никто при дворе толком ничего не знал, даже окружала его персону ореолом интереса.
– Государыня приказала отвезти вас к себе, Григорий Александрович! – добавила Дашкова. – Извольте взять шпагу и надеть парик…
Этого долгожданного приказания Потемкин не смог ослушаться. Его судьба возвратилась в предначертанный ей круг. Случилось то, что должно было случиться, – Потемкин продолжил восхождение по лестницы славы. Мечта о Греческом море начала осуществляться…
Глава 8 Россия против Оттоманской Порты
На исходе 1768 года Оттоманская Порта вступила в войну с Россией. Отчасти война произошла по причине подстрекательства европейских держав. Европа стремилась унизить или по крайней мере ослабить Россию. Венценосные особы Европы не могли забыть обиду, нанесенную им новоиспеченной российской императрицей. После высочайшего коронования Екатерина приказала управляющему иностранным департаментом графу Никите Ивановичу Панину объявить всем иностранным министрам, находящимся при дворе, «что ежели, который из европейских Дворов не согласится в том, что титул императорский принадлежит монархии российской, то с тем Двором всякое сношение прерывается».
6 октября 1768 года турецкий великий визирь пригласил к себе русского посланника в Константинополе Алексея Михайловича Обрезкова и всех тех, кто служил в русском посольстве. С гяурами обошлись оскорбительно-грубо. Обрезкову зачитали ультиматум, в котором от русского военного командования требовалось немедленно вывести войска с территории, граничащей с Блистательной Портой, то есть с земель Речи Посполитой, и впредь не вмешиваться в польские дела.
– Я передам ультиматум императрице, – холодно ответил Обрезков.
– Мой султан, – не менее сухо произнес великий визирь, – хочет незамедлительно получить ответ.
– Вы же понимаете, что это невозможно, – удивленно возразил русский посол, – я не уполномочен по своему усмотрению подписывать подобные документы.
– Россия принять ультиматум наотрез отказалась, – словно не слушая посла, громко произнес великий визирь, а секретарь заскрипел калямом по бумаге.
В ночь после аудиенции русские дипломаты были заключены в Семибашенный замок.
* * *
– Слава, Аллаху, – докладывал великий визирь султану Мустафе III, – Петербург совершенно не готов к войне. Русские войска наполовину распущены и разоружены. Мы легко победим этих гяуров…
Сладкий и убаюкивающий голос великого визиря сливался с журчанием фонтанов. Мустафа полулежал на низком диванчике, под расшитым золотыми нитями балдахином. Словно в полусне, он слушал уверения визиря в том, что Россия слаба и ничтожна и свалить ее можно одним взмахом непобедимого оттоманского меча. В этот день небо над Истамбулом было нежно-голубым, как глаза гяурских наложниц, которых было немало в садах Топкапа, и таким же сладким и безмятежным. Султан взглянул на изречения из Корана, вышитые золотыми нитями на малиновых коврах его покоев, – окинул взглядом весь этот полусонный, исполненный неги мир, которому угрожали гяуры, сеявшие смуту в его владениях, и удостоил вниманием слова визиря.
– Мой господин, в кавалерии неверных ощущается серьезная нехватка лошадей, – продолжал свою речь великий визирь. – Хоть русская армия и многочисленна, но солдаты скверно обучены воинскому делу, а начальники – и того хуже. Снабжение продовольствием и снаряжением у гяуров – слава Аллаху – очень плохое. В русской армии слишком много воруют… И порох у них на редкость плох. Несколько победоносных сражений – и вся их империя склонится к ногам моего повелителя…
Визирь хитроумно умолчал о том, насколько мало знали в Высочайшей Порте о подлинном положении дел в войсках неприятеля. Расписывая перед султаном слабость московитов, он попросту рассказал ему о бедах и язвах армии османской – просто поменяв прилагательные. Воля Аллаха неведома простому смертному – особенно в отношении войны! Аллах милостив – быть может, удача улыбнется османскому оружию. А сейчас умиротворенно улыбается султан и, следовательно, крепнет его, визиря, положение при дворе.
Мустафа зевнул и подумал о том, как приятно будет въехать в покоренные гяурские твердыни на арабском скакуне – белом словно снег северных стран. Снега султан никогда не видел, но о его существовании знал по рассказам славянок из своего гарема.
– Мой господин, – продолжил великий визирь, которому удалось убаюкать султана, – ничтожная эскадра кораблей, которую гяуры хвастливо именуют флотом, кое-как вооружена и очень малочисленна. К тому же она находится в Северных морях. В русских войсках совершенно нет порядка!
Султан задумался.
– Во владениях российского орла живут наши единоверцы, – прервав свои грезы о русском снеге и белоснежном скакуне, спросил Мустафа, – как они поведут себя в случае войны с неверными?
– Мой господин, – уверенно ответил великий визирь, – они томятся под гнетом ненавистных гяуров и готовы по первому вашему зову начать священную войну полумесяца против креста. Вот, скажем, смелый багатур Юлай Азналин… Он уже проявил себя на Осинской, Ногайской и Сибирской дорогах. Юлай с сыном Салаватом готовы хоть сейчас вести войну против русских. У них несколько тысяч конников!
– А что говорят о возможной войне в Европе? – спросил султан, снова погружаясь в прерванную было сладкую дрему.
– Мнение Речи Посполитой и Франции вам известно, мой господин, – словно фонтан, зажурчал великий визирь, – Англия и Австрия будут придерживаться нейтралитета, Швеция – на нашей стороне, она готова воевать против России. Однако прусский король Фридрих заявил, что если война между Россией и Портой состоится, то это будет война кривых и слепых…
О последней фразе визирь пожалел, как только ее произнес. Султан недовольно поморщился и велел советнику замолчать.
– Мы не готовы окончательно принять решение, – твердо произнес он вслух, – по крайней мере пока.
Однако решение Мустафа принял, и оно было не в пользу России. Оттоманская Порта вступила в войну с «империей снега»…
Такое решение соответствовало намерению Мустафы восстановить военную славу Порты и вернуть Оттоманской империи ее прежний блеск. Однако более всего султана беспокоили неверные – греки, болгары, сербы, валахи и молдаване, жившие в его владениях. В балканских горах было неспокойно: тихая, но жестокая партизанская война теплилась там постоянно словно огонь под слоем пепла. Более того, турецкий адмиральский корабль со всеми пушками и людьми недавно был дерзко захвачен отрядом морских разбойников-греков. Так султан снова услышал о таинственной Гетерии…
Глава 9 Воззвание к единоверцам-грекам
Незадолго до объявления военных действий Григорий Потемкин возглавлял Комиссию по делам инородцев, ведавшую привлечением колонистов в принадлежавшие Российской империи причерноморские области. Циклоп, которого Екатерина теперь называла не иначе как «хитроумным Одиссеем», поспешил рассказать императрице о плодах своих стараний.
– Ваше Величество, – обратился к Екатерине Потемкин, – вам известно, что с Балкан доходят вести о готовности христиан поднять восстание против ненавистной Порты.
– Конечно, мой друг, – императрица с нежнейшей улыбкой взглянула на красавца камергера, которого даже отсутствие глаза делало необыкновенно интересным.
– То время, что я по вашему соизволению возглавлял Комиссию по делам инородцев, ведавшую привлечением колонистов в причерноморские области, не прошло даром. – Потемкин говорил уверенно, быстро: властные, жесткие слова словно саблей рубили воздух. – Самое время воспользоваться плодами моей деятельности на этом посту. В Причерноморские земли охотно прибывают переселенцы из балканских стран, подвластных Оттоманской Порте, – греки, болгары, сербы. Все они – наши братья по православной вере. Братской любовью, которую балканские христиане питают к России, не следует пренебрегать.
– Как же еще поощрить столь достойные чувства? – кокетливо улыбаясь, спросила Екатерина. – Что посоветует мой хитроумный Одиссей?
– Я сочинил воззвание к балканским христианам! – продолжил Потемкин. – И обратился к ним по-гречески и по-русски. В этом послании я внушил им уверенность в помощи Российской империи и призвал к восстанию против Порты. Давно известно, как ненавидят турок христиане, находящиеся под их игом. У меня и на примете есть несколько молодцов из числа болгар и сербов, которые смело донесут это послание до сведения своих соотечественников.
«Он на редкость умен, – подумала Екатерина, считавшая хитроумие новоявленного Одиссея отточенным клинком, способным разрубить запутанный турецкий узел. – Мне стоит почаще прислушиваться к нему. Хитер словно Гомеров Одиссей! Недаром мне указал на него сам Сен-Жермен».
Воззвание Потемкина к балканским христианам было напечатано. Подполковник русской службы болгарин по крови Назар Каразин и несколько его соплеменников под видом нищих странников отправились в Молдавию и Валахию, где и распространяли воззвание, спрятанное у кого в посохе, у кого – в корешке псалтыри. С такими же воззваниями в Албанию отправился Иван Петрушин, умело игравший роль венецианского купца, а в Черногорию – Эвдемирович и Белич, сербы, находившиеся на русской службе. Воззвание оказало поистине магическое действие. Не прошло и месяца, как в Черногории вспыхнуло восстание. Волны восстания хлынули в Албанию, Боснию, Герцеговину и Македонию… Порабощенная Эллада уповала на помощь Российской империи. Россия вступила в войну с Турцией.
Оттоманская Порта отправила в набег в южные пределы России войско из 60 тысяч крымских татар под бунчуком Калги-султана. В ответ на это в 1769 году в поход выступили две российские армии: первая под командованием князя Александра Михайловича Голицына, вторая – под началом Петра Александровича Румянцева.
В эти дни Григорий Александрович Потемкин обратился к Екатерине:
«Я обязан служить Государыне и моей благодетельнице. И так благодарность моя тогда только изъявится в своей силе, когда мне для славы Вашего Величества удастся кровь пролить. Сей случай представился в настоящей войне, и я не остался в праздности.
Теперь позвольте, Всемилостивейшая Государыня, прибегнуть к стопам Вашего Величества и просить Высочайшего повеления быть в действительной должности при корпусе Князя Прозоровского, в каком звании Вашему Величеству угодно будет, не включая меня навсегда в военный список, но только пока война продлится».
В тот же день военный министр Захар Чернышев получил императорское указание «нашего камергера Григория Потемкина извольте определить в армии в чине генерал-майора».
Глава 10 Кучук-Кайнарджийский мир
Первая Русско-турецкая война завершилась Кучук-Кайнарджийским миром, согласно которому Оттоманская Порта признала независимость крымских татар, уступила России Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн, открыла кораблям Российской империи свободный ход из Черного моря в Средиземное. Ослабевшая, поставленная на колени Порта даровала прощение христианам, которые принимали участие в войне на стороне государыни Екатерины, и позволила русской императрице запустить пухлую, унизанную перстнями ручку в молдавский пирог. Однако внутри победившей империи бушевала смута: в уральских степях бесчинствовал «маркиз Пугачев», которого французские газетчики именовали императором Петром III.
Посланную на усмирение Пугачева армию возглавил Александр Ильич Бибиков, ветеран польской войны[7]. Штаб главнокомандующего был в Казани, откуда он передвигал войска словно фигуры на шахматной доске: князь А.М. Голицын освободил Оренбург, И.И. Михельсон – Уфу, Мансуров – Яицкий городок. Однако здоровье главнокомандующего не выдержало тягот войны с собственным народом: Бибиков умер в бедном татарском селении Бугульме. После кончины главнокомандующего мятеж разгорелся вновь: «маркиз Пугачев» овладел Казанью и перебросил свои войска на правый берег Волги. Тогда опустевшее место Бибикова занял граф Панин.
Михельсон разбил Пугачева под Арзамасом и преградил ему путь к Москве. Тогда мятежник, называвший себя императором Петром Федоровичем, овладел Пензой, Петровском, Саратовом. Из Саратова Пугачев двинулся к Царицыну, но под Черным Яром был снова разбит Михельсоном. В самом конце войны на театр военных действий прибыл Суворов. «Маркиз Пугачев» был выдан войскам Екатерины собственными сообщниками.
Покончив с гражданской войной, Екатерина продолжила государственные преобразования, приостановленные во время пугачевщины и стала готовиться к новой войне с Оттоманской Портой. Теперь у нее был новый преданный и талантливый помощник – Григорий Александрович Потемкин. «Циклоп» был назначен губернатором Новороссийской губернии, составленной из отвоеванных у Турции причерноморских земель.
Потемкин, с детства мечтавший о завоевании Греческого моря, сочинил проект, который чрезвычайно заинтересовал императрицу. Цель этого проекта состояла в изгнании турок из Европы и образовании на тепленьком местечке, освободившемся после Оттоманской Порты, православного Греческого царства. Править этим царством должен был великий князь российской императорской фамилии. О создании православного Греческого царства мечтал еще Петр Великий. В донесениях английский посол Гаррис с сожалением сообщал своему королю, что Потемкин буквально «заразил» императрицу идеями об «учреждении новой Византийской империи». Русские корабли в Средиземном море внушали «Владычице морей» – Великобритании – вполне понятный страх.
В реализации Греческого проекта должна была принимать участие и Австро-Венгерская империя. Петербург и Вена намеревались изгнать турок из Европы, восстановить Византию, образовать из Молдавии и Валахии буферное государство Дакию и передать западную часть Балканского полуострова Австрии. В мае 1780 года состоялось свидание австрийского императора и Екатерины в Могилеве, и русско-австрийский союз объявил миру о своем рождении. Военная колонизации Новороссийского края, фантастическое по масштабам переселение в Причерноморье русских и балканских колонистов и, конечно, создание Черноморского флота – вот краеугольные камни, положенные в основу Греческого проекта.
Частью Греческого проекта должно было стать основание причерноморских и крымских городов: «города победы» – Никополя (город Победы), нового Херсонеса-Херсона, города Славы – Севастополя, «Объединяющего града» – Симферополя, Одессы, названной в честь древнегреческого Одессоса… В херсонском соборе Святой Екатерины государыня намеревалась короновать своего внука Константина – будущего императора Византии.
На Днестре был заложен Тирасполь («Тирасом» Днестр называли древние греки), на Кубани – Ставрополь («город креста»). Своей очереди ожидали причерноморские города – Овидиополь, Ольвиополь, Мариуполь и Николаев. В 1778 году на берегу реки Кильчень Потемкин заложил еще один город – Екатеринослав, призванный закрепить славу императрицы в освоении края.
По Кучук-Кайнарджийскому договору Крымское ханство признавалось независимым от Оттоманской Порты. На крымский престол вступил ставленник Петербурга хан Шагин-Гирей. Однако борьба вельмож, ориентированных на враждующие стороны – Россию и Турцию, превращала полуостров в пороховую бочку. В мае 1782 года турецкая партия избрала ханом брата Шагин-Гирея, Батыр-Гирея, и обратилась к Порте за помощью. В ответ Россия ввела свои войска в Крым. Мятеж удалось подавить. Ослабевшая Порта воздержалась от вооруженного вмешательства. После завоевания Крыма Потемкина стали называть князем Таврическим.
Теперь Григорий Александрович мечтал о захвате Константинополя и превращении бывшей турецкой столицы в «сердце» Греческого царства. Это царство должно было находиться под протекторатом Российской империи. Кроме Причерноморья и Крыма в состав возрожденной Византии вошли бы греческие и балканские территории.
Превращение Царьграда в третьею столицу Российской империи означало господство над восточным христианским миром, Черным морем, Малой Азией и Балканами. Черное море – «непорочная дева султана» – превращалось таким образом в огромную русскую военную гавань. Господство над Балканами позволило бы расширить границы России до Адриатического моря.
Успешная реализация Греческого проекта стала причиной Второй турецкой войны. Накануне этой новой войны супруги Витт пересекли границу Российской империи, чтобы встретиться с князем Потемкиным…
Глава 11 Последний защитник Константинополя
Граф Сен-Жермен любил уверять собеседников, что собственными глазами видел падение Константинополя. И не только видел, но и защищал город рядом с последним византийским императором Константином X. И приводил при этом такие подробности, что немецкие герцогини хватались за сердце и горько вздыхали, французские графини не стеснялись собственных слез, а русские дамы хмурились, в негодовании сжимали кулачки и вспоминали о том, что, по воле Божьей, Россия стала наследницей поверженной Византийской империи.
Впрочем, Сен-Жермен находил понимание не только у женщин. Он «поставил» на русских и то и дело повторял слова монаха Филофея о Третьем Риме, имя которому Россия. В эти слова свято верила императрица Елизавета, но не ей предназначено было вступить в поединок с дряхлеющим гигантом по имени Оттоманская Порта. Сен-Жермен выбрал для этой цели незаметную Ангальт-Цербстскую герцогиню Софию-Августу-Фредерику, которой посулил русскую корону. Русскую, но не греческую. Венец византийских императоров он предназначал совсем другой особе.
Но женщина, избранная Провидением для того, чтобы вступить в поединок с Оттоманской Портой, должна была опираться на руку мужчины, и Сен-Жермен, Монфера или Ракоци (он и сам не знал порой, каким из имен назваться, что вспоминать, а что – предать забвению) нашел такого мужчину. Им стал Григорий Потемкин, отец которого некогда прошел мерцающим тоннелем и попал в святилище древней Ольвии.
Зачем же авантюристу без рода и племени, сменившему немало стран и имен, понадобилось помогать грекам в воскрешении их погибшей империи? Почему именно он, Монфера, кружил по свету, чтобы сплести воедино распавшуюся нить судьбы и позаботиться о единственном сыне смоленского помещика средней руки и честолюбивой Ангальт-Цербстской герцогине Софии-Августе-Фредерике? Но как мог поступить иначе тот, кто сражался рядом с последним из Палеологов и видел, как обреченные на смерть жители Царьграда прошли по улицам города с иконой Влахернской Божьей Матери и, оплакивая свои грехи, просили Владычицу Небесную прийти на помощь гибнущему Константинополю?!
Граф Сен-Жермен познал немало времен и стран, но именно осаду и смерть Константинополя запомнил до мельчайших подробностей и считал ее неслыханным бедствием. Этот город был отмечен Богом и не мог так бесславно погибнуть! Он, как птица Феникс, восстанет из пепла, когда могучая Россия в союзе с греками, балканскими славянами и дунайскими княжествами поставит на колени Оттоманскую Порту. Просвещенный Монфера отнюдь не считал турок-османов «богомерзкими». Он хотел лишь, чтобы султан Абдул-Гамид предоставил греков их собственной участи и вернул им былую столицу – дивный город в бухте Золотой Рог.
Ракоци сплел надежную цепь поступков и событий, но не учел того, что честолюбивая Фике может его ослушаться. И пока Екатерина с помощью Степана Ивановича Шешковского выясняла, кто такой Сен-Жермен, советчик, предсказавший ей три короны, решил заняться третьим действующим лицом этой истории – византийской царевной с острова Хиос… Его новую подопечную тоже звали София. Это была та самая вторая София, о которой он некогда говорил Потемкину…
Часть четвертая София
Глава 1 Юные влюбленные
Когда маленькой Софии Глявоне сказали, что турки – богомерзкие существа, она не поверила. Богомерзкими в ее представлении были разве что жабы и змеи, а молчаливые, грозные турки, властвовавшие на острове Хиос, внешне выглядели почти как люди. Но греки – коренные жители острова – относились к завоевателям-туркам с ненавистью и страхом и не жалели для них нелестных и бранных слов.
– Богомерзкие они, богомерзкие! – говорил двенадцатилетней Софии шестнадцатилетний Константин Ригас[8], – и пахнут дурно. Издалека слышно.
– Вот и неправда! – отвечала на это София. – Пахнут они, как обычные люди. Я когда маленькая была – нюхала. А у женщин и девушек – запах такой сладкий, что голова кружится. Наверное – благовония.
– Богомерзкие они потому, что вера у них другая, – объяснил своей наивной подружке Константин. – В какого-то Магомета верят. Значит – богомерзкие…
– А кто такой Магомет? – поинтересовалась София.
– Кто такой – не знаю, – рассудительно заметил Константин, – но точно – не Бог. Наверное, тоже турок.
Софию такое объяснение явно не удовлетворило, но она решила промолчать. Константин – рассудительный и всезнающий юноша – пользовался у нее безграничным авторитетом. К тому же шестнадцатилетний мудрец был троюродным братом девочки. Отец Константина исчез несколько лет назад – одни говорили, что он бросил жену и сына и покинул остров с какой-то красоткой, другие, что у этого исчезновения были серьезные и таинственные причины. Так или иначе – заботу о Константине и его матери взял на себя отец Софии. Словом, дети росли вместе, и София привыкла восхищаться рассудительностью Константина, а юный мудрец – ее редкой, необыкновенной красотой.
Уже в четырнадцать лет София обещала стать восхитительной красавицей. Константину она напоминала царевну из рода византийских императоров – тоненькая, трогательная, удивительно изящная, с нежным пастельным личиком и проникновенным взглядом. Она была слишком тонко скроена для маленькой крестьяночки, обреченной родиться и умереть на острове Хиос. Что-то загадочное, необъяснимое, сулящее бурную судьбу и жизненные испытания читалось во всем облике Софии, в ее манере задумчиво вглядываться в привычный пейзаж, как будто он менялся на ее глазах каждую минуту.
А между тем остров Хиос, расположенный в Эгейском море, вблизи от берегов Малой Азии, многим казался земным раем. Кустарники и сосновые рощи, сочная, истекающая сладким соком трава, плантации цитрусовых и виноградников, огромные апельсиновые рощи… А главное, над островом было удивительное небо – нежно-голубое, ласковое, сулящее чудеса и тайны. Райский сад, да и только!
Однако властвовали на острове Хиос отнюдь не его коренные жители, а турки, появившиеся здесь еще в середине XVI столетия. Теперь, когда XVIII столетие, как солнце, близилось к своему зениту, власть турок-магометан казалась еще более незыблемой и неизменной, чем сладко-голубое небо над островом.
Когда-то турки овладели островом, как слабой и робкой женщиной, – почти без боя. «Милосердные» завоеватели даже пощадили местную аристократию, сохранив ее привилегии и статус. Но аристократия без власти – все равно что роза без шипов. Поэтому молчаливые грозные турки вызывали у местного населения ненависть, настоянную на страхе. В деревне Вронтадос, расположенной у подножия горы Эпос, с детских лет знали, кого следует ненавидеть.
Впрочем, родители постоянно напоминали детям, что для греков должны наступить иные, лучшие времена, когда турецкое иго останется далеко в прошлом. Но в скорое наступление этих времен ни Константин, ни София не верили. Они лишь побаивались властителей острова. Но в один из весенних дней, как будто сотканных из солнечного света, Константин решил рассказать Софии о таинственном обществе под названием Гетерия, которое поставило себе целью освобождение Греции от власти турок.
– Вот увидишь, София, – уверял Константин, – я скоро стану членом Гетерии.
Они, как обычно, бродили по апельсиновой роще, но София шла чуть впереди, и Константин еле поспевал за своей торопливой подругой.
– Стихи слагать у тебя выходит неплохо, – поддразнивала своего рассудительного друга София, – а истории ты сочиняешь сомнительные. Придумываешь все эти бредни лишь для того, чтобы мне понравиться. Подумать только, Константин Ригас – член Гетерии! Какая девушка устоит перед таким героем! Но ведь Гетерии твоей не было и нет.
– Ничего я не выдумываю, – с деланной обидой проговорил Константин, догоняя Софию, – и ты скоро в этом убедишься.
– Никто никогда не слышал о твоей Гетерии, – не унималась девочка. – Значит, ты ее сам и придумал.
– Разве станут люди зря болтать о тайном обществе! – снисходительно пожав плечами, ответил Константин. – Это не предмет для бабьих пересудов. – И добавил, понизив голос до таинственного шепота: – Члены этого общества связаны между собой страшной клятвой, и освободить от нее может только смерть. А главная цель Гетерии – святая война креста против полумесяца, освобождение Греции от магометан.
– Если ты говоришь, что Гетерия – тайное общество, – перебила Константина его недоверчивая подруга, – то откуда тебе известно о нем? Если ты дал страшную клятву молчать, то почему болтаешь? И кто обещал принять тебя в Гетерию?
– Это чужая тайна, София, и я не могу рассказать тебе о ней… – смутившись, ответил Константин.
– А ведь ты обещал, Константин, что будешь рассказывать мне самые страшные тайны! – обиделась София.
– Только не эту тайну! – словоохотливый Константин уже пожалел о начатом разговоре. – Мать шкуру с меня спустит, а отец…
– Какой еще отец! – фыркнула София, решившая, что Константин непоправимо и окончательно заврался. – Все знают, что твой отец сбежал с какой-то женщиной на материк, бросил твою мать и тебя. Разве не так?
– А вот и не так! – рассердился Константин. – Ты просто ничего не знаешь. Мой отец – член Гетерии! И он вовсе не сбежал с какой-то бабой на материк! Он сейчас в военном лагере, далеко в горах Пелопоннеса. Там собираются греческие патриоты. Ночью он несколько раз приходил к нам в деревню. И сказал мне, что когда придет время, я тоже стану одним из них. Я чувствую, что это время уже пришло. Я готов пройти все испытания. Будь уверена, я их выдержу!
– Значит, когда тебя примут в это общество, – тихо и грустно сказала София, – ты тоже исчезнешь, как твой отец? Уедешь от меня?
Этот вопрос Софии поставил Константина в тупик. Он уже несколько месяцев мечтал о вступлении в Гетерию, но ни разу не подумал о том, что военный лагерь тайного общества расположен отнюдь не на острове Хиос. Покинуть остров? Возможно, никогда больше не увидеть Софию? Неужели все члены Гетерии покидают семьи и дома ради борьбы с турками? Уезжать Константину совсем не хотелось.
– Быть членом Гетерии вовсе не означает, что нужно перебраться на материк… – скрепя сердце, Константин решил солгать себе и Софии. – Наши товарищи – повсюду. Может быть, даже в нашей деревне. Они придумали особые приветствия и тайные знаки, по которым узнают друг друга. Скоро я узнаю все эти тайны. Но, даже если судьбе суждено разлучить нас, я никогда не разлюблю тебя… – неожиданно торжественно закончил он.
Он жадно и неумело прильнул к губам Софии. Для этого полудетского поцелуя Константину пришлось нагнуться, а Софии – встать на цыпочки. Но прикосновение было таким сладким и опьяняющим, что Константин в одно мгновение позабыл о таинственной Гетерии и военном лагере в горах Пелопоннеса. Если бы остаться на острове навсегда! Но судьба лишила его такой возможности…
Они возвращались домой вместе, и Константин напевал боевой гимн, который сочинил недавно:
Воспряньте, Греции народы! День славы наступил. Докажем мы, что грек свободы И чести не забыл. Расторгнем рабство вековое, Оковы с вый сорвем, Отмстим отечество святое, Покрытое стыдом! К оружию, о греки, к бою! Пойдем за правых, Бог! И пусть тиранов кровь рекою Кипит у наших ног!Глава 2 Гости отца Захария
Когда Константин Ригас хвастался Софии, что «наши – повсюду и, может быть, даже в деревне», он почти не ошибался. Неподалеку от деревни Вронтадос действительно жил человек, которого всезнающая молва связывала с Гетерией. Это был священник, отец Захарий, в миру – Михаил Нотарос. Отец Захарий происходил из древнего византийского рода Нотаросов, не уступавшего в знатности и величии самим Палеологам. Когда Константинополь пал под натиском турок-османов, предки священника перебрались в горы Пелопоннеса. Первым учителем Михаила Нотароса был сельский священник. Поэтому Михаил с детских лет решил посвятить себя церкви.
Священник, который учил Михаила грамоте, уверил мальчика в том, что единственное спасение Греции – в православной вере. Церковь, подобно птице, должна собрать птенцов-прихожан под свои крылья, иначе – рассеяние, смерть, утрата славного прошлого и всякой надежды на будущее. Тени, колеблемые ветром, без имени и души человеческой, во всем зависимые от завоевателей-османов, вот в кого превратятся греки, если у них отнять веру! И маленький Михаил свято верил каждому слову учителя. Верил, что Православная церковь даже в оковах рабства способна излучать свет и сохранять достоинство, а когда вырос – принял постриг под именем Захария и отправился в Константинополь.
Когда отец Захарий достиг возраста Спасителя, патриарх Самуил I Хадзерис решил, что он достоин сана епископа. А когда в горах Пелопоннеса, где прошла юность Захария, не без поддержки Российской империи, благоволившей к единоверцам-грекам, началось восстание против турок, епископ принял в нем самое деятельное участие. Восстание провалилось, блистательная Оттоманская Порта опять одержала верх над порабощенной Грецией, а для отца Захария не осталось иного спасения, кроме бегства. Странствующий епископ нашел пристанище на острове Хиос, неподалеку от деревни Вронтадос, где обосновался в старой базилике Святого Исидора.
Как часто он думал о святом Исидоре, восставшем против римских завоевателей и казненном ими! Как часто сравнивал свою судьбу с участью Исидора и жалел о том, что бежал, а не принял смертные муки! Но кто бы без него объединил разрозненные усилия греческих патриотов, кто бы вдохнул в немногих оставшихся в живых участников восстания уверенность в том, что Церковь по-прежнему заботится о греческом народе! Местные жители рассказали священнику легенду о святом Исидоре: когда римляне вели его на казнь, он молчал и плакал, и слезы эти, падая на землю, превращались в благоухающую мастику. С тех пор все в деревне Вронтадос уверены в том, что мастика – прощальный дар святого Исидора…
Нет, он, Захарий, не стал бы плакать! Он принял бы смерть как должное, как достойное завершение своего пути. Если бы не решил бежать и не оказался здесь, на острове, который называют райским, и где забываешь о борьбе и ненависти, когда вглядываешься в сладко-голубые, сулящие покой и блаженство небеса…
На острове Захарий собственными руками возвел часовню в честь святого Петра. Небольшую, правда, но стройную, ладную, устремленную в небеса. Потом построил две кельи. Учил грамоте сельских ребятишек, принимал у себя беглецов – членов Гетерии, помогал больным и увечным. И, конечно, готовил новое восстание. Не мог он успокоиться и забыть о духе борьбы и ненависти, который там, в горах Пелопоннеса, заставлял вдвое сильнее биться его жаждущее справедливости сердце! Церковь – не только заботливая мать, но и дева-воительница, и должна сплотить вокруг себя греков, напомнить им о славном прошлом и не менее славном будущем.
И вот однажды в келью к священнику постучались. Он услышал знакомые слова «Eleutheria i Thanatos», что означает «Свобода или смерть». Это был секретный пароль Гетерии. Гости священника прибыли из лагеря повстанцев-клефтов в Пелопоннесских горах. И, конечно, пришли за советом. Одного из посланцев звали Гавриил Ригас…
Константин не солгал Софии – его отец действительно был членом Гетерии и готовил посвящение сына. Несколько лет назад Ригас-старший покинул деревню с заезжей красавицей, но это был лишь ловкий ход, небольшое представление, которое разыграли заговорщики, чтобы Гавриил мог беспрепятственно покинуть остров. Разве смог бы он объявить односельчанам, что отправляется в горы Пелопоннеса, чтобы примкнуть к повстанцам! Вот и пришлось прослыть в их глазах пустым человеком, перекати-полем, который бросил жену и сына ради заезжей красотки. Красотка действительно была, но ее звали Элладой…
Второго гостя священник не знал, и имени своего он не сообщил. Просто вошел и сел – как будто на все имел право.
– В борьбе Креста с Полумесяцем наступил решающий момент! – торжественно начал Гавриил Ригас, и отец Захарий недовольно поморщился. Он не любил высокопарных фраз. Слишком памятным было недавнее поражение…
– Подготовка восстания действительно ведется, – прервал гостя священник. – Впрочем, как и всегда. Но кто может обещать успех?
Отец Захарий бросил беглый взгляд на хворост, приготовленный для очага. Взял одну хворостинку и легко, словно играючи, переломил ее. Затем попробовал проделать то же самое с пучком, но безуспешно. Захарий внимательно посмотрел на гостей – поняли ли они, что он хотел сказать этим бытовым и ни к чему не обязывающим жестом.
– Вы хотите спросить, святой отец, – вмешался молчаливый спутник Гавриила Ригаса, – готовы ли к восстанию все греки, которые в своем религиозном одушевлении, в своей ненависти к врагам Креста должны будут поддержать нашу борьбу? Согласитесь, что борьба между поработителями и порабощенными должна была с самого начала принять жестокий характер. Тогда бы один народ истребил другой – не пощадив детей и женщин. Но такое истребление противно духу христианскому. Воевать между собой должны не народы, но армии…
– Первое и главное препятствие заключается в разобщенности христиан, проживающих в империи султана! – назидательно заметил отец Захарий. – Не забывайте, что кроме греков есть еще другие народы, уставшие быть рабами Оттоманской Порты. Это славяне и румыны. Они не меньше нас ненавидят турок. Но поддержат ли они греков? Не знаю. В Дунайских княжествах греков не любят. И все из-за того, что многие константинопольские аристократы, ставленники турок, безжалостно высасывают деньги из Дунайских княжеств.
– Стало быть, святой отец, – прервал Захария нетерпеливый Гавриил Ригас, – мы будем бороться в одиночестве. Пусть так!
– Наше одиночество еще более страшное, чем ты предполагаешь… – невозмутимо продолжил священник. – Греки разобщены. У них нет вождя.
– А вот тут вы ошибаетесь, отче! – вмешался в разговор безымянный гость. – У нас есть вождь…
– Кто же? – недоверчиво пожал плечами Захарий. – Неужто в горах Пелопоннеса появился неведомый смельчак, который способен объединить нас?
– Святой отец, вы, конечно, помните грека по имени Скарлатос Панталес Маврокордато де Челиче? – продолжил незнакомец, и в его ровном, невозмутимом голосе появилась поразившая Захария сила.
– Конечно, помню, Царство ему Небесное, – вздохнул священник, – мужественный был человек, прямой наследник Византийской короны. Но ведь он давно умер… Десять лет прошло с тех пор.
– Да, он умер, но у него осталась наследница, – торжественно, как будто слова присяги, произнес незнакомец. – Прямая наследница византийских императоров. Правда, по внебрачной линии рода Скарлатос Панталес Маврокордато де Челиче. Особа царского рода, но воспитана в деревне. Она еще почти ребенок. Поэтому у нас достаточно времени подготовить Софию к ее будущей роли.
– Наследница византийской короны, выросшая в бедности и лишениях… – задумчиво произнес Захарий. – Но откуда она взялась? Всем известно, что Скарлатос погиб, не успев обзавестись семьей…
– Девочка родилась четырнадцать лет назад в греческом селении Бурса Битиния, неподалеку от Мраморного моря… – продолжил незнакомец, и Захарию показалось, что он слушает сказку. Сладкую, многообещающую, сулящую успех, но всего лишь сказку! – Ее мать зовут Хаджи Мария, она была возлюбленной Скарлатоса. Отца девочки убили янычары еще до ее рождения. Такая же участь ожидала и Хаджи Марию, если бы она успела стать женой Скарлатоса. Но матери Софии повезло – она была всего лишь возлюбленной погибшего храбреца! К тому же один из бойцов отряда Скарлатоса, влюбленный в Хаджи Марию, объявил всем, что он – отец ребенка. Это и обмануло янычар… Ах, какая Хаджи Мария была красавица! Хоть и с турецкой кровью…
Последние слова незнакомец произнес с тяжелым, полыхающим былой страстью вздохом, и отец Захарий сразу все понял. К нему пожаловал друг погибшего Скарлатоса, тот самый, который объявил себя отцом Софии и тем самым спас девочку от смерти. Скарлатоса, командовавшего повстанческим отрядом, янычары убили, а Хаджи Мария с дочкой чудом остались в живых.
– Дочь Скарлатоса Панталеса Маврокордато де Челиче, – медленно, как будто взвешивая поразительную новость, повторил священник, – дочь погибшего героя и наследница византийских императоров! Прекрасное знамя для борьбы. Но где она сейчас?
Последние слова священника заставили незнакомца недовольно поморщиться. Вероятно, ему не понравилось, что дочь обожаемой женщины и погибшего друга называют знаменем. Маленькую Софию, которая всегда была хорошенькой, даже в младенчестве… Нежное личико, огромные, вполлица, глаза…
– София здесь, в деревне, – вмешался Гавриил Ригас. – Она – приемная дочь скупщика скота Максима Глявоне и моя племянница.
– Маленькая София Глявоне! – изумился священник. – Красивое дитя и все время в компании вашего сына Константина… Кажется, они влюблены друг в друга.
– Стоит ли придавать значение этой полудетской привязанности? – недовольно заметил Гавриил Ригас. – Девочку необходимо вывезти с острова и спрятать в безопасном месте. Но для этого нужен повод… Вот мы и приехали посоветоваться с вами, отче. О вашей проницательности знает вся Греция!
Священник вспомнил о юной паре, так часто бродившей по апельсиновой роще. Четырнадцатилетняя девочка, уже сейчас настоящая красавица, и ее шестнадцатилетний друг… Эти двое и не подозревали о том, что их разлучат во имя интересов великого дела, о котором они имели самое смутное представление. Пока еще они были счастливы и дышали полной грудью. И при этом воспоминании громкие слова о борьбе и ненависти показались священнику бессмысленными и пустыми. Свобода Греции, борьба с турками – что все это по сравнению с тихой радостью бродить рука об руку по апельсиновой роще?!
Отец Захарий бросил на своих собеседников тяжелый, сосредоточенный взгляд. Потом провел рукой по глазам, как будто хотел стряхнуть наваждение.
– Хорошо, друзья мои, – сказал он наконец. – Я что-нибудь придумаю.
Судьба Софии была решена…
Глава 3 Наследница византийских императоров
Скупщик скота Максим Глявоне даже не подозревал о том, что растит наследницу византийских императоров. Девочка как девочка, правда, хорошенькая, с нежным личиком и озорными глазенками, но и только! Мать ее – Хаджи Мария – вот кто писаная красавица, и как повезло ему, когда эта красотка с ребенком на руках появилась на острове Хиос, а сопровождавший ее повстанец-клефт попросил добряка Максима до времени спрятать несчастную вдову! Максим сочувствовал повстанцам, хотя сам не мешался в их дела – чувство самосохранения и житейская мудрость научили его не перечить туркам. Несчастную вдову он приютил в собственном доме, а потом, когда клефт убрался восвояси, предложил Марии стать его женой.
Конечно, бедняжка не хотела жить у него из милости, но женой стала не сразу – отнекивалась, все рассказывала о покойном муже, командовавшем отрядом повстанцев, и о том, как счастливы они были там, в горах Пелопоннеса! Максим не торопил несчастную женщину, ждать он умел, как никто. И дождался – Мария согласилась, а девочку ее Максим, конечно, удочерил.
Ладно они жили и мирно, девочка подрастала, но Максим то и дело думал, что счастье его – краденое, и красавица жена у него не насовсем, а так, «до времени», как сказал сопровождавший Марию клефт. Но шли годы, и это страшное, некогда обещанное спутником Марии время, так и не наступило. И Максим успокоился, зажил, как все, не загадывая наперед и не вглядываясь с ужасом и ожиданием в лицо каждого незнакомого мужчины, впервые оказавшегося в деревне Вронтадос.
София называла его отцом, и жених для девочки – Константин Ригас – был припасен заранее. Но беда, как и полагается, пришла нежданно. Невесть откуда в деревне появился тот самый клефт, который некогда попросил Максима спрятать «до времени» несчастную вдову. Пришел, как вор, глубокой ночью в сопровождении пропавшего много лет назад двоюродного братца Гавриила Ригаса, и заявил перепуганному насмерть хозяину, что его приемная дочь София – наследница византийских императоров и знамя борьбы греческого народа.
– Да какое она – знамя! – в сердцах воскликнул Максим. – Четырнадцать лет девчонке! Игры да мальчики у нее на уме! С Константином по роще разгуливать – вот и все счастье!
– Пока это действительно так, – объяснил упрямцу-хозяину Гавриил Ригас, – но София вырастет и поймет свое предназначение. Если мы победим, то твоя приемная дочь сядет на трон Палеологов. И поэтому ты должен слушаться нас во всем.
– Ну уж нет! – горячился Максим. – Жену и дочь я вам не отдам!
– Я и сама никуда не поеду, – вмешалась Мария. Она подошла к гостю-клефту вплотную и тихо, властно сказала: – Помнишь, Георгий, когда умирал Скарлатос, он просил тебя позаботиться о ребенке. Позаботиться, слышишь! Сладкое слово «забота» – и счастливую жизнь оно обещает. Мирную, тихую, как здесь на острове. Хорошего мужа, детей, а не горы Пелопоннеса. Хватит, настранствовались…
– Нет, это ты все забыла, Мария, – ответил ей клефт. – Покойный Скарлатос превыше всего ценил свободу, и имя родины последним сорвалось с его губ.
– Последним было мое имя! – не на шутку рассердилась женщина, – «Мария» он сказал, а не «Эллада».
– Неужели ты решила, Мария, что это навсегда? – Георгий бросил снисходительный взгляд на скромное жилище Максима Глявоне. – Что, Скарлатос там, на небесах, будет доволен твоей изменой? И его дочь будет всю жизнь носить чужое имя?
– Чем это тебе мое имя не понравилось? – взорвался Максим, решивший указать гостям на дверь. – Честное имя, нет на нем греха и чужой крови.
– Заткнись, жалкий бурдюк с перекисшим вином! – вдруг по-молодому взорвался постаревший повстанец, хватаясь за рукоятку торчащего за поясом кривого ножа. – Сейчас как проколю тебе толстое брюхо! И ни одна, поверь, ни одна душа в мире не пожалеет об этом. Ты подчинялся туркам, жил, как покорная скотина, и сдохнешь, как червяк!
– Да ты ревнуешь, Георгий! – рассмеялась женщина, и Максим, хоть ему в ту минуту было не до восхищения, как обычно, восхитился звонким, серебристым смехом жены. Он привык восхищаться каждым словом и жестом своего нечаянного счастья. – Ревнуешь и всегда ревновал! Тогда – к Скарлатосу, теперь – к Максиму. Что же ты не остался здесь с нами? Не построил для нас дом? Не заслужил право называть меня своей? Ты бежал обратно, в горы Пелопоннеса, а нас оставил на руках Максима. И вот теперь ты явился сюда – по какому праву?
– Я бежал потому, что теми несколькими беднягами, которые уцелели от отряда Скарлатоса, нужно было кому-то руководить. И хотя бы увести их от смерти! Я не мог поступить иначе. Родина позвала меня! А тебя позвала твоя презренная женская неверность! – с пафосом сказал ночной гость, бросив на Марию уничтожающий взгляд.
– Громкие слова, красивые слова! – ломая руки, воскликнула Мария. – Как я устала от этих слов! Когда их говорил Скарлатос, я терпела, потому что любила его. Бездомной была, нищей. Слышишь ты, братец Гавриил! – неожиданно обратилась она к Гавриилу Ригасу, который во время этой перепалки не произнес ни слова. – Вдове Скарлатоса и наследнице византийской короны негде было преклонить голову, пока добрый Максим не позаботился о нас! Уходите, незваные гости! Оставьте нам наше тихое счастье.
– И правда, пошли, Гавриил, я увидел здесь лишь тень той Марии, которую знал когда-то… – горько и зло бросил клефт. – Впрочем, мне кажется, что она и тогда была тенью…
– Нет, они не уйдут! – раздался на пороге голос отца Захария, и Максим Глявоне почувствовал, как страшная, смертная тоска овладевает его душой. Этих двоих он не боялся, но разве мог простой греческий крестьянин противостоять Матери-Церкви? Поникнув, он занял свое место в углу, и отчаянный, непонимающий, ожидающий помощи и спасения взгляд красавицы жены надвое разрубил его сердце.
– Девочка должна покинуть остров, – сказал Максиму отец Захарий. – Тебе и Марии позволено будет ее сопровождать. Гетерия укажет вам дорогу.
При этих словах Глявоне несколько успокоился – значит, жену и дочь у него не отнимут! Потеря дома и хозяйства не казалась скупщику скота такой уж болезненной – свое главное достояние, звонкую монету, можно взять с собой. Верно, и Гетерия что-то даст ему на дорогу, а там можно приспособиться и к другому ремеслу. Да и Мария приумолкла – главное, сохранить семью, а потом – будь что будет…
Но тут в разговор взрослых вмешалась София. Наследницу византийской короны разбудили голоса спорящих, она, крадучись, вошла в освещенную комнату и услышала страшные слова: «Девочка должна покинуть остров». Свойственная юности обостренная чувствительность помогла Софии понять, что речь идет именно о ней.
– Я никуда не поеду без Константина! – заявила наследница Палеологов, которую ее друг интересовал больше, чем все троны мира.
Взрослые замолчали. Даже Георгий не знал, что ответить этой юной особе, судьба которой определялась кровью, текущей в жилах, и фактом рождения в горах Пелопоннеса. Дочерью Скарлатоса она родилась и, стало быть, не имела права на тихое счастье. Кто посмеет спорить с судьбой?
Оба ночных гостя просительно взглянули на священника. Сейчас будущая свобода греческого народа зависела только от его искусной лжи.
– Константин поедет вслед за тобой, дитя, – ответил отец Захарий («Боже Всевышний, прости мне эту ложь!», – шептала его помраченная душа). – Вы встретитесь потом на путях борцов за свободу.
София радостно кивнула, она знала наверняка – священник не может лгать.
– Мария, уведи девочку, – опомнился Максим, – наши разговоры не для нее.
Когда Мария увела дочь, Глявоне с робкой надеждой спросил у отца Захария: «А может, и вправду взять с собой Константина? Загрустит без него девчонка!»
– У наследницы византийской короны будет другой жених… – решил за Софию священник.
– Чем же мой сын плох для нее, отче? – изумился Гавриил Ригас, успевший представить себе, какие заманчивые перспективы откроет для его Константина женитьба на будущей владычице греков. Неужели за свою многолетнюю преданность Гетерии Ригас-старший не заслужил такой награды?
– Тем, что он – не царского рода! – отрезал отец Захарий, выбравший для девочки иную участь. И безжалостно добавил: – Детей нужно разлучить. Я знаю: Константин мечтает стать членом Гетерии. Он пройдет посвящение и отправится в горы Пелопоннеса еще до отъезда девочки. И помните: никакой болтовни! Глявоне с семьей должен покинуть остров без шума. Пусть люди думают, что он отправился в Константинополь на заработки, а Константин подался вслед за невестой.
– Что мне сказать сыну? – спросил Гавриил Ригас.
– Ты наденешь ему на палец кольцо с изображением мудрого кентавра Хирона и смелого юноши Ахиллеса… – медленно, торжественно произнес священник. – И скажешь, что он удостоился высокой чести стать членом Гетерии, но должен ради этого покинуть остров. Ты скажешь, что родина позвала его в путь, а родине не отказывают. Ты скажешь это, и он пойдет за тобой.
– А если нет? – в комнату вернулась Мария и бросила в лицо мужчинам отчаянные, выстраданные слова. – А если он выберет любовь, а не Родину?
– Я знаю моего сына, – ответил ей Гавриил, и отцовская гордость, прозвучавшая в его голосе, заставила Марию замолчать. – Он выберет Родину.
– Он выберет Родину, как выбрал ее Скарлатос! – добавил Георгий.
– Значит, и я должна выбрать Родину, – воскликнула Мария, но спокойной уверенности не было в ее голосе. – Но если всех людей создал один Бог, значит, и родина у нас одна – весь мир?
– Турки не веруют в Христа, Мария! – гнев, прозвучавший в голосе священника, заставил Марию подумать, что сейчас говорит с ней мирянин. – Они хотят унизить Православную церковь, растоптать наше прошлое и будущее, саму матерь-Элладу! Тебе ли, вдове повстанца, не знать этого?! Ради любви к Скарлатосу, ради памяти о нем, исполни волю Гетерии!
Непоколебимая твердость священника произвела на смятенную женщину поистине магическое действие. Она упала на колени перед отцом Захарием и поцеловала его руку.
– Не ради Эллады, отче, а ради памяти Скарлатоса я соглашаюсь на это… – сказала она. – Мы уедем в Константинополь.
А Максим Глявоне подумал, что никогда она не произносила его имени с такой страстью. Была верной женой, но, видно, никогда не любила. И одиночество змеей заползло в душу скромного скупщика скота. Его тихое счастье растворилось в ночной темноте, исчезло в то самое мгновение, когда в дверь постучали нежданные гости. Так решила Гетерия…
Глава 4 Прощание с островом Хиос
Мария думала, что, расставаясь с Хиосом и Константином, ее дочь будет беспрестанно рыдать. Но София и слезинки не пролила – только молча, не разжимая губ, смотрела на то, как удаляется линия берега, как заходящее солнце небрежно касается серых, стальных вод – как будто лица человека, с которым расстаешься навеки и не скорбишь о расставании. В затянувшийся миг прощания море, казалось, потеряло свою ласковую голубизну, и София уже не видела в нем советчика и собеседника.
Константин остался на берегу, но наследница византийских императоров верила, что они непременно увидятся в Константинополе. Так сказал отец Захарий, а ее детское сердце никогда бы не посмело обвинить священника во лжи. Как мог солгать человек, которого все в деревне Вронтадос считали святым? Стало быть, они непременно встретятся с Константином, да и потеря родного острова не казалась Софии непоправимой. Когда-нибудь она непременно вернется сюда…
Если бы дочери Скарлатоса сейчас сказали о том, что остров Хиос она увидит разве что во сне, а с Константином встретится через много лет, когда успеет позабыть его лицо и голос, то она бы вырвалась из обнимающих рук матери и спрыгнула бы за борт, чтобы добраться до берега вплавь. Но Мария молчала, молчал Максим Глявоне, серая тень разлуки легла на море, райский остров мерк и растворялся вдали, как будто был рожден не памятью, а воображением покидавшей его Софии. Кто знает, что будет там, в далеком Константинополе, где Софию Скарлатос ожидали посланцы таинственной Гетерии?
Девочка молчала всю дорогу и заговорила только в Константинополе. Разжать губы ее заставила величественная красота открывшегося перед ней города: нежная зелень садов, пронзавшие небо башни минаретов, черепичные крыши домов, дворцы вельмож и конечно же собор Святой Софии, где вместо христианского креста наследница Палеологов увидела мусульманский полумесяц.
«Где же крест?», – спросила София у матери, когда однажды, жарким июльским днем, вдова Скарлатоса решила показать дочери город. Мария растерянно пожала плечами – в бывшей возлюбленной пелопонесского героя соединилась греческая и турецкая кровь, а в молитвах она обращалась к Аллаху, пророку Исе и его матери Мириам.
– Когда-то над этим храмом возвышался крест, – вмешался в разговор матери и дочери незнакомец неопределенного возраста, одетый как фанариот – житель греческого аристократического квартала Фанар. В стамбульском квартале Фанар жили те знатные греки, которые смирились с властью султана и признали Оттоманскую Порту.
– Что же с ним стало? – спросила София, а Мария испуганно оглянулась вокруг, опасаясь увидеть в равнодушной толпе сновавших всюду султанских соглядатаев.
– Султан Мехмед Второй, прозванный Завоевателем, после долгой осады взял Константинополь, въехал в Святую Софию на коне и велел превратить храм в мечеть. Христианская вера была поругана, и напрасным оказалось мужество последних защитников града Константина. До последнего часа жители города верили, что Архистратиг Михаил придет им на помощь и истребит войско султана. Верили даже тогда, когда в город ворвались турки – убили мужчин, надругались над женщинами, а детей сделали рабами. Вот тогда крест на Святой Софии и сменился полумесяцем… – незнакомец рассказывал так, как будто сам видел эти события трехсотлетней давности и был среди осажденных рядом с последним императором Византии Константином XI Палеологом, предком стоявшей перед ним сейчас черноглазой девочки, на четверть – турчанки.
– Но почему Господь Всемогущий не защитил город и храм? – воскликнула девочка, и негодование сделало ее померкшее печальное личико гордым и выразительным. – Я слыхала, что купол Святой Софии подвешен к небесам золотой цепью. Неужели эта цепь порвалась?
– Замолчи, дитя! – теплая материнская ладонь зажала Софии рот. – Тебя могут услышать!
– Вам не стоит бояться султанских доносчиков, – победная, торжествующая улыбка скользнула по губам фанариота, но глаза – стальные, как воды Стикса, остались холодными и невозмутимыми. – Они думают, что Византия умерла в то мгновение, когда Мехмед Фатих въехал на коне в Святую Софию. Но Византия воскреснет, и, кто знает, может быть, в храм Святой Софии в силе и славе войдет ваша дочь!
Мария слушала незнакомца, и ей казалось, что он говорит не с ней и даже не с Софией, а обращается к далекому, всемогущему и всеблагому собеседнику.
Но потом фанариот вспомнил о стоявших перед ним женщинах и добавил, улыбаясь: «Золотая цепь не порвалась, дитя. Иначе ты не стояла бы здесь и не разговаривала со мной. Ты – последняя из Палеологов, дочь героя Скарлатоса, доблестно погибшего в горах Пелопоннеса!»
Эти слова незнакомца заставили сердце Марии сжаться от ужаса – откуда этот человек знает их, несколько дней назад впервые ступивших на землю Константинополя-Стамбула? О, эта Гетерия, у нее всюду глаза и уши! Повинуясь магнетическому взгляду странного человека, Мария оторвала налившуюся внезапной тяжестью ладонь от губ Софии. На мгновение фанариот разомкнул сомкнутые пальцы вдовы Скарлатоса и вложил ей в ладонь кольцо с изображением кентавра Хирона. «Eleutheria i Thanatos!», – еле слышно произнес он.
Мария разомкнула пальцы и тут же, в испуге, сжала их. Перед ней стоял посланец Гетерии, но продолжать этот опасный разговор на улице было смерти подобно.
– Благодаря щедрости наших друзей мой муж купил кабачок неподалеку от квартала Пера, – прошептала Мария. – Мы ждем вас нынче же вечером…
– Я приду… – ответил незнакомец, который и сам принадлежал к числу этих друзей, и поэтому покупка кабачка и местонахождение семьи Глявоне не составляло для него тайны.
София все же успела спросить:
– Кто она, Святая София, в честь которой построили этот храм? Вы расскажете мне о ней?
– Премудрость Божия… – объяснил фанариот. – Тебя назвали в ее честь. А еще это имя обозначает разум, знание, талант. Разве всезнайка Константин Ригас не рассказывал тебе об этом?
– Константин! – ахнула девочка. – Константин! Вы что-то знаете о нем? Отец Захарий обещал, что он будет ждать меня в Стамбуле, но мы приехали, а его нет…
– Ты еще встретишься с Константином, София, – пообещал незнакомец, – но не сейчас. Придется немного подождать. И повзрослеть. А потом ты сама решишь, нужна ли тебе эта встреча.
– Немного?! – переспросила девочка, которая, казалось, не расслышала последних слов фанариота. – Немного я подожду. Но только не больше.
– Ах, дитя, дитя, – вздохнул фанариот, – если бы ты знала, что на Божьих весах немного порой весит больше, чем целая жизнь…
Глава 5 Стамбульский кабачок
Фанариот пришел в кабачок Максима Глявоне не вечером, а глубокой ночью, когда хозяева перестали его ждать, а нетерпеливая наследница Палеологов видела не первый сон. Так что разговаривал посланец Гетерии с Марией и Максимом.
– Что нам делать? – спросил Максим, которого отнюдь не обрадовало очередное вторжение Гетерии в его едва устоявшуюся жизнь. – Опять собираться в дорогу? Но мы только устроились здесь… Я купил кабачок. Да и девочка начала привыкать к Стамбулу.
– У нас нет сил на странствия, – вмешалась Мария. – Скарлатос всю жизнь был странником, не знавшим, где преклонить голову. Неужели такая участь ожидает и нас?
– Не тебя, Мария, и не тебя, Максим! – посланец Гетерии был на редкость категоричен. – Это Софию ждет долгая дорога и чужие небеса.
– Ей нужен муж и дом, – не на шутку рассердилась Мария. – Не разбойничий лагерь в горах Пелопоннеса, и не участь бездомной скиталицы – обладательницы призрачного трона страны, которая никогда не воскреснет!
– Византия воскреснет! – закричал незнакомец, и Мария в страхе опустила глаза. – А дочь Скарлатоса поможет ей в этом. И запомните: девочке нужен учитель – она должна быть достойна своего имени. Мудрость, знания, талант – вот, что необходимо наследнице Палеологов. Гетерия оплатит учебу Софии. И никакой работы в трактире: будущей императрице Византии не место среди пьяных гостей! София не должна общаться с посетителями: я боюсь, что один из них заставит ее свернуть с намеченного Провидением пути.
– Один из них? – переспросила любопытная Мария. – Кто же?
– Поляк… – после минутного раздумья ответил нежданный гость. – Красавец поляк, который вскружит голову вашей девочке. Но Польша не для нее. Ее ждет Россия.
– Россия? – опешил Максим. – Да что это за страна?
– Могущественная страна, – ответил гость, – друг нашей прекрасной Греции. Скоро начнется война, и Оттоманская Порта не выдержит натиска России.
Откровенное непонимание Максима и его жены заставило незнакомца прервать свою торжественную речь. Он не стал больше говорить о России и о грядущих победах над Оттоманской Портой. С горьким вздохом взглянул на своих непонятливых собеседников и сказал напоследок: «Я должен снова увидеть Софию».
– Девочка спит, – ответила Мария, твердо решившая выпроводить гостя.
– Тогда я подарю ей сладкие сны, – губы незнакомца дернулись в улыбке, но глаза так и не смогли улыбнуться. – Я должен еще раз взглянуть на вашу дочь.
В крохотную комнатку Софии они вошли втроем. Посланец Гетерии положил на горячий лоб девочки легкие, прохладные ладони, и она радостно заулыбалась во сне.
– Все верно, – еле слышно сказал гость. – София Скарлатос. Последняя из Палеологов. Странная судьба – как сладкое вино, которое отдает горечью. Империя, построенная на песке любви. И человек, который пожелает сделать ее императрицей. Сколько надежд! Сколько потерь!
Мария вопросительно заглянула в бездонные глаза гостя, и бывшей возлюбленной Скарлатоса показалось, что она погружается в зеркальную гладь.
– Моя девочка будет счастлива? – робко спросила она.
– Счастье? Что такое счастье? – пожал плечами незнакомец. – Песок, который течет между пальцев. Разве счастья нужно искать в этом мире? Мудрости и любви ищут сильные. У Софии будет и то, и другое.
– У меня была любовь, – вздохнула Мария. – И разве я была счастлива? Разве предсмертный вздох Скарлатоса не сидит в моем сердце, как заноза? Разве когда-нибудь я смогу забыть, как он умирал? Как затравленный зверь среди безлюдных гор… И не нашлось даже священника, чтобы прочитать молитву над его безвестной могилой! Моей дочери не нужна мудрость. Да и любви, разрывающей сердце, я ей не пожелаю. Покой и мир. Дом – полная чаша. Добрый муж и много детей. Вот и все, о чем я молю для нее Господа.
– Всевышний приготовил для Софии другие дары, – без тени сожаления ответил гость.
– Посмотрим! – зло усмехнулась Мария. – Я отвоюю свою дочь у той судьбы, которую вы ей уготовили.
– И у собственного отца? – продолжил гость, и Мария отшатнулась в испуге. – Гетерия поручила мне позаботиться о дочери Скарлатоса…
– Бог с тобой, Мария, не спорь с гостем, – вмешался осмотрительный Максим, – все в этом доме куплено на деньги Гетерии. Без Гетерии мы останемся без гроша!
Мария замолчала, но посланец Гетерии понял, что вдова Скарлатоса не сдастся без боя. С омраченным сердцем незнакомец вышел из комнаты Софии. И решил внимательнее, чем когда-либо, следить за судьбой семьи Максима Глявоне.
Глава 6 Казнь на площади
Прошло два года. Максим Глявоне выполнил все пожелания посланца Гетерии, кроме одного – он не мог спрятать красавицу дочь от многочисленных посетителей кабачка. Все они, как мотыльки вокруг свечи, кружились вокруг Софии, не зная, что пытаются любезничать с той, которая могла бы править ими. София и не думала отвечать на грубые ухаживания посетителей, дичилась и хмурилась, а когда кто-то из них заходил слишком далеко, не раздумывая кусалась и дралась. А одному янычару она разбила о голову чугунный горшок, и Максиму пришлось расплачиваться с ним за «унижение». Впрочем, Максим предпочитал выполнять указания Гетерии. Как мог он спорить с теми, кто набивал его кошелек?
Мария, впрочем, считала, что дочь должна выбрать себе хорошего мужа и отказаться от призрачного трона давно погибшей страны. Вдова Скарлатоса боялась Гетерии, как страшный, но волнующий сон вспоминала лагерь в горах Пелопоннеса, где она была так счастлива и так несчастна. Сколько раз она просила Скарлатоса покинуть товарищей, бросить бесполезную борьбу с сильным и безжалостным противником, зажить, как все – тихо, мирно, без испепеляющих душу забот и страстей. Он не соглашался и удерживал ее подле себя. А потом он погиб и не взял ее с собой на Поля Блаженных, где они наконец-то смогли бы отдохнуть. Так неужели ее девочка потратит молодость, а может быть, и всю жизнь, на погоню за призрачной свободой поверженной Греции?!
Как не могут понять они все, думала Мария, что Эллада мертва, и голос ее лишь робко шепчет в их жилах, тогда как турецкая кровь уверенно и властно зовет за собой подданных султана?! В жилах Хаджи Марии турецкая кровь смешалась с греческой, и лишь однажды она не послушалась властного голоса крови османов – когда полюбила красавца грека, оказавшегося наследником Палеологов.
Мария внимательно присматривалась ко всем, кто пытался ухаживать за ее дикаркой-дочерью. Искала для Софии мужа. И когда однажды в кабачке появился молодой и, по-видимому, отнюдь не бедный поляк, назвавшийся Каролем Боскамп-Лясопольским, доверенным лицом посла Речи Посполитой, госпожа Глявоне решила, что это вполне подходящая партия для ее дочери. Она не препятствовала разговорам Кароля и Софии и позволила поляку сколько угодно рассказывать о том, что, будь он Парисом, то присудил бы золотое яблоко не Афродите, а воспитаннице Максима Глявоне. Она упустила из виду только одно, что чугунный горшок в кабачке был только один – и тот разбился о голову янычара. А глиняными сколько поляка не бей – смысла не будет! Впрочем, шестнадцатилетняя София и не хотела драться с Каролем…
Пока Кароль заигрывал с Софией, а Мария поощряла эти ухаживания, Максим ждал посланцев Гетерии. Они должны были прийти и принести деньги, но никто из них давно не переступал порога кабачка. Последним приходил предсказатель-фанариот, посуливший его приемной дочери византийскую корону. Конечно, тогда он оставил тугой кошель, но все в этом мире приходит к концу – и деньги фанариота тоже закончились.
Братец Гавриил Ригас, казалось, напрочь забыл о семье Глявоне. Да и Георгий, друг погибшего Скарлатоса, тоже как в воду канул. И пока все эти доброхоты медлили в пути, поляк с редкой настойчивостью обивал пороги кабачка Глявоне. Так что Максим понемногу стал привыкать к его присутствию. Поляк всегда так щедро платил за вино и угощение!
Однажды, в душный августовский день, когда небо налилось сонной, мертвой тяжестью, Максим Глявоне оказался на базарной площади, где народу было, как камней на морском берегу. «Заговор против величайшего султана и падишаха…», «Гяуры-мятежники… Да покарает их Аллах…» – испуганно перешептывались прохожие. Кабатчик прислушался к говорящим и узнал, что люди султана раскрыли какой-то заговор, мятежники схвачены, и нескольких из них казнят сегодня на базарной площади. Максим почувствовал, как заныло у него сердце, и стер пот с похолодевшего лба. Мятежники? Уж не братец ли Гавриил Ригас со связанными за спиной руками подымется сейчас на плаху? А вслед за ним этот бродяга Георгий? Последнего Максим, впрочем, не особенно жалел.
Пока Максим терялся в догадках, глашатаи выкрикивали в толпу ферман султана Абдул-Хамида – с длинным списком добродетелей владыки и преступлений, совершенных заговорщиками. «…Абдул-Хамид-хан, всегда побеждающий… да умножатся его добродетели, да возрастет их сила… да будет счастливо завершение его дел… Поэтому по прочтении нашего высокославного фермана казнить преступников гяуров… Написан в месяц джемази 1189 года…[9] в нашей резиденции великого города Кастантинийе…[10]»
Максим пробрался сквозь толпу поближе к эшафоту и сумел разглядеть осужденных. Четверо из них были ему незнакомы, а вот пятый… Пристально вглядевшись в изуродованное пыткой лицо, кабатчик отпрянул в испуге. Пятым был Георгий, сподвижник покойного Скарлатоса. Храбрец Георгий с трудом хрипло дышал, в его мутных глазах застыло отчаяние. Вдруг взгляд осужденного остановился на Максиме.
«Я не выдал тебя!», – сказали глаза Георгия, и осужденный бессильно уронил голову на грудь. Максим благодарно встретил этот взгляд и побежал прочь, чтобы не видеть, как голова Георгия полетит в корзину. Но его настиг звук удара острого лезвия о колоду, в ноздри ударил тошнотворный запах крови.
«Матерь Эллада, прими душу сына твоего!», – подумал Максим и, похолодев от ужаса, представил, как его самого волокут к этой колоде, а жену с дочерью бросают в Босфор. «Бежать, бежать из этого проклятого города…», – шептал Максим, и слезы отчаяния кололи его лицо. По воле Гетерии или вопреки ее приказаниям – семья Глявоне непременно покинет Истамбул!
Глава 7 Галантный польский кавалер
– Я не хочу уезжать, – говорила София обеспокоенному Каролю, который только что узнал, что семья Глявоне покидает Истамбул. – Один раз они заставили меня уехать и расстаться с Константином, но второй раз этого не произойдет! Я не знаю их целей и боюсь всех этих людей, которые, как воры, приходят сюда ночью и твердят о свободе Греции. Они ни разу не посвятили меня в свои планы, не открыли ни одной из своих тайн… Так почему же я должна верить им?
– Кто такой Константин? – спросил Боскамп-Лясопольский, который из многочисленных вопросов и восклицаний Софии запомнил лишь это имя. – Ты его любила? Кто заставил тебя расстаться с ним?
– А ты не выдашь меня туркам? Ты – мой друг? – София скрестила свой твердый, как сталь, взгляд с лукавым взглядом Кароля. – Говорят, поляки – друзья Оттоманской Порты?
– Поляки чаще дрались с Оттоманской Портой, чем искали с ней мирного договора. Мы всегда сочувствовали грекам… – успокоил ее Кароль, но София не почувствовала в его мягком, вкрадчивом голосе силы и защиты, – И разве я смогу предать самую красивую девушку Эллады? Брось все, поедем со мной… Моя любовь и Речь Посполитая – вот, что я предлагаю тебе вместо бесконечных странствий. Вместо вкуса полыни на губах ты узнаешь сладость поцелуев!
Поляк говорил сладко и льстиво, и любая, более опытная женщина, почувствовала бы в его словах ложь, подкрепленную желанием, но девочка, мечтавшая о любви, увидела то, что хотела увидеть, – любовь.
– Бежать с тобой – покинуть отца, мать?! – София впервые задумалась о возможности побега с этим человеком, которому решила довериться и который чем-то напоминал ей Константина Ригаса – первую, полудетскую любовь и первое, недетское страдание.
– Неужели лучше переезжать из города в город по прихоти заговорщиков, которых рано или поздно настигнет гнев султана? – в бархатном, баритональном голосе поляка прозвучала досада – неужели эта красивая девчонка достанется кому-то другому? – Ты сама говорила, что одного из них казнили на базарной площади…
Они разговаривали в полумраке – в этот вечер кабачок закрылся раньше обычного, и София выпроводила всех посетителей, всех – кроме Кароля. После известной истории с чугунным горшком посетители выходили по ее первому слову. Села напротив Кароля за деревянный, исцарапанный ножами посетителей стол, налила поляку хиосского вина.
Максима с Марией в кабачке не было – они собирались в дорогу. Отчим второпях распродавал имущество, а Мария засветло ушла к себе, чтобы не мешать разговору дочери с человеком, которого она считала выгодным женихом. Да и фанариот, предсказавший Софии власть над империей, построенной на песке любви, не появлялся. София была предоставлена сама себе и любви к Каролю, а судьба ненадолго сняла с плеча девушки свою тяжелую и властную руку.
Горячие, настойчивые пальцы Кароля нашли мягкую, теплую ручку Софии, но она отстранилась, закрыла глаза ладонью, задумалась.
– Быть может, я не права? – спросила София. – Быть может, память отца призывает меня к иному?
– Кто был твой отец? – Боскамп-Лясопольский попытался оторвать ладонь Софии от ее ставших бесконечно печальными глаз.
– Вожак повстанческого отряда – я говорила тебе. Он погиб в бою в горах Пелопоннеса. Его звали Скарлатос. Скарлатос Панталес Маврокордато де Челиче. – София провела по лицу ладонью, как будто хотела стереть с него внезапно нахлынувшую тоску.
– Твоего отца не вернешь, – резонно заметил Кароль. – А со мной ты будешь счастлива и богата. В славной, веселой Речи Посполитой превыше всего ценят красоту. А ты красива, как богиня Олимпа.
– Которая из них? – этот банальный комплимент показался неискушенной в любовных признаниях Софии верхом изысканности. – Афродита, Афина, Гера? Может быть, Артемида?
– Афродита, конечно же, Афродита! – образованность Софии смутила поляка. Он счел, что разговор слишком затянулся и перешел к действиям – завладел руками и губами своей собеседницы. И когда горячие, жадные пальцы Кароля стерли печаль с лица Софии, она решилась бежать с ним следующей же ночью… Голос страсти одержал верх над голосом крови и рода.
Бедная Эллада – от нее отступилась последняя из Палеологов, чтобы стать случайной любовницей польского вельможи! София забыла об Элладе, но Эллада не забыла о наивной дочери Скарлатоса. Дочери Пелопоннесского героя предстояла совсем иная судьба.
Глава 8 При дворе султана Абдул-Хамида Первого
Двадцать седьмому султану Османской империи Абдул-Хамид Хану Первому в наследство от отца Ахмеда Третьего и брата Мустафы Третьего досталось единоборство с Россией. Румянцев, фельдмаршал императрицы Екатерины Алексеевны, с победоносным русским войском стоял на Дунае. Эта скифская империя давно уже положила глаз на «непорочную деву султана» – Черное море, которое в Истамбуле называли турецким, а в Санкт-Петербурге – Греческим. Но кроме Турецкого озера (или Греческого моря?) русским понадобились христианские подданные Османской империи на Балканах и в Крыму – болгары, греки, сербы и румыны. Под давлением скифского соперника некогда могучая и великая империя Османов клонилась к своему закату.
После череды тяжелых поражений султан решился пойти на уступки, и 21 июля 1774 года подписал мирный договор с русскими в местечке Кучук-Кайнарджи. По этому договору Россия получила Большую и Малую Кабардию, Еникале, Керчь, Азов, Кинбурн, свободное плавание по Черному морю, покровительство над Молдавией и Валахией, гарантию при разделе Польши. Крымским татарам Кучук-Кайнарджийский мир даровал независимость.
Англия и Австрия хранили нейтралитет. Однако каждая из этих держав наблюдала за борьбой турок и русских, ожидая исхода смертельной схватки. Султан Абдул-Хамид вынужден был признать превосходство европейцев в военном искусстве и пригласил на службу французских военных инженеров и офицеров. Намереваясь начистить до блеска истертую монету Оттоманской Порты, Абдул-Хамид І приступил к реформам, но государству было не до реформ. Султан оказался между двух огней – с одной стороны племянник, Селим III, стремился занять престол, с другой – империи угрожало тайное греческое общество, Гетерия.
В итоге Абдул-Хамид не мог навести порядок даже в Истамбуле, который упрямые греки вот уже три столетия подряд называли Константинополем. В прошлом смиренные провинции Оттоманской Порты, а ныне – осиные гнезда бунтовщиков: Сирия, Египет, Грузия не признавали власть султана.
Заговоры, доносы, пытки и казни… Абдул-Хамиду приходилось заниматься не реформами, а тайным сыском. Диван тайного сыска неусыпно следил за всеми, кто мог нанести вред султану и особенно за вероломными греками. Недаром в Истамбуле говорили – лукав, как грек. От наследников былой эллинской славы можно было ожидать любых козней.
О диване тайного сыска подданные султана говорили только шепотом – возвысить голос никто не осмеливался. Сыщиков подбирал сам великий визирь. Агенты должны были щупать пульс толпы – подслушивать, подглядывать и доносить… Шеф тайного сыска Халиль-Хамид давно уже следил за клефтами – Гавриилом Ригасом и Георгием Хадзекисом. Когда заговорщики появились в Истамбуле, их немедленно арестовали и подвергли допросу с пристрастием. Георгий Хадзекис под пытками не произнес ни слова, а Гавриил Ригас не выдержал нечеловеческих мучений и рассказал Халиль-Хамиду о последней из Палеологов – Софии Скарлатос Маврокордато де Челиче. Впрочем, его судорожный шепот, прерываемый воплями и стонами, едва ли можно было назвать рассказом… Однако и этого оказалось достаточно для того, чтобы Халиль-Хамид немедленно отправился с докладом к султану. Несчастный Гавриил Ригас умер под пыткой, а Георгий Хадзекис взошел на эшафот.
Главу тайного сыска султан всегда принимал в особом кабинете, в стенах которого постоянно текла проточная вода. Из-за шума воды никто не мог подслушать секретных разговоров султана.
– Да кто она такая? Откуда взялась? Уже два века, как Высочайшая Порта не слыхала о воскресших ромейских властителях… И тут появляется крестьянка, которую называют ромейской царевной! – Абдул-Хамид был вне себя от ярости.
– Повелитель, мои люди по крупицам собирали истину. – Халиль-Хамид давно не видел султана в таком гневе и приготовился на коленях просить о милости. – Эта девочка вместе с семьей жила на острове Хиос. Потом мать и приемный отец увезли ее в Истамбул. Приемный отец девчонки – Максим Глявоне – купил кабачок в квартале Пера, она – прислуживала посетителям. Без сомнения, семье Глявоне помогала Гетерия. У этого кабака давно была репутация притона мятежников. Одному из моих людей там даже разбили голову – то ли горшком, то ли тарелкой!
– Наследница ромейских императоров, воспитанная в деревне и подающая стряпню на стол! – расхохотался султан. – В Истамбуле принцессе не нашлось пристанища даже среди фанариотов. Едва ли она умеет читать и писать.
– Иоанн Маврокордато сказал, что ее учили грамоте, – уточнил Халиль-Хамид.
– Мой повелитель, – продолжил Халиль-Хамид, – В квартале Фанар о ней ничего не знают. И Маврокордато отрицал свое родство с этой Софией Скарлатос.
– Мы хотим поговорить с ним, – потребовал султан.
– Повелитель, прикажи меня казнить, – сыщик, как куль, упал в ноги к султану. – Арестованный не сможет поговорить с тобой. Этот неверный не выдержал пыток и отдал душу шайтану.
– Тогда нужно уничтожить семью Глявоне! – решил султан.
– Слушаюсь, мой повелитель, – визирь осмелился поднять глаза на султана.
– Только, – продолжил Абдул-Хамид, – мы не хотели бы, чтобы чернь связывала смерть этих Глявоне с сегодняшней казнью. Ведь глашатаи уже объявили о раскрытом заговоре. А тут новые заговорщики! Народ должен верить своему повелителю и его слугам.
– Повелитель, в том уголке Истамбула, где расположен кабачок Глявоне, ежегодно бывает несколько пожаров. Слишком много деревянных построек, и дома теснятся, как люди на базаре, – Халиль-Хамид осмелился подняться с колен. – Так почему бы кабачку не сгореть – вместе с людьми? Никто и не подумает связывать это с сегодняшней казнью.
– За дело, – завершил аудиенцию султан, – утром мы хотим услышать хорошие новости… Да славится имя Аллаха!
Глава 9 Исповедь Максима Глявоне
София Глявоне никогда не считала кабачок в квартале Пера своим домом, но переезд казался ей непоправимым несчастьем. Бегство из Константинополя, снова – корабль, а потом – города, дороги, чужие люди и стены. Сейчас она казалась себе придорожной пылью, для которой существует только воля ветра и нет своей собственной. Бежать с Каролем – совсем другое дело, ведь бегство с любимым – это выбор Софии, а не заговорщиков, которые приходят ночью и твердят о свободе Греции. Конечно, жаль расставаться с матерью и приемным отцом, но разве Мария и Максим не лишили Софию ее собственной судьбы, не разлучили с Хиосом и Константином, не сделали игрушкой в руках Гетерии?
Все было решено – ночью она незаметно выскользнет из дома, и Кароль сдержит свое слово – увезет невесту в далекое польское королевство, такое же прекрасное, как остров Хиос, который София так неосмотрительно покинула. Он не откажется от Софии, как отказался Константин. Что для него воля Гетерии и политические резоны?! Наконец-то она обрела друга, для которого закон жизни – любовь, а не политические хитросплетения. София и не подозревала, что Кароль всего лишь сыграл на ее уязвленной гордости и настоянной на времени печали.
Жениться на приемной дочери кабатчика только потому, что она красива?! Ему, высокородному шляхтичу? И ради ее мимолетной красоты поверить в никчемную выдумку о греческих заговорщиках, которые опекают семью Глявоне? Поляк и не думал связывать свою судьбу с нищей гречанкой. По его мнению, София годилась лишь для приятного романа, которым можно заняться на досуге – в стенах польского посольства в Стамбуле или по дороге на родину.
А таинственная Гетерия казалась Каролю кучкой пустоголовых греков, которых со связанными за спиной руками десятками приводят казнить на Базарную площадь. Его славная, веселая Речь Посполитая в отличие от зарвавшейся России не собиралась ссориться с Оттоманской Портой. К тому же в Варшаве Боскамп-Лясопольского ждала невеста, пани Домбровская. Но пока встреча с невестой откладывалась, и Кароль решил заняться Софией.
В эту душную летнюю ночь Софии долго не удавалось выбраться из дома. Помешал отчим – Максим Глявоне наконец-то решился рассказать падчерице, что она – последняя из Палеологов. Долго собирался с мыслями, трусил, потом все-таки осмелился. Легко ли? Девочка росла в бедности, сама стряпала и подавала на стол. Недавно, правда, щедротами Гетерии наняли учителя, чтобы наследница византийских императоров научилась грамоте. И вот теперь ошеломить ее такой новостью! Возгордится девчонка, над отчимом смеяться будет – еще бы, царевна! Куда до нее простому кабатчику… Максим и дальше бы молчал, если бы нутром не почуял – пора!
– София, девочка моя, посланцы Гетерии приходят в этот дом ради тебя, – робко начал он.
– Я знаю, – спокойно и, казалось, равнодушно ответила София. – Потому что я – дочь Скарлатоса. Мама рассказывала мне об отце.
– Верно, а ты знаешь, кем был Скарлатос?
– Вождем повстанческого отряда.
– А еще? – вздыхая, продолжил кабатчик.
– Не знаю, Максим… – недоуменно пожала плечами его воспитанница.
– Отец Захарий рассказывал мне, что предки Скарлатоса правили в Константинополе. – Максим опять почувствовал собственное ничтожество по сравнению с высокородным Скарлатосом. – И, стало быть, ты – София Скарлатос Маврокордато де Челиче – царевна… Люди Гетерии говорят, что тебя ждет трон Эллады.
– Меня? – от изумления София забыла о Кароле и задуманном побеге. – Кто сказал тебе об этом? Отец Захарий?
– Он и Георгий Хадзекис, который погиб во имя Эллады. И еще – Гавриил Ригас.
– Отец Константина? – перед мысленным взором Софии, покачиваясь на волнах воспоминаний, проплыла самая счастливая картина хиосского детства – они с Константином рука об руку медленно идут по апельсиновой роще, а где-то вдалеке шумит море. – Так вот почему мы покинули остров? Ради борьбы с магометанами?
– Бороться будут люди Гетерии, – успокоил ее Максим. – А твое дело – ждать своего часа. Они придут, как обычно, глубокой ночью и расскажут нам, как быть.
– Выходит, мы – игрушки, Максим? – щеки Софии стали пунцовыми от гнева. – И у нас нет собственной воли? Что, если я не хочу бороться? Если я мечтаю о простом счастье, а не о борьбе?
– Ты не можешь мечтать только о счастье, деточка, – Максим, скрепя сердце, повторил то, в чем убеждал его отец Захарий. – Ты – дочь Скарлатоса, наследница наших государей. У тебя иная судьба.
Он ждал от Софии ответа, но та лишь уткнулась лицом в плечо отчима и беспомощно, по-детски, расплакалась. Так Максим и не добился от приемной дочери ни слова. Что-то недодумала премудрая Гетерия! Разве годится эта девочка, мечтающая об обычном женском счастье, в византийские императрицы? Права Мария – ей бы замуж, да мужа хорошего, а не призрачный трон! Как только этого не понимал отец Захарий? Уж на что мудрый человек, а в девчонку поверил…
Максим с грехом пополам успокоил Софию и отправил девочку спать – утро вечера мудренее. На утро были назначены продажа кабачка и отъезд из Стамбула. Но Максим не успел осуществить это дело, как, впрочем, и другие земные дела. Ему помешал пожар.
Глава 10 Бегство из дома
В ту ночь София так и не смогла заснуть. Раз двадцать перевернулась с бока на бок, потом присела на постели, задумалась. Бежать с Каролем значило предать память отца, остаться – превратиться в игрушку в руках Гетерии. А Софии отчаянно хотелось посвоевольничать! После нескольких часов отчаянных раздумий она решилась только на одно – увидеться с Каролем и рассказать ему о своих сомнениях. Он ведь обещал глубокой ночью подойти к кабачку и ждать до тех пор, пока София не сможет выскользнуть из дома. София и не подозревала, что много лет спустя с тоской и пронизывающей душевной болью будет вспоминать эти последние мгновения под отчей сенью… От прошлого ее отделит пожар.
…София провела с Каролем несколько часов. Поцелуи, прерываемые нежными и пустыми словами, теплое, удивительно низкое небо, звезды на котором казались гроздьями винограда – хочешь, дотянись рукой! Пояс святого Георгия – пристань в окрестностях Константинополя, и звездный виноград, отраженный в воде… Потом польское посольство – спящий дом, по которому они ступали тихо, как воры, и разговаривали шепотом. Как болезненно сладко трепетало ее тело, когда его касался Кароль! Стыд? София не чувствовала стыда, только сводящую с ума медовую сладость. Поляк привел ее домой под утро, и в то же мгновение София поняла, что дома у нее больше нет.
Эта картина и много лет спустя преследовала Софию во сне – она подходит к кабачку отца, а вместо дома – обгорелый остов, завал, под которым погребены изуродованные тела ее близких.
– Матерь Божия, какое несчастье, все сгорели! – говорит кто-то рядом.
– Муж и жена, – причитает какая-то женщина, – верно, и дочка была в доме! Упокой, Господи, их невинные души.
– Говорят, – произносит первый, мужской, голос, – что накануне здесь шныряли соглядатаи султана.
«Кароль, где же ты, Кароль?!» – кричит София, и ладонь поляка ложится на ее губы, прерывая крик отчаяния и тоски. Потом Кароль уводит ее прочь, чтобы люди Халиль-Хамида, не приведи господь, не увидели ту, что должна была умереть этой ночью…
– Господин, все сделано чисто, – доложил Халиль-Хамиду его агент. – Сначала мы перерезали им глотки, а потом уже подожгли дом с кабаком. Только девчонки в доме не было. Лишь отец с матерью.
– Что ты плетешь, отродье шайтана? – замахнувшись палкой на своего слугу, взревел Халиль-Хамид. – Куда же она могла деться? Вы обшарили соседние дома?
– Ее нигде нет, господин, – ответил агент. – Девчонка как сквозь землю провалилась.
– Все должны думать, что она тоже сгорела в проклятом доме! – решил начальник тайного сыска. – И всемогущий султан тоже, да воссияет имя его в веках! А если проболтаешься, не сносить тебе головы!
Наутро, еще до молитвы, глава дивана тайной полиции доложил султану, что мнимая наследница ромейских императоров София Скарлатос Маврокордато де Челиче или попросту – София Глявоне – погибла вместе со своими родными во время пожара.
– Скверное место этот квартал в Пере! Там всегда случаются подобные неприятности… – произнес Халиль-Хамид и опустил голову. Все же он успел увидеть умиротворенную улыбку на губах султана.
Глава 11 В посольстве Речи Посполитой
София Глявоне значилась в расходных книгах посольства Речи Посполитой под именем Дуда. Поскольку она была записана, как прислуга, то и жить наследнице византийских императоров полагалось среди слуг.
Но Кароль Боскамп-Лясопольский, естественно, поселил красавицу у себя. В посольстве ему завидовали – еще бы: такая очаровательная любовница и к тому же совсем юная. «Будет нашему Каролю с кем поднабраться чувственного опыта, перед тем, как стать примерным мужем панны Домбровской», – смеясь, заявил посол. Сам он решил устроить свою личную жизнь по-турецки и приобрел у армянского купца двух чернооких грузинок, которых записал в расходные книги посольства, как горничных. К слову сказать, английский посол поступил точно так же, да и другие европейцы, волей случая или своих государей оказавшиеся в Истамбуле, тут же обзаводились любовницами, по сходной цене приобретая их у турецких и армянских купцов. Так что у Кароля Боскамп-Лясопольского было несомненное преимущество: София не стоила ему ни гроша.
Несколько дней София провела в постоянных рыданиях: Каролю даже пришлось вызвать для консультации английского врача, к услугам которого прибегали стамбульские европейцы, стесненные в деньгах. Турки называли этого лекаря Джамес-эфенди, европейцы – опиоман Мернс.
Джеймс Мернс, шотландец родом, брал за свои визиты на редкость дешево – больше брать не мог и не смел, поскольку о его тайном пороке знали все пациенты. Еще в Лондоне один знакомый француз угостил Мернса экзотическим блюдом под названием «давамески» – печеньем из гашиша. В то время Джеймс зачитывался приключениями корабельного врача Гулливера, и, подобно этому авантюристу от медицины, решил поступить корабельным врачом на судно, отправлявшееся в Истамбул. К тому же дорогих восточных товаров – опиума и гашиша – в столице Оттоманской Порты должно было оказаться предостаточно.
В Истамбуле Мернс продолжил врачебную практику и при первой возможности покупал опиум и гашиш. Платили ему сущие гроши – кто заплатит больше врачу, у которого то язык заплетается, то руки трясутся, то глаза мутные, как у дохлой кефали? Но, вопреки пристрастию к одурманивающему зелью, Мернс оставался неплохим специалистом, и клиенты на него не жаловались. К тому же Джамес-эфенди отличался редким качеством – он никогда не болтал о тайнах своих пациентов.
– Она все время рыдает и начала заговариваться… – рассказывал доктору Боскамп-Лясопольский. – Родители у бедняжки погибли, дом сгорел. Который день убивается!
– Сильнейшее нервное потрясение, – ответил врач. – Но ничего, это пройдет. Я вот тоже порой заговариваюсь… Ладно, я буду навещать вашу подопечную. Лекарства для нее изготовлю сам.
– Только, умоляю вас, не применяйте для этого столь любимый вами гашиш, – попросил его Кароль.
– Мне лучше знать, что помогает моим пациентам! Я владею секретами древней арабской медицины! – отрезал Мернс.
Через неделю Софии стало лучше, и за это время доктор Мернс преисполнился живейшего сочувствия к бедной греческой девочке. Джеймс готов был поклясться, что перед ним одна из богинь Эллады, только измученная, бледная, несчастная, пострадавшая от жестокости жалких двуногих животных, именуемых людьми. Опиоман Мернс был невысокого мнения о человечестве…
– У меня иная судьба, – шептала София в бреду. – Трон Византии… Но почему они убили маму и отца? И Максима?
– Не слушайте ее, – испуганно забормотал Лясопольский, и доктор Мернс понял, что поляк с большим удовольствием заткнул бы Софии рот. – Все эти греки мечтают о Византии, которая уже три века, как обратилась в прах…
– Не скажите, мой друг, не скажите, – пожал плечами Мернс. – Их мечты могут стать явью. Русская армия стоит на Дунае, а Оттоманская Порта подписала с Россией Кучук-Кайнарджийский мир. Говорят, русская императрица Екатерина намерена крепко тряхнуть турок и помочь единоверцам-грекам.
– Пустые слова! – по лицу Кароля скользнула брезгливая улыбка. Он не собирался выслушивать политические прогнозы этого опустившегося человека. – Султан Абдул-Хамид еще возьмет треклятых москалей за горло! Русские совершенно напрасно вообразили, что Речь Посполитая – их провинция.
– Кто знает… Быть может, это Россия возьмет за горло Оттоманскую Порту, – возразил врач. – А пока – берегите вашу гречанку, соглядатаи султана нынче повсюду…
– Посольство Речи Посполитой неприкосновенно! – горячо воскликнул поляк.
– Посольство – да, но если она решит выйти на улицу? Не будете же вы вечно прятать ее в четырех стенах?
– Для турок она не представляет никакой ценности, – солгал доктору Кароль. – Разве что как живой товар для гарема… Но эту женщину купил я. А турки – надо отдать им должное – уважают священное право собственности.
– Что ж, берегите вашу собственность, господин Лясопольский, – с видимым равнодушием ответил Мернс, но душа его впервые трепетала не от опиумных грез. – Вам повезло с любовницей. Настоящая богиня Олимпа…
– Да вы, я вижу, настроены на лирический лад, господин Мернс… – снисходительно заметил Кароль. – Ступайте, вас ждет гашиш! Сегодня вам будет на что купить давамески.
Вскоре Джеймс Мернс узнал, что его богиню Олимпа зовут София Глявоне. Пока бедная девочка приходила в себя, доктор Мернс успел заслужить ее симпатию. Он смотрел на Софию так сочувственно, так охотно ее выслушивал, и, главное, принимал всерьез любые ее слова, не то что Кароль, который морщился при любом упоминании об опекавшей его любовницу Гетерии. София безотчетно доверяла Мернсу – почему-то она была уверена в том, что этот опустившийся человек не способен на предательство. В чем-то он был искреннее и благороднее лощеного господина Лясопольского. Когда София перестала нуждаться в услугах Мернса, она испытала глубокое сожаление. Жаль было расставаться с человеком, который так сочувствовал ей! Но Кароль быстро указал доктору на дверь.
– Прощайте, богиня Олимпа, – успел прошептать ей Мернс. – Вспоминайте иногда обо мне.
– Я найду вас, – пообещала ему София. – Мы непременно увидимся…
За время, проведенное в посольстве, Кароль успел разочаровать очарованную им девочку. София быстро поняла, что он и не думает на ней жениться. Им было хорошо вместе, но и только. Каролю льстило, что гречанка предоставлена ему всецело, что в целом мире ей больше не к кому идти. Правда, вечера она любила проводить в библиотеке посольства и беспорядочно читала все, что попадалось под руку. Лясопольский с удивлением отметил, что София умна и даже несколько образованна.
Кароль охотно закрывал глаза на ее увлечение книгами – пусть читает, все равно главной страстью Софии Глявоне остается он сам. Снисходительный господин Лясопольский стал учить гречанку польскому, французскому и даже латыни. Должна же она при случае ответить на вопросы господина посла или перемолвиться с другими сотрудниками посольства! Любовнице Кароля Боскамп-Лясопольского не пристало молчать и глупо улыбаться. Через несколько месяцев таких уроков София стала настоящей светской дамой, и Кароль только диву давался – откуда у его гречаночки такие горделивые манеры, как будто она выросла не в деревне, а в аристократическом квартале Фанар. Иногда он, шутя, называл любовницу «прекрасной фанариоткой». Прекрасной она, разумеется, была, но фанариоткой – едва ли… Кароль ни на минуту не забывал, что кабачок Максима Глявоне располагался в квартале Пера.
Иногда, заставив Софию скрыть лицо под вуалью, поляк прогуливался с ней по городу. Лясопольский не преминул показать любовнице храм Святой Софии, построенный по приказу византийского императора Юстиниана, ныне – турецкую мечеть Айя-Софию.
– Говорят, во времена Византийской империи напротив храма стояла статуя царя Соломона, – решил блеснуть своей образованностью поляк. – А на постаменте – надпись: «Я – Соломон, а не ты». Император Юстиниан считал, что превзошел самого царя Соломона. Ведь именно он, а не Соломон, построил величайший храм мира!
– А потом Константинополь пал, и султан Мехмед, прозванный победителем, въехал в храм на белом коне! – в мягком, тихом голосе Софии неожиданно зазвенела сталь. – Мне уже рассказывали об этом когда-то!
– Рядом с храмом стояли четыре огромных коня, – продолжил Лясопольский, не обративший внимания на возмущенную реплику Софии. – Они сохранились до сих пор и находятся в Венеции, у дверей собора Святого Марка.
– Бедный Константинополь! Что осталось от его славы… – горько вздохнула София.
– Не стоит вести такие разговоры, девочка! – недовольно заметил Боскамп-Лясопольский. – Болтунов султан помещает в Эдикуль – Семибашенный замок. Это страшное место, моя дорогая. Тюрьма для политических преступников. Многие твои соотечественники побывали там.
– Я не могу не сожалеть о былой славе Константинополя! – горячо воскликнула София. – Ты же знаешь, меня зовут София Скарлатос Маврокордато де Челиче. Я – наследница византийских императоров.
– А вот об этом ты должна забыть раз и навсегда! – ладонь Кароля, как тогда, во время пожара, легла на губы Софии. – Если будешь болтать, люди султана найдут тебя и убьют. И даже я не смогу тебя спасти.
Лясопольский прочитал в глазах Софии испуг и удовольствовался этим. Он был уверен – девчонка слишком испугана, чтобы болтать о своем происхождении. Без помощи Гетерии греческая царевна превратится в неприхотливую любовницу польского шляхтича. А потом – кто знает? – быть может, он возьмет ее с собой в Варшаву. В качестве горничной для любимой невесты, пани Домбровской…
Глава 12 Интриги дипломата Деболи
К тому времени, когда единственным приютом греческой царевны оказалось польское посольство, Речь Посполитая перестала быть одним из крупнейших европейских государств. После смерти короля Августа III в Польше образовались два политических лагеря: реформаторы и республиканцы. Реформаторы, во главе с князьями Чарторыйскими, настаивали на союзе с Россией. Республиканцы, находившиеся под протекторатом семейства Потоцких, стремились к союзу с Австрией и Францией и ненавидели Россию. Императрица Екатерина II хотела было лично управлять Польшей, но волнения и бунты, к которым охотно прибегали шляхтичи, убедили государыню в том, что она не сможет удержать поляков в подчинении.
Однако 5 августа 1772 года Россия, Пруссия и Австрия разделили между собой наиболее аппетитные земли Речи Посполитой. В результате раздела Пруссия получила Вармию и воеводства Поморское, Мальборское и Хелминское. Россия заняла территории, расположенные на востоке от Двины, Друи и Днепра. Австрия – южную часть Краковского и Сандомирского воеводств, Освенцимское и Заторское княжества, Русское воеводство Галиция, а также части Бельского воеводства.
Державы, которым удалось поставить Речь Посполитую на колени, милостиво решили, что договор раздела должен утвердить высший законодательный орган поверженного государства – сейм. Король Речи Посполитой Станислав-Август Понятовский, в далеком прошлом – любовник великой княгини Екатерины Алексеевны, попытался было ослушаться свою былую возлюбленную и предотвратить раздел Польши, но оказался слишком слаб для такой великой миссии. Первый раздел Польши состоялся.
Аппетит, как известно, приходит во время еды, поэтому за первым разделом неизбежно должен был последовать второй. После подписания Кучук-Кайнаджирского мирного договора потенциальным союзником Речи Посполитой в борьбе с Россией могла стать Оттоманская Порта. Однако два колосса на глиняных ногах – Речь Посполитая и Великая Порта – серьезной угрозы для России не представляли. Но союз Речи Посполитой с Пруссией, а Великой Порты – с Францией, мог разрушить планы императрицы Екатерины.
Кароль Боскамп-Лясопольский инстинктивно ненавидел Россию и симпатизировал Оттоманской Порте. Поэтому поляка так разозлила уверенность доктора Мернса в том, что Россия рано или поздно поставит Порту на колени, а поможет ей в этом поверженная Греция. Еще совсем недавно, ухаживая за красивой дочкой кабатчика Глявоне, Кароль уверял Софию в том, что Речь Посполитая – друг Эллады.
Но кто осудит мужчину, вынужденного прибегнуть к небольшому обману, чтобы завладеть хорошенькой гречанкой? Он и не думал принимать всерьез рассказы Софии о тайном обществе Гетерия и императорской крови, которая якобы текла в ее жилах. А с недавних пор уверенность любовницы в своем высоком происхождении стала его раздражать. Как может эта кабатчица превосходить в знатности сына древнейшего польского рода, Кароля Боскамп-Лясопольского?
Сначала, слушая сказки, которыми потчевала его София, поляк лишь снисходительно улыбался. Но потом рассердился не на шутку и отчитал любовницу. София разрыдалась. Вместо утешения он овладел ею. Рыдания затихли. Девчонка долго лежала, не говоря ни слова, и разглядывала хрустальную люстру, украшавшую лепной потолок спальни дипломата. Каролю даже стало жаль бедную девочку, вообразившую себе невесть что. Он снисходительно обронил несколько ласковых слов, и София успокоилась. Она по-прежнему таяла от уверений в любви, которые не стоили ни гроша. С тех пор Лясопольский не мешал любовнице лепетать о своем царственном происхождении. Чем бы дитя не тешилось… По-своему он был привязан к дочери кабатчика и решил, что увезет Софию в Варшаву. Зачем расставаться с такой красавицей? Она еще доставит ему немало приятных минут.
Однажды в апартаменты Лясопольского заглянул мелкий служащий посольства по имени Деболи. Отобедал в роскошных апартаментах нунция, засмотрелся на юную гречанку, подававшую на стол. Красавица оказалась любовницей Лясопольского. Милая девочка и даже образованная, с хорошими манерами. Такой бы не на стол подавать, а украшать собой дом какого-нибудь достойного человека. Под этим достойным человеком Деболи имел в виду себя.
В тот же вечер Деболи написал донос. Трудился несколько часов, испортил много листов прекрасной белой бумаги с монограммой посольства. Наконец закончил свой великий труд и с удовольствием перечитал написанное. На конверте значилось: «A Sa Majesté, le Roi de Pologne…» («Его Величеству королю Польши…»). Донос был адресован королю Речи Посполитой Станиславу Понятовскому.
В письме Деболи обвинял Лясопольского в том, что тот пренебрег своим гражданским долгом. В столь трудные для Польши и католического мира часы нунций, забыв о вере и приличиях, предается греху с гречанкой (а ведь в Варшаве у господина Боскамп-Лясопольского есть невеста!). К тому же возраст юной любовницы нунция таков, что в приличном обществе его поведение можно истолковать как растление девочек.
Король Речи Посполитой отреагировал на письмо довольно быстро – Лясопольского вызвали в Варшаву для выяснения некоторых щекотливых обстоятельств, а должность нунция временно передали Деболи. О решении короля Лясопольскому сообщил тот же Деболи. И с удовольствием наблюдал за тем, как потрясенный Лясопольский отпускает солдатские ругательства, о существовании которых родовитый шляхтич и знать не должен, а потом, чуть ли не в слезах, прощается с любовницей. В целях конспирации этот глупец решил поговорить со своей гречанкой на латыни – как будто секретарь посольства Деболи не знал язык римского права!
– Vale et me ama![11] – говорил Кароль. – Vale et memor sis mei![12] – отвечала ему София. – Vale![13] – Боскамп-Лясопольский вышел за порог. София в слезах упала на диван, и тут к ней подступил утешитель – новый нунций посольства господин Деболи. Доносчик считал Софию законной добычей и терпеливо ждал того сладчайшего момента, когда сможет распоряжаться красавицей. Он успел, впрочем, заверить Лясопольского, что, в отсутствие дипломата, позаботится о его греческой «воспитаннице». Кароль предпочел промолчать – с него было довольно неприятностей.
Глава 13 Помощь доктора Мернса
Доносчику Деболи не повезло – красавица гречанка, которой он так увлекся, оказалась капризной и болезненной девицей, чуть что – сразу в обморок. С того времени, как Кароль Боскамп-Лясопольский покинул польское посольство, она все время болела или притворялась больной. «Нервное расстройство… – сказал доктор Мернс, которого Деболи вызвал для консультации. – А что, господин Лясопольский навсегда покинул Истамбул?».
– Навсегда, – ответил Деболи. – Его отозвал сам король. А свою… воспитанницу Лясопольский передал мне вместе с должностью.
Доктор Мернс нахмурился, но промолчал. Сел у постели больной, вгляделся в осунувшееся лицо своей богини Олимпа и понял, что не болезнь заставляет вздрагивать ее ослепительные плечи. София Глявоне дрожала от страха.
– Вы можете оставить нас, Деболи? – опиоман Мернс вопросительно взглянул на чиновника. – Обычно я не осматриваю пациенток в присутствии их… покровителей. – Мернс не нашел другого, более деликатного слова, чтобы обозначить статус Софии.
– Не вздумайте заигрывать с моей протеже, – предупредил Деболи, выходя из комнаты. – Иначе я не заплачу вам! Не сможете купить очередную порцию опиума. Или что вы там предпочитаете… Гашиш?
– Печенье из гашиша, – доктор Мернс давно уже не боялся подобных разоблачений, потому что привык к ним. У каждого свой путь в жизни, и что поделаешь, если обычному печенью некий шотландец предпочитает другое экстравагантное блюдо. – Такое лакомство турки называют давамески.
– Вы разыграли его? – спросила София, едва за Деболи захлопнулась дверь. – Гашиш? Опиум? Неужели вы… – Она искренне огорчилась за человека, к которому вот уже несколько месяцев испытывала неподдельное уважение.
– Я опиоман, богиня Олимпа, – вздохнул доктор Мернс, – но не бойтесь, я достаточно владею собой. – Джеймс давно уже не скрывал свой порок, но предпочел бы утаить его от Софии. – Чем я могу помочь вам? Я должен спасти вас от этого мерзкого человека?
– Меня трясет от отвращения, когда он прикасается ко мне! – быстро прошептала София. – Я притворяюсь больной, но Деболи скоро разгадает мое притворство. Мне нужно бежать. Но как? Куда? Родители погибли во время пожара. В целом мире у меня не было никого, кроме Кароля. Но и он меня предал. Я так хотела уехать с ним в Варшаву! Но он не взял меня с собой. Деболи говорит: «Лясопольский оставил мне тебя по наследству». Но как можно передать по наследству человека? Я что – вещь? Рабыня? Деболи не позволяет мне выйти из посольства. И у меня нет денег.
– Деньги есть у меня, богиня! – опиоман Мернс впервые в жизни почувствовал себя рыцарем и впал в настоящую эйфорию, как после двойной порции гашиша. – Немного, впрочем, но для бегства хватит. Я пропишу вам бани, турецкие бани. Здесь неподалеку, около кофейни Саида, есть одна такая. Наверное, Деболи не отпустит вас одну, но вы оставите своего провожатого в кофейне, а сами пройдете большую галерею, потом – пересечете внутренний дворик и выйдете на улицу чрез запасную калитку. Там я буду вас ждать. Попытайтесь все же как следует обчистить карманы Деболи перед тем, как мы дадим деру.
– Обокрасть? – испугалась София. – Но я не смогу…
– Полноте, обокрасть вора – не грех. А такого, как Деболи, – святое дело! – утешил ее Мернс. – Иначе мы не доберемся до христианских земель.
– Я попробую, – согласилась София, и Мернс с удовлетворением заметил, что у его богини прибавилось смелости. – Тише, кажется, Деболи возвращается…
– Ну что дал осмотр? – Деболи пытливо, испытующе заглянул в глаза Мернсу, но доктор ничуть не смутился.
– Я прописал вашей подопечной турецкие бани, – ответил Джамес-эфенди, – я всегда прописываю бани излишне чувствительным женщинам. Оттуда они возвращаются мягкими, как воск. Наслушаются рассказов о жизни в гареме и понимают, как хорошо иметь любовника-европейца. Турки – предусмотрительные люди, они отпускают своих женщин только в бани.
– Остроумно! – расхохотался Деболи. – А лекарства?
– Лекарства я изготовлю сам. Как обычно.
– Вместе с ней пойдет наш гайдук Янек! – решил Деболи. – Для бедняжки Софии эта прогулка будет развлечением. Она давно уже сидит здесь в четырех стенах. Мой предшественник Лясопольский прятал свою воспитанницу от всего Стамбула. Перед тем как последовать его примеру, сделаю девочке приятное. Ты довольна, София?
Деболи с удовлетворением заметил, что на губах этой вечно грустной девицы появляется не вымученная или фальшивая, а неподдельная, искренняя улыбка. «Надо будет иногда выпускать пташку из клетки, – подумал он. – Под присмотром Янека, конечно».
* * *
Софии все-таки удалось обокрасть Деболи. Позволила негодяю некоторые нежности, пообещала, что отдаст остальное, когда, стараниями доктора Мернса, будет совсем здорова, и незаметно вытащила из кармана доносчика ключ от посольского железного денежного ларца. Потом вшила в корсет две пачки ассигнаций. Все пальцы иголкой исколола, до того было трудно распределить бумажки так, чтобы первому встречному не пришло в голову, что она несет на себе приличную сумму.
«Это плата за мои страдания! – утешала себя София. – Если я служанка, которую передают по наследству, то мне по крайней мере надо платить жалованье. А Кароль так и остался моим должником. Его наследник – Деболи – и не подумал выплачивать долги. Теперь они заплатят мне оба! Точнее – мне заплатит Речь Посполитая!».
В последние дни София была сама не своя от ненависти и отвращения. От былого счастья не осталось и горсти праха. Кароль предал ее, превратил в живой товар, а ведь еще недавно клялся в любви и обещал взять с собой в Варшаву. Значит, из-за того, чтобы стать любовницей заезжего вертопраха, она свернула с намеченного Провидением пути, изменила памяти отца, сбежала от матери и Максима, отказалась выполнить волю Гетерии! А теперь рядом с ней нет никого, кто бы мог вернуть заблудшую душу на прежний, истинный путь! Никого, кроме доктора Мернса, который все же предложил помощь своей несчастной пациентке.
«Доктор Джеймс сказал, что нужно бежать в христианские земли! – думала София. – Он прав – иначе ищейки султана найдут и убьют меня. Только бы сесть на корабль, отплывающий из Стамбула. А там сам Господь укажет мне дорогу…»
В назначенный день она отправилась в турецкие бани в сопровождении верзилы Янека, посольского гайдука. Софии удалось оставить Янека в кофейне Саида, примыкавшей к баням, а потом незаметно выскользнуть на улицу через запасную калитку. Доктор Мернс дожидался ее здесь уже несколько часов. Только выглядел Мернс не лучше, чем самый жалкий из его пациентов – опухшее лицо, круги под глазами, набрякшие веки, дрожащие пальцы. Чтобы оказаться достойным богини Олимпа, Мернс вот уже несколько дней отказывался от обычной дозы гашиша и чувствовал себя так, как будто уже ступил за врата Аида. На сэкономленные отказом от нескольких дневных порций деньги Мернс купил фальшивые документы для себя и Софии и дал бакшиш капитану венецианского судна, покидавшего Константинополь. Правда, он надеялся захватить в дорогу порцию зелья…
– У вас есть деньги, богиня Олимпа? – спросил несчастный доктор, едва ступив на палубу корабля, отправлявшегося в крепость Озю через Румелию. – Капитан сказал мне, что судно простоит в порту еще четверть часа, я успею купить себе кое-что в дорогу.
София всмотрелась в опухшее лицо доктора с набрякшими, тяжелыми веками и, вздохнув, протянула Мернсу измятую ассигнацию из запасов посольства – единственную, которую она не зашила в корсет, а спрятала за вырез платья.
– Вы презираете меня, богиня? – спросил Мернс, но прочитал в глазах Софии только самое искреннее сочувствие. Его Афродита, Гера и Афина в одном лице презирала пороки, но не несчастья.
– Ждите меня на корабле! – заверил беглянку Мернс. – Я скоро вернусь, я успею!
Но бедному доктору Мернсу не суждено было успеть на корабль. В знакомой кофейне на пристани он купил давамески, но не удержался – попробовал тут же. Но поскольку уже несколько дней Джеймс отказывал себе в обычной порции, его развезло прямо в кофейне. Прислонился к грязной, заплеванной стене и медленно сполз на пол. Перед тем, как потерять сознание, увидел прямо перед собой грустное, обеспокоенное лицо Софии.
«Джеймс, где же ты?» – прошептали губы, которые он никогда не осмелился бы поцеловать, а потом видение исчезло. Когда опиоман Мернс очнулся, венецианский корабль давно покинул Истамбул, а вместе с ним и богиня Олимпа, до последней минуты дожидавшаяся своего спасителя и друга. Сойти на берег София так и не решилась…
У доносчика Деболи хватило ума не превращать исчезновение Софии в скандал. Он не стал преследовать несчастного доктора Мернса, который преступил все границы дозволенного и перешел на двойные порции гашиша. Бедняга Мернс проводил день за днем на пристани – иногда в кофейне, иногда – на берегу, и вспоминал о врачебной практике только тогда, когда нужны были деньги на очередную дозу. Он встречал каждый корабль, приходивший в стамбульский порт, и терпеливо дожидался, когда сойдет на берег последний пассажир.
София Глявоне в Стамбул так и не вернулась, а у доктора Мернса не хватило сил самому отправиться на поиски. Он состарился в ожидании и через несколько лет уже ничем не напоминал того жизнерадостного шотландского врача, который некогда ступил на землю Истамбула в поисках приключений и опиума. Иногда, расчувствовавшись, Джеймс рассказывал завсегдатаям кофейни в порту о своей богине Олимпа, и они посмеивались над сумасшедшим лекарем-гяуром, который влюбился в красотку из Румелии[14], но даже не прикоснулся к ней. Ни один мужчина в Истамбуле не стал бы так долго страдать из-за женщины – но почему бы не послушать сказку о том, как новый безумный Меджнун обрел и потерял свою Лейли…
– Почему же ты не отправился за румелийской красавицей? – однажды спросил у доктора один из посетителей кофейни, мелкий торговец, крутившийся около венецианских кораблей. – Влюбленный Меджнун, о котором сложили столько прекрасных поэм, непременно отправился бы вслед за Лейли. Куда отплывал тот корабль?
– Капитан сказал мне, что поведет судно в крепость Озю через Румелию… – вспомнил доктор Мернс.
– Ну и плыл бы себе в крепость Озю! – расхохотался торговец. – Верно, румелийская красавица дожидалась тебя там, сама не своя от страха.
– Сначала у меня не было денег… – оправдывался опиоман Мернс. – А потом я подумал, что она вернется за мной…
– Скатившаяся звезда никогда не возвращается… К тому же ты говорил, что она бежала от своего хозяина-гяура, – продолжил торговец, которого бездействие Мернса удивило не меньше, чем рассказ о румелийской Лейли. – Зачем бы она стала возвращаться в Истамбул?
– Я не знаю, не знаю, – твердил Мернс, – должно быть, тогда я совсем одурел от гашиша. Вот и не знал, что делать. А теперь время ушло.
– Так отправляйся в крепость Озю! – предложил торговец. – Может, румелийка до сих пор дожидается тебя на берегу!
Опиоман Мернс не выдержал насмешек, ночью, тайком, пробрался на первый попавшийся корабль и спрятался в трюме. Его обнаружили только тогда, когда корабль пришел в незнакомый порт. Моряки крепко избили бесплатного пассажира и выбросили беднягу на берег. От местных жителей Мернс узнал, что попал отнюдь не в крепость Озю.
Сначала несчастный долго и без толку блуждал по берегу, а потом набрел на развалины храма Святого Фоки. От некогда прекрасной церкви остался только фундамент и пол. Она давно уже была заброшена и стала притоном для курильщиков опиума. Здесь и поселился опиоман Мернс – иногда и ему перепадало от щедрот завсегдатаев развалин.
Джеймс перестал есть и пить, совсем высох – подачки курильщиков заменили ему скудную земную пищу. Однажды бедняга Мернс услышал легенду о святом Фоке, который принял мученическую смерть на том самом месте, где возвели разрушенный ныне храм. Святой Фока вырыл себе могилу за день до того, как его убили римские солдаты.
Опиоман Мернс решил последовать примеру святого Фоки и потратил несколько дней на то, чтобы вырыть себе могилу. Потом лег в нее, скрестил на груди руки, закрыл глаза и стал ждать смерти, которая довольно скоро пришла за несчастным доктором. То ли сжалилась над бедным Джеймсом, то ли тело бедняги уже не могло ей противиться… Исхудалая грудь Мернса перестала вздыматься, и он навсегда затих в своем последнем убежище.
Местные жители завалили могилу камнями, а потом забыли о ней. Только в стамбульской портовой кофейне помнили о бедняге, который отправился на поиски румелийской красавицы, да, видно, сгинул по пути. С влюбленными иногда такое случается…
Глава 14 Французский инженер
Удаляющийся Константинополь медленно тонул в волнах Черного моря, как земля во время Всемирного потопа. Казалось, совсем недавно так же таял, мерк, исчезал вдали остров Хиос с его апельсиновыми рощами, в которых можно было бродить до утра рука об руку, немея от теплого, сладкого, отпущенного в дар счастья. Сколько еще островов и городов должна она покинуть по воле Гетерии и своей собственной? Когда прекратятся скитания, которым как будто нет ни конца ни края?
Она не знала наверняка цели своего пути. Добраться до христианских земель – вот и все, о чем мечтала бывшая любовница шляхтича Лясопольского, сбежавшая от доносчика Деболи. Но кто ждет ее там, в христианских землях, и кому нужна теперь наследница византийских императоров, которая отказалась подчиниться воле Гетерии? Единственного друга – доктора Мернса – не было рядом: незадолго до отплытия он сошел на берег и исчез. Тщетно высматривала София в пестрой толпе на пристани беднягу-опиомана, называвшего ее богиней Олимпа. Так и покинула Константинополь – одна. Правда, в дороге ее развлекал болтовней француз инженер по имени Франсуа Леруа, приятный и обходительный, как лучшие представители его словоохотливой нации. Рассказы француза оказались более чем кстати, иначе София бы разрыдалась, как ребенок, случайно отпустивший в толпе теплую руку матери.
– А знаете ли вы, милая Софи, – болтал француз, – что турки строят крепости из греческого мрамора и на месте греческих укреплений? Я сам был тому свидетелем. Они не только перестроили до неузнаваемости античную крепость Алектора, но и переименовали ее в Озю. В крепость Озю я и плыву. Она расположена на берегах Черного моря – этой непорочной девы султана, как говорят в Истамбуле. Ах, какая у османов короткая память! Они успели забыть, что когда-то это море называли Греческим. И представьте себе, Софи, камень для новых укреплений турки берут из соседней с крепостью местности, именуемой Сто могил.
Некогда там находился древний город Борисфен, который описывал в своей истории Геродот.
– Или Ольвия, – продолжила София, – я читала историю Геродота.
– Я и не подозревал, что вы столь образованны, мадемуазель! Но откуда у прелестной турецкой ханым интерес к Геродоту?
– Я гречанка, сударь, – София почему-то испытывала безотчетное доверие к этому легкому, веселому человеку. – Княжна из рода Маврокордато.
– Куда же направляется очаровательная княжна? – титул Софии нисколько не интересовал француза, зато слово «очаровательная» он произнес сладко, напевно.
– Не знаю, – растерялась София. – Мне непременно нужно добраться до христианских земель, а там сам Господь укажет мне дорогу.
– Осмелюсь предложить себя в качестве попутчика, мадемуазель! – мгновенно нашел решение француз. – Из крепости Озю я следую в Речь Посполитую. Быть может, Софи, у вас есть друзья в Варшаве?
– Друзья потеряли мой след… – горько вздохнула София. – И едва ли можно назвать другом человека, который предал и продал тебя. У меня нет никого в Речи Посполитой. Впрочем, почему бы не нанести неожиданный визит одному предателю… – желание отомстить Лясопольскому тщетной, запоздалой злостью обожгло душу его бывшей любовницы.
– Давайте нанесем визит вашему предателю вместе! – весело предложил Леруа. – Предать вас – какой дурной тон! Эти поляки – они ничего не смыслят в приличиях! Не то что мы – французы!
– И что же мы ему скажем? – легко и бесшабашно, в такт Леруа, спросила София.
– Ровным счетом ничего, Софи, – рассмеялся француз. – Я и без слов смогу поговорить по душам с вашим поляком. Я, видите ли, недурно фехтую. Увеселительная прогулка по Варшаве нам обеспечена!
– Надолго ли вы задержитесь в крепости Озю? – Софии совсем не хотелось надолго оставаться в турецкой цитадели.
– Всего лишь несколько дней… – заверил гречанку француз. – Но со мной вы можете чувствовать себя в совершенной безопасности. У меня есть охранная грамота от султана Абдул-Гамида. Взгляните, мадемуазель… Откровенность за откровенность.
– «Подателю сего письма, франкскому инженеру Франсуа Леруа, предписываем всем нашим подданным оказывать повсеместную и незамедлительную помощь и защиту, – прочитала София. – Да будет это известно, а знаку Нашего Величества да будет вера! Писано в прекрасном и великом городе Кастантинийе, в месяце реби-уль-ахир, в году хиджры 1193, по франкскому счислению – 1780». Видимо, османам крайне необходимы ваши знания, – решила София, – иначе бы они не выдали такую бумагу гяуру.
– Османская империя, милая Софи, это колосс на глиняных ногах, – объяснил Леруа, – и без помощи старой, доброй Франции ей не устоять. Впрочем, вы – гречанка, и, наверное, ненавидите турок?
– Они убили всех моих близких, – перед Софией снова промелькнула страшная картина: пепелище на месте родительского кабачка в квартале Пера. – И мне осталась только ненависть!
– Тогда на время удержите свою ненависть в узде, – посоветовал француз. – Пока мы не доберемся до Польши. В крепости Озю я скажу, что вы – моя невольница, которая путешествует вместе со мной. Не стоит откровенничать с османами. О, тысяча извинений! Я ни в коей мере не хочу ограничивать вашу свободу, мадемуазель! Это всего лишь конспирация!
– Мне хотелось бы осмотреть то место, где находился древний город Борисфен! – воскликнула София, и Леруа несказанно удивила горячая мольба, прозвучавшая в голосе его собеседницы. – Возможно ли это?
– Сущие пустяки, душа моя, – заверил Софию Леруа, – вы увидите эту греческую святыню… И увезете с собой на память какую-нибудь безделицу. Какой-нибудь камушек…
Леруа сдержал свое слово. Уже через несколько дней они мяли в руках степную полынь и стояли на знойном, выжженном солнцем холме, к которому с вечной мольбой и любовью приникало Греческое море…
Глава 15 На земле древней Ольвии
По выжженному солнцем склону поднимался человек. Казалось, он был рожден редкой голубизны небесной гладью, которая там, вдалеке, сливалась с ультрамариновой линией моря. Незнакомец ступал медленно, как будто совершал торжественное шествие наверх – к руинам храма Аполлона Дельфиния, которыми любовались София и Леруа. Упрямая княжна из рода Маврокордато так хотела увидеть древний город Борисфен или то, что от него осталось, что галантному французу пришлось выполнить ее просьбу! Путешественники ненадолго задержались в крепости Озю, где военный инженер Леруа проконсультировал коменданта и офицерский состав гарнизона, а потом, перед самым отъездом, решили взглянуть на руины Борисфена.
Леруа заявил османам, что должен лично осмотреть камень, который используется для укрепления крепости, и отправился на прогулку, прихватив с собой красавицу-подругу. Коменданту крепости Леруа представил Софию в качестве наложницы, которую он купил в Константинополе, чтобы скрасить долгий и скучный путь на родину. Турки поверили – подобные покупки совершал в Истамбуле каждый второй европеец, а София согласилась на эту ложь, как на вынужденный маневр.
«Это всего лишь военная хитрость, мадемуазель! – заявил ей Леруа. – Иначе я не довезу вас до Варшавы. Надо же поквитаться с вашим предателем! Ах, если бы вы и в самом деле полюбили меня! Ну зачем вам этот мерзкий поляк?».
И вот теперь София стояла около ступенчатого каменного алтаря из причерноморского ракушечника, не решаясь взойти на раскаленные ступени. Кроме этого алтаря, от храма ничего не осталось. Однако прыткое воображение мгновенно дорисовывало недостающее. Совсем по-другому, рассеянным взглядом любознательного путешественника, смотрел на руины древнего города Борисфен французский инженер. Былое величие Греции не заставляло трепетать его сердце, бившееся в такт настоящему. Поэтому он оказался внимательнее Софии и первым заметил поднимавшегося к ним незнакомца.
– Взгляните, милая Софи, к нам кто-то идет! – прошептал Франсуа прямо в нежно розовеющее ушко спутницы, попутно коснувшись губами ее щеки. Надо же позволять себе иногда некоторые мелкие радости, если большее оказалось недоступным! София проявляла к своему попутчику только дружеский интерес и попросту отворачивалась, когда взгляд француза становился слишком пылким. Последние дни, и особенно ночи, проведенные в польском посольстве Константинополя, надолго отбили у бедняжки вкус к любовным приключениям.
Восклицание Леруа заставило Софию оторвать восхищенный взгляд от алтарных ступенек. Она обернулась в сторону спуска, который вел к морю, и увидела, что к ним приближается… тот самый фанариот, так убедительно рассказывавший ей и матери о константинопольском соборе Святой Софии. Это было неслыханно, невозможно, но в то же время до боли реально! Рядом с Софией и Леруа стоял посланник Гетерии, но теперь уже не в греческом, а в европейском наряде. Беглянка не могла не узнать это смуглое лицо и тонкие, гибкие пальцы, закрывавшие от солнца темные и тусклые, словно воды подземных рек, глаза.
– Вот я и нашел тебя, девочка! – сказал фанариот и на мгновение скрестил пальцы в условном знаке Гетерии. – После пожара я потерял твой след, хотя и догадывался, что этому гордецу Лясопольскому удалось тебя соблазнить. Я мог вырвать тебя из его рук, но хотел, чтобы ты сама поняла, что сошла с уготованного Провидением пути. И вернулась на этот путь по доброй воле.
– Но почему, – в голосе Софии неожиданное счастье смешалось с болью утраты, – господи, почему вы не спасли моих родителей? Почему Гетерия не помешала пожару? Максим говорил, что ваши люди повсюду…
– Нас предали, девочка, – ответил фанариот, – ищейкам султана удалось арестовать Гавриила Ригаса и Георгия Хадзекиса. Гавриил Ригас умер под пытками. А храбреца Георгия казнили на базарной площади Истамбула. Твой отчим, Максим, видел эту казнь. Поэтому никому не удалось предупредить твоих родных. Я же в те дни был далеко от Истамбула.
– Да кто вы такой, сударь?! – недовольно спросил Леруа. Этот бестактный незнакомец, обращавшийся с его княжной, как старый друг, начал раздражать инженера.
– Я граф Сен-Жермен, милейший господин Леруа, – успокоил француза фанариот. – Полагаю, что вы слыхали обо мне при дворе короля Людовика XV. А вашу спутницу я давно знаю. Я был другом ее отца.
– Это правда, Софи? – раздражение перестало звучать в голосе Леруа. Он действительно много слышал о графе Сен-Жермене, но и не подозревал, что этот таинственный господин когда-то посещал Константинополь и опекал княжну из рода Маврокордато.
– Да, Франсуа, – незамедлительно ответила София. – Этот человек – наш друг. Отойди, дай нам поговорить наедине.
Леруа немедленно отошел в сторону. Воля дамы, а тем более – столь очаровательной, была для него законом.
– Что мне делать теперь? – спросила София, едва Леруа оставил ее наедине с фанариотом. – Куда отправиться? Я сбилась с пути и больше ни в чем не уверена. Или опять Гетерия будет решать за меня?!
– Никто и никогда не станет решать за тебя, София, – устало сказал Сен-Жермен. Он подумал, что кружить по свету, чтобы плести нить судьбы, – не такое уж легкое занятие! Особенно, если люди так нервны и нетерпеливы. – У Всевышнего нет рабов. Делай то, что подсказывает тебе сердце. И даже если ты решила отправиться в Варшаву, чтобы свести счеты с Лясопольским, я не стану тебя удерживать. Когда-нибудь ты сама все поймешь и вернешься на истинный путь.
– Вы знаете мою судьбу? – спросила София.
– Конечно, мне она доподлинно известна… – вздохнул Сен-Жермен. Человеческое нетерпение много раз заставляло его вздыхать. – И ради того, чтобы ты была достойной наследницей древней эллинской славы, я на мгновение приоткрою завесу, скрывающую твое будущее. Взойди на эти ступени и посмотри в огонь жертвенного алтаря!
– Но алтарный огонь давно погас… – удивилась София.
– Огонь? – пожал плечами граф Сен-Жермен. – За огнем дело не станет.
Граф вытянул вперед правую руку, в которой сжимал бечевку с золотой монетой, раскачивающейся из стороны в сторону. Блеск золота на мгновение ослепил Софию…
…Огонь вспыхнул мгновенно, едва София успела подняться на первую, докрасна накаленную солнцем ступеньку. Она увидела сияющий белоколонный портик и статую Аполлона Врачевателя в полутемной глубине храма. София видела беломраморную Элладу в силе и славе, а не жалкие руины былого величия, камни, которые должны были стать строительным материалом для турецкой крепости Озю.
В царстве греческого бога Гипноса Борисфен, как и много веков назад, сиял великолепием. Город высился над Гипанисом, выше по течению Гипполаева Мыса, острого и крутого выступа материка в форме корабельного носа, на противоположном от Борисфена берегу. Здесь, на земле славной Ольвии, две великие реки Скифии, Гипанис и Борисфен, вливались в Греческое море.
София вгляделась в пламя жертвенного алтаря. В считанные секунды перед ее взором промелькнула еще не прожитая жизнь. И тогда у алтаря храма Аполлона Дельфиния, некогда украшавшего славный город Борисфен, она склонила колени, молитвенно сложила ладони и поклялась оставаться верной матери Элладе, которую, наверное, и не знала толком. Но кровь и голос предков говорили сейчас в Софии – и за нее.
– Я отправлюсь туда, где меня будут ждать люди Гетерии! – решительно и торжественно заявила София. – Я хочу послужить Элладе.
Граф еле заметно улыбнулся, и Софии показалось, что солнечный блик на мгновение коснулся его темных, как подземные реки, глаз.
– И последнее, – предупредил свою ученицу Сен-Жермен, – увиденное в пламени ты забудешь. Земной женщине такая память не под силу. Лишь одно, самое драгоценное мгновение ты сможешь запомнить и взять с собой в дорогу. Выбирай сама, какое воспоминание-предвидение придаст тебе сил в пути.
– В огне алтаря я видела своего суженого! – выбрала София. – Его образ я и возьму с собой в дорогу. Но кто этот человек?
– Пока ты не должна это знать… Лишь одно я расскажу тебе о нем: этот человек поможет восстановить древнюю эллинскую славу.
– Где я встречу его? И как узнаю?
– На шее он носит монету с надписью ΟλβιΟ. Это все, что ты должна знать.
София обреченно кивнула. Конечно, нетерпеливой юной особе хотелось знать имя человека, увиденного в алтарном пламени, но суровый взгляд, который бросил на нее посланник Гетерии, не располагал к дальнейшим расспросам. Оставалось узнать одно – где и когда она снова встретится с людьми Гетерии. Об этом Сен-Жермен рассказал охотно.
… У Софии остался прощальный подарок графа – золотая монета с изображением орла, сжимающего в когтях огромную рыбу, и надписью OλβιΟ. Наследница Палеологов стала носить эту монету на шее к вящему неудовольствию Леруа, который полагал, что столь очаровательной молодой даме пристали другие украшения… На рассвете следующего дня София и Леруа покинули крепость Озю, которая вскоре станет известной всему миру под именем Очаков и прославит силу русского оружия.
Глава 16 В Каменец-Подольской крепости
Каменец-Подольская крепость была последним форпостом по дороге на Варшаву. Здесь Леруа предстояло расстаться с Софией, не имея иной награды, кроме той, единственной ночи, когда спутница прильнула к нему с неподдельной или наигранной страстью. Француз подозревал, что сделала это она от одиночества, растерянности или тоски, ни на минуту не покидавшей душу беглянки. Хотя Сен-Жермен и заверил Софию, что Гетерия не оставит ее без помощи и защиты, обещанного заступничества гречанке оказалось мало. Ей захотелось ощутить вкус чужой любви – что же еще остается тем, чья душа омертвела – навсегда или на мучительно долгий срок? И вот теперь, когда впереди показались стены Каменец-Подольской крепости, попутчикам предстояло расстаться, потому что именно на эту твердыню указал Софии граф Сен-Жермен.
Но Леруа совершенно не хотелось расставаться с Софией. Он охотно примкнул бы к Гетерии, записался в ученики к Сен-Жермену, на время забыл о милой, доброй Франции – сделал бы все, что угодно, лишь бы не расставаться с гречанкой! С той самой ночи, о которой София быстро забыла, Леруа не мог вычеркнуть из памяти вкус ее сладких, как воздух Французского королевства, губ. Однако София не хотела вспоминать о том, что в одном из придорожных трактиров, не выдержав одинокой, отчаянно длинной ночи, сама пришла в комнату к красавцу французу.
– Почему именно эта крепость? – отчаянно вопрошал Леруа. – Сколько мы с тобой видели замков по дороге в Польшу, и ни в одном из них ты не пожелала останавливаться. Несколько месяцев пути, и все для того, чтобы оказаться в захолустном польском городишке! А ведь ты еще не видела ни Парижа, ни даже Варшавы! Скоро наступит зима, и ты останешься одна в этих ужасных польских снегах, одна – без помощи и поддержки!
– Сен-Жермен сказал, что здесь меня ждут друзья. У меня есть записка к коменданту Каменец-Подольской крепости.
– Diable! Но почему я не могу следовать за тобой? – горестно возмущался Леруа. – Это тоже решил за тебя граф Сен-Жермен?
– Граф сказал, что мы с тобой еще увидимся. – София хотела утешить своего доброго друга и попутчика и выбрала для этого единственно верное средство. – Непременно… Я дам тебе знать.
– Этот Сен-Жермен – просто шарлатан! – торопился высказать свой гнев Леруа. – В Париже я слышал о нем немало басен. Он считает себя полубогом – но кто он такой? Авантюрист, проходимец, которому удалось купить графский титул.
– Он – посланник Гетерии, – возразила София. – Он показал мне кольцо с изображением кентавра Хирона. Такое же я видела на острове Хиос…
– А я? – возмутился француз. – Неужели я ничего не значу для тебя, моя милая?
– Я служу Гетерии, Франсуа! – трогательное, пастельное личико Софии стало непроницаемым и бесстрастным. – В этой крепости меня ждут друзья. И если ты хочешь, чтобы когда-нибудь я дала о себе знать, оставь меня здесь одну. Пожалуйста…
– Pozwoli pani z'e sie przedstawie, jestem… – прозвучал за спиной гречанки незнакомый голос. Обернувшись, она увидела офицера лет сорока-сорока пяти, который вышел из крепости к ним навстречу. Приятное лицо и не менее приятный голос этого человека на мгновение показались ей знакомыми, но уверенность быстро исчезла.
– Czy pani ma… – продолжал офицер, не сводя с гречанки восхищенного взгляда, – passport?
– Nie. Я потеряла все документы… – отвечала София. – Но у меня есть записка к коменданту. От графа Сен-Жермена.
– От графа? – переспросил офицер. – Это резко меняет дело. Друзья Сен-Жермена – желанные гости в Каменец-Подольской крепости. Могу ли я взглянуть на письмо? Я – комендант крепости!
София протянула офицеру записку – и при первом взгляде на послание Сен-Жермена лицо офицера преобразилось. Теперь он смотрел на гречанку, как собака – на хозяина, а на Леруа, казалось, готов был оскалить зубы.
– Граф просит приютить вас, пани, – сказал комендант крепости, не преминув приложиться к руке Софии, – но только одну.
– Прости, Франсуа! – София обняла своего попутчика и друга, чтобы почувствовать знакомый запах французских духов и дорожной пыли. Этот аромат вот уже несколько месяцев олицетворял для нее защиту и спокойствие, а теперь, по воле Гетерии, наследница Палеологов должна была искать себе иных друзей.
Впрочем, София больше не роптала – если она сумела расстаться с Константином, то разве любая другая разлука выжмет из нее хотя бы слезу? Встречи и расставания – неизбежная вещь. К тому же Сен-Жермен обещал, что она снова увидит своего французского рыцаря. А Сен-Жермен не умеет ошибаться.
– К чему все это, ma cherie?! – в глазах Леруа застыла такая обида, что София на мгновение продлила прощальные объятия. – Зачем тебе оставаться в этой польской дыре? Поедем, нас ждет Париж, самый прекрасный город на свете! Или разреши мне остаться с тобой… Ради этого я согласен стать поляком. Так же, как только что готов был стать греком! И есть всю жизнь отвратительный кислый польский бигос, запивая его мерзким пивом! Лишь бы у твоих ног, моя дорогая…
– Эй, месье, полегче о нашем славном бигосе и чудесном пиве! – сердито вмешался поляк комендант. – Мне, может, тоже не нравится ваше кислое винишко и протухший сыр, который положено поедать прямо с плесенью! Но я не спешу признаваться в этом первому встречному на большой дороге!
– Это я-то первый встречный?! – Леруа схватился за шпагу.
– Полегче, галльский петушок, а то как бы вам перышки не пощипали! – рука поляка с внятной угрозой легла на эфес сабли.
– Сейчас же прекратите, господа! – закричала София. И добавила, обращаясь к поляку: – Разве граф просил вас затевать ссору с моими друзьями?
Упоминание о графе Сен-Жермене чудесным образом смирило гнев поляка. Он замолчал и отступил к воротам крепости, бросив вопросительный взгляд на Софию.
– Неужели ты покинешь меня, Софи? – в голосе Леруа прозвучало такое неподдельное отчаяние, что его спутница невольно растрогалась и смягчилась.
– Я не могу взять тебя с собой, Франсуа! – тихо сказала она. – Уезжай пока. Я дам о себе знать. Непременно.
– Ты обещаешь?
– Клянусь Элладой! – ответила София. – Ты же знаешь, что для меня это священная клятва…
– О, mon Dieu, как низко пал мир, если даже прекрасные женщины стали давать политические клятвы?! – в отчаянии вскричал Леруа.
Прощание княжны из рода Маврокордато с ее французским другом затянулось бы надолго, если бы не вмешался офицер-поляк, оказавшийся комендантом, и не увел Софию в доверенную его попечению крепость. София и не подозревала, что здесь она найдет не только друзей, но и мужа.
Часть пятая Графиня Витт
Глава 1 Новая жизнь, новое имя
София Витт, жена сына коменданта Каменец-Подольской крепости, майора Юзефа Витта, носила свое новое имя, как маску. Она спряталась за именем мужа, укрыла за ним недавнее константинопольское прошлое, апельсиновые рощи острова Хиос, Константина Ригаса, променявшего ее на Гетерию, и Кароля Боскамп-Лясопольского, уступившего ее Деболи. Гречанка из рода Маврокордато, наследница византийских императоров, превратилась в скромную супругу польского шляхтича, который иногда, для пущего блеску, называл себя графом.
Любила ли она Юзефа Витта? Едва ли. Отец и сын Витты смешили Софию своей шляхетской гордостью, самомнением мелкопоместного дворянства, которому она могла бы, если бы захотела, противопоставить подлинный аристократизм. Но Витты оказали Софии помощь, на время укрыли ее в Каменец-Подольской крепости, а Юзеф порой бывал очень мил – когда шляхетский гонор уступал место обходительности влюбленного.
На Юзефа Витта Софии указал Сен-Жермен – не как на суженого, Боже упаси! – а как на человека, с помощью которого она сможет послужить матери-Элладе. Иногда София с тенью сожаления и раскаяния думала о том, что цели Гетерии темны и неясны и, следуя им, она лишь множит людскую боль. Вспоминала мучительное и болезненное прощание с Леруа, его обиду и горечь, и сердце сжималось от боли. Когда же после месяца пребывания в Каменец-Подольской крепости отец и сын Витты, словно сговорившись, предложили Софии руку и сердце, гречанка выбрала молодого Юзефа, а не его зрелого отца, но при этом спокойно и, казалось, бесстрастно объявила жениху, что не любит его, над чувствами своими не властна, но будет хорошей женой, пока это в ее силах. Отец жениха не на шутку рассердился, хотел было проклясть сына, отбившего у него красавицу гречанку, но потом одумался и благословил молодых.
София сама удивлялась тому, как ровно и отчужденно звучит сейчас ее голос, некогда трепетавший от первой юношеской любви к Константину Ригасу, и болезненной, порой – унизительной, страсти к Каролю Боскамп-Лясопольскому. Душа Софии словно омертвела, и тщетно Юзеф Витт пытался высечь из нее хотя бы искру любви. Ночью, когда жена засыпала, Юзеф, забыв о шляхетской гордости, шептал Софии нежные, робкие слова обиженного ее равнодушием юноши, но лицо любимой оставалось невозмутимо-далеким, как мрамор эллинских храмов, о которых она иногда, растрогавшись, рассказывала ему. Так прошел не один месяц – в ее равнодушии и в его отчаянных попытках это равнодушие уничтожить, когда София вдруг заявила, что хочет увидеть Европу и Россию.
– Мы должны отправиться в путешествие, Юзеф, – сказала она. – Я получила известие от графа Сен-Жермена. Нам следует посетить Варшаву, а затем Париж.
– Варшаву? – изумление Юзефа не знало границ. – Чтобы наш король-сластолюбец загляделся на твою красоту? Эта крепость хранит тебя от мира, но мир жесток…
– Эта крепость – всего лишь временная пристань. – голос Софии прозвучал жестко и властно. – Я последую дальше. С тобой или без тебя…
– Со мной, конечно же со мной! – отчаянно воскликнул Юзеф, сжимая мягкие, как у ребенка, руки гречанки. – Ты ведь не покинешь меня?
– Не покину. – заверила его София. – Пока ты найдешь в себе силы следовать за мной. Мой путь долог, и я сама не знаю его конечной цели. Гетерия указала мне на эту крепость. Гетерия и граф Сен-Жермен – друг твоего отца.
– Сен-Жермен – всего лишь ростовщик моего отца! – Юзеф решил раскрыть Софии подлинные причины интереса загадочного итальянского авантюриста к коменданту Каменец-Подольской крепости. – У отца были карточные долги. Сен-Жермен заплатил их и стал нашим единственным кредитором. Теперь мы всецело зависим от него. Граф – недурной ростовщик. Говорят, он ссужал деньгами короля Прусского Фридриха. Да и наш король Станислав-Август не брезгует принимать помощь этого странного человека. Рассказывают, Сен-Жермен превращает металлы в золото и может купить всю Речь Посполитую!
– Кто же в советниках у короля Станислава-Августа? – рассеянно и, казалось, равнодушно спросила София. – Говорят, князь Адам Казимеж Чарторыйский?
– Ты прекрасно осведомлена, душа моя… – вздохнул Витт. Интерес Софии к политическим вопросам все больше раздражал Юзефа. Его молоденькую красавицу жену мало занимали наряды и украшения, зато о короле Станиславе-Августе, князе Чарторыйском или русской императрице Екатерине она готова была говорить часами.
София воспринимала свою красоту как нечто очевидное и неоспоримое, как шедевр, не нуждающийся в раззолоченной раме, но – проклятое влияние графа Сен-Жермена! – охотно расспрашивала останавливавшихся в крепости путешественников о том, что происходит на политической и военной сцене Европы. В крепости она отдыхала, по крупицам собирала растраченные в Константинополе силы и ожидала скорого изменения своей участи, которое, впрочем, всецело зависело от воли Гетерии.
– И еще говорят, что князь Чарторыйский путешествует по восточным пределам Речи Посполитой… – рассеянный, равнодушный взгляд Софии наполнился непонятной Юзефу силой. – Бог даст, он скоро будет здесь. А если он будет здесь, то нас ожидает приглашение в Варшаву.
– Откуда тебе, чужеземке, известны намерения сиятельного князя? – с самого первого дня своего скоропалительного брака Юзеф не понимал жену и сейчас лишь недоверчиво пожал плечами. Темны были ее слова и еще темнее – помыслы.
– Откуда? – на лице Софии появилась странная улыбка. – Иногда я знаю, что должно произойти. Обрывки воспоминаний, сны… В греческом городе Борисфен, от которого остались только руины, я увидела все, что будет со мной. А потом забыла, как будто спрятала подальше от глаз книгу, которую успела лишь пролистать. Но порой я вспоминаю… Как сейчас.
– Вспоминаешь? – по телу Юзефа прошла дрожь. – О чем?
– О том, например, что на днях в Каменец-Подольскую крепость приедет сиятельный князь Адам Казимеж Чарторыйский. И мы отправимся в Варшаву… – все с той же непонятной улыбкой повторила София.
– Но зачем, – возмутился Юзеф, – зачем нам ехать в Варшаву?
– Ради матери-Эллады, которой я служу! – ответила София. – Нас ожидают долгие странствия, друг мой. Ты можешь остаться в крепости и отпустить меня одну.
– Никогда! – воскликнул Витт. – Ни за что! Ты моя жена, и я поеду с тобой! Ты должна подарить мне сына, наследника!
– Сына… – София успокаивающим, мягким движением коснулась щеки мужа. – У тебя будет сын…Если ты поедешь со мной в Варшаву, а потом туда, куда поведет нас Господь.
– Я поеду, – сразу обмяк Витт, – поеду… Тебя представят королю Станиславу-Августу и назовут самой прекрасной пани, которую когда-либо видела Варшава. На горе мне и на радость тебе. А я стану только мужем красавицы. Но за это ты подаришь мне сына. А если ты поедешь дальше, он останется со мной.
– С нами, Юзеф! – мягкая, как у ребенка, ладонь Софии легла на затылок Витта. – Ты еще долго будешь следовать за мной по миру. Мы будем менять города и страны, едва успев к ним привязаться. Я покинула родину, и с тех пор все страны мне чужие. Потом ты устанешь и вернешься в Каменец-Подольскую крепость. Но пройдет много лет, прежде чем ты решишься на возвращение…
– Ты пугаешь меня, София, и всегда пугала! – воскликнул Юзеф. – Откуда ты знаешь все это?
– Увидела в огне алтаря! – ответила София. – Это было на руинах греческого города Борисфена.
– Моя жена – блаженная! – решил Витт. Юзеф наконец-то объяснил себе странные и пугающие речи жены и решил не перечить безумной. – Что ж, дождемся приезда князя Чарторыйского, – неловко улыбаясь, сказал он вслух.
Юзеф Витт готов был уже назвать жену безумной, когда в Каменец-Подольскую крепость неожиданно прибыл князь Адам Казимеж Чарторыйский. Этот колючий и недоверчивый старик осматривал фортификации под речкой Смотрич, неподалеку от Каменец-Подольска, и заглянул в крепость вместе со своим секретарем Юлианом Немцевичем. Вскоре пан Немцевич написал в дневнике: «Окрестности местечка и фортификация над рекою Смотричем оказались весьма красочными, однако наибольший интерес в Каменце-Подольском вызвала невестка коменданта тамошней крепости. Даже красота Елены, Аспазии и Лаисы, прославленных эллинских красавиц, меркнет пред красотой пани Витт. Мне прежде никогда не приходилось видеть женщину, столь прекрасную. Утонченные черты ее лица, очаровательные огромные глаза ее дополнялись ангельской улыбкой и голосом, который брал за душу. Глядя на нее, можно утверждать, что это ангел во плоти, который снизошел к нам с самих небес».
Красота пани Витт показалась князю Чарторыйскому оружием, способным молниеносно сразить неравнодушного к хорошеньким панянкам короля Речи Посполитой Станислава-Августа и помочь его собственным планам. Князь Адам незамедлительно пригласил Юзефа Витта с женой в Варшаву… Графиня Витт, не задумываясь, покинула крепость, и вместе с ней отправился сын коменданта.
Глава 2 Встреча с Каролем
В старом зале аудиенций Королевского замка, бывшего некогда резиденцией князей Мазовецких, король Речи Посполитой Станислав-Август Понятовский беседовал со своими друзьями и советниками – Адамом Чарторыйским, Каролем Боскамп-Лясопольским и вездесущим камергером короля Рыксом.
В этот августовский, бесконечно душный день былой любовник Софии Витт задыхался от раздражения и гнева. Король, улыбаясь с утонченной издевкой, спросил у него, так ли хороша, как рассказывают, гречанка по имени София, приехавшая в Польшу разыскать Боскамп-Лясопольского и вместо этого вышедшая замуж за недалекого шляхтича Витта. Кароль пожал плечами, промолчал, отделался неловкой, льстивой улыбкой. Но Станислав-Август требовал ответа, и Боскампу-Лясопольскому пришлось подтвердить, что новоиспеченная графиня Витт необыкновенно хороша. Задыхаясь от зноя и обливаясь потом, Кароль отвечал на бесконечные вопросы короля и, мазок за мазком, описывал красоту Софии…
– Головка ее напоминает голову известной Фрины, черты достойны резца Праксителя. Самые прекрасные в мире глаза и губы, линия подбородка достойна восхищения, волосы – словно у Дафны… – говорил Лясопольский, но тяжелая, гулкая ненависть к королю, словно веревка колокол, раскачивала его сердце.
– И зачем же ты оставил такое сокровище этому ничтожеству Деболи? – усмехнулся король, которому история Лясопольского показалась очень забавной. – Мне донесли, что твоя красавица бежала из Константинополя при помощи опиомана-врача, а потом вышла замуж за этого глупца Витта…
– Меня отозвали из Константинополя! – Кароль почти не скрывал обиды. – Я повиновался приказу Вашего Величества. К тому же в Варшаве меня ждала невеста, пани Домбровская. Божьей волей я ныне женат.
– Божьей волей твоя гречанка стала графиней! – рассмеялся король. – И князь Адам посоветовал мне пригласить ее ко двору, украсить собой этот старый замок.
– Właśnie tak[15]… – поспешил подтвердить Чарторыйский. («Смеется, рисуется, – думал Боскамп-Лясопольский, с ненавистью вглядываясь в красивое, холеное лицо короля. – Успел позабыть о том, что на престол Речи Посполитой его посадила русская императрица Екатерина. Наш дражайший король был ее любовником в те далекие времена, когда именовался всего лишь Станиславом-Августом Понятовским. Ему ли осуждать меня!»)
Король сделал еле заметный знак камергеру, и Рыкс распахнул тяжелые оконные створки. С высоты второго этажа Замковая площадь была как на ладони. На мгновение Станиславу-Августу показалось, что с тридцатиметровой колонны на него смотрит Сигизмунд III Ваза и его суровые бронзовые губы безуспешно пытаются что-то произнести, о чем-то предупредить…
«И чего мне в самом деле бояться? – спросил у самого себя король. – Мало ли красавиц видели эти стены? Ни одна из них не затмит Фике… Ах, Фике, великая княгиня Екатерина… Она стала императрицей и сделала меня королем…»
– Где же сейчас твоя прекрасная пани? – спросил король у Чарторыйского.
– В Варшаве, Ваше Величество, – ответил Чарторыйский. – Супруги Витт ожидают приглашения в замок.
– Так пригласи их! – решил король. – Посмотрим, какова эта греческая богиня… Так ли хороша, как утверждает наш друг Лясопольский… И другие лица, которые пожелали остаться неизвестными.
Кароль побагровел. В этот душный день ему предстояло испить до дна чашу унижения, как некогда, в Константинополе, греческой девочке, которую он считал подходящей горничной для пани Домбровской. Теперь Лясопольскому предстояло увидеть сиятельную графиню Витт…
* * *
Поставляя красавиц Его Величеству Станиславу-Августу, князь Чарторыйский намеревался ослабить правление и без того слабого короля. Понятовского, ставленника русской императрицы, до сих пор снедала печаль по великой княгине Екатерине – тоненькой Фике, ставшей дородной матушкой-государыней. Чтобы развеять эту печаль, королю нужны были бабочки-однодневки, все эти польские шляхтянки, которые озаряли собой унылые стены и улетали прочь, опалив тоскливым равнодушием Понятовского хрупкие крылышки своей красоты и молодости. А пока король Речи Посполитой тщетно пытался развлечься, сиятельный паук – князь Чарторыйский – плел прочную сеть интриг, в которой легкомысленный король непременно должен был запутаться.
Графиню Витт князь Чарторыйский решил попросить о маленькой услуге. Ей следовало намекнуть одному из первых польских вельмож, что два ближайших советника короля – камергер Рыкс и генерал Комаржевский – задумали убить Чарторыйского. Сиятельный князь считался одним из главных претендентов на королевский престол и был уверен, что враги Станислава-Августа не преминут воспользоваться этим доносом, чтобы обвинить короля в посягательстве на жизнь своего двоюродного брата – истинного польского патриота Чарторыйского. Греческой красавице князь отводил неблаговидную роль – вызвать в рядах польской шляхты недовольство королем, севшим на трон Речи Посполитой при помощи русской императрицы. Донос, прозвучавший из очаровательных уст Софии Витт, усилил бы партию польских патриотов, противников влияния русского правительства на польские дела.
– Я убежден, – увещевал Софию Чарторыйский, – что скромная роль жены Юзефа Витта несовместима с вашей красотой и умом…
– Что же вы собираетесь предложить мне взамен? – Софию смешила уверенность этого старика в своем праве на ее бессмертную душу, и она с трудом сдерживала вполне понятный гнев.
– Ваш муж получит чин генерала и должность коменданта Каменецкой крепости вместо отца! – ответил искуситель и добавил чуть слышно: – Однако это случится лишь тогда, когда сейм сделает меня королем Речи Посполитой и низложит Понятовского.
– И чем же вам не угодил Понятовский? – София обворожительно улыбалась этому покупателю человеческих душ, которого намеревалась обвести вокруг пальца – благодаря помощи Сен-Жермена и собственной ловкости. – Говорят, русская императрица к нему благоволит…
– Именно тем, графиня, что русская императрица к нему благоволит! – Чарторыйский тщетно пытался заглянуть в закрытую от него душу собеседницы (неужели эта красивая девчонка еще и умна?). – Речи Посполитой не нужен русский ставленник на польском троне.
– Я не советовала бы вам, князь, ссориться с императрицей Екатериной! – невозмутимо заметила София. – Польский гонор и польские сабли непременно проиграют русскому золоту и русским штыкам. К тому же Его Величество Станислав-Август не так слаб, как вам кажется. Вы непременно потерпите поражение, князь, а я не привыкла участвовать в заведомо безнадежных партиях.
– Если вы откажетесь содействовать мне, графиня, то я не смогу представить вас королю… – князь попытался урезонить зарвавшуюся иностранку, но равнодушная светская улыбка, казалось, застыла на губах Софии.
– Король уже знает обо мне! – ответила госпожа Витт. – И вы не сможете остановить меня, князь. У меня есть покровители более могущественные, чем все короли мира. Я буду представлена Его Величеству…
– Кто же представит вас, графиня? Этот наглец, Кароль Боскамп-Лясопольский, с которым, говорят, вы были близки в Стамбуле?
– Меня представит письмо, которое Его Величество уже получил. – Вопреки ожиданиям Чарторыйского имя Боскамп-Лясопольского не вызвало у Софии даже слабого смущения.
– Кто же написал это письмо, графиня? – Чарторыйский считал, что София блефует, и не поверил ни единому ее слову.
– Вы узнаете об этом от короля! – рассмеялась гречанка и оставила князя наедине с его догадками и подозрениями…
Станислав-Август Понятовский действительно получил накануне письмо, которое открывало перед Софией сердца и двери. Его написал граф Сен-Жермен – один из друзей великой княгини Екатерины, ставшей всемогущей русской государыней.
Глава 3 При дворе короля Речи Посполитой
В душный летний вечер Кароль Боскамп-Лясопольский, изнывая от раздражения и обливаясь потом, нервно прохаживался по одному из парадных залов замка, дожидаясь появления графини Софии Витт, которую должны были представить Его Величеству Станиславу-Августу. Кароль ожидал увидеть красивую гречаночку, которая осмелилась играть роль аристократки и забыла о том, что в Посольстве Речи Посполитой в Константинополе подавала на стол и обслуживала его ночами. Лясопольский рассчитывал на появление робкой девочки, которая словно воск таяла некогда в его руках, и совершенно не предполагал, что перед королем предстанет властная и невозмутимая особа, лишь отдаленно напоминавшая его Софию.
Графиня Витт появилась вместе с мужем, влекшимся за ней, как шлейф. Она не вошла, а вплыла в зал – словно Афина-Паллада на ростре устремленного навстречу победе корабля. Голова гордо поднята, лицо словно высечено из мрамора. Эллинской богиней показалась она гостям, и Станислав-Август восхищенно замер, на мгновение позабыв о русской императрице, о своей бесконечно любимой Фике. «Холера ясна… Яка пенькна краля!», – невольно пробормотали губы короля.
Лясопольский сделал несколько шагов навстречу женщине, называвшей себя прежним именем, но властно перечеркнувшей прошлое победой над былыми страстями. Сделал несколько шагов – и застыл посреди залы. София даже не смотрела на него – она обворожительно улыбалась королю, а король откровенно любовался этой греческой богиней.
– Вы не помните меня, графиня? – вмешался Кароль, и София скользнула по его побагровевшему от духоты и раздражения лицу небрежным взглядом.
– Не буду отрицать, я встречалась с вами, пан Лясопольский… – ответила гречанка. – Однако же я успела изрядно об этом подзабыть.
– Пани Витт отличается редкой забывчивостью! – не сдержался Кароль. – В былые времена я слышал от вас совсем иные речи… («Пся крев… Пшеклёнта курва!», – подумал он.)
– Какие же? – все так же равнодушно ответила София. – Быть может, вы напомните мне о них?
– Не стоит тревожить пани Витт пустяками! – вмешался король. – Наши друзья предупредили меня о ее былых несчастьях, но теперь они позади…
Под «нашими друзьями» Станислав-Август имел в виду графа Сен-Жермена, от которого накануне получил пространное послание. Обычно граф писал польскому королю короткие записки, но в этот раз решил, видимо, потешить романтическую душу Понятовского и написал длинное и подробное письмо, в котором рассказывал о государыне Екатерине, некогда – маленькой Фике, о том, что происходит ныне при петербургском дворе, а напоследок просил оказать любезный прием его протеже – графине Софии Витт. Сен-Жермен сыграл не последнюю роль в знакомстве Понятовского, тогда посланника Речи Посполитой при русском дворе, и великой княгини Екатерины. Он свел мечтавшую о любви одинокую женщину, оскорбленную равнодушием мужа и ветреностью Сергея Салтыкова, и романтически настроенного поляка, который с той далекой поры словно позабыл свою душу между страницами прочитанной Фике книги.
Понятовский часто вспоминал сладкие летние дни в Петергофе, скамейку в парке, на которой они сидели бок о бок, и лежавшую на коленях у Фике книгу – «Персидские письма» Монтескье. Книгу Фике бросила ради поцелуев и позволила ветру перелистывать страницы, которые только что упоенно перечитывала. Польскому королю казалось иногда, что он так и остался сидеть на этой скамейке в парке, среди русского раззолоченного великолепия, рядом с великой княгиней Екатериной, а все остальное, в том числе и трон Речи Посполитой, – лишь унылый и неотступный сон. И вот теперь перед ним стояла греческая красавица, еще более прекрасная, чем Фике в те невозвратимые летние дни, и отвечала на оскорбительные колкости Кароля Боскамп-Лясопольского. Этот обмен ядовитыми стрелами следовало прекратить, и Понятовский спас гречанку, ответив на последнюю реплику Лясопольского вместо нее.
– Греческая княжна из рода Маврокордато умерла! – сказал король. – Перед вами, пан Лясопольский, сиятельная графиня Витт, которая, стараниями нашего дорогого князя Чарторыйского может стать генеральшей.
О будущем генерале, Юзефе Витте, в этот момент никто даже не вспомнил. Он молча стоял рядом с женой и казался сам себе не более чем пажом красавицы.
«Я отомщу Софии и всем этим господам! – думал Витт. – Непременно разведусь с этой коварной вертихвосткой, как только получу от короля генеральский чин, а от нее – сына… Которого она больше никогда не увидит!»
В этот миг он впервые пылко ненавидел Софию. Воистину, от любви до ненависти один шаг!
София благодарно склонилась перед королем, а тот откровенно любовался женщиной, которая была так непохожа на его Фике. Ветер захлопнул книгу, забытую на скамейке петергофского парка, и Понятовский почувствовал, что снова обретает душу, которая, словно просыпающийся медведь в берлоге посреди польской пущи, лениво, но мощно заворочалась в его груди.
«Покупая, я лишь унижу эту женщину… – подумал Понятовский. – А наш друг Сен-Жермен писал, что она и без того узнала достаточно унижений. Подождем… Да и лишних денег у меня нет. Зато галантности – сколько угодно! И совершенно бесплатно…»
Король Речи Посполитой страстно поцеловал руку графини Витт, и у Кароля Боскамп-Ляспольского потемнело в глазах. Былая рабыня становилась госпожой, которой отныне следовало повиноваться. Но София уже не нуждалась в повиновении Кароля. Медленно, словно скользя по паркету, выплыла она из залы, вслед за ней, уныло опустив голову и стиснув кулаки, вышел муж. А князь Чарторыйский подумал, что ошибся в этой красивой гречаночке, которая никогда не будет безвольной куклой в его руках. София не годилась для предательства. Ей была под стать только слава.
Глава 4 Признания Станислава Понятовского
Славная София, пребывание твое Мне навевает мысли о Трое. Исчезла Троя по той же причине: За Каменец я теперь беспокоюсь…Эти строки, сочиненные придворным поэтом, красавцем, франтом и отчаянным смельчаком Станиславом Трембецким, прочитал Софии его тезка, король, когда прогуливался с графиней Витт по симметричным, безукоризненно правильным, усыпанным гравием дорожкам парка.
София уже месяц была гостьей короля Речи Посполитой, и за это время Понятовский не без сожаления отказался от намерения сделать гречанку своей любовницей, но с дальновидной мудростью предпочел видеть в ней союзника и друга. Он испытывал странное уважение к этой женщине, которой покровительствовал сам граф Сен-Жермен, оказавший немало ценных услуг императрице Екатерине. В этой красавице, так уверенно и невозмутимо переступившей порог Королевского замка, было нечто, внушавшее волнение и трепет. Но Станислава-Августа заставляла трепетать отнюдь не красота этой греческой богини, а всего лишь одна строчка из письма Сен-Жермена, подтверждение которой он находил в каждом слове и жесте Софии.
«Перед Вами, Ваше Величество, княжна из рода Маврокордато, последняя из Палеологов, единственная Божьей волей наследница Константинопольского престола, которой скоро будет покровительствовать всевластная российская государыня…», – писал Сен-Жермен. Король Речи Посполитой, добившийся польского трона благодаря военной помощи русской императрицы, готов был покровительствовать греческой княжне. Вот и сейчас он, улыбаясь, процитировал графине Витт восхищенные и в то же время полные затаенных опасений строки Трембецкого, в которых София сравнивалась с Еленой Троянской.
– Если Елена Троянская навестила Варшаву, то Речь Посполитую, может статься, ожидает судьба Трои… – эти слова Понятовский произнес с печальным вздохом. Король Польши, возведенный в этот сан с помощью русских штыков, считал свое положение опасным и непрочным. Понятовский охотно верил предсказателям, подобным графу Сен-Жермену, и во всем искал счастливые или несчастливые знаки. Особенно он боялся появления Белой Дамы – призрака, с недавних пор зачастившего в Варшаву. Король был уверен, что Белая Дама являлась ему.
– Недавно я видел Белую Даму… – признался он Софии.
– Что за это Белая Дама, государь? – спросила графиня Витт, чуть сильнее, чем обычно, сжав руку короля, на которую опиралась.
– Говорят, что это – девушка, с которой обошлись жестоко. Она умерла рано и насильственной смертью, а потом стала являться жителям Варшавы и предвещать им всяческие несчастья. Она одета в белое платье, в руках связка ключей – должно быть, от сундука Пандоры, в котором спрятаны все беды рода человеческого. Не приведи господь, чтобы Белая Дама открыла свой сундук в мое царствование! Тогда Речи Посполитой не избежать второго раздела! – Понятовский так верил в таинственный призрак, внушавший ужас жителям Варшавы, что София не смогла скептически пожать плечами и рассмеяться. О Белой Даме она слыхала и раньше – от собственного мужа.
– Неужели Белая Дама разговаривала с вами, Ваше Величество? – сочувственно спросила София.
– Я увидел ее на противоположной стороне Замковой площади, в доме, от которого начинается Свентояньская улица… – признался король. – Эта улица, дорогая графиня, уходит в глубь Старого города, где вы уже не раз успели побывать. Она стояла у открытого окна второго этажа и звала меня к себе. Словно завороженный, я вышел из замка и, миновав колонну Сигизмунда Вазы, подошел к дому… Вы – ученица Сен-Жермена и должны верить в сверхъестественное… – словно, оправдываясь, добавил король.
– Я – ученица человека, который называет себя Сен-Жерменом, Монфера или Ракоци… – тихо сказала София. – И я верю в сверхъестественное… – Она вспомнила руины Борисфена и огонь алтаря, в котором разглядела собственное будущее. – Сен-Жермен научил меня видеть и знать. Но знание лишь умножает печали…
– Белая Дама заговорила со мной, – продолжил король. – Она принесла мне дурную весть – о том, что Речь Посполитую разделят между собой три могущественные державы, и я буду ее последним королем. Моя собеседница обещала вернуться в очередной раз, в мгновение агонии Речи Посполитой – и моей собственной. После второй встречи с Белой Дамой я умру. Бедная Польша! Мой жалкий жребий!
– Русская императрица не допустит гибели Польши! – попыталась успокоить его София. – По крайней мере пока вы – ее король.
– Князья Чарторыйские хотят лишить меня трона… – обреченно признался Понятовский. – У короля Речи Посполитой мало друзей. Даже этот льстец Трембецкий – и тот держит сторону шляхты. Шляхта горда и спесива, она не потерпит русского ставленника. Когда будете при русском дворе, напомните обо мне императрице Екатерине… Граф Сен-Жермен написал, что ваш путь лежит в Пруссию, Францию и Россию.
– Мой путь мне неведом, Ваше Величество… – ответила София. – Я иду туда, куда указывает Гетерия – братство патриотов Эллады. А Российская империя ныне – единственный друг Греции и дунайских княжеств. И единственный враг Оттоманской Порты.
– Прошу вас, графиня, будьте моей союзницей при русском дворе, – продолжил король. – Я сделаю вашего мужа генералом, но вы и в России должны помнить о моей доброте.
– Я буду помнить, Ваше Величество, – ответила София, и Понятовский прочел в ее взгляде залог их будущего союза. – Моему слову вы можете верить.
– Я хотел обрести любимую женщину, но обрел, увы, лишь союзницу! – с искренним сожалением сказал король.
– Моя душа закрыта для любви, Ваше Величество, – грустно улыбнулась София, – но всегда открыта для добрых друзей. Поверьте, это немало…
– Вы не сможете долго прожить так, графиня… – в голосе Понятовского прозвучало эхо былых страстей. – Любовь растопит вашу душу, и тогда… И тогда вы вспомните о добром друге Станиславе, который потратил много лет на воспоминания о женщине, любившей читать Монтескье…
– «Персидские письма», – угадала София. – Императрица Екатерина любила читать «Персидские письма»…
– Верно! – признался Понятовский. – И я забыл свою душу между страниц ее книги…
– Так верните себе то, что так опрометчиво потеряли! – воскликнула графиня Витт. – Ваша душа принадлежит только вам. Вам – и никому другому.
– А вы? – в голосе Станислава-Августа зазвучало сожаление. – Где забыли вашу душу вы?
– На острове Хиос… – ответила София. – Там я родилась. Моего друга звали Константин, и мы бродили с ним рука об руку по апельсиновой роще.
– Вы еще увидите его! – заверил Софию король. – И он вернет вам вашу душу… Рано или поздно – но так случится, графиня. Молите Бога, чтобы это случилось раньше – ради вас самой.
– Каждый день я прошу об этом Господа, – призналась ослепительная графиня Витт. Сейчас она была не наследницей призрачного константинопольского престола, обворожившей польского короля, а прежней Софией – отчаянно счастливой девочкой с острова Хиос. – Настанет день – и моя душа вернется ко мне…
Графиня Витт еще не знала, что ее душа вернется к ней в щедром к странникам городе Париже, где она встретит того, о ком не смела и вспоминать. В Париже Софию ожидала встреча с Константином Ригасом.
Глава 5 В садах Версаля
Сады Версаля были так прекрасны, что София впервые забыла об апельсиновых рощах острова Хиос. Бесконечная перспектива, тянувшаяся от королевского дворца, далекая дымка, в которой тонули фонтаны и безукоризненно правильные цветники и клумбы, закат, заливавший своим ветреным сиянием малый Трианон, гравий, нежно и сладко хрустевший под ногами – все это бережно врачевало израненную память Софии. Она была беззаботно, отчаянно весела – бродила по аллеям Версальского парка под руку с королевой Франции Марией-Антуанеттой или Дианой де Полиньяк, принимала комплименты графа Прованского и графа д'Артуа, отвечала на любезные приветствия Людовика XVI. Юзеф Витт сначала покорно следовал за своей супругой, а затем пустился во все тяжкие, заливая свое унижение вином в компании любезных французьких кавалеров.
17 ноября 1781 года София родила Юзефу сына, которого окрестили в парижской церкви Сен-Эсташ и назвали Яном, в честь деда, но между ней и сыном сразу же встал муж. Юзеф Витт неожиданно взбунтовался и не позволил молодой жене привыкнуть к мальчику. Супругу, привыкшему играть вторые роли, показалось, что он сыграл их достаточно и пришло время для самостоятельной партии. Шляхетская гордость бушевала в Витте – слишком долго он терпел свое унижение, слишком долго позорно таскался за этой высокомерной красавицей из города в город, из страны в страну. Теперь Юзеф решил, что его сиятельной супруге пора платить за успех при польском дворе и неожиданную приязнь короля Станислава-Августа. Гречанка отдаст ему сына. А дальше – пусть остается беззаботной красавицей, меняющей страны так же легко, как платья и украшения!
На крестинах в церкви Сен-Эсташ София не могла сдержать слез – она понимала, что Юзеф объявил ей войну, что отныне придется воевать с мужем за каждую улыбку малыша, унаследовавшего черные, греческие глаза матери и широкий, упрямый славянский лоб отца. Она отчаянно прижимала ребенка к себе, и только угрожающий взгляд Юзефа заставил ее ненадолго передать мальчика мужу. Готический собор Сен-Эсташ с его камнем, истонченным, как кружево, и торжественным полумраком, в котором вспыхивали лишь огоньки свечей-подношений в хрупких стеклянных сосудах, наполнил душу Софии воздухом смирения. Гречанка, привыкшая к мозаикам православных соборов, где все было подчинено одному торжествующему свету – золотому, смиренно впитывала строгий католический сумрак. Ее сын рожден католиком, но граф Сен-Жермен обещал наверняка, что другой ее ребенок станет православным и унаследует константинопольский трон. Обещаниям Сен-Жермена София привыкла верить, но разве она могла отдать Юзефу Витту сына, чье тепло ощущала телом и сердцем?
– Я не отдам тебе Яна! – сказала София, когда они вышли из собора. Горничная с ребенком шла чуть позади, а супруги Витты тщетно пытались решить участь малыша, который в это время заливался отчаянным плачем.
– Этот ребенок – мой! – заявил Витт. – Ты заплатишь им за наш брак и за древнее имя, которое носишь! Ты стала графиней Витт, но запятнала мою честь! Теперь ты расплатишься – сыном!
– Ты не сможешь забрать Яна… – еле сдерживая отвращение к Юзефу, сказала София. – Я обращусь за помощью к королю Речи Посполитой. Его Величество Станислав-Август не откажет мне…
– Плевать мне на короля! У нас каждый сам себе король в Речи Посполитой! Была бы сабля и честь! Да и сможет ли этот москальский ставленник усидеть на троне в Варшаве?! – в пристальном взгляде Юзефа София прочла лютую и деятельную ненависть. – Шляхта лишит Понятовского трона, а сиятельный князь Чарторыйский не слишком к тебе благоволит. Ян останется у меня – я отвезу его в Каменец-Подольскую крепость. Благодаря тебе и твоим друзьям, душа моя, я стал ее комендантом и генералом! Я выращу Яна настоящим поляком!
– Понятовского поддержит императрица Екатерина, – в отчаянии воскликнула София. – Твоя мятежная шляхта бессильна против армии Российской империи! Сын останется у меня – я отвезу его в Россию!
Этот бесполезный спор прервал человек, внезапно оказавшийся на пути у супругов Витт. Он словно отделился от портала готического собора, вынырнул из торжественного католического сумрака. Фигура этого человека показалась Софии странно знакомой, но когда он преградил ей путь, графиню Витт, словно письмо, наконец-то достигшее цели, пронзил его взгляд, – радостный, растроганный, наполненный вином и медом ее беззаботного детства. На узкой улочке, примыкавшей к церкви Сен-Эсташ, дорогу Софии преградил Константин Ригас…
Сколько раз она представляла себе эту встречу, и теперь оказалась совершенно беззащитной перед ней! Сколько раз ей снился остров Хиос, апельсиновые рощи и далекий, ритмичный, как стихи, рокот моря… Сколько раз вспоминала, как ее обманом увезли с острова, пообещав, что Константин обязательно присоединится к ним в Константинополе! В Истамбуле она еще долго ждала Константина – ждала до тех пор, пока фанариот, оказавшийся графом Сен-Жерменом, не объявил, что Ригас находится в повстанческом лагере в горах Пелопоннеса и не вернется за ней в принадлежащий Оттоманской Порте город. Тогда София поняла, что Константин променял их любовь на политическую борьбу и, вместо того, чтобы надеть обручальное кольцо на руку суженой, принял от братьев-гетеристов перстень с изображением кентавра Хирона.
Как часто София называла Константина предателем и не могла простить ему этого выбора! Но женщина, отвергнутая ради родины, теперь сама служила матери-Элладе. Она стала графиней Витт, а он был по-прежнему свободен и, не считая случайных подруг, не имел иной нареченной, кроме Эллады. София сделала несколько шагов навстречу Константину и не устояла на ногах – Ригас подхватил ее и, пока не опомнился Юзеф, успел вложить записку в руку былой подруги… «Мне нужно встретиться с тобой, София», – по-гречески прошептал Константин.
В ту же ночь София незаметно выскользнула из дома. Она пришла в дешевую гостиницу на Монмартре, которую назвал Константин, постучала в дверь скромной комнаты. А потом сделала шаг навстречу тому, кого так долго и безнадежно ждала…
Глава 6 Возвращение Константина Ригаса
– Как ты мог предать меня, Константин? – спрашивала София у Константина Ригаса, лежавшего рядом с ней на убогой гостиничной постели. – Это они велели тебе сделать так? Но почему ты послушался их – а не своего сердца? Или у тебя вовсе нет сердца?!
София хотела задать этот вопрос в первую минуту их встречи, но не смогла. Ригас торопливо, как будто хотел напиться, прильнул к губам своей былой подруги, и пани Витт позабыла все те упреки, которыми хотела осыпать его и, словно надежное оружие, держала наготове. Она рухнула рядом с ним на постель, по французскому обычаю занимавшую добрую половину тесной комнаты, и опомнилась только тогда, когда угас пыл и жар этой немыслимой встречи, которую София ждала много лет. Она прижимала к себе стриженую голову Константина и вспоминала, какие мягкие и шелковистые волосы у него были когда-то – там, в апельсиновых рощах острова Хиос…
Ригас очень изменился. «Вырос…», – сказала про себя София. На острове Хиос она оставила мальчика – теперь рядом с ней лежал мужчина. Черты лица стали жесткими, около глаз появились морщины, огрубели руки, а кожу словно навсегда обожгло солнце. София не помнила его таким и теперь как будто узнавала заново. Да и он с трудом узнавал в редкостной, удивительной красавице, переступившей его порог, хорошенькую девочку, по которой так тосковал когда-то…
– Ты пахнешь полынью… – прошептала София, прижимаясь лицом к плечу Константина. – Полынью, которая растет на горных склонах… В этот запах словно подмешали печаль.
– Я не предавал тебя, София! – оправдывался Ригас. – Я – мужчина и должен был послужить родине. Люди Гетерии пообещали, что я еще увижу тебя. Они предложили мне кольцо с изображением кентавра Хирона, и я не смог отказаться.
– Но ты мог разыскать меня, дать мне знать… Я так ждала тебя в Константинополе!
– Клянусь Элладой, София, я не знал, где ты…
– Но как ты нашел меня сейчас?
– Братья рассказали мне, где искать тебя. К нам в лагерь приходил фанариот, называвший себя Ракоци…
– Ракоци, Монфера, Сен-Жермен, я знаю этого человека… – София еще теснее прижалась к Ригасу, как будто боялась, что он исчезнет, растает в воздухе, словно сон, увиденный под утро. – Сен-Жермен во всем помогает мне. Он дал мне письмо к королю Речи Посполитой и к Диане де Полиньяк, которая познакомила меня с королевой Франции.
– И он велел тебе выйти замуж за этого глупца Витта? Зачем ты вышла за него, София?
– Витт помог мне, Константин! – София почувствовала, что сейчас придется оправдываться ей самой. – Твоя премудрая Гетерия бросила меня на произвол судьбы, родители погибли во время пожара, наш кабачок в квартале Пера сгорел дотла, и фанариот, называющий себя Ракоци и Сен-Жерменом, ничем не помог мне тогда! Я нашла приют в посольстве Речи Посполитой…
– Где полюбила этого негодяя Боскампа – от страха остаться одной… – продолжил за нее Константин.
– Не тебе судить меня! – София отстранилась от Константина, разомкнула горячее, сладкое кольцо его рук. – Все вы, патриоты Эллады, бросили меня, позволили убить моих родителей! Что вы делали в ту страшную ночь, когда я пришла на пепелище и поняла, что у меня больше нет близких?!
– Накануне той страшной ночи турки арестовали моего отца! – медленно, с усилием ответил Константин. – И еще – того клефта, который когда-то любил твою мать и спас тебя в горах Пелопоннеса. Георгия Хадзекиса казнили на базарной площади Истамбула, а мой отец умер под пытками. Поэтому наши не смогли помочь тебе и потеряли твой след… А потом тебя нашел Ракоци.
– Он слишком поздно нашел меня, Константин… – Софии хотелось заплакать, но глаза были сухими, словно выжженные Пелопонесские горы. – Ракоци нашел меня в Борисфене – древнем городе, руины которого мы осматривали с моим добрым другом, французом по имени Леруа…
– Так ты любила и этого француза? – угрожающе спросил Константин. – Постоянно к твоей юбке пристегнут какой-то расфуфыренный кобель! Так-то ты страдала все эти годы?! Пока я терпел холод, голод и нужду! Стирал на острых камнях сначала подметки башмаков, а потом и ноги в кровь! И замерзал в горах холодными ночами, не смея развести огня, чтобы ищейки султана не напали на мой след!
– А ты? – гневно воскликнула София. – Кого любил ты за все эти годы? Не говори мне, что все это время ты вздыхал обо мне и до сих пор хранишь верность своей первой любви…
– Я – мужчина, София, и у меня были связи. – Ригас и не думал оправдываться перед женщиной, которую помнил четырнадцатилетней девочкой, смеявшейся над его рассказами о Гетерии.
Он знал, конечно, что эта девочка когда-нибудь предъявит ему счет и потребует оправданий. Но там, в Пелопонесских горах, Ригасу казалось, что имя Эллады заставит Софию смириться. В повстанческом отряде все было просто и ясно – он, Константин Ригас, боец Гетерии, терпит разлуку с любимой ради высокой цели. И если иногда мелкие любовные интрижки с глупенькими крестьянскими девчонками или разбитными служанками в тавернах смущают покой бывшего друга Софии Глявоне, ставшей наследницей призрачного константинопольского престола и «знаменем борьбы» греческого народа, это ничего, совершенно ничего не значит. Когда-нибудь он вернется к Софии и будет чист перед ней, потому что ни одной женщиной не увлекался всерьез. Ригас даже не подозревал, что София считает его предателем и до сих пор не простила другу былых времен своих детских слез и недетского отчаяния.
– Но я никогда не забывал о тебе! – с достоинством заявил он и даже принял позу оскорбленной верности. – Я даже помню, когда впервые поцеловал тебя – там, на Хиосе. И я знал, что мы обязательно встретимся еще раз, благодаря нашим друзьям.
Упоминание о «друзьях» заставило сердце Софии сжаться от боли. Значит, Константин и не думал искать ее! Все это время он провел в горах Пелопоннеса и решил встретиться с девочкой, которую предал когда-то, только потому, что так приказала Гетерия… Первая любовь рушилась на глазах, рассыпалась, как карточный домик, и София с горькой улыбкой, полынью таявшей на губах, призналась себе, что никто и никогда не любил ее – даже там, на острове Хиос, в благословенных апельсиновых рощах памяти. Никто – кроме отца, погибшего в горах Пелопоннеса, матери и отчима Максима, расплатившегося жизнью за то, что приютил вдову клефта и осмелился назвать ее женой.
– Так вот в чем дело! – София резко вырвалась из рук Константина. – Ты пришел по их поручению! Чего же Гетерия ждет от меня на этот раз?
– Откуда этот гнев, София? – удивился Ригас.
Он так и не понял, в чем виноват перед этой женщиной, которая с такой легкостью бросилась в его объятия после стольких лет разлуки, а теперь разрушала долгожданное счастье выстраданными, тяжелыми обвинениями. – Ракоци говорил мне, что ты поклялась служить матери-Элладе!
– Да, я поклялась, – согласилась София, но в глазах ее Ригас прочитал боль и отчаяние неприкаянной души, лишенной родины и близких. – Но я не хочу быть игрушкой в их руках! Вспомни, они разрушили наше счастье!
– Они служат родине, София! – Ригас тщетно пытался убедить любимую в правоте пелопонесских братьев, а значит, и в своей собственной. – А наша родина повержена! Вспомни, что ради Эллады погиб твой отец!
– Мой отец… – с горькой улыбкой повторила София. – Что ж, расскажи мне, Константин Ригас, чего хочет Гетерия на этот раз…
– Теперь Гетерия намерена заручиться поддержкой Франции… – Константина несказанно тяготило враждебное молчание Софии, но он не мог не рассказать любимой то, ради чего Гетерия устроила их встречу. – Наши вожди предлагают использовать для этой цели твое влияние при французском королевском дворе.
– Каким образом? – нетерпеливо перебила его последняя из Палеологов.
– София, – с вычурной серьезностью начал Константин, сдвинув брови, – ты должна внимательно выслушать меня…
– Расскажи лучше, Константин, – прервала его София. – Как они убедили тебя расстаться со мной? Там, на Хиосе…
– А что сделала бы ты, София, – взорвался Ригас, – если бы ты была мужчиной, и мать-Эллада потребовала помощи от тебя? И если бы однажды вечером твой отец, его друзья-клефты и отец Захарий, чье имя священно для каждого грека, попросили тебя не посягать на наследницу константинопольского престола? Наследницу эту звали София Скарлатос Маврокордато Панталес де Челиче, ей было всего четырнадцать лет, и она так напоминала мне византийскую царевну… Я любил ее, но что я мог поделать? Я не годился ей в мужья. Так сказал отец Захарий… Но братья-клефты пообещали мне, что когда-нибудь я еще встречусь с тобой. Чего же ты хотела, София? Чтобы я стал предателем? Чтобы односельчане прокляли меня как изменника? А братья-гетеристы повесили на каком-нибудь дереве, словно Иуду?
– Боже упаси, Константин! – испуганно воскликнула София. – Я всего лишь хотела, чтобы ты вернулся за мной. Когда-нибудь… И предложил мне убежать с тобой на край света. Туда, где нам не придется воевать с Оттоманской Портой…
– Вот я и вернулся… – с горьким вздохом продолжил Константин. – Но бежать я не собираюсь. Да и некуда. Мы оба служим Гетерии.
– Тогда я слушаю тебя… И Гетерию, которая говорит твоими устами. – Константин оставался все тем же не по годам серьезным юношей, который рассказывал легкомысленной девчонке о поэте Гомере и братьях-клефтах. И она не могла слушать его без легкой, материнской улыбки…
– Благодаря поддержке и помощи Франции на другом континенте уже рождается независимость новой, очень молодой страны – Соединенных Североамериканских Штатов, – упоенно рассказывал Константин. – Прошло несколько лет с тех пор, как старик Бенджамин Франклин воплотил в жизнь свой трактат. Благодаря этому трактату версальский двор признал независимость американских колоний и пообещал им свою помощь. Ты знаешь, наверное, что из Франции через Атлантику отплыли десятки кораблей с оружием и добровольцами, которые хотят поддержать американских повстанцев.
– Какое мне и тебе дело до Соединенных Североамериканских Штатов, всезнайка Ригас? – не на шутку рассердилась София. – Я думала, ты будешь говорить мне об Элладе! В чем состоит связь между Гетерией и бывшими французскими и английскими колониями в Новом Свете?
– Сейчас сюда придет наш друг, который расскажет об этом! Прикройся, бесстыдница! – Ригас набросил покрывало на оголенные плечи подруги и стал торопливо одеваться. Как солдат, он привык подчиняться приказам братьев-клефтов и теперь предписывал повиновение и Софии.
– Да ты с ума сошел, Константин! – закричала София, сама не своя от гнева. – Какой друг? Кого еще ты пригласил сюда?
– А кого ты думала? Конечно, нашего друга, Ракоци… – жестковато засмеялся Ригас. – Оденься, София, скоро он будет здесь…
– Может быть, вместе с ним придут и другие братья-клефты? – язвительно спросила София. – Посмотреть, как ты предаешься любовным утехам с женой польского графа? Зачем только я пришла сюда?
– То, чем мы занимались с тобой наедине, не касается Гетерии! – отрезал Ригас. – А сейчас забудь об этом и вспомни, что речь идет о нашей родине…
В дверь постучали, когда София едва успела одеться. В тесном гостиничном номере появился тот, кого Константин называл Ракоци, а его подруга – Сен-Жерменом. Гость спокойно, не обращая внимания на царивший в комнате беспорядок и разбросанные повсюду предметы дамского туалета, присел на стул у крохотного столика и, не медля ни минуты, стал рассказывать… Возмущенной до глубины души графине Витт не осталось ничего другого, как внимательно выслушать того, кто устроил эту странную встречу.
– Эпоха anсien régime[16] неминуемо канет в Лету… – рассказывал Ракоци. – Франция переживает последние минуты своего могущества. Но, перед тем, как погибнуть, старая Франция могла бы помочь Гетерии, а не только американским повстанцам.
– К тому же, – прервал Ракоци Константин, – у нас налажены тесные связи с заговорщиками из третьего сословия во Франции. Если монархия падет, мы поручимся перед ними за тех аристократов, которые дадут нам деньги.
– А чем здесь могу помочь я? – раздраженно спросила София. – Одолжить для вас пару миллионов у Дианы де Полиньяк? Или по старой памяти запустить руку в кошелек Марии-Антуанетты?
– Благодаря нашей помощи, София, – невозмутимо продолжил Ракоци, – ты сблизилась с Полиньяками, особенно с княгиней Дианой. Полиньяки ввели тебя в новые круги, рекомендовали самым знаменитым людям Франции. Ты приглашена, к примеру, в дом генерального сборщика налогов господина Гримо де ла Рейньера. Через тебя мы сможем вести переговоры с французской аристократией.
– Если король Франции признает братьев-клефтов инсургентами, то есть равноправной стороной, воюющей с турками, – вмешался Константин, – мы можем пообещать снисхождение по отношению к нему. Если старый режим канет в Лету, король Франции останется жив.
– Вы опять торгуете мной, господа! – возмутилась София. – Почему бы вам самим не уговорить господина де ла Рейньера открыть кредит для Гетерии? Я могу пригласить нашего друга Ригаса на званый вечер, представить его Полиньякам, и пусть он сам поговорит с ла Рейньером.
– На этом вечере буду я, – заявил Ракоци, – и во всем помогу графине Витт. Франция должна вступить в союз с Гетерией.
– Но у Гетерии есть другая, самим Богом данная союзница! – воскликнула София. – Это Российская империя и государыня Екатерина. Россия поможет снова водрузить над Святой Софией православный крест и вернет Константинополь Элладе!
– Ты права, София, – Ракоци обрадовался успехам своей ученицы: пани Витт начинала понимать далеко идущие планы Гетерии. – Следующим пунктом твоего путешествия станет Россия. Ты должна познакомиться с императрицей Екатериной и князем Потемкиным. А пока нам следует выполнить свою миссию здесь, во Франции, и добыть денег для Гетерии.
– Говорят, граф, что вы умеете превращать металлы в золото… – рассмеялась София. – Зачем вам деньги?
– Неужели ты веришь в эти сказки? – губы Сен-Жермена дернулись в подобии улыбки. – Я не владею тайной философского камня. Я всего лишь человек, который заслужит смерть тогда, когда выполнит все, что уготовано Господом. Ты поможешь нам, София?
– Ты должна помочь Элладе, София! – как суровое эхо повторил Константин.
– Помогу… – София судорожно сжала руку Константина в своей, как будто боялась, что он опять исчезнет на несколько лет. – Я теперь – одна из вас. Я дала клятву у алтаря древнего города Борисфен…
– Вот так-то лучше… – удовлетворенно произнес Константин.
– Вы делаете успехи, пани Витт… – тускло улыбнулся Ракоци.
– Прощайте, друзья мои! – ответила им София. – Теперь я должна увидеть сына. Время, отведенное вами для любви, прошло. Наступила пора действовать. Я помогу Гетерии…
Глава 7 Между Польшей и Россией
Весной 1784 года супруги Витты достигли русско-польской границы. Юзеф исполнил свою угрозу лишь наполовину – он настоял на том, чтобы маленького Яна отвезли в Каменец-Подольскую крепость, к деду, а сам последовал за Софией дальше, в Россию. В belle douce France графиня Витт задержалась недолго. Сначала София часто появлялась в обществе, бродила по версальскому парку в приятной компании Дианы де Полиньяк и генерального сборщика налогов Гримо де ла Рейньера, слушала шепот фонтанов, шорох листвы и шуршание гравия и была беспечна и прекрасна, как одна из греческих богинь, статуи которых украшали парижские парки.
Она никогда не посвящала Юзефа в свои дела, но Витт все чаще и чаще стал замечать рядом с женой всемирно известного авантюриста графа Сен-Жермена и мрачноватого красавца грека, который, по-видимому, скрывался во Франции от преследований Оттоманской Порты. С греком она то ссорилась, то мирилась, с графом Сен-Жерменом была подчеркнуто любезна, а на собственного мужа, как обычно, не обращала внимания.
После бурной вспышки гнева на крестинах сына Витт решил в последний раз испытать судьбу и простить жене ее холодность. Знакомство с августейшими властителями Франции и Польши, равно как и с генеральным сборщиком налогов Французского королевства, сулило ему немало приятных минут. Юзеф Витт намеревался хотя бы «позолотить свои рога» – за счет французских и польських друзей неверной Софии. Особенно он рассчитывал на знаменитого авантюриста, который, как утверждали новые друзья жены, умел превращать металлы в золото.
Поэтому, когда София заявила, что их ждет Российская империя, Витт, скрепя серце, согласился с этим новым маршрутом. Русская императрица была сказочно богата, и Юзеф ни на минуту не усомнился в том, что его ловкая супруга сможет очаровать государыню Екатерину с такой же легкостью, как Марию-Антуанетту и Диану де Полиньяк.
Блистательная Российская империя началась для супругов Витт у городка Васильков, основанного, как считали местные жители, самим князем Владимиром Красное Солнышко. При крещении Владимир принял христианское имя Василий, и поэтому городок назвали Василив. Со временем Василив превратился в Васильков, а в 1240 году город был полностью сожжен во время княжеских междоусобиц. Впоследствии это преступление приписали монголо-татарам. В 1654 году отстроенный Васильков превратился в российский форпост.
Форпост, как и сам городок, располагался на холмах по берегам реки Стугны. Старики называли эти холмы Змиевыми валами и охотно рассказывали легенду о святых Кузьме и Демьяне и Змее Горыныче. Мол, запрягли Кузьма и Демьян змея в плуг, а сами встали за него и перепахали берега Стугны. С тех пор и возникли на этих берегах Змиевы валы.
Само местечко Васильков было обнесено земляным валом, внутри которого располагались батареи и крепость. В крепости находился старый замок, обнесенный каменной стеной, двор, некогда пребывавший во владении Печерского монастыря, и церковь Святых Антония и Феодосия. Возле церкви местные власти разместили казарму, амбар для артиллерийского снаряжения и пороховой погреб. В замке было шесть казенных дворов – для штабных офицеров форпоста, обер-офицеров, солдатской стражи, козаков и «малоросийских чинов», врача и солдат. Весной 1784 года пограничный город Васильков удостоил своим присутствием светлейший князь Потемкин.
Глава 8 Суженый, увиденный в огне алтаря
София забыла собственное будущее, увиденное в огне алтаря древнего города Борисфен, но одно лишь воспоминание ей было позволено взять с собой в дорогу. Он помнила лицо суженого – и часто видела того, кого непременно должна была встретить. Мужественное и одухотворенное лицо этого человека было пересечено траурной полосой – незрячий глаз закрывала черная повязка, а другой, живой, смотрел на мир с едва уловимой грустью. София знала наверняка, что на шее ее суженый носит монету с надписью ΟΛΒΙΟ, иногда она ощущала неровную, изъеденную временем поверхность этой монеты и как будто сжимала ее в ладонях. Потом видение исчезало, и рядом оставались недолгие попутчики – одни, подобно Юзефу Витту, шли с ней рука об руку уже давно, другие быстро возвращались на собственную дорогу.
Константин Ригас был рядом с самого детства, вместе они покинули блаженные апельсиновые рощи юности ради полного зла и невзгод мира. Но София не могла не понимать, что Ригас принадлежит Гетерии, и ради исполненной невзгод и лишений, но такой желанной для него жизни повстанца в горах Пелопоннеса, он будет появляться и исчезать, и тогда жизнь ее превратится в ежеминутное ожидание. Наследница Палеологов готова была принять это ожидание, настоянное на любви, но, увы, – в огне алтаря она увидела совсем другого человека. И этот человек говорил с ней на языке Платона и Аристотеля.
София просила Сен-Жермена указать ей на суженого, но тщетно – всеведущий граф ограничивался намеками и недомолвками. Однажды он все-таки сказал, что увиденного в огне алтаря человека гречанка найдет в Российской империи. «С кем я должна искать встречи в России?», – спросила София у своего учителя. «С императрицей Екатериной и князем Потемкиным, – ответил граф. – Только они могут помочь матери-Элладе сбросить турецкое иго».
Теперь, когда супруги Витт пересекали российскую границу, София не переставала думать об обещанной встрече…
На таможенной заставе в версте от городка Васильков были пройдены необходимые пограничные формальности, и вскоре супруги Витт могли продолжить свой путь. Графиня Витт спросила у командовавшего заставой офицера, где бы она могла видеть русского князя Потемкина.
– Князя Потемкина? – удивленно вскинул выцветшие брови комендант. Иностранка, которая с первой минуты пребывания в Российской империи потребовала встречи с князем Потемкиным, показалась ему крайне сомнительной персоной. – А зачем вам князь понадобился, сударыня?
– Речь идет о деле государственной важности, – нимало не смутившись, ответила София. – К глубокому моему сожалению, мы не можем посвятить вас в него.
Уверенность, прозвучавшая в голосе красивой иностранки, смутила офицера. В этой польской даме было нечто, исключавшее возможность сопротивления ее воле. Она была так самодостаточно прекрасна, так непререкаемо уверена в своей правоте и победе, что комендант поспешил удовлетворить ее просьбу. Он кликнул ординарца и распорядился, чтобы польскую чету провели к князю. Потемкин, как выяснилось, инспектировал артиллерийский парк, располагавшийся в городке.
Смелость Софии отнюдь не передалась ее мужу. Слова жены о «важном государственном деле» вызвали у Юзефа Витта острое чувство опасности.
– Софи, – по-французски обратился он к жене, – зачем ты сказала этому москалю о каком-то важном государственном деле? Какие дела могут связывать тебя с первым вельможей русского двора? Или ты вообразила, что приехала в гости к королю Речи Посполитой? Здесь знают цену словам и, уверяю тебя, умеют заставить за них расплачиваться!
– Успокойся, Юзеф, – холодно ответила ему София. Она привыкла к вечным пререканиям с мужем и не смущалась подобными пустяками. – Ни о чем не спрашивай и положись на меня. Я еще до конца не решила, как начать разговор с князем. Но уверена, что наши связи в Европе будут ему интересны.
Польской чете дали в сопровождение троих верховых драгун. Двое нижних чинов предусмотрительно ехали позади супругов, а старший, молоденький подпоручик, – рядом с ними.
Юный офицер, сопровождавший Виттов, решился поговорить с очаровательной польской дамой по-французски. При этом он совершенно не обращал внимания на ее мужа.
Поначалу болтовня подпоручика раздражала Софию, но потом тема разговора показалась ей интересной.
– Недавно тоже один объявился в Василькове, – весело болтал драгунский офицерик, – тоже, как и вы, говорил о деле, якобы государственной важности. Рассказывал о себе небылицы, назвался Василием Баранщиковым. Говорил, что сам из нижегородских купцов, волею судьбы заброшенный на чужбину. Рассказывал, что прослужил несколько лет янычаром у самого турецкого султана. Сначала просился к коменданту премьер-майору Стоянову. А потом случайно узнал, что здесь находится сам Потемкин. Говорит, пустите, братцы, меня к князю Потемкину, я участвовал в затоплении кораблей в константинопольском заливе. Уверял, что это может пригодиться нашему флоту при штурме султанской столицы. Я, говорит, переодевшись в греческую одежду, через турецкие, молдавские и польские земли пришел сюда пешком…
– Мы объясняем ему, что у нас с султаном сейчас мир, – иронизировал рассказчик, – а он все за свое. Мир с султаном водить, к войне готовым быть!
– Неужели князь намеревается штурмовать Константинополь? – взволнованно спросила графиня Витт. – О как бы этого хотели несчастные греки, страдающие под гнетом Оттоманской Порты!
– Что вам до греков, пани? – удивился офицерик. – Вы же полячка…
– Я родилась на острове Хиос, – гордость, прозвучавшая в голосе польской графини, несказанно удивила поручика. – Вы говорите с гречанкой…
– Тогда князь Потемкин и вправду будет вам рад, – решил за своего командующего молодой офицер. – Григорий Александрович питает слабость к грекам и даже превосходно говорит по-гречески… Забавно так со стороны послушать: «Калимера – калиспера – теканис кала…» Особенно последнее, про «Текани-с-кола» потешно! Я лично так рассуждаю, сударыня: если уж кому кол в задницу, пардон, забили, то тут уж не теканешь! Точнехонько из загривка острие и выйдет! Мне-то вы можете иметь полное доверие в этом деликатном вопросе, вельможная пани гречанка: мы тут недавно, как харцизов словили, забавлялись… А так-то на колу подолгу живут – иные по дню, а иные – и по два!
* * *
Кортеж четы Витт подъехал к деревянным рогаткам, преградавшим дорогу. Усатые гренадеры объявили, что ехать надо стороной, поскольку за оцеплением ведутся военные маневры.
– И что же случилось с этим москалем, которому удалось бежать из Стамбула? – поинтересовался Юзеф Витт, заметно оживившейся после рассказа о столь любимом вельможной шляхтой в стародавние времена смертном наказании. – Тоже на кол набили? Вот это я называю серьезным подходом к делу устрашения государственных преступников!
– С Васькой Баранщиковым? За что его-то на кол? Его в ставку Потемкина отослали, вон она на пригорке. Сидит себе под арестом… – охотно пояснил подпоручик. И, улыбаясь добавил: – Как бы вам, сударыня, под арестом не оказаться, если вздумаете плести князю небылицы!
София не стала больше слушать юного болтуна и, пришпорив свою лошадь, поскакала в ту сторону, где располагалась ставка Потемкина.
– Стой, барыня, – кричали ей вслед солдаты из оцепления, – нельзя туда, там пушкари стреляют.
– Вот бисова девка! – рассмеялись конвойные драгуны. – То-то пану счастье привалило, не жинка, а огонь!
Витт понял общий смысл сказанного по интонации говоривших и недовольно поморщился: сколько еще насмешек ему придется выслушать из-за этой греческой ветренницы, опозорившей знатный польский род! Вслед за женой благоразумный граф не поскакал, как военный человек справедливо рассудив, что там можно и на случайное ядро нарваться, да и часовые имеют все основания выстрелить по несущемуся неизвестно куда через их цепь всадника. Пан Витт предоставил супруге самой испробовать судьбу. Что же до него, то перспектива остаться вдовцом с некоторых пор его отнюдь не смущала.
* * *
В это время на пригорке князь Потемкин в подзорную трубу наблюдал за стрельбами. Прозвучала команда «пли!». Князь посмотрел на мишени – они были невредимыми. «Циклоп» напряг свой единственный глаз, но, увы, мишени оставались целехонькими. Пушки почему-то молчали, что привело князя в крайнее негодование.
– В чем дело? – закричал он.
– Всадник на поле, – испуганно объяснил адъютант и указал вниз на равнину, – сюда скачет во весь опор. Пушкари боятся его зашибить.
Потемкин опять поднял подзорную трубу и не поверил своему единственному глазу. К его ставке быстро приближалась неизвестная всадница…
Когда всадница оказалась вне досягаемости пушечных выстрелов, артиллерийский офицер все же дал команду стрелять. София чуть не упала с лошади. В клубах порохового дыма на нее удивленно смотрел рослый военный, непослушные, растрепанные волосы которого небрежно падали на плечи. В одно мгновение она узнала этого человека, которого уже видела однажды – в огне алтаря эллинского города Борисфен.
– Бог мой, матерь Эллада, это он! – по-гречески прошептала София.
Перед ней стоял фаворит российской императрицы Екатерины, князь Потемкин.
– Кто эта безрассудно смелая дама? И что она делает здесь? – спросил Григорий Александрович у своего адъютанта.
– Не могу знать… – только и смог произнести растерявшийся адъютант.
– Ради Эллады выслушайте меня, князь! – по-гречески обратилась София к Потемкину, и Григорий Александрович почувствовал, как нестерпимо щемит в груди так долго молчавшее сердце. Эта женщина, обратившаяся к нему на языке Гомера, была прекраснее, чем все эллинские богини, о которых он когда-то читал. Но ее нестерпимая, слепившая единственный глаз Циклопа красота, была лишь оправой сбывшегося предсказания. Странный человек, называвший себя Ракоци, Монфера и Сен-Жерменом, сказал Потемкину некогда, что первую Софию он узнает по темляку, а на вторую укажет сама Эллада…
– Как зовут вас? – тихо спросил он по-гречески.
– София, – ответила гречанка. – София Маврокордато Скарлатос Панталес де Челиче. Последняя из Палеологов…
Часть шестая «Во славе ты войдешь во храм Софии…»
Глава 1 Встреча в Василькове
Потемкин и София встретились словно путники, которые долго шли навстречу друг другу в сожженной южным солнцем степи. Они уже давно внутренне готовились к этой встрече и ожидали ее ежеминутно. София, как платья, меняла города и страны, приближаясь к тому, кто был уготован ей судьбой. Потемкин, словно письмо, сжег свою прежнюю душу на огне свечи – и этой свечой была любовь к Екатерине. Его новая душа родилась в то самое мгновение, когда смелая польская дама, оказавшаяся гречанкой, обратилась к нему на языке Гомера. Григорий Александрович смотрел на вторую Софию с улыбкой человека, который обрел новую душу, и приглашал любимую войти в эту душу, как в храм. И она отвечала ему – благодарным, растроганным взглядом византийской царевны с острова Хиос, которой вернули самую сладкую мечту юности.
В Василькове их любовь, словно река, нашла выход к морю. К гостеприимному Греческому морю, о котором Григорий грезил в смоленских лесах. К тому самому морю, которое омывало скифские и греческие берега. Влюбленный и окончательно потерявший голову князь посвятил последнюю из Палеологов в разработанный им Греческий проект, который до этих пор был известен только императрице Екатерине.
Они были рядом – ближе не бывает: ее голова на его плече, руки сплетены, тела пропитаны солнечным дыханием страсти. Теплая украинская ночь вплывала в комнату, источая ароматы трав и жасмина. В Василькове, в ставке Потемкина, рождалась новая судьба Эллады – князь говорил с Софией по-гречески, мешая слова любви с политическими прожектами. И только имя любимой он произносил по-русски, тепло и мягко, – Софьюшка.
– Софьюшка, душа моя, – рассказывал Потемкин, – Греция станет свободной, ежели Россия сокрушит Оттоманскую Порту, овладеет причерноморскими землями и Крымом. Причерноморские земли уже в наших руках, а Крым… Его завоевание впереди.
– Учитель, называвший себя графом Сен-Жерменом, предупреждал меня, что нас свяжет мечта о Греческом море. – София спешила рассказать Григорию о долгом, пропитанном полынью пути, который привел ее в Российскую империю. – Тайное общество греческих патриотов, именуемое Гетерией, во всем будет помогать тебе. Но не разнятся ли твои прожекты с планами государыни Екатерины?
– Императрица Екатерина хочет возложить корону возрожденной Византии на голову своего внука – Константина. – Впервые, рассказывая об этой части греческого плана, Потемкин отказывался верить в его правдоподобие.
Корона Византии принадлежала отнюдь не Константину, а последней из Палеологов, той самой второй Софии, о которой еще в Москве рассказывал ему Сен-Жермен.
– Но сие не должно случиться, – решил за себя и Софию князь. – Корона Византии по праву принадлежит тебе!
– Мне не нужна корона, друг мой, – мягко прервала его София. – Я хочу лишь послужить матери-Элладе. Я дала клятву у алтаря древнего города Борисфен.
– А не была ли ты, Софьюшка, в подземных лабиринтах не менее древнего города Ольвия? Или Борисфена – как его еще называли… – спросил заинтригованный князь. – Мой отец некогда прошел ольвийской подземной дорогой и принес оттуда монеты…
– Одну из которых, с надписью ΟΛΒΙΟ, ты до сих пор носишь на груди, – продолжила за любимого София. – Сколько раз мысленно я держала эту монету в руках! Я увидела тебя в огне алтаря – и это было единственное мгновение из будущего, которое мне позволено было запомнить!
– Кто он, этот человек, который называет себя Сен-Жерменом, Монфера и Ракоци? – Потемкин снял с шеи ту самую монету и вложил ее в горячие ладони Софии. – Что ты знаешь о нем?
– Он – друг и тайный руководитель Гетерии, – ответила гречанка. – Больше я о нем ничего не знаю. Нет, знаю еще одно… Он собственными глазами видел падение Константинополя, а с тех пор прошло не одно столетие…
– Не может быть… – полудетская убежденность Софии в бессмертии Сен-Жермена растрогала, но не убедила Потемкина. Хитроумный Одиссей помолчал несколько минут, а потом сказал, лукаво улыбаясь: – Бродить по земле столетиями мог лишь Вечный Жид, но тот, кого ты называешь Учителем, едва ли прожил столько… У нашего друга есть какие-то неясные нам цели и планы, он помог мне однажды, когда я хотел навсегда уйти от мира… Но я, Софьюшка, служу России, а не нашему второму Агасферу. И ты служишь Элладе, а не ему.
– Я помню об этом, друг мой. – София молитвенно прижалась губами к ольвийской монете. – Скажи мне, как послужить Элладе дальше? И все же граф Сен-Жермен знает обо всем наперед – поверь, ему станет известен каждый наш шаг!
– Будущее в Божьей власти, Софьюшка, – голос Потемкина был твердым и полным силы – и София прильнула к этой силе словно к водам целебного источника. – Сен-Жермен – наш друг, но он не всеведущ.
– Слава Всевышнему, мы теперь на одном пути… – София по-прежнему сжимала в руках ольвийскую монету, как будто этот изъеденный временем кусок металла сохранял тепло матери-Эллады. – Скажи, друг мой, что теперь будет с нами?
– Ты останешься со мной, Софьюшка, – решил за любимую Потемкин. – А твоему мужу я дам чин генерала и отошлю его в Каменец-Подольскую крепость. Лучше бы тебе развестись с ним.
– А сын? – грустно улыбаясь, спросила София. – Ты не знаешь, у меня есть сын. Юзеф отнял его у меня и отослал в Каменец-Подольский.
– Генерал Витт вернет тебе сына. Мне этот шляхтич не посмеет отказать! – Потемкин решительно не понимал, как можно бояться чванливого, как индюк, но ничтожного Витта, о котором он уже успел составить самое неприятное впечатление. – Ничего не бойся, Софьюшка. Я с тобой.
Эти простые и нежные слова бальзамом пролились на душу Софии. Ни капли страха не осталось в ее душе – только любовь, щедрая, как матерь-Эллада, и горячая словно пропитанная солнцем греческая земля. Вместе с любовью София Скарлатос Маврокордато Панталес де Челиче снова обрела родину.
Глава 2 Ревность императрицы Екатерины
Государыня Екатерина Алексеевна отчаянно, болезненно ревновала. С тех пор как доброжелатели-шпионы донесли ей о красавице гречанке, появившейся в ставке князя Потемкина в Василькове, Екатерина потеряла сон и покой. Голос Потемкина по-прежнему раскачивал ее душу, словно веревка – тяжелый и гулкий колокол, и Екатерина не могла смириться с тем, что этот некогда самый близкий на земле человек называет Софьюшкой прыткую греческую девицу, которой нужно было запретить въезд в Российскую империю. Они давно уже привыкли изменять друг другу и были скорее соратниками, чем любовниками. Но Екатерина, охотно подносившая к глазам надушенный платок, когда нужно было не заметить очередную интрижку князя, теперь решительно отказывалась не замечать графиню Витт.
Императрицу почти не беспокоила племянница князя Сашенька Браницкая, питавшая к дядюшке отнюдь не родственные чувства. Она снисходительно наблюдала за другими пассиями ее Циклопа, – все это было забавно, но не более. Но София Витт внушала Екатерине вполне понятное беспокойство, и дело было даже не в красоте гречанки, а в том, что за ее спиной белоснежным, сияющим абрисом вставала сама Эллада. С женщиной Екатерина могла бороться, но соперничать с беломраморной греческой легендой было немыслимо трудно.
Когда императрица узнала, что Потемкин посвятил Софию Витт в Греческий проект, ее охватил неподдельный гнев. Греческое море, о котором грезила когда-то Ангальт-Цербстская принцесса, поверившая авантюристу по имени Сен-Жермен, это море, которое они с Потемкиным отвоевали для России, не должно было принадлежать никому другому. Екатерину занимала не поверженная Греция, а величие России и ее собственное. Но Потемкин любил Элладу, которую ни разу не видел. Любил только потому, что его отец прошел однажды мерцающим ольвийским тоннелем и принес оттуда монету с надписью ολβιο. И теперь он говорил по-гречески с женщиной, которая называла себя графиней Витт и, казалось, напрочь забыл о том, что мечта о Понте Эвксинском еще совсем недавно соединяла его с Екатериной.
София стала для Потемкина долгожданным воплощением его давней мечты. Потерявший былую теплоту эллинский мрамор ожил под руками нового Пигмалиона, и сама Эллада указала князю на его новую любовь. Страсть к Екатерине некогда сожгла его душу. Он скоро понял, что женщина, в день дворцового переворота взметнувшая над головой блестевшую на июньском солнце саблю, по-настоящему любит только власть. С империей, а не со слабовольным племянником государыни Елизаветы обвенчалась некогда принцесса Фике, и империи она осталась верна. Потемкин был достойным партнером по русской игре, рядом с ним государыня могла скакать рядом по торным дорогам жизни, но тщетно Григорий искал в сердце своей богини трогательную весеннюю нежность.
Нежности не было, оставалась страсть, основанная на власти, но Потемкину мучительно недоставало простой человеческой теплоты, которую он обрел рядом с Софией. Влюбленный князь не замечал, что каждый его шаг становится известен Екатерине. Государыня смаковала каждую пикантную подробность «греческого романа», но едва ли не наибольшее раздражение императрицы вызвало путешествие, которое Потемкин совершил вместе с Софией…
Глава 3 София и Потемкин в Борисфене
София и Потемкин стояли у алтаря древнего города Борисфен, известного Европе как Ольвия – Счастливая. Жаркие ковыльные холмы, руины некогда защищавших город стен, небесно-голубая линия лимана, слитая с небом воедино, – все это окружало счастливую пару, словно эпилог их былых одиноких странствий. Еще недавно турки использовали руины древнего греческого города в качестве каменоломни… Казалось, всего лишь несколько мгновений назад София стояла на этом холме рядом с Леруа и к ним со стороны моря поднимался странный человек, называвший себя графом Сен-Жерменом. Тогда в огне алтаря София увидела свое будущее, но смогла запомнить только лицо суженого, стоявшего теперь рядом с ней…
– Григорий, – тихо сказала гречанка, – неужели твои войска отвоевали эту землю для России?
– Если бы земля Борисфена по-прежнему была турецкой, мы бы не стояли на этом холме… – рассмеялся князь. Впрочем, улыбка недолго озаряла единственный глаз Циклопа. Следующие слова Григория Александровича прозвучали тяжело и скорбно.
– Ныне перед русской армией лежит иная твердыня – крепость Озю, в которой ты была с Леруа, – продолжил Потемкин. – Знаю, штурм будет тяжким, и много русской и турецкой крови прольется. Но Россия ныне – единая заступница для православных народов, страдающих под гнетом Оттоманской Порты. Греки из крепости Озю должны помочь нам взять эту твердыню…
– Они помогут, Григорий! – горячо воскликнула София. – Наши братья из Гетерии станут твоими верными слугами, если ты поможешь им освободить Элладу. Они проникнут в крепость Озю с подметными письмами. Я была в крепости и, кажется, помню каждый ее камень… Только возьми меня с собой, в лагерь русской армии…
Потемкин крепко обнял свою гречанку, а потом сказал нежно, но твердо: «Нет, Софьюшка, я не возьму тебя с собой… Кровь, смерть и слезы – не для тебя. Я был в армии в прошлую войну, я возьму на себя новые грехи, а ты будешь ждать меня на отвоеванных землях…»
– Ты не сможешь мне отказать, Григорий! – в голосе Софии зазвучала старая, годами разъедавшая душу, боль. – Моего отца убили турки – это было в повстанческом лагере, в горах Пелопоннеса. Мою мать и отчима люди султана сожгли заживо, и я видела их обгорелые тела. Я должна была погибнуть той ночью, но нашла приют в посольстве Речи Посполитой. Люди Гетерии, защищавшие меня, сложили головы на базарной площади Истамбула! Я дала клятву служить Элладе у этого алтаря! Ты не можешь запретить мне быть рядом с тобой, в русском лагере у крепости Озю…
– Софьюшка, я предложу крепости сдаться… Если турецкий паша откажет нашим парламентерам, русская армия пойдет на штурм. Но не раньше, чем трижды прозвучит просьба о мире… Будь рядом со мной, если сердце твое сможет вынести кровь, смерть и муки. – Потемкин уже не отказывал, а всего лишь предостерегал.
Разве мог он отказать дочери Скарлатоса Маврокордато де Челиче, которая с самого детства знала свое предназначение? Провидение привело Софию к нему, но не только ради их любви, а ради общих судеб Греции и России. Спорить с Провидением было не в правилах князя, оставалось лишь быть рядом, пока война и смерть не разлучат их.
Потемкин преклонил колени перед алтарем Борисфена, смял горячие, терпкие травы, ощутил, как горько пахнет полынью знойная, холмистая земля. София встала на колени рядом с ним… Земля Борисфена благословляла их, и Софии с Потемкиным на мгновение показалось, что снова вспыхнул огонь на алтаре и встало в этом огне их будущее… Потемкин увидел страшный, кровавый штурм крепости Озю, освобожденные причерноморские и крымские земли, а потом, через много лет, свою внезапную смерть в бессарабской степи – на руках у друзей и Софии. Гречанка увидела себя на коленях перед умирающим Григорием, а потом – долгую жизнь без него. Она резко, судорожно прижалась к любимому, как будто боялась, что это мгновение станет последним. Глухо шумел внизу небесно-голубой лиман, и море также страстно прижималось к небу и словно просило о милости.
– Я не покину тебя, – тихо сказал Софии Потемкин. – Поверь, я буду с тобой всегда. Душой и телом. Как сейчас – у этого алтаря.
София не смогла сдержать слез. Она плакала впервые с тех пор, как бежала из Константинополя – с душой, полной ненависти и скорби. Снова стало живым и горячим ее сердце, словно навсегда стянутое льдом неверия. Горькие слезы текли по ее щекам. С растроганной и нежной улыбкой смотрел на эти слезы русский вельможа, с детства носивший на груди стертую временем и забвением монету из древнего греческого города Борисфен. Им предстоял путь в крепость Озю…
Часть седьмая Под стенами крепости Озю
Глава 1 Осада Очакова
Крепость Очаков или, как говорили турки – Озю, считалась главным портовым городом в османских владениях на северном побережье Греческого моря. Султан, смеясь, говорил, что скорее Греческое море выйдет из берегов, чем крепость Озю покорится гяурам. Эта твердыня надежно закрывала выход в Черное море и служила крепчайшей преградой от нападений русских. Она защищала верность «непорочной девы султана» – греческого Понта Эвксинского.
Некогда Озю называли Черной твердыней, и выстроена она была на том самом месте, где в степные, скифские времена находилась савроматская крепость Алектора. Турки переименовали Черную твердыню в крепость реки Озю[17], а потом пристроили к степной фортеции еще одну и назвали ее Орта паланка[18]. Третий ряд укреплений назывался Хасан-паша-йи джедид[19].
Время от времени турки, с помощью французских инженеров, исправляли стены и углубляли рвы. Едва подписав мир с Россией, Порта стала готовиться к войне. Все пояса укреплений были устроены так, чтобы обороняющиеся могли перейти из одной твердыни в другую, используя подземные пути, ведущие к лиману.
Во время последних ремонтных работ была ликвидирована главная опасность: отсутствие в Озю воды. Сначала выкопали глубокий колодец, правда, вода в нем оказалась горькой, как крымская соль… Тогда французские инженеры предложили устроить внутри крепости водоем из нескольких углублений, которые летом наполнялись с помощью дождевой воды, а зимой – снегом. Наконец от двух колодцев, находившихся вблизи паланки Капудан Хасан-паши, провели под землей глиняный водопровод. Под толщей земли находились огромный пороховой склад и арсенал.
Крепость Озю являла собой неправильный удлиненный четырехугольник. Узкой, восточной, стороной она примыкала к лиману, а три другие, обращенные в степь, представляли собой мощные каменные стены с нагорным ретраншементом. Линия редутов уходила далеко в степь. В южной части Озю находилась пятиугольная цитадель, возвышавшаяся перед Кылбурном над высоким откосом лимана. Предположительно крепость Озю была неприступна, но князь Потемкин счел штурм возможным…
Напрасно осторожные советчики напоминали князю о том, что гарнизон Очакова насчитывает 20 тысяч бойцов, а в артиллерийском арсенале крепости – 400 мортир и пушек. Циклоп отвечал «доброжелателям» снисходительной насмешкой. В лагерь русской армии под стенами Очакова князь прибыл с красавицей гречанкой и другими своими приближенными из разных племен и народов – греком Алексиано, запорожским казаком Антоном Головатым, американским пиратом Полем Джонсом и испанским моряком Хосе де Рибасом. Все эти люди верно служили Циклопу и были уверены в том, что турецкая твердыня рано или поздно будет побеждена.
Советники предупреждали князя и о том, что остров Березань со своими пушками позволяет принимать с моря турецкие корабли, а в селении Гаджибей находятся провиантские склады противника.
«Возле Аккермана стоит сераскир-паша с пятью тысячами янычар, в Бендерах – еще 12 тысяч турок и в Хотине – шесть тысяч…», – напоминали князю осторожные друзья. Но Циклоп был непреклонен в своем решении взять крепость Озю и открыть русской армии выход к Черному морю. Греческая красавица, сорви-голова из Гетерии Алексиано, запорожский казак, американский корсар и испанский моряк во всем вторили Потемкину. Впрочем, императрица Екатерина не выказывала сомнений в победе русского оружия. Екатерина не сомневалась в военной удаче Потемкина. По-настоящему ее беспокоило только одно – присутствие в русском лагере графини Софии Витт, мужа которой Потемкин пожаловал генеральским чином и отправил в Каменец-Подольскую крепость.
Под стенами Очакова собрались храбрецы и честолюбцы. Все они, как один, претендовали на высокие чины и не хотели никому повиноваться. Потемкин и его подчиненный генерал-аншеф Суворов тратили неимоверные усилия, чтобы везти «русский воз» в какую-нибудь одну сторону…
Шотландец Джон-Поль Джонс начал свою морскую службу на бригантине «Два друга», которая перевозила в Америку из Африки «черный товар» – то есть рабов из Африки. Но перевозить в Новый Свет этих несчастных Джонсу никогда не нравилось. Поэтому, при первом удобном случае, он поступил в английский королевский военный флот и получил первое офицерское звание. В это время шла война с мятежными английскими колониями, которые, по мнению англичан, нагло назвали себя Соединенными Штатами Северной Америки и провозгласили свою независимость от английской короны. Сначала Джонс тоже считал американцев наглецами, но потом – неожиданно для английского командования – перешел на их сторону. В шотландском моряке сидел бунтарский дух, который сделал его американским морским офицером.
Американский конгресс присвоил Джонсу звание лейтенанта и доверил командование первым кораблем американских военно-морских сил «Альфред». На этом корабле впервые был поднят звездно-полосатый флаг мятежных Северо-Американских Штатов. Уже через год Джонс стал командиром корвета «Скиталец», который приводил в ужас, слезы и трепет все побережье Великобритании. В 1776 году Джонс сжег суда в гавани Уайтхейвен, а на обратном пути в Америку захватил с собой английский фрегат «Дрейк». Король Великобритании Георг ІІІ издал указ повесить «этого негодяя шотландца Джонса», причем дважды: «за шею – для лишения жизни и за ноги – для позора».
Указ английского короля заставил Потемкина и Екатерину заинтересоваться «наглецом Джонсом». «Этот храбрец поможет нам войти в Константинополь», – решил Циклоп.
Екатерина согласилась с Потемкиным и предложила Джонсу звание генерал-майора – если только он перейдет на русскую службу. Моряк, приговоренный английским королем к двойному повешению, не замедлил согласиться.
Еще до прибытия Джонса в Санкт-Петербург Екатерина написала Потемкину под Очаков, что посылает знаменитого корсара на Юг. «Сей человек весьма способен в неприятеле умножать страх и трепет; его имя, чаю, вам известно; когда он к вам приедет, то вы сами лучше разберете, таков ли он, как об нем слух повсюду», – лукаво улыбаясь, диктовала Фике статс-секретарю Храповицкому. В ожидании Джонса Суворов писал Потемкину: «Всемогущий Бог да благословит предприятия Ваши! Это, конечно, милостивый Государь, Пауль Ионе, тот американец, который опасно, что б и нас, трубадуров Ваших, не перещеголял».
По прибытии в Херсон новоявленный русский флотоводец Поль Джонс не замедлил поднять свой флаг на линейном корабле «Святой Владимир». Русская эскадра американца состояла из двух линейных кораблей, трех фрегатов и восемнадцати вспомогательных судов. Американский корсар умудрялся добывать самую четкую и верную информацию о передислокации турецких кораблей. Он получал эти сведения от своего былого «коллеги» – итальянского корсара Ламбро Качони.
Качони при помощью своих 16 кораблей, получивших патент на право плавания под российским флагом, держал под контролем всю акваторию Понта Эвксинского. Бывший пират довольствовался щедрым жалованьем, которое предоставила ему русская императрица, и охотно занимался разведкой. Словом, итальянец и американец хорошо спелись – во славу русского оружия.
Вместе с первыми восторгами появились и первые разочарования. Однажды Суворов попросил контр-адмирала Поля Джонса прислать ему несколько судов для охраны Кинбурнской крепости. Джонс занял оборонительную линию у Глубокой пристани и отказал Суворову. Обиженный Суворов написал Потемкину: «Поль Джонс – порядочная свинья. Едва начали, как он порадовал меня своей обороной».
Однако, когда в июне состоялось первое морское сражение у стен Очакова, Суворов охотно простил шотландца. Турецкая эскадра атаковала русскую, но потерпела поражение. Три судна взлетели на воздух, а остальные ретировались под защиту крепостных пушек Очакова. За первую победу на лимане Екатерина отметила новых русских офицеров высокими наградами: принца Нассау-Зигена – орденом Святого Георгия 2-го класса, бригадира Рибаса – Святого Владимира 3-й степени, контр-адмирала Мордвинова и Пола Джонса – орденами Святой Анны. Грек Алексиано был пожалован в контр-адмиралы. Вскоре после морского сражения в гости к Полю Джонсу прибыли запорожцы во главе с другом детства князя Потемкина – запорожским казаком Антоном Головатым.
Глава 2 История Антона Головатого
«Добридень, коханий! Дякувати Богові, все в мене добре. Чекаю на тебе, а тебе все немає і немає…»[20], – письма, начинавшиеся с этих слов, куренной атаман Запорожской Сечи Антон Головатый получал при каждой оказии. Их передавали братья-запорожцы, знавшие о том, что дома Головатого ждет любимая женщина, – та самая, из-за которой бывший киевский семинарист Антон Коваль попал на Сечь и променял былую, мирную жизнь на табак, трубку и саблю. Головатый вскрывал письмо, растерянно и нежно смотрел на беспомощные, неровные буквы, размытые слезами Ульяны, и тоска ожидания, до краев наполнявшая душу любимой, становилась и его тоской. И тогда, промучившись весь день и не найдя для бесконечно дорогой женщины слов утешения, он писал ей: «Чекай мене, рідна, чекай і я повернуся. Тільки коли це буде, мені невідомо. Перед нами турецька фортеця – треба її подолати. А москалi такi невдячнi – нiчого не вмiють, нiчого не роблять, тiльки лаються. И коли я iм її отримаю – зараз i повернуся додому»[21].
Разве мог тот, чья судьба зависела от воли начальства и военного везения, давать обещания и дарить надежду? Его возвращение было во власти казацкой удачи и приятеля детских лет – князя Потемкина. Но Потемкин взял с собой, в военный у стен крепости Озю, графиню Софию Витт, на красоту которой не мог надышаться, а Головатый жил в разлуке с Ульяной уже очень долго.
Ульяна была дочкой сельского священника, отца Григория, который некогда учил грамоте казацкого сына Антона Коваля. Отец Антона, Андрей Коваль, не пошел за Иваном Мазепой и встал под клейноды нового гетмана Ивана Скоропадского, воевавшего со шведами на стороне Петра Великого. После войны Андрей Коваль ушел на покой, обзавелся хозяйством, женился. Единственному своему сыну Антону герой Полтавской баталии решил дать образование и отвел подростка к отцу Григорию, но на пороге казацкого сына встретил не сам священник, а его темноволосая и темноглазая красавица дочь с нежным кругленьким личиком и заразительным смехом.
Антон влюбился мгновенно, едва переступил порог: с годами эта полудетская любовь не погасла, а разгорелась словно костер, в который ежеминутно подбрасывали поленья преданности и восхищения. Пока Антон и Ульяна были подростками, родители не обращали внимания на их взаимную привязанность. Но когда Антон вырос, а Ульяна стала невестой, отец Григорий не захотел отдавать дочь сыну сечевого казака.
– Другой доли я желал бы тебе, дочка, – вздыхая, говорил священник. – Казацкая кровь течет в жилах этого отрока. Он не сможет жить без войны и опасности. Он уедет, а ты останешься одна. Годы ожидания, бесконечная тревога… Ты состаришься у окна. Я не выдам тебя за казацкого сына.
– Я люблю его! – отвечала Ульяна. – И согласна ждать, сколько понадобится.
– Нет, дочка, я не отдам тебя ему… Пойдешь непременно за семинариста, да чтоб из семьи приходского иерея, а лучше – архиерея. И дабы отрок сей был вида кроткого, нрава благочинного, до учения усердный, а вина в рот не брал!
Отец Григорий был тверд и непреклонен, но упрямство Ульяны и трогательная преданность Антона заставили его несколько смягчиться. Священник согласился выдать дочь за Антона Коваля, если тот поедет учиться в Киево-Могилянскую академию и навсегда откажется от горилки и табака. Сказано – сделано: любовь к Ульяне сделала казацкого сына бурсаком. Горилку и люльку Антон, однако, не бросил, но пользовался ими с большой осторожностью, дабы слава об этом не распространилась. Отцу Антона польстило, что его сын выучится в Киеве, и дело устроилось к общему удовольствию – но ненадолго.
Антон вернулся из Киева, но в священники не шел, медлил. Казацкая кровь отца бунтовала в нем, требовала испытаний, опасности и победы. Долгие годы Антон смирял себя ради Ульяны, но теперь, накануне решающего шага, смирение изменило ему.
– Каждый казак готов променять жену на табак, трубку и саблю! – увещевал непокорную дочь отец Григорий. – И твой Антон поступит так же. Как гетман Сагайдачный в старой песне…
Андрей Коваль послал в дом сельского священника сватов, но сватам вынесли гарбуза[22], а когда те проявили неуместную настойчивость – спустили цепных кобелей. Антон не ожидал отказа, и когда узнал о решении отца Ульяны, его обиде и боли не было предела. Он решил украсть любимую, но отец Григорий запер дочь в доме. Однажды ночью Ульяна попыталась выскользнуть из дома, но не тут-то было: отец за косы приволок ее назад.
Терпение изменило Антону: он просидел в шинке до глубокой ночи, а потом, пьяный, пошел к дому священника – выламывать дверь и крушить все, что под руку подвернется. Столь страшен был вид обуреваемого хмельным гневом отрока, что даже цепные псы не осмелились вылезти из своей будки и только утробно брехали изнутри.
Но отец Григорий, всерьез убоявшись за свою жизнь, позвал на помощь прихожан с криком: «Вбивають! Рятуйте, православные!» Православные скрутили казацкого сына, как следует отлупили, «для ума и протрезвления», и связанного отвезли к уездному начальству. Антону грозил арест и суд, но всех этих «милостей» судьбы казацкий сын дожидаться не стал. Он сбежал из-под стражи и отправился туда, где издавна привечали беглых, – в курени Запорожской Сечи. Предсказание священника сбылось: отчаявшийся жених стал сечевым казаком.
Накануне побега Андрей Коваль попросил о свидании с сыном. Уездное начальство не посмело отказать ветерану Северной войны.
– Чуяло мое отцовское сердце, что не приведет к добру это сватовство! – сказал сыну Андрей Коваль. – Хотел видеть тебя ученым, вот и разрешил в Киев ехать. Но не судьба тебе быть священником. Тебе, сынку, одна дорога – на Сечь.
Старый вояка снял с себя саблю, достал пару кремневых пистолей, положил их на большой платок. Дал сыну краюху хлеба с салом и несколько монет, крепко обнял.
– Помнишь, – тихо сказал он, – как мальчишкой ты играл в казаков с сыном моего боевого друга, майора Потемкина? Как мечтал стать атаманом, верховодить кошем в Сечи? Иди в Сечь, сынку…
Антон Коваль сбежал на рассвете. Перед тем как уйти на Сечь, он успел тайно повидаться с Ульяной.
– Я вернусь за тобой, – целуя любимую, говорил Антон, – я обязательно вернусь за тобой. Я вернусь в чести и славе, и тогда твой отец не посмеет мне отказать. Только дождись меня, кохана…
– Я буду ждать тебя, – помертвевшими губами шептала Ульяна, – столько, сколько понадобится.
Потом она припала к нему, словно мертвая. С трудом Антон оторвал от себя ту, которую побоялся взять с собой. Что его ожидало? Бегство, неизвестность, лишения, опасность… Разве мог он разделить все эти несчастья и испытания на двоих, словно краюху хлеба, взятую в дорогу? Антон решил вернуться за Ульяной в чести и славе, сечевым полковником, которому никто не посмеет отказать.
Он ушел, тщетно пытаясь не оглядываться, с душой, словно навсегда сведенной судорогой мертвой, глухой тоски. Лицо любимой было неестественно застывшим, бледным, как молочная полоса рассвета. Она смотрела ему вслед, сколько могла, а потом, словно замертво, упала на дорогу. На дороге ее нашел отец Григорий. Ульяна долго болела и просила каждого сечевого казака, который приходил в их село на побывку, передавать весточки Антону…
В Сечи сын Андрея Коваля назвался Антоном Головатым из селения Новые Санжары. Селение это он хорошо знал, так как бывал там неоднократно. Имя Головатый (башковитый, умный) пришло из детства – так называл Антона сын Александра Васильевича Потемкина, неугомонный Грицько, сам за вихры прозванный Нечесой.
Антон был зачислен казаком Кущевского куреня. В Сечи быстро оценили неугомонный ум молодого казака. Его авторитет держался на храбрости, отчаянности и справедливости. Головатый даже ездил в Петербург, к самой царице, где, к своему удивлению, встретил Грицько Нечесу. Друг детских лет, с которым они когда-то играли в запорожцев, был в фаворе у государыни, и старому знакомому обрадовался.
– Мне нужны надежные люди на Украине, – говорил Грицько. – Тебя изберут писарем Самарской паланки, но ты должен помочь мне, старый друже. Будешь в чести – вернешься к своей Ульяне. Я сам буду тебе сватом. Мне никто не откажет!
Головатый согласился служить Грицьку Нечесе. В Сечи Головатого неоднократно избирали «столичником», а когда императрица Екатерина ликвидировала старую Сечь, Головатый получил звание капитана и земельный надел в Старом Кодаке. Вместе с Грицько Нечесой и верными казаками Головатый оказался и у стен крепости Озю.
– Когда возьмем крепость, я отпущу тебя к Ульяне, – пообещал Головатому Потемкин. – Пожалую полковником, вернешься, как хотел, в чести и славе. Только помоги мне взять Озю. У Александра Васильевича Суворова есть блестящий прожект – касательно тебя и шотландского храбреца, Поля Джонса. Поступишь под начало к Джонсу, дальше расскажем, как быть. Только писем от коханой перед боем не читай – твое сердце должно быть твердым, а не мягким, как воск. Ступай, Антон. Мое слово крепкое – возьмем крепость, станешь свободным. А пока – терпи, казак, атаманом будешь!
Так Антон Головатый поступил под начало к американцу шотландского происхождения – адмиралу Джонсу. Между тем в родном селе Головатого отец Григорий давно раскаялся в своей непреклонной решимости спасти дочь от сечевого казака. Уже давно священник не мог смотреть дочери в глаза – с тех самых пор, когда нашел ее полумертвой на дороге.
Ульяна ждала Антона каждый день, и отец ощущал ее тоску ежеминутно. Словно змея, шевелилась дочерняя боль у него под сердцем. Однажды отец Григорий не сдержался и в письме попросил Антона вернуться. Но теперь Головатого не отпускало воинского начальство.
Антон приехал в родное село только однажды, на похороны отца. На пороге церкви, где должны были отпевать Андрея Коваля, стоял отец Григорий, и Головатый не сразу узнал его, таким бесконечно виноватым и даже жалким был его жестокий обидчик.
– Приехал! – сказал священник. – И слава Богу, что приехал. Иди в храм – там она. За тебя молится, свечи ставит. Тебе – во здравие, отцу твоему – за упокой. Ты прости меня, Антон Коваль, хотел я дочь свою от беды спасти, да погубил, видно.
– Мне завтра в полк возвращаться, – признался Головатый. – Один день у меня всего, панотец. Я теперь казацкая душа, зовусь Головатым и служу Грицьку Нечесе – большому человеку, князю Потемкину.
– Ее любишь по-прежнему? – спросил священник.
– Словно жену люблю, – твердо ответил Антон. – Как на исповеди скажу, были у меня другие, но ее не забыл.
– Тогда отца твоего отпою, а тебя с Ульяной в сей же день обвенчаю, – решил священник. – Чтобы женой она тебя ждала. Согласен?
– За честь почту, – ответил Коваль.
Ульяна стояла перед иконой Богородицы Семистрельной. Глаза опущены, губы скорбно сжаты, на голове – темный платок. Когда увидела Антона, тихо просияла, словно первая звезда на небе.
– Ты вернулся? – не смея поверить своему счастью, спросила она.
– Нет, кохана, – ответил Головатый. – Я на побывку приехал. Отца похоронить. Когда отца моего отпоют, нас с тобой – обвенчают.
После похорон Андрея Коваля отец Григорий обвенчал молодых. Наутро Антон вскочил в седло. «Чекай на мене! – сказал он любимой. – Буду вільним, приїду до тебе… І вже більше на війну не піду»[23]. Она ждала и почти каждый день писала Антону трогательные, беспомощные письма, которые он не мог читать без явственной душевной боли. Теперь судьба Антона и Ульяны зависела от князя Потемкина, крепости Озю и американского авантюриста Поля Джонса…
Глава 3 Личный враг короля Георга III
Секретно.
Из досье британской разведки.
«Джон-Поль Джонс, 1747 года рождения, шотландец. Офицер королевского флота. Роста невысокого. Лицо округлое. Волосы редкие, рыжие. Кожа лица смуглая. Глаза голубые. Телосложение среднее. Честолюбив. Вспыльчив. Прекрасный знаток морского дела. Отлично владеет холодным и огнестрельным оружием. Смел, дерзок, непредсказуем. За измену присяге и короне приговорен к смертной казни. Личный враг короля Георга ІІІ. Государство, предоставившее убежище преступнику, – враг Британской короны».
Вчерашние во главе с Антоном Головатым прибыли в распоряжение Поля Джонса теплым июньским вечером, когда не хотелось думать о разрушениях, потерях и военной славе. После продолжительного ужина с ведрами горилки и закуской на шотландский и малороссийский лад пьяный вдребезги контр-адмирал предложил казакам на лодках «прокатиться» к турецкому флоту. Неизвестно зачем с собой они захватили ведро с черной смоляной краской. Благо, ужин продлился до глухой ночи, и под покровом темноты можно было совершить эту безумную прогулку в надежде, что сонные турки не откроют огонь. Когда запорожские «чайки» подплыли к самому большому турецкому кораблю, Поль Джонс собственноручно сделал лаконичную надпись на его борту.
Ранним июньским утром на палубу корабля «Святой Владимир» с целью проверки и осмотра поднялся сам Григорий Александрович Потемкин. Появления контр-адмирала Поля Джонса Потемкину пришлось ожидать минут пятнадцать. Павел Жонес, как его называли в Петербурге, был одет не по полной форме, парик в спешке нахлобучил криво и, вдобавок, нимало не смутившись, дышал князю прямо в лицо чудовищным сивушным перегаром. Путая слова, с пересохшим ртом, контр-адмирал начал докладывать Потемкину, что ночью, желая точно знать расположение кораблей вражеского флота, он на легкой казачьей лодке обошел всю турецкую эскадру.
– На казацкой лодке? – удивленно переспросил Потемкин. – Позаимствовали лодку у Антона Головатого?
Шотландец понял, что сболтнул лишнее, и опустил голову, придумывая какую-нибудь отговорку.
– Дежурный офицер, – распорядился Потемкин, – потрудитесь предъявить мне кошевого атамана Головатого.
Через добрых пятнадцать минут пред разгневанным Потемкиным наконец-то предстал кошевой атаман собственной персоной – полусонный, с глазами заплывшими после вчерашней попойки, но вполне довольный собой. Впрочем, багровой опухолью заплыл глаз и у посланного за ним дежурного офицера.
– Наияснейший княже, – обратился к Потемкину Антон, дыхнув на Григория Александровича несколько меньшим перегаром, ибо его казацкое нутро более подходило для переваривания огненной малороссийской горилки, чем привыкший к шотландскому виски желудок Джонса, – кошевой атаман Головатый по вашему приказанию явился.
– Так что же вы, соколики, делали этой ночью? – строго спросил у друга детства Потемкин.
– Султанский флот обошли на чайках, для реко…ик-ик-гносцировки… – попытался ответить Головатый и тихо добавил: – Дякувати Богу, басурманы огонь не открыли.
– К самому флагману подошли на лодке! – гордо продолжил Поль Джонс.
Выслушав сбивчивый доклад контр-адмирала и кошевого атамана о совместных ночных действиях по изучению расположения вражеских кораблей, Потемкин взял подзорную трубу и посмотрел в сторону турецкого флагмана. На борту флагманского корабля турков черной масляной краской было написано: «FUCKING SHIT!».
– Что там написано? – лукаво улыбаясь, спросил Потемкин, для которого смысл надписи отнюдь не составлял секрета. Князь едва сдерживал себя, чтобы не расхохотаться.
– На флагмане написано… – встрял в разговор Головатый, – що цю посудину спалити треба.
– Так и написано? – тщетно пытаясь казаться серьезным, переспросил князь.
– Именно так, наияснейший княже, – продолжал врать Антон, – так и написано «Сжечь. Поль Джонс». Чтобы хлопцы знали, какую посудину вперед сжигать из пушек.
– На какой день намечено сражение? – уже не сдерживая смех, спросил Потемкин.
– На сегодняшнее утро, сэр! – браво отрапортовал бывший корсар Джонс и, переглянувшись с Головатым, расплылся в улыбке.
– Так что же вы медлите, вперед! – приказал Потемкин и добавил, обращаясь к Головатому: – Гляди, Антошка… Одержим победу, вернешься к Ульяне! В чести и славе, как хотел…
– Только похмелиться бы наперед надо бы, ваше сиятельство! – попросил Головатый.
– Похмеляйтесь скоро – и вперед! – приказал Потемкин.
Когда главнокомандующий отплыл с корабля, контр-адмирал приступил к решительным действиям. Правда, действовать в это утро было немыслимо трудно: голова раскалывалась от казацкой горилки. К тому же дул слишком слабый ветер. Первыми дали залп турки. Их ядра взметнули столбы воды у борта «Святого Владимира».
В ответ корсар ударил по кораблю «отважного крокодила» (так Джонс называл флагманский корабль паши Эски-Гассана) с левого борта. Корсару удалось развернуть корабль, и залпом с другого борта Джонс вынудил турок изменить курс кораблей прикрытия, из-за чего они сели на мель. Ветер к тому времени стих полностью. Поэтому, используя только течение, ловкий американский корсар развернул «Св. Владимира» носом к противнику.
Теперь его корабль имел минимальную площадь для обстрела турками и медленно приближался к кораблю «отважного зеленого крокодила». Когда до турецкого флагмана оставались десятки метров, Джонс смог еще раз развернуть корабль. Орудия левого борта «Св. Владимира» извергли на неприятеля свои ядра. На турецком флагмане начался пожар. Эски-Гассан бежал на шлюпке под защиту стен Очакова. Чтобы не сгореть заживо, турецкие матросы бросались в море – прямо через орудийные порты.
В шатер главнокомандующего контр-адмирал Поль Джонс явился в тот же день и торжественно отрапортовал о победе.
– А почему корабли не спалили – те, что на мель сели? – поинтересовался Потемкин.
– Штиль помешал, – лаконично ответил корсар.
– Гриць, – встрял в разговор Головатый, стоявший рядом, – морячки турецкие с тех кораблей на шлюпках отплыли, а главный их, Эски-Гассан, первым сбежал. А спалить турецкие корабли адмиралу дийсно штиль помешал.
– Вот и выручай собутыльника, – наигранно холодно произнес Потемкин, – казацким чайкам ветер не нужен. Или вы, ребятушки, только по пьяному делу храбрецы?!
Все турецкие корабли, что на мель сели, – сжечь. Хоть тресни, а сожги их!
В ту же ночь все севшие на мель турецкие суда были сожжены.
Ночью Потемкину доложили, что на корабле «Святой Владимир» опять идет попойка. Больше всех выпили контр-адмирал Поль Жонес и Антон Головатый. Антон подарил другу Павлу костюм запорожца, и шотландец, облачившись в казацкие шаровары, прогуливался по палубе, попыхивая люлькой. Вдвоем они попеременно горланили шотландские и украинские песни, а потом нетвердыми голосами беседовали об оставленных дома женщинах.
– Никому об этих вольностях не говорить, – приказал князь своему секретарю Попову, – наши герои заслужили небольшой отдых.
Между тем герои дневного сражения и не собирались отдыхать. Вдребезги пьяный Джонс рассказывал другу Энтони о том, что собирается в поход на Индию и придумал для этого великого похода корабль совершенно нового вида.
– Нет корабля лучше казацкой чайки! – ответил на это Головатый и уронил отяжелевшую голову на грязный стол. – И все ж таки, Павло, – пробурчал он, тщетно пытаясь подняться: «Вiзьми мене з собою у цю Iндiю. Тiльки не зараз, а коли я з Ульяною хоч рiк поживу».
– Возьму, Энтони, – ответил своему товарищу корсар. – Непременно! Ты мой лучший друг. А если не возьму – пусть меня поймают и повесят на нок-рее эти скоты – англичане.
– На Iндiю! – заорал Головатый. – Давай ще выпьем, Павло! Треба нам у поход i Гриця взяти – князя Потемкина.
Тiльки без його гречанки. Я свою кохану дома залишив, а вiн свою гречанку сюди привез. Яка ж тут справедливiсть!
Отдых шотландца и запорожца прервал Эски-Гассан. В эту ночь турки, на оставшихся кораблях, попытались пробиться морем в сторону Херсона. Турецкая эскадра двигалась напролом. Батареи Кинбурнской крепости не могли остановить ее проход.
Суворов, предвидевший такой исход событий, загодя приказал установить две дополнительные батареи, которые своим огнем перекрывали вход в Днепровский лиман. Турок застали врасплох. Не ожидая огня непонятно откуда взявшейся русской батареи, турецкие корабли скучились. В темноте они натыкались друг на друга, некоторые сели на мель. Эскадра Поля Джонса в упор расстреляла большую часть турецких судов.
– Россия – удивительная страна! Сегодня мне впервые пришлось увидеть победу на море, одержанную… пехотным генералом, – сказал о Суворове корсар. – Но и я сдержал слово, данное князю Потемкину. Я сжег турецкий флот.
Потери Блистательной Порты в этих двух сражениях были велики: шесть линейных кораблей, два фрегата, семь вспомогательных судов, 6000 убитых, раненых, сгоревших заживо и утонувших, около двух тысяч пленных. Войска Суворова и Джонса потеряли всего 18 человек убитыми.
В Петербурге эту победу стали называть второй Чесмой. Екатерина наградила Джонса орденом Святой Анны 1-й степени. Однако в октябре Джонса срочно отозвали в Петербург, по личному распоряжению императрицы. Присутствие в русской армии американского корсара, трижды приговоренного Британией к смертной казни, грозило Российской империи конфликтом с туманным Альбионом. В Петербурге стало известно, что английские купцы по всей Российской империи в знак протеста против присутствия в России злейшего врага Британской короны стали выезжать домой. Английские капитаны, служившие в российском флоте, один за другим подали в отставку. Во избежание дипломатического скандала с Англией Екатерина решила пожертвовать Джонсом. На прощание государыня великодушно выплатила Джонсу его адмиральское жалование за два года вперед.
Навсегда покидая очаковские воды, уже не адмирал, а американский подданный Джон-Поль Джонс, увозил с собой орден Святой Анны, врученный ему лично Григорием Потемкиным, добротный серый плащ, подбитый лисьими хвостиками, подаренный Александром Суворовым и запорожский костюм, на память об Энтони – Антоне Головатом. Поход на Индию друзья отложили до лучших времен. Антону Головатому предстояло возвращение к молодой жене. Но сначала нужно было взять крепость Озю…
Глава 4 Секретные коммуникации Очаковской крепости
1 июля 1788 года Екатеринославская армия осадила Очаков. Она состояла из 35-ти пехотных полков, 28-ми конных, шести егерских корпусов и нескольких тысяч Донских, Бугских и Верных казаков. У русских насчитывалось до 180-ти орудий. Одновременно флот блокировал крепость Озю со стороны лимана. 14 июля началось сооружение осадных батарей. К середине августа была заложена первая параллель на расстоянии почти версты от Очакова. К середине октября русские батареи смогли приблизиться к турецким ретраншементам примерно на 150 сажен.
Суворов опять заговорил о штурме.
– Я на всякую пользу руки тебе развязываю, – ответил ему Потемкин, – но касательно Очакова попытка неудачная может быть вредна. Я все употребляю, надеясь на Бога, чтобы Очаков достался нам дешево.
«Все это нерешительность и бестолковое выжидание! – возмущался Суворов. – Попытаюсь вынудить Потемкина пойти на штурм». Вскоре он действительно осуществил такую попытку. Но попытка эта не только не имела успеха, но и чуть было не стоила Суворову жизни.
27 июля Суворов воспользовался вылазкой большого отряда турок и завязал с ними бой. Турки выслали подкрепление, и началось сражение. Силы сражающихся сторон были неравными. Погибло несколько сотен русских солдат, а сам Суворов был ранен в шею. Пуля прошла насквозь. Верный казачок вынес своего командира с поля боя.
Потемкин обвинил Суворова в больших потерях в славном Фанагорийском полку. «Солдаты не так дешевы, чтобы их терять попусту! – возмущенно сказал он Александру Васильевичу. И сурово добавил: – К тому же странно мне, что вы в моем присутствии делаете движения без моего приказания. Не за что потеряно бесценных людей столько, что довольно было и для всего Очакова…».
Узнав об этом инциденте, Екатерина, заявила в присутствии приближенных: «Слыхали, господа, старик, бросясь без спросу, потерял до 400 человек и сам ранен…».
Спустя месяц после этой стычки турки снова предприняли вылазку, но уже на правом фланге, – с намерением захватить русскую батарею, которой командовал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Короткими перебежками, укрываясь в многочисленных канавах и балках, янычары выскочили к установленным орудиям. Егеря штыковой контратакой отбросили турок и погнали их обратно к крепости, чтобы на их «плечах» ворваться в Очаков.
В это время Кутузов прильнул к амбразуре укрепления и тут же опрокинулся на спину – Михайлу Илларионыча достала турецкая пуля. Капитан артиллерии Алексей Михайлович Племянников подхватил раненого командира. Вызвали врача. Осмотр не дал утешительных известий. Пуля ударила Кутузова в правую щеку и вышла через затылок. Голова Михаила Илларионовича была вторично пробита почти в том же месте, что и при первом ранении, в бою у татарской деревушки Шумы. Оба ранения были не просто тяжелыми, а смертельными.
Потемкин справился у врачей о здоровье Кутузова. Доктор Дримпельман печально покачал головой.
– Если бы о таком случае мне рассказали, – ответил врач, – я бы счел его басней.
– Надобно думать, что Провидение охраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного! – ответил на это светлейший. И торжественно добавил: – Михайло Илларионыч исцелен от двух ран, каждая из которых – смертельна…
Начиная с 18 августа, русские батареи почти беспрерывно бомбардировали крепость, в которой не утихали пожары.
Все лето и до глубокой осени Очаков держал основные силы русской армии возле своих стен.
Осенью, по секретным каналам, князь Потемкин получил сведения о том, что французские инженеры, работавшие в крепости, устроили целую паутину подземных коммуникаций и ходов с пороховыми складами. Пороховые мины располагались под землей на удаленном расстоянии от крепости. При штурме они погубили бы тысячи солдатских душ.
Число минных и контрминных галерей вокруг Очакова доходило до нескольких десятков. Своды и стены таких галерей были обшиты деревом, иногда – кирпичом или диким камнем на известковом растворе. Все входы в подобные галереи были тщательно замурованы или скрыты. Немногие турецкие начальники Очакова знали о существовании минных галерей, а в их подробный план был посвящен только комендант с крепостным инженером.
Российский военный инженер Родион Гербель задействовал в земляных работах свыше двух тысяч землекопов. Русские днем и ночью рыли длинные подземные ходы, медленно продвигаясь к вражеской крепости. Однако турки разгадали маневр «гяуров» и тоже стали копать навстречу противнику.
Бок о бок с землекопами работали солдаты-«слухачи». Они должны были первыми услыхать удары турецких заступов. За рабочими и слухачами следовали гренадеры и казаки. Несколько раз галереи неприятелей встречались. Тогда под землей гремели взрывы, звенели сабли, раздавались яростная ругань и крики сражающихся и стоны умирающих. Однажды турки успели взорвать пороховой заряд. В лаз вошло около сотни солдат, а обратно из дымящейся ямы вынесли живыми всего восьмерых – тяжко контуженных и обожженных…
В решающий день осады русские стали взрывать в галереях мешки с пороховыми зарядами. В центральной галерее, после взрыва сорока тысяч пудов пороха, образовалась воронка шириной в 18 метров. Через образовавшиеся отверстия атакующие проникали к стенам крепости.
Капитаны инженерного корпуса Захар Захарьевич фон Шмит и Александр Федорович Новиков руководили подземными работами. Саперы заложили вокруг одного из турецких редутов контрольные колодцы. Эти колодцы показали, что на глубине четырех-пяти метров, в скальной известняковой породе, находится толстый слой глины. В нем можно было вести саперные работы.
Турки тоже не дремали. Они вырыли около двадцати колодцев и вывели из них столько же галерей навстречу неприятелю. Однажды, в слуховом окне, турок-слухач зафиксировал работу русских минеров. Турки замерли. Внимательное прослушивание подтвердило – противник шел навстречу им в том же слое земли. Тогда в этом месте турки заложили 20 пудов пороха. Когда русские саперы были в трех-четырех метрах от неприятеля, турки подожгли фитили.
Сильнейший взрыв заставил всех вздрогнуть. Русская подземная галерея была разрушена на протяжении тридцати метров. От сильнейшего взрыва содрогнулась земля на много верст вокруг, и степная пыль тучей поднялась в небо. Многие солдаты остались под землей навсегда…
Эта подземная трагедия окончательно убедила Потемкина, что без планов и карт не обойтись. «Вслепую» подойти под землей на близкое расстояние к крепости оказалось невозможным. Светлейший князь попытался получить план секретных коммуникаций крепости Озю по своим собственным каналам. С этой целью он отправлял из лагеря гонцов в Европу. Со стороны это выглядело как исполнение капризов графини Софии Витт, которая делила с князем тяготы походной жизни. Кроме Софии ставку командования озаряли своим присутствием очаровательные русские дамы: княгиня Голицына, графиня Самойлова и жена двоюродного брата Потемкина – Прасковья Гагарина.
Любой каприз этих красавиц исполнялся незамедлительно. Поэтому отправка очередного фельдегеря на Урал или Каспий – за черной осетровой икрой, в Милан – за благородными винами, или в Малороссию – за каплунами и копчеными окороками, ни у кого не вызывала подозрений. Графиня Витт подала князю блестящую идею – она решила разыскать своего былого друга, французского инженера Леруа, который некогда работал над секретными коммуникациями крепости Озю.
Глава 5 Путешествие инженера Леруа
Франсуа Леруа уже несколько лет жил в своем родном Марселе. В милой, веселой Франции он вспоминал порой о греческой красавице, бросившей его у стен Каменец-Подольской крепости. Но эти воспоминания были слишком печальными, и тогда Леруа приказал себе забыть о Софи – и действительно почти забыл ее нежное, как будто нарисованное пастелью, личико, черные, словно греческие маслины, глаза, очаровательную, весеннюю улыбку и сладкие, округлые плечи. Но иногда, на грани между сном и бодрствованием, приходили к Леруа воспоминания о той единственной ночи, которую он провел с Софи. И тогда Франсуа вспоминал пьянящий аромат ее кожи, восточный жар ее губ, маленькую нежную ручку, свесившуюся с кровати, огарок свечи на убогом столе придорожного трактира и даже купленную в дороге шаль, которой он укутывал гордые плечи и божественную грудь гречанки.
Порой, под влиянием благородных винных паров, Леруа даже думал, что в его жизни не было ничего прекраснее этой ночи, да, наверное, уже и не будет. Тогда, уже под утро, он вставал из-за пиршественного стола, шел к морю, слушал, как оно тихо ворчит спросонок, и вспоминал другое море, названное Греческим или Черным, и удаляющийся от берегов Константинополя корабль. Средиземное море сияло, как лазурные глаза польских красавиц, августовское утро дышало надвигающимся зноем… Все предвещало ослепительный день, но этим утром Леруа не хотел чувствовать счастья. Француз бродил вдоль берега и напевал себе под нос меланхоличные арии из итальянских опер. Нет, жизнь решительно не удалась, поскольку самая очаровательная женщина выскользнула из его рук!
Леруа по-прежнему был военным инженером. Он помогал сильным мира сего, которые желали строить новые крепости или укреплять старые. Правда, это были крепости друзей Франции – Оттоманской Порты или Речи Посполитой. Былой друг гречанки так и не женился и часто, засыпая рядом с очередной подругой, по ошибке называл ее своей Софи. Тогда Леруа будила пощечина, и очаровательная полячка или француженка, еще накануне вечером – ангел кротости и смирения, хлестала беднягу-инженера по щекам и называла подлецом и развратником. Рассерженная дама уходила, а Леруа оставался наедине с воспоминаниями. Правда, они грели его не хуже, чем очередная красавица под боком.
И вот однажды Леруа получил письмо от Софи. Его привез русский фельдъегерь, приехавший в Марсель за устрицами. От письма исходил едва уловимый запах степной полыни, пороха и духов, и Леруа, прежде чем прочитать, растроганным жестом прижал к лицу листок бумаги с неровными, скачущими буквами. Дама, писавшая эти строки, торопилась и нервничала, но все же не посмела зачеркнуть обращенное к нему: «Cher François». Из письма Леруа узнал, что его Софи стала графиней Витт, и, в память о былых временах, она просит его помочь влиятельнейшему русскому вельможе, князю Потемкину, осаждающему ныне крепость Озю. В чем должна была состоять эта помощь, в письме не сообщалось, но Леруа не стал разгадывать тайну Софи вдали от своей красавицы. Француз недолго собирался. На следующий же день после получения письма Леруа на быстроходной итальянской фелуке отплыл в крепость Озю.
Однако пока русский фельдъегерь разыскивал Леруа, в ставку Потемкина прибыл французский инженер Мароль. Его прислал в помощь князю Потемкину генерал Лафайет по просьбе принца Карла-Иосифа де Линя.
– Вот князь, – представил гостя принц де Линь, – рекомендую вам человека, который способен управлять осадными работами.
– Вы хотите иметь Очаков? Так, как имеют прекрасную женщину?! – фамильярно спросил Потемкина француз.
– Эта опасная красавица уже успела разбить слишком много сердец! – сердито ответил Григорий Александрович, внимательно рассматривая вновь прибывшего.
– Но вы будете ее иметь, даю слово чести! – нахально заявил Мароль.
– Для начала, голубчик, – распорядился Потемкин, – вам необходимо отдохнуть с дороги, отобедать, выпить вина. А потом уже браться за дела. И не возражайте, таков русский обычай.
Как только француз ушел, Потемкин повернулся к генерал-майору Синельникову.
– Так что ты говоришь? – обратился он к Синельникову. – Каких таких инженерных наук он представитель?
– Инженер мостов и дорог, ваше сиятельство! – ответил генерал.
– Инженер? – горько усмехнулся Потемкин и добавил, обратившись к присутствовавшей при разговоре Софии: – Этот молодчик – редкий нахал, и у меня нет причин ему доверять. Я могу доверять лишь тебе, Антону, Фалееву, Попову. Всем, кто со мной будет в степи.
– В какой степи? – ахнула София.
– В бессарабской степи, – ответил Потемкин. – Я тоже видел свое будущее в алтарном огне древнего города Борисфен. Я умру в бессарабской степи, на отвоеванных русской армией землях, на твоих руках. Рядом будут – Антон Головатый, мой секретарь Попов и обер-штер-кригс-комиссар Фалеев. Ты поднесешь мне к губам походную икону… А потом закроешь мне глаза.
– Откуда ты можешь это знать? – София нежно провела ладонью по щеке князя. – Все в руках Божиих. Не пытайся заглядывать вперед.
– Если бы я мог не заглядывать, – махнул рукой Потемкин, – если бы я не встретил однажды человека по имени Сен-Жермен, Ракоци или Монфера… Тогда бы я не хандрил и не опускался в «воды вавилонские»…
– Я тоже встретила этого человека, – прервала князя София, – но он подарил мне надежду, веру в свои силы и помощь Гетерии. Сен-Жермен помог и тебе, не говори о нем дурно…
Из «вод вавилонских» на твердую землю Потемкина вывел вопрос генерал-майора.
– Ваше сиятельство, – обратился к Потемкину Синельников, – что с французом этим делать?
– Окружить заботой, – усмехнулся князь, – пусть все считают, что мы рассчитываем лишь на его помощь. Но к делам его и близко не подпускать!
Между тем неизвестный гонец доставил австрийскому императору следующее письмо.
«Секретно.
Ваше Величество!
Князь Потемкин обманут. Прибывший от генерала Лафайета инженер действительно является специалистом по мостам и дорогам. Он не способен оказать какой-нибудь существенной помощи русской армии. Инженер Мароль заказал в Европе документы. В списке лишь книги – сочинения инженеров-фортификаторов, таких как Вобан и Реми. Князь Потемкин же считает, что Мароль доставит ему планы фортификационных укреплений Очакова.
Письмо мною вручено. Однако князь Потемкин медлит с ответом и, кажется, не хочет пользоваться нашим планом военных действий. Он стал чрезвычайно скрытен.
Карл».
Прибывший в русский лагерь военный уполномоченный австрийского императора, принц Карл-Иосиф де Линь привез Потемкину секретный пакет. В пакете находилось письмо, которое должно было служить планом всей военной кампании.
Изучив письмо, Потемкин пообещал де Линю непременно дать ответ. Однако с этого дня князь под любым предлогом избегал встреч с австрийским соглядатаем.
В начале октября Потемкин приказал артиллеристам сосредоточенным огнем разрушать крепостные стены со стороны лимана, где был намечен главный удар во время предстоящего штурма. Затем была произведена бомбардировка крепости. Турецкие пушки отчаянно палили в ответ, но не способны были воспрепятствовать разрушительным действиям российской артиллерии.
Как только канонада смолкла, Потемкин направил ультиматум коменданту Очакова. Паша снова ответил отказом… В это тяжелейшее время в лагерь Потемкина прибыл военный инженер Франсуа Леруа.
Глава 6 «Моя маленькая Софи…»
Франсуа Леруа с трудом узнал в стоявшей рядом с князем Потемкиным величественной даме свою маленькую, беззащитную Софи. Никогда у его Софи не было такого уверенного и проницательного взгляда, никогда ее красота не была такой победоносной и торжествующей.
Леруа помнил несчастную девочку, с трудом выскользнувшую из рук константинопольского доносчика, он знал ее растерянность, слезы и боль, но не был знаком с ее счастьем. Она часто плакала у него на плече, но француз и представить не мог, что когда-нибудь ему придется склониться перед Софи в почтительном поклоне.
И вот теперь, в лагере русских войск, в присутствии князя Потемкина, он поклонился своей былой подруге и коснулся благоговейным поцелуем кончиков ее тонких пальцев. Гречанка ничуть не смутилась, ответила ему легкой царственной улыбкой, а потом изложила свою просьбу. Точнее, говорил князь Потемкин, а Софи, словно бусины, нанизывала слова князя на тонкую нить беседы и время от времени поясняла сказанное.
Через полчаса военный инженер Леруа узнал, что ему предлагают стать предателем и выдать русскому военачальнику секреты подземных коммуникаций крепости Озю. Значит, он пересек моря и проливы не ради свидания с очаровательной дамой, увы, принадлежавшей теперь другому, а ради того, чтобы инженер Леруа навсегда запятнал свою репутацию, продавшись русским! И хоть бы еще нормальную цену предложили, а то – сущие гроши, жалованье инженера на российской службе!
Француз был вне себя от возмущения: он с трудом дослушал Потемкина, а потом, едва сдерживая вполне понятный гнев, заявил, что предателем никогда не был и не будет и намерен немедленно возвратиться в Марсель. Князь Потемкин разочарованно пожал плечами, а стоявшая рядом с ним величественная дама смутилась – впервые за этот разговор, показавшийся Леруа бесконечно долгим.
– Но почему, Франсуа, – сказала она неожиданно лирично и мягко, – почему ты не хочешь помогать нам? Разве Оттоманская Порта – твоя родина? Почему ты решил остаться верным туркам?
– Я служил им, Софи! – ответил инженер. – И я не продаю военные секреты. Даже ради очаровательных дам.
– Не продаешь? – кусая губы, переспросила София. – Но кто обязал тебя хранить молчание? Твой король или османский паша?
– Всего лишь моя совесть, Софи, – ответил Леруа.
– Мы оставим вас наедине с вашей совестью, сударь! – вмешался Потемкин. И добавил, обращаясь к гречанке: – Право же, Софьюшка, мы прогадали, отправляя фельдъегеря в Марсель. Хорошо хоть устриц привез. Этот господин не выдаст секретов крепости Озю. Придется отпустить его на родину.
Но гречанку слова Потемкина, по-видимому, не убедили, и она продолжила, обращаясь к инженеру:
– Франсуа, помнишь корабль, на котором я бежала из Константинополя? Ты должен помнить…
– Я все помню, Софи, – признался Леруа, – но его светлость князя Потемкина не обрадуют наши общие воспоминания…
– Вспомни, Франсуа, на корабле я рассказывала тебе про Гетерию, – не унималась София. – И о том, что турки сделали с греками… О том, как убили мою мать и отчима… Сожгли заживо в кабачке в квартале Пера. Я говорила тебе, что мой отец погиб в горах Пелопоннеса, сражаясь за Элладу!
– И теперь, Софи, ты хочешь отомстить туркам с помощью русской армии? – язвительно спросил Леруа. —
Намереваешься сжечь заживо тех, кто укрылся за стенами крепости Озю? А ведь у них есть и родные, и любимые! И, наверное, они так же преданы своей родине, как ты – своей! Бог мой, как жестоки женщины! И даже самые очаровательные из них…
– Напротив, мы хотим спасти людей – и своих, и неприятельских, насколько это возможно… Мы всего лишь хотим избежать кровопролитного и жестокого штурма, принудить крепость к капитуляции! – заступился за гречанку Потемкин. – План секретных коммуникаций поможет нам застать защитников крепости врасплох. Тогда не будет боев за каждый камень и дом. И люди, укрывшиеся за крепостными стенами, останутся живы, и наши солдаты тоже. Мы все равно возьмем крепость, мсье Леруа, но план секретных коммуникаций поможет избежать обоюдных потерь.
Леруа пристально взглянул в глаза Потемкину, но князь не отвел взгляд. Взгляд Потемкина источал силу и тайну, и Леруа впервые в жизни стало неуютно. Их безмолвная дуэль продолжалась несколько минут, но Леруа сдался первым – он опустил глаза.
– Что же вы решили, мсье Леруа? – снова спросил Потемкин, и француз с ужасом понял, что не может сказать «нет».
– Я подумаю над вашим предложением, князь! – ответил инженер, и благодарностью ему стал растроганный взгляд Софии.
– Благодарю тебя, Франсуа, – тихо сказала гречанка, и ее нежный голос булавкой вонзился в сердце француза.
Самая очаровательная женщина Европы опять ускользала из его рук!
Франсуа вышел из палатки Потемкина, унося с собой благодарный взгляд Софи. Ему предстояла бессонная ночь и жестокий выбор. Но женщина, оставшаяся рядом с Потемкиным, знала наверняка, что выбор уже сделан и Леруа скажет «да». Русская армия возьмет крепость Озю без напрасных жертв с обеих сторон… Но планам Софии и Потемкина не суждено было до конца сбыться.
Глава 7 Штурм острова Березань
Через несколько месяцев «очаковского сидения» Головатый снова получил весточку от Ульяны. «Серце моє, коханий! – писала Ульяна, – Богу молюся щоденно, щоб ти повернуся скоріше. Бо нема бiльше сил чекати… Захворiла я, любий…». Письмо задрожало в руках Головатого, и казацкому атаману показалось, что весь лагерь слышит ошалелый стук его сердца. Он вспомнил отпевание отца, венчание с Ульяной и ту единственную ночь, которая выпала им на долю. Утром он уехал, и Ульяна проводила его до околицы. Над селом плыл молочный туман, и деревянная церковка с зеленым куполом, где обвенчал их отец Григорий, словно взлетала в небо. Сладко пахло травами, и Головатому хотелось броситься в эти травы вместе с Ульяной, так чтобы не было больше войны и службы. Но его ожидали сабля и трубка, «очаковское сидение», казацкий лагерь и служба под началом Грицька Нечесы.
«Домой хочу!», – кричало теперь сердце Антона, и письмо дрожало в его руках. Всю следующую ночь Головатый истово и горячо молился Богу, чтобы отпустили его домой, к Ульяне. А наутро князь Потемкин предложил Головатому любопытную сделку…
Накануне к Очакову подошли три турецких корабля под прикрытием батареи на острове Березань. Осажденным завезли провиант и порох. Осада крепости Озю грозила надолго затянуться. Недруги Потемкина называли происходящее осадой Трои и поговаривали, что прекрасную гречанку Елену ныне заменила не менее очаровательная София, а место красавца Париса занял Циклоп. Адъютанты исправно доносили Потемкину все эти сплетни, и его единственный глаз полыхал гневом. Светлейший впадал в бешенство, обрывал бриллиантовые пуговицы на кафтане, грозил клеветникам то расстрелом, то поркой, а София тихо утешала его, настаивая греческую сладость на русской печали.
Вскоре после турецкого маневра Потемкин приказал командующему русской эскадрой в Севастополе адмиралу Войновичу атаковать неприятеля. Капудан-паша, однако, бой принять не решился и немедленно увел свой флот в Константинополь. Контр-адмиралу Мордвинову удалось разбить семь турецких судов под Очаковом. Теперь Потемкину мешала батарея на островке Березань, расположенном у самого входа в лиман, к югу от Очакова. Огонь ее пушек доставал до Кинбурна, что не давало никакой возможности штурмовать Очаков со стороны моря. При приближении русских кораблей турки поднимали тревогу, и яростная стрельба батарей не позволяла приблизиться к острову.
При известии о неудачах Потемкин мрачнел и долго смотрел в сторону острова своим единственным глазом.
Ненадолго отвлекшись от вечерней хандры, он пригласил к себе Головатого.
– Антон, – обратился Григорий Александрович к приятелю детских лет, – помнишь, как ты спалил турецкий корабль?
– Батько, – потупил голову запорожец, – опять лаяться станешь?
– Не буду тебя ругать. Послушай, лучше, – махнул рукой князь, – флоту к Березани не подойти.
– Так, – подтвердил Головатый и попытался сообразить, к чему клонит Потемкин, – не подойти…
– А вот казацкие чайки подойти к Березани смогут. К тому же верные казаки, – продолжил свою мысль светлейший, – умеют издревле примеряться к подобной обстановке. Им было не привыкать ходить на Константинополь в своих ладьях. И крепость на острове Березань казакам доступна.
– Так вот оно що? – догадался Головатый. – Так тобi Березань взяти треба, батьку?
– Как воздух, надобно! – подтвердил Григорий Александрович. – Комом это укрепление сидит у меня в горле.
– Наияснейший гетмане…. – полушутливо-полусерьезно начал Головатый.
– Антон, – оборвал его Потемкин, – давай без выкрутасов, говори прямо.
– Гриць, – хитровато прищурил один глаз Головатый, – а хрест за фортецю буде? Додому відпустиш чи ні? Пора вже мені повертатися.
– Ты только возьми Березань, – просил Потемкин, – будет тебе крест, и дом, и Ульяна. Все тебе будет.
– Якщо так, я згоден, батьку, – решил Головатый и добавил с пылом былого семинариста: – Боже, помози на Березань!
В одну из темных осенних ночей запорожцы Головатого на чайках поплыли к Березани. Штурм начался ранним утром, видимость была очень плохой, остров утопал в молочном мареве. Туман оказался спасительным и помог казакам незаметно приблизиться к острову.
«Бачу, ти, Ульяна, мені допомогаєш, – подумал Головатый. – Серце твоє у цьому тумані…». Подплывая к острову, он вспоминал густой туман, который плыл над селом в их прощальное утро. Тогда в тумане тонуло круглое личико Ульяны – теперь перед ним вставал опрокинутый в мутноватое марево остров.
Запорожцы пристали к острову не с западной стороны, где была пристань, а с северо-восточной. Здесь берег был весь изрезан ракушечными скалами и гротами. В этих гротах и схоронились казаки. Улучив момент, когда большая часть гарнизона крепости вышла на работы по заготовке камыша на топливо, запорожцы Головатого без единого выстрела сняли часовых и овладели укреплением. Здесь казаки сменили рубахи и шаровары на турецкую одежду.
Ожидание текло томительно. Казалось, что едва различимый крик «Ашхаду ан ля илляха илля Ллху!» раздался не через несколько мгновений, а через бесконечную вереницу часов. Казаки не могли видеть, но знали наверняка, что пропел эти слова мулла в белом тюрбане. После утренней молитвы должны были начаться хозяйственные работы.
Все это время десант Головатого ждал турок в засаде. Примерно через полчаса небольшими отрядами стали возвращаться турки с камышом. Переодетые казаки впускали их в крепость, а потом брали в плен и связывали. Всего было пленено 280 турок – во главе с двухбунчужным пашой.
Одна из групп турок, увидев переодетых казаков, попыталась было достичь береговой батареи, чтобы огнем ее пушек выбить неприятеля из укрепления. Но береговые пушки уже были захвачены казаками. Отряд запорожцев достиг острова вплавь и развернул их в противоположную сторону от берега. После первого залпа турки подняли руки над головой, прося пощады.
Как только был пленен последний турок, Головатый поднял на флагштоке российский флаг. На наблюдательном пункте очаковской крепости флаг немедленно заметили. Печальную для турок новость о взятии острова Березань сообщили коменданту сераскиру Гусейн-паше.
– Что это за флаг, – закричал он, – что происходит на Березани?
Начальник караула опустил подзорную трубу и от страха не мог выговорить ни слова. Гусейн вырвал трубу из трясущихся рук подчиненного.
Увиденное заставило Гусейн-пашу побагроветь и выругаться. В подзорную трубу он разглядел поднятый над крепостью российский флаг и голые задницы запорожцев, которые, хохоча, демонстрировали их неприятелю, спуская широченные шаровары. В это время к острову приближалось пять русских галер…
В ту же ночь другая часть казаков, посланная на Гаджи-бей, сожгла там склады с продовольствием и снаряжением для Очакова. Теперь Потемкин был уверен, что крепость долго не продержится.
Головатый снова появился в палатке Потемкина с ключами от крепости Березань. На голове у него был тюрбан двухбунчужного паши.
Сам паша находился рядом, но ни один мускул на его лице не выдал волнения или негодования. Он с гордой покорностью судьбе смотрел на гяуров и не произносил ни слова.
– Кресту твоему поклоняемся, владыко! – загрохотал Головатый, едва войдя в палатку.
Под хохот ближайшего окружения светлейшего и серебристый смех красавицы гречанки Головатый поведал некоторые подробности операции. Свой рассказ запорожец сопровождал жестикуляцией и в ролях показывал все подробности. Однако он не стал шокировать графиню Витт снятием шаровар.
В палатке был накрыт стол, к которому Потемкин пригласил пашу и других пленных турецких старшин. Когда аудиенция была окончена, Григорий Александрович преподнес паше бриллиантовый перстень.
– К чему этот дорогой подарок? – удивился турок.
– В честь нашего праздника, – рассмеялся Потемкин, – поверьте, ваш подарок нам намного дороже.
– Если бы не воля Аллаха, никакого подарка от меня вы бы не получили… – твердо ответил паша.
Как раз в этот момент загрохотала пушечная пальба с завоеванной Березани. Паша поклонился и в сопровождении своей свиты направился в палатку, предназначенную для его содержания в плену. Его уход сопровождался гиканьем и улюлюканьем казаков. Громче все кричал Головатый.
– Наияснейший гетмане… – снова начал на мгновение ставший серьезным балагур-запорожец. – Яка буде твоя нагорода?
В ответ Потемкин обнял Головатого и собственноручно возложил на него орден Святого Георгия четвертой степени.
– Едь домой, казаче, – решил князь. – Теперь мы крепость Озю одолеем. Ты свое дело сделал. Другие помощники найдутся… Начальника только вместо себя оставь. И сам решай – отпуск я тебе дал или отставку от службы. Вернешься, когда силы будут.
В ту ночь в лагере запорожцев не умолкали песни и веселый шум. Казаки обмывали крест атамана и смаковали подробности удачной военной экспедиции. Но наутро Головатый не смог покинуть своих друзей в тяжкую военную годину. Он намеревался вернуться домой только после взятия крепости Озю…
На рассвете турки произвели вылазку из крепости и напали на русскую батарею на левом фланге. Проверявший караулы на батарее генерал Максимов велел бить тревогу и лично возглавил оборону. Силы нападавших и защищающихся были неравными. Всем убитым и раненым турки отрубили головы, которые унесли с собой в крепость, а на батарее выставили свое знамя. Однако удержать батарею им помешало подоспевшее подкрепление. Русские солдаты в штыковой атаке отбили укрепление и вынудили турок бегством укрыться в крепости.
Головы генерала Максимова и его солдат турки выставили на штыках по всему валу крепости. Омерзение, которое вызывала эта картина, побудила кого-то из офицеров поступить точно так же с телами убитых и раненых турок. Через несколько минут в русском стане появились головы турок на пиках. Везде раздавались выкрики: «На штурм!» и «Смерть басурманам!». Об этом доложили князю. Он молча наблюдал отвратительное зрелище.
– Какое варварство… – тихо и скорбно сказал Потемкин.
Адъютанты поинтересовались, следует ли наказать виновных в убийстве раненых турецких воинов и надругательстве над их телами.
– Картина сия вызывает омерзение, – ответил князь, – но чувства моих солдат я понимаю сердцем. Наказывать никого не стоит. Однако головы сии следует убрать, а тела предать погребению.
Головатый смотрел в сторону турецкого вала, где выше других висела залепленная спекшейся кровью голова русского генерала, и думал о том, что вернуться домой до взятия крепости Озю не позволит ему воинская честь и невыносимая скорбь по убитым товарищам. Он окончательно решил вернуться домой после штурма…
Глава 8 День рождения императрицы Екатерины
Накануне дня рождения императрицы прелестные спутницы светлейшего князя получили давно обещанные кружева и деликатесы. А Софии французский военный инженер Леруа преподнес особый подарок – подробные карты и схемы фортификационных сооружений крепости и всех минных ходов. Карту он свернул в рулончик и перевязал надушенной розовой ленточкой. София приняла этот подарок, ласково улыбаясь, и даже украдкой подарила галантному кавалеру поцелуй… в щеку. Леруа с грустью подумал, что это, право, ничтожная плата за совершенный им подвиг любви.
По случаю дня рождения императрицы Потемкин устроил бал с фейерверком. Оркестр под управлением маэстро Сарти исполнил новую симфонию «Тебя, Бога, хвалим» – собственного сочинения дирижера. После последних аккордов оркестра и хора в игру вступили русские пушки. После припева «Свят, свят, свят!» началась самая сильная артподготовка за все время осады крепости.
Русские пушки разрушили замок Гассана-паши, крепость на оконечности Очаковского мыса и почти все строения внутри этой крепости, в том числе и провиантский магазин. Положение в крепости Озю становилось все хуже и хуже – каждый день в русском лагере появлялись дезертиры. Это были запорожцы, перешедшие на службу к султану, и турки. По их словам, провизии в крепости осталось дней на десять, едят уже лошадей и во всем терпят крайний недостаток. Один из дезертиров попросил личной аудиенции у князя Потемкина. Это был турок по имени Топчи Мехмед.
– Я фонтанных дел мастер, – признался Мехмед, – и могу показать тайный подземный ход в крепость.
– Вот видишь, – сказал Потемкин, обернувшись к Софии, – нашелся и хитроумный Одиссей с троянским конем… Только план секретных ходов у нас уже есть. А вот проводники не помешают. Будешь проводником?
– Князь, – попросил турок, – исполни сначала мою просьбу. Я не хочу, чтобы зря пролилась кровь твоих и наших людей. Попроси еще раз Гуссейн-пашу сдать крепость без кровопролития.
– Обещаю тебе это! – ответил Потемкин.
Потемкин еще раз попытался уговорить Гусейн-пашу сдать крепость. Но прошел еще месяц, а упрямый гарнизон не сдавался. Дальше тянуть со штурмом не представлялось возможности.
1 декабря 1788 года главнокомандующий Потемкин отдал приказ: «Истоща все способы к преодолению упорства неприятельского и преклонению его к сдаче осажденной нами крепости, принужденным я себя нахожу употребить наконец последние меры. Я решился брать ее приступом и на сих днях… произведу оный в действо. Представляя себе мужество и неустрашимость войска российского… ожидаю я с полною надеждою благополучного успеха. Я ласкаюсь увидеть тут отличные опыты похвального рвения, с которым всякий воин устремится исполнить свой долг. Таковым подвигом распространяя славу оружия Российского, учиним мы себя достойными названия, которое имеет армия, мною предводимая; мне же останется только хвалиться честью, что имею начальствовать столь храбрым воинством…»
4 декабря в палатке главнокомандующего проходило совещание. Начальникам отдельных частей была вручена подробная диспозиция, в которой указывалось количество колонн и сообщалось направление действий.
– Штурм назначаю, – обратился к присутствующим офицерам Потемкин, – на 6 декабря. Начнем его ранним утром. Перед рассветом турки спят крепко. Артподготовку проведем накануне вечером, после чего батареи займут новые позиции.
– Особенно, – строго приказал Потемкин, – при штурме щадить женщин, детей, раненых. По мере возможности…
Глава 9 Штурм крепости Очаков
Ранним морозным утром русские войска построились в шесть колон. Их главнокомандующий – князь Потемкин – молился, стоя на коленях перед походной иконой архангела Михаила. «Пошли нам, Святой Архангеле, победу малой кровью, и турецкой крови не дай рекой пролиться. Видит Бог, хотел я мира, но не сдают нам турки крепость без штурма. Стало быть, идем на приступ. Но пощади, Архистратиг небесного воинства, и нас, и врагов наших. Не дай нам в реках крови утонуть…»
Ответом на эту молитву стал первый выстрел сигнальной пушки. Солдаты перекрестились как один, сняли ранцы и бросили их на снег. При втором выстреле на землю полетели полушубки. Воины остались без теплой верхней одежды – она не должна была стеснять движений. Потемкин продолжал молиться, и архангел Михаил – с алыми крыльями и мечом в скрещенных дланях взирал на него с иконы.
Раздался третий выстрел, и шесть колонн одновременно с двух сторон крепости – западной и восточной – устремились на штурм. Первое расстояние до вала солдаты и офицеры преодолели молча. Потемкин повторял слова молитвы, и архангел Михаил с отеческой улыбкой внимал этим словам, как будто хотел сказать: «Ты воин, и я воин, я смотрю на тебя с неба и прошу у Господа защиты тебе и твоим людям. И будет вам эта защита дана, если ты пощадишь врагов своих и возьмешь крепость малой кровью. Без лютости победителя и с милосердием к побежденным».
«Благодарю Тебя, Воевода ангельской рати, – прошептал в ответ Потемкин. – Я твой завет исполню».
В эти минуты со стороны Березани по льду лимана на приступ Очакова бежали запорожцы во главе с Головатым. «Пощади меня, Господи, – шептал Антон. – Дай к Ульяне вернуться…»
Вскоре адъютант доложил о первом успехе на главном направлении – штурмующие преодолели ров. Воздух наполнился грохотом пушечных выстрелов, громкими хлопками от разрывов ручных гранат, свистом картечи и пуль, криками «Ура!» и стонами умирающих. Григорий Александрович перекрестился в последний раз и встал с колен.
Теперь уже не раб Божий Григорий, смиренно стоявший на коленях перед иконой архангела Михаила, а генерал-фельдмаршал Потемкин следил за ходом штурма, отдавал приказы и распоряжения.
Потемкин приказал ввести в дело резерв, который помог атакующим ворваться в крепость. Когда на правом фланге турки предприняли контратаку, генерал-фельдмаршал, не видя возможности помочь своим войскам пехотой, бросил на врага резервный эскадрон Екатеринославского кирасирского полка. Неприятель был отрезан от основных сил, и четыре тысячи турецких воинов сдались в плен.
Когда с левого фланга донеслось эхо подземных взрывов в минных галереях, сердце Григория Александровича екнуло и защемило: «Господи и Архангел Михаил, воевода небесный, простите и заступитесь!» Главнокомандующий впился единственным глазом в подзорную трубу, вглядываясь в пороховой дым, клубами вырывающийся из воронок от взорванной под землей турками мины. Когда дым развеялся, князь увидел, что взрыв не причинил вреда русским воинам. Григорий Александрович заметно повеселел: «Благодарю, Господи, и тебя, воевода небесный!»
Офицеры и генералы, накануне штурма поклявшиеся первыми ступить на вал ретраншемента, свято выполняли свои обещания. Граф Ираклий Морков, боевой офицер, год тому назад назначенный в армию Потемкина, поставил к валу первую лестницу и первым ворвался в ретраншемент.
Штурм и сражение были жестокими. Наравне с мужчинами крепость защищали турецкие женщины. Смерть летела камнями и пулями из окон глинобитных домов, с тускло мерцающим ятаганом пряталась за каждым углом. Озверевшие от потерь русские солдаты кололи всех без разбору. Потемкин пытался остановить бесполезное кровопролитие, но турки сражались с такой отчаянной яростью, что взять крепость «малой кровью» оказалось невозможным. «Прости, воевода небесный, прости, Архангеле Михаиле, – обращался к архистратигу Потемкин, – не принимают турки мира, не хотят покориться. Не в моих силах остановить бойню».
Штурм продолжался час с четвертью. Русские войска взяли 310 пушек и мортир, 180 знамен, не считая поломанных в бою, а турки потеряли убитыми 8700 человек. В плен сдалось 4000 турецких солдат и офицеров. В числе сдавшихся в плен были комендант крепости – трехбунчужный паша Гуссейн, три двухбунчужных паши и 448 офицеров. Потери русских составляли примерно тысячу солдатских и офицерских душ…
Антона Головатого пощадили турецкие сабли и пули. Видно там, в родном малороссийском селе, отмолила его Ульяна, стоя на коленях перед иконой Богородицы Семистрельной. Стояла на коленях, не шелохнувшись, с глазами, полными слез и душой, вместившей дары надежды, стояла, пока не упала в бесчувствии. Отец Григорий на руках отнес дочь в ее светелку. Царица Небесная улыбалась с иконы ласковой улыбкой сестры и матери всех заплутавших земных душ. Бродя по умолкшим бастионам павшей крепости, среди сплетенных в смертных объятиях трупов победителей и побежденных, Антон Головатый с облегчением понял, что теперь он действительно вернется д омой…
Глава 10 В побежденной твердыне
Генерал-фельдмаршал Потемкин вошел в побежденную крепость только на четвертый день. Рядом с князем находились плененный очаковский комендант Гуссейн-паша и графиня Витт. София, с детства привыкшая ненавидеть турок, теперь впервые испытывала к ним пронзительную и уже бесполезную жалость.
«Господь Всемогущий, Царица Небесная! – шептала она. – Разве я этого хотела?!». «Этого, София, ты хотела отомстить – и отомстила…», – отвечала ей не пожелавшая лгать совесть. Гречанка видела разрушенные дома, тела погибших, некоторые – наполовину съеденные крысами, разбитые выстрелами русской артиллерии валы. Она видела несчастных – живых и умирающих, но не видела врагов. Разве это они убили ее отца, мать и отчима, разве из-за них она лишилась дома и родины? В чем были виноваты перед ней эти люди, защищавшие крепость до последнего дома? Гречанка плакала, и Потемкин отворачивался, чтобы не видеть слез той, к чьим ногам он хотел бросить поверженную Оттоманскую Порту.
– Я больше не хочу гибели Турции! – всхлипывая, как ребенок, сказала Потемкину последняя из Палеологов.
– Даже ради матери-Эллады? – с подобием улыбки на скорбно сжатых губах спросил князь.
– Даже ради Нее! – прошептала София.
– Не бойся, Софьюшка, – попытался успокоить любимую Потемкин. – Я обещал небесному воеводе взять крепость малой кровью, но не смог зарок свой держать. На мне – грех. И мне за это умирать в бессарабской степи… Полным сил и жизни.
– Ты умрешь глубоким стариком, – прервала его София, – в окружении наших детей.
– Я не увижу нашего сына, – тихо сказал Потемкин. – Я буду лишь знать, что зачал его…
– Эти жертвы по твоей вине, паша! – гневно обратился Григорий Александрович к бывшему коменданту крепости Озю. – Ты мог приказать своим воинам сдаться в плен и остановить кровопролитие…
– Оставь, князь, эти ненужные упреки, – гордо ответил турок, – я исполнял свой долг, так же, как и ты – свой. Аллаху было угодно, чтобы судьба решила дело в твою пользу.
О былом благополучии крепости Озю теперь напоминали только архитектурные детали и обломки мраморных надгробий, тысячи разнообразных вещей, некогда принадлежавших купцам, ремесленникам и богачам. Обломки посуды, облицовочные плитки, курительные трубки с утонченными орнаментами, с позолотой и клеймами прославленных мастеров, трубки из нефрита и «пенного камня» (мершаума) – белоснежные, резные, инкрустированные крошечными голубыми стеклянными бусинами, которые турки называли «глазами от сглаза».
Валявшиеся в засохшей крови под ногами серебряные монеты победители уже гнушались подбирать – им досталось слишком много турецкого золота. То и дело навстречу попадались запоздалые кучки гренадеров или казаков, искавших среди трупов поживы. Все в перепачканных кровью мундирах, с жестокими, опустошенными взглядами, с раздувшимися от награбленного добра ранцами…
Суворов послал Потемкину полуироническое поздравление с затянувшейся до крайности победой. «С завоеванием Очакова спешу вашу светлость нижайше поздравить. Боже, даруй вам вящие лавры…», – писал генерал-аншеф князю.
За Очаковскую кампанию Потемкин был награжден высшей степенью ордена Святого Георгия и получил именную золотую медаль с изображением его персоны, о чем сама императрица указывала в рескрипте. «…Почтили мы Вас знаком 1-й степени военного Нашего ордена… жалуем Вам фельдмаршальский повелительный жезл, алмазами и лаврами украшенный… и в память оным сделать (приказали) медаль…», – писала своему былому фавориту Екатерина.
В высочайшем рескрипте от 16 декабря 1788 года было написано, что награждается Потемкин-Таврический, князь Григорий Александрович, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий армией и флотом, действующими против турок, «в воздаяние усердия к Отечеству, искусства и отличного мужества, с которыми предводительствуя армиею Екатеринославскою и флотом на Черном море и одержав важные над неприятелем России и всего христианства поверхности, предуспел покорить оружию город и крепость Очаков».
Суворов получил в награду… бриллиантовое перо на шляпу ценой в 4450 рублей, Кутузов – орден Св. Анны Первой степени и Владимира Второй степени. Особо отличившиеся офицеры были награждены орденами Святых Георгия и Владимира, а «незаслужившим» их при штурме Очакова «…жаловали мы знаки золотые для ношения в петлице на ленте с черными и желтыми полосами…». Всем офицерам, награжденным этим памятным знаком, сокращался срок службы на «три года из числа лет, положенных для заслужения ордена военного…»
В своем рескрипте Екатерина написала о награждении солдат: «…Нижним чинам и рядовым, на штурме Очаковском бывшим, за храбрость их, Всемилостивейше жалуем серебряные медали…» Медали эти представляли собой необычной формы узкий овал с профилем Екатерины. На оборотной стороне медали была вытеснена девятистрочная надпись: «ЗА – ХРАБРОСТЬ – ОКАЗАННУЮ – ПРИ ВЗЯТЬЕ – ОЧАКОВА – ДЕКАБРЯ – 6 ДНЯ – 1788».
После Очакова Россия одержала еще ряд крупных побед. Снова отличился Потемкин, взявший Аккерман и Бендеры. Крепости эти сдались без боя – князь искупал очаковский грех и, применяя хитрости дипломатии, брал города бескровно.
Екатерина писала Григорию Александровичу: «Знатно, что имя твое страшно врагам, что сдались на дискрецию, едва лишь показался… Спасибо тебе и преспасибо. Кампания твоя нынешняя щегольская».
Теперь Потемкин управлял обширными землями, но принужден был заботиться о снабжении продовольствием войск, устраивал хлебные транспорты через польские области, создавал средства сообщений, неустанно руководил действиями армии, одно крыло которой стояло на Дунае, другое – касалось предгорий Кавказа. Он управлял действиями только что созданного флота и в то же время не упускал из виду дипломатических переговоров с соседями, союзниками и врагами. Графиня Витт повсюду следовала за князем, что приводило в неописуемый гнев императрицу Екатерину. Она решила разлучить Григория с его гречанкой.
Часть восьмая Дорога домой
Глава 1 Город святого Николая
Город назвали Николаевом, в честь святого Николая Мирликийского, небесного покровителя странствующих и путешествующих. Жарким летним вечером 1790 года София и Потемкин стояли на холме, над обрывом, с которого открывался редкостной красоты вид на реки Буг и Ингул, соединившие свое течение. Закат таял над рекой, которую скифы называли Богом, и легкий ветер касался лица женщины, так долго ненавидевшей и страдавшей и теперь учившейся любить. Рядом с ней стоял князь Потемкин, которому впервые за его долгую, многотрудную и полную скитаний жизнь показалось, что в этом недавно заложенном рядом с древней Ольвией городе он обрел дом.
Собственно, города еще не было – были поселения, заложенные полковником Фалеевым, и первые корабли, строившиеся на верфи или стоявшие на рейде. Копани, Богоявленск, Воскресенск, Богдановка, Знаменка, Калиновка, Слободка – все эти названия София произносила нежно и напевно. Впервые она обрела землю, которая могла заменить родину. Летом здесь было на редкость знойно, и от невыносимого жара порой трескалась земля – почти как на острове Хиос. Вместо апельсиновых рощ блаженной Софьиной юности князь велел разбить сады на холмах над Бугом. Григорий Александрович говорил, что земля Новороссии заменит Софии Константинополь, если русская армия не сумеет отвоевать для империи былую столицу Византии.
Поначалу князь даже хотел назвать новый город Софиополем, но София отговорила его от этой опасной затеи: она предчувствовала гнев императрицы Екатерины и не хотела подвергать опасности Григория. Графиня Витт уговорила Потемкина дать городу имя святого, который незримо помогал им на торных дорогах прошлого, – Николая Чудотворца, покровителя всех, кто блуждает по миру, надеясь однажды вернуться домой или обрести родину. К тому же 6 декабря 1789 года, в день святого Николая Мирликийского, пала под натиском русской армии крепость Озю, и день этот, кровавый и победоносный, навсегда запечатлелся в памяти Софии и князя.
Правая рука Потемкина, добрейший Михаил Леонтьевич Фалеев, заложил в месте слияния Буга и Ингула Усть-Ингульскую верфь, с которой скоро уже должен был отплыть в свое первое земное плавание 44-пушечный фрегат «Святой Николай». К западу от верфи росли гражданские поселения, к северу – военные.
– Здесь, на этих холмах, мы возведем нашу столицу, – рассказывал Софии Потемкин, любуясь закатным солнцем, уходившим вдаль, за великие скифские реки, – второй Константинополь, в силе и славе. Две великие реки наших предков омывают эти холмы – они станут достойной оправой городу. Когда-то здесь жили эллины, здесь – и в древнем Борисфене. Но мы не станем тревожить великие руины. Новый город заложим мы рядом с Борисфеном и крепостью Озю, над которой ныне развевается русский флаг.
– Каким покоем веет от этих рек! – восклицала София, и ее слова уносил вдаль, по скифским и эллинским просторам, ветер. – Неужто здесь, на этой земле, как и в Борисфене, жили мои братья – эллины?
– Я полагаю, Софьюшка, что Греция стала их второй родиной, а поначалу они селились на этих берегах, – крепко обнимая Софию, рассказывал князь. – И именно отсюда они уплыли однажды. Потому-то я и решил возвести здесь город… Здесь – на месте первой Эллады – в честь Эллады второй – и в дар наследнице Палеологов.
– Ты должен заложить храм, – воскликнула гречанка, – храм, в котором мы обвенчаемся однажды!
– Я заложу храм, Софьюшка. – пообещал ей князь. – Храм в честь Григория Великие Армении. Но венчанию нашему есть преграда… Я отдал тебе душу, но руки предложить не могу.
– Ты венчался… – внезапная горькая догадка омрачила лицо Софии. Она вспомнила все, что говорили о Григории – о его былой любви к Екатерине и тайном браке с императрицей. И еще о девочке – Елизавете Темкиной – к которой Потемкин испытывал почти отеческую нежность.
Григорий не был свободен – половина жизни, прожитой врозь, стояла за его плечами. Он не мог снять с пальца кольцо императрицы, как не мог отказаться от верности империи. Первый сановник России был и ее первым рабом.
– Ты венчался с государыней Екатериной… – грустно продолжила София. – Не мне тебя винить – мы встретились слишком поздно. Полжизни прошло до нашей встречи. А страницы наполовину прочитанной книги не перевернешь назад.
– Да, Софьюшка, – согласился с ней Потемкин. – Я слишком поздно встретил тебя. Станешь ли ты винить меня в этом?
– Мы склонили колени перед алтарем Борисфена, – тихо, но твердо сказала гречанка, – и этого мне довольно. Нас соединила судьба и граф Сен-Жермен. Где он теперь, этот странный человек, у которого столько имен и жизней?
– Я давно потерял его след, – ответил Потемкин. – Неужели наш друг Ракоци устал сплетать нити судеб?
– Ракоци еще вернется к нам, – убежденно сказала София, – он руководит Гетерией, а братья из Гетерии – по-прежнему наши друзья.
– Как Константин Ригас, – неожиданно ревниво и жестко напомнил Софии Потемкин, – как наш друг Константин Ригас… Ты все еще помнишь о нем?
– Я помню о нем, как помнят о своей юности, – удивленная этой неожиданной ревностью оправдывалась гречанка. – Я оставила Витта, а ты – по-прежнему муж Екатерины. Ты обвенчался с женщиной, но взял в жены империю.
– Развод с государыней невозможен, – ответил Потемкин, впервые со дня их встречи не смея взглянуть Софии в глаза, – это будет стоить мне жизни и чести. Я служу России, душа моя.
– Я не прошу у тебя такой жертвы, – напомнила ему гречанка, – но и ты не упрекай меня прошлым.
– Прошлое – это ветер над Бугом… – ответил ей князь. – Оно всегда с нами, как и будущее, которое мы носим в себе.
– Что же будет с нами, Григорий? – спросила графиня Витт, и ветер над Бугом словно эхо повторил ее слова.
– Мы будем строить город, Софьюшка. После всех дорог, потерь и заблуждений мы наконец-то обрели дом. Пойдем домой…
Потемкин подал гречанке руку, и они пошли по направлению к строящемуся городу – под глухой рокот великих рек скифов и эллинов, Ингула и Буга. Над излучиной рек плыл закат, и в его огне вставала из праха и пепла столица новой Византии.
Глава 2 Гнев императрицы Екатерины
В то самое время, когда Потемкин возводил в херсонских степях новый Константинополь, Екатерина снова собирала сведения о таинственном графе Сен-Жермене. Лето 1790 года выдалось жарким и душным, и государыне казалось, что зной держит ее за горло, невыносимо сжимает сердце. Она задыхалась во сне, просыпалась от горловых спазмов, просила принести ей воды, если спала одна, или плакала на груди у очередного молодого любовника, который не мог заменить ей Гришеньку.
Государыню тяготила даже не разлука с Потемкиным, а осознание того, что где-то там, в степях Новороссии, ее былой друг отчаянно, блаженно счастлив, и счастливой его сделала другая. Екатерина не могла даже слышать имени графини Витт и срывала свой гнев на племянницах Потемкина и, прежде всего, на Сашеньке Браницкой, по-прежнему влюбленной в блистательного дядюшку. Государыня перебирала в памяти былых любовниц князя, словно бусины на нитке тяжелых ночных размышлений, и решительно не могла понять, почему гречанка оказалась удачливее всех прежних пассий Потемкина.
– Что в ней такого, в этой графине Витт? – спрашивала Екатерина у Сашеньки Браницкой, мимолетно знакомой с Софией. – Или так красива она, что глаз не отведешь, или просто ловка, шельма?
– Говорят, она последняя из Палеологов… – вздыхая, отвечала Браницкая. Она сама ревновала дядюшку к Софии – и в этом чувстве они с императрицей были союзницами.
– Стало быть, наш князь решил с византийскими императорами породниться? – язвительно спрашивала Екатерина. – Российской империи ему мало…
Императрица не могла простить Потемкину и его измены их общим прожектам. Вместе они мечтали отвоевать для России Греческое море, и вот теперь, когда это море было отвоевано, князь возводил города в бессарабской степи, но не для Екатерины, а для своей гречанки.
– Солгал мне, стало быть, граф Сен-Жермен, – изводила себя Екатерина, – вся слава ей достанется, а не мне! Ей города в степи, ей, а не моему внуку Константину – корона Палеологов! Не удивлюсь, если Григорий готовит заговор против меня…
Императрица отчаянно искала виновных в торжестве греческой любовницы Потемкина и, наконец, обвинила во всем Сен-Жермена и его несбывшиеся предсказания. Она снова вызвала к себе начальника тайного сыска Шешковского и повелела первому кнутобою Российской империи собрать сведения о своем былом учителе. Теперь Екатерина не верила ни Потемкину, ни Сен-Жермену.
Шешковский не преминул сообщить Екатерине о том, что во время ее восшествия на престол Сен-Жермен заключил сделку с королем Франции.
– Чепуха, – выдавив из себя улыбку, ответила Екатерина, – и это все?
– Никак нет, Ваше Величество, – поклонился Шешковский и продолжил, избегая взгляда Екатерины. – За ваш приход к власти заплатил король Людовик XV. А посредником в этой финансовой операции был все тот же вездесущий Сен-Жермен.
– Похоже, кто-то хочет списать на мой счет свои долги! – съязвила императрица. – Тетушку Елизавету Петровну обвиняли в том, что она пришла к трону благодаря французским деньгам, теперь в этом обвиняют меня! Только я о сделке сей ничего не ведаю. И какое же условие поставил Сен-Жермену Людовик? Отвечай!
– Слушаюсь, – без особого энтузиазма согласился сыщик, – взамен короны, вы, Ваше Величество, перестанете… вмешиваться в европейские дела… Во внешней политике Россия будет держать позицию нейтралитета.
Казалось, рассудок покинул императрицу. Из-за грубого и лживого доноса Шешковского она возненавидела Сен-Жермена. Измученная ревностью женщина даже не подумала о том, что Греческий проект, на который вдохновил ее Сен-Жермен, никак не вязался с русским нейтралитетом. Екатерина больше не хотела верить Сен-Жермену только потому, что отчаянно, безнадежно ревновала Потемкина.
А ведь это Сен-Жермен когда-то свел ее с Григорием! И для чего? Для того чтобы Гриша бросил Новороссию и Крым к ногам какой-то греческой вертихвостки сомнительного происхождения? Теперь Екатерина проклинала двух предателей: Потемкина и Сен-Жермена, и даже не представляла, как бесконечно далека она от истины. Григорий предпочел ей другую женщину, но оставался верен России и императрице.
Екатерина искала утешения – и нашла его в смазливом личике и прозрачных льстивых глазках поручика конной гвардии Платона Зубова. Истинная причина карьерного роста Платоши заключалась в том, что некогда о нем плохо отозвался Потемкин. Григорий Александрович уже привык подбирать любовников Екатерине. На роль очередного «друга сердца» императрицы он подобрал еще одного баловня судьбы. Но Екатерина отвергла кандидата, предложенного Потемкиным, и осыпала ничтожного гвардейского поручика мыслимыми и немыслимыми дарами. Зубов получил графское достоинство и огромные поместья, с тысячами крепостных душ.
Роль фаворита пришлась Платоше по вкусу. Пользуясь своим внезапным влиянием на Екатерину, он стал активно интриговать против Потемкина. Зубову не давали покоя те должности, которые по-прежнему занимал князь. В интригах против Потемкина фавориту помогали былые друзья князя – Альтести, Грибовский и де Рибас. Вокруг Потемкина сжималось кольцо августейшего гнева.
* * *
Авторитет Сен-Жермена стал падать не только в России. О личном предсказателе Фридриха Прусского собирал сведения еще Людовик XV. Однажды, запершись в своем кабинете, Людовик прочел очередное донесение, посвященное таинственному человеку с десятками имен и жизней. Сен-Жермен тайно встречался с королем и однажды указал Людовику на опасность, угрожавшую его престолу.
– Монархия продержится еще… – не поверил предсказателю Людовик. – Впрочем… После нас хоть потоп….
– Ваше Величество… – попытался возразить Сен-Жермен.
– Узнаю сына португальского еврея, – неожиданно произнес король, – он будет все выворачивать наизнанку, для своей корысти.
Больше Сен-Жермен ни в чем не убеждал короля. Он предоставил французскую монархию её печальной участи. Сен-Жермена по-настоящему интересовали только Греция и Россия.
Когда король Людовик XV умер от оспы, французский трон достался человеку доброго сердца, но незначительного ума и нерешительного характера. Людовик XVI не стал прислушиваться к советам Сен-Жермена. Он вспомнил слова таинственного графа лишь 21 января 1793 года, когда стоял на эшафоте…
* * *
В 1790 году Екатерине стало известно, что Сен-Жермен завершил свое земное существование. Ей сообщили, что Учитель похоронен в прусском городке Шлезвиге, рядом с собором Святого Петра. Услыхав это, Екатерина горестно воскликнула: «Так он всего лишь человек!» С этой минуты авторитет Сен-Жермена окончательно рухнул в ее глазах.
Однако известие о смерти Сен-Жермена оказалось не более чем басней. Другой источник сообщал, что могила графа находится отнюдь не в Шлезвиге, а в другом прусском городке, Экернфиорде, рядом с церковью Святого Николая. На могильной серой плите и в церковной метрике значилась дата смерти – 27 февраля 1784 года. У таинственного графа было столько же могил, сколько жизней и имен…
Глава 3 Выбор Григория Потемкина
Будущей столице обновленной Византии исполнился год. Город, названный в честь Николая Чудотворца, шагнул от бугских холмов в новороссийские степи, окреп и разросся. Потемкин велел заложить церковь в честь Николая-угодника, а храм Григория Великой Армении уже вздымал золотые купола к жаркому степному солнцу. Город проектировал надворный советник Иван Старов, немало сделавший для невской столицы и теперь вызванный князем в столицу бугскую. В Спасском урочище для Потемкина и Софии возвели дворец в молдавском стиле, разбили ландшафтный парк.
Весь этот год Потемкин провел в разъездах, а София – рядом с князем. Чтобы посторонние не слушали их бесед, София и Потемкин говорили по-гречески: сладкая эллинская речь медом лилась из красиво очерченных губ гречанки, и, отвечая ей, князь вспоминал уроки загадочного человека по имени Сен-Жермен. Григорий Александрович давно уже ничего не слышал о Сен-Жермене, и даже общество греческих патриотов, с которым он держал связь через Софию, потеряло нить, ведущую к таинственному графу.
Теперь Гетерией руководил Константин Ригас, иногда посылавший Софии короткие письма, которые сжимали душу Потемкина кольцом боли и ревности. Князь тревожился напрасно – его Софьюшка уже не любила Ригаса. Она видела в новом руководителе Гетерии лишь друга детства и юности, который лишь однажды, в Париже, после крестин Яна Витта в храме Сен-Эсташ, встал на ее пути.
Сына Софии воспитывал отец – мать так и не смогла забрать его у Витта. Сначала мальчик обретался в Каменец-Подольской крепости, комендантом которой после смерти своего отца стал Юзеф Витт, а потом – по месту новой службы Юзефа, уже генерал-майора. Расчетливый супруг Софии охотно принял из рук Потемкина чин генерал-лейтенанта, но уже не польской, а русской армии, и должность коменданта Херсона – с окладом в 6000 рублей серебром в год. Потемкин предложил ему управление Херсонской крепостью в надежде на то, что так София сможет видеться с сыном или вообще забрать мальчика у мужа.
Но Яна спесивый шляхтич отдавать не желал и приобрел неожиданную заступницу в лице императрицы Екатерины, искавшей случая досадить гречанке. София тосковала, ночью, во сне, часто видела сына на руках у Юзефа Витта и горячим, настойчивым шепотом звала к себе малыша. Часто, в сопровождении секретаря и начальника канцелярии Потемкина – Василия Степановича Попова – она ездила в Херсонскую крепость, повидаться с сыном, и возвращалась в слезах и с надорванным сердцем.
Потемкин утешал Софьюшку – он был уверен, что рано или поздно заберет ребенка у «ничтожного» Юзефа Витта, обменявшего жену на генеральский чин и комендантство. Однако с недавних пор Григорий Александрович чувствовал, что есть третья сила, мешающая осуществлению его прожектов и Софьюшкиных надежд. Императрица Екатерина, ранее игравшая на стороне князя, все больше и больше подпадала под влияние Платона Зубова и не упускала случая досадить Потемкину и его гречанке.
София часто и горячо молилась в николаевском храме Григория Великие Армении и херсонском соборе Святой Екатерины. Просила вернуть ей сына Яна, а Потемкину – расположение императрицы. «Господь Всемогущий, Царица Небесная! – шептала она. – Не можем мы сейчас с государыней Екатериной тягаться. У Григория – армия и флот, но не пойдет он против России, не станет заговоры составлять. Умиротвори сердце государыни, Царица Небесная, не позволь ей стать нашим врагом…»
После одной из таких молитв, час с лишним простояв на коленях перед образом Богородицы Семистрельной, София решила было оставить князя, чтобы не навлекать на него гнев государыни. Но в тот же миг, после внезапного приступа дурноты, чуть было не потеряла сознание. Богородица ответила на ее молитву – София была беременна, и ребенок Григория связывал их теснее, чем все земные клятвы и обещания.
Год спустя после основания Николаева, таким же по-южному горячим, зыбким и расправленным вечером, София с Потемкиным стояли на том самом холме, с которого открывался редкой красоты вид на слияние Буга и Ингула. Только теперь Григорий Александрович еще теснее прижимал к себе гречанку, а его руки лежали на ее округлившемся животе. Потемкин был уверен, что София родит ему сына и называл еще не родившегося малыша Николенькой.
А София, вздыхая, думала о том, что положение князя становится все более шатким и угрожающим, а Екатерина никогда не сможет простить Григорию новороссийские города, брошенные к ногам греческой любовницы. От добрейшего Михайлы Леонтьевича Фалеева она слышала, что фавор Платона Зубова при петербургском дворе неслыханно вырос, а Екатерину приводит в гнев любое упоминание о «греческом романе» князя.
– Что же будет с нами? – спрашивала она у Фалеева и Попова, и оба, без тени сомнения или замешательства, говорили графине Витт, что Григорий Александрович – слишком большая персона в государстве, чтобы быть свергнутым «поручишкой» Платошкой Зубовым, что за князем – Новороссия и Крым, южная армия и черноморский флот.
– Никто не посмеет тронуть князя, даже государыня наша Екатерина! – уверенно говорил полковник Фалеев. Но в глубине души София не верила его словам и чувствовала, что спасти князя может только заговор против Екатерины и империи, на который он никогда не пойдет.
– Я должна оставить тебя, Гришенька, – говорила София князю, – оставить, чтобы спасти! В силе и славе ты сможешь быть не рядом со мной, а рука об руку с императрицей Екатериной.
– Ты не сможешь оставить меня и сына! – отвечал ей Потемкин. – Если вы с Николенькой уйдете, умрет моя душа. Неужели ты желаешь моей душе преждевременной смерти? Рядом с тобой я покоен и счастлив – не лишай меня земной радости.
– Екатерина не простит тебе нашего сына… – горько вздыхая, отвечала София, и Потемкин, как мог, утешал свою гречанку.
Вот и сейчас, на высоком холме, над двумя великими реками, София не могла избавиться от предчувствия несчастья. Вечерний воздух казался ей липким, тяжелым, наполненным будущими страданиями. С надеждой смотрела она на великую реку Бог в пурпурном покрывале заката, и беззвучно повторяла слова молитв, обращенных к ангелу-хранителю и Богородице.
Все было, как тогда, на холмах древнего Борисфена, но не лиман, а реки простирались внизу. И как тогда, поднимался вверх по склону, прямо к ним, человек, в котором София с изумлением и надеждой узнала Сен-Жермена, Монфера или Ракоци. Она и сама не знала, как его зовут…
София увидела Сен-Жермена первой и указала на него князю. Потемкин в ужасе отшатнулся и снова подумал о том, о чем никогда не забывал – о своем будущем, увиденном в алтарном огне Борисфена. Тогда он увидел, что после всех побед и земной славы он внезапно умрет полным сил и жизни, в бессарабской степи, на руках у любимой женщины, в окружении немногих близких людей – Головатого, Фалеева и Попова. Теперь перед ним снова стоял вестник смерти или посланник жизни – граф Сен-Жермен.
– Я знал, что ты придешь, Монфера, – сказал князь, еще теснее прижимая к себе Софию. – Ты пришел сказать, что моя смерть близка и нужно приготовиться к ней. Чтобы умереть, как подобает христианину…
Сен-Жермен ничего не ответил, но в его бездонных и невозмутимых, как воды подземных рек, глазах впервые появилось что-то, похожее на сочувствие.
– Я знаю, Григорий, Учитель пришел, чтобы спасти нас! – вмешалась София. – Он принес нам вести от Гетерии.
– Я пришел для того, чтобы предупредить вас, – ответил наконец Сен-Жермен и добавил, обращаясь к Потемкину: – То, что ты увидел в алтарном огне Борисфена, можно изменить. Ты не обречен умирать в степи, не увидав своего сына.
– И что же спасет меня? – горькая усмешка тонула губы Потемкина.
– Только одно: заговор против Екатерины. – Голос Сен-Жермена звучал бесстрастно и ровно, но каждое его слово казалось Григорию Александровичу приговором.
– Против Екатерины? – переспросил князь. – Против принцессы Фике, которую ты поддерживал когда-то?
– Маленькая принцесса Фике слишком изменилась, – ответил былой наставник Потемкина. – Она ослеплена ревностью и болью. Когда-то она мечтала о Греческом море, но теперь готова отдать все завоевания империи ничтожному Платону Зубову. Императрица утратила способность идти вперед. Но я вижу перед собой людей, полных сил и жизни. Вспомни мои предсказания, Григорий: двух Софий предрекал я тебе. София Ангальт-Цербстская больше не может идти с тобой рядом. Но с Софией Скарлатос Панталес Маврокордато де Челиче ты войдешь в Константинополь в силе и славе, водрузишь крест над храмом Святой Софии и сядешь на трон Палеологов. Не Константину Романову, внуку Екатерины, должен достаться этот трон, а тебе и той, в чьих жилах течет кровь византийских императоров. Византия должна воскреснуть, но не под эгидой России, а под своей собственной властью!
– Так вот кому ты служишь, – взгляд Потемкина, устремленный на Сен-Жермена, впервые наполнился гневом. – Я служу России, а ты служишь давно почившей империи!
– Я служу Элладе, – бесстрастно ответил Сен-Жермен, – как и женщина, стоящая рядом с тобой. Я не смогу умереть до тех пор, пока Греция не получит свободу.
Я уйду в поля небесные, когда ты поможешь мне, Григорий Потемкин!
– Но почему ты выбрал именно меня? – теряя самообладание, спросил князь. – Я никогда не предам Россию.
– Я выбрал тебя, потому что ты с детства носишь на груди монету с надписью Ολβιο. Потому что ты любишь Элладу не меньше, чем Россию, и твой отец прошел однажды мерцающим ольвийским тоннелем. – Голос Сен-Жермена гипнотизировал и повелевал, но Потемкин впервые отказывался верить своему былому учителю.
– Неужели нет иного средства спасти Григория? – снова вмешалась в разговор последняя из Палеологов. София меньше всего думала сейчас об обещанном ей греческом троне, она хотела лишь спасти князя от преждевременной смерти. Голос власти давно смолк в ее сердце, заглушенный голосом любви.
– Иного средства нет, – ответил ей Сен-Жермен. – Екатерина следит за каждым вашим шагом. Сама она не решится устранить князя: былая любовь порой говорит в ней сильнее, чем ревность, но Платон Зубов сделает это за нее. Вас спасет только заговор: нужно отделить от России Новороссию и Крым, а потом шагнуть дальше, на землю Эллады.
– Это не заговор против Екатерины. Это заговор против России. – Взгляд Потемкина был отчаянным и угрюмым. Сен-Жермену впервые стало жаль этого человека, который служил России так же, как сам он служил Греции, и готов был принять безвременную смерть, лишь бы избежать предательства.
– Мы отвоевывали Греческое море для России! – продолжил князь. – Россия поможет Греции освободиться от гнета Оттоманской Порты. Но только в дружбе с сильной Россией Греция укрепится сама.
– Ты больше ничего не успеешь сделать, – резко и жестко, впервые изменив своей обычной бесстрастности, сказал Сен-Жермен. – Платон Зубов подошлет к тебе убийц. Какого-нибудь врача, знакомого с искусством приготовления ядов.
– Гришенька, – дрожащим от слез голосом попросила София. – Послушай нашего друга Монфера. Иначе тебя убьют. И ты не увидишь нашего сына.
– Софьюшка, ты жена моя, хоть и невенчанная, – сказал ей князь, – а значит, наполовину русская. Я не пойду против России. Будь что будет…
– Подумай над моими словами, князь! – Сен-Жермен подвел итог этому долгому и бесполезному разговору. – Если ты захочешь жить и властвовать, то найдешь меня – через Гетерию и наших греческих друзей. Если пойдешь навстречу смерти, я ничем не смогу тебе помочь. Если захочешь найти меня, дай знать Константину Ригасу.
Это имя заставило Софию вздрогнуть, а Потемкина помрачнеть.
– Я хочу знать только одно, – резко и жестко спросил он у Сен-Жермена. – Кто ты?
– Ты знаешь все мои имена… – губы графа дернулись в подобии улыбки.
– Я знаю все твои имена, но не знаю главного имени! – ответил на это Потемкин. – Кто ты?
– Я родился подданным Византии, в Константинополе, несколько веков назад. – Сен-Жермен говорил с такой убежденностью, что его нельзя было упрекнуть во лжи. – Вместе с другими я защищал город от Мехмеда Фатиха, который превратил собор Святой Софии в мечеть. Когда город пал, я не смог умереть. Пока моя родина не свободна, я обречен блуждать по свету. Когда Греция освободится, освобожусь и я – и умру.
– Впервые вижу человека, который прожил несколько веков и так хорошо сохранился… – рассмеялся Потемкин, к которому вместе с чувством юмора вернулось самообладание. – Я верю в одно: ты греческий патриот. Но если так, ты должен понять меня. Я служу России, как ты – Элладе.
Потемкин, не прощаясь, пошел по направлению к городу и повел за собой гречанку. Сен-Жермен долго и скорбно смотрел вслед тому, кто отказался от константинопольского трона и выбрал смерть в бессарабской степи, на руках у любимой женщины.
– Ему я не смогу помочь… – тихо сказал он. – Но еще смогу помочь Софии и его сыну. Софию и мальчика нужно сохранить – для Эллады…
Глава 4 Уманская Эллада
У ног Софии ровно дышало во сне Ионическое море. Оно не было огромным, сияющим и первозданным, как то далекое, подлинное, омывавшее греческие берега. К этому морю – миниатюрному, парковому – вел деревянный мостик. София приходила сюда каждое утро, чтобы вспомнить прошлое и представлять несостоявшееся будущее. Она смотрела на дивной красоты парк – подарок второго мужа, графа Станислава-Ксаверия Потоцкого, с горькой нежностью любовалась этой миниатюрной копией великой Эллады, созданной на земле Умани стараниями украинских крестьян графа и польского архитектора Людвига-Христиана Метцеля.
Проект парка принадлежал графине Потоцкой. Здесь все напоминало об Элладе, но не о нынешней, поверженной турками, а о прежней, сильной и прекрасной, о Греции «Одиссеи» и «Илиады». О той Элладе, которую не успел освободить князь Потемкин, скончавшийся несколько лет назад, в бессарабской степи, по дороге из Ясс в Николаев, на руках у Софии Витт, ставшей ныне женой богатейшего польского магната.
Каждое утро София Потоцкая обходила парк и любовалась Большим водопадом, Тарпейской скалой, павильоном Флоры, гротом Тантала, ручьем Иппокрены, храмом Фетиды, островом Цирцеи. Подолгу стояла в гроте Калипсо и слушала, как глухо шумят подземные источники, напоминая о том, что быстротечной жизни приходит на смену невозмутимая вечность. Под дорожками парка текли реки, названные греческими именами: инженер Метцель оказался хитроумнее Одиссея и разбил под «новой Элладой» систему подземных коммуникаций. Но реки эти – Стикс, Ахерон и Флегетон – не могли привести Софию к тому, на встречу с которым она готова была променять оставшиеся годы. Воды этих рек не вели к умершему в бессарабской степи князю Потемкину – его душа блуждала ныне по небесным лугам, подобным Елисейским полям эллинских мифов.
В парке графини Потоцкой были и собственные Елисейские поля: луг, благоухавший сладкими украинскими травами. Здесь София сидела часами – на парковой скамейке, с книгой на коленях, но страницы этой книги перелистывал лишь ветер. Порой рядом с Софией садился граф Станислав Потоцкий, безгранично и безнадежно влюбленный в собственную жену. После внезапной смерти Потемкина гречанка вышла за польского графа по настоянию императрицы Екатерины. Ей даже удалось превратить этого поборника независимости и славы Речи Посполитой в друга Российской империи. Она родила графу дочерей – Таню и Оленьку, рядом с которыми рос сын графини от первого мужа – Ян Витт. Но душу свою графиня Потоцкая забыла где-то далеко, рядом с покоившимся в херсонском соборе Святой Екатерины князем Потемкиным.
С коронным гетманом Правобережной Украины, графом Станиславом-Феликсом Потоцким, София Витт познакомилась за три года до смерти Потемкина, когда, по тайному поручению светлейшего, ездила на Варшавский сейм. Тогда она убедила Потоцкого примкнуть к Тарговицкой конфедерации. Потом в Польше разразилось восстание Костюшко, и граф, склонявшийся к русскому двору, а не к польским патриотам, вынужден был покинуть родину.
После внезапной смерти Потемкина, по настоянию русской императрицы, сребролюбивый Юзеф Витт снова сбыл с рук свою обворожительную супругу, за которую страстно влюбленный Потоцкий выложил два миллиона польских злотых. Коронный гетман обвенчался с Софией только после смерти своей первой жены, Жозефины-Амалии Мнишек-Потоцкой, известной художницы, оспаривавшей лавры Элизабет Виже-Лебрен. Потоцкий и София поселились в Умани, где граф бросил к ногам своей новой богини великолепный парк.
Злые языки донесли Потоцкому, что у Софии был сын от Потемкина, но ребенок этот воспитывался неизвестными графу друзьями светлейшего и гречанки. Потоцкий много раз спрашивал жену о ее втором сыне, но не добился даже слова в ответ. Гречанка упрямо молчала, и в ответ на упорные вопросы Потоцкого лишь сказала однажды, что ни он, ни императрица Екатерина никогда не узнают, где воспитывается Николенька. Так Потоцкий и не раскрыл ее тайны. Потом умерла императрица Екатерина, вступил на престол император Павел, ненавидевший даже имя Потемкина, и тайны жены перестали волновать Потоцкого. Граф надеялся, что София счастлива здесь, в уманском поместье, в разбитом ради нее блаженно прекрасном парке, в этом миниатюрном подобии великой Греции.
София много раз покидала Умань, покидала и возвращалась вновь. Она путешествовала по Новороссии, однажды посетила Константинополь, часто бывала в Петербурге. О цели своих путешествий гречанка ничего не рассказывала: Потоцкий давно привык к тайнам жены и ее старым друзьям, приезжавшим в Умань. Он смирился даже с визитами греческого заговорщика Константина Ригаса. Граф не мог добиться ответной, страстной любви супруги и рассчитывал сохранить хотя бы ее приязнь. К тому же София исправно рожала ему детей: сыновей Александра, Мечеслава и Болеслава, дочерей Софию и Ольгу.
И вот теперь, через много лет после смерти Потемкина, София слушала, как ровно и сладко дышит в хрупком утреннем сне миниатюрное Ионическое море… Гречанка закрывала глаза и видела горькое прошлое и несостоявшееся будущее, свое венчание с Потемкиным, которого не было в действительности, и его предсказанную Сен-Жерменом внезапную смерть. Картины несбывшегося и состоявшегося прошлого проплывали перед глазами ее души. И так сладко было представлять прошлое, которого никогда не было, и так горько снова переживать страдания, которые, увы, сбылись…
Глава 5 Несостоявшееся венчание
«Венчается раба Божия Софья рабу Божьему Григорию…»
Священник стоял совсем рядом, но Софии Витт, которой через несколько минут предстояло стать княгиней Потемкиной, казалось, что эти долгожданные слова раздаются откуда-то сверху и произносит их не полный, благообразный протопоп Сегурский, а сам святой Григорий, небесный покровитель ее жениха. София запрокинула голову, на мгновение закрыла глаза и почувствовала, что она парит в воздухе, поднимается к куполу храма Святого Григория Великой Армении, где происходило венчание. Свеча задрожала в ее руках, горячие капли воска обожгли пальцы, где-то позади зашептались гости, глубоко вздохнула племянница жениха, Александра Браницкая, державшая над Софией венчальный венец.
«Бедная Сашенька, – подумала будущая княгиня, – она ведь любит Григория, и совсем не родственной любовью. Какая пытка для нее наша свадьба! Но как все необыкновенно, счастливо сложилось: императрица Екатерина дала согласие на наш брак, а ведь грозилась выслать меня из империи. Грозовая туча прошла мимо: беднягу Витта вынудили дать мне развод, мы приехали в Николаев, – Бог даст, нашу будущую столицу, столицу возрожденной Византии. Сейчас мы венчаемся, а вскорости, если будет на то Божья воля, станем царствовать в нашем земном раю. Правда, Святой Софии вместе с Константинополем нам не отвоевать, но мы построим новый собор Святой Софии – здесь, на этих древних землях, где сливаются Буг и Ингул. Сбудется все, о чем мечтала нищая девчонка из древнего, славного некогда рода. А первенец наш станет византийским императором».
«Пока не разлучит вас смерть…»
При этих словах батюшки София невольно вздрогнула. Какая смерть? Разве можно вспоминать о старухе с косой сейчас, когда они на пороге немыслимого, невероятного счастья?! Да и существует ли смерть в это торжественное, сладкое мгновение?! О ней ли говорить сейчас, да и к чему?! Смерть милует счастливых…
Жених тоже недовольно пожал плечами – светлейшему князю Потемкину-Таврическому, генерал-фельдмаршалу, главнокомандующему Екатеринославской и Украинской армиями, Черноморским флотом, Великому гетману и разных орденов кавалеру – меньше всего думалось сейчас о смерти…
Супруги Потемкины под руку вышли из церкви. Новобрачных и гостей – по прихоти светлейшего князя – ожидали не кареты, а колесницы с великолепными, породистыми скакунами. Возницы были одеты, как древнегреческие воины, а колесницы украшены цветами. На главной колеснице, предназначенной для Григория Александровича и Софии, был изображен герб Потемкиных, обвитый золотой девизной лентой с надписью «EVTENIA APETII» («Следствие достижений»).
«Чудит наш князь! Все для гречанки своей старается…», – подумал обер-штерн-кригс-комиссар флота и кавалер Михаил Леонтьевич Фалеев, только что державший над женихом венец. Однако в колесницу сел, равно, как и другие гости – профессор земледелия Михаил Ливанов, обер-интендант и кавалер Иван Афанасьев, капитан над портом Николаевским Иван Овцын, архитекторы Иван Старов, Викентий Ванрезан и другие известные и малоизвестные в городе люди.
Но на колесницах причуды светлейшего не закончились. Свадебную процессию сопровождали казаки в коротких красных рубахах, подхваченных черными кушаками, в черных же шароварах с белыми лампасами, вооруженные пиками и саблями. На пиках казаков можно было разглядеть значки с изображением родового потемкинского герба. Предводительствоваший казацким лейб-конвоем полковник Антон Головатый, богатый жупан украшал полученный за взятие Очакова орден Святого Георгия, приветствуя молодых, выдернул из ножен и высоко воздел сверкнувшую в щедрых лучах южного солнца кривую саблю.
– Хай живе вельможний пан гетман та батько наш – Грицько Нечеса! Хай щастить вельможнiй панi гетманшi! Дiточок iм багато, як у нас з Ульяною!!!
– Слава, слава! – во все луженые глотки весело гаркнули запорожцы.
Гречанка – то бишь княгиня Потемкина – радовалась, как ребенок, и то и дело хлопала в ладоши. И день был солнечный, дивный, весенний, и все, казалось, плясало вокруг: белые, сдобные облака, дома, деревья…
Колесницы вихрем летели по городу. В этом праздничном вихре-полете София почти не различала домов и улиц, солнце слепило ей глаза, а бриллиантовые пуговицы на камзоле Потемкина полыхали, как искры фейерверка. «Проехали Соборную, – шептал ей князь, – сейчас спустимся к реке».
Возничий остановился у спуска к Ингулу. Князь подал руку жене, и они сошли к мосту и Военной пристани. И здесь причудник-Потемкин превзошел сам себя. Новобрачных ожидала сказочная флотилия, состоявшая из античной тессеры и двух десятков казачьих чаек. Первая тессера – огромный корабль с семью гребными ярусами – была построена некогда по приказу фараона Птолемея I, а теперь примеру египетского владыки решил последовать любитель истории князь Потемкин. Правда, бронзового тарана, с помощью которого египтяне топили корабли противника, на носу свадебного корабля не было. Кораблей противника в этот день не ожидалось, князь пребывал в самом мирном настроении и рассчитывал на иные лавры.
Как только батарея на стенах цитадели Адмиралтейства дала залп из всех орудий, морской офицер, изображавший древнегреческого келейста – надсмотрщика над гребцами – дал сигнал, и в открытые клюзы триеры втащили якорные цепи. Свадебная флотилия отплыла от берега.
Николаев остался за спиной, впереди расстилался Бугский лиман. Поворот – и справа показался Варваровский мыс с песчаной косой и деревянной Михайловской церковью. Прямо по курсу, на Спасском рейде, гости Потемкина, пассажиры свадебной тессеры, увидели выстроенные в линию четыре линейных корабля Черноморского флота во главе с флагманом – «Григорием Великой Армении», на котором был поднят флаг прославленного адмирала Ушакова, а в параллель им – фрегаты, канонирские акаты и лодки.
На Спасской пристани тессеру ждали. Корабль мягко пришвартовался к берегу, и новобрачные с гостями, окруженные офицерами и матросами Черноморского флота, направились к дворцу светлейшего, где все было приготовлено для свадебного пира. Вслед им гудели колокола Спасско-Николаевской лавры.
А в городе, который только что покинула княжеская чета, тоже веселились, как могли. Флотские офицеры – в Адмиральском доме, матросы и солдаты – на плацу крепости, где им были накрыты столы, купцы – в Греческих торговых рядах, а простой люд – прямо на улицах, за накрытыми по этому случаю столами. Хлеба и зрелищ хватило на всех.
Но ничего этого не было – ни церкви, ни венчания, ни свадебного путешествия, ни гостей… Была лишь пыльная лента дороги, ведущей из Ясс в Николаев, и предсмертное письмо Потемкина к императрице Екатерине.
Глава 6 Смерть Потемкина
«Матушка, всемилостивейшая государыня! Нет сил более переносить мои мучения; одно спасение остается оставить сей город, и я велел себя везти в Николаев. Не знаю, что будет со мною…» Этот абзац из предсмертного письма Потемкина графиня Потоцкая знала наизусть. И именно он прервал ее счастливые грезы о несостоявшемся прошлом. Исчез дворец на холме, растаяла Спасская пристань, она не ощущала более в своей маленькой ручке богатырской длани Григория. Ей привиделся умирающий князь, пыльная, знойная степь между Яссами и Николаевом, их карета и секретарь Попов, которому Потемкин диктовал это предсмертное письмо, обращенное к Екатерине.
Попов разрыдался, как ребенок. Перо выпало из его дрожащих пальцев. София, стараясь не выдать тяжелой, каменной тоски, охватившей все ее существо, взяла перо и каллиграфическим, писарским почерком вывела «Верный и благодарный подданый…». «Не надо, Софьюшка, я сам», – попросил князь и приписал: «…я для спасения уезжаю…» Но спасения не было и не могло быть.
Проехав верст тридцать, они остановились на ночлег в молдавской деревне Пунешты. Там князю стало немного лучше, жар постепенно спадал. «Я верю, Гришенька, ты поправишься…», – шептала ему София. «Как же я могу оставить тебя и его, нашего Николеньку?» – говорил Григорий, нежно поглаживая округлившийся живот любимой. «Почему ты уверен, что это будет сын?» – с улыбкой спрашивала она. «Поверь мне, душа моя, я уж знаю…», – шептал Потемкин.
Ночью князю стало хуже, возобновился жар. Доктора Тиман и Санковский, сопровождавшие Потемкина в его последнем путешествии, видели признаки конвульсий. Однако утром светлейший приказал тронуться в путь. Проехали верст с десять, и тут больной попросил, чтобы его вынесли из кареты и опустили на землю. Расстелили ковер, София положила под голову князю кожаную подушку.
«Сядь сама, положи подушку себе на колени, мне так легче будет», – попросил ее Григорий. Она заплакала. «Не плачь, душа моя, – прошептал князь, – ты что, хоронить меня собралась? Отдохнем и поедем далее. А в Николаеве я непременно поправлюсь. Сия земля для меня целительна…»
Доктор Санковский подал князю икону, у которой тот всегда, в трудные минуты, просил помощи. Князь поцеловал образ и закрыл глаза. «Боже мой, Господи, – шептала София, – яви волю свою, помоги Грише…» Через несколько минут, за которые, казалось, прошли годы, Потемкин открыл глаза и попытался улыбнуться.
«Что притихли, будто хоронить меня собираетесь? – спросил он у попутчиков – Михаила Леонтьевича Фалеева, Антона Головатого, секретаря Попова и Сашеньки Браницкой. – Вы еще на нашей с Софьюшкой свадьбе погуляете, венцы над нами держать будете и первенца нашего, Николеньку, окрестите. Или откажетесь?»
«Как же я могу отказаться, дядюшка милый?!» – Сашенька Браницкая рухнула в ноги князю, обняла его колени, судорожно, отчаянно зарыдала. «Она его любит, – подумала София, – и совсем не родственной любовью. Так плачет женщина, теряющая самого дорогого на свете человека… Бедная! У меня остается сын, а у нее – никого».
«С превеликой радостью, батюшка – и венец держать буду, и крестным отцом за счастье почту стать!» – Михаил Леонтьевич Фалеев один не потерял присутствия духа и старался говорить спокойно. Князь ответил ему благодарным кивком.
«А ну тише, бабы! – прикрикнул Головатый на рыдающих женщин, – нечего Грицька Нечесу заживо хоронить!» Сашенька испуганно смолкла. Князя внесли обратно в экипаж, и путешествие продолжилось.
Ночью Потемкину стало хуже, начались судороги. Третий врач, француз Массот, присланный петербургским двором, и, как потом узнала София, тайный агент Платона Зубова, втайне от Тимана и Санковского, дал князю какое-то лекарство. Утром Потемкин действительно приказал поскорее ехать, но потом потребовал остановки и попросился на воздух. Александра снова расстелила ковер, София положила под голову Григорию кожаную подушку. Доктор Санковский подал князю образ. Григорий Александрович поцеловал икону, закрыл глаза и… скончался.
«Гриша, Гриша, куда же ты уходишь?» – вопила София, целуя похолодевшие губы князя. Сашенька плакала, уткнувшись в мундир Фалеева. Добрейший Михаил Леонтьевич то и дело шептал: «Вот тебе и свадьба… Вот тебе и крестины…»
Оглянувшись вокруг, София поймала растерянный, с тенью вины и раскаяния взгляд доктора Массота. И что-то в этом взгляде насторожило ее. Она снова пристально взглянула в глаза французу. Тот отвел взгляд. «Отравитель! Тебя прислал Платон Зубов!» – что было сил, закричала София и бросилась на доктора. Её оттащили. «Не треба цього робити, рідна, – увещевал ее Головатый, – Гриця вже не повернеш, ти про дитину його подумай…»
О ребенке Софии и Потемкина позаботилась Гетерия. Малышу нельзя было оставаться в России – под надзором братьев Зубовых и императрицы Екатерины, во всем доверявшей новому фавориту. София отдала Николеньку Константину Ригасу – еле живая от слез и отчаяния. Роды были тяжелыми – потерявшая любимого человека женщина едва не умерла. Если бы не оказавшийся рядом Ригас, Софию и малыша ждала бы смерть.
– Возьми его с собой, на землю Эллады! – просила Ригаса София, прижимая горячие ладони к уставшим плакать глазам. – Верю, ты сохранишь его для меня, как когда-то спас нас с матерью друг отца – Георгий.
– А ты, София? – говорил Ригас, принимая из ее рук ребенка. – Настало время тебе ехать с нами. Что тебе еще делать здесь?
– Я должна позаботиться о прахе Григория, – ответила Ригасу София. – И о его памяти. Потом я приеду к вам.
София и Константин стояли на пристани несостоявшейся византийской столицы – Николаева. Ригаса ожидал корабль и дорога к Константинополю, а потом – возвращение в повстанческий лагерь в горах Пелопоннеса.
Ребенка он собирался оставить на острове Хиос, у своих родных. Они смотрели на великие реки Буг и Ингул и, казалось, видели, как тонет в этих водах византийская мечта.
– Я останусь в России, – шептала София, обнимая Константина и Николеньку. – Ненадолго. Ждите меня, и я вернусь к вам. Вернусь на остров Хиос, который покинула однажды.
Потом она долго смотрела на исчезавший в синеве моря и неба парус. Смотрела, пока не заболели уставшие плакать глаза. Но вернуться на остров Хиос София так и не смогла. Вскоре после гибели Потемкина Екатерина силой выдала былую соперницу за коронного гетмана, графа Потоцкого. Платону Зубову и графу Витту Потоцкий отдал за Софию два миллиона польских злотых…
Императрица Екатерина всего на пять лет пережила человека, которого сначала страстно любила, а потом не менее страстно ненавидела. Говорят, она оплакивала «великолепного князя Тавриды», а слезы эти утирал отравивший князя красавец Платон Зубов. Смерть Потемкина перелистнула лучшие страницы екатерининского царствования, вступавшего в свои неизбежные сумерки…
Граф Потоцкий пожалел Софию: он позволил бесконечно любимой жене видеться с былыми друзьями и, прежде всего, с Константином Ригасом. А Ригас привозил на каждую встречу подраставшего Николеньку. Теперь мальчика звали Николайос Ригас, и он носил на безымянном пальце правой руки кольцо с изображением кентавра Хирона, как и положено «брату» Гетерии.
Глава 7 Прощание с Софией
Графиня Потоцкая скончалась в Берлине 24 ноября 1822 года, но завещала похоронить себя в Умани. Тело усопшей графини набальзамировали, нарядили в роскошное платье, положили в лакированный гроб. В последний путь Софию сопровождали дочери София (в замужестве – графиня Киселева) и младшая – Ольга. Но на самой границе вышла заминка. Вследствие карантина покойницу отказались пропустить через границу. Комендант боялся, что она принесет с собой заразу – в то время на русской границе опасались чумы. Сколько ни доказывали София с Ольгой, что их мать умерла от давней и не заразной болезни, все было напрасно. Офицера, остановившего карету, не убедило даже самое действенное средство – деньги. И тут Ольга, истинная дочь своей матери, решилась на авантюру…
Вечером того же дня карантинная служба пропустила карету, в которой ехало несколько веселых красавиц, распевавших фривольные куплеты. Та, что была чуть постарше, дремала на плече молоденькой хохотушки. Даже громкие разговоры, песни и смех компаньонок не могли ее разбудить. В одной руке спящая дама держала розу, в другой – веер. Карета со спящей пани и ее веселыми спутницами благополучно пересекла русскую границу…
В Умани Софию оплакивал и стар, и млад: в последние годы красавица графиня охотно занималась благотворительностью. Когда везли гроб с телом Потоцкой, то на дороге, на расстоянии десяти верст, были расставлены бочки со смолой, в которые окунали факелы – вместо дворцовых свеч освещавшие последнюю дорогу одной из самых прекрасных женщин ветреного восемнадцатого столетия.
Похоронили Софию в склепе под Базилянским костёлом. Гроб простоял в костеле много лет – пока не случилось одно странное происшествие…
* * *
В 1877 году старый Базилянский костел пострадал от землетрясения – треснул фундамент, по стенам пошли трещины. Стихия не пощадила и гроба Софии Потоцкой – лакированный саркофаг лопнул в нескольких местах. Пришлось перезахоронить останки графини. Когда вскрыли гроб, чтобы извлечь тело барыни, рядом с останками обнаружили резную шкатулку.
И тут четверых крестьян, которые вызвались за плату извлечь тело усопшей, что называется, бес попутал. Они решили присвоить шкатулку. Не удержались и стали вскрывать «сокровище» прямо в склепе. Но вместо ожидаемых фамильных драгоценностей обнаружили хрустальный сосуд, отделанный серебром. А в нем – человеческое сердце. До смерти перепуганные мужики, не переставая креститься, положили страшный сосуд обратно в шкатулку.
История наделала шуму – так что из Санкт-Петербурга приехала внучка покойной Софии, дочь Ольги Потоцкой, в замужестве – Нарышкиной, названная в честь бабушки Софьей. Внучка незамедлительно распорядилась, чтобы останки бабушки и таинственную шкатулку перевезли в принадлежавшее Потоцким село Тальное и похоронили в склепе местной церкви. По просьбе Софьи Львовны (в замужестве – Шуваловой) и внезапно прибывшего в Тальное таинственного гостя священник отслужил заупокойную панихиду по рабам Божьим Григорию и Софии…
По окончании заупокойной службы загадочный гость подошел к Софье Львовне.
– Я был близком другом вашей бабушки Софии и князя Григория Александровича Потемкина, чье сердце хранилось в стеклянном сосуде… – бесстрастно, с тенью улыбки на строгих губах, заявил незнакомец. – Ваша бабушка сказала однажды: сердце, бившееся для меня, я должна была похоронить. Графиня София Потоцкая спасла прах Потемкина от ненависти императора Павла, она помешала императору осквернить могилу князя. Григорий Александрович и поныне покоится в Екатерининском соборе Херсона, а сердце его нашло упокоение рядом с Софией. Царствие им Небесное и вечный покой…
– Откуда вы знаете все это? – Софья Львовна вздрогнула от ужаса.
– Я вечный странник на этой земле, – попытался улыбнуться гость, – я разучился улыбаться очень давно, когда погиб великий город Константинополь. Я защищал от Оттоманской Порты Второй Рим, а теперь служу Третьему Риму – России. Греция уже полвека как обрела свободу, но, видимо, я еще не исполнил своего предназначения в этом печальном мире. Господь никак не дарует мне смерть! Меня зовут граф Сен-Жермен, Монфера или Ракоци. У меня много имен. И еще больше жизней…
– Разве люди могут жить так долго? – по красивому лицу Софьи Львовны Шуваловой пробежало облако сомнений и страха.
– Иногда, – ответил Монфера, – если за одну жизнь не успевают выполнить свой земной долг. Не стоит бояться меня, сударыня. Я помогал вашей матери и помогу вам, если вы попросите меня об этом. А пока возьмите это кольцо.
Он перекрестил Софью Львовну и надел ей на палец кольцо с изображением мудрого кентавра Хирона. А потом ушел, так же внезапно, как появился, не оглядываясь и не прощаясь. Софья Львовна вышла на крыльцо церкви и долго смотрела ему вслед, пока на сельскую дорогу не лег молочный туман. Потом она вернулась в храм и поставила свечу перед образом Николая-угодника – за всех странствующих и путешествующих, за тех, кто бесприютен в этом мире, но обязательно вернется домой. И Николай Чудотворец по-отечески улыбнулся ей с иконы…
Примечания
1
«Gorzalka» – бытовое название водки в польском языке.
(обратно)2
«Он красив, как день!»
(обратно)3
Темляк (тюрк. tamlik) – кожаная или матерчатая петля из ремня или ленты с кистью на конце, которую носили на рукоятке (эфесе) шпаги, сабли, шашки. В бою темляк надевался на запястье, с его помощью удерживали оружие.
(обратно)4
Человек исключительный (фр.).
(обратно)5
Клайв Роберт (1725–1774) – английский генерал, лорд. Установил британскую диктатуру в Индии.
(обратно)6
Камеристка (фр.).
(обратно)7
Бибиков А.И. (1729–1774) – военачальник, в 1771 году командовал корпусом в Польше.
(обратно)8
Образ Константина Ригаса в этом романе является условным, собирательным и не совсем соответствует греческому прототипу.
(обратно)9
В октябре 1774 года.
(обратно)10
Арабское наименование Константинополя.
(обратно)11
Прощай и люби меня! (лат.)
(обратно)12
Прощай и помни обо мне! (лат.)
(обратно)13
Прощай! (лат.)
(обратно)14
Турецкое название Греции.
(обратно)15
Именно так (польск.).
(обратно)16
Старый режим (фр.).
(обратно)17
Протекающая с одной стороны крепости река, которая называлась, как и крепость, – Озю.
(обратно)18
Т. е. Средняя паланка.
(обратно)19
Т. е. Новая крепость Хасан-паши.
(обратно)20
«День добрый, любимый! Благодарение Богу, все у меня хорошо. Жду тебя, а тебя все нет и нет…»
(обратно)21
«Жди меня, родная. Жди и я вернусь. Только когда это будет, неизвестно. Перед нами турецкая крепость, нужно ее взять… А москали такие неблагодарные – ничего не умеют, ничего не делают, только ругаются. И когда я им ее возьму – тут же и вернусь домой».
(обратно)22
Отказали.
(обратно)23
«Жди меня. Стану свободным, приеду к тебе. И больше на войну не пойду».
(обратно)




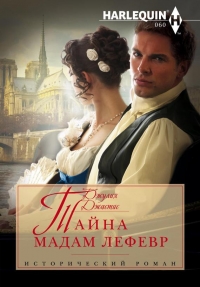

Комментарии к книге «Под знаком Софии», Елена Юрьевна Раскина
Всего 0 комментариев