Нина Матвеевна Соротокина Прекрасная посланница
© Соротокина Н.М., 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2013
* * *
Часть первая
1
Уже ноябрь был на исходе, а отъезд Ксаверия в армию все откладывался. Виной тому были не ослабевший патриотизм князя Гондлевского и не болезнь княгини, схватившей сильную простуду, а безденежье, черт его бери! Сына не отправишь воевать абы как. Ксаверий представитель славного рода, потому на поле брани должен выглядеть подобающе. Старый князь уверенно высказался – сыну дóлжно идти в польские гусары, а это значит – форма, и приклад, и денщика надобно одеть, чтобы стыдно не было. А главное – конь кавалерийский, чтоб ростом без подков не менее двух аршин и четырех вершков. В конюшнях князя таких лошадей не было, надобно покупать. В большом ходу сейчас были русские деньги. А где взять эти тридцать рублей? Меньшей суммой здесь никак не обойдешься.
Еще престарелая тетка Агата подливала масла в огонь, внося в приготовления ненужную нервозность. Право слово, она доконала всех своими вопросами.
– Ксаверий идет в гусары? Ах ты, господи! Это значит, ему нужны крылья? Какая же кавалерия без крыльев?
– Агата, ты сошла с ума! – негодовал старый князь. – Ты бы еще вспомнила кольчужных драгун времен Болеслава Храброго. Сейчас XVIII век!
О, славные победы польских гусар! В былое время они наводили ужас, но войска русские, шведские и турецкие. Отважные кавалеристы летели в бой в накинутых на плечи леопардовых или медвежьих шкурах, и за спиной их трепыхали длинные крылья, наводящие ужас на противников…
Крылья делались из индюшачьих, орлиных или гусиных перьев. Они крепились к спине гусара, нависая над его головой. Считалось, что крылья в бою издают неприятный для неподготовленной лошади звук. А понятно, что лошади противника и есть эти самые неподготовленные. Они пугаются и не подчиняются наезднику. Ну а дальше, смять вражий строй – плевое дело.
Были и более разумные объяснения этой экзотической экипировке. Крылья защищали польского воина от петли аркана, а также смягчали удар при падении с лошади. Летящая на врага лавина была похожа на воинствующих херувимов, спустившихся с небес, дабы поразить безбожников. Здесь не грех вспомнить, как разбили они наголову войско врага рода человеческого, московита Ивана Грозного.
Все это вспомнилось под сводами старого замка, укрепляло патриотический дух его обитателей, но денег не прибавляло. Князь пытался подзанять монет, но ввиду трудного времени все вокруг были безденежны.
Для пошива формы пришлось довольствоваться домашней швеей. Смех, да и только! Она, конечно, стежок ровно кладет, но в мундире главное линия и эдакий лоск в общем виде. А дуреха швея ползает вокруг молодого князя на коленках, подкалывает ткань булавками и все вопрошает суетливо: «А камзол какой длины? А карманы подабают или нет? А обшлага красного цвета подойдут?»
Ксаверий злился, но злость эта была скорее для виду. Прекрасная вдовушка вернулась из Варшавы в свою усадьбу. Ксаверию удалось обмануть родителей, и он провел у нее две сказочные ночи. «О, эта грудь, подобная двум спелым яблокам, и каждая из них такой величины, что ее можно было прикрыть одной рукой» – так писали поэты в XVIII веке. И еще узкая ножка с нежными пальчиками, и еще… Словом, они поклялись любить друг друга, пока смерть не разнимет их.
Узнав о скором отъезде любимого, вдовушка всплакнула, но полностью одобрила желание Ксаверия защитить Станислава Лещинского от происков проклятых русских. Ведь не навсегда же уезжает любимый. Он вернется, и они тут же обретут вечное блаженство.
Лизонька Сурмилова все еще жила в замке Гондлевских. Все карты были раскрыты, у Лизы есть жених. Теперь уже никто не мешал предаваться ей одиноким мечтаниям над книгой и совершать прогулки в обществе верной Павлы. Ксаверий иногда сопровождал их, но редко.
Ему было жалко девушку. Право слово, он теперь не знал, о чем с ней говорить. Вряд ли Лизонька догадалась о матримониальных намерениях его матери, но все равно неудобно как-то, стыдно. А встреча Лизоньки с женихом выглядит и вовсе неправдоподобно. Ведь завидная невеста и любит своего Матвея без памяти, а он бросил ее в замке среди чужих людей и отбыл в неизвестном направлении. И вообще этот князь Матвей темная лошадка. Правильно, что батюшка его в подвал засадил. Негоциант… он, вишь, лошадей покупает. И какой вывод? Куда как естественнее предположить, что этот князь просто русский шпион, который охотится за Шамбером и пропавшими деньгами. А при чем здесь Лизонька?
Однажды Ксаверий не удержался и задал неделикатный вопрос. Может, это и против правил куртуазности, но Лизонька заслуживает его участия. Она всегда вела себя как верный друг, кроме того, проявила храбрость и настойчивость вовсе не женскую. Словом, Ксаверий напрямую спросил, куда делся князь Козловский.
Дева потупилась, глаза ее предательски заблестели, она даже не изящно шмыгнула носиком, тут же прикрыв его рукой.
– Князь Матвей человек военный, он себе не принадлежит. Все объяснило письмо его.
– Осмелюсь спросить прекрасную панночку, что же он написал?
– Что «обстоятельства чрезвычайные заставляют его немедленно отбыть в отечество».
– Что же это за обстоятельства такие?
– Ну, это не моего ума дела. Мое дело – верить и ждать. И я дождусь своего счастья, – добавила она твердо, непроизвольно сжав кулаки.
И тут же перевела разговор. Она стала извиняться перед Ксаверием, что так долго пользуется гостеприимством его дома. Но право слово, она не виновата. Батюшка давно написал, что послал карету с верными людьми, но какие-то неведомые обстоятельства задержали ее в пути.
Вот здесь Ксаверий блеснул светским обхождением и красивым слогом. Да как только могут ее, то есть Лизонькины, божественные уста молотить подобный вздор? Да в замке в ней все души не чают, потому что она есть истинное украшение их скромной обители. И так далее, и в том же духе.
Объяснение внезапной задержки русской кареты пришло спустя неделю. Прибыл посыльный от господина Сурмилова. Оказывается, карету конфисковала польская армия, имелись в виду конфедераты, и теперь Карп Ильич собирается вывезти дочь не иначе как под русским конвоем, «об обеспечении которого сейчас старание имеет».
Сурмиловский посыльный привез не только письмо, но и деньги, а также подарки для всей семьи Гондлевских. Подарки были торжественно поднесены и вежливо приняты, а с деньгами дело обстояло сложнее. Лизонька не захотела оскорблять гордость князя и решила отдать их княгине. Естественно, та отказывалась из последних сил. Согласились на том, что деньги взяты в долг.
Ну и слава богу! Теперь снаряжение Ксаверия пошло более споро. Была куплена достойная лошадь, вызванный из Варшавы портной соорудил будущему воину великолепный мундир. Тетка Агата всплескивала коричневыми ручками и шептала в экстазе: «Красавец! Нет, вы посмотрите, какой красавец!»
Когда до отъезда Ксаверия в армию осталась неделя, не более, обителей замка взбудоражило неожиданное событие. В их округу прикатила немецкого образца карета в сопровождении странной крытой телеги, называемой катафалком. Карета принадлежала молодой даме, ее сопровождали пятеро мужчин, по виду – слуги. Остановились все в «Белом вепре». Выяснилось, карета прибыла из Парижа. Дама явилась в Польшу, чтобы перевести на родину останки Виктора де Сюрвиля, рыцаря.
На руках у дамы была по всем правилам оформленная бумага, которую она готова была предъявить всем и каждому. Но предъявлять ее было некому. Все были уверены, что приехавшие люди имеют право на вскрытие могилы, была бы охота. Заглянул в бумагу только ксендз, и то не из канцелярского рвения, а из-за исключительной настойчивости дамы. В бумаге она прозывалась ближайшей родственницей покойного и вдовой. Правда, фамилия у нее была не Сюрвиль, а какая-то другая. Но это все тонкости. Народ тут же прозвал ее «безутешной вдовой» и искренне сочувствовал ее горю.
Получив все эти сведения, княгиня Гондлевская ужасно всполошилась, считая, что обязательно должна принять француженку в замке. Ведь павший смертью юноша принадлежал к высокому роду. Всем этим желаниям князь дал жестокий отпор, сказав, что «это еще как посмотреть» и что быть может именно рыцарь и есть виновник смерти их сына Онуфрия.
– Знать их не хочу! Эти люди никогда не переступят порог моей обители! – громыхал он у себя в кабинете, но на следующее утро вдруг помягчел: – Не мешало, однако, чтобы кто-то из нашего дома присутствовал при выемке останков. Пусть это будет знаком примирения двух враждующих сторон.
Какие там «враждующие»? Слово Франция сейчас было святым для любого честного поляка, а князь Гондлевский не хотел подавать кому-нибудь повод подозревать себя в симпатии к этому выскочке саксонцу, которого Россия уже назвала Августом III.
Кроме как Ксаверию «примирять враждующие стороны» было некому. О дне и часе скорбной процедуры он был оповещен заранее.
«Вскрывать могилу… бррр… Это же надо такое удумать? Лежит в земле мертвец, ну, и мир праху его! Или польская земля хуже французской? И погода с утра не заладилась. Холодно, сыро… Промерзнет там до костей. И еще придется утешать вдову, которая будет непременно рыдать и заламывать руки. И вообще, кто вскрывает могилы зимой? Лета не могли дождаться, не терпится им. Ну вот, еще и снег пошел».
С такими мыслями ехал Ксаверий в тряской карете на кладбище. Грязь летела из-под копыт лошадей.
У костела молодого князя встретил ксендз. Снег уже валил как на Рождество, и ни какая-нибудь мелкая крупа, а полновесные пушистые хлопья. И сразу кладбище и аллейки меж могил приняли прибранный вид. Раскисшие в лужах листья опушились нарядным узором, могилы словно белыми полотнами прикрыли, в протянутой мраморной ручке ангела намело уже холмик – полновесный снежок слепить можно.
– Ох, как не хочется мне все это видеть, – пожаловался Ксаверий ксендзу.
– Вам это и не обязательно, – ответил священнослужитель, в голосе его прозвучало не только смирение, но и полное понимание. – Насколько я понял их сиятельство князя, вы только должны высказать соболезнование родственнице покойного. А сама процедура может происходить без вас.
– Так приезжая дама не жена Сюрвиля?
– Я и сам этого не понял. В документе она прозывается одновременно и вдовой и родственницей.
На этом разговор и кончился. Они уже подходили к мес ту назначения.
Народу у могилы собралось довольно много. Здесь были заезжие французы, конечно хромоногой сторож Яцек, видно, он уже принял с утра, рожа так и полыхала, тут же стояли его дружки, могильщики с лопатами, и просто зеваки, не желающие пропустить интересное зрелище. Несколько поодаль, выделяясь на снегу, словно клякса на скатерти, сидела черная собака.
Ксаверий нашел глазами вдову, но, прежде чем сделать шаг, застыл в изумлении. Ну, я вам скажу, панове!.. Мадам Шик – вот как бы он назвал ее. Конечно, она могла позволить себе не носить траур, ведь больше года прошло со дня смерти Виктора де Сюрвиля, но, право слово, на кладбище можно было одеться поскромнее. Словно атласная бабочка опустилась на заснеженные могилы и распустила свои красные, цвета спелого граната, крылья. Да и не похожа она на мадам, молоденькая, совсем девчонка. Как называется это одеяние? Ему ведь говорили… Контуш, вот как это называется, водопад складок, ниспадающих на широкую юбку. А может, если накидка мехом подбита, она называется просто плащ? Или, скажем, мантилья? Из-под капюшона на лоб выбился непокорный локон, наверное на солнце он рыжий. Лицо премиленькое, но главное его украшение – глаза: длинные, аж на висок залезли, блестящие и неопределенного цвета. Последней мыслью было: «Видно, мой удел влюбляться во вдов». Ксаверий подошел к даме и склонился в изящном поклоне.
Разговор был быстрый, рваный. Ксаверий представился, выказал соболезнование, предложил помощь. Дама очень вежливо поблагодарила, от помощи отказалась. У нее был высокий, вибрирующий голос. Решив, что ее речь звучит неуместно звонко, она перешла на шепот.
Ксендз кончил читать молитву. Лопаты могильщиков вонзились в землю. Вначале вынули деревянный крест и положили его меж могил. Снежинки падали на личико неутешной вдовы, и она быстрым движением натянула на лоб капюшон. Черная собака вдруг подошла к самой могиле, села по-хозяйски и, вскинув морду завыла.
Это было так неожиданно, что могильщики прекратили свою работу, Яцек судорожно перекрестился, французы что-то залопотали негромко, а Ксаверий даже всхлипнул от неожиданности. «По спине пробежал холодок» – слова эти не просто литературный прием. Мышцы спины действительно вдруг напряглись, как-то зябко стало. Противное состояние! Он осторожно посмотрел на вдову. Она оставалась совершенно невозмутимой. В этот момент Ксаверий понял, что глаза у нее зеленые и, как ни странно, слегка косят. Впрочем, это ее не портило.
– Чья собака? – негромко спросил ксендз. – Уведите ее отсюда. Зачем нам этот концерт?
Никто не отозвался. Могильщики заглубились уже по пояс и дружно выбрасывали землю на поверхность. Слава богу, настоящие холода еще не наступили, копать было легко. Собака продолжала выть, и только когда лопаты стукнулись о крышку гроба, она вдруг смолкла и вскоре вообще исчезла.
– Может быть, вам лучше уйти, сударыня? – шепотом спросил Ксаверий. – Я к вашим услугам.
Дама ничего не ответила и даже не взглянула в его сторону. Ксаверий достоял до конца всей процедуры. Неожиданно возникший скандал как-то прошел мимо него. Во всяком случае, ему никто вопросов не задавал, и он решил не вмешиваться.
– Бедный Виктор, бедный Виктор, – твердила неутешная вдова, левую ручку ее скрывала муфта, правая держала крохотный платочек, который и не думала подносить к сухим глазам.
А Яцек, главный герой скандала, твердил, что «здесь не чисто», что «он давно заметил – плохая могила».
– Я сам видел голубой свет… вот! Эдак венчиком стоит над могилой и переливается таинственно. А люди говорят, что выходит сей рыцарь из могилы и бродит по ночам. Может, он вообще оборотень. Откуда здесь черная собака? Ведь ничья, а спина гладкая и шерсть блестит.
Оставалось только надеется, что дама не понимает по-польски. Ксаверий махнул на все это действо рукой, пятясь выбрался из толпы и отбыл в замок.
До отъезда в армию оставалось всего ничего. Будущее уже не страшило Ксаверия. В конце концов, армия ничуть не хуже палестры. Еще успеет он насидеться за канцелярским столом. О том, что его могут убить, он вообще не думал.
С Лизонькой ему удалось попрощаться отдельно. Резная парадная стена покрылась инеем, из-за чего изваянные на ней люди и птицы, дельфины, пальмы и прочая жизнь смотрелись особенно выпукло. Лизонька гладила пальчиком каменные крылья и шептала с придыханием:
– Счастья вам, Ксаверий. Вам и вашему дому. Я полюбила Польшу. Жаль, что мы больше не увидимся.
– Ах, милая Лизавета Карповна. Все в руках Господних.
– Вы верите, что мы еще встретимся?
– И пусть она будет более радостной, чем это прощанье!
– Можно я вас поцелую? – спросила вдруг Лизонька и, не дожидаясь ответа, коснулась губами щеки Ксаверия, смутилась и тут же начала мелко крестить его грудь.
Вот и все. Прощай, родимый дом! Уже на подъезде к Варшаве произошло незначительное, но удивившее Ксаверия событие. Выскочив из дубравы, куда он забрался, чтобы сократить путь, он прямо носом уткнулся в задок кареты, которая показалась ему знакомой. Как же так? Еще вчера она вместе с катафалком отбыла во Францию, а теперь, как ни в чем не бывало, катит в противоположном направлении. Слюдяное оконце было не зашторено, и Ксаверий увидел в глубине кареты знакомый контуш гранатового цвета и отороченный мехом капюшон. Ксаверий хотел было поздороваться, но передумал, обогнал карету и во весь дух припустился к столице.
2
– Святые угодники, вот уж кого не ожидал здесь увидеть? – воскликнул Шамбер, со вниманием рассматривая стоящую в дверях стройную фигурку. – Мадам де ла Мот собственной персоной. Какими судьбами?
– Не претворяйтесь, Огюст. Вас должны были предупредить о моем приезде.
– Кто меня мог предупредить? Я пленник, Николь! – Он поправил забинтованную, неправдоподобно толстую ногу, которая лежала на подушке, поморщился, то ли от боли, то ли от собственного непрезентабельного вида, шумно вздохнул и откинулся на пуховики.
Если бы у Ксаверия достало терпения и любопытства и он въехал бы в Варшаву вслед за каретой и не поленился бы петлять по извилистым улицам с тем, чтобы добраться до незаметного особняка, примостившегося на задах монастыря бернардинцев, он несомненно узнал бы в приехавшей мадам де Мот красавицу, которую мысленно прозвал «неутешной вдовой».
Она решительно вошла в комнату, сбросила плащ и подошла к топившейся печи.
– Устала, замерзла, – проворчала она негромко. – Прикажите принести что-нибудь горячего.
– Я здесь не приказываю. Я только подчиняюсь, – весело отозвался Шамбер, однако позвонил с крошечный колокольчик.
На дребезжащий призыв тут же явился слуга, косая сажень в плечах. А через несколько минут он уже вернулся с подносом, на котором стояли жаровня с кипятком, чашки, уже заваренный чай и лежали соблазнительного вида булочки с маком. Затем он добавил к натюрморту еще пузатую бутыль вина и два бокала со старинной чеканкой.
Шамбер смотрел на гостью с насмешливой улыбкой, но видно было, что он рад ей несказанно. Даже худые, с прозеленью щеки его не скажешь, что порозовели, но приняли какой-то теплый, живой оттенок. Он был болен, очень болен, и ему немалого труда стоило играть в беспечность.
Разумный читатель и без авторского объяснения догадался, а проще сказать, вспомнил, что на Шамбера ночью в лесу напали представители двух могучих польских кланов, которым он так опрометчиво послал одинакового содержания письма. Письма эти разнились только фамилией адресатов. Вельможному пану Вышневецкому сообщалось, что предназначенные для выбора короля деньги переданы в руки вельможного пана Стадницкого, пана же Стадницкого из Каменца, в свою очередь, уведомили, что Франция не рассчитывает на его услуги и сочла за благо передать всю сумму (двести тысяч в золоте и алмазах) более надежному пану Вышневецкому.
Оба адресата поверили этим письмам. Им бы встретиться и поговорить начистоту. Но время было трудное. Как берег с берегом не сходится, как не сливаются в одном русле намерения Явлинского и Чубайса, так и не могли встретиться пан Вишневецкий с паном Стадницким. Да и о чем говорить, если один борется за свободу и счастье родины (и это истина!), а другой есть продажная шкура и вор! Примерно такими же категориями мыслил и оппонент.
Но судьбе было угодно, чтобы паны сошлись не в разговоре, а в драке и, бренча саблями, прокричали в лицо друг другу все обидные слова. Тут все и разъяснилось. Поборники справедливости тут же написали общее гневливое письмо в Париж, но на этом не успокоились, а провели собственное расследование. Князь Гондлевский подсказал им имя – Шамбер.
Сами паны из-за солидных лет на разборку не поехали, послали сыновей с охраной. Убить подлеца, кожу с живого содрать, да я вот этой рукой сам всажу нож! И всадил, а потом охал всю дорогу, пока вез бездыханного Шамбера в крестьянской телеге – только бы не помер, сердечный, и не унес собой в могилу тайну пропавших денег.
До Варшавы француза довезли живым, но он был плох, очень плох. Догадались только посадить у одра человека, чтобы он слушал и записывал горячечный бред. Но ничего толкового не услышали. Шамбер все время твердил о покойном Викторе де Сюрвиле, просил у него прощение и даже упоминал о грядущей встрече. Оно и понятно. Все мы там встретимся.
Мог бы кое-что разъяснить спутник Шамбера, захваченный в ночной перестрелке. Но по дороге в Варшаву негодник сбежал. Как выяснилось позднее, он был всего лишь камердинером, а со слуги какой спрос. Когда Шамбер очухался настолько, что, глотая живительный бульон, узнал о побеге негодника, то не выказал ни радости, ни огорчения. Стало быть, и для дела невелика пропажа.
Поправлялся француз медленно. Рана, которая почиталась смертельной, благополучно затягивалась, но обнаружилась новая напасть. На вторую рану в мякоть ноги лекарь вначале и внимания не обратил. Шпага не задела кость, была неглубокой. Членовредительство вроде незначительное, но пошло воспаление. Появилась краснота, которая с устрашающей быстротой поползла вверх. Лекарь после осмотра больного закатывал глаза и твердил про «антонов огонь», то бишь гангрену.
Несмотря на болезнь, пленника допрашивали часто и жестко. Главные вопросы были – где деньги и кто писал вышеозначенные письма? Шамбер не просто все отрицал, он забалтывал любопытных поляков. Деньги вез Сюрвиль, а сам он поспешал в Россию и о письмах узнал случайно от посла французского Маньяна. Кем был убит несчастный Сюрвиль, он не знает, и думает, что вам, господа хорошие, это лучше моего известно. А в местечко N, где он был взят в крестьянской одежде, его привели дела службы. Служба эта секретная, и отчет о ней он даст только своему правительству.
Дело зашло в тупик. Франция сейчас не просто союзник, но последняя надежда Польши. Как же можно требовать отчета у верного агента Парижа? Здесь уже все права на его стороне.
Тем не менее сторожили Шамбера весьма тщательно. В особняке при пленном неотлучно находились три охранника, лекарь и два человека для услуг. У вельможных панов еще не пропала надежда получить свои деньги. Охрана охраной, но связь с внешним миром Шамбер наладил. Один из слуг, соблазнившись подарком (всего-то перстень с не ограненным аметистом), а главное – щедрыми посулами, стал выполнять нехитрые услуги француза. Вначале тайно купил хорошего вина, потом бумаги и чернил, а потом отнес по указанному адресу небольшое, в ладони уместится, но толстое письмо.
Из всех возможных вариантов Шамбер выбрал самый надежный. Он послал пакет аббату Арчелли, скромному итальянцу родом из Пармы. Аббат справлял в Варшаве католические требы, и никто не знал, что год назад он за солидную сумму был завербован как тайный агент эмиссаром Испании. Хочется сразу же рассказать о задании, полученном от эмиссара, но это замедлит наше повествование. Об этом после. Монах Арчелли еще появится на наших страницах.
Послание к аббату состояло из двух писем, вложенных одно в другое. В первом, состоящем из двух строк, Шамбер умолял Арчелли об услуге. Главным было второе послание. В нем Шамбер описывал свое бедственное положение, случившееся из-за наветов врагов, называл имена обидчиков и взывал о помощи, «дабы и дальше отдавать все силы души и тела на благо отечества». Это письмо Арчелли должен был отослать в Париж.
Париж откликнулся на призыв верного эмиссара и обещал помощь. Шамбер ждал кого угодно, но не обольстительницу мадам де ла Мот, кокетку и вертопрашку. Правда, до него доходили слухи, что среди верных подданных Флери, стяжавших славы на ниве тайного сыска, была какая-то молодая дама. Что-то она там ловко обделала в Швеции, обвела вокруг пальца самого Бернхарда Горна, но ему и в голову не могло прийти, что этим агентом может быть Николь, незадачливая родственница де Сюрвиля.
– Вы в Варшаве проездом? – спросил он, проверяя свою догадку.
Николь дернула плечиком и промолчала, но по пытливому быстрому взгляду зеленых глаз Шамбер понял, что прав.
Ну и дела… В Париже у мадам де Мот была веселая слава. Года два назад, или около того, еще генерал де ла Мот был жив, Шамбер попробовал волочиться за его хорошенькой женой, но получил отпор. Николь не играла в целомудренность, а без обиняков, впрочем, очень мило, сказала, чтобы он для своих любовных утех искал кого-нибудь побогаче.
– Я бедна, дорогой Огюст, поэтому могу дарить любовь только в обмен на дорогие подарки. Я вам просто не по карману.
Вот такие речи. Николь тогда почти не видели в свете, и генерал был уверен, что женился на скромнице. Это уже потом, похоронив мужа, она являлась в трауре на балах и сводила с ума поклонников. Никакого декольте, шейку подпирает вороник из черных кружев, волосы собраны под тюрбан, как у турчанки, она умела каким-то ловким образом так закручивать шаль, что только один локон выбивался наружу. Золотой локон и еще шаловливая ножка, вдруг мелькавшая в пене черных оборок, – все это было так соблазнительно! А теперь вдруг накинула плащ и стала играть в шпионские игры. Видно, на одни богатые подарки не проживешь, а Флери платил щедро. Не плохо бы узнать, какое задание она получила на этот раз.
– Вообще удивительно, как вас пропустили ко мне? – продолжал Шамбер, попивая вино.
– Я привезла бумагу за подписью… Впрочем, это не важно. Главное, вас завтра освободят.
– Чтобы перенести в госпиталь к доминиканцам?
– Ну, не так уж вы плохи… В Данциге тоже есть хорошие лекари.
– Но я не хочу в Данциг!
– Это меня не касается.
– Уж не хотите ли вы мне сказать, что я поступаю в ваше распоряжение.
– Нет, нет! Ни в коем случае! – Личико Николь приняло надменное и несколько отвлеченное выражение, мол, у вас свои дела, у меня свои.
– Но как же я попаду в Данциг?
– Отвезут, – бросила она беспечно. – Те самые люди, которые вас охраняют, будут теперь о вас заботиться. Но все это только мои догадки. Сейчас вы должны помочь мне – советом, не действием, – она подняла указательный палец, – как мне проще добраться до Стокгольма. Подскажите, какой из зафрахтованных кораблей можно считать надежным?
– Вам ли не знать, как попасть в Стокгольм.
– Я знаю. Через Зунд или Гамбург. Но сейчас другие времена. Я никогда не ехала в Стокгольм через Варшаву.
– Неужели вы попали сюда только из-за моей скромной особы?
– Какие глупые вопросы вы задаете, Огюст. Вам ли не знать, что я не могу дать на них ответ. Польша произвела на меня отвратительное впечатление. Но Австрия – еще хуже!
Николь вдруг словно прорвало. Куда-то делись ее загадочность и значительность, она жаловалась, словно девчонка, которую монашки в иезуитском пансионе оставили без ужина. Оказывается, в Австрии у нее были трудности с французским паспортом. С выборами Станислава Лещинского все с ума посходили. Австрияки выслуживаются перед Россией и в каждом французе ищут врага.
– Вообразите, милый Огюст, мне даже пришлось поменять карету. Поскольку моя карета французского образца, то ее останавливали у каждого шлагбаума. Пришлось купить старую немецкую колымагу.
– А свою бросить? – не утерпел Шамбер.
– Заберу на обратном пути.
Николь опять страстно принялась ругать австрийские гостиницы, плохую еду, нахальных горничных. Единственная удача в пути – это толково оформленная бумага. Не будь у нее на руках этой бумаги, ее бы вернули на границу Франции. Но в парижской канцелярии нашли великолепный предлог для вояжа в Польшу. Не совсем он был ей по сердцу, но все сработало.
Шамбер с улыбкой слушал Николь. У него было замечательное настроение. Сейчас можно забыть про озноб, предвестник повышающейся температуры. Он выкарабкается! Лекарь уже три дня смотрит на него с удивлением, щупает ногу и не верит, что болезнь отступила. Кроме того, он свободен, черт подери! Он все переиграл, и путеводная звезда его сияет так же ярко, как два месяца назад. А пока… появление прекрасной де Мот весьма кстати. Костыли не помеха. Теперь у него есть деньги ей на подарки. Не удалось в октябре, повторим попытку, скажем, весной.
– И что же это за предлог такой? – спросил он беспечно.
– Ладно, расскажу. Матушка покойного Виктора пожелала перенести останки сына в свой родовой склеп.
– Что? – Шамбер подался вперед, тут же заорал от боли, больная нога съехала с подушки, а серебряный бокал с вином вывалился вдруг из онемевших пальцев и со звоном запрыгал по паркету.
– Что вы так разволновались? Это хлопотно, дорого, но в канцелярии Флери помогли со средствами.
– Да кому вообще могло прийти в голову подобное? И почему именно вас выбрали на эту роль?
– А кого? Мать Виктора не умещается в карете, в ней сто килограмм веса…
Шамбер задавал вопросы совершенно машинально. Мозг его лихорадочно работал. Он должен опередить! Но как? На костылях он совершенно не в состоянии проделать столь трудную работу и вывезти деньги. Черт, дьявол! Ему нужны помощники, а где их взять? Может, Арчелли? Он, конечно, согласится, найдет нужных людей для работы, но во сколько это обойдется? Ведь ополовинят клад, сволочи!
Он плохо слушал Николь. Она призывала Шамбера вспомнить какого-то человека Виктора – слугу с заячьей губой, которому когда-то сделали надрез, но он все равно носит усы. Именно этот слуга и взял на себя все дорожные хлопоты. А когда приехали на место, то обладатель заячьей губы был просто незаменим. И вдруг эта фраза:
– Слава мадонне, не мне надо было опознавать труп. Он первый полез в могилу. Могильщики вылезли, а он прыгнул вниз. И тут выяснилось, что крышка гроба даже не прибита.
Только тут Шамбер понял, что опоздал. Все случилось без него. Сейчас он услышит самое интересное. Удивительно, но он совершенно успокоился. Только злоба, словно обручем, давила на сердце и на лбу выступила испарина. Николь вдруг умолкла, глядя на него с удивлением.
– Вам плохо? – спросила она шепотом. – Позвать лекаря?
– Нет, нет… продолжайте ваш рассказ.
– А что продолжать? Это было ужасно. Я не удержалась, тоже заглянула вниз. Виктор лежал в гробу лицом вниз, в грязной рубаке. Как падаль, честное слово. Ксендз клялся, что похоронили по всем правилам. Ничего себе правила! Святому ясно, могилу Виктора вскрывали.
– Кто? – прошептал Шамбер одними губами.
– Вот именно – кто? Я закатила сторожу грандиозный скандал. Он совершенный идиот. И пьяный. И я плохо понимаю по-польски. Одни шипящие – пеш, беж… Сторож сказал, что все интересовались могилой де Сюрвиля. Кто такие – эти «все»? Тут вмешался ксендз и рассказал, что в октябре в их места приезжали двое русских. И один из них год назад был попутчиком Виктора в этой злополучной карете.
– Воры, – прошептал Шамбер, откинулся на подушки и закрыл глаза. – А больше в могиле ничего не было? – спросил он вдруг.
– Огюст, вы говорите загадками. Что еще могло быть в могиле несчастного Виктора. Продолжим наш разговор завтра. На вас лица нет.
3
О, Огюст Шамбер, великий маг, чародей и выдумщик.
Как быстро он умел ориентироваться на местности!
Цепкий взгляд его сразу видел, как надо группировать силы, чтобы обмануть противника. И проигрывать он умел, не теряя при этом достоинство. А тут вдруг и потерял…
Беседуя с Николь, Шамбер держался изо всех сил, но как только остался один – дал волю своему гневу. Мало того, что он смел со стола на пол чашки и кувшин с остывшей водой и разбил бутыль вина об стену, он еще непонятно как допрыгал до окна и растворил его – воздуха не хватало, право слово. Через мокрую от дождя решетку на Шамбера безучастно смотрел чужой мир.
На шум явился слуга. «Пошел вон!» – заорал до этого кроткий пленник, и озабоченный охранник, пятясь, покинул помещение. Вы знаете, что такое истинная ненависть, господа? Это не только злоба, это состояние, чем-то близкое к омерзению. Словно пугливой барышне запустили за пазуху мышей и она носится по комнате с визгом, готовая вот-вот хлопнуться в обморок. Именно такое чувство испытывал Шамбер к Матвею Козловскому. Рухнули планы на будущее, сорвалось главное предприятие жизни, все мечты прахом. В том, что мешки с деньгами украл из могилы именно Козловский, Шамбер не сомневался. Можно, конечно, предположить, что кто-то из местных, скажем дурак кладбищенский сторож или трактирщик из «Белого вепря», тот еще плут, разрыли могилу. Но это невероятно. Интуиция подсказывала, что именно князь Матвей, хитрец с лицом простофили, баловень судьбы, петиметр и злодей похитил его богатство. Ну, умник, это тебе с рук не сойдет!
Обретя свободу, Шамбер не мог ей воспользоваться. Что толку, что лекарь перестал канючить про ампутацию? Этот мясник так искромсал ногу, отрезая от икры «гнилую ткань», что вообще непонятно, сможет ли он полной силой ступать когда-нибудь на правую конечность. Без бинтов нога была худой, как палка, пальцы скрючены, словно судорогой сведены. Хорошо хоть горячка отступила, а ноге вернулась утраченная было чувствительность.
Через неделю или около того после отъезда Николь к Шамберу явился молодой пан Вишневецкий и вежливо осведомился о самочувствии больного. Шамбер собрал в кулак все свои физические и духовные силы, стараясь не выглядеть жалким, и это ему удалось. Разговор вышел вполне светским. Как бы между прочим пан поведал о своем восторге по поводу того, что пленник обрел долгожданную свободу (и даже не покраснел, стервец, сам же кинжал всадил пленнику меж лопаток!). Далее тем же медоточивым тоном было объявлено, что особняк остается за Шамбером до полного его выздоровления, за ним же остается штат слуг, готовых выполнить любую его просьбу. О Данциге не было сказано ни слова.
Просьбы у Шамбера было две: бумагу, чернила и воск для печати, а также возможность гулять по городу в карете утром и вечером. О, конечно, все непременно, любое ваше желание для нас – закон!
– Поправляйтесь, – сказал Вишневецкий перед уходом.
«А как же, сукин сын!! Вам не удастся меня со света сжить», – мысленно отозвался Шамбер, а вслух сказал:
– Вашими молитвами… благодарю вас.
И что теперь? Ближайшая задача – встать на ноги, а это значит лекарства, свежий воздух, хорошая пища и спокойное состояние. Об эмоциях надо на время забыть, эмоции для Огюста Шамбера – непозволительная роскошь. В состоянии полной безмятежности будем решать главную задачу – как сокрушить Козловского и вернуть деньги.
Для этого, как минимум, необходимо вернуться в Россию. Это сложно. Дипломатические отношения прерваны, идет война… В том, что Козловский прикарманил вырытое из могилы богатство, Шамбер не сомневался. Предстоящая игра сулила сложности. После зрелого размышления Шамбер решил косвенно привлечь к интриге Бирона. Если придется прибегнуть к шантажу, имя всесильного фаворита – лучший гарант.
На этот раз он написал одно письмо, но для верности сделал с него копию. Нанося на бумагу буквы, Шамбер благодарил Бога, что шпага проткнула ему правую ногу, а не левую ладонь. Впрочем, он и правой рукой мог подделать почерк, но в данном случае игра должна была быть беспроигрышной.
И письмо, и его дубликат необходимо было отправить в Париж. Адресат был частным лицом, жившим на той же улице, где находилась канцелярия Флери. Текст послания, равно как и пароль в конце, сообщал с полной достоверностью, что письмо писано в Петербурге господином В., русским, из близкого ко двору круга. Шамбер хорошо знал агента – любителя, скупого рыцаря, из-за копейки удавится. Писал он редко, но метко, в Париже его ценили. И сообщал этот агент В., что деньги, отправленные год назад для польских нужд, отданы тайно в руки их сиятельству графу Бирону. Далее… «достоверно известно, что их сиятельство за те деньги Франции благодарен и готов служить ей верой и правдой».
В чем значение этого послания? На этот раз Шамбер решил использовать и личные каналы аббата, и обычную почту. Пусть одно письмо пойдет в Париж непосредственно из Австрии, а дубликат с почтовой каретой из Варшавы. Уж какая-нибудь депеша точно дойдет до места, но главный смысл был в том, что о содержании письма узнают не только в Париже, но и в Петербурге. Шамбер делал ставку на австрийский «Черный кабинет».
Считается, что читать чужие письма стыдно. Традиция эта очень устойчива, что даже непонятно, из каких далей таких она перекочевала в наши дни. Но государство испокон веков смотрит на эту привычку иначе: читать чужие письма необходимо, дабы эта практика способствует усилению власти и помогает избежать многих бед, этой власти грозящих. Поэтому сразу же, как только возникла почта, началась государственная перлюстрация писем. Далее эта наука совать нос в чужие дела совершенствовалась, а в XVIII веке достигла истинной высоты.
И в России существовал «Черный кабинет». Он появился стараниями канцлера Бестужева, и последний при помощи перлюстрации смог сокрушить многих врагов России, мнимых и явных, а также извлечь личную выгоду. Неугодного маркиза Щетарди, французского посла и, кстати, любимца Елизаветы, Бестужеву удалось выслать из Петербурга в двадцать четыре часа. И все благодаря тому, что канцлер принес императрице выдержки из депеши Шетарди в Париж. На словах-то маркиз был льстив и угодлив, а в дипломатической депеше разоткровенничался, написал, что государыня проста, ленива, любит простые щи, спит где попало и прочая, прочая…
Благодаря «Черному кабинету» канцлер Бестужев и удержался на своем посту семнадцать лет. Но если смотреть на историю почти объективно, то в первой половине XVIII века пальму первенства в умении вскрывать чужие письма надо отдать двум государствам: Франции и Австрии. Вот уж филигранно работали там подданные!
Работники этой секретной канцелярии были не прос то обеспеченные, а богатые люди, но словно обитатели нашего Арзамаса, жили в золотой клетке. За их частной жизнью был обеспечен негласный надзор, они дважды принимали присягу, не имели права выезжать из города, поддерживать родственные связи и заводить новые знакомства. В Австрии должность перлюстраторов вообще передавалась по наследству, то есть сына с младых ногтей приучали к тайне и умению ее хранить.
В Париже «Черный кабинет» – это неприметный особняк на тихой улочке, он всегда заперт, в нем трудятся пять-шесть сотрудников – не больше. В Австрийской империи сеть почтовой секретной службы была раскинута на более обширное пространство. Она называлась «Тайная канцелярия кабинета». В крупных городах каждая почтовая станция имела «почтовую ложу». Ложисты, как их называли, проводили тщательную сортировку получаемой корреспонденции, отбирали письма, которые могли представлять интерес. Затем, уже в условиях лаборатории, удалялась печать, с текста делалась копия, потом письмо опять запечатывалось и отправлялось по адресу.
Интерьер секретной лаборатории напоминал подвал алхимика. Стеллажи, пюпитры, колбы, перья, кисти, чернила обычные и бесцветные, горелки. В шкатулках хранились подушечки для оттисков, они изготовлялись из специальной мастики или хлебной мякины, пропитанной связующим составом. Кроме того, здесь имелись всевозможные печати, бумага любого цвета и формата – всего не перечислишь.
Перед вскрытием письма с его печати мягкой амальгамной пастой аккуратно делали оттиск. Затем, чтобы размягчить печать, письмо укладывали на тонкую решетку с горелкой. Печать удалялась тончайшим лезвием. По прочтении письмо опять запечатывалось точно такой же печатью и покрывалось тем же лаком. Во Франции даже королева-мать жаловалась, что почта беззастенчиво читает ее письма. Шамбер тоже был уверен, что и его письмо не оставят без внимания.
Все так и получилось и дало свои результаты. Но об этом после.
4
«Господи, какая сопливая погода стоит в ненавистном городишке Данциге, а также в пригородах его! В отечестве в марте не в пример веселее. По подоконникам стучит капель, сосульки блестят, как драгоценные сережки. Дороги еще не развезло, по накатанному пути сани сами катятся, а тут хляби, грязи и топи. И черта я бросился за солдатами вытаскивать гнусную телегу? Одно название – провиант, а на деле под дерюгой всего лишь гнилые сухари да подмокшая ржаная мука. Изгваздался под самую маковку, да еще, идиот, ноги промочил. Теперь жди простуды. И еще жрать охота, а от вчерашнего гуся осталась одна тощая нога» – так думал Матвей Козловский, валяясь на неприбранной кровати и пялясь в мутное оконное стекло, по которому, резво догоняя друг друга, бежали капли дождя. Слезящееся оконце натолкнуло на мысли о Клеопатре. Сестра вот эдак же умела слезы лить, откуда только в женском организме скапливается столько влаги?
Сейчас Клепка небось не плачет, живет в Отарове и радуется. Славная мыза! Правда, все требовало починки, и сестра, засучив рукава, бросилась в работу: полы в угловой комнате перестелить, оконца на пролив пошире прорубить, обои сменить и прибить не абы какими гвоздями, а с медными шляпками, и еще высотой в аршин замострачить панель из темного дерева. Князь Матвей и не предполагал в Клепке такой хозяйственности. Родион только руками разводил и посмеивался – в доме у нас Клепушка хозяйка, как она задумала, так и будет. Сейчас, наверное, сидят в теп лой горнице возле печи. Печь у них славная, с уступами и колонками, вся изукрашена синим изразцом. Сидят у печи и смотрят на залив. Закатное солнце освещает стволы сосен, лед на заливе бирюзовый. Красиво…
Погодите, дайте сообразить. Дома ведь сейчас Масленица! Матвею представился золотистый, только что снятый со сковороды блин. Он мысленно расстелил его на тарелке, плюхнул ложку мысленной сметаны и аж застонал от тоски.
Полк Матвея – полевой драгунский – прибыл на позиции без малого месяц назад. Разместились вполне благополучно. Матвей обосновался рядом со штабом в местечке Пруст в версте от города. Что там не говори, а квартиры у офицерских чинов вполне приличные. Про солдатское жилье такого не скажешь, но на то он и солдат, чтобы полной мерой нести тяготы военной жизни.
Впрочем, солдат тоже жалко. Какое им дело до экс-короля Станислава Лещинского, который укрылся за стенами Данцига и ждет теперь военной помощи от Франции, чтобы вернуть потерянный польский трон.
Командующий русской армией, человек достойнейший, генерал Ласси, не мог привести под стены Данцига большую армию. Несмотря на то что в Польше сейчас находилось пятьдесят тысяч русских солдат, Ласси взял на осаду мятежного города всего четверть от общего состава. Двенадцать тысяч – это же курам на смех! Откуда взять больше? Варшаву нельзя оголять. Там хоть и признали королем Августа III, но конфедераты, сторонники Лещинского, только и ждут своего часа, чтобы нанести ответный удар.
Кажется, зачем ввязываться богатому Данцигу в польскую смуту? Уже триста лет зовется он вольным городом. Это раньше Данциг подчинялся ордену крестоносцев, а пос ле Грюнвальдской битвы город перешел под протекторат Польши и получил большие привилегии. Теперь Данциг сам выбрал себе чиновников, имел право судить своим судом и сам чеканил монеты, был свободен от пошлин и налогов. У города также было право выбирать польского короля и самостоятельно решать вопросы войны и мира.
И Данциг воспользовался своим правом, он, вишь, доверяет больше Франции, чем России, а потому Лешинский сидит за крепостной стеной, окруженной валом с двадцатью двумя бастионами, и еще рвом, наполненным водой. Две ощетинившиеся пушками цитадели, Бишофсберг и Гегельсберг, берегут былую славу Лещинского, выкури его из Данцига, попробуй. Дело совсем не кончено, господа!
Теперь в русском стане все ждут нового главнокомандующего. Развели немыслимую секретность. Из Петербурга пришла депеша, де, едет с тайным поручением и ревизией артиллерийский полковник Беренс. Через два дня вся армия знала, что никакой это не Беренс, а их сиятельство граф Миних изволят приехать. И никакого тебе «Черного кабинета», которым так славятся цесарские и прусские дворы, никакой тебе перлюстрации писем, а все простая русская душа и болтливый язык, а еще скука смертная в купе с надеждой на лучшие времена.
Стукнула дверная колотушка, где-то в отдалении залопотали по-немецки, а потом прямо в горницу, широко ступая грязными сапожищами, ввалился Васька Крохин. Вид у подпоручика был как с большого бодуна, на воротнике сальное пятно, словно маслом капнули, вызолоченный крючок на епанче вырван с мясом и держится на одной нитке, но выражение лица радостное, восторженно приподнятое.
– Матвей, слышал новость? Миних уже в Мемеле. Завтра-послезавтра будет здесь. Вначале смотр по всем правилам, потом совет, потом попируем, как люди! Уж наверняка с Минихом провиантский обоз идет.
– Разевай рот шире. Какой обоз, если Миних морем приплыл? И на пьянку не рассчитывай. Я характер Миниха знаю. Сейчас начнет орать и глаза выкатывать. До него все делали неправильно, один он знает, как правильно делать. Ты бы, Вась, сапоги снял, поберег хозяйские половики. Хозяйка на меня и так Змеем Горынычем смотрит.
– И пусть! Нечего нам с ними церемониться! Они нашего Августа за короля не признают.
– Каждый волен выбирать, кого хочет.
– Вот я уже и выбрал, – Крохин подмигнул заговорщицки и вытащил из-за пазухи водоносную фляжку, как говорится, «у него с собой было».
– Закусон есть?
Сели, «как люди», выпили, закусили. С одной фляжки не напьешься, но настроение поднимешь. Нет, господа, жить можно! Васька хоть и человек ума недалекого, но верный товарищ, в карты не передергивает и если попросит в долг, то непременно отдаст. И с денщиком Матвею повезло. Как его там… Егор, нет, Евграф. Огромный детина, косая сажень в плечах, а одышливый. И еще альбинос, волосы, брови – все белое. Видно, со здоровьем у него не все в порядке. Но не комиссовать же его в военное время. Это он на поле брани задыхается, а когда за гусем гонится, то поспешает замечательно. Матвей с полным нашим удовольствием купил бы этого гуся, но ведь не продают, вражьи души. Вчера Евграф злополучную птицу так ловко ощипал и зажарил. И еще, оказывается, щей наварил и фасоль потушил с потрохами.
– Ты бы, Вась, привел себя в порядок. Миних первым делом смотр войскам устроит, а ты весь какой-то расхлюстанный.
– Пора уж, я и сам чувствую. Одолжи на недельку Евграфа, а? Пусть он моей амуницией займется.
Тут самое место рассказать еще об одной особенности белобрысого денщика. Он был известный в полку аккуратист и знал досконально вооружение и обмундирование полков гвардейских, пехотных полевых, полевых драгунских, кирасирских, а также про ландмилицию. Разбуди его ночью и спроси про малый приклад, он тебе одной фразой отрапортует: «Малый приклад есть патронная сума с жестянкой для патронов и двумя железными кольцами на боках для прикрепления лосиной перевязи, а также натруска в виде рога с медной оправой для насыпания пороху, а также водоносная фляжка из двойной жести с четырьмя яловочными ремнями…» Не забудет и медный шомпол к фузее, и штык, и замочную завертку… ну и все!
Или вопрос посложнее: «Какова форма рядового фузелера пехотного полка?» И тут же подробный ответ, в устав заглядывать не надо: «Рядовой фузелер имеет темно-зеленый кафтан, с отложным воротником, обшлагами, оторочкою петель и красным подбоем. Камзол, штаны и епанча красные же; последняя с верхним воротником и подбоем синим. А также белые, холстинные штиблеты с белыми же, обтяжными пуговицами и белыми подвязками. К рубашечным рукавам манжеты. Башмаки тупоносые, а для походного времени сапоги. Шляпы обшиты по краям полей шерстяным галуном в полвершка шириною без шнура, а на левой стороне у верхнего края назначено иметь белый шерстяной бант или кокарду с медною камзольною пуговицею».
Евграф был записан в солдаты еще отроком и начал свою военную карьеру в доме известного генерала, здесь же он самостоятельно выучился грамоте, пристрастился к рисованию и еще забил голову кучей ненужных знаний. Генерал был членом Военной комиссии, которая занималась переустройством и улучшением армии. Чиновники писали циркуляры, штабные писари старательно переписывали их, а художники усовершенствовали военные костюмы, скругляя поля шляп, перенося опознавательные кукарды слева направо, меняя цвета офицерских шарфов, а также внося новые подробности в полковые гербы и штандарты.
За какую-то провинность Евграф был сослан, как говорили тогда, на театр военных действий. Он попал в совершенно новые условия, где носили мятые кафтаны, нечищеные сапоги, забывали пудрить парики и правильно обвязывать косы на затылке. Здесь они не оплетались, как положено по уставу, черной кожей, а заматывались дрянным вервием. А холстинные штиблеты-манжеты, а галстуки – ведь одно название, что белые! Срам, да и только. Но знания-то об идеальной армии остались, их просто так из головы не выметешь. Сейчас сказали бы – хобби. А денщик, хоть и не любил воевать, находил особую красоту в военном строе и выправке.
Обмундирование Матвея Евграф содержал в образцовом порядке, но лишней работы не любил, а потому просьба Крохина как бы повисла в воздухе, не поддержанная толковым ответом.
Крохин ушел глубокой ночью. Матвей тут же завалился спать. Он уже видел сон – все луга какие-то да ручьи с изящно изогнутыми мостками, отдаленно напоминавшие женское бедро, – когда от приятного зрелища оторвал его непонятный звук. Со сна Матвей не сразу сообразил, что стучали не в дверь, а в окно, стучали меленько, настойчиво, и стекло методично позвякивало, как плохо притороченная в повозке посуда.
Матвей всмотрелся в сумрак. Неведомый мужик в круглой с малыми полями шапке знаками просил, чтобы он открыл окно. Но это уж что-то совсем выходящее из ряду! Матвей показал мужику кулак, но тот вскинул руки, как бы показывая, что не вооружен и вообще не имеет плохих намерений, и вдобавок состроил гримасу, отдаленно напоминающую улыбку. Темно ведь, не разглядишь, скалится он, подобно волку, или полон радушия.
Что делать, пришлось открыть. Вместе с мартовским холодом через окно как-то очень ловко и неслышно перевалилась фигура пришельца, одетого в какую-то дерюгу, словом, очень невзрачного. А по выговору отнюдь не крестьянин. Гость еще вторую ногу до полу не донес, а уже зашептал, поднося палец к губам:
– Тихо, только тихо. Дело секретное. Князь Козловский, я не ошибаюсь?
– Ты кто? – тупо спросил Матвей, пытаясь зажечь свечу.
– Ой, трудно я до вас добирался, – прокряхтел незнакомец, не отвечая на вопрос.
– Да зачем я тебе понадобился?
– Тихо, не кричите. Вот бумага. В ней написано, ваше сиятельство, что вы должны помогать по мере сил подателю сего.
– Я никому ничего не должен, – отчеканил Матвей ледяным тоном, но звук все-таки приглушил. – Извольте, сударь, – он особенно напирал на это обращение, – назвать себя или я вас выставлю вон.
– Зря вы горячитесь. Я агент на службе государства Российского. С вами я знакомства не имел, но с Родионом Андреевичем мы славно послужили Отечеству. Петров моя фамилия.
– А… Так вы тот самый?..
– Тот самый.
Матвей вдруг страшно обиделся: и на судьбу, и на дождь за окном, и на неприступный Данциг, а более всего на этого невзрачного человечка, на котором крестьянская одежда сидит так, словно он ее век носил. Шляпа мокрая, руки от холода красные, как гусиные лапы, а рожа выражает полную невозмутимость и довольство собой.
– К делу тайного сыска я никогда касательства не имел… Я дворянин, поручик, воин, если хотите. А то, что мы с Родькой ездили в Польшу с тайным заданием, еще ни о чем не говорит. Я тогда просто шкуру свою спасал.
– Это понятно, ваше сиятельство. Но ведь жизнь как устроена. Кто хоть раз шкуру свою в ломбард снес, тот непременно еще раз понесет. И становится сей человек как бы вечным должником. Вы не переживайте так. Кто-то ведь должен во время войны нашим информацию поставлять. И смею вас заверить, этим занимаются вполне достойные люди.
Сам того не ведая, Петров перефразировал одного из лучших агентов своего времени – Даниеля Дефо. Автор Робинзона Крузо сказал: «Шпионаж и сбор информации – это душа государственных дел!»
Но Матвею не хотелось вникать во все эти тонкости. Он с грустью смотрел на пламя свечи и думал – что потребует у него этот невзрачный человечек? Может быть, надо будет сейчас вместе с ним выйти в ночь и бежать куда-нибудь по темной дороге, а то и ползти ужом по грязи, высматривая из-за кочки продвижения за вражескими редутами. Но Петров повздыхал для приличия, а потом не выдержал:
– У вас пожрать чего-нибудь нет? Горяченького… Я последний раз утром ел.
Сговорились они все, что ли? Матвей заглянул в котелки. Фасоль выскребли до дна. Но щи были еще теплыми. Краюха хлеба не то чтоб очень велика, но на перекус хватит.
– Мне, конечно, с Родионом Андреевичем было бы сподручнее, – разглагольствовал Петров, ловко орудуя ложкой. – Надежный человек, но нет его.
Поел, вздохнул и перешел к деловой части разговора.
– Шамбер в Данциге.
– Так он жив? – не удержался от восклицания Матвей.
– А что ему сделается. Эта порода живучая. Хромает только. Палка у него знатная – металлическая с набалдашником, покрытым зеленой кожей. Он чуть из-за этой палки не попался, но обошлось.
– Слушайте, Петров, говорите толком. Я ничего не понимаю. Что обошлось?
– Я их сиятельством приставлен к оному Шамберу, как нитка к иголке. Моя задача следить за его поступками и передвижениями и доносить куда следует. А Варшаве Шамбер лечился от ран и жил в особняке под охраной. А с палкой вот какая штука приключилась. Шамбера привезли в Данциг тайно с крестьянским обозом. В город трудно попасть, а выйти из города еще труднее. Пускают только попов, нищих и женщин. А хромого Шамбера разве что нищим можно было нарядить. Но отказались от этой затеи. Уж очень он заметен.
– Да вы-то откуда знаете, что поляки хотели и почему отказались?
Петров поднял палец:
– Потому что внимателен и слушать умею. Я хороший агент. Так вот. Шамбер в сене сидел. Русская охрана обоз осмотрела и пропустила. Палка эта с набалдашником из сена торчала, но солдат, по счастью, ее не заметил. Сам я прошел в Данциг без помех, поскольку назвался местным жителем. Крестьянское сословие в город пока пропускают. Теперь я буду в Петербург доклады писать, а вы при мне как бы связной. Ясна задача?
«Не слабо, – прошептал Матвей и мысленно повторил по-французски, – па феблема!»
Далее Петров сообщил, что сюда вот-вот приедет Миних со свитой и канцелярией. Так вот в канцелярии у фельд маршала есть секунд-майор по имени Боборыкин. Матвей должен этого Боборыкина найти и передать ему пакет. То, что Петров называл пакетом, оказалось туго свернутыми листами бумаги, обернутыми в льняную ткань.
– Найдете Боборыкина, скажите ему такие слова: «Евграф вам с детками привет передает».
– С какими еще детками?
– Вы запоминайте, потому что это словесный, шпионский шифр.
– Ладно, запомню. У меня денщика Евграфом зовут.
– Вот и славненько. Пакет отдадите без всяких объяснений. Боборыкин сам знает, что с ним надо делать, а вам лишние знания ни к чему. А теперь я пойду, пожалуй.
5
Фельдмаршал Миних со свитой явился под Данциг пятого марта. Его сопровождал прусский конвой. Как предсказывал Васька Крохин, тут же был созван военный совет, но прошел он быстро и без надлежащей важности. Куда более ярко выглядело отправление к стенам осажденного города трубача и офицера с прокламацией. Этот документ, написанный решительно и напористо, призывал жителей Данцига немедленно отступиться от Лещинского и впустить в город русскую армию. На раздумывание было дано двадцать четыре часа.
Мог бы фельдмаршал и один час дать, итог был бы тот же. Данциг уже поставил на Францию, и передумывать не собирался. Конечно, это большой риск, но стены города были хорошо укреплены, а обещания маркиза де Монти так зазывны. Обыватели поверили французскому послу и его армии и сами пошли в добровольцы. Из Парижа прибыли в Данциг французские инженеры. Швеция тоже поучаствовала в общем деле, выслала в город сто отлично экипированных офицеров.
Миних созвал второй совет. На нем он высказал мнение, что с городом надлежит поступать без всякого сожаления, то есть бомбить и атаковать. Беда только, что бомбить нечем, артиллерия еще не подошла и неизвестно, когда будет. Ласси поддержал фельдмаршала в том смысле, что мало того, что артиллерии нет, так и войска недостаточно. Необходимо перевести под стены города армию из Варшавы, а также пополнить ряды за счет саксонцев и самих поляков.
Миних со всем согласился, вздохнул и приказал строить редуты, но при этом не отказался от идеи еще раз попробовать силы. В конце недели была предпринята атака на богатое предместье Шотланд. Предместье было хорошо укреплено, и успех русских объяснялся только внезапностью нападения. Сто человек неприятеля было убито, но главное, были захвачены пушки и склад оружия. На следующих дней из этих самых пушек уже лупили по Данцигу трофейными ядрами. Были также захвачены магазины (по-нашему склады) с продовольствием. Словом, вылазка удалась.
Матвей Козловский тоже принимал участие в битве за Шотланд. Погода была хреновая, дождь лил как из ведра. На море был шторм, а потому вечер с залива дул просто с сатанинской силой. И все это ночью, господа, темно, глаз выколи! Но настроение было великолепным. Единение с солдатами, крики «ура!», эдакая резвость во всем теле и порыв! Страха, что убьют, не было, все затмил собой восторг битвы.
На следующий день, отоспавшись, но не растратив хорошего боевого настроения, князь Козловский пошел искать секунд-майора Боборыкина. Нужно, наверное, было раньше это сделать, но ноги не несли. Матвей канцелярию обходил стороной, поскольку всеми силами старался забыть, что он, князь, согласился делать карьеру на сыскном поприще. Это уж, господа, ни в какие ворота! Хотя, с другой стороны, идет война, а потому он не в праве выбирать, где служить отечеству. Шамбер этот вор, гад и дрянной человек. Но одно дело с другом Родькой за ним следить и совсем другое запоминать пароли и выполнять неведомо чьи приказания. А вообще то… ладно, не его ума это дело!
Встреча произошла в тесной проходной комнатенке рядом с канцелярией.
– Майор Боборыкин?
– Так точно. Сударь, мы, кажется, знакомы? Князь Козловский, если не ошибаюсь?
И тут Матвей вспомнил. Как же, как же, с этим самым Боборыкиным год назад, нет, уж полтора наверняка будет, они обивали порог у прелестнейшей из женщин, как бишь ее фамилия? Да и не нужна фамилия, имя запомнил и хватит. Настасья Григорьевна ее звали. Веселое было время! Компания собралась человек семь-восемь. Карты, музыка, даже танцевали на крохотном пятачке. Гостиная у прекрасной была немногим больше, чем стойло в конюшне. Этот Боборыкин, верзила с постной физиономией, все норовил читать стихи собственного сочинения. Были в тех виршах «амуры, розы, грудь Дианы, лира сладострастная и мысли летящи». Хорошие стихи.
И вот теперь Матвей должен сказать столичному пииту дурацкую фразу про Евграфа, которая суть пароль.
– Вот ведь встреча! – продолжал Боборыкин. – Я и не знал, что вы здесь, так сказать, в первых рядах.
– Вместе будем воевать…
– Не получится, – сказал штабист с явным сожалением. – Я днями уезжаю назад в столицу. Сопровождаю курьера при депеше фельдмаршала.
– Депеша, значит, – проблеял Матвей. – Здесь вот какая штука. Вам имя Евграф что-нибудь говорит? Так вот, оный Евграф вам привет передает. И не один, а с детками. Вот так правильно будет.
Пиит вдруг смутился, покраснел, потом опустился на лавку, словно ноги его не держали. «Что это он? Испугался?» – подумал Матвей и опять завел, старательно выговаривая слова, словно разговаривал с ребенком или иностранцем:
– Или вы меня не поняли? Евграф с детками…
– Да понял я все, понял! – прикрикнул Боборыкин и прошептал Матвею в ухо: – Давайте вашу цидулку.
– Почему это – мою? – надул губы Матвей. – Меня просили передать, я передаю. И писал не я… – Он вытащил послание Петрова из кармана.
Какой-то малый чин пробежал озабоченно в сторону канцелярии. Боборыкин сразу принял отвлеченный вид, даже засвистел что-то, пытаясь изобразить немудрящую мелодийку. Как только дверь за случайным свидетелем захлопнулось, Боборыкин воровато оглянулся по сторонам, резким движением схватил тайную бумагу и спрятал под мундир.
– В следующий раз передавайте секретные послания не прилюдно, – прошипел он Матвею в лицо.
– Следующего раза не будет, – Матвей хотел сменить тему разговора и вспомнить давние совместные подвиги, но Боборыкин поспешно вышел.
Что это секунд-майор так разнервничался? Стесняется, а может, боится? Матвею и в голову не приходило, что в самой передаче секретного письмо может таиться опасность. Ну да ладно. Передал бумагу, и с плеч долой. Далее будем защищать Россию на весьма отдаленных ее рубежах не таясь и с полным достоинством.
Знал бы секунд-майор содержание шифрованного письма, он бы не нервничал. Агент Петров в нем кратко сообщал, что продолжает слежку, и умолял прислать ему денег на рабочие нужды. В депеше от фельдмаршала, которую Боборыкин вез в Петербург, тоже было не много смысла и совсем мало правды. Миних писал императрице: «Каждый день с авантажем один пост за другим счастливо отбираю у неприятеля…», а на деле солдаты собирали неразорвавшиеся ядра, пущенные с данцигских укреплений. Потом из этих ядер доставали порох. Чтобы заинтересовать солдат в опасном промысле, Миних платил за каждое такое ядро по три копейки. Каждую ночь делались вылазки то с одной, то с другой стороны. Матвей вместе со всеми бежал вперед, махал шпагой, падал на землю перед летящим ядром и полз ужом, а потом возвращался в дом голодный, замерзший и злой. Ну, кто так воюет?
Но князь Козловский человек подневольный, все знают – солдат всегда прав, а виновато во всем начальство. А фельдмаршалу было трудно. Право слово, Миниха можно пожалеть. По природе своей он был работоголиком, вся его натура звала к действию, а обстоятельства, кажется, так и били по рукам.
С крепостных стен беспрестанно стреляли в русские апроши. Глупейшая история! Численность армии в осажденном городе в три раза больше, чем осаждавших. Это по всем военным законам чистый бред. Меж тем в Варшаве без дела болтается большая часть русской армии. Миних послал жесткий приказ генерал-майору Люберасу выступить с полками и присоединиться к армии Миниха.
Наконец в помощь русским пришли давно ожидаемые саксонские полки под руководством герцога Вейсенфельд-ского: восемь батальонов и двадцать два эскадрона. Они встали лагерем и тут же приступили к строительству траншей. Воевать они не торопились. В логике саксонцам не откажешь: «Вы, господа россияне, справедливо помогли нашему королю занять польский трон, за что вам большое спасибо. Но сейчас Август III сидит в Дрездене, оттуда Польшей управлять вполне сподручно, а осада Данцига и разборки с Лещинским по большому счету – дела русских. Вот пусть о них Миних и печется».
Артиллерии все не было. Пушки со снарядами могли попасть в армию двумя путями – водой и сушей. Наш флот стоял в Пилау и пока еще лишь готовится к навигации. Где-то там лед не полностью сошел. Доставить пушки сушей можно только через Пруссию, но король Фридрих Вильгельм объявил твердый нейтралитет. В Берлине послы русский и французский (Ягужинский и Шетарди) дышали королю в уши и сулили неисчислимые выгоды, но король стоял на своем – ни русским, ни французам он не в чем помогать не намерен.
Миних сам затеял переписку с Берлином и не стеснялся в выражениях. Анна в письмах отечески журила своего фельдмаршала, тем более что тон его отчетов по текущим событиям изменился. Заверения, что «солдаты всем обеспечены, а фуража хватит до травы» обернулись своей полной противоположностью. Теперь Миних писал в Петербург, что в армии нет солдат, продовольствия, пушек, пуль, пороха, рубах, обуви, медикаментов, корпии, лекарей, инженеров и подручного материала. Ну, совсем некому строить равелины, штурмфалы и кронверки с контрэскарпами и гласисом! А французы не дремлют, того и гляди пришлют осажденному городу подкрепление.
Бирон все доношения Миниха читал и в разговоре при каждом удобном случае предсказывал предприятию с Данцигом гибель. Он говорил об этом как бы в шутку, но каждый понимал, фаворит страстно желает фельдмаршалу поражения.
– Князь, пожрать есть?
– Налим жареный.
– Откуда такие деликатесы?
Матвею не хотелось рассказывать Ваське, как пройдоха Евграф достает рыбу. На берегу Вислы русские построили редут, дабы отрезать неприятелю сообщение между городом и крепостью с гаванью Вейксельмюде. В этом месте река была узкой, суда проходили здесь с большим трудом, а заводи рядом – отменные, а там щуки, судаки и прочее. Евграф вошел во грех, украл лодку и перекрасил ее, чтоб не нашли.
– Князь, а выпить?
Ну что за напасть такая! Придешь к Крохину, спросишь:
«Перекусить что-нибудь найдется?», и он твердо ответит: «Нет». И в глаза тебе смотрит, и ты знаешь, что с этого ответа он не свернет, и не будет шарить по шкапчикам и баулам, а там разберись – правду он говорит или врет. А Матвей изведется, но последнее отдаст. Уж если совсем дом пустой, предложит сало залежалое с хлебом. И Крохин смолотит все за милую душу. Да еще добавит, мол, у тебя, князь, денщик хороший, а у меня вор. Да что у тебя, подпоручик, красть-то?
На это раз Крохин как мог, подлатал и почистил форму, но все равно сидела она на нем, словно сосед дал поносить. Худющий, как фонарный столб, лицо длинное, нос узкий с вмятиной, глаза острые, любопытные и руки непомерной длины. Этими руками только бы карпов ловить, но это Крохин делать не умеет, зато гениально выуживает другое – штабные сплетни.
– Мотька, слышишь, – он вкусно обсасывал рыбью кость – все, пустое блюдо, – слышишь, что я тебе скажу-то. В канцелярию из Варшавы ответ пришел. От Любераса.
– Ты хочешь сказать, что знаешь, что написано в секретной депеше?
– В общих чертах. Полки из Варшавы сюда не придут.
– Да ты что? Генерал-майор Люберас подписал отказ? Но это же скандал всенародный!
– Генерала можно понять. Квартиры в Варшаве не в пример лучше, чем наши. А пока Миних рвет и мечет. И собирается отдать Любераса под суд.
– Да нам-то от этого не легче!
Словом, в русской армии начинался разброд.
К слову скажем, что Миних со временем действительно отдал мятежного генерала под военный суд, но Люберас оправдался. Ни Миних, ни штаб его, тем более Васька Крохин не знали, что барона Любераса, поступившего на русскую службу еще при Петре Великом, в его отказе вести русские войска под Данциг поддерживал любимец государыни обер-шталмейстер Левенвольде. Он был старый враг Миниха, а потому вовсе не желал последнему победы.
Плачевное состояние дел в русской армии было хорошо известно и в Париже и за стенами Данцига, а потому послужило поводом к некой авантюре, о которой речь впереди.
6
В середине апреля неожиданно для всех появился французский фрегат и встал в устье Вислы. Матвей находился тогда на болверке в аванпосту и видел этот фрегат как на ладони. Паруса французы приспустили. В подзорную трубку можно было рассмотреть людей на палубе. И вдруг на корме над однородной массой военных мундиров взвился розовый вымпел. Что за напасть? Откуда такой цвет? Батюшки мои, да там дама! И никакой это не вымпел, а розовый шарф вырвался на свободу и ветер подхватил его. Ах, беда, не рассмотреть ни лица, ни одежды. Воображение молодого человека тут же сочинило прекрасный образ. Это было легко, пририсуй только к розовому шарфу хорошенькое личико, и маленькие ручки, и кончик ножки, выглянувшей из-под бардового плаща.
Тут с берега ударили русские батареи. Матвей ждал, что французы ответят залпом, и сердце сжалось – господа, на борту женщина, ее бы надо пожалеть! Но фрегат не принял боя. По реям забегали матросы, надулись паруса, и фрегат величественно отплыл в открытое море.
Днем постреливали, так, для порядку. Вечером Матвея отпустили на квартиру, никаких ночных вылазок не намечалось. Добравшись до подушки, князь сразу заснул, но ранним утром, словно его кто-то в бок толкнул, проснулся. На востоке только наметилась полоска зари. Рань немыслимая. Матвей зевнул во весь рот и понял, что больше не заснет.
Вчера Евграф умудрился поставить у большого камня в омуте сетку. После появления французского корабля все переполошились, усилили охрану, и теперь денщик очень горевал, что солдаты не пропустят его лодку достать добычу. «Тебя не пропустят, меня пропустят», – подумал Матвей, быстро одеваясь.
Утро было влажным, теплым. Он вложил весла в уключины и тихо поплыл вдоль берега. Над прибрежной осокой поднимался туман.
– Стой, стрелять буду!
Матвей назвал пароль, услышал отзыв. Солдат на посту попался знакомый, ему и в голову не пришло спрашивать, куда это поручик Козловский направился с утречка.
Туман становился все плотнее. Черта с два он найдет в этом молоке сетку с рыбой. Ну и наплевать. Теперь уже можно сознаться, что не караси его волновали, а вчерашнее видение – розовый шарф над палубой фрегата. Туда, к гавани, он и плыл. Зачем? А затем, чтобы остаться наедине с собой и хоть на миг забыть опостылевшую войну. Зачем он торчит здесь перед польскими редутами, что он здесь потерял? Розовый шарф был напоминанием, что где-то идет нормальная жизнь, мужчины и женщины собираются в гостиных, пьют вино и кофей, а еще танцуют и говорят о любви.
Он бы тоже хотел пройтись по зале в польском танце минавете. Знал бы кто, как он соскучился по быстрому, манящему взгляду поверх веера, и нежному шепоту с обещанием встречи. А представить на миг нежную ручку в своей огрубелой ладони… Это же чудо, господа! Удивления достойно, какая нежная у них кожа. Что там ручка… Обнаженная до сосцов грудь – да здравствует мода! – так распаляет воображение, что совершенно теряешь рассудок, я вам точно говорю.
Ах, этот туман! Берегов давно уже не видно, и вообще ничего не видно. Матвей бросил весла, и вода сама понесла его. Нет, так дело не пойдет. Пора поворачивать, если не хочешь очутиться в чистом море. Ладно, не отвлекайся. О чем это давеча он так хорошо и правильно думал?
Незнакомка с розовым шарфом вряд ли вышла на палубу в открытом декольте. Весенний воздух свеж, здесь и лихорадку схватить недолго.
Мысль о свежем воздухе пришла в голову весьма кстати, порыв ветра с залива вдруг охолодил лицо. Сейчас подует в полную силу, и белая мгла пойдет распадаться клочьями.
В тумане вдруг образовалась брешь, Матвей устремил туда взгляд и от неожиданности чуть не выронил весла. Давешний фрегат торчал у берега, совсем рядом. Матвей задрал голову, пытаясь разглядеть людей на палубе. Не шута, конечно, он не увидел. Только слышно было, как скрипит фонарь на корме, свет от него казался жирным пятном. Слух его уловил французскую речь. Удивительно, что туман не глушил голосов. Короткие, рубленые фразы, на воду опускали шлюпку.
Ну, вот и дождались десанта. Что делать-то? Немедленно плыть к своим батареям или проследить место, где французы высадятся? А зачем ему знать это место, если он и описать его толком не сможет. Но с другой стороны, если туман рассеется, его тут же заметят. Быть пленным враждующей армии, даже если это французы, увольте, господа!
Ладно, не надо торопиться. Туман словно ожил, обрел плоть. Серо-голубые слои, как пласты перебродившей просто кваши, двигались перед глазами. Мутно, темно, чистый морок! «На Феофана туман к урожаю на лен и коноплю», – вспомнилось вдруг.
Фрегата уже не было видно, одни лишь голоса, как бесплотный дух, висели в тумане. О чем говорят – не разобрать, слышно только, как бьют весла по воде. Не похоже, что это десант. Может быть, французы всего-то одну шлюпку и спустили? И тут Матвей услышал смех – ее смех, звонкий и переливчатый. Что-то он ей сказал, а она ему ответила, словно жемчуг россыпью бросила на серебряный поднос, а потом понятная фраза. Ах, это французское «мерси»! Коротко, как вздох, а по-русски длинно и шероховато: «Благодарю вас, господа!»
И тут он их увидел. Шлюпка ткнулась носом в песок. Даму на руках вынес на сухое место какой-то французик. Не разглядишь издалека, мундир на нем или партикулярное платье. Значит, прав он был, никакой это не десант. И что удивительно, на даму Матвей почти не смотрел. И не страх был тому виной. Просто он ощущал себя разведчиком в чужом стане, а потому не мог себе позволить слюни распускать.
Все, надо сматываться. Он остался для противника невидимым только потому, что слишком их было много, все беспечно дышали, сопели, разговаривали. А вслушайся кто-нибудь, всмотрись внимательно в туманную мглу – и все, была бы тебе, князь, крышка. Матвей налегал на весла что есть силы, но в воду опускал их очень осторожно.
Назад он плыл долго. По течению лодка сама несет, а тут, поди, выгреби, на левой руке ладонь сбил до крови. Но главное, добрался без приключений, найти в тумане свой причал помог Господь Бог, а может интуиция. В минуты опасности все чувства обостряются до крайности, каждая жилочка в организме помогает выжить.
Доложил по начальству, так, мол, и так, видел в наших водах французский фрегат, который под прикрытием тумана выслал к берегу шлюпку. Но когда туман рассеялся, никакого фрегата не было. Доклад Матвея не подвергли сомнению. Один только шутник из штаба предположил: «А не был ли сей объект “Летучий голландец”?» – и вдобавок обидно подмигнул Козловскому. А все прочие приняли слова поручика с полным доверием, но ходу дела не дали.
Не до того было. Во-первых, был корабль, да сплыл, ну и что теперь? А во-вторых, случилось невероятное событие. Пока Козловский на реке прохлаждался, прибыли подводы с пушками. Матвей задним числом обрадовался такому совпадению. Ведь в противном случае его бы стали подробно расспрашивать о ночном приключении. Значит, вы, поручик, фрегат не с берега узрели, а из лодки. А куда вы плыли и зачем? Ах, за карасями? Не отмоешься ведь потом! И хорошо, что про даму он ни словом не обмолвился, а то бы дал пищу полковым острословам. Они бы всласть языки почесали.
Теперь о пушках. Вдруг ни с того ни с сего по почте были присланы телеги с мортирами. Тайный груз этот, прикрытый соломой, шел через Пруссию, имя адресата – герцог Вейсенфельский. То есть груз этот предназначался для саксонцев, но то, что его пруссаки пропустили, было большой загадкой. Все очень озаботились получением пушек, тут же пошли разговоры, что Миних вот-вот назначит штурм Гегельсберга, который давно всем мозолил глаза.
На следующий день еще одна неожиданность. По почте переслали целый мешок писем для господ офицеров, и в числе прочих Матвей получил послание от Лизоньки Сурмиловой. Прорвалась его возлюбленная через военные препоны.
Матвей с трепетом прижал Лизонькины строки к губам своим. Прекрасная дева, ты хранишь верность воину. Спасибо, я твой пленник навек, беда только, что в буднях жизни я совсем позабыл твои милые черты.
А если поподробнее говорить, то он никогда их и не помнил. Много ли они виделись? Вечер в Париже вообще не в счет, он тогда не о любви, а об выгодной женитьбе думал. Сказать, что краткая встреча в замке Гондлевских оживила милые черты, он тоже не может. Они там вообще друг друга не узнали. И только на бумаге слова любви были привычными и понятными, до мелочей знакомыми, как тропка в родительской усадьбе.
В тот же вечер Матвей сел писать ответ. В письме было много нежных слов, описаний жестоких сражений, а также пересказ невинного сна. Он видел свою возлюбленную (поверь, прекрасная!) на палубе корабля. Тревожно кричали чайки, туго бились на ветру мокрые от соленых брызг паруса, а Лизонька стояла, держась ручкой за канат, и смеялась. Шейку ее обхватывал розовый легкий шарф, и концы трепетали под нежным бризом.
Описывая мнимый сон, Матвей так разволновался, что бросил из рук перо и забегал в нетерпении по комнате. Ах, кабы Лизавета вот так же куда-нибудь путешествовала, он бы любил ее еще больше. Хотя больше, кажется, нельзя. Письмо он так и не закончил.
Предчувствия о скором штурме не подтвердились. Активные военные действия начались только тогда, когда прибыли первые русские корабли с артиллерией. Миних давно лелеял мысль о ночной атаке Гегельсберга, который бы в наше время назывался «стратегической высотой», а в XVIII веке был обозначен как «укрепленный пригорок». Установи на этом пригорке артиллерию, весь город находился бы под пушечным прицелом. И он заставит Данциг сдаться.
Не откажу себе в удовольствии воспользоваться здесь цитатой из «Записок о России генерала Манштейна». Без помощи этого господина автор просто не в состоянии выговорить половину военных терминов.
«8 мая в сопровождении графа Ласси и генерала Бирона (брата фаворита) Миних отправился на рекогносцировку укреплений этой горы; справа, со стороны ворот Оливы, крутизна почти неприступная; на вершине ее правильный кронверк с равелином, контрэскарпом и гласисом, все это исправно обнесено палисадом и штурмфалами и снабжено несколькими орудиями.
Но слева, в стороне Шейдлица, есть только одно земляное укрепление без прикрытого пути и без гласиса, ров сухой и без палисада; только одна берма снабжена изгородью. Итак, решено было с этой стороны начать атаку».
Русские разделились на два отряда, в одном было три тысячи человек, в другом пять тысяч. Начало атаки было успешной. Солдаты скрытно подошли к самой подошве горы, первые гренадеры уже вошли на вал и овладели батареей.
Но нашу армию встретил шквальный огонь. К несчастью не только оба командира отрядов были убиты, но множество офицеров и инженеров пали под первыми выстрелами. Войска пришли в беспорядок. Им бы грамотно отступить, но в то время как разумные спасались бегством, ожесточенные рубаки только разогрелись битвой. По русской привычке – гори все огнем! Пусть я погибну, но и вас, гадов, с собой на тот свет утащу. Приказы начальства они просто не слышали. Генералу Ласси пришлось покинуть траншею и самому идти увещевать солдат отступить.
Высота Гегельсберг не была взята. Потери русских были огромны. В числе раненых, вынесенных с поля битвы, находился и князь Матвей Козловский. Рана его была не смертельна, осколком раздробило левое плечо, но на санитарные носилки его погрузили в бессознательном состоянии. Князь был не только ранен, но и контужен взрывной волной.
7
Военная хроника того времени сообщает, что в штурме Гегельсбрега русские потеряли 2000 человек убитыми и ранеными, в том числе сто двадцать офицеров. Кто их точно считал – погибших? Уже в числах видно, что цифру округляли, плюс-минус пятьдесят человек, а может, и того больше.
Лазарет устроили в длинном, приземистом, вросшем в землю здании, находившемся рядом с кирхой. Когда-то здесь был склад. Место это подвергли активной бомбардировке вначале сами поляки, потом русские. Окрестное население разбежалось, склад был давно разграблен. Ветер гулял в палатах под сводами. Похожие на бойницы окна давали мало света. Гулкое эхо разносило стоны раненых. Большая часть их лежала прямо на полу. Некоторым счастливцам достались матрасы.
И лекари, и похоронная команда работали не покладая рук. Сюда же к лазарету подносили покойников, но иногда в нагромождении трупов вдруг обнаруживали шевелящегося, еще живого человека. Его тут же брали на руки и волокли к докторам.
В лазарете уже установился зловредный, пропахший кровью и потом воздух. От духоты было совершенно нечем дышать. Евграф, который находился при Матвее неотлучно, сообразил вытащить князя из страшного помещения. Походную кровать он разместил в тенечке под двумя кленами. Оба дерева цвели, еще безлистые ветви их были все в зеленых «кудряшках». Здесь и нашел князя Козловского наш старый знакомец агент Петров.
Обстоятельства сложились таким образом, что Козловский в данный момент был последней надеждой Петрова. Агент, как говорят в наших шпионских фильмах, остался без связи. И зачем Миниху понадобилось так не вовремя штурмовать эту проклятую высоту? Потери велики, но на то и придумана война, чтоб людей лишать жизни. Плохо то, что цепочка, связывающая Петрова с Петербургом, была разрушена. В ночном штурме погиб курьер-штабист, мотающийся постоянно с депешами в Варшаву и обратно. Конечно, курьеру найдут замену, но Петров не имел права просто так пользоваться официальной военной почтой. Он хоть и числился по сыскному делу, это письмо предназначалось исключительно для Бирона. Отдать реляцию в случайные руки – значило рассекретить себя и главное, подставить под удар благодетеля, то есть Бирона.
Реляция, которую Петров почитал весьма важной, касалась дел текущих. Он просил денег, но теперь не у своего ведомства, которое не отозвалось на его предыдущую просьбу, а лично у Бирона. Поймите, ваше сиятельство, совершенно нечем платить информаторам. Сам он согласен служить без ежемесячного жалования, вернется в отечество, получит все оптом, но для подкупа нужных лиц необходимо иметь под рукой круглую сумму. В Варшаве к услугам Петрова было удобное заведение под названием банк, он и сужал его деньгами, но в осажденном городе даже под залог, под вексель никаких денег не выпросишь. А какой у Петрова в Данциге может быть залог?
Во второй части письма, без всякого акцента на важность информации, Петров между делом сообщал, что некая особа, которая уже виделась с Шамбером в Варшаве, непонятным образом явилась в Данциг. Оную особу зовет Николь де ла Мот, она имеет связи с лучшими фамилиями. По слухам, она самого Лещинского посещала, а с французским послом де Монти открыто разъезжает по городу в карете. К Шамберу де Мот наведывалась всего один раз, и то ночью.
Эта де ла Мот все дни была на виду, а на прошлой неделе вдруг исчезла. Надежный информатор сообщил, что она уехала из Данцига.
Далее… «По слухам, экс-король Лещинский болен, все дела вершат Потоцкий и французский посол де Монти. В городе трудности с продовольствием, но зерна в достатке, поскольку такой мельницы и складов, как в Данциге, в прочих городах европейских не отыщешь».
Петров не отказался и от приписки, так, на всякий случай, дал описание наружного облика де ла Мот: «Рост средний, глаза зеленые, продолговатые и с непонятным изъ яном. Иногда в них появляется косина, словно она тебе в глаза смотрит, но и в бок хорошо видит».
Вот эту реляцию надо было немедленно доставить в Варшаву, а оттуда по проверенным каналам в Петербург. Но как это может сделать Козловский, если он лежит с перевязанным плечом и смотрит тупо, словно и не узнает Петрова?
Но, с другой стороны, чего, собственно, бояться? Раненый Козловский для передачи письма подходит так же хорошо, как здоровый. Язык-то у него цел, и память, будем надеяться, не совсем отшибло. Пусть постарается для отчизны, выполнив роль простого вместилища, а уж потайной карман на князев камзол Петров сам может пришить, не велика премудрость.
– Как самочувствие? – спросил Петров бодро.
Матвей посмотрел на агента мутным взглядом и ничего не ответил. Рядом с походной кроватью, переминаясь с ноги на ногу, торчал высоченный, белесый парень, видимо, тот самый денщик Евграф. Он озабоченно поправил плащ, которым был укрыт раненый, и произнес степенно:
– Освежение покоев воздухом в лазарете не делают. Я сюда их сиятельство и снес.
– Понятно… Ты, Евраф, погуляй пока.
– А что ж одеты вы не по уставу? Епанча на вас полевой пехоты, а вместо лосин… извиняйте, партикулярные порты.
– А это не твоего ума дело. Ты, Евграф, в лазарет ступай. Там сейчас каждые лишние руки необходимы.
– А как же тут? Если воды подать или еще что? – искренне удивился денщик, ему явно не хотелось загружать лишней работой свои огромные, как лопаты, руки.
– Я сам воды подам, и «если что» тоже сам. Иди!
Матвей никак не отреагировал на эту перепалку. Как только денщик ушел, агент зашептал с показной бодростью:
– Вот какое дело, князь. Вы сегодня вечером отправитесь в Торн. Тяжело раненых повезут водой в тамошний госпиталь. В Торне, говорят, имеются отличные лечебницы при монастырях. Заодно выполните одно мое задание.
– Ты, Петров, не шепчи, – отозвался, наконец, Матвей. – Ты громко говори. У меня уши после контузии пробкой забиты.
Петрову пришлось повторить весь текст заново. Конечно, он не говорил в полный голос, не было у него такой привычки – на всю ступню становиться, привык жить на цыпочках. Лицо Матвея оставалось безучастным. Попробуй разберись, понял он, о чем ему толкуют, или нет. Но суть уловил, это точно, потому что вдруг сказал с раздражением:
– Никуда я не поплыву. Не такая у меня тяжелая рана, чтобы на монастырских подворьях валяться.
– А ты и не будешь валяться, – неожиданно для себя Петров перешел на «ты», – потому что задерживаться в Торне тебе никак нельзя. Тебе в Варшаву надо, – он очень боялся, что князь опять его перебьет, и потому говорил быстро и четко. – Из Торна в Варшаву лучше добираться сушей. Подводу можно нанять, можно купить. К сожалению, я не могу ссудить тебя деньгами, хотя по закону обязан, дело-то государственное. Но ты человек не бедный, сам заплатишь.
– Петров, может ты с ума сошел? За каким лядом я попрусь в Варшаву?
– У вас там дела, – Петров уже нагнулся к самому уху Матвея. – Вам там надо будет отдать важный пакет, то есть срочную депешу для их сиятельства Бирона, – тайные слова орать во все горло не пристало, здесь Петров приглушил звук, но все равно вышло чересчур громко. Он с опаской поглядел по сторонам. Всюду сновали люди, но никому не было дела до чужого секретного разговора. – Но ваше дело довести депешу только до Варшавы, а далее ее пошлют по назначению.
– Отвяжись, Петров. Никуда я не поеду. Башка болит…
– Вот и отлично. Я сейчас с лекарем поговорю, чтобы вас здесь не забыли. А то ведь здесь у вас большой беспорядок.
– Мундир-то где раздобыл? С убитого снял? Денщик у меня глазастый.
Но Петров уже не слышал Матвея. В мятом, кровью запачканном кафтане неведомого подпоручика он чувствовал себя великолепно, поскольку находился среди своих. А это большое благо – жить без опаски. И вовсе он не мародерничал, снятые с раненых мундиры валялись кучей у входа в лазарет – выбирай, какой хочешь.
«Балаболка, – с неприязнью подумал Матвей про агента. – Депеша какая-то дурацкая. А то, что нас здесь порубали в капусту, тебя вроде бы и не касается».
На Матвея навалилась тоска. Когда он очнулся после контузии, то вначале пребывал в нервном возбуждении, все что-то говорил, объяснял лекарям, смеялся, как идиот, а здесь под кленами вдруг затих. Навалились мысли, тяжелые, как удушье. Боль телесная – дело десятое, и глухота, надо думать, со временем пройдет. А вот что делать, судари мои, с болезнью души? Мир, весь мир, сама вселенная с сонмом ангелов предстал перед ним совсем в другом свете. Он-то, дурак, всегда гордился, что из любой передряги выходил победителем. Даже две темницы – у Бирона и у Гандлевских в подвале, не убили в нем оптимизма и твердой уверенности, что мир устроен правильно. Было и прошло. Он опять в седле и отлично умеет управляться с окружающей действительностью. Размашисто жил, что и говорить.
А тут вдруг от пустяковой раны и расклеился. Слишком много трупов, господа! Ему уже стыдно было за тот восторг, который он испытал при взятии Шотланда. Лавровые венки победителя, со щитом или на щите, честь превыше всего – ах, как красиво, а на деле пустые слова. Люди подыхают, как скоты бессловесные на бойне. А их потом штабелями укладывают, как дрова. Где-то лежит окоченевший уже Васька Крохин. Есть малая надежда, что он жив, но Матвей сам видел, как рядом с пушкой, где Васька торчал, разорвалось ядро.
И еще запомнилось, больше, чем взрывы, пороховой дым, крики ярости и боли, раненый мальчишка барабанщик, который привалился спиной к лафетной пушке, зажал грязными руками рану в животе и замер, выпучив глаза. А барабан его, тяжелый, десятифунтовый, летел вниз по откосу, то, словно нехотя, катился, то подпрыгивал на кочке и вертелся волчком, и Матвею казалось, что, несмотря на шум атаки, он слышал, как гулкое барабанье нутро продолжает отбивать воинственную и грубую трель.
А как же бессмертная душа? И где были ангелы-хранители всех этих изуродованных, истерзанных человечьих тел? Как же допустили ангелы, чтобы все было так… неприлично? Древние говорят, что «раскаяние идет по пятам за грехом».
Он ощупал образок на груди, который дала ему перед дорогой Клеопатра. Клепка добрая, в справедливость верит. Все крестила Матвея, заглядывая в глаза: «Ты, Мотя, молись чаще, и беда обойдет стороной». А эти, трупы, иль мало молились? Очень бы хотелось знать, есть ли у ангелов совесть и мучает ли она их по ночам? Сюда бы Клепку доставить хоть на полчасика, чтоб посмотрела на ампутированные руки-ноги, что в куче лежат. Тьфу-тьфу, иль ты, князь, сдурел совсем, чтоб желать сестре такие страсти. Матвей судорожно перекрестился.
Явился Петров и опять начал трещать языком. Матвей старательно вслушивался, но не все понимал. Лицо агента вдруг показалось ему не то чтобы симпатичным, но приемлемым. Что он в самом деле на него взъелся? Агент как агент. У них небось тоже жизнь собачья. А то, что Матвея с этой бойни хочет увести, так ему за это большое спасибо.
– Слышь, Петров, не слышу я, о чем ты толкуешь. Кому депешу-то в Варшаве передать? Ты напиши имя-то. Что значит, – где написать. При лазарете наверняка какая-нибудь канцелярия есть. Разживись у них и пером и чернилами. Экий ты суетливый, право, – и уже вдогонку Петрову крикнул: – И имей в виду, без Евграфа я не поеду. Кто мне в Торне подводу снимет? И вообще, как я без Евграфа… с детками?
8
Гегельсбергская высота еще дымилась от недавнего боя, когда Миних послал отступнику генералу Люберасу гневливый приказ, третий по счету, – немедленно, сейчас же грузить русскую армию на суда и отправлять по Висле к осажденному Данцигу. Но был второй курьер, посланный в Варшаву. Он вез приказ о немедленном арестовании Любераса. Второму курьеру – им был знакомый Матвею подпоручик Заикин, велено было не слишком торопиться, а потому он плыл на той же галере, которая везла раненых в Торн.
Матвея Заикин нашел на палубе. Молодые люди обрадовались друг другу, поговорили, а потом в одном экипаже добрались до Варшавы.
Я пишу об этом так подробно только потому, чтобы объяснить, как Матвей попал на прием к Люберасу. И не просто на прием, а для дружеского разговора. Вот он, герой баталии, проливший кровь за Отечество, очевидец грозной неудачи фельдмаршала Миниха. Пусть он и расскажет подробно, как проходила битва и в чем он видит просчеты наших воинов.
Матвей был еще плох. В Торне ему сделали перевязку, подвесили руку на перекинутый через шею плат и подложили дощечку, чтоб не елозила поврежденная конечность и не причиняла лишнюю боль. Рука и не елозила, но зато каждое движение, каждый шаг или глубокий вздох отзывался в плече острой болью. Глухота по-прежнему мешала нормально жить, а уж бледен князь был, как вощеная бумага. «Чистый смертушка», – говорил Евграф.
Люберас ко всем этим увечьям отнесся благосклонно, поскольку они косвенно указывали на неспособность Миниха руководить армией. А когда Матвей принялся рассказывать об огромном количестве убитых, про то, как солдаты не хотели отступать и Ласси уже не приказывал, а умолял их оставить поле битвы, Люберас полюбил князя Козловского всем сердцем.
– Вы герой, поручик! И заслужили отпуск. Сейчас в канцелярии вам подпишут бумагу. Верхами вы ехать не в состоянии. О карете я распоряжусь.
– Благодарю вас, ваше превосходительство, – рассеянно пробормотал Матвей, еще не понимая, радоваться ему или печалиться из-за генеральской опеки… В конце концов, он солдат, а война еще не кончена.
– Вы поедете в Петербург. С вами я пошлю кой-какие письма. Отдадите их лично в руки.
«Сговорились они, что ли? Я теперь не человек, а почтовая сумка», – подумал Матвей с раздражением. На миг вспыхнула обида, что Данциг возьмут без него. Они там будут победу праздновать, а он письма по домам вельмож развозить.
Разговор этот происходил в то время, когда галеры с русским войском уже плыли по Висле в сторону осажденного города. На этот раз Люберас не посмел ослушаться приказания фельдмаршала Миниха. Но настроение у генерала было отличное.
Когда дверь за поручиком Козловским закрылась, он прошелся по комнате, азартно потер руки, а потом сложил из пальцев простонародную дулю и сунул ее в окно: «Вот ты меня посадишь под арест! Вот тебе полевой суд! Уж я отпишу в Петербург о твоих выходках».
Оставим генерала в его приятных размышлениях и вернемся к нашему герою. Предложенная Матвею карета была бита не только временем, но и войной. Видно, она, бедная, умудрилась попасть под обстрел. Поцарапанный и кое-как подлатанный кузов имел непрезентабельный вид, но колеса катились резво. Прогонные были подписаны по всем правилам, а это оберегало от пустых задержек в пути. Миновать бы только беспокойную Польшу, а там в каждом дворе будут ждать его свежие лошади и пусть скудная, но горячая еда.
Было еще важное дело, которое требовало незамедлительного исполнения. Зашитое под мышкой письмо агента Петрова должно было сыскать своего адресата. Беда только, что бумажонка с записанным именем куда-то задевалась. Матвей грешил на Евграфа, денщик клялся всеми святыми, что в глаза не видел секретную бумагу. Ну и шут с ней. Матвей помнил, что депеша предназначалась для Бирона. А поскольку выпала такая удача, что он едет в Петербург, стало быть, сам ее и передаст. Встреча с Бироном не радовала, но что делать, если такая выпала карта.
Для сопровождения секретной почты в помощь Козловскому были предписаны два драгуна. Но в условленный час воины не явились, и Матвей на свой страх и риск решил ехать без охраны. От случайных разбойников он с Евграфом сам отобьется, а при встрече с большим отрядом противника двое драгун не помощь, а скорее помеха. Как покажут дальнейшие события, размышлял князь правильно.
Прекрасное время года – весна. Мир свеженький, как только что созданный. И травка в полях, и листочки дерев чистые, умытые. И птицы, конечно, куда же без их звонких голосов. На хуторе Евграф раздобыл жареных цыплят. Тоже ведь птицы, но назначение у них совсем другое. Певчие птицы услаждают нам душу, а эти – желудок. Матвей меланхолически жевал куриное мясо, запивал вином из бутылки. Прямая, обсаженная тополями дорога, казалось, кратчайшим путем вела к счастью. Приветливые поля окрест не были изуродованы войной. Вот трудолюбивый пейзанин идет за плугом. Поодаль пасется лошадь с жеребенком, смешной такой, все лезет к матери в жажде полакомиться молоком, а та аккуратно отпихивает детеныша, мол, пора переходить на подножный корм.
Так спокойно прошел первый день пути, второй… А на третий день, к вечеру, в березовой роще Матвея и взяли. Стволы берез были так белы, что слепили глаза, и удивительно, что и кучер на козлах, и сидящие в карете не заметили подхода ярких мундиров, которые как-то разом вдруг окружили карету и залопотали по-польски. Было их человек пять, а может, и того больше. Матвей только и успел заметить, что двое из отряда были верхами…
– Кто такие? – выкрикнул главный, ни угрозы в голосе, ни выстрелов, ни обнаженных шпаг.
Возница-поляк степенно объяснил, что везет русского офицера. Кто-то крикнул: «Виват Лещинский!» Матвею почудился в этом возгласе скорее вопрос, чем утверждение. Далее один из красных мундиров вспрыгнул на козлы, два других на запятки, всадники встали в авангарде, и карета, взяв рывком с места, понесла наших героев в неизвестность.
Матвея предупреждали в Варшаве, чтобы держал ухо востро и опасался встречи с конфедератами. Страной уже правил Август II, а на всей территории Речи Посполитой шуровали многочисленные отряды бывшей армии польской, которые не хотели признавать саксонца и стеной стояли за Станислава Лещинского. Не знаю, как вели себя шляхтичи в войске люблинского воеводы Тарло или, скажем, в подольской конфедерации, составленной в Каменце, но те, к которым попали Матвей с Евграфом, уместнее было бы назвать не борцами за свободу, а просто бандитами. Лозунги-то они выкрикивали правильные, а на деле не столько воевали за республику, сколько грабили усадьбы, чьи хозяева на свою беду присягнули Августу Саксонскому. А может быть, не успели присягнуть, но не изъявили страстного желания вступить в конфедерацию.
Березовая роща с розовеющими на закате стволами кончилась, и взору открылся большой луг, в конце которого разместилась барская усадьба. Туда и поскакали всадники. Через каменные ворота с сорванными с петель створками всадники проехали с криками и улюлюканьем, так они возвещали о своем прибытии. Длинная тиссовая аллея привела к обширному двору, в глубине которого возвышался барский дом с колоннами. На выезде из аллеи Матвею предложили выйти из кареты.
По двору вольно ходили солдаты, которые, видно, все разом позабыли, что на свете существует военная выправка и армейская дисциплина. Многие были навеселе. У каретного сарая стояли фуры – четырехугольником поставленный обоз – словно здесь собирались держать оборону от неведомого неприятеля. Большая клумба, на которой залиловели крокусы, была порядком затоптана. На левом фланге, подле беседки и довольно уродливых статуй из дикого камня, горел жаркий костер, на котором жарилась огромная туша.
– Свининка, – прошептал в ухо Матвею Евграф. Он шел нога в ногу вслед за барином и с опаской поглядывал на поляков, которые шли рядом по двое с каждой стороны. Вид у охраны был мрачный.
– Капрал, а капрал, – обратился Евграф к тому, кто был поближе, – вы куда нас ведете-то?
Охранник не удостоил Евграфа ответом. Только тут Матвей понял, что они пленники и он явно упустил момент, когда надо было выхватывать шпагу, биться за свою жизнь и вообще вести себя как мужчина.
Белый барский дом, еще недавно имевший приветливый вид, сейчас представлял из себя… право, нет слов. Все двери и окна распахнуты настежь, на углу, со стороны террасы, следы недавнего пожара, портик над входом странно покосился, а львы, каменные стражи главного входа, не только сброшены со своих постаментов, но и унижены – сабельные удары отбили им хвосты, лапы и признаки мужского достоинства. Львы-то чем помешали?
На лестнице дома Матвею вежливо предложили расстаться со шпагой. Он отдал ее безропотно.
Путь по коридору кончился гостиной, в которой, по разумению Матвея, размещался штаб. Во всяком случае, на это указывали флаги, польский государственный и полковой, стоящие у камина. Других признаков штабной работы в помещении не было. Шкаф-поставец, как и все в этом доме, был распахнут, и все его содержимое – посуда, кубки, емкости с вином – переместилось на длинный дубовый стол. Полковую карту заменял большой медный глобус на чугунной подставке, которая, в свою очередь, покоилась на искусно отлитых птичьих лапах, судя по их хищному виду – орлиных.
В центре стола сидел военный чин, одетый не по уставу. Голову его украшал надетый набок старинный металлический шлем, концы мятого шейного платка, равно как и седые усы, обвисли сосульками. Видно, не единожды их макали в кубки с вином и сладкими наливками.
Чин был пьян, очень пьян. Он грозно посмотрел на вошедших, потом встал, опершись одной рукой на стол, а другой, на столе больше не было свободного места, на глобус. Земной шар предательски вильнул, чин описал ногами вензеля и с размаху плюхнулся на стул.
Потом он долго рассматривал Матвея, мутный взгляд его, казалось, ничего не выражал. Пленнику было задано всего три вопроса: откуда, куда и зачем? Разумеется, Матвей ни словом не обмолвился про Данциг. Он едет из Варшавы в Петербург лечиться по ранению. И все… Больше вы от меня, господа хорошие, ничего не добьетесь. Но у Матвея больше ничего и не спрашивали. Между поляками завязался быстрый разговор, из которого Матвей только и понял, что спор идет о его дальнейшей судьбе. Узнаваемые по слуху слова были мало утешительными. Офицер из охраны твердил про на «экзекучью», но пьяный чин, которого офицер называл «ротмистр», настаивал на «каrа smierci», что могло означать только одно – смертная казнь. Толковали также об обмене и выкупе, и сошлись, в конце концов, на том, что пленников надо посадить в холодную, а утром на свежую голову уже решить, что с ними делать.
Опять в подвал! Господи, ну сколько можно? Чуть что – под замок на хлеб и воду! В темноту и сырь! За что ему все эти несчастья? Видно, заслужил. Вон, Родион, друг сердечный, по всем законам государственным должен был отправиться в Сибирь за отцом. И ничего… мало того, что на свободе, так даже на сутки в темницу не попадал. А он, Матвей, сын достойных родителей, человек незлобивый и характера легкого, чуть что – в железа! Видно, ангел его не хранитель, а безобразник, все время подставляет ножку. А может быть, ангел, как Клепка, считает, что несчастный человек и есть любимец Бога. Говорят, где-то в Англии есть памятник на могиле, а на том памятнике написано: «Несчастнейший». Вот и меня так когда-нибудь похоронят. Однако, что этот болван говорил про «кару смертна»?.. Еще этого не хватало.
Матвей очнулся от своих скорбных мыслей на пороге каретного сарая, которому на этот раз выпала роль узилища. Далее последовала безобразная сцена, после которой князь, что называется, начисто отрубился. Он был весь в высоких, скорбных мыслях, когда почувствовал, как по его телу шарят быстрые и ловкие руки солдата. Его обыскивали! Его, офицера русской армии, обыскивали, как мелкого ворюгу. Мало того, что, когда лезут под мышку, раненое плечо отзывается нестерпимой болью, но ведь и унизительно.
– Ты чё шаришь? Ты чё меня лапаешь, как продажную девку? – завопил Матвей и боднул охранника головой в живот, а левой рукой умудрился ударить под дых, то есть в солнечное сплетение. Охранник сложился пополам, но в следующее мгновенье Матвей был отброшен в дальний угол сарая. Офицер, который, казалось, безучастно наблюдал за обыском, пришел на помощь солдату.
– Батюшки мои, что ж вы делаете-то? – взвыл Евграф и метнулся за Матвеем, словно надеялся поймать барина на лету.
Не поймал, зато получил от офицера свою порцию затрещин. И только когда дверь в каретный сарай закрылась, он смог добраться до бездыханно лежащего Матвея. Падая, тот ударился затылком о выступающее бревно. Крови вроде не было, но сознания тоже не было.
9
Матвей очнулся, стащил мокрую тряпку с головы, сел. Сколько же он провалялся? Хотелось бы знать, закат розовеет в маленьком оконце или, наоборот, восход. Если восход, то пора собираться на «кару смертну». «Уроды, – с негодованием подумал он про поляков. – Мы для них под Данцигом жизни не жалеем, а они мелкой подлостью отвечают на добро!»
Левой рукой он ощупал затылок. Шишка с кулак, парик вкупе со шляпой спасли его от открытой раны. Боль не столько мучила, сколько раздражала, отвлекая от нового ощущения – он слышал. Ему даже казалось, что он слышит лучше, чем раньше. Он отлично различал дальние голоса двух спорщиков, которые не могли поделить рыжую кобылу. «Да это они из-за моих коней спорят, – подумал он с негодованием. – Все, пропала карета! Ну и черт с ней…» Он продолжал проверять слух, как пробуют на вкус затейливую еду. Ага, а это мыши шуршат в углу, а это сапоги скрипят у часового. Видно, пленников стерегут по всем правилам.
Он осторожно повернул голову. Евграф сидел рядом и спал, свесив голову на грудь. Матвей ткнул его в бок. Тот сразу проснулся, заморгал белесыми ресницами.
– Что делать-то будем? – тихо спросил Матвей.
– Очухались, слава те господи. А я все думал, как я вас бездыханного на себе поволоку?
– Куда поволочешь?
– Да-к спасаться надо от бандитов-то, бежать. Дождемся ночи, а там, как бог даст.
– Он тебе даст, держи карман шире. Догонит, и еще даст, – проворчал Матвей. – Хорошо хоть в подвал не посадили. Барский дом не замок, здесь подвал используют по назначению для хранения битой говядины и свиных туш, а не для живых людей.
– А вы, барин, не богохульствуйте. Вы поешьте лучше.
– Здесь-то ты как еду раздобыл?
– Да-к попросил. Стукнул в окошко. Поляки тоже люли. Вот хлеб, грудинка копченая. Жиру много, а так ничего. Есть можно.
– И то правда. На расстрел лучше сытым идти.
– Не пугайте вы меня, Матвей Николаевич, – строго сказал Евграф.
Матвей усмехнулся и принялся за еду. То, что денщик его трус отменный, он давно знал. В атаку прямо никогда идти не мог, все за чужие спины прятался. И чуть что, находил себе работу – вытаскивать раненых с поля боя. И понятное дело, поступал он так не из сострадания к несчастным, а исключительно, чтобы найти себе занятие и заглушить страх. А вот сейчас они с денщиком попали в серьезную передрягу. И что? Матвей весь на нервах, а Евграф хватается за какие-то мелкие подробности жизни, грудинку, вишь, достал, но при этом сохраняет полное спокойствие. Или денщик по обыкновению боится заглянуть правде в глаза?
В то время как князь Козловский совершал свою скромную трапезу, в барском доме, в комнате, соседствующей с польскими знаменами и глобусом, а если быть точной, через два помещения от штаба, происходил очень важный для нашего повествования разговор. Комната ранее была спальней и, судя по нетронутому интерьеру, выполняла сейчас ту же функцию: занавесочки, салфеточки, гора подушек на покрытом шелковым одеялом ложе.
В комнате находилось трое: мужчина средних лет в форме ротмистра польской кавалерии, очаровательная молодая дама, не будем темнить – Николь де Мот, и аскетичного вида священник в коричневой сутане. Его имя тоже разумнее сообщить сразу – аббат Арчелли. Да, да, тот самый, к которому ездил Шамбер. Разговор шел по-французски.
– Уверяю вас, господин аббат, – горячо и уже с раздражением в голосе говорил ротмистр, – это идеальный случай. Другого может не представиться.
– Может быть, но для выполнения вашего плана я должен надеть партикулярное платье, а это противоречит уставу церкви, здравому смыслу и, в конке концов, моим моральным принципам.
Мадам де ла Мот с негодованием надула губки, мол, о каких моральных принципах ты говоришь, мышь серая!
– Но русский не идиот. Он не поверит, что армия конфедерации захватила в плен католического священника и посадила его под замок.
– Но аббат не имеет права расставаться с сутаной!
– Даже во имя великих принципов?
Священник искоса глянул на де ла Мот, покраснел, но не сказал ни слова. У них уже был разговор на эту тему, в котором Николь дала понять, что ввязывается в сложную авантюру исключительно ради денег. Аббат тогда дал ей жестокий отпор, подчеркнув, что им движет только забота о благе человечества.
– Многоуважаемая пани все уже давно поняла, – продолжал ротмистр, – а вам приходиться объяснять элементарные вещи.
Еще бы пани не понять, если она сама предложила этот план. Головка у Николь работала великолепно. Как только она глянула в подорожную и увидела русскую фамилию – князь Козловский, все решилось в одну минуту. Осталось только уговорить этого спесивого индюка. Ну и компаньона ей навязали в Варшаве! Вздорный, обидчивый, скаредный, высокомерный, при этом мрачный и необщительный. Более того, Николь подозревала, что он не шибко умен. Но это был не ее выбор. Кто знает, может, именно такой человек нужен, чтобы надавить в России на нужные государственные пружины. И она ему поможет. Но для этого не надо подчеркивать при каждом случае, что он главный, а Николь де ла Мот приставлена к этому идейному борцу только для прикрытия. Ха-ха!
– Конфедерация дала слово, что обеспечит безопасность вашего путешествия. В Польше это легко сделать, но Россия непредсказуема. А здесь вас довезут в целости и сохранности до самого Петербурга. Более того, в вас будут видеть спасителей.
– Но я должен буду во время поездки с русским играть несвойственную мне роль частного лица, – проворчал аббат, начиная сдаваться. – И вести противоестественную игру.
– А в Петербурге вы будете вести естественную для монаха игру?
– Я делаю это для блага Франции, – огрызнулся Арчелли.
– Я тоже думаю о благе Франции… и Польши, – она стрельнула глазами в сторону ротмистра. – Мое положение хуже вашего. Я должна буду предстать перед русским оборванкой и ехать оборванкой.
– Ну, сундуки с платьями мы вам доставим, – поторопился встрять в разговор поляк.
– Если их не разворуют по дороге. И давайте, наконец, обговорим детали. Побег должен состояться ночью, и у нас не так уж много времени.
– Посты в лесу будут предупреждены. Вы поедете в вашей карете?
– Нет, нет, – быстро сказала де ла Мот. – Мы поедем в развалюхе князя Козловского. Там и места больше.
– Готовая карета будет стоять там, где ее оставили, в начале тисовой аллеи.
– Что значит – как оставили? И лошадей не распрягли? Так не бывает.
– Бывает. Объяснение простое: все так перепились, что забыли распрячь лошадей. Теперь надо подумать, как вернуть князю подорожную.
– Это просто, – сказала Николь. – Все его документы были под вторым дном в патронной сумке. Поставим эту сумку туда, где она стояла.
– Под сиденьем в карете?
– Вот пусть там и стоит. Князь может предположить, что вы ее вообще не нашли.
– Но там лежит письмо генерала Любераса к Левенвольде. Это письмо надо аннулировать.
– Зачем? – искренне удивилась Николь. – Я читала это письмо. Люберас выставил Миниха в таком свете, что фельдмаршалу не поздоровится. Эта информация обязательно должна дойти до адресата. Причем письмо подлинное, а это дорогого стоит. И хватит об этом. Обсудим сам побег.
– Это я продумал. В каретный сарай из конюшни ведет дверь. Сейчас она заперта. Дверь откроет ваш возница. Русским скажите, что он ваш слуга, который чудом избежал плена. Его мы потом посадим на козлы. Только, пожалуйста, из конюшни до кареты добирайтесь ползком. Неровен час, охранник вас заметит.
– Так предупредите охранника, – проворчал аббат, которому давно наскучил этот разговор.
– Нельзя предупредить всех. Это секретная операция!
– Но посты же вы предупредили!
– Они знают только, что ночью из лагеря в сторону границы поскачет карета.
Все подробности побега были проговорены до мельчайших подробностей. Аббат на этот раз был со всем согласен, и только когда стали обсуждать, как говорят в мире интриг, новую легенду, он опять заартачился.
– Что значит – моя дочь? Я против.
– Но вы же согласились, что в Петербурге я буду вашей племянницей.
– Племянница – пусть. Католический священник не может иметь детей. Да и по возрасту вы не можете быть моей дочерью.
– Сколько же вам лет? На вид никак не меньше пятидесяти.
– А это, сударыня, уже не вашего ума дело!
Бедный аббат! Ему было сорок четыре. Выглядел он великолепно и знал об этом. Господь хранит от ранней старости слуг своих. Но этой паршивке и грешнице видно доставляет удовольствие его дразнить.
Николь раздражала Арчелли до крайности именно потому, что выглядела очень привлекательной. Нельзя сказать, чтобы аббат воспылал страстью, это не пристало его сану, но он почувствовал вдруг, что под сутаной бьется сердце мужчины, а плоть, орудие дьявола, давала тому подтверждение. Что бы он хотел получить в дар от судьбы? Не о каком телесном романе, разумеется, не может быть и речи, но он мечтал, что красавица Николь отзовется на его чувства. А далее… в момент решительного объяснения он скажет – нет! Церковь поставила меж нами преграду. Смирись! И она смирится, и будет страдать, потому что женщине трудно выжечь любовь из сердца. Она будет страдать, а он утешать. И пусть это длится долго-долго, сколько хватит времени и сил.
– Ну и шут с вами – племянница, так племянница. Вы едете в дом князя… например Нарышкина, чтобы учить его детей французскому и итальянскому языкам…
– Нарышкин не подходит, это слишком известная в Петербурге семья.
– Ну, хорошо, придумайте другую семью. Главное, что вы наняты туда гувернером, а я увязалась за вами. Поляки захватили нас в плен, обобрали до нитки, отняли карету. И всё! А теперь уходите. Я буду переодеваться.
Мужчины покорно встали и вышли из комнаты.
Когда мадам де ла Мот, одетую в простенькое платьице, неприметный плащ и, конечно, розовый шарф, куда же без него, вели вместе с аббатом к каретному сараю, он высказал первую, с точки зрения Николь, здравую мысль.
– Мы сыграем наши роли, доберемся до русской столицы. Но ведь князь Козловский занимает определенное место в Петербурге. Что, если он вращается в свете? Мы можем столкнуться с ним нос к носу в гостиной Бирона. Как в таком случае мы объясним этот наш маскарад. И что он нам скажет?
Николь задумалась только на мгновенье.
– Ничего не скажет. Говорить буду я. А пока нам надо быстро и безопасно добраться до Петербурга. А потом я что-нибудь придумаю!
А он не так глуп, как хочет казаться, подумала она про аббата. И камзол на нем сидит, как влитой. И лет ему не пятьдесят, а гораздо меньше. Экий франт!
10
Прежде чем продолжать наше повествование, надо объяснить его политическую подоплеку. Много я у вас времени не отниму, расскажу о главных событиях в описываемое время быстренько, бегленько. Я, например, так и не объяснила, почему Франция так уж хотела посадить на польский трон Станислава Лещинского. А потому, что, во-первых, он был «законный король», во-вторых, он был пяст, а главное, и это в-третьих, он был тестем Людовика XV. Да, да, его анемичная, бесцветная супруга, королева Мария, носила в девичестве фамилию Лещинская.
Далее. Зачем России иметь на польском троне курфюрста Саксонского? А потому, что это самим Петром Великим завещано. Август II, батюшка ныне царствующего Августа III, занял польский трон в 1697 году после Яна Собесского. Выборы были сложными. Чтобы обойти соперника (принца Конди), будущий Август II потратил на взятки и подкупы десять тысяч гульденов.
В своей неприязни к Швеции Август и Петр I стали союзниками. Петру нужен был выход к морю, Август обещал полякам вернуть уступленные когда-то шведам польские провинции. Это и определило начало Северной войны.
Петр I начал Северную войну, потому что потерпел поражение в Южной. Если бы ему удалось сокрушить турок, Петербург был бы построен на Черном море. Но история, как известно, не имеет сослагательного наклонения и так далее…
Северная война длилась двадцать один год, после чего был заключен Ништадтский мир. Швеция потеряла свои северные владения и власть над Балтийским морем. Но за двадцать один год много произошло важных событий. Первое сражение с Карлом XII под Нарвой кончилось сокрушительным поражением России. Но Карл решил, что Россия от него не уйдет. Для начала он разделался с Польшей. Вот тогда-то шведы и сместили с польского трона Августа Саксонского и утвердили на нем Станислава Лещинского, Познанского воеводу. Для важного события в Варшаве был созван сейм, выборы были вполне законными.
Далее Карл решил занять Москву и покончить с докучливой Русью. На Москву он шел через Украину. Ну а после Полтавы, куда «страдая раной Карл явился» – в ночной перестрелке случайным выстрелом у него была раздроблена стопа, – все вернулось на круги своя. Карл вместе с Мазепой бежал в Турцию – союзницу Швеции, а Петр вернул на польский трон Августа II. Так что саксонский двор являлся как бы русской креатурой.
Сейчас нам кажется, что все это было столь давно, что вообще не стоит об этом говорить. Но когда на дворе 1734 год, все эти события живые, кровавые. Петр умер в 1725 году, то есть девять лет назад. Все эти девять лет в России была слабая власть, и Европа недоумевала – что это за Русь, бывшая Татария? Откуда она взялась и почему продолжает вести себя по-хозяйски, смея выигрывать дипломатические войны? Надо бы запихнуть джина обратно в бутылку и забыть про это восточное государство.
И потом, кто такой Петр Великий? Это он потом приобрел статус гения и стал чуть ли не иконой России. А все последние девять лет в сознании людей он был тиран, такое же чудовище, как Сталин. Да, Петр был Преобразователь, у него были сторонники, преданные ему бесконечно. Но после смерти «орла» все «птенцы» в конец переругались и перегрызли друг другу глотки.
Теперь Анна Иоанновна на престоле. Она, конечно, не чета Петру, но двор ее состоит из европейцев. Кто ее приближенные? Бирон, Остерман, братья Левенвольде, Миних. Это самые крупные фигуры, но и во втором эшелоне полно европейцев. А чего им, спрашивается, радеть о России? Живите себе тихо, отдайте награбленные Петром земли и никто вас трогать не станет. В конце концов, Анна только женщина, она любит роскошь, китайские шелка, брильянты и французские духи. По слухам, она замечательно относится к Франции. Посадим на трон Лещинского и будем дружить августейшими домами. Возобновим дипломатические отношения. Петр Великий приезжал в Париж, и Анна Иоанновна приедет. Мы ее здесь прилично оденем, обласкаем, подарим отменные ружья, говорят, она обожает охоту. Она же европейская женщина! Недаром столько лет прожила в Курляндии. А это уже не Татария, это Европа.
Именно так мыслил король Людовик XV, когда предложил Флери послать в Россию умного человека, ну… двух, которое объяснили бы русскому двору его реальную выгоду.
Флери отнесся к этому плану скептически, но… чем черт не шутит. Если их высочество желает затеять подобную игру, то отчего бы не попробовать? Тайное письмо Шамбера дошло по инстанции, и Флери было доподлинно известно, что Бирон французские деньги взял. Можно, правда, сказать, прикарманил, но это мы потом разберемся, но если фаворит наживку заглотил, то он уже на крючке. Раньше делали ставку на Миниха – сорвалось, датчанин оказался слаб. Но с разумной точки зрения Бирон более перспективная фигура. Франция знала, что любовь в политических делах надежный помощник, а всей Европе было известно, что Анна влюблена в своего обер-камердинера, как мартовская кошка. Более того, в Париже знали, что они живут одной семьей. У Бирона одна жена Бенгина, другая – царица. Еще неизвестно, чьи там дети. Формально они носят фамилию Бирона, но пока это все покрыто мраком. Уж кто-кто, а фаворит сумеет оказать на Анну влияние. Иногда лишнее слово, мелочь незначительная, изъян в поведении могут перевернуть все с ног на голову.
Беда только, что в Россию сейчас просто так не проберешься. Посланцы короля должны будут ехать в Петербург инкогнито. Первой мыслью было обрядить в тайную дорогу Шамбера. Он опытный агент, кроме того, у него личные отношения с фаворитом. Главное, довезти до Петербурга зашифрованное письмо от Флери и объяснить все внятно. Конечно, предстоит торговля. Мы пообещаем русским, что со своей стороны признаем Анну императрицей, заставим турок закрепить за Россией Азов и Швеции рот заткнем.
И тут выяснилось, что Шамбера посылать никак нельзя, потому что здоровье его все еще не пришло в норму. Он просто не доберется до Петербурга. Шамбер встал на дыбы. Почему агент не может быть хромым? Сейчас он на костылях, но через пару недель, от силы через месяц, он сможет передвигаться с палкой. Может быть, это даже лучше в целях конспирации.
Знал бы Шамбер, что князь Козловский, встречу с которым он лелеял в мечтах, находится совсем рядом на русских позициях, он бы не рвался так в Россию. Мечта француза была кровавой и неромантической: встретить князя Матвея, вытрясти из негодяя украденные деньги и прирезать его, как собаку.
В результате решено было разбить операцию «русский вояж», как она стала называться, на два этапа. Вначале едут двое агентов, а им вдогонку, спустя некий разумный срок, отправится Шамбер. Кандидатуры агентов предложил Шамбер. Ими были уже знакомые нам безутешная вдова Николь де ла Мот и аббат Арчелли. Кандидатура Николь не вызвала никаких возражений, ловка, умна, красива, и легенду ей легко придумать. Аббат тоже успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны.
Здесь самое время рассказать подробнее про Арчелли. Он был завербован испанским послом де Лирия в то самое время, когда последние пять лет назад возвращался из России. Всей Европе тогда было ясно, что, как только дряхлеющий Август II испустит дух, все царствующие дома Европы станут предлагать своих кандидатов на польский трон. Были бы деньги и хорошая команда для раскрутки пиара, и тогда престол Речи Посполитой будет в кармане. В XVIII веке все это выглядело несколько скромнее, чем в наше время, но в общем-то очень похоже на теперешнюю предвыборную суету. Люди с тех времен мало изменились. Это научная и техническая мысль преподносит нам каждый день сюрпризы, а головы для осмысления жизни – все те же, и страсти те же.
Словом, Испания решила поучаствовать в общем карнавале. Аббат Арчелли был направлен в Варшаву испанским эмиссаром, как тогда говорили. Решено было выслать в Польшу на предвыборную кампанию миллион песо, шпионская деятельность аббата обходилась Испании куда дешевле – четыреста дублонов в год. Требовалась еще значительная сумма на подкуп Станислава Лещинского, дабы уговорить его отказаться от прав на престол в пользу юного инфанта Филиппа.
Не откажу себе в удовольствии привести текст инструкции, написанной маркизом де ля Пас, министром иностранных дел Испании, для монаха Арчелли.
«Прежде всего, вы должны стараться войти в сношение со всеми главными магнатами Польши и узнать, кто те поляки, которые претендуют на корону. Сблизившись с магнатами, вы должны говорить, что выбор на престол поляка много принесет затруднений и грозит раздорами, что ничего нет лучше, как выбрать иностранного принца.
Заложивши это основание, вы должны с благоразумием и осторожностью выражать свои суждения о качествах и заслугах различных принцев Европы, для того чтобы нечувствительно остановить их внимание на инфанте Филиппе, восхваляя его молодость, обещающую большие дарования. Особенно важно подчеркнуть то, что Испания, удаленная от Польши, никогда не может быть опасна этой республике и никогда не употребит своих сил для разрушения основных законов этого королевства. Нежный возраст принца Филиппа даст ему возможность незаметно усвоить все обычаи страны и переродиться так, чтобы он сделался настоящим поляком».
Арчелли исполнял инструкцию очень точно: интриговал, шептал по гостиным, высказывал суждения, шпионил. Беда только, что, будучи итальянцем, он так и не выучил испанский язык. Французский, однако, он знал с детства, поэтому отчеты писал в Мадрид, но писал по-французски. Одна из его депеш была перехвачена, и он как-то плавно, так и не пристроив испанского принца на трон, незаметно для себя перешел на службу Франции. Принц Филипп, кстати, ездил потом в Россию с желанием выгодно жениться, но тоже как-то не получилось.
Перед поездкой в Россию все было продумано до мелочей: местожительство найдено, подарки в виде ювелирных украшений из Гамбурга высланы и должны были вовремя прийти в Петербург, лица, близкие к русскому двору, с которыми предстояло работать, названы. Теперь главным было благополучно добраться до места.
11
Карета неслась по лесной дороге как бешенная, как уходящий от кровожадного волка олень, или как волк, обманувший охотников. Матвея бросало из стороны в сторону, и он все время задевал локтем больной руки патронную суму, которую Евграф держал на коленях.
– Да поставь ты ее на пол, – кричал он денщику.
Евграф пытался отодвинуться от князя, но суму на пол не спускал. С той самой минуты, как они доползли до тисовой аллее и обнаружили там собственную карету, а потом еще и патронную суму под сиденьем, Евграф держал ее в руках как малого ребенка и даже поглаживал с нежностью. Все, все было на месте – и документы, и депеши, и, главное, деньги. Такую удачу Господь Всемилостивый раз в жизни посылает.
На противоположном сиденье, спиной к козлам, сидела прелестная незнакомка, «ночная дева», как окрестил ее Матвей. Она спала, склонив голову на плечо отца, личико ее до половины было закрыто капюшоном, видны были только плотно сомкнутые глаза и золотистый, тугой, как пружинка, локон на лбу. Кто такая, куда едет? Надо признать со всей очевидностью, что пара эта была послана Матвею самой судьбой.
Все произошло стремительно, можно сказать, – неправдоподобно, словно не сама жизнь, а романист какой-то, недоучка, сочинил сюжет. Лязгнул замок, распахнулась дверь в каретный сарай, и туда с бранью впихнули высокого господина в черном, а потом и дочь его. Девица была так испуганна, так неловка, что наступила на подол платья и непременно повалилась бы прямо на грязный пол, не подхвати ее черный господин. Потом она сидела, уткнув лицо в грудь его, плакала и повторяла: «Батюшка, за что? Почему они нас схватили? Что плохого мы им сделали?»
Французы… Вроде бы не гоже сейчас конфедератам с французами враждовать, но кто поймет эту загадочную польскую нацию? Темно, не разглядишь ничего, но голосок очаровательный. Вспомнился вдруг Париж. Приятно слышать французскую речь. Но девица, пожалуй, не парижанка. Чувствуется какой-то легкий акцент… а может, просто кажется.
Матвей, конечно, не утерпел, сунулся с утешениями. Куда там! Дева так и зашлась от слез. Из невнятного разговора отца с дочерью Матвей понял, что оба они ехали в Россию, где им была обещана работа, что в пути их ограбили, пленили и что девицу зовут Николь.
Евграф оказался более удачливым. Как только слезы иссякли и дева принялась всхлипывать, с ужасом оглядывая сарай, денщик подкатил с грудинкой и хлебом. Вот шельмец! Он всегда хочет есть, худой, как жердь, а обжора фантастическая. И все не впрок, все перегорает в бездонном желудке. При этом твердо уверен, что в любом, даже безвыходном положении, жратва есть лучшее утешение и помощник.
И хлеб, и грудинку девица приняла, поела, и воды попила из горлышка жестяной фляжки.
– Звери, право слово, звери, – ворчал Матвей, грозя кулаком в сторону сопящего под дверью часового.
Девица что-то обиженно лепетала в ответ, а Евграф дергал за рукав барина и все спрашивал: «Что она говорит-то? Переведите, ваше сиятельство… Может, оно нам в помощь».
Матвей отмахивался от прилипчивого денщика, а потом стал переводить всхлипы девицы слово в слово. Она толковала про какого-то слугу, которому удалось бежать, про то, что надо надеяться, что надежда умирает последней, словом, несла всякий вздор. Молчаливый отец тоже изредка открывал рот, но его слова и вовсе не несли никакой информации. Он только сокрушался по поводу своей несчастной судьбы.
Девица вдруг замерла, прислушиваясь, и даже пальчик подняла, упреждая всех, – замрите!
– Бог всегда посылал мне помощь, не оставит он меня и теперь, – прошептала она одними губами.
– Мыши, – пояснил Матвей, пытаясь объяснить скребущийся звук из темного угла.
– Нет, нет, это наше спасенье, – Николь вдруг резво вскочила на ноги и бросилась в темноту.
А дальше все завертелось со скоростью сорвавшегося с петель колодезного ворота. В глубине сарая лязгнула отодвигаемая щеколда. Оказывается, там была дверь, Матвей и не подозревал о ее существовании.
– Скорей, скорей, – страстно шептала Николь и тянула за руку к этой двери Евграфа. – Господин офицер, поторапливайтесь. Мой слуга спас нас. Ну что же вы? И тише, тише…
Надо сказать, что контузия коварная штука. Вроде бы Матвей вполне нормально соображал, но как-то не смог быстро перестроиться. Куда бежать, зачем, если так хорошо сидим и разговариваем? …Евграф пытался тащить раненого барина на горбу, тот вырывался, но в дверях денщик одержал-таки победу, обхватил князя за талию и перенес через порог. Стойла в большинстве своем были пусты, только в двух или трех стояли лошади.
Потом все куда-то ползли. Чужой слуга показывал дорогу. Маленький такой мужичок, соплей перешибешь, а вот решился на подвиг – спас хозяев.
Николь вздрогнула во сне и распахнула глаза, осмотрелась с удивлением, пытаясь вспомнить, где находится, и выпрямилась.
– Батюшка…
Суровый отец уже склонил к дочери участливое лицо:
– Все хорошо, родная. Погони не было. А если и была, то мы от нее ушли. – И тут же обратился к Матвею: – Позвольте представиться.
Познакомились. Далее с двух сторон щедрым потоком полились слова благодарности. Матвей твердил: «Помилуйте, сударь, это я должен вас благодарить, это ваш слуга…» – и так далее. Но господин Арчелли не уступал русскому офицеру в благородстве: «Без вас мы бы не решились на этот шаг. Нас выручила ваша карета. Ваш слуга тоже выше всех похвал». Словесный рыцарский поединок прервала Николь:
– Успокойтесь, господа. Все мы здесь, присутствующие, выше всяких похвал. И будет об этом. Батюшка, вы лучше узнайте у князя Козловского, куда он едет. Обстоятельства наши таковы, что мы вынуждены, даже может быть против желания князя, воспользоваться его помощью.
Матвей так и зашелся в припадке великодушия: как так вообще можно ставить вопрос, да он за честь сочтет, он, может быть, последнее время только и мечтает, как бы оказать милой деве и ее благородному отцу какую-либо услугу.
В таком вот ключе шел разговор. Николь ненавязчиво подбрасывала тему, господин Арчелли подхватывал ее, князь Матвей с горячностью заверял, что он готов умереть, если ему кто-либо помешает снабдить отца и дочь деньгами, довести их до места и проследить за тем, чтобы они устроились с подобающим комфортом, а Евграф, сидя рядом, шипел в ухо барину: «Переведите, ваше сиятельство, может, что-нибудь для дела нужное».
Господи, для какого дела-то? И что тебе, недоумку, здесь может понадобиться? Учитель латыни, испанского, французского, а также ваяния и живописи едет в Петербург к некоему богатому негоцианту, дабы репетиторствовать его детям. С учителем едет его дочь, не оставлять же ее одну. К слову добавим, что учитель вдовец. Уж, наверное, негоциант и без помощи Матвея устроит эту пару надлежащим образом, но этот господин Труберг, или как его там, должен знать, что русский офицер придет проверить, как живется в его доме гувернеру и его дочери, и не обижают ли его детки, и прилежно ли учат латинские глаголы и испанские падежи.
Путешествие протекало чрезвычайно приятно. Матвей вспоминал Париж, играл в галантного кавалера, пытался острить, а Николь смеялась. Батюшка смотрел бирюком, но не перечил дочери, только цедил что-то сквозь зубы, но так невнятно, что молодому человеку лень было вслушиваться и разбирать его ворчание по нитке. Тем более что смех Николь был чрезвычайно звонок, право слово, словно сноп искр вспыхивал над костром. Но чаще всего и совсем не к месту вспоминалась вдруг морская волна, которая нахлынет на берег, а потом, бирюзовая, откатит назад, шурша мокрой галькой.
А что беспокоило Матвея в дороге, так это раненое плечо. И не потому, что от боли зубы сжимал. Больно, конечно, было, но вполне терпимо. Беда была в другом: рана «подтекала», сочилась сукровица, плечо мокло, под мышкой было неопрятно. Матвей панически боялся, что провоняет, а потому все время настаивал, чтобы окошко в карете держали открытым, а Евграф, как назло, затворят створку, мол, застудитесь. Вот, идиот!
Благополучно миновали русскую границу. Документы Матвея были в полном порядке. Про французов он строго сказал, что «это со мной». Не объяснять же полицейскому драгуну, что отец и дочь попали в плен к полякам и лишились паспортов. Драгун было заартачился, мол, хоть какую-нибудь бумажонку покажите. Пришлось повысить голос и сунуть в рожу личное письмо генерала Любераса. Словом, обошлось, пропустили.
И тут, среди родных просторов, не доезжая постоялого двора, Матвей поддался уговорам Евграфа и согласился промыть и наложить свежую повязку на плечо. Остановились у небольшой, тонущей в ивах и черемухе речушки, в которую впадал весьма чистый ручей. Бабочки летают, мес то – лучше не придумаешь.
– Мадемуазель, сударь, наша остановка не займет много времени. Мы ненадолго оставим вас, – галантно сказал Матвей и нырнул вслед за Евграфом в приречные заросли.
Крапива уже вошла в рост, поэтому далеко в чащу углубляться не стали.
– Садитесь, ваше сиятельство, вот тут, на бревнышке, – сказал Евграф, доставая из патронной сумы корпию, ножницы с длинными зубьями и квасцовый камень, дабы прижечь рану. Все эти вещи он выпросил, а может, украл в лазарете перед длинным путешествием.
Прежде чем приступить к процедуре, Евграф критически осмотрел барина. Василькового цвета кафтан с нарядно отороченным по воротнику и обшлагам красным подбоем выглядел так, словно его бросили на пол и долго топтали сапогами. Это мы почистим, грязные места замоем, уже то хорошо, что не надо уродовать кафтан, надетый внакидку. А вот камзол лосиного цвета придется резать, иначе до раны не добраться. Ну и шут с ним, с камзолом, весь бок мокрый от сукровицы, выкинуть к чертям собачьим и все дела!
– Но, но! Я тебе повыкидываю. Чтоб все в целости до дома довез! И меня, и одежду форменную.
С кряхтением и причитаниями Евграф освободил руку барина и от камзола, и от рубахи, и от грязных бинтов. Матвей сидел голый по пояс и сквозь зубы ругался матерно. Больно ведь! Рана загноилась, какие тут, на хрен, квасцы! Ее бы чистым спиртиком промыть, но в распоряжении Евграфа была только ключевая вода.
Евграф только плесканул из ведерка на рану, как вдруг Матвей ахнул, вскочил на ноги и, ломая сучья, ломанул прямо через крапиву к большим, стоящим у самой воды ивам. Евграф подхватил суму, побежал вслед, но на полпути обернулся, чтоб посмотреть, что так напугало князя. Мамзель французская… Она стояла, ухватив рукой ветки черемухи, и, чуть приоткрыв от удивления рот, смотрела вслед денщику. Евграф ничего не сказал, только плюнул в сердцах.
Матвей сыскался у речки, надежно прикрытый плакучими, до земли достающими ветвями.
– Что же вы делаете, Матвей Николаевич! Разве так можно? Всю рану засорили… Листья какие-то, сор лесной…
– Ничего… Листья только на пользу. Бинтуй давай! Да осторожнее. Я, чай, человек, не кобыла…
– А скачете, как отменный жеребец!
К удивлению Евграфа князь запретил прополоскать в ручье пропахший потом и сукровицей камзол.
– Дай сюда, – приказал он денщику, – пусть у меня будет. Так и нес камзол в руках, пока Евграф не запихнул его в багаж.
Первые минуты Матвей не смел поднять глаза на девушку. Стыдно было, что она застала его в таком разобранном виде.
Но неловкость скоро прошла. Николь вела себя так естественно, так сочувствовала своему спутнику и боевым его ранам, что впору было не краснеть, как нашкодивший малец, а распустить павлиний хвост и рассказывать о своих подвигах при взятии Шотланда. Вот ведь рубка была! Но не смог он ничего рассказать, язык словно прилипал в гортани. Так и ехали. Дева щебечет, а он молчит и улыбается глупо.
12
На следующий день, к вечеру, когда до места назначения остался один прогон, случилась неожиданность: колесо слетело с оси. Большого урона не было, только багаж в канаву угодил, да батюшка, мрачный ворчун, по неловкости изволил набить шишку на затылке.
– Только бы до кузни добраться, – причитал Евграф. – Проклятое колесо! Вот и думай теперь – доедет оно до постоялого двора или не доедет. Экая незадача!
Неожиданная задержка в пути не огорчила Николь.
– Папенька, мы пока погуляем…
Этой фразой она сразу как бы приглашала к прогулке Матвея, а также давала понять отцу, что обойдется без его общества, потому что вполне доверяет русскому. Матвей с охотой откликнулся на приглашение. Перед ними расстилались луга, поросшие колокольчиками и розовой смолкой. И конечно, ромашки, куда же без них? Поэтический пейзаж, что и говорить. Узенькая тропочка, петляя, вела к купе деревьев. Птицы пели в траве, высоко в небе ястреб выискивал добычу.
Николь быстрым шагом шла вперед, Матвей еле поспевал за ней. Надо о чем-то разговаривать, думал он. Невежливо идти вот так, молчаливым олухом. Некстати вспомнилось, как он убегал вчера от девицы в кусты. И тут вдруг новая мысль обожгла его. Если вдуматься, то не раны он стеснялся и не обвисшей плетью грязной руки, а собственной наготы. Такого с ним отродясь не было. Вспоминать давешнюю сцену было не только стыдно, но и приятно, томительно. Тогда он ощутил на своих голых плечах и груди ее взгляд как нечто материальное. Николь словно погладила его теплой ладошкой, словно перышком пощекотала. А глаза-то у нее были огромные, удивленные. А какой смысл был в этом взгляде? Нет, он не в состоянии его прочитать. «Старею», – думал со смятением двадцатишестилетний князь.
А чего это он, собственно, приуныл? Понравилась девица, иди до конца. Тем более что Николь из простых, гувернерова дочь, что стесняться-то? Комплиментами сыпь, встань на колено с приличной речью, ручку облобызай – и она твоя. Но не хотелось ему вставать средь полей на колено. Глупо как-то… Плечики у нее такие худенькие, грудки маленькие, как китайские розетки под варенье, и глазищи в пол-лица.
Николь вдруг остановилась и оглянулась с вопросительным взглядом. Матвей сразу покраснел, лицо пошло пятнами, как у золотушного.
– Что? – спросил он испуганно.
– Ручей…
– Кабы не моя раненая рука, я перенес бы вас как пушинку.
– Не надо… как пушинку. Здесь камни, я могу по ним перейти. Позвольте опереться на вашу руку?
– О!
Николь все-таки замочила туфельки, а может, просто сказала, что замочила. Пришлось вернуться. На обратном пути произошел разговор, который оставил в душе Матвея странное, непонятное чувство.
А случилось все так. Он, наконец, взял себя в руки, набрал букет цветов и с поклоном вручил их Николь. Она благосклонно их приняла и сразу стала похожа на пейзанку с модной картинки, только соломенной шляпки не хватало.
– Теперь вы похожи на пастушку.
– Теперь? А раньше на кого я была похожа?
– Ну, про пастушку я просто так сказал. Я видел такой мозаик на табакерке. Но вас я почему-то представляю на море. Эдак знаете, чтоб брызги в лицо, нос корабля рассекает седую волну…
Он продолжал говорить пышно, витиевато, Николь смеялась. Позволим себе высказать догадку, о чем именно она думала. Уже с уст ее готова была сорваться поощрительная фраза, что-нибудь вроде: «Какой вы, право, еще мальчик», или нет, так нельзя, еще обидится, надо сказать: «Я и не догадывалась, сударь, как вы юны душой», но вместо этого она переспросила довольно резко:
– Какая дама на палубе? Какой розовый шарф?
– Длинный, – с готовностью отозвался Матвей, – а она в черном плаще. Рядом фок мачта. И шарф задевает эту мачту, вот-вот обовьет.
– Где вы видели эту даму?
Матвей глянул на Николь внимательно, настороженность в ее голосе его смутила.
– Наверное, во сне, – сказал он по возможности беспечно и поспешил перевести разговор на сельский пейзаж.
Впрочем, он мог и не стараться. Разговор как-то сам собой иссяк.
Вопреки переживаниям Евграфа, наши путешественники вполне благополучно добралась до постоялого двора и кузни. Карета требовала серьезной починки. Последний перед столицей постоялый двор не отличался от прочих: не большой, не маленький, в меру грязный, с мышиным писком за печкой, с черными тараканами у немецкого поставца с оловянной посудой.
Этот последний вечер Матвей вспоминал как в тумане. Сам он лег в большой комнате на лавке, Николь разместилась за плотной занавеской в углу. Где папенька, дай бог памяти, ночевал? А кто его знает, где-то тут же. Еще запомнилась рябая девка, которая таскала одеяла и овчинные тулупы. Матвей спрашивал: «Зачем тулупы, уже июнь на дворе?» А девка отвечала: «Дак ноги прикрыть. Утренники еще студеные». Оспа хоть и попортила ей лицо, изуродовать до конца не смогла, руки сильные, ухватистые, носик точеный, покрывающий волосы плат украшал мелкий северный жемчуг, в ушах серьги с яркими стекляшками. Знатная девка!
А дальше – туман. Что ели, что пили, как в постели укладывались – ничего Матвей не помнил. Проснулся утром с больной головой, плечо ныло, как кипятком ошпаренное. Тут же выяснилось, что последний прогон до столицы ему предстоит совершить в одиночестве, то есть в обществе Евграфа. Прелестная Николь и благородный отец, оказывается, уже уехали. Как, с кем? Матвей бросился к Евграфу – что ж не разбудил, тетеря глупая? Денщик даже не счел нужным оправдываться, он-де тоже спал. Объяснение дала рябая девка. Оказывается, недавние их попутчики случайно встретили на постоялом дворе соотечественников и отбыли с ними в неизвестном направлении.
Матвей расхохотался нервно. Ну, знаете, это уж ни в какие ворота! Эти самые «последние трактиры», последние в смысле перед пунктом назначения, играют в его жизни роковую роль. Но с Польшей понятно. Там перед Варшавой он напился как свинья, потому и не помнил ничего. И здесь-то он и выпил всего две кружки браги. Правда, в иных трактирах такую брагу варят, она быка с ног может свалить.
Отсмеявшись над своей глупой судьбой, Матвей начал ругаться. Евграфу бы молчать в тряпочку и продолжать заниматься делом, а он не утерпел, принялся как бы утешать, а вернее сказать, давать собственную оценку происходящему. И делал он это в совершенно недопустимой манере. Евграф вытащил барина с поля боя и теперь считал, что несет за него ответственность. Перед кем? Перед Богом, наверное. Перед Богом теперь он и отчитывался.
– Смышленая девица, – бормотал он, разбирая багаж. – Вы, ваше сиятельство, человек рассудка нехолодного и тяготеете к восторгу. А она дева созрелая, спелая. Слепому видно, что она вас соблазняет и дурачит. Я это еще в сарае приметил, когда в полону сидели. И не верю я ни в каких соотечественников. Ямщик проезжий мне сказал, что они верхами отбыли. Может, врет или путает чего… Но в любом случае надо проверить, целы ли у нас деньги, потому что и дочка, и папенька говорили, что у них поляки все отняли, ни дуката, ни форинта, ни рублика не оставили.
Вот тут Матвей и дал выход своему гневу. Он залепил денщику такую затрещину, что тот с перепугу на пол сел и потом, держась за ухо, только таращился изумленно.
– Ты хочешь сказать, что они у нас деньги украли?
Содержимое сумы было вывалено на лавку: роговая натруска для пороха, огниво, корпия, бинты льняные, портупея лосиная с пряжкой, документы, деньги, ножницы, депеши от генерала Любераса – все в кучу. Евграф бросился спасать свое добро.
Все деньги были целы. Пока денщик, подвывая от негодования, аккуратно складывал содержимое сумы, Матвей решил проверить наличие единственного документа, за которого он сам нес ответственность. Этим документом было письмо, зашитое агентом Петровым под подкладку его форменной одежды. Черт, он про него и забыл совсем! Матвей тщательно обследовал камзол. Перевязывая барина, Евграф подрезал на камзоле рукав. Под подкладкой ничего не было. Может, обронили секретное послание в момент перевязки?
– Ваше сиятельство, Матвей Николаевич, письмо было в кафтан зашито. Камзол здесь ни при чем.
Матвей схватил кафтан. Неужели письмецо так истончилось в дороге, что превратилось в тряпочку и не обнаруживается на ощупь? Пришлось пороть. Нитки были крепкими, в ход пошел нож. Евграф не мог видеть, как барин кромсает только что почищенный кафтан, а потому отпихивал князя, приговаривая: дайте я, нельзя же так.
– Да погоди ты, в самом деле?
Письма не было. Удивительно, что, осознав потерю, Матвей скорее не огорчился, а обрадовался. Теперь не нужно идти к Бирону с этим дурацким посланием агента Петрова. Встреча с фаворитом таила любые неприятности, еще, не приведи господь, нагрузит новым шпионским заданием.
– Вы что молчите, ваше сиятельство? Кто письмо похитил?
– Поляки, – пожал плечами Матвей.
– Да вы и не снимали кафтан в той усадьбе, а в карете его всегда в накидку носили.
Евграф взял кафтан в руки, обследовал его внимательно и обнаружил дыру под мышкой. Края дыры были ровные, словно ножом разрезанные. Он попробовал сунуть в дыру руку – не получилось. «Сюда только женская ручка пролезет», – подумал денщик, но вслух ничего не сказал. Зачем ему получать новые затрещины? Имя девицы Николь теперь было для него под запретом.
– А можно спросить, что в том письме было написано?
– Да не читал я. Отродясь в чужие письма нос не сую. «А зря», – подумал умный денщик и был, конечно, прав.
Часть вторая
1
Шведский посол Нолькен квартировал в небольшом особняке в Адмиралтейской стороне близ церкви Св. Симео на и Анны, отстроенной только что на радость обывателей архитектором Земцовым. Рядом с собором, блестевшим свежей краской и нарядным декором, особняк Нолькена выглядел неказистым, и сад рядом чахлый, а на задворках – болото с жесткой осокой.
Но это только внешне каменный особнячок, семь окон по фасаду, был скромен. Войди внутрь и увидишь старинные, искусной работы шпалеры, крытые серебряной амальгамой зеркала, китайский фарфор в поставце и роскошную, на сорок рожков люстру-паникадило над новомодным раздвижным столом.
За этим столом и ужинали. Поскольку гостьей посла была одна мадам де ла Мот, то бишь Николь, стол раздвигать не стали, паникадило на зажгли, а рядом с тарелками поставили шандалы с восковым свечами, но накормили сытно, правда, без особых изысков.
Николь уплетала за обе щеки и усмехалась про себя. Дома в Швеции Нолькен был не то чтобы скуп, но бережлив, посуда роскошная, а есть нечего, а в Петербурге вдруг и расщедрился. Видно, это русские на посла так повлияли, всем в Европе известно их неуемное гостеприимство. Да и роскошь в доме была совершенно неумеренной для протестантской Швеции.
Перешли к десерту. Попивая горячий глинтвейн, Николь молчала. Пусть сам задает вопросы. Она не девочка, чтобы отчитываться. Посол словно подслушал ее мысли, отодвинул граненый бокал и приступил к серьезному разговору. Здесь уже она все с готовностью выложила, вернее, почти все. Перед шведским послом Николь не надо было таиться, но любая женщина оставляет кой-что про запас.
Конечно, она не сказала, что в дым разругалась со своим спутником Арчелли. По приезде в Петербург аббат сразу облачился в сутану. Католическая одежда преобразила его характер. Он и раньше был назидателен, но, ощутив на плечах привычное одеяние, стал просто невозможен. Главным грехом Арчелли, а их у аббата было предостаточно, была непомерная гордость, граничащая со спесью.
Они остановились в доме некоего негоцианта, который, кажется, вообще не имел национальности, поскольку торговал со всей Европой и на всех иностранных языках изъяснялся. В дела своих постояльцев он не вмешивался и был предельно вежлив и предупредителен.
Уже на следующий день Арчелли отправился по своим делам. На вопросы Николь он решительно заявил, что не будет отчитываться перед ней, что она всего лишь переводчица, потому призовет ее к исполнению своих обязанностей только в случае реальной необходимости.
Ах, так? Тогда и она, Николь де ла Мот, будет вести свою игру, не оповещая об этом спесивого монаха. О посещении шведского посла она ничего не сказала своему спутнику. Хотя справедливости ради надо заметить, что, будь Арчелли обворожителен и кроток, как овца, она все равно бы ни словом не обмолвилась бы о Нолькете. Задача аббата – получить аудиенцию у Бирона, войти к нему в доверие и руками фаворита осуществлять далеко идущие планы. А Николь не нужен Бирон.
Я расскажу вам о своих намерениях, господин посол. Я не знаю русского двора, не знаю, в какие узлы завязаны здесь интриги, поэтому прошу вашего совета – с чего начать? Я готова с полной откровенностью объяснить вам свою задачу. Да, да, вы все понимаете правильно. Я должна попасть в круг доверия царицы, войти к ней в доверие и уже после этого путем разумных и неспешных бесед склонить их высочество к изменению политики в отношении Франции.
Она, Николь, продумала и детально проработала два пути. Первый: завязать отношения с принцессой Елизаветой, дочерью покойного императора Петра. Говорят, она модница, любит красивую одежду, драгоценности и преклоняется перед французской модой.
– А второй? – перебил Нолькен.
Николь удивленно посмотрела на собеседника. Видно, ему чем-то не понравился первый вариант. Что ж, расскажем второй. Во втором варианте ставка была сделана тоже на женщину – племянницу царицы юную Анну Леопольдовну. Принцессе шестнадцать лет, известно, что она умна, но подвержена чужому влиянию. Еще в Париже говорят, что царица Анна надумала выдать замуж племянницу за принца Антона Брауншвейгского, дабы рожденный от этого брака мальчик стал наследником русского трона. Так?
– Так, – согласился Нолькен. – Но брак отложен до совершеннолетия принцессы, поэтому наследника придется ждать не менее трех лет, а может быть, и того дольше. Но вы правы в том, что царица действительно привязана к своей племяннице. Я могу вас представить принцессе Анне. Это трудно, но возможно. Боюсь только, что дальше светских разговоров дело не пойдет, – он насмешливо фыркнул. – Легко сказать – войти в доверие…
– Это я придумала, – оживилась Николь. – У русской принцессы есть воспитательница генеральша Адеркас, француженка. Сейчас она вдова. Стало известно, что после смерти мужа она испытывает материальные затруднения и вообще намерена уехать на родину.
– Я об этом ничего не знаю, – лицо посла приняло сосредоточенное выражение. – Но генеральша Адеркас по-прежнему близка к принцессе. Вопрос только – как вас представить и объяснить ваше появление в Петербурге? Под каким именем вы числитесь?
– Под своим, – рассмеялась Николь. – Самая лучшая легенда – это правда. И не будем ее скрывать, – она вздохнула легко. – Не надо перекраивать мою судьбу.
Нолькен понимающе кивнул головой.
В десять вечера Николь заторопилась домой, но послу не хотелось сразу отпускать хорошенькую гостью. Мало на свете дам, которые имели бы такую ясную голову и судили так здраво о политических делах Европы.
– Полноте, моя дорогая. Еще совсем светло.
– Ненавижу это время! Сейчас хоть какая-то ночь, но скоро наступит вечный день и придется спать с задернутыми шторами. А я, засыпая, люблю видеть небо.
– В начале лета небо здесь темное от комаров. Гнилой климат. Я поставил на окна сетки, но они мешают проникновению свежего воздуха. А русских это почему-то не беспокоит. Они привыкли спать в духоте.
Николь еще поворчала для порядку, но согласилась пройти в сад выпить кофе. Столик поставили под молодым разлапистым каштаном, цветущие розовые свечки живо напомнили Париж. Рядом тихонько журчал фонтан. Струя била из разверстой пасти рыбины, отдаленно напоминавшей дельфина. Где-то совсем рядом залаяла собака, и тут же грубый мужской голос обрушился на нее с бранью. Видимо, мужик бил несчастное животное, потому что собака вначале выла, потом начала скулить и, наконец, визжать жалобно. Николь казалось, что она слышит свист хлыста или плетки.
– Это у соседей, – пояснил Нолькен. – Варварская страна.
Собачий скулеж наконец стих. Карета проехала по улице, слышно было, как под колесами ходят ходуном бревна отмостки, и опять все стихло.
– Вы считаете, что мне не надо знакомиться с принцессой Елизаветой?
– Царевной. В отличие от принцессы Анны здесь Елизавету зовут царевной. Елизавете двадцать три года, и она все еще не замужем.
Принесли кофе. Он оказался пахучим, крепким. Нолькен откровенно наслаждался напитком.
– Послушайте, как журчит фонтан. Кажется, совсем, как дома, но это иллюзия. Здесь все не так. Россия трудная страна. Я желаю вам всяческих успехов, но вам будет не легко, – добавил он вдруг ласково, с почти отеческой интонацией. – И на что только вам приходится тратить молодость…
– Ну да… молодость и красоту, – рассмеялась Николь.
– Прекрасной вдовой хорошо быть только в анекдотах. А на деле… Вам бы тоже не мешало подумать о замужестве.
– Считайте, что я коплю себе на приданое.
Нолькен вдруг начал скрупулезно перечислять женихов царевны Елизаветы, он морщил лоб, загибал пальцы, словно боялся кого-нибудь забыть. Первый в списке был король Людовик XV. Тогда будущему королю было всего семь лет, а царевне Елизавете – восемь. Царь Петр был чудовищно честолюбив и напорист, он был уверен, что сватовство состоится. Но Флери не допустил этого брака. После Ништадтского мира царь повторил попытку, но Людовик XV был уже женат, как вы знаете, на испанской инфанте. Выдать замуж Елизавету за принца крови так и не получилось. Остерман в свое время даже хотел сочетать ее браком с царем Петром II. Церковь этому воспротивилась. Православие запрещает столь близкие браки. Еще царевну сватали за Морица Саксонского и герцога Фердинанда Курлядского.
– И поэтому Елизавету не любит царица Анна? – не выдержала Николь. – Мориц Саксонский, если мне не изменяет память, сватался и за саму царицу, когда она жила в Курляндии.
Нолькен рассмеялся.
– Похоже, вам известно не меньше, чем мне. Тогда зачем я все это рассказываю?
– Чтобы я поняла, что общаться с царевной Елизаветой не перспективно.
– Более того – опасно! – посол поднял палец. – При дворе Елизавета всем только мешает. Царица боится, что она предъявит права на трон.
– А Елизавета хочет этого?
– Ни в коей мере. Но в России есть силы, которые спят и видят, как бы посадить на стол «искорку Петрову». А пока Остерман старается найти в немецких землях какого-нибудь захудалого принца и сбыть Елизавету с рук. Правда, этому неизвестно почему препятствует Бирон.
– Может, он влюблен в Елизавету?
Нолькен прижал палец к губам.
– Тише, об этом в России не только говорить, но и думать опасно.
Николь пожала плечами, мол, вы мне столько всего наговорили – и ничего, а невинное замечание о любви – это, оказывается, крамола. Нолькен поторопился объяснить.
– Бирона всуе вообще лучше не поминать. Он связан браком с достойной Бенгиной, она родила ему детей, но влюблен он только в одну женщину. И так будет до скончания веков.
– Я поняла, в царицу… – прошептала Николь.
Белый мотылек, предвестник ночи, упал ей в подол, запутался в складках и стал биться, желая улететь. Она чуть сжала мотылька в кулаке. Он мягко терся о ладонь. Почему-то вдруг вспомнился недавний попутчик князь Козловский. Не трудно было догадаться, что долговязый офицер успел в нее влюбиться. Дурачок, и не дурен… Но опасный дурачок. Она сделает все, чтобы никогда с ним не встретиться.
Нолькен меж тем рассказывал о последних депешах из Стокгольма. Хотите, я вас развеселю? Видимо, это действительно казалось ему смешным. Вообразите, милая, дома образовалось два военных клана. И названия у них смешные. Борьба «колпаков» и «шляп». И война между ними идет нешуточная. Пока, правда, дело не дошло до драки, все ограничиваются пустой братью.
– Колпаков? Почему? – рассеянно переспросила Николь, она плохо слушала посла.
– Шляпы – это военная партия, которая рвется воевать с Россией и вернуть завоеванные царем Петром земли. Не забывайте, срок Ништадтского мира подходит к концу. Ну а колпаки, разумеется, умеренные, они против войны. Они за мир.
– А вы к какой партии принадлежите? Вы в колпаке или в шляпе? – лукаво спросила Николь.
– Я в парике. Я за здравый смысл.
Николь понимающе кивнула и добавила сквозь зубы:
– Ненавижу Россию.
2
Нолькен сдержал обещание и в конце недели пригласил ее на ужин к саксонскому посланнику. Общество собралось небольшое, изысканное. Вначале стол накрыли на восемь кувертов, потом добавили еще два, для одной русской пары.
Нолькен точно рассчитал время прихода, оно совпало с появлением их высочества принцессы Анны Леопольдовны со свитой. Кроме воспитательницы принцессы генеральши Адеркас, с помощью которой Николь собиралась мостить дорогу к русскому трону, и бойкой девицы по имени Юлия Мегден, в дом вошел еще гвардейский офицер. Он представлял собой охрану, в покои допущен не был и скрылся где-то в людской.
Нолькен отрекомендовал Николь как свою дальнюю родственницу. Женщины осмотрели ее критически и тут же о ней забыли, чинно уселись за стол и принялись за еду. Выдержанная в светло-коричневых тонах столовая казалась мрачноватой, стены украшали картины в богатых рамах, все какие-то пейзажи с полуголыми нимфами и пастухами. Николь мало понимала в живописи, но в посуде знала толк, и отметила про себя, что английской работы серебро в доме саксонского посланника было великолепным.
Пока гости выпили по одному бокалу вина и приступили к первой перемене блюд, а также к обязательным ничего не значащим разговорам о польской войне, новом доме Волынского, о появлении в царском зверинце очередного леопарда и об осушении болот близ Невского монастыря, на кладбище не проедешь, автор позволит себе рассказать о главном действующем лице этой главы – племяннице царицы.
Напряженная, скованная, обряженная в платье робу с крупным цветным орнаментом, Анна Леопольдовна выглядела как девочка-отроковица, примерившая чужую одежду. В эдаком наряде с фижмами, еле в дверь войдешь, уместно быть на балу, а не на скромном ужине. Но, видно, окружение принцессы рассуждало иначе. Она мать будущего наследника, надежда престола русского, а потому должна в любое время дня и ночи, если показываешься на люди, выглядеть торжественно.
Итак, краткая биографическая справка. Можно было бы дать сноску, но мелкий текст внизу страницы обычно трудно и скучно читать. Впрочем, если читатель торопится за сюжетом, он и в тексте может опустить «глоссарий».
Анна Леопольдовна, племянница царицы и внучатая племянница Петра I, родилась в Ростоке в 1718 году. При крещении по протестанскому обряду получила имя Елизаветы Христины. Мать – Катерина Иоанновна, отец – герцог Карл-Леопольд Мекленбург-Шверинский. Про Карла Леопольда вся Европа знала, что он самодур, дурак и деспот, словом, чудовище. Родители разбежались, когда девочке было три года. Катерина Иоанновна вернулась с дочкой в Россию и жила у матери, царицы Прасковьи Федоровны.
Жизнь не сулила девочке ничего хорошего, но в тринадцать лет судьба вдруг улыбнулась. Тетка стала царицей и забрала племянницу к себе. Елизавету Христину объявили матерью будущего наследника престола. Вот как бывает в царствующих семьях. К слову скажем, что именно мальчика она и родила через восемь лет, а пока-то еще и жениха нет.
Девочку стали готовить к будущей великой судьбе, окружили свитой, охраной, наставниками. Тогда же появилась воспитательница Адеркас, шустрая и преданная юной госпоже женщина. В православии Елизавету Христину наставлял сам Феофан Прокопович.
Стали искать жениха, конечно, среди немцев. Брачным контактом занимался старший Левенвольде. Претендентов было двое. Первый, Карл, – представлял интересы Пруссии. Второй – Антон-Ульрих Брауншвейг-Беверн-Люнебургский. Чем меньше княжество, тем длиннее титул. Последний жених был неказист, но брак с ним способствовал сближению с Австрией, а это вполне соответствовало планам русского двора и особенно Остермана.
Антон-Ульрих прибыл в Петербург в январе 1733 года (напомним, что сейчас 1734-й), был принят на русскую службу, а в мае он уже присутствовал на чрезвычайно торжественном обряде принятия Елизаветой Христиной православия. Девочку нарекли Анной, отныне она, как при монастырском постриге, должна была забыть свое имя.
Дальше встал вопрос о свадьбе. Ее решено было отложить до совершеннолетия принцессы. Вообще-то, пятнадцать лет, можно и под венец идти, но при дворе сплетничали, что жених очень не приглянулся царице. Как говорится, ни кожи, ни рожи, ни ума, ни роста. Плохонький был жених, однако на портрете того времени он выглядит великолепно. Роскошный, почти до пояса, парик, – тугие локоны, тысячи локонов, на плечах плащ с горностаем, рядом атрибуты рыцарства: шлем с забралом, лавровые ветви, герб со львом и оленем. И умные красивые глаза… Поди разберись, кто врут, историки или живописцы. Судьба Антона-Ульриха, и супруги его Анны Леопольдовны, и детей их была ужасна, ужасна…
Но сейчас не время говорить об этом, вернемся к обеденному столу. Мадам де ла Мот не принимала участия в общем разговоре, впрочем, довольно вялом. Телятина была отлично приготовлена, мясо так и таяло во рту. Казалось, она полностью поглощена едой, но на самом деле она работала. Надо было рассмотреть сотрапезников, хотя бы начерно определить характер каждого, понять, что связывает этих людей. Ведь не даром, сказал Нолькен, они собираются вместе почти каждую пятницу. Интимный кружок… В Париже бы сказали – салон. Но старый посланник саксонского двора никак не был похож на властителя дум и мастера задушевной беседы, объединяющий под своим кровом столичную мысль. Да и нет в России общественной мысли? Если она где-то и теплится, то уж никак ни в этой мрачной гостиной.
Про теперешнего посланника говорили, что он болен, скуп, и на вид еще старее, чем на самом деле. Именно поэтому ему на смену явился красавец граф Линар. Вот он сидит на торце стола – душа компании, дамский угодник.
Граф выглядел великолепно: высокий, хорошо сложенный, выбрит так тщательно, что подбородок кажется шелковым, на ум невольно приходят оперные кастраты. И одет… камзол его из небеленого льна, вышитый зеленым и абрикосовым шелком, шили наверняка в Париже. В Саксонии еще не доросли до такого изыска. Линар острил, делал дамам комплименты и беззастенчиво пялился на юную принцессу. Играл ли он или впрямь был очарован, понять было трудно, но глаза его так и лучились восторгом.
Худенькая, миловидная, прическа, пожалуй, ей не идет, букли над ушами еще можно стерпеть, но два длинных, как сосульки, жидких локона явно не красят принцессу. И с румянами перемудрили, левая щека явно ярче. Может быть, она зарделась оттого, что обращена к Линару?
А глаза красивые, и грудь великолепная. Шестнадцать лет, еще расти и расти, а вполне может позволить себе любое декольте. Николь болезненно относилась к этой части туалета. Природа не наградила ее красивым бюстом, так только – легкое вздутие с сосцами, поэтому даже если она и надевала декольтированное платье (как же иначе пойдешь на бал?), то обязательно набрасывала на плечи прозрачную шаль или кружевную мантилью.
Принцесса благосклонно принимала ухаживание графа Линара. Правда, разговаривала за нее Юлия Менгден, наша высокородная красавица только краснела, но глазками, они у нее раскосые, как у лани, стреляла весьма выразительно.
Главной болтушкой за столом была генеральша Адеркас. Свои словесные трели она выдавала порционно. Выскажется на одном дыхании, потом умолкнет вдруг и заглянет задумчиво в куверт, словно в кофейную чашку, по дну которой иные умеют читать судьбу. Услужливый лакей тут же куверт и наполнит.
Николь не заметила, как разговор за столом пошел о ней самой, Нолькен вставился с информацией очень ловко. Разговор зашел о счастливых и несчастных браках. Тема волновала всех. Каждый как бы намекал на предстоящее венчание принцессы с Антоном-Ульрихом, и хоть имя жениха не было произнесено, настроение было создано: здесь проглядывало и сочувствие, и надежда, что свадьба расстроится или будет отложена на неопределенный срок. Красавец Линар с грустной улыбкой вспомнил свою супругу, урожденную Флеминг, чудную женщину, с которой его «разъяла смерть». Вот тут Нолькен и вставился с рекомендациями Николь. Да, да, смерть никого не щадит, мадам де ла Мот тоже вдова. На долю мадам де ла Мот выпало много превратностей. Превратности были тут же перечислены. Отец мадам де Мот рано ушел из жизни. После смерти отца наша очаровательная Николь осталась совсем одна в Стокгольме. Подвернулась хорошая партия. Муж, французский генерал, увез ее в Париж. Но ничто не вечно. Он тоже ушел из жизни. Теперь мадам де ла Мот приехала в Россию на поиск дальних родственников. Жестокое время разметало их по всей Европе.
Нолькен был прирожденным дипломатом. Он умел так сообщить нужные сведения, так описать скорбные события, что это вызывало искреннее сочувствие. При этом вся информация давалось дозированно, обтекаемо, ни одного лишнего слова. Причина, по которой Николь приехала в Петербург, выглядела вполне убедительной, а больше ей ничего и не надо было. Завтра генеральша Адеркас раззвонит в свете об очаровательной шведке, кумушки будут задавать вопросы и сами же на них отвечать, потому что больше некому.
– Я буду рассчитывать на вашу помощь, – скромно и с достоинством молвила мадам де ла Мот.
Взоры всех обратились к принцессе. Она не сразу поняла, что от нее ждут, испуганно посмотрела на воспитательницу. Изрядно опьяневшая генеральша вытерла губы кружевным платочком, потом чуть слышно пробормотала подсказку.
– Я буду рада видеть вас у себя, – сказала застенчиво Анна Леопольдовна. – Ну… завтра вечером. Мы никуда не приглашены.
Генеральша заверила, что именно завтрашний вечер у них свободен.
Николь мысленно возблагодарила судьбу, которая надоумила ее не торопиться с личным визитом к мадам Адеркас. Письмо от дальнего родственника, состряпанное в Париже, принесло бы гораздо меньше пользы, чем рекомендации Нолькена. А роскошную брошь с сапфиром и жемчугом подарить никогда не поздно. Для принцессы тоже был припасен достойный подарок. Необходимо было только приурочить его к какой-нибудь дате, чтобы все выглядело естественным.
– За один вечер вы сделали для меня больше, чем я за неделю пребывания в Петербурге, – сказала Николь, когда Нолькен подвозил ее к дому негоцианта.
– Это моя работа.
– Можно вопрос? Что такое граф Линар?
– Считайте, что он уже представляет в России Саксонию. Через несколько дней старый посланник уезжает в Дрезден.
– Но Линар так молод.
– Молод? Ему около сорока.
Николь была искренне удивлена.
– Я была уверена, что ему нет и тридцати.
– Порода такая. Вечный мальчик… Граф всегда носит одежду светлых тонов и более всего в жизни заботится о белизне и гладкости кожи. Злые языки уверяют, что для удержания молодости он пьет грудное молоко и каждую ночь перед сном покрывает лицо и руки специальной помадой. А потом спит в маске и в перчатках.
– И в его годы так откровенно волочиться за принцессой!
– А почему бы нет. Тем более что она уже не раз оказывала ему знаки внимания. Не сама, конечно, но через генеральшу и эту несносную Мегден. Сама Анна Леопольдовна очень податлива.
«Как лайковая перчатка, – подумала Николь. – Новая, блестящая, мягкая перчатка, кто натянет ее на уверенные пальцы?» Мадам де Мот поймала себя на мысли, что чувствует симпатию к юной принцессе и жалеет ее.
3
А теперь мы вернемся назад, чтобы рассказать о судьбе Лизоньки Сурмиловой, брошенной нами в замке Гондлевских. Старания Сурмилова об обеспечении надежного русского конвоя имели успех, видно, откупщик «подмазал» не только генералов, но и младшие чины, и в середине декабря Лизонька благополучно прибыла в Петербург. По случаю обретения дочери папенька заказал молебен в соседней церкви, но не успокоился на этом и заказал еще более роскошную службу в соборе Святого Андрея на Васильевском острове на Большой першпективе, что ведет к галерной гавани и бирже. Собор этот не отличался особым богатством, можно даже сказать, что он был скромен, но в нем последнее время стали собираться кавалеры ордена Андрея Первозванного. А это все бояре, сановники, лучшие люди государства. Поэтому Сурмилов быстро сочинил подобающую легенду, де, знает этот собор чуть ли не с юности, де, квартировал тут поблизости и захаживал в него регулярно, а потому считает, что будущим своим успехам в деле обязан исключительно св. Андрею.
Священник улыбнулся в усы, только и дело Андрею Первозванному, что заботиться о процветании виноделия в России, но службу отслужил знатно. Приглашенные были разношерстны в смысле богатства и положения, но должники, которым Сурмилов давал деньгами под малые проценты, а среди них были и графы и князья, присутствовали в полном составе.
После молебна, когда Сурмилов ждал дочь у кареты, к нему подошел небольшого роста, скромно одетый молодой человек, представился без упоминания чина и вежливо, но без подобострастия высказал слова благодарности. Он, вишь, имел счастье квартировать в сурмиловской загородной усадьбе в отсутствие там хозяев. Карп Ильич выслушал все эти излияния без благосклонности. Может быть, я по милости судьбы и стал твоим благодетелем, но ты, по малости своей, должен высказывать признательность в подобающем месте, а не у всех на виду.
Молодого человека не смутила нелюбезность откупщика, он спокойно удалился, сел на лошадь, кстати, очень порядочную, и ускакал в неизвестном направление, а Сурмилов до самого дома все пытался вспомнить, откуда он знает эту фамилию – Люберов. Потом вспомнил, как же, как же, был такой богатей, сукном занимался, осужден по пятому пункту, то есть враг царицы и отечества, а потому сослан в Сибирь. Отец, значит, сослан, а сын на свободе разгуливает? Что-то здесь не так.
Скоро Карп Ильич узнал подноготную этого дела. Оказалось, что сынок – Родион Люберов – ни много ни мало состоит на службе у самого Бирона, и не только на хорошем счету, но, как говорили, «вхож». Одним словом, «свой при дворе человек». Именно поэтому в списке приглашенных на бал, который Сурмилов закатил на Масленицу, Родион Люберов занимал вполне почетное место.
Закон петровского времени предписывал лицам, в доме которых устраиваются ассамблеи, непременно вывешивать афишку с извещением для лиц обеих полов. Сурмилов, как человек новой закалки, пренебрег этим правилом. Он заказал пригласительные билеты на хорошей бумаге и разослал приглашенным.
Гостей понаехало даже больше, чем ожидалось. Въезд в парк был обозначен двумя гранитными колоннами, двум каретам можно разъехаться без всякого ущерба, но карет было столько, что они выстроились вереницей, запрудив прилегающие улицы. По широкой расчищенной от снега аллее, обсаженной лиственницами, гости попадали в дом.
О сурмиловском особняке ходило много легенд. Говорили об огромном, на аглицкий манер построенном камине и драгоценных голландских изразцах, коими были выложены не только печи, но сами стены и даже полы. Особенно волновала всех новомодная французская мебель, которую откупщик вывез из самого Парижа, вывез тайно, таясь не от французов, а от своих, которые, увидев такую красоту, непременно отобрали бы ее в казну под видом налога.
Была мебель, не много, но была. Форма у стола и двух кресел вроде простая, но украшение красоты немыслимой. Все изукрашено инкрустациями из черепашьего панциря и фигурной бронзы. Иным совсем не понравились – слишком скромно, но особое недоумение гостей, кои за границей никогда не бывали, вызвало название мебелей – Буль. Смешно, словно кто-то тонет и пузыри пускает – буль, буль… Потом разъяснилось. Оказывается, Буль – это имя художника, а может, мастера, который преставился, несчастный, совсем недавно в возрасте девяносто лет. Луи Буль…
Но если честно говорить, то больше, чем все эти французские игрушки, гостей заинтересовал обеденный стол – роскошный, с первостатейными закусками, дорогими винами, чудным десертом, печевом и заморскими фруктами. То есть такая еда, что если все попробовать, то до дому не доедешь, потому как лопнешь по дороге.
Хозяин был доволен. Бал удался на славу. Выписанный из Германии оркестрик – небольшой, виолы, один фагот, фисгармония, еще там что-то – услаждал слух. Музыкантов, согласно моде, обрядили в одинаковые зеленые камзолы. Они поворчали для порядка, чай, не военные, но смирились и играли очень прилично. Лизонька порхала в танцах, всех пленяла, а Сурмилов потирал руки и прикидывал, из каких фамилий выбирать ей жениха. Лучше бы знатного сыскать, но если он, скажем, князь, то в женихи по доброй воле пойдет. Но, положим, уговорим, можно и в должниках такого найти. Но ведь всяк знает, коли нищий дорвется до денег, то начнет ими швырять направо-налево, фасон держать и портить жене жизнь. Уж если по-мудрому рассуждать, то надобно найти знатного, но из провинции. Пусть у него связей в столице нет, зато есть землица где-нибудь в Воронежской или Курской губерниях, и опять же людишки на той земле, хорошо бы душ эдак тыщ пять. Ну ладно, можно и на тыщу крепостных согласиться. Такой муж и Лизоньку сделает счастливой, и тестю поможет в вопросах виноделия.
Лизонька и не думала о матримониальных планах отца, не давала себе труда размышлять на эту тему. На балу она познакомилась с сестрой своего суженого – Клеопатрой, уже замужней, до чрезвычайности симпатичной и счастливой дамой. Супруг ее был тоже очень любезен, но Лиза, признаться, ждала от него большей развязности и радушия. Родион был застегнут на все пуговицы и как бы давал понять: если вам угодно придаваться воспоминаниям о Польше, я поддержу вас, но сам я инициатором этих воспоминаний не буду. Лизонька решила, что Родион боится ее скомпрометировать.
Вокруг ели, смеялись, говорили, икали, молчали от полноты чувств. Господа офицеры гоняли шары на бильярде, в уголочке уже раскинули столы с зеленым сукном, и кто-то искал счастья в ломбере, фараоне и прочих приличных карточных играх. Ставили по маленькой. Точно не было известно, как при дворе относятся к азартным играм. Иные говорили, что царица сама играет, но находились умники, заверявшие, что Анна Иоанновна не одобряет крупной игры на деньги. Расшалишься без меры, потом неприятностей не оберешься.
Музыка играла уже тихонечко, не для танцев, а для ублажения слуха. Всем этим салонным премудростям Сурмилов выучился в Париже. Мужчины устали отирать фулярами потные лбы, развязали шейные платки и расстегнули верхние пуговицы камзолов, господа военные ослабили шарфы на талии, подпирает полный желудок-то, дышать не дает.
Вот в этот момент Лизонька и увлекла Клеопатру в малую гостиную для приватного разговора. Сели друг против друга, затрясли веерами. Клеопатра робела этой заморской барышни. И одета по парижской моде, и в поведении раскованна. А Клеопатра, живя в столице, света не видела. Вначале к юбке тетки бригадирши была пришпилена, а после свадьбы сразу отбыла в загородную мызу. Все новомодные штуки старика Сурмилова были ей в диковину. Со стороны казалось, что девы уединились, чтобы отдохнуть после танцев, и если их кликнуть, то они сразу вспорхнут, как легкие птицы, и разлетятся в разные стороны. Но Лиза начала разговор сразу и первыми же словами придала их встрече основательность.
– Клеопатра Николаевна, я очень рада нашему знакомству. Сразу по прибытии в Петербург я искала встречи с вами, но не знала, как вас найти. Родион Андреевич, надеюсь, рассказывал вам обо мне? То есть я хочу спросить, известно ли вам, что я невеста вашего брата?
Клеопатра совсем смутилась. Веер опал в руке ее, глаза ее тут же уставились в пол. Тема-то больно деликатная. Разве можно вот так, сразу… Лиза терпеливо ждала. Наконец, Клеопатра кашлянула негромко и пробормотала через силу:
– Мне это известно.
Лиза так и расцвела.
– Я очень хочу, просто мечтаю, чтобы мы подружились. Зовите меня просто по имени. А мне как вас называть? У вас такое звонкое имя! И в нем, по моему разумению, вообще нет уменьшительного.
Клеопатра рассмеялась. Робость ее ослабла.
– Матвей зовет меня Клепкой. И еще иногда говорит… Заклепка. Экий негодник! А Родион кличет Катей. Если хотите, можете и меня так по-простому называть.
Лиза тут же воспользовалась этим правом.
– Катенька, так вы одобряете наши с князем Матвеем намерения?
– Я-то одобряю, но как на ваши намерения господин Сурмилов посмотрит. Матвей, конечно, не беден, но при вашем-то богатстве…
Лиза откинулась в кресле, вскинула брови, лицо ее приняло надменное и одновременно лукавое выражение. Тень от веера-опахала трепетала, как гигантский мотылек, заблудившийся в ночных сумерках. Насмешливый и важный вид девы говорил, мол, что там папенька, как она захочет, так и будет.
Поиграла сама с собой в женщину-вамп, но скоро решила – хватит уже дурочку валять, и вернулась к озабоченному тону.
– Я получила от Матвея одно-единственное письмо, – потупленный взор лучше всяких слов сообщал, что письмо любовное. – Это было давно, еще в Польше. А дальше – ни слуху ни духу. И я ничего не знаю – где он, что с ним?
– В армии. Ох, не любит мой братец письма писать. Известно только, что воюет он где-то в Польше. Но Родя, муж мой, знает, куда надо письма писать. Только идут они очень долго.
– И еще я хочу напроситься к вам в гости.
– О, конечно, приезжайте. Только это далеко под Ораниенбаумом. Мыза наша называется Отарово. Муж объяснит вам, как туда добираться. Только упредите свой приезд запиской, чтобы я могла подобающе подготовиться.
Выбраться в гости к Клеопатре удалось только после Масляной. Сурмилов и слышать не хотел, что будет кушать блины в одиночестве. Он вообще был против отъезда Лизоньки из дома. На три часа можешь отлучиться, на вечер, если бал где-то, но на несколько дней – это уж слишком. Он был очень напуган польскими приключениями дочери.
Но Лиза тоже умела быть настойчивой, и в первый день поста она отбыла с Павлой, кучером и лакеем Касьяном на мызу Отарово. Знал бы Сурмилов о мечтах его дочери, то сумел бы настоять на своем. Но где ему было знать, что названная подруга Клеопатра носила в девичестве фамилию Козловская и состоит в родственных отношениях с тем долговязым нахальным петиметром, с которым он имел знакомство в Париже. Про Матвея он знал только, что он хоть и князь, но на деле гол как сокол, поэтому по сути своей есть охотник за приданым, то есть беспечен, подвержен порокам и вообще хищник.
И сознаемся, доминирующую роль в положительном решении Карпа Ильича сыграла фамилия Люберов. Потому и отпустил. О том, что Лизонька встречалась с Родионом в Польше, отцу не было сказано ни слова, он вообще не был в курсе тех событий. У Сурмилова был свой интерес, он хотел иметь этого скромного и незаметного молодого человека про запас. Шутка ли, у самого Бирона в чести. Такого человека надо рядом с собой держать и вообще лелеять.
Клеопатра о предстоящей встрече с Лизой думала с удовольствием, девушка ей нравилась, но недоумение вызывало поведение мужа. Он был более чем сдержан в оценке предстоящего визита. Клепа уже успела изучить характер супруга, он вообще был немногословен. Он не любил обсуждать повседневные житейские занятия и никогда не принимал участия в разговорах, которые любят женщины. Знаете, как бывает, соберутся в кружок и часами мусолят одну и ту же тему: как такой-то (или такая-то) вошел, как посмотрел, что подумал, потом выскажут догадки на этот счет, выстроят версии, чтобы их тут же опровергнуть и сочинить новые. Когда Клеопатра пыталась обсуждать с мужем предстоящую женитьбу Матвея и Лизы, он надолго и тяжело замолкал. Естественно, она задавала вопросы: в чем дело? Может, ты думаешь, что Сурмиловы слишком богаты, думаешь, что Матвей их кичится? Богаты-то богаты, но ведь неизвестно, откуда взялись эти «новые русские» без роду-племени. Родион только говорил с досадой:
– Да не в этом дело! При чем здесь: князь – не князь.
– Но ведь Матвей ее любит, – с напором говорила Клеопатра.
Родион только плечами пожимал, мол, не наше это дело. А чье, спрашивается?
Лиза приехала как раз в последний день Масленицы и была принята с подобающей щедростью, а на следующий день в Чистый понедельник обе, и хозяйка и гостья, как водится, с утра полоскали рот, чтобы смыть следы скоромной пищи. Конечно, сходили в храм, отстояли службу, но дома никак не удавалось вести себя, как подобает в первую постную неделю. Посиди-ка всю зиму в снегах, когда муж неделями на службе, так любому человеку обрадуешься. А тут такие гости!
Все-то они разговаривали, да не смирно, а с интересом, весело, и Павла, сидевшая в уголку гостиной с вязаньем, неодобрительно поджимала губы. В народе-то как говорят: «Великий пост всем хвост подожмет», а этим двум все бы хиханьки-хаханьки.
Клеопатра, хоть и не пристало обсуждать подобное с девами, шепотом сообщила, что на сносях уже третий месяц. Восторгу Лизы не было предела. Она была уверена, что родится мальчик, и называла будущее дите племенником, чем необычайно смущала Клеопатру.
Но Лизе хотелось говорить про Матвея. Чтобы избавиться от внимательных ушей Павлы, были придуманы далекие пешие прогулки. Март месяц неровный, непостоянный, то холод, то оттепель. Ходили на залив: снежный наст голубой, блестящий, ветер пронизывает до костей. А на следующий день вдруг повеет теплом, и сразу в воздухе влажность, того и гляди, ноги промочишь.
Павла и думать не могла, чтобы потащиться куда-то пешком, она заклинала свою воспитанницу остаться дома в тепле, с чашкой горячего молока. Куда там… Им, видите ли, непременно надо послушать воду в прудах и родниках. Если в шуме воды услышишь как бы человеческий голос, то лето будет благополучное. Народная примета толковала о крестьянских радостях, чтоб хлеба вдосталь, чтоб овес (бензин XVIII века!) уродился, чтоб конопля для масла выросла знатная, но Лиза мечтала о других радостях. В шуме родника ей почудился голос самого Матвея, и теперь она была уверена, что к лету кончится война, суженый вернется, и они сыграют наконец свадьбу.
Лиза пробыла в Отарове неделю. Главная цель приезда была достигнута, она получила от Родиона долгожданный адрес. Правда, в нем ничего нельзя было понять, все какие-то безликие цифры, но одно было ясно – милый в Данциге защищает честь отечества, а это значит, что надо утром и вечером молиться Всевышнему, чтоб уберег жениха от вражеской пули. А еще блюсти пост, и нищим помогать, и творить благие дела, надо только справиться в храме, какие именно. Но она все выдержит, пронесет любую ношу, перенесет любую тяготу не ропща, а дальше будет вечное счастье.
4
Лизонька написала письмо Матвею и стала ждать ответа – вначале с радостью, потом с нетерпением и, наконец, с обидой. О, она понимала, что в Польше идет война, поэтому почта работает в трудных условиях. Активный приход весны также мало способствовал быстрому продвижению почтовых карет. В Польше, конечно, дороги лучше русских, но у оттепели и дома, и за границей одни законы: колеи полны жидкой грязи, на горку не взъедешь, мосты на малых реках унесло или затопило талой водой. Словом, распутица.
И вдруг посыльный. Аккурат на Лукерью Комарницу, 13 мая, когда вместе с теплым ветром из южных стран прилетают комары, в дом явился драгунский солдат и заявил, что ему необходимо видеть барышню Лизавету Карповну. Сурмилова не было дома, Павла по старинному обычаю почивала после обеда, поэтому драгуна никто не перехватил, и Лиза сама встретила его в малой угольной гостиной. Высокий, усатый, не совсем пожилой, но в возрасте, лицо простодушное, но взгляд настороженный, все озирается.
Письмо, вернее записочку, драгун принес в табакерке и прежде, чем отдать ее Лизе Карповне в руки, потребовал вознаграждение, и, надо сказать, немалое. На недоуменный Лизин вопрос он ответил, что ему было твердо обещано, а то он бы ни за что не взялся за столь опасное поручение.
– Опасное?
Надо объяснить, что у Лизы была договоренность с Люберовыми, что письмо Матвей пришлет на мызу в Отарово. Не хотелось раньше времени волновать папеньку. На мызе получают письмо с пометой «Лизе Карповне в собственные руки», и Клеопатре остается только позвать новую подругу в гости. О какой же опасности может идти речь? Только тут Лизонька заметила золотые галуны на обшлагах посыльного. Значит, это не солдат, а офицер, может, унтер, а может, из прапорщиков. Она плохо разбиралась в военной форме. С чего это вдруг Родиону вздумалось посылать записку не с дворовым, а с военным чином?
– Откуда вы? – Девушка с нетерпением смотрела на раскрытую табакерку. Что за глупая выдумка, поковать письмо таким образом?
– Из Нарвы.
Лиза молча взглянула на посыльного и пошла за деньгами. Ответ драгуна совершенно ее озадачил.
Записка была написана по-французски и подписана инициалами «К.Г.». Вот ее краткое изложение в вольном переводе: «Милая Л.К.! Пишу Вам, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Спешу сообщить, что я здоров и в общем благополучен. При полном отсутствии в жизни моей праздного времени я нахожу удовольствие и смысл жизни в деятельной работе мысли. Рядом нет книг, но память моя содержит сонм образов. С ними я и беседую в одиночестве. Воспоминание о нашей встрече в замке я отношу к самым драгоценным».
Лиза прочитала раз, потом второй и опять ничего не поняла.
– Кто это – К.Г.?
Драгун назвал имя. Доброхотный и благо рассудительный читатель наверняка помнит прекрасного юношу Ксаверия, который по наущению отца отправился добывать свободу коронованному королю Станиславу Лещинскому.
– Я думал, вы сразу поймете, – простодушно добавил посыльный.
– Да как же здесь можно понять, вздор какой-то написан. – Лиза перевернула листок и увидела приписку, которая прозвучала как пароль. Латинская пословица: «Amore, more, ore, re». Отбрасывай по одной буковке от первого слова и получится: «Любовью, молитвой, характером, делом – будь мне другом». Милый друг Ксаверий…
– Но почему князь Гондлевский пишет так странно? И что он делает в Нарве?
– Он в плену.
Лиза так и плюхнулась на канапе.
– А как он туда попал?
– Под Шотландом взяли. Это пригород Данцига. Захвачен был вкупе со шведами и другими поляками.
Боже мой, но это невероятно. Абсурдно! Лиза сама провожала Ксаверия на войну, но тогда ей и в голову не приходило, что он окажется во вражеском лагере. Это было очень давно, кажется, в другой жизни. Помнится, она еще поцеловала на прощанье, дружеский, чистый поцелуй. Тогда они прощались навек. А теперь вдруг выясняется, что по одну сторону с оружием в руках – Ксаверий, по другую – ее Матвей. Непостижимо!
– И как он там в плену? Страдает?
– Почему страдает? Работает. Вначале трудился на перестройке замка, а также Большого зала и цейхгауза. Там балочные перекрытия меняли. Потом что-то в Большом Германне чинили.
– Большой Германн – это кто? – обомлела Лиза.
– Башня. Месяц назад большую часть пленных перевели в Ревель, а пан Гондлевский остался в замке. Он сейчас на хозяйском дворе в левом крыле работает.
– Что же он там делает?
– При кухне. Там готовят пищу и для русского гарнизона, и для пленных.
– А вы, значит, из русского гарнизона?
– Так точно, – драгун щелкнул каблуками тупоносых, густо смазанных салом сапог.
Лиза все еще не могла прийти в себя. Ясно, записка Ксаверия не просто дань светским обычаям, он просит ее помощи.
– На словах пан Гондлевский что-нибудь передавал?
– Никак нет.
– Что значит – никак нет? Он что – дал вам записку и все?
– Еще имя ваше изволил назвать. Усадьбу сурмиловскую я нашел не без труда, но добрые люди подсказали. Еще он сказал, чтобы я передал записку вам в собственные руки. И чтоб язык за зубами держал, потому что это есть тайна. Завтра я отбуду в Нарву. Будет ли ответное послание?
А как же? Конечно, будет. Тут же были принесены письменные принадлежности. Драгун укоризненно посмотрел на большой лист плотной бумаги, мол, не влезет такое послание в табакерку. Лиза ополовинила лист, потом сократила его в четверть. Умакнула перо в чернильницу.
– Только без имен, – предупредил драгун.
«Дорогой К.Г.! Я все поняла и приложу все силы, чтобы мы встретились в Петербурге», – написала Лиза и задумалась, что бы еще приписать? Но тут же поняла, что не имеет права обнадеживать Ксаверия, пока в голове еще не созрел план освобождения юноши. Она дописала только: «Надейся и жди» – и туго свернула записку.
Затем Лиза подробно выспросила у драгуна, где его можно будет найти в случае необходимости, увеличила вдвое выданную ранее сумму денег и проводила его до порога.
Оставшись одна, Лиза глубоко задумалась. Перед глазами живо представилась кудрявая голова Ксаверия, внимательные глаза его и плавное движение красивых рук, коими он помогал себе в разговоре. Теперь эти руки скоблят котлы, отчищают пригорелую кашу, рубят в крошево капусту…
Он называл ее «прекрасная панночка». Княгиня Гондлевская не хотела, чтобы сын шел в армию. Она прочила ему штатскую карьеру. При его уме и образованности Ксаверий мог стать своим человеком при королевском дворе. Теперь мечты рухнули, потому что на троне сидит Август Саксонский. А какой уважающий себя поляк пойдет служить этому немцу?
Ксаверий называл Россию Большой Медведицей, как созвездие в небе. Зевс-громовержец полюбил аркадийскую нимфу Каллисто, и чтобы спрятать ее от гнева жены, перенес ее на небо. И еще насмешничал, глядя на Павлу, де, многие россиянки объемом и формами похожи на больших медведиц. А потом как-то сказал, глядя многозначительно в глаза: в моем сердце две медведицы – Большая и Малая.
Лиза подошла к зеркалу, осмотрела себя критически. Ну, положим, на медведицу она никак не похожа, но ведь он говорил совсем в другом смысле. Бедный Ксаверий.
Для начала она решила поговорить с папенькой. Просьба ее выглядела естественной и понятной. Как никак, она провела под кровом Гондлевских несколько месяцев, а потому обязана этому дому. Здесь одними подарками и деньгами не обойдешься. Кто же теперь может помочь князю Ксаверию в его бедственном положении, как не они?
Карп Ильич выслушал дочь не перебивая, прочитал записку, задал несколько вопросов. Очень хотелось ему выяснить, нет ли в просьбе дочери опасного подтекста. Молодые люди столько времени были вместе, вдруг Лизонька сохнет по этому поляку? Впрочем, он верил в здравый смысл дочери. Этот юный князь Гондлевский мало того, что беден, так еще католик. Русская дева знает, что такие браки невозможны.
А уж если идти на такой шаг, то только ради маркиза французского родом из Шампани или Бордо. При подобном раскладе можно и в католичество перейти, взятки только надо будет заплатить немерено и Самого Бога, прости, Господи, не забыть.
И то сказать, французские вина оказали на Карпа Ильича благородное влияние. В его характере появилась известная широкость, дубовое его сознание стало гибче. Открылись новые горизонты, он понял, что «и за горами люди живут». И не плохие, кстати, люди, работящие, аккуратные, не обманщики. Год назад он никогда не позволил бы себе размышлять на подобные темы. Да эти мысли и в голову бы ему не пришли.
Не усмотрев в поведении дочери никакой любовной неги: взгляд не отводит, в краску не бросается, голос звонок, но без истерики, Сурмилов решил похлопотать за Ксаверия.
Поговорил, разузнал. Умные люди сказали: молчи, не шевелись до времени! Дело движется к развязке. На помощь нашей армии под Данцигом уже плывет русская эскадра, ни сегодня завтра город падет. Станислав Лещинский, мнимый король, станет пленником России, но все прочие пленные, равно как и поляки, будут отпущены по домам.
Тут же он сообщил дочери, что ему удалось переправить пленному шляхтичу значительную сумму. Поляк может подкупить всех в гарнизоне и жить безбедно.
Лизонька выслушала отца молча. У нее хватило ума и выдержки не спорить. Видно, таков удел русской девы – бестрепетно ждать. А чего ждать-то? Один пропал, писем не пишет, другой объявился, образ он ее, вишь, в мыслях лелеет. Но, как говорится, близок локоток, а не укусишь.
5
Был еще один человек, которого она держала в уме, – Родион Люберов. Во-первых, он был лично знаком с Ксаверием. Во время краткого пребывания Родиона в Польше у молодых людей сложились какие-то отношения, что-то вроде взаимной симпатии. А может быть, Лиза придумала эту симпатию, неважно, не в этом дело. Было еще и во-вторых. Родион был благородным человеком, а это главное, он не откажет даме в помощи, даже если ее план покажется ей безрассудным.
Кому она нужна – рассудительность? Это батюшка может сцепить толстые пальцы в замок, сложить их на животе и приговаривать: «Ничего с Ксаверием Гондлевским не сделается. В плен попал – значит живым останется – родителям на радость. А потрудиться физически в его возрасте только полезно. И опять же сам виноват. Кто его гнал саблей махать? Сидел бы дома. Ну, будет, будет, не хмурься…» Хорошо папеньке так рассуждать, его лучшие годы прожиты, молодая горячность и отвага прошли. А ей, Лизе, видно, на роду написано поступать безрассудно.
Драгун сказал про Ксаверия: «болеет часто». Если болеет, надобно поместить его в лазарет и сыскать хорошего лекаря, словом, облегчить страдания. А иначе какой смысл в латинской пословице: «Любовью, молитвой, характером, делом…»? Пока она только молитвой может подтвердить свою дружбу. А этого мало, надобно еще делом и характером!
Не долго думая, она написала письмо о бедственном положении молодого шляхтича и отослала его со слугой в манеж, что на Конюшенной улице. Лиза знала, что Люберов бывает там каждый день. Родион явился в дом Сурмиловых в этот же вечер…
Карп Ильич сам вышел встретить гостя.
– Позвольте полюбопытствовать, за каким делом вы решили навестить старика?
Оказалось, дел никаких нет, а есть только страстное желание выразить свое почтение хозяину дома и его очаровательной дочери Елизавете Карповне. Отлично! Стразу видно, как много в этой молодой голове ума и проницательности! Потолковали о погоде, политике, качестве венгерского вина, которое контора упорно заказывает для двора, предпочитая французскому, а также про непомерные цены на овес. Очень дороги ныне транспортные средства, очень дороги…
Тут и Лиза с Павлой явились. Карп Ильич спокойно оставил их в гостиной. Этот молодой человек плохому не научит.
Родион в самых учтивых выражениях поинтересовался здоровьем Елизаветы Карповы. Он очень рад, что все благополучно. Жена его тоже здорова, насколько позволяет ей ее положение.
– Какое такое положение? – навострила уши Павла.
– Ах, помолчи, тетушка. Клеопатра ребенка ждет. Неужели ты не заметили в наш приезд в Отарово, что она брюхата, – шепотом огрызнулась Лиза и тут же ласково и кротко обратилась к Родиону: – Вы получили мое письмо?
Да, он получил, и находит заботу Лизаветы Карповны о молодом князе вполне естественной. Со своей стороны он постарается выяснить подробности этого дела. Для этого надо написать в Нарву.
– Какой-такой молодой князь?
– Павла, ты стала совсем невозможной. Неужели ты не знаешь, что пан Ксаверий у нас в плену?
Для Павлы это известие было совершеннейшей новостью, поэтому она как открыла рот, так и не закрывала его до конца визита Люберова. Воспоминания о Ксаверии, веселом красивом юноше, никак не согласовывались со словом «плен», поэтому дальнейший разговор между Лизой и гостем она вообще слушала вполуха. А разговор этот был серьезным.
– Здесь приключилось еще одно событие – горькое, но, надеюсь, не смертельное, – продолжал Родион сдержанно. – Вы знаете, что брат моей жены Матвей воюет под Данцигом?
Лиза с готовностью закивала, благодаря мысленно Родиона, что у него хватило ума соблюсти конспирацию.
– Днями мы получили известие, что он ранен в бою под Гегельсбергом. Рана его не представляет опасности для жизни, – он несколько возвысил голос, видя, как побледнела девушка.
– Вы получили письмо? – прошептала Лиза.
– Нет. В Петербург приехал очевидец этих событий. Он рассказал, что Матвей вместе с ранеными был отправлен в Торн. Больше мы пока никаких вестей не имеем, но надеюсь, что князь Матвей выздоровел и вернулся в строй.
– Это какой же князь Матвей? Что-то вокруг нас одни князья!
– Молчи, Павла! Не твоего ума это дело. Родион Андреевич, когда была эта битва… под этим… как вы сказали?
– Под Гегельсбергом? Десятого мая.
Вот почему не было писем! Лиза сама не помнила, как проводила гостя. Скупой рассказ Родиона – ни на каплю не отступил против этикета – придавало словам его подлинный и пугающий смысл. Жив, слава те господи, жив! Но собственное предосудительное поведение приводило Лизоньку в ужас.
Весть от Ксаверия пришла на Лукерью Комарницу, это она отлично помнит, то есть в то самое время, когда жених, сокол ее, мечта всей жизни, уже три дня лежал поверженным вражьей пулей. О, горе ей горе! Вот кому надо искать хороших лекарей, вот о ком скорбеть!
Раскаяние и муки совести воспламенили поутихшую было любовь к Матвею. Утро она теперь проводила в домашней молельне, во второй половине дня спешила в церковь Воскресенья Христова. Павла видела взволнованность девицы, но лишних вопросов не задавала, била поклоны и ставила свечи на канун и к иконам. Неуравновешенность в поведении и излишняя религиозность дочери были замечены отцом. Уж не подкралась ли на цыпочках умершая было чахотка? Эвон как щеки пылают! Призвали лекаря. Он осмотрел девицу, не нашел признаков физического недомогания и посоветовал простые лекарства.
– Придумайте, как развлечь дочь. Она должна выходить в свет. Общение со сверстниками вернет ей былую веселость. Главное, вернуть ее к обычному ритму жизни.
Здесь как раз подвернулся случай. Молодой барон Строганов, известный меценат и меломан, приобрел преизрядные клавикорды и устраивал по этому поводу концерт хоровой и камерной музыки. Сурмилов похлопотал и получил пригласительный билет на музыкальное действо.
Но Лиза категорически отказалась ехать, она, де, не в настроение, большое общество ей претит и вообще ее в церкви ждут.
– Ты думай, что говоришь-то! Я же эти клавикорды для тебя хотел купить. И ты была согласна.
Карп Ильич говорил чистую правду. Данцигского производства музыкальный инструмент еще зимой был доставлен в Петербург к колокольных дел мастеру Ферстеру. Ферстер решил его продать, но заломил немыслимую цену. Сурмилов торговался, тянул время. А тут как раз прикатил из Москвы барон Сергей Григорьевич и, не торгуясь, купил клавикорды.
– Не пойду я на твой концерт, – не сдавалась Лизонька. – Да мне и надеть-то нечего. Я не справила ни одного платья к новому сезону.
– Как это не справила? А платье-роба голубого гродетуру с гипюрами? Кружева на нем из Лиона, сам покупал. И блестки на нем не стеклянные, а из мелких алмазов.
– Оно мне в лифе жмет.
– Модистка поправит. А вот тебе еще подарочек.
Подарок был великолепен. Не серьги и кольца, которых у Лизы было без счету, а прелестный нессерер французской работы. В нем было все-все: пилки для ногтей, щеточки для бровей, иглы для продергивания лент, ароматник для сухих духов, копоушка с зубочисткой и даже крохотная мушечница. Мушки, кусочки черного пластыря, на западе только входили в моду, в Петербурге еще никто не украшал себя искусственными родинками. Словом, Карп Ильич уговорил дочь поехать развлечься.
Санкт-Петербург город небольшой, но желающих посетить концерт было множество, посему барон Строгонов пригласил публику не в собственные хоромы, а в Итальянский дом, что на Фонтанке. Роскошный особняк этот, трехэтажный, с галереями, предназначенный для машкерадов и прочих увеселений, был заложен еще Петром I для дочери своей Анны Петровны, потом он был, считайте, построен заново. К строительству его приложил руку все тот же архитектор Михайло Земцов, автор церкви Св. Симеона и Анны, которая находилась поблизости. Вот этот Итальянский дом и арендовал барон Строганов на один вечер.
Публика была избранная, и дамы, и кавалеры сияли туалетами. Поначалу слушали хорошо, всех развлекал и сам вид диковинного инструмента, и необычное его звучание, рассматривали также новую итальянскую труппу, совсем как мы, да и поют изрядно. Но скоро народ подустал, начали шушукаться, кашлять, иные и вовсе, вопреки приличию, покинули музыкальную залу и повлеклись в соседнее помещение, где барон велел поставить столы с напитками и холодной закуской. Но, в общем, вечер удался, и домой Лиза возвращалась в отличном настроении.
Ах, эти белые ночи, опасные ночи. Достоевский нас всех предупреждал, что они шутят грустные шутки с людьми. Но Лизонька не читала Достоевского и потому была беспечна. Она в карете проехала Исакиевский мост, а дальше решила пройти пешком, отпустив карету домой. Павла пыхтела рядом, за ее спиной вышагивал молчаливый Касьян, он нес шаль, суму с водой и имбирными пряниками, плащ на случай дождя и еще кой-что по мелочам.
Чайки кричали, и им не спится в белые ночи. К пристани то и дело приставали узконосые рябики, подвозили запозднившихся горожан. Мачты, целый лес мачт перечеркивал белесое небо… Несмотря на поздний час на набережной было людно. Все радовались наступившему теплу.
Лизонька шла медленно, куда торопиться-то? Белые ночи располагают к мечтанию. Тенор из итальянской труппы неплохо пел, можно даже сказать – отлично, но уж больно толст, сущая перина. Вот если бы он фигурой вышел как ее любимый Матвей, то можно слушать его часами и уноситься на крыльях любви в блаженный край. Но где он – этот край?
Лизонька миновала скучное здание пакгауза, гостиный двор, новое здание биржи. Днем обычно здесь не протолкнуться, купцы, посредники, приказчики, все орут. Она миновала Торговую площадь, машинально посмотрела налево и увидела Матвея. Оконная рама обрамляла его фигуру и прочее общество на заднем плане наподобие картины. Перед Матвеем стоял шандал с тремя зажженными свечами и бокал вина.
Кофейный дом рядом с австерией открыли совсем недавно. В австерии собиралось исключительно мужское общество, там подавали вино, пиво, табак, рябчиков на вертеле и жареную свинину, а в кофейном дому мадам Вигель все было прилично, туда и дамы захаживали полакомиться немецкой сдобой. Не просто булочки, а пух с маковой начинкой, а еще с вареньем, с имбирем и изюмом. Что делать Матвею в кофейном дому? Он вроде никогда сладкого не любил.
Первой мыслью Лизоньки было рвануть дверь, решительно, как это делают мужчины, войти в узкие сени с круглым зеркалом на стене, а оттуда бегом в залу к милому на шею. Но она тут же отогнала эту мысль. Матвей совершенно не похож на изнуренного болезнью и ранами человека. Почему он не дал знать, что находится в Петербурге? И лицо у него какое-то чужое. У счастливых людей не бывает такого выражения, вернее, отсутствия всяческого выражения: просто смотрит на свечу полуприкрыв глаза и молчит. На такое лицо можно сразу обидеться и уйти.
Но она не ушла. Она решила понаблюдать. Во всем происходящем ей чудилась какая-то тайна. Павла верещала в ухо, мол, неприлично юной деве стоять столбом на улице и пялиться на окна, но Лиза твердо сказала, что устала и пока не отдохнет, не сделает и шагу.
– Касьян, беги за каретой, – взмолилась Павла. – Барышне плохо.
– Мне хорошо, – сквозь зубы сказала Лиза.
Она ухватилась рукой за весьма кстати стоящую березу, спасибо лесорубу, что дал возможность дереву спокойно дожить свой век, а Лизе спрятаться за его корявый шершавый ствол. Но, может быть, зря она порет горячку? Если пуля попала Матвею в ногу, то в окно этой раны никак не разглядишь. И наверняка дома ее уже ждет записка от милого, мол, прибыл вчера утром, жажду встречи. Обида на Родиона и Клеопатру, которые не известили о приезде Матвея, еще не жгла душу.
– Лизонька, обопрись на мою руку, так и побредем, горемычные. Шажком и до Киева можно дойти. А то что нам папенька скажут?
– Зачем нам в Киев, дура?!
Лиза цепко схватила Павлу за руку. Донья сразу смолкла и испуганно глянула на девушку. Выражение лица ее было странным. Не поймешь даже, обижалась она или огорчалась, но одно точно, чувства эти были недобрыми: лоб нахмурен, губы сжаты в черточку.
Какая-то дама выпорхнула из кареты, ровно птичка. Стройная, проще сказать, худая как палка. Волосы рыжеватые, не разберешь, парик или свои, платье под горло, на шее длинный шарф.
Несколько секунд, и вот дама уже стоит рядом с Матвеем. Он поднял на нее глаза, резво вскочил на ноги и улыбнулся. И были в этой улыбке смущение, удивление, робость, щенячье какое-то счастье, которое и словами-то не перескажешь.
– Я хочу домой! Немедленно! – крикнула Лиза и потащила за собой обомлевшую Павлу. Лизонька Сурмилова задыхалась от ревности.
А теперь автор раскаивается – мы уж очень забежали вперед. Чтобы объяснить происходившее, надо опять откатить назад, что мы и сделаем.
6
Ах, не так, совсем не так представлял себе аббат Арчелли свою жизнь в Петербурге. Он много надежд связывал с этой поездкой. Если его миссия окажется удачной, он оставит опостылевшую Варшаву и переберется в Париж. Примеряя мысленно лавровый венок победителя, он уже видел себя в богатых парижских салонах. Сам он только служитель Божий, жилье его может быть скромнее скромного, аббат готов довольствоваться колодезной водой и черствым хлебом, но он еще пастух в стаде человечьем. А где же пасти, как не в драгоценных залах на глянцевом паркете? Сияют тысячи свечей, освещают роскошные туалеты дам, чьи брильянты мечут снопы искр, сверкают улыбки и волшебной музыкой звучат высокие разговоры, а он, пас тырь духовный, дает направо-налево умные советы и учит заблудших. Кардинал Флери оценит его ум, настойчивость и удачливость, и, конечно, Арчелли получит еще поручения государственной важности, чтобы опять засучить рукава сутаны и работать на благо церкви и человечества.
Нельзя сказать, что после двухнедельного пребывания в Петербурге эта картинка покинула его мечты, но она как-то размылась, потускнела, замохрилась по краям и потеряла четкие очертания.
Дело в Петербурге сразу не заладилось. Вначале казалось – протяни руку и сразу все ухватишь. Багаж, с которым они отбыли из Варшавы, догнал их в дороге. Не понятно, как полякам удалось это сделать, но сундуки с платьями Николь и его носильными вещами подкатили к постоялому двору час в час. Вовремя также прибыл отправленный из Гамбурга на имя негоцианта тайный груз, в котором находились подарки для петербургских чиновников и щеголих высокого ранга. Впрочем, слово «подарки» без всякого ущерба для истины можно заменить словом «взятки».
Инструкция из Парижа гласила – к русским обращаться только в случае крайней необходимости, то есть для получения особо важных сведений. Хотя какие у них могут быть «важные сведения», если при дворе царицы одни иностранцы.
Рекомендательные письма аббат сразу пустил в ход. Первый визит был сделан к французскому генералу на русской службе. Арчелли был принят весьма любезно. Генерал обещал похлопотать, но дальше обещаний дело не пошло. Затем он обратился к англичанину, а может шотландцу, занимающему очень высокий пост в адмиралтействе. Шотландец был связан с Бироном какими-то торговыми делами. И французский генерал и чиновник из адмиралтейства в один голос твердили, что не могут обеспечить приватный визит к фавориту, но поспособствуют, чтобы встреча с обер-камергером произошла как бы сама собой.
Шотландец обеспечил Арчелли присутствие на приеме английского посланника Рендо: «Там будет Бирон, это точно». Весь вечер аббат промаялся в гостиной как неприкаянный. Время провождения несколько сгладила супруга посланника, леди Рендо, живая, говорливая дама, обожавшая Париж. Знали бы во Франции, во сколько обошелся Парижу этот разговор, они схватились бы за голову. Бирон на прием так и не явился.
Второй раз пообещали представить его обер-камергеру на охоте. Для такого случая Арчелли поменял сутану на партикулярное платье. Хорошо еще, что он умел сидеть в седле, а то не оберешься сраму. И что же? Начали травить оленя, а может вепря, не в этом суть, затрубили в рога. Аббат поскакал за Бироном, но тот так резво погнал коня, что исчез из глаз в течение минуты и больше Арчелли его не видел. Более того, несчастный аббат чуть не расстался с жизнью, когда строптивая лошадь его вдруг пустилась во всю прыть. Но обошлось, слава Всевышнему.
Право слово, казалось, что легче исхлопотать аудиенцию у самой императрицы, чем у ее фаворита. Арчелли решил для подхода к Бирону использовать людей, так сказать, низшего звена. Это были люди из обслуги, но в силу своего таланта и положения они были вхожи во дворец. Здесь был, скажем, французский живописец Луи Каравак, весьма почитаемый при русском дворе живописец, и мастер лакирного дела Гендрик ван Брумкорст, кое-чем обязанный французскому двору, и художник шпалерной мануфактуры некто Бегаглем. Все соглашались помочь, охотно брали подарки, а потом извинялись с кривой улыбкой, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства. Что значит – непредвиденные? И как можно было их «не предвидеть», если ты, негодник, тут же сразу, во время своих обещаний, напялил на палец перстень с изумрудом?
Всего этого Арчелли понять не мог, и не ведомо ему было, что сладкоголосые его собеседники, обещающие с три короба, просто боялись Бирона. Тайная канцелярия входила в силу, застенки полнились новыми жертвами, и среди них были именитейшие. Не только обыватели, но и близкие ко двору люди не знали подробностей пыточных дел, но семейство Долгоруких было у всех на слуху. А поди разберись, почему их подвергли аресту и потом сослали в далекую ссылку, если они сами посадили Анну Иоанновну на трон. А сейчас доходят слухи из Сибири, что оживили дело-то, стали допрашивать и Василия Лукича и деток его с пристрастием. А это значит дыба, кнут, горячие уголья и прочие ужасы. А тут, вишь, за какого-то неведомого аббата надо поручиться да еще представить ни кому-нибудь, а Бирону. А что, если после этой аудиенции сам угодишь в Тайную?
Время шло, а дело не сдвигалось с мертвой точки. Арчелли был взвинчен до предела. Все его раздражало, а тут еще мадам де ла Мот! Он уже забыл, что его волновали когда-то ее женские прелести. Не до того сейчас было. Она вела себя вызывающе! Девчонка, авантюристка, сомнительная красотка! Добро бы что-то требовала, ворчала или ругалась. Тогда можно было бы попытаться поставить ее на место, а там, в разговоре, смотришь, и помирились бы худо-бедно, и можно было бы попросить помощи или хотя бы совета у строптивой дамы. Но она, казалось, вообще не замечала аббата. С утра исчезала из дома, вечером, когда ужинали в обществе негоцианта, была любезна, весела, но самого Арчелли, что называется, «в упор не видела», словно он сам, и кресло его, и участок стола с его тарелкой, бокалом и приборами были пустым местом.
В это тревожное, бессмысленно текущее время Арчелли решил воспользоваться еще одной рекомендацией, выданной про запас. Некто Сурмилов, богатей, знаток тонких французских вин, благодаря которым он и приобрел связи во Франции. Он имел у себя на родине вес, но вряд ли был вхож в круг общения Бирона. Для того чтобы пробиться ко двору, мало сидеть на сундуках с золотом, необходимо еще иметь дворянское достоинство. Говорили, что Сурмилов его уже купил, но купленный титул не имеет знака качества. Для окружающих он как был нуворишем, разбогатевшим на откупе, так им и остался.
Правда, все окружающие царицу немцы графами стали только в России, но на то они и немцы. Пребывая на верхушке социальной пирамиды, они не желали знаться с низкородными аборигенами, которые лишний раз напоминали всем этим остерманам-минихам-левенвольде и, конечно, самому Бирону, кем они были в юности.
Но и этого мало. Уже в Петербурге, порасспросив кое-кого, аббат узнал, что Сурмилов крайне самоуверен и болтлив. Вроде бы и не сплетник, но мнит себя патриотом и поборником правды, а потому крушит все направо и налево, считая, что ему все позволено. Неприятная личность!
Аббат Арчелли долго вертел в руках рекомендательное, выданное на крайний случай, письмо от маркиза N и, наконец, отправился в дом откупщика. Из разумных соображений следовало бы взять с собой мадам де ла Мот, в разговоре с русским могла понадобиться переводчица, но аббат этого не сделал. Если он и здесь потерпит поражение, то ему совсем не нужен свидетель его унижения. Следовало надеяться, что, пробыв без малого год во Франции, господин Сурмилов овладел этим языком настолько, чтобы прочесть рекомендательное письмо и вести дальнейший разговор.
Фу-ты, ну-ты, какой роскошный особняк отгрохал себе, как его… Карп Ильич, язык сломаешь с именами русских! Колонны, лепнина, окрас белый с бледно-бирюзовым… при доме сад с оранжереями, клумбами и беседками. Сад спускался к воде и имел крепкую пристань, к которой приставали не только буера и катера, но и струга, привозившие с Ладожского озера дрова, сено и зерно.
Арчелли принял важный слуга, очевидно дворецкий. Разговора не получилось, слуга ни слова не понимал по-французски. Однако в доме нашелся переводчик, шустрый малый в русской поддеве с вытаращенными, как у рака, глазами. Уважительно окинув взглядом сутану, он сбивчиво сообщил, что хозяин его принять не может. Арчелли начал ругаться. Он понимал, что если сейчас не добьется свидания с Сурмиловым, то второй раз сюда не придет. В конце концов, и у него есть гордость. Перепуганный малый сообщил, что господин Сурмилов рад бы принять гостя, но его сейчас нет дома, «он на складах, что в Литейной стороне».
Как невообразимо путано и глупо говорят на языке Расина русские слуги. Арчелли не понимал и половины его объяснений.
– Хозяин не похвалит вас за вашу работу, – кричал он с яростью. – В конце концов в этой встрече заинтересован больше господин Сурмилов, чем я. Это дело государственной важности.
Он и очухаться не успел, как его, без остановки изливающего хулу на весь род людской, запихнули в карету. «Сейчас, через десять минут, домчим, – приговаривал слуга по-русски, вставляя при этом французские слова, из которых Арчелли все-таки понял, что его сейчас доставят к Сурмилову.
Склады на Литейной стороне располагались рядом с бывшим дворцом казненного пятнадцать лет назад царевича Алексея. Когда-то Петр решил, что набережная Литейной части, называемая тогда Береговая Каменная линия, станет главной улицей его города (кажется, сейчас это улица Воинова). Планировку Литейной стороны делал сам Трезини. Такой она осталась и по сию пору: параллельные Неве проспекты под прямым углом пересекались другими, более скромными улицами. Как-то сам собой здесь вырос аристократический квартал. Вдоль Невы селились в основном родственники и сподвижники Петра. Здесь жили и сын Алексей Петрович, тогда еще наследник престола, и любимая сестра Наталья Алексеевна, и вдовы братьев – Федора и Иоанна. Конечно, здесь же размещался Литейный двор, на котором отливали зело важные для государства пушки. Рядом размещался дворец генерал-фельдцейхмейстера и директора Литейного двора Брюса.
Но все это было давно, двадцать лет назад. Старые дворцы были сплошь деревянными, мазанковыми, крашеными под кирпич. Крыши у тех дворцов покрывали еловой щепой или досками. Иные, по примеру норвежцев, покрывали крыши поверх щепы кусками дерна. Летом цвел на кровле зеленый луг, и тепло, и от дождя защищает. При царице Анне Иоанновне, дай ей Господь здоровья, город стали строить основательнее, а эти старые дома пошли на снос или были отданы в службы. Сурмилов подсуетился и отхватил себе изрядный куш, получил и строения, и землю под ними. Старые дома починил, вырыл глубокие погреба, обновил пристань. Сюда и привезла Арчелли карета.
На этот раз он был принят сразу, но нелюбезно. Разворачивая письмо, Сурмилов одышливо продолжал кричать кому-то вдогонку распоряжения, даже кулаком грозил, потом достал огромный фуляр, обтер потный лоб и только тогда принялся за чтение. Прочитал один раз, второй, внятно повторил имя рекомендателя маркиза. И тут на глазах аббата произошла метаморфоза. Суровый, с простоватым, мужицким лицом русский материализовался в вежливого до приторности китайца. Глазки его превратились в щелочки, улыбка растянула губы, явив сладкое и несколько неестественное выражение, которое намертво прилипло к коже подобно машкерадной личине.
– Повторите ваше имя, пожалуйста. Я как-то не расслышал. Пойдемте в контору, там и поговорим.
С первой же фразы откупщика Арчелли понял, что правильно поступил, не взяв с собой Николь. Сурмилов довольно бойко болтал по-французски, и хоть речь эта была уморительно смешной, «моя твоя понимать», но главное, эта фраза была правдивой. Он действительно все понимал. Пусть путает падежи и окончания, шут с ним, главное, с этим мнимым китайцем можно договориться.
О, господин Арчелли, все ясно без слов. Я веду серьезные торговые дела с Францией. Это военные и дипломаты выдумали играть в войну, но мы, серьезные деловые люди, выше межнациональных отношений. Конечно, в русских хоромах сейчас ведутся другие разговоры, все вокруг патриоты и искренне ненавидят Станислава Лещинского и защищающих его негодников французов. И они правы. Но частное дело, есть частное дело.
– Итак, чем я могу быть вам полезен? Изложите суть дела.
Арчелли приосанился.
– Не буду скрывать, милейший Карп Ильич… – аббат хотел подсластить пилюлю, но отчество в его исполнении прозвучало так уморительно, что тот с удовольствием расхохотался.
– Зовите меня просто Карп. Это легко выговорить. У русских есть такая рыба. Рыба Карп.
– Рыба Карп, – покорно повторил Арчелли и смешался, понимая, что лепит какую-то глупость.
Сурмилов еще более развеселился, серьезный разговор как-то не получался. Арчелли насупился и бухнул без всяких экивоков:
– Мне нужно, чтобы вы устроили мне приватную встречу с их сиятельством Бироном.
Вот здесь серьезный разговор сразу получился. Улыбка сползла с лица Сурмилова, глаза приняли нормальный вид, то есть округлились, и Арчелли увидел, что они карие, хитрые и опасные.
– Зачем? – по-русски спросил Сурмилов и тут же перевел свой вопрос на французский.
– Поверьте, мой визит будет способствовать благу как России, так и Франции. Это вопрос политический.
– А это, голубь мой, не нашего ума дело. Вот если бы ваш визит с их сиятельством способствовал тому, чтобы я получил из Франции знающих виноделие людей и чтоб приехали они сюда не под конвоем, а по доброй воле, тогда, может быть, я и порадел бы об этой приватной встрече.
– Я думаю, что смогу со временем удовлетворить вашу просьбу, – твердо сказал аббат, хотя не имел ни малейшего представления, как это можно сделать и можно ли сделать вообще. – Возможности католической церкви безграничны, – добавил он для убедительности.
– Так это они у вас там безграничны, а у нас здесь очень даже обнесены забором, – пробормотал как бы про себя Сурмилов и спросил деловым тоном: – А какие гарантии?
– Мое честное имя, – тут же откликнулся аббат.
На лице откупщика появилось новое, непередаваемое простыми словами выражение. С одной стороны, оно словно окаменело, более того, отупело, а с другой стороны, желающий мог прочитать точный ответ: «А черта мне нужно твое честное имя, если я в твою честность совершенно не верю, как не верю всем католикам».
– Кроме того, я могу в вашем присутствии написать маркизу письмо в Париж, в котором подробно изложу вашу просьбу. Ну как, согласны, рыба Карп?
– Да ты что плетешь-то? Какая-такая рыба? Это я тебе, дураку, для примера сказал, – по-русски выкрикнул Сурмилов, багровея лицом, но тут же опомнился и вполне сносно перевел свою фразу в подобающих выражениях.
Потом оба весело смеялись. Карп Ильич меж тем крикнул клерка, тот принес бумагу и чернила.
– Пишите письмо маркизу N. И чтоб он прислал не подлецов и проходимцев, которые наврут с три короба, а на деле ничего не понимают в виноделии. Таких я и сам мог найти во Франции, а мне нужны подлинные, крепкие специалисты. Вы меня понимаете?
Аббат понимал, но чувствовал себя при этом полным кретином. Как тяжело иметь дело с русскими! Где-нибудь на берегах Амазонии, или, скажем, в дебрях африканского континента, легче договориться с аборигенами, чем с этой твердолобой породой. Однако перо его бодро порхало над бумагой, и нужные фразы сами собой ложились на лист. В тексте было много недомолвок, но в Париже должны были понять, как трудно работать в России. Здесь нужны особые методы.
Сурмилов посыпал письмо мелким песком из песочницы, дабы чернила скорей просохли, а затем сказал настойчиво:
– А теперь объясните, зачем вам нужно видеть графа Бирона?
– Это не моя тайна, и я не могу ее вам доверить. Более того, я вынужден убедительно просить вас оставить наш разговор в секрете. О нем не должна знать ни одна живая душа.
– Ишь ты! – удивился Сурмилов. – Ни одна живая… Это как же вы себе представляете? Что я вас за руку отведу к их сиятельству, а они будут ждать вас инкогнито под дубом где-нибудь на Крестовском острову?
«Издевается, мерзавец, – подумал в смятении аббат, – этот боров выманил у меня дурацкое письмо, над которым будет хохотать весь Париж, а теперь точит об меня свое слоновье остроумие».
– Ваши шутки неуместны, господин Сурмилов. Но одно я вам скажу. В этой встрече их сиятельство Бирон заинтересован больше, чем люди, которые уполномочили меня просить об этой встрече.
– А вот это уже дело! – воскликнул Сурмилов. – Так и объясним. Мол, графу Бирону эти тайны нужны больше, чем вам. Шут его знает, может, Всесильный и поблагодарит меня когда-нибудь за содействие.
Теперь откупщик говорил очень серьезно, даже перекрестился на икону в углу. У русских лики святых всегда под рукой, они их разве что на деревьях не развешивают.
– Мы так сделаем, господин Арчелли. Я тут разведаю кое-что. Как только у меня появится возможность для конкретного разговора, мой посыльный известит вас письмом. Ждать придется не долго. Если я не смогу вам помочь, то сообщение об этом вы тоже получите своевременно. Как вас найти?
Ох, не хотелось аббату давать свой адрес, но положение было безвыходным. Но, видно, на этот раз провидение было на стороне Франции. Через два дня утром знакомый клерк явился к Арчелли с письмом, написанным изысканно и строго. Видно, не сам откупщик пыхтел над текстом. Аббат Арчелли приглашался сегодня же в контору на Литейной стороне в десять часов ночи. При себе он должен был иметь загодя написанное объяснение для передачи его Известной Особе. Прописные буквы ясно указывали, что Известная Особа и есть Бирон.
«Ишь, как заговорил, – размышлял аббат, шагая к месту встречи. – Был бы прок от твоей учтивости, господин откупщик. А вообще-то, зря я обратился к этому фрукту. Граф Апраксин обещал устроить встречу… со временем. Надо было подождать».
Сурмилов сам встретил аббата на пороге и сразу провел в кабинет. Там уже находился молодой человек, красивый, строгий, если не сказать, мрачный. Одежда партикулярная, скромная, но добротная. При появлении Арчелли он коротко кивнул, после чего отошел к окну и стал внимательно смотреть в прогалину между строений. Арчелли проследил за его взглядом и увидел вечернюю Неву. Ветер дул с залива, по реке шли волны, иные с белым гребнем пены. Погода явно портилась.
– Ну вот, господин аббат. Я со своей стороны вашу просьбу, считайте, выполнил. Мы обязуемся сохранить вашу тайну, – он выразительно посмотрел в спину молодого человека, – но в свою очередь надеемся на вашу скромность.
Сурмилов несколько запинался в словах, словно произносил чужой, выученный наизусть текст, потом пожевал губами, доверительно ткнул аббата в плечо и по-свойски добавил:
– Вы тут потолкуйте без меня. Этому человеку можно доверять. Его зовут Родион Люберов.
7
Странное, очень странное послание получила мадам де ла Мот – Огюст Шамбер просил ее о встрече. Письмо было написано шифром, примитивнейшей цифирью, любой человек, если он грамотен и француз, прочитает в два счета.
Николь не знала, что Шамбер в Петербурге. Когда прибыл – зачем, кем послан – это все были вопросы, которые надо неотлагательно решать. По всем условиям шпионской игры ей надлежало самой знать это. Но странность записки была в другом. Даже сквозь цифры шифра проглядывала какая-то истеричная, надрывная интонация. Он слишком уж настойчиво призывал «сохранить все в тайне», как будто сама Николь этого не понимала, и звал ее на свидание, чтобы «потолковать». Да, да, в русском варианте это так и звучало: не поговорить, не побеседовать, а именно потолковать. Но самым неожиданным было место встречи, это, как говорится, «не в какие ворота». Шамбер призывал Николь приехать утром в невообразимую рань на Васильевский остров в музей, называемый Кунсткамерой. Вот так, не больше и не меньше.
Знала бы Николь, что пришлось пережить за последний год ее старому приятелю, она была бы к нему более снисходительна. Любитель женского пола, как говорят у нас, ходок, он последнее время был лишен женской ласки. Раньше Шамбер всегда чувствовал себя хозяином положения, сейчас же он все время шел у кого-то на поводу. Более всего в поведении кавалер Огюст ценил невозмутимость, считая, что это качество мудрецов, но за последний год он совершенно потерял это качество, злился по пустякам, нарывался на ссоры, был груб с прислугой, словом, вел себя недопустимо. Он давно внушил себе, что не говорит деловому собеседнику правды не потому, что слишком скрытен или, попросту говоря, врун, а потому, что к этому его понуждала профессия. Он дипломат, игрок, человек тайной профессии, слово «плут» (в хорошем значении, то есть хитрец) никак его не смущало. Теперь же он готов был сознаться, что заврался, зарвался, запутался, а выход был один – идти в игре до конца.
Более того, он поймал себя на постыднейшем свойстве – на трусости. После тайного отъезда из Данцина у Шамбера было ощущение, что он все время бежит, бежит с оглядкой, но боится он не русскую армию, не приспешников обманутого пана Вишневецкого, а маленького, невзрачного человечка, случайно им вычисленного.
В один день, который не назовешь прекрасным, подобно озарению пришло понимание – за ним следят. Этого человечка он видел сто, двести раз. Тщедушный коротышка, он был неприметен, как болотная кочка, как лопух, выросший обочь забора, как драный кот на заборе простолюдина. При этом он постоянно менял обличье, выступая то в роли солдата неведомо какой армии, потому что форма была сборной, то ремесленника, а может быть, крестьянина или трубочиста. Шамбер никак не мог понять, на кого он работает.
Простолюдины все на одно лицо, они отличаются только ростом и взглядом. И этот голодный, вроде бы безучастный, а на самом деле очень внимательный взгляд, Шамбер теперь угадывал в толпе сразу.
Француз поменял квартиру, отрастил усы, для изменения облика он даже отказался от палки с набалдашником, которая после ранения стала необходимой ему при ходьбе. Но за день до намеченного отъезда Шамбер опять обнаружил Коротышку, и не около дома, а поодаль, на набережной, по которой Шамбер ехал в открытой карете. Коротышка стоял у съестной лавки и таращился на выставленные в витрине калачи. Пышные, золотистые хлебы были очень похожи на муляжи, в осажденном городе начинался голод. Коротышка рассматривал витрину и как бы невзначай глянул искоса на проезжавшую карету, а Шамбер почувствовал на себе его цепкий, внимательный взгляд. Знать бы, с какого момента за ним следят. С Варшавы, а может, еще раньше? Об этом не хотелось даже думать.
На завтра назначен побег из Данцига. Шамбера послали в Россию с крайне размытым заданием. Да и давать его было, собственно, некому. Французский посол де Монти нашептал ему что-то в ухо, поляки подтвердили. Во всем этом было много истерии и мало смысла. Каждый понимал, что город обречен, но разговор шел не о мире, а о войне. В задачу Шамбера входило ввязать Россию в новую, более глобальную войну, можно со Швецией, лучше с Турцией, словом, как получится.
Шамбер ехал с подложными документами почти без багажа. На все это Шамберу было наплевать. Главное, ему нужно было добраться до России. Он хотел вернуть свои деньги, которые он потерял по милости этого негодяя Козловского. Почему он тогда под Варшавой не добил этого сукина сына? Проверить надо было, ведь был кинжал под рукой! Но он очень торопился.
Шамбер помнил осеннее утро во всех подробностях. Один из напавших на французскую карету поляков сбежал, это он точно видел. Оттого и торопился. Но даже всади он в пьяного Козловского нож, не известно еще, убил бы он его. Русские живучая порода!
Все, с коротышкой надо кончать. Он вышел из дому, когда часы на ратуше били двенадцать. Проклятье, ему нужна была темная ночь, а здесь еще как на зло луна вылезла. Вид у Шамбера был нарочито конспиративный. Широкий плащ с капюшоном скрывал лицо и фигуру, шпага выразительно оттопыривала полу. Не забыл он и палку. Прихрамывая, он шел по улице, ощупывая время от времени пистолеты за поясом.
Вначале он решил попетлять, для чего подошел к особняку, в котором жил де Монти. Дом был безмолвен, все спали. Он помедлил у двери, как бы раздумывая, браться ему за дверной молоток или погодить. Шамбер ждал в надежде, что спиной почувствует чужой взгляд, но уж если не спиной, то визуально обнаружит какие-нибудь признаки слежки. Улица была пуста. Врешь, мошенник, я знаю, ты где-то рядом!
Далее он направился в городской парк, поближе к каналам, где около воды в зарослях кустов есть много укромных мест. Наблюдатель может заподозрить, что Шамбер назначил там тайную встречу. Француз шел озираясь, на небольшой площади под фонарем, который так и не зажгли, видно масло кончилось. Он помедлил, как бы кого-то поджидая, потом круто свернул в узкую покатую улочку и направился прямиком к парку.
Как и рассчитывал Шамбер, парк был пуст. Горожанам было не до гуляний. Жители были измучены долгой осадой, каждый от мала до велика ругал себя, что они ввязались в эту глупую авантюру. Какое дело вольному городу до Станислава Лещинского, которого они взяли под свою защиту? Шамбер прошел по главной аллее, фонтаны молчали, и только птицы, которым было совершенно наплевать на человеческие склоки, продолжали петь как ни в чем не бывало. «Вот под соловьиную трель я тебя и укокошу, мерзавца», – подумал Шамбер, и тут же отметил, что коротышка достоин куда более мрачной кончины. Он столько попортил нервов, что помирать должен под звуки грома небесного или рева взбунтовавшейся морской стихии. Кажется, в соседствующих кустах послышался невнятный шорох. Или это слуховые галлюцинации? Шамбер представил себя со стороны и сознался сам себе, что выглядит идиотом. От злости он даже ногой топнул.
С широкой аллеи он свернул на неприметную тропку, которая шла под уклон. Подходящим местом он счел небольшую круглую полянку, с одной стороны которой росли старые лиственницы, а с другой – кусты только что распустившейся бузины и сирени. Под лиственницей он притаился и стал ждать.
Пистолет не дрожал в его руке. Сейчас он полыхнет коротышке прямо в его нахальную, любопытную рожу.
Ждать пришлось недолго. Кисти сирени раздвинулись, и в глубине куста появилось белое, словно размытое пятно. Черт лица было не разобрать, но француз отлично представлял себе любопытную, несколько растерянную физиономию. Потерял, голубчик, объект, опростоволосился. Потом коротышка вылез из куста по пояс. Удивительно, как мало этот человек производил шума. Более того, он так умел сливаться с окружающим пейзажем, что пришлось сознаться, не жди его Шамбер именно здесь, ни за что бы не заметил.
Он выстрелил. Попал, конечно, коротышка ахнул, негромко выругался и повалился в кусты. Мат не спутаешь ни с чем, русский значит. А может, все это чистой воды притворство? Лежит себе на земле и ждет, когда к нему подойдут поближе. Соловей, на минуту оглохший от выстрела, опять уже опять орал как безумный. Шамбер выстрелил еще раз наугад, потом достал нож.
В этот момент совсем рядом послышались взволнованные голоса: один женский, другой мужской. Прах их возьми, влюбленные! Неймется им. Зимой, летом, в любое время года, при войне и мире они все равно тащатся в городской парк, чтобы слюнявить губы, задирать юбки и валяться под кустами. По всем законам жанра после выстрела им следовало убежать в испуге, но голоса приближались. Может быть, это был не мужской голос, может, подростков уже стали набирать в полицейские отряды. Но все это не важно. Главное, надо было сматываться, и немедленно.
Шамбер надеялся, что если и не убил мерзавца, то во всяком случае покалечил. А это значит, что завтра ночью он может спокойно оставить Данциг.
От отплыл из города морем, в плохой лодченке добрался до ближайшей рыбачьей деревушки и там, как меняют на постоялом дворе лошадей, сменил одно утлое судно на другое. Путь до Кенигсберга был трудным. Позднее этим же самым путем будет бежать из осажденного города экс-король Станислав, но до этого еще надо дожить.
Из Кенигсберга в Россию попасть было уже не сложно. У Шамбера были надежные связи, беда только, что связи эти ополовинили карман. По прибытии в Петербург он снял крохотный домишко на острове, навестил некоторых старых знакомцев и затаился. Первым письмом, которое он написал, было цифирное послание к Николь.
8
Не только всеми любимый национальный русский герой Штирлиц, но и его собратья по шпионскому ремеслу назначали свидания своим агентам в естественных и ант ропологических музеях. Берусь утверждать, что именно Шамбер с его изобретательностью положил этому начало. Он правильно рассудил, в толпе легко выглядеть незаметным.
Музейные редкости Кунсткамеры были перенесены в здание на Васильевском острове семь лет назад из дома боярина Кикина, где они ранее выставлялись. В двадцать седьмом году посетителей, считай, что не было, даже на открытии музея народу было мало. Двор находился в Москве, жители разбегались из нелюбимой столицы. Но с приездом Анны Иоанновны в Петербург Кунсткамера ожила, тем более что была возобновлена традиция, положенная самим Петром: простолюдины обоих полов, равно как и богатые горожане, не только имели бесплатный вход, но и получали дармовую еду.
Существует легенда, что еще на заре музейного дела бережливый Меншиков сокрушался, что вход в Кунсткамеру бесплатный и доходу в казну не дает, на что рассерженный Петр крикнул ему в сердцах: «Да я приплачивать готов, только бы народ мой интересовался вещами, до наук принадлежащими». И велел посетителей кормить, поить кофием, а по праздничным дням подносить рюмку водки.
Помните картину Рембрандта «Анатомический театр» – разъятый труп на столе, а вокруг ученые в голландских шляпах. Наука! Покупая за границей заспиртованных нерожденных младенцев, Петр размышлял о природе жизни, как, из чего вырастает человек, какими этапами идет это развитие. Для обывателя все эти зародыши в спирту были только уродцы, страшные и притягательные. Хорошо посмотреть мартышек всяких, зверя «каркодил» – экий урод – морских раковин и африканских идолов, но особо посетителей интересовала «хорошо выделанная кожа известного великана Буржуа». Оказывается, человечью кожу можно выделывать не хуже бараньей! И думали с кривой ухмылкой: «А если это дело пустить на поток, бо-ольшие деньжищи можно загребать».
Петру хотелось устроить музеи так же богато и с выдумкой, как за границей. В Лейдене, например, в анатомическом театре, что при кирхе, из скелетов, обряженных в одежду, делали презабавнейшие экспонаты. Вот скелет осла, на который посажен скелет женщины, убившей свою дочь, а рядом на скелете быка сидит скелет вора, в свое время повешенного. Какой-то любитель музеев, иностранец, глядя на все эти чудачества, сказал с грустью: «Церковь есть храм молитвы, а здесь ее превратили в вертеп для разбойников». Лейденские ученые его не поняли и обиделись. А где взять скелеты достойных людей, если для вскрытия дают только тела казненных преступников?
Мадам де ля Мот, как и было предписано в письме, явилась в Кунсткамеру в скромном, сереньком наряде. Правда, Шамбер настаивал на платье простолюдинки, но это требование она с негодованием отвергла. Шествовать по улицам в епанче и кокошнике! Нет уж, увольте, сударь!
К счастью, Шамбер вообще не обратил внимания на ее наряд. При встрече, а она состоялась в приемных покоях музея, он цепко схватил Николь за руку и потащил куда-то в угол.
– Говорить будем шепотом. Здесь тоже могут быть уши. Не вертите головой, вы привлекаете к себе внимание, – голос у Шамбера прерывался от волнения. – Какое счастье, что вы получили мое письмо!
– Во-первых, здравствуйте, сударь, – Николь с насмешкой присела в книксене. – Что с вами? Вы на себя не похожи. И почему мы встречаемся в таком странном месте?
– Умоляю, не надо лишних вопросов. Мы будем медленно идти по залам, как бы все рассматривая, а заодно и поговорим.
Николь смотрела на Шамбера, вытаращив от удивления глаза, но спорить не стала, видно, какое-то очень серьезное событие заставило его вести себя подобным образом.
Музейная зала представляла из себя длинное продолговатое помещение со шкафами вдоль стен, в которых были размещены экспонаты. На длинных, прикрепленных к потолку веревках на разной высоте висели птицы. Они сияли ярким оперением, сквозняки слегка раскачивали чучела, и создавалось ощущение, что вот-вот они взмахнут крылами и улетят на просторы Невы. Но нет, не улететь, поводок крепко держал их на привязи.
– Жалко птиц, – сказала Николь.
– Не отвлекайтесь… – прошипел ей в ухо Шамбер.
Она пошла вдоль витрин, рассматривая экспонаты.
Чего здесь только не было: застывшие в прыжке обезьяны и горностаи, дивной раскраски бабочки перемежались макетами парусников, с африканскими масками соседствовали древние монеты, тут же лежали огромные перламутровые раковины, привезенные из южных морей. А еще механические инструменты непонятного назначения, страусовые перья и китайские, тончайшего фарфора чашки. Каждый экспонат был снабжен подписью на русском и на латыни.
– Смешно написано, – она прочитала по-русски, – «морское диво в спиртусе». Красивый почерк… Интересно, кто это написал…. А вот смотрите – «сулемандра в склянице». Я думаю, что это саламандра, дух огня. – Николь засмеялась.
– Сосредоточьтесь, ради бога, – шептал ей в ухо Шамбер. – Я знаю, с каким заданием вы прибыли в Петербург. Ну как, вошли в доверие к Бирону?
– Понятия не имею. Этим занимается аббат Арчелли. У меня другие планы.
– Какие, позвольте полюбопытствовать?
– Об этом рано говорить.
– Надо, чтобы в доверие к Бирону вошли именно вы.
– Почему? – Николь кокетливо надула губы.
– Потому что именно вы со своим умом и обаянием можете узнать то, что не в состоянии узнать Арчелли…
– А что у Бирона надо узнать?
– Об этом мы поговорим после, – Шамбер говорил настолько тихо, что Николь приходилось разбирать отдельные слова по движению губ.
– А вы с какой миссией прибыли в Россию? Тоже войти в доверие к Бирону? – глаза ее откровенно смеялись.
– В каком-то смысле. Но вообще-то это вас не касается.
– Фи, как грубо…
Дошли до заспиртованных уродцев. Экспонаты одновременно заинтересовали и испугали Николь. Скрюченные тельца, сморщенные личики, зажмуренные глаза, которые так и не увидели свет. Еще ужаснее выглядели препарированные части человеческого тела, в этом было какое-то противоестественное, нечеловеческое бесстыдство.
– Кто такой этот Рюйш? – Николь оторвала глаза от таблички и воззрилась на Шамбера с раздраженным видом. Она не ждала ответа. Ее просто заинтересовала написанная на табличке фамилия мерзавца, который продал России все эти безобразия.
И вдруг из-за спины прошелестел ответ.
– Фредерик Рюйш, известный всему миру анатом.
Николь резко повернулась. Рядом с ними стоял бледный молодой человек в темном камзоле с позументами, в очечках, продернутая через наушники несвежая лента завязана на затылке в смешной бант, словом, вид ни от мира сего – весь в науке. Шамбер посмотрел на юношу с ненавистью.
– Он продал нашему государю девятьсот тридцать семь экспонатов, – продолжал молодой человек, застенчиво улыбаясь, – за очень большую сумму.
– Какую же? – строго уточнила Николь.
– Тридцать тысяч гульденов, – вздохнул юноша.
– Мне все это очень не нравится, – Николь обвела рукой витрину с препаратами.
– Женщин это пугает, – с готовностью закивал юноша, – однако Рюйш был великий ученый. Он умел сохранить цвет кожи не только на отдельных препаратах, но и на всех трупах целиком.
Николь слабо охнула. Надо было как-то отвязаться от навязчивого молодого человека. Кто он, служитель Кунсткамеры, шпион или просто горожанин, который не обманулся простеньким платьицем Николь, узнал в ней знатную даму и теперь пытался познакомиться, предлагая свои в качестве аванса знания?
– Благодарю вас, – сказала она сухо и решительно направилась прочь, Шамбер поспешил следом. Молодой человек стоял столбом, провожая их грустным взглядом.
– Так на чем мы остановились? – Николь вопросительно посмотрела на Шамбера. – Говорите прямо, что вам от меня надо и где я могу вас найти в случае необходимости?
– Я сам вас найду.
– О! Вы даже от меня готовы скрываться?
– Не в этом дело. Я живу под чужим именем. Дом мой смело можно назвать лачугой. Появление такой дамы, как вы, может привлечь внимание обывателей.
– С каких это пор вы стали бояться обывателей? А это здесь зачем? Какое-то кривое-косое бревно? – воскликнула Николь, глядя на витрину, и тут же за ее спиной отозвался тихий голос.
– Это спил дерева, который стоял на месте Кунсткамеры. Однажды царь Петр плыл вдоль берега и увидел две странно изогнутые сосны. Они так проросли друг в друга, что нельзя было понять, какая ветка какой сосне принадлежит. Царь Петр сказал, мол, я создаю музей необычайностей, так это место можно счесть самым подходящим. Таких уродливых сосен я нигде не видал.
В Англии уже был создан клуб, получивший название «синий чулок». Россия в этом отношении отстала от Европы, как и во всех других, впрочем, но бледный юноша вполне мог посоревноваться с англичанами в количестве ненужных знаний, которые скапливаются у иных людей в голове.
– Благодарю вас, благодарю, – крикнула Николь в лицо молодому человеку. – А теперь оставьте нас в покое.
Спасение можно было найти только на улице.
– Так что вы мне хотели сказать? – спросила Николь у Шамьбера, когда они вышли на набережную.
Он внимательно осмотрелся по сторонам и только после этого произнес:
– Вы должны найти в Петербурге одного человека. – Он подумал и добавил: – И войти к нему в доверие.
– И как этого человека зовут?
– Его зовут князь Козловский. Вам должно быть знакомо это имя. Год назад, нет, уже поболе будет, мы вместе с ним ехали из Парижа в Варшаву. Вы мне о нем потом рассказывали. Не смотрите на меня так удивленно. Помните? Ну, на кладбище, когда вскрывали могилу Виктора… Могильщики еще говорили…
– Ничего я не помню, – перебила его Николь, она не могла скрыть своего раздражения.
– Вы же сами мне говорили, что он болтался там где-то рядом.
– Кто?
– Князь Козловский.
– Ничего я вам не говорила. Вы сами все придумали, – с раздражением отозвалась Николь и подумала: «Что-то слишком часто князь Козловский попадается мне на пути. Ой, не к добру!»
– Ну, хорошо. Пусть придумал. Но послушайте, Николь, – Шамбер редко называл ее по имени, голос его дрогнул, он выглядел искренне взволнованным. – Я не могу приказывать вам. Считайте, что эта моя личная просьба, и она не останется не вознагражденной.
– Вот как? – брови мадам де ла Мот поползли вверх. – И как же вы собираетесь меня вознаграждать?
– Это мы потом обсудим.
Они стояли на причале, деревянные доски настила были мокрыми от брызг. К уходящим в воду ступеням причалил рябик с резными стойками и богатым пологом, подбитым оранжевым шелком. На корме надрывалась от лая косматая беленькая собачонка. Матрос выпрыгнул первым и изогнулся, протягивая руку невообразимо толстой даме в круглой шляпе и платье из петельчатого синего бархата. Дама, кряхтя и ругаясь, занесла ногу над бортом лодки. В этот момент волна от проплывающего струга качнула рябик. Казалось, что дама вот-вот свалится в воду, но, к счастью, она откинулась назад и упала на подушки. Рябик, казалось, присел от неожиданности. Второй матрос бросил весла и кинулся поднимать хозяйку. Собачка совсем зашлась в лае и, исхитрившись, цапнула матроса за руку и тут же отпала с воем.
Дама охала, ругалась и кричала, что больше никогда, никогда не согласится сесть в эту чертову посудину. Видно, пожадничала, дуреха, за проезд по мосту надо было платить, а в рябик ее засунули бесплатно. Вторая попытка выйти на сушу тоже не увенчалась успехом. Вокруг уже собрались зеваки, хохотали и давали советы.
«Если эта старая слониха в третий раз благополучно сойдет на берег, то у нас с князем Матвеем все обойдется, – вдруг подумала Николь и засмеялась. – Что значит – обойдется? А то… Он простит ей невольную ложь, он не помешает ей исполнить то, ради чего она приехала, он не предаст ее и не убьет».
Толстая матрона опять занесла ногу над бортом лодки.
9
Николь не знала местожительства князя Матвея в Петербурге, об этом как-то не было разговора во время путешествия. Хотя кое-что из его биографии ей было известно. Она знала, например, что у него есть сестра. Специально об этом ничего сказано не было, но, когда гуляли в лугах, князь обронил мимоходом, что его сестра очень любит полевые цветы. А на постоялом дворе, где подали простылые щи, он сказал в сердцах:
– Бездельники. Да если бы такие щи подали моей тетке, она бы миску на голову поварихе надела.
– А где живет ваша тетушка? – спросила тогда Николь.
– В Петербурге, – пожал он плечами. – Она бригадирша.
Но даже при скудости этих знаний Николь сообразила, что искать его надо в казармах. Вообще, вопрос был не в том, где его найти, вопрос в другом – стоит ли вообще его искать. Про зашитую в камзол бумагу Николь поняла еще в зарослях на берегу реки, где слуга делал князю перевязку. Полуголый Козловский сиганул в кусты, бросив одежду на землю. А там сыро, лужа. Николь просто подняла кафтан, чтобы повесить на ветку, и ощупала его просто по привычке. Она успела подумать про князя – красивый, как Адонис, и шея, и разворот плеч, и смущенное лицо с горящими глазами, поэтому первой мыслью было, что он носит на себе любовное послание какой-нибудь смазливой барышни. Это показалось вполне правдоподобным, всю важную документацию держал в своей суме бдительный Евграф.
А на постоялом дворе у Николь хватило ума это любовное послание вытащить. Она была потрясена его содержанием. Каково это – найти в чужом письме подробное описание собственной персоны. Письмо было без печати, но заклеено. Понятно, князь выполняет какое-то ответственное поручение. Но кто он – случайный курьер или тайный агент?
Неужели это молодой человек, вежливый, простодушный, как Кандид, умел так притворяться? Он дарил улыбки, расточал комплименты, а сам тем временем примерял словесный портрет на свою спутницу, вычисляя в уме – она или не она? Если это так, то Николь сунула голову в пасть льва, и только природная предусмотрительность помогла ей избежать огласки, а может быть и ареста.
Если Козловский случайный курьер, то он мог и не знать содержания письма, зашитого под подкладку, но в любом случае следует от него держаться подальше. После поспешного отъезда, можно сказать, бегства, с постоялого двора, Николь дала себе слово, что никогда, даже случайно не встречаться с князем Матвеем.
И тут вдруг эта странная просьба Шамбера. Огюст серьезный человек, он просто так не будет разбрасываться просьбами. Ему надо помочь. Ее собственные дела идут отлично. Может быть, медленно, но в правильном направлении. Спокойная жизнь в русской столице притупила у Николь ощущение опасности, и мысль о встрече с князем Козловским уже не казалась крамольной.
А почему бы не возобновить знакомство с приятным молодым человеком? Она знала, чувствовала, что он в нее влюблен. В конце концов, князь Матвей может быть ей полезен. Идет игра, а если они будут подозревать друг друга, то это только придаст остроту ощущениям.
Что из того, что Козловский вражеский агент? Он собрат по опасному ремеслу, он тоже презирает пресную жизнь обывателя, знает, что такое риск, он тоже любит и умеет развязывать и завязывать узелки на тонком плетении интриги. Ну что ж, будем вести собственную игру и посмотрим, кто кого переиграет!
За время пребывания в Петербурге она обросла большим количеством людей. У нее появилась русская горничная, расторопная, бойкая девица.
– Сударыня, вы где так хорошо по-русски выучились говорить? – поинтересовалась горничная.
Можно было и не объяснять, а только ногой топнуть, мол, не твоего ума дело, но Николь объяснила:
– Нянька у меня была русская.
После этого горничная Анюта стала относиться к госпоже с подчеркнутой преданностью. Приехавший с ней поляк и в Петербурге сидел на козлах, но при этом охотно выполнял все поручения Николь. Словом, у нее было кому отнести записку в казармы драгунского N-ского полка. А затем произошла уже описанная нами встреча, которую на беду свою увидела Лизонька Сурмилова.
Увидев перед собой Николь – вот она, совсем близко, протяни руку и коснешься, Матвей страшно смутился, кровь прилила к коже, и ладони взмокли от волнения. Она стояла, держась за высокую спинку голландского стула и молча на него смотрела. В тесной зале было полно людей, бегал слуга с подносом, заставленным бутылками с пивом и едой, но все перебивал запах ванили и свежемолотого кофе.
– Здравствуйте, князь, – она сделала шаг в сторону, но все еще медлила садиться, словно ждала его приглашения.
Матвей увидел ее вдруг всю целиком, будто из одного куска сделанную – и короткие, ненапудренные, пружинкой завитые локоны на висках, летнее шелковое платьице на малых фижмах, драгоценные кружева у худых трогательных рук и розовый плат, изящно и целомудренно прикрывающий грудь и шею. Понять бы, из какого материала все это сотворено – уж, конечно, не из алебастра раскрашенного и не из мрамора, а из великолепного китайского фарфора.
– Садитесь, умоляю вас. Как хорошо, что вы пришли. Вы исчезли так внезапно. Я обиделся, право. Я этого не заслужил. Все это время я провел в пустых скитаньях. Господина Труберга, под чье крыло вы направлялись, я так и не нашел. Может быть, я плохо искал?
Николь благосклонно слушала эту пылкую скороговорку. Нет, это не игра. Не под силу простому драгунскому офицеру изобразить такой искренний восторг. Он не читал письма, зашитого в камзоле. Смешной мальчик.
Матвей сразу понял, что перед ним сидит уже не скромная испуганная девица из кареты, а молодая дама, принадлежащая к его кругу. Поэтому следующая фраза прозвучала несколько неуверенно.
– Я знаю только ваше имя. Позвольте мне вас называть по-прежнему мадемуазель Николь.
– Позволяю. Только я мадам.
– О!
– Я вдова. Меня зовут Николь де ла Мот.
– О господи, – прошептал Матвей.
Николь кротко улыбалась. Теперь он совершенно не знал, как продолжать разговор. Привычная его развязность и уменье вести куртуазную беседу куда-то испарились, словарный запас истощился, и он притянул за хвост первую фразу, которая пришла в голову.
– Как поживает ваш досточтимый батюшка?
– Вы имеете в виду моего спутника? Он мне не отец. Мой родной отец давно умер. А вместе со мной ехал случайный человек. Он католический священник. Он не может иметь детей.
Губы Матвея округлились для еще одного восклицания, но обескураженное «О!» встало в горле комом, он не мог говорить.
– Не надо больше вопросов. Я сама вам все объясню. За этим я и пришла. А еще я хочу поблагодарить вас. Вы спасли не только мою честь, но и жизнь. И простите меня, что пришлось играть перед вами эту комедию. Я имею в виду мнимого отца и выдуманного господина Труберга.
– Я готов простить вам все, что угодно, – Матвей машинально щелкнул под стулом каблуками, шпоры отозвались перезвоном.
– За мной охотились поляки, – продолжала Николь, – а мне непременно надо было попасть в Россию. Шведский посол Нолькен мой дядя. Я приехала сюда под его покровительство. Вначале я просто остерегалась называться своим подлинным именем, а потом, – она отвела взгляд и добавила смущенно, – потом я просто не посмела. Мне было неловко. Аббат ехал в партикулярном платье. Что бы вы обо мне подумали?
– Вы можете рассчитывать на мою защиту, – твердо сказал Матвей.
Николь отодвинула шандал со свечами, чтобы лучше рассмотреть молодого человека.
– Хватит обо мне. Поговорим о вас. Как ваша рана?
Матвей откинулся на спинку стула, расслабил плечи, на лице его было написано блаженство.
– Лекарь снял повязку, но рука пока плохо поднимается. Сейчас я в отпуске. Ваше письмо чудом застало меня в казармах.
Матвей был обряжен в летний гражданский костюм: кафтан из тонкого сукна «песошного» цвета, лазоревый камзол из тафты. Обшлага рукавов, воротник, полы и карманы были богато декорированы ажурным галуном. На вкус Николь украшений было многовато, в Париже так уже не носят. Кафтан по обычаю моды был расстегнут.
– И где же вы живете?
– У тетки на Васильевском.
– Я помню, она бригадирша.
Матвей счастливо засмеялся.
– Еще я несколько дней провел у сестры Клеопатры. Она славная. Если захотите, я вас когда-нибудь познакомлю.
– Непременно захочу.
Прямо напротив Николь на стене висела картина библейского содержания: Юдифь с головой Олоферна. Не очень подходящая парсуна для общественного места, но, видно, хозяйка заведения решила, что лучше хоть что-нибудь повесить на стену, чем вообще ничего. Художник был плох, более того, вульгарен. Еврейская красавица Юдифь и обликом, и одеждой напоминала русскую купеческую дочь с насурмленными бровями и подкрашенной свеклой щеками. Лицо красавицы было совершенно бесстрастным. Она держала голову великана, как держат только что выдернутую с грядки репу. Кровь крупными каплями капала на поднос, который красавица держала в левой руке. Николь вдруг представилось, что это не Юдифь, а она сама держит голову князя Матвея в руках, и невольно передернулась.
– Вам холодно. Сейчас принесут кофе. Горячий. Или вина? Хотите горячего вина?
– Хочу.
В то время как Матвей и Николь распивали горячий глинтвейн, несчастная Лизонька писала письмо любимой подруге Клеопатре. Сцена у кофейного дома была описана во всех подробностях, но главной целью послания служила приписка: «…и отдай сей вкладыш в собственные руки, может, проймет его моя печаль, и прежде чем отдать, сама прочитай». Вкладыш – отдельная записка Матвею – прилагался.
Письмо Клеопатра получила на Мануила и в этот же день отослала вкладыш брату. Народная молва говорит, что в Мануилов день солнце как бы «застаивается», если «по-научному» – медлит в зените, потому как Земля вдруг сбавляет скорость движения вокруг Солнца. Клеопатра была потрясена поступком брата и совпадением этого поступка с замедлением движение планеты. В этом ей чудилось страшное предзнаменование.
10
А как поживает счастливый муж и служащий Конюшенной канцелярии поручик Родион Люберов? Во второй саге моего повествования он пока участвует как бы в массовках и только изредка появляется на сцене, ненавязчиво исполняя роль второго плана. Пора его вытаскивать на первый.
Сознаюсь, мне очень симпатичен Родион Люберов. Наверное, подобное заявление глупо звучит в устах автора, но, наблюдая за моим героем, я могу с удовольствием отметить, что во всех передрягах и бедах, которые навязала ему судьба, он ни разу не оступился даже в мелочах. Он умел быть негромким, сдержанным, он никогда не обнаруживал в характере эдакую «русскую широкость», но в какие бы покои он не входил, там всегда было заметно его присутствие. Мистики от науки сейчас говорят – биополе… шут его знает, я в этом ничего не понимаю, но много в Родионе было скрытой силы, и люди это чувствовали.
Очень бы хотелось написать с уверенностью, де, брак его был счастливым. Но после полугода супружеской жизни такое рано говорить. Хочется только выразить надежду, что и через тридцать лет у Клеопатры и Родиона будет все хорошо. А пока они просто влюбленные.
Как там у классика? «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Но молодая семья Люберовых и в несчастьях своих, пока незначительных, была очень традиционна.
Клеопатра обожала свою мызу. Бог создал ее хорошей хозяйкой, поэтому она была всегда занята. Покладистый характер помог ей познакомиться со всеми соседями, и она часто ездила к ним в гости. И соседи тоже не обделяли ее своим вниманием, являлись на праздники всем домом с детьми и собаками. Беда у Клеопатры была одна – она редко видела мужа.
Иногда наезжала в Петербург, но снятая квартирка, в которой Родион ночевал три, а иногда пять раз в неделю, казалась казенной и неуютной. У Клеопатры хватало ума не устраивать сцен из-за рабочего графика мужа, но бывало, что и срывалась, орошала слезами его камзол.
Родиона это раздражало. Он, видите ли, никогда не рассказывает о собственной работе. «Ты пожалуйся, пожалуйся», – твердила Клеопатра, видя, что в этот приезд Родион как-то особенно мрачен. Нет, он никогда не опускался до сцен с криком и бранью, но иногда заходил в тупик. Почему Клепа, вернее Катя, так он ее называл, не понимает очевидных вещей? Как прикажешь жаловаться, если он служит у Бирона, у самодура и тирана, у чуда-юда, а уйти от него не может. Да и не умел он жаловаться!
Чтобы успокоить жену и найти правильные слова, Родион пытался вспомнить, как вели себя в этих случаях отец с матерью. Не мог… Андрей Кириллович часто горячился по пустякам, но мать побеждала его кротостью, все что-то бормочет, говорит вполголоса, смотришь, и прошла буря.
А Клеопатра побеждала его тихостью, вернее молчанием, но молчание это иногда казалось опасным. Как в омуте лесном на вид все тихо, но что там внутри в глубине, какие течения и бури – неизвестно.
И вот радость – у них будет ребенок! Это обычно потрясает молодых родителей, да и не молодых тоже. Теперь вся жизнь подчиняется будущему событию, остается только ждать и радоваться. Но, оказывается, и на этой дороге к счастью есть свои канавы и рытвина. Беременность у Клепы проходила трудно. Все было: и тошнота, и рвота, и в обморок падала, и от запахов с ума сходила. По простоте сердечной она пожаловалась на недомогание мужу, но встретила неожиданный отпор. Я тебя вчера звал прогуляться вдоль залива? Почему не пошла? Лекарь говорил, что прогулки весьма полезны. Ах, головы не могла поднять? Все женщины рожают, и мир от этого не перевернулся. И не говори мне про эти болезни, это дела женские, и не пристало говорить о них мужу. Родион вспоминал родителей. Мать бы сейчас очень помогла, но далековато она теперь, не посоветуешься.
И опять же, его отношения с Матвеем. Не скажешь, что дружба их сошла на нет, но, во-первых, разметала их судьба, а во-вторых, они теперь стали родственниками, а это как бы уже другой статус отношений. Было еще и в-третьих, все-таки Родион с Матвеем были очень разными. Война изменила князя, он стал серьезнее, сдержаннее, и когда она рассказывал об ужасах войны, то находил полное понимание у деверя. Но Матвей не умел долго быть глубокомысленным, он очень скоро скатывался на ироничный, бесшабашный тон, которого Родион не мог принять. Он вообще считал, что о серьезных вещах можно говорить только серьезно и любое балагурство здесь неуместно.
Была еще точка преткновения – Лиза Сурмилова. Понятное дело, когда Матвей только появился после Данцига первые три дня разговоров о ней не было, но на четвертый зашел. Начала его Клеопатра.
– Невесту-то видел? – спросила она, не видя в вопросе никакого подвоха.
Матвей усмехнулся, но ничего не ответил и перевел разговор на другую тему.
Спустя день Клеопатра опять пристала с тем же вопросом, здесь уже Родион был рядом. Матвей и на этот раз ушел от ответа, а когда Клепка из комнаты вышла, он сказал как-то отчужденно:
– Мне бы не хотелось, чтобы мадемуазель Сурмилова знала о моем возвращении.
Скажите, пожалуйста, была Лизонька, цветок души, а стала мадемуазель Сурмилова!.. А как это прикажите понимать, если девица все помыслы связывает с князем Козловским? Родион благодарил судьбу, что его визит к Лизе, когда про несчастного Ксаверия говорили, случился за день до приезда Матвея. Тогда он знал только, что Мотька ранен, о чем честно и доложил девушке. А если бы Лиза призвала его позднее на неделю, то он должен был ей врать? Именно так, скажет обычный человек, и соврешь не дорого возьмешь, если это ложь во спасение. Но Родион лжи между близкими людьми вообще не признавал, и теперь благодарил судьбу, что случай спас его от эдакого позора.
Но, с другой стороны, он ни в коем случае не хотел брать на себя роль Лизочкиного адвоката. Не скажешь, конечно, что она вешается Матвею на шею, но могла бы вести себя сдержаннее. Впрочем, это их дела, и не пристало им в эти дела мешаться. Родион и Клепе, то бишь Кате, об этом сказал. Жена пришла в неистовство, но потом подумала и нашла совет мужа верным.
Матвей уж съехал давно с мызы и жил у тетки, а Родион с женой все гадали, чем эта история кончится. Клеопатра уже начала думать с опаской, что у Матвея есть свои причины скрываться от людей и его отношения с Лизой здесь ни при чем. Переживала за брата страшно, но молчала. А тут письмо от Лизы, а в письме вкладыш. Клеопатра тут же отправила вкладыш по назначению и стала ждать вестей от брата. Но первой откликнулась опять Лизонька Сурмилова.
– Все, Родя, все кончилось! – сказала Клеопатра мужу за ужином. – Лиза на крайний случай пошла. Она написала Матвею письмо, резко написала, мол, «и не приходи, и не пиши».
– И правильно сделала.
– Да, но он и не пишет и не приходит, хоть она и сообщила ему свой новый адрес на Васильевском.
– Ну?
– Что – ну? Он не пишет и не приходит. Уже три дня прошло, как он письмо от Лизы получил.
– Но она же сама написала… Прекрасная девица. Матвей ее не достоин.
Клеопатра посмотрела на мужа как на безумного.
– Но Лиза ведь написала в том смысле, чтоб Матвей схватился за голову и немедленно бросился выяснять отношения.
Вот этого Родион Люберов действительно не мог понять. Странные существа женщины. Они говорят «нет», а подразумевают «да». И как их правильно понимать? Но Лизоньку ему было жалко. Он чувствовал себя ей обязанным.
11
Сурмилов ошибался, предписывая Родиону Люберову должность «своего человека» при Бироне. Он не стал для обер-камергера «своим», что не мешало ему исполнять обязанности вовсе, казалось, не свойственные для его чина, положения и характера.
Бирон продолжал присматриваться к молодому человеку, решая для себя задачу: плут ли не плут, карьерист или нет… А если и не плут, и не карьерист, и не трус, почему услужлив, зачем тянется в линейку? Боится вслед за родителями на каторгу пойти?
Приложив очень мало усилий, Бирон узнал место ссылки родителей Бирона. Они жили при крохотном гарнизоне под Якутском, жили вместе, что уже было милостью государыни. Сама Анна Иоанновна, как водится, о своей милости и не подозревала.
Бирон сам отдал Люберову листок с нацарапанным на нем Сибирским адресом. Родион внимательно прочитал написанное, но ничем не выказал своего волнения, разве что щеки чуть порозовели. А глаза стали словно стеклянные.
– Я безмерно благодарен вам, ваша светлость.
И все, никакого восторга, никакой попытки лобызать руки. Бирон смотрел на молодого человека с усмешкой.
– Имею ли я право написать по этому адресу?
Бирона забавляла эта сцена, сдержанность молодого человека казалась чистым притворством. Душа его сейчас должна была томиться, всхлипывать от избытка чувств, а он зубы сжал, аж желваки вспухли, и все старается достоинство свое не уронить. А какое у тебя может быть достоинство, если ты сын арестанта?
– Право-то имеешь, только получишь ли ответ? Ты когда письмо будешь посылать, сделай помету, что из моей канцелярии писано.
Добился-таки обер-камергер своего, лицо поручика размягчилось, и стеклянные глаза сверкнули вроде бы слезой, при этом он вдруг выпрямился, как на плацу, и словно опал, согнувшись в глубоком поклоне. Губы его что-то негромко шептали. Видно, молитву.
Впоследствии Бирону и в голову не пришло поинтересоваться, дошли ли письма до далеких адресатов. Вообще недосуг ему было раздумывать на эту тему. Поручик ему предан, и это хорошо. Что ему Люберов? Насекомое, пчела трудолюбивая… ну и пусть носит мед в его, Бироновы, ульи.
Люберов и носил. Вся корреспонденция Конюшенной канцелярии с поставкой лошадей и приклада, как-то седел, сбруи и даже карет, шла через его руки, это понятно. По лошадиным делам мотался в командировки в самые далекие губернии. Но иногда, словно в насмешку, Бирон поручал ему канцелярскую работу, например сортировать письма от весьма важных лиц. Послания эти так и дышали раболепским духом, все без исключения вельможи просили поддержки и покровительства фаворита и заранее восхваляли его за это покровительство.
Большинство прошений было написано по-русски, именно этим Родион объяснял привлечение его к этой работе. Фаворит не хотел учиться ни писать, ни читать по-русски. Он и по-французски изъяснялся с трудом и бравировал перед всеми тем, что великолепно обходится в России с родным немецким языком.
Получая отсортированные челобитные, Бирон неизменно спрашивал у Родиона:
– Ну, как думаешь? Который из них врет, который правду говорит?
Не всегда получалось отмалчиваться, иногда приходилось говорить, де, знать такое невозможно, но что господин такой-то безусловно честный человек. Случай ни разу не дал возможность Родиону проверить, воспользовался ли фаворит его советом.
Потом на руках у Родиона как-то сами собой оказалось дела по управлению трех деревень, значащихся за Бироном, он получал отчеты по именьям, список приходов и расходов. Люберов без слов взялся и за эту работу, но категорически отказался принимать в руки живые деньги. А Бирон и не настаивал. «Ты, главное, заглядывай в эти бумаги. У тебя глаз наметанный. Сразу видишь, кто врет, а кто нет». Родион не спорил.
Бирон принимал участие в торговых операциях и весьма успешно. Народная молва до сих пор связывает старые пеньковые склады с именем временщика. Сам Бирон купеческими делами не занимался, но получал значительные суммы – отходные. Родион знал и об этой стороне жизни фаворита.
Успел он познакомиться и с двумя братьями – Карлом и Густавом Биронами. Оба они начинали службу в Европе, потом стали служить России и, благодаря удачливости среднего брата, сделали удачную карьеру. Оба брата были генерал-аншефами. Карл, по свидетельству Манштейна, был грубейший человек, весь искалеченный в пьяных драках. Густав был честнейшим человеком, правда, ума недалекого и без всякого образования. Но эти качества не мешали ему быть храбрым генералом, солдаты его любили.
Перед Родионом уже заискивали вельможи, просили порадеть, исхлопотать аудиенцию, умоляли о воспоможествовании. А Бирон продолжал приглядывать за Люберовым и удивляться, почему тот при его-то возможностях не берет взяток. Говорили, что в столице он снимает у какой-то вдовы малую квартирку и конюшню на одно стойло, а время вне службы, буде возможно, проводит на мызе под Ораниенбаумом, и дом его скромен, никакой роскоши. Иногда Бирон раздумывал, а не увеличить ли Люберову жалованье, или хоть в чине повысить? И тут же укорачивал себя: подожду, больно уж он горд.
Потом случилось – уже на имя Люберова прислали челобитную с просьбой порадеть, за первой последовала вторая. Взятки прямо-таки совали в руки, не деньгами, малыми презентами. Один принес пару шелковых англицких чулок и кусок сукна на камзол, другой отцовскую пищаль и лисий мех для шубы. Родион презенты не взял и челобитные не принял, мол, не по чину.
Но фавориту донесли об этих письмах, и он как-то сразу обиделся на Люберова. Сейчас не взял приношения, потом возьмет, слаб человек, не устоит. Разговор состоялся тут же, на ходу, в манеже.
– Ты на казни камергера Монса был?
– Нет. Я не люблю таких зрелищ. И потом я тогда был в армии.
– Сколько же тебе было? Двадцать?
– Десять лет назад? – вспомнил Родион. – Семнадцать.
– Ну-ну… Я тоже на этой казни не был. Занятное, говорят, было действо. Весь Петербург был как в лихоманке.
Поговорил и все, больше не возвращался к этой теме, а Родион задумался. Неужели Бирон усмотрел в его поведении аналогию с делом десятилетней давности? Ежели так, то надо немедленно подавать в отставку. Вспыхнул, и укоротил себя. Пока родители не свободны, он не имеет права жить так, как ему хочется.
И не стоит видеть в словах Бирона унижение собственной персоны. Бирон не пугал, а упреждал: «Знай, Люберов, что хоть я тобой и доволен, но не оступись, потому что ты у меня весь на виду. Если зажадничаешь, начнешь шалить с моим именем, возомнишь о себе невесть что, то скоро вспомнишь, Троицкая площадь рядом и плахи на Руси мастерить не разучились».
Вспомним и мы весьма поучительную историю Вилли Монса, камергера Екатерины I, генерал-адьютанта Петра, брата его первой возлюбленной из Немецкой слободы.
Монса казнили за взятки. В течение нескольких лет он исполнял при царице обязанности камер-юнкера, доверенного лица и «своего человека». На этом деле Монс и разбогател. Казнили его по доносу сразу после коронации Екатерины Алексеевны.
Плаха была установлена на Троицкой площади. По делу о взятках под кнут пошло еще несколько человек. Среди них были Матрена Балк, секретарь Монса Столетов, шут Балакирев, ему присудили батога, паж Павлов, ну и так далее.
Рядом с помостом, на котором размещался эшафот, на особых столбах висела «роспись взяткам»: с правой стороны указывалось приношение, с левой – кто давал. Взятки были не в пример нашим (я имею в виду двадцать первый век, когда счет велся на тысячи и миллионы) скромными: триста червонных… или шесть лошадей и коляску… или перстень золотой, муки пятьдесят четвертей, да ленту, шитую золотом… или три косяка камки да десять фунтов чаю – не бог весть как богато. Ужас в другом, перед красавцем Монсом заискивали Долгорукие, Салтыковы, Щербатов-глухой, Артемий Волынский и сам светлейший князь Александр Данилович Меншиков! Список с росписью взяток выставил на всеобщее посмешище самых уважаемых в державе людей.
Но не только стыд мучил перечисленных вельмож, они испытывали тогда куда более сложные чувства, и сильнейшим из них был страх, более того, ужас. Стыд глаза не выест, а потому надо поклоны бить и благодарить Всевышнего, что государь в какой-то момент утишил гнев и не поволок взяткодателей вместе с взяткобрателями на плаху. А ведь мог бы! Мало ли безумств, тьфу-тьфу, совершили Их Величество на своем веку? Казнить за день, как говорится, вручную, тыщу стрельцов – это вам как? И не дрогнула рука!
Про казненного Монса не только говорить вслух, помыслить боялись – вдруг государь прочтет в глазах твоих укоризну за излишнюю жестокость к бывшему любимцу камергеру! Зато иностранцы, которые в России проживали временно, чесали языками, де, жалко Монса. Он, может, и взяточник, но лично мне симпатичен, и красив, и умен, и молод, всего-то тридцать шесть. И потом – кто в России не взяточник? Если уж судить, то всех!
Двести девяносто лет прошло, а разговоры в России все те же. Так же и в наше время говорят: что привязались к такому-то олигарху? Налоги не платил? А кто платил? Если судить, то всех. И мне лично олигарх Икс симпатичен: красив, толков и сразу видно – человек порядочный.
Сейчас нет «росписи взяткам», а жаль. Я понимаю, по телевизору их не покажешь, потому что не хватило бы времени на мыльные сериалы, юморину и последние известия, но в Интернет-то можно было их сунуть. Интернет – он бездонный, там любой длины список уместится, и чтоб все чин-чином: слева – кто давал и сколько, справа – кто брал, а в конце сумма прописью.
Современники находили жестокости Петра оправдание, мол, решающую роль сыграла в этом деле законная ревность. Монс присвоил себе не только чужое имущество и чужие деньги, он посягнул на саму государыню. Говорили, что у коронованной царицы, которую государь из грязи вознес до облаков, был амур с Монсом, когда-то безродным жителем немецкой слободы. Предательство, одним словом. А если так, то все правильно.
Однако мы отвлеклись. Вернемся к служебной жизни Родиона и его сложным отношениям с Бироном. Я их описала так подробно, чтобы объяснить, как Люберову удалось исполнить просьбу Сурмилова. Хотя вначале не плохо бы объяснить, зачем он вообще взялся исполнять эту просьбу.
А это дело тонкое, на первый взгляд может быть и непонятное. Родиону в полной мере была свойственна достаточно редкая черта характера – благодарность. Кажется, ничего особенного, рядовое качество, есть куда более сильные чувства. Тем более что человек часто сам не знает, что стоит его благодарности, а что нет. Например, стоит или не стоит быть благодарными откровенным мерзавцам, даже если они тебе сделали доброе дело. Родион твердо считал – стоит. На этот счет у Родиона было свое мнение, и он его твердо придерживался. Раз принял благодеяние из рук даже не симпатичного тебе человека, ты ему уже обязан.
Иногда ты принимаешь благодеяние неведомо от кого, как говорится, случайно. Но Родион и этому случаю находил оправдание в своем сердце. Он как размышлял: если судьбе было угодно поместить его на жительство в сурмиловском флигеле в самое трудное для него время, то этот неведомый Сурмилов уже есть для него благодетель, хоть сам он и не подозревает об этом. И не важно, если это человек не высшей пробы, а именно жадный, расчетливый, корыстный, не обаятельный, и даже более того, не чистый на руку. Провидению было угодно, чтобы этот скволыга даже вопреки его желаниям оказал тебе услугу, а потому ты его должник.
На этом чувстве строилось и его отношение к Матвею Козловскому, и к Лизоньке Сурмиловой, и к ее батюшке, и к самому Бирону.
Как описать восторг, когда в руке его оказался шершавый, плохо склеенный пакет, заключающий в себе и слезы матери и утешения отца, и гордость его за то, что сын выполнил отцовский наказ. В письме, которое Родион послал в Сибирь родителям, он в первых строках сообщил, что принадлежащие князю Матвею Козловскому деньги найдены и возвращены. Сообщалось это не прямым текстом, но весьма понятным намеком. И парсуну вспомнил, с изображенением покойной тетки, и Плутарха в зеленой обложке. А уже во вторых строках он позволил себе расслабиться и рассказать о свадьбе на лучшей из девиц. Далее он поведал, как живет-может. Именно в таком же порядке отвечали ему родители. И ни слова жалобы! Живем хорошо, надеемся на встречу, и поблагодари того, кто помог нам в этой переписке.
Родион дал себе слово, что будет служить Бирону до тех пор, пока на руках у него будут бумаги об освобождении родителей. Это произойдет, когда умрет Анна Иоанновна и всесильный Бирон на краткий срок станет регентом при малолетнем Иване Антоновиче. Первым же своим указом он выказал великодушие: приостановил уже подписанные казни и освободил преступников – кроме самых лютых, как-то убийц, воров и казнокрадов. Так как родители Люберова ни к одной из последних трех категорий не имели отношения, их фамилии в длинном списке были в числе первых.
Как только оный список украсила государственная печать и подпись регента, Родион попросил отставки. Бирону было совсем не до него. Не хочешь служить и быть в фаворе – значит дурак. Не пытаясь больше разбираться в тонкостях характера Родиона, Бирон подмахнул бумагу. Надо ли говорить, что это спасло Родиону свободу, а может быть, и жизнь. Буквально через неделю Бирон был арестован, лишен всех чинов и сослан с семейством в поселок Пелым Тобольской губернии.
Но до этого, господа, еще жить и жить…
12
Позднее Бирон никак не мог вспомнить, почему он решил, что речь пойдет о сватовстве, очередном сватовстве царицы. Что-то в записке аббата Арчелли, слово какое-то или оборот, натолкнуло на эту мысль. Почему-то вспомнился Мориц Саксонский, этот хлыщ, баловень Европы. И ведь не поленился притащиться в Курляндию, дабы строить глазки вдовствующей герцогине Анне. Бог мой, когда это было? В двадцать пятом? Нет, позже, уже в двадцать шестом, восемь лет назад.
Именно сопоставление дат натолкнуло Бирона на мысль о сватовстве. Аббат Арчелли, или как его там, написал в просительной записке, что хорошо знаком с де Лирия, испанским послом в России. А де Лирия был в Москве как раз в это время, когда саксонец, то бишь Мориц, в Митаве ползал перед герцогиней Анной на коленях, предлагая руку и сердце. Курляндия ему была нужна, замечательные земли с лесами, полями и выходом к морю, и не надо было молоть вздор о высокой любви.
Бирон всегда боялся, что Анна выйдет замуж. Сколько их было – женихов! Австрия сватала принца Гессенкессельского. Дюк де Лирия, как впоследствии выяснилось, тоже кого-то предлагал, потом Португалия послала на смотрины инфанта Эммануила, брата короля. Сейчас Анна царица, а потому всесильна, но всегда есть люди, которые считают, что женщину на троне необходимо выдать замуж за какого-нибудь проходимца. Сейчас императрица, спасибо судьбе, поставила точку над i, Бирон будет ей верен до конца своих дней. Супруга Бенгина понимает ситуацию и ни на что не претендует: общий стол, общая кровать. Дети не общие, но он их пристроит самым достойным образом. Уж он-то не упустит случая. Только бы Анна на старости лет не выкинула коленце! Ведь была же она влюблена в Морица. Это Бирон видел собственными глазами.
Тогда в Митаве Бирон формально исполнял должность секретаря, всем верховодил Бестужев, плут и проходимец. Петр Михайлович был любовником герцогини. Это сейчас она отпирается, а тогда даже не скрывала этого. Не Бирон сокрушил Бестужева, а излишнее радение и конфуз с женитьбой Морица. Бирон только чуть-чуть подтолкнул, и вот умнейший, влиятельный Петр Михайлович уже в ссылке.
Если бы не мысль об очередном сватовстве, Бирон никогда не принял бы этого аббата. Зачем, Господи? Но и на старуху бывает проруха, так говорят в России.
Перед Бироном предстал высокий, худой и чрезвычайно серьезный господин в сутане. Особенно запомнились глаза с недобрым блеском и яркие подвижные, даже, можно сказать, неприличные для человека церковного сана, губы, которые после обязательных приветствий, благодарностей и заверения в преданности мягко выплюнули следующий текст:
– Я, ваше сиятельство, в некотором смысле негласный посол великой Франции, которая ищет мира и надеется в лице вашем найти поборника справедливости.
Тут же в руках аббата появился листок бумаги, величиной с ладонь. Это была убористо написанная писулька якобы от кардинала Флери, подпись неразборчива, который рекомендовал аббата Арчелли как честного и разумного человека. Ничего себе – дипломатический документ!
А с чего это вдруг Франции вздумалось в его лице искать этого самого поборника? Или пославшие этого недоумка решили, что он просто так, от хорошего расположения духа, начнет внушать кабинету, царице и хитрой бестии Остерману, что сейчас, когда Данциг почти взят, надо открутить время назад и сесть за стол переговоров?
Сейчас, когда затраченные армией труды вот-вот сделают положение в Европе стабильным. И вообще, что они там, в Париже, понимают под словом справедливость?
Бирон неторопливо прошелся по комнате, остановился в дальнем углу, скрестил руки на груди и замер, важный и монументальный, как лебедь. Он сознательно затягивал паузу, чтобы сбить с аббата спесь. Хочешь говорить о деле, так говори, а нечего морочить голову патетическими выхлопами. Ну?!
И тут же, второй фразой, негодник аббат сообщил о деньгах, двухстах тысячах, которые он деликатно назвал пенсионом. Франция пенсион выслала, вы его приняли, теперь извольте служить – примерно так можно было перевести на человеческий язык ветвистые и цветистые фразы монаха. Было еще сказано про Азов, про титул императрицы, который они готовы признать за Анной Иоанновной, но всего этого Бирон уже не слышал.
Та-ак… Деньги, значит! Он буквально задохнулся от подобной наглости. Это когда Франция ему что-нибудь платила? Обещать обещали, а потом нахально забывали о своем обещании. Флери обманул его! Монеты с брильянтами, которые привезли ему два поручика из Польши, он, Бирон, добыл сам, своим умом, потом и кровью! Ну ладно, положим, пот и кровь тратили поручики, но уж задействованный в деле ум принадлежал точно ему самому.
Проще всего было выдворить нахала за дверь, но осторожность и любопытство взяли верх. Он дослушал аббата до конца в полном молчании и только в конце задал вопрос:
– Где можно будет найти вас, если возникнет необходимость в продолжение беседы?
Адрес был немедленно сообщен. Далее опять пошли в ход уверения в преданности, подобострастные фразы об уме и прозорливости графа, о коей наслышаны в Париже, а также напоминание о чрезвычайной секретности его миссии, что, он надеялся, их сиятельство сам понимает.
Как только за аббатом закрылась дверь, Бирон хотел вызвать Люберова и учинить ему, мерзавцу, форменный разнос. Кого привел? Кого смел привести? Потом одумался, сокрушить Родиона она всегда успеет. Вначале надо обдумать ситуацию, охватить картину целиком. На этот раз его совершенно не интересовала политическая карта Европы. Откуда в Париже узнали про деньги – вот главный вопрос. И почему они решили напомнить о деньгах именно сейчас, когда не сегодня завтра Лещинский попадет в плен, и вся французская затея рухнет?! Или это какая-то новая дьявольская игра, которой надо искать объяснение?
А не зря он вспомнил про Морица Саксонского. Забавно, теперешняя история со Станиславом Лещинским слово в слово повторяет события восьмилетней давности. Фокус тогда состоял в том, что, не ожидая согласия Польши, Австрии, России и прочих гигантов, курляндская шляхта выбрала своим герцогом Морица. Да, да, все было честь по чести. Курляндия находилась под протекторатом Польши. Старый больной герцог Фердинанд, последний из рода Кетлеров был стар и болен. Его уже давно не считали правителем. Кроме того, он был бездетен.
Принц Мориц приехал в Митаву из Дрездена и напустил туману, мол, он для них самый подходящий герцог, который будет содержать Курляндию при древних правах и вольностях. Проведали у Анны, согласна ли она на супружество. В ответ получили твердое «да». Дело двигалось к свадебному договору, который собирались заключить тут же, в Митаве.
Созвали сейм, депутаты единогласно решили, что, выбирая Морица своим герцогом, они поступают по своим правам. Выборы состоялись в мае 1726 года. Анна послала в Петербург письма к Меншикову и Остерману с просьбой убедить государыню Екатерину дать разрешение на брак с Морицем. А просила она слезно, предоставляла резоны, де, живет без мужа много лет, наскучила вдовствующим пропитанием и теперь заслуживает счастия, потому что всегда радела о благе России.
На все это Петербург сказал твердое «нет». Россия не хотела ссориться с Польшей. Кандидатуру Морица вообще не обсуждали: не серьезно, поскольку рожден от метрессы, а не от законной супруги, а это есть бесчестье. Смотришь на них и удивляешься – а сама-то Екатерина – Марта Скавронская – кто? А временщик ее Меншиков – кто? Но им уже сочинили такие биографии (в которые они и сами поверили), что при обсуждении подобных вопросов не испытывали ничего, хотя бы отдаленно напоминающего чувство стыда.
Словом, были и другие претенденты на курляндскую корону, но светлейший князь Меншиков решил, что эта корона подходит больше всего ему самому. Екатерина согласилась, а чтоб выборы выглядели законно, предложила и вторую кандидатуру на курляндское герцогство – тринадцатилетнего герцога голштинского. Меншиков был командирован в Курляндию под предлогом осмотра войск, которым следовало остерегаться английских и датских эскадр, и отправился в Ригу, а в Митаву поехал Василий Лукич Долгорукий, дабы опровергнуть морицово избрание и провести агитацию за новых кандидатов.
– Императрица Екатерина графа Морица в герцоги Курляндские допустить никак не изволит, – объяснял Василий Лукич сеймовому маршалу, – а коли вы имели неосторожность его избрать, то старые выборы надобно уничтожить, а новые собрать и выбрать в герцоги Меншикова. В противном случае императрица Екатерина лишит Курляндию своего покровительства и возбудит против вас Польшу.
В Митаве признали эти речи совершенно бессмысленными: сейм кончился, депутаты разъехались. И потом, господа, надо уважать наши старые законы и обычаи. Меншиков не немецкого происхождения и не лютеранского вероисповедания. О чем же здесь говорить?
Но Меншиков считал, что говорить необходимо, и разговор этот только начался. Он сам приехал в Митаву и встретился с Морицем.
– Императрица желает, чтобы произведены были новые выборы, которые могут пасть только на меня… или на герцога голштинского.
– Что же это за выборы такие? – удивился принц Мориц.
Далее он объяснил экспозицию. Или Курляндия будет жить с ним, Морицем, во главе, или она будет завоевана Польшей, поделена на воеводства и прекратит существование как самостоятельная единица. А этого курляндская шляхта никак не допустит.
– Ничего этого не будет, – сказал Меншиков. – Уверяю вас, щляхта скоро поймет, что Курляндия не может искать другого покровителя, кроме как Россию.
В тот же день Меншиков призвал к себе канцлера и сейм-маршала и объявил, что, если новые выборы не будут произведены, депутаты пойдут прямехонько в Сибирь, а в Курляндию введут двухсоттысячное русское войско.
В Петербурге перепугались такого решительного заявления и несколько остудили пыл светлейшего, дело так и не решилось. Россия не хотела пока ссориться с Польшей. Мориц решил переждать все бури, жизнь в Митаве была приятной и веселой.
Спустя год генерал Ласси перешел с армией через Двину и выдворил Морица из Курляндии. Но саксонец и тогда не успокоился, писал письма в Петербург, обещал, что если его оставят герцогом Курляндским, то он будет вечным данником России и обязуется платить ей по 40 тысяч ежегодно.
Во всем этом Морицу было отказано. Тогда он решил свататься к царевне Елизавете Петровне. Матушка ее, императрица Екатерина, уже помре, на престоле был юный Петр II, и некому было порадеть за Елизавету. Только в 1729 году Мориц понял, что на всех позициях потерпел конфуз, плюнул на Россию и пошел служить Франции. Со временем он стал ее фельдмаршалом.
Этого Бирону знать было пока не дано. Зато он понял вдруг, что дела политические, интриги в попытке захватить трон не имеют конца, сюжеты эти длятся вечно. И легко можно представить, что в сегодняшнем раскладе дел взятие Данцига ничего не решит, жизнь опять подложит России какую-нибудь свинью, так что старания аббата Арчелли вернуть на престол Лещинского имеют под собой вполне реальную почву.
В таком философическом настроении Бирон начал разговор с Люберовым.
– Ты кого ко мне привел? Откуда ты этого аббата выкопал? Интригуешь за моей спиной?
– Помилуйте, ваше сиятельство, – Люберов вытянулся в струну и так сжал кулаки, что костяшки пальцев побелели. – Я же вам рассказывал. Аббат давно искал встречи с вами. Ему помог случай. Сам господин Сурмилов сыграл здесь роль посредника. Я рискнул содействовать вашей встрече, поскольку аббат Арчелли сообщил, что вы в нем заинтересованы.
– Сурмилов твой плут и прощелыга. В тюрьме сгною, – прошептал Бирон чуть слышно. – Кто еще, кроме Козловского и тебя, знает про деньги?
Какие именно деньги, объяснено не было, но Родион сразу понял, о чем речь.
– Никто.
– Но кто-то про них еще должен знать!
– Разумеется, – Родион стал загибать пальцы. – Об этом знал тот, кто их послал из Парижа, знал тот, кто должен был получить в Варшаве. Кроме того, нас двое. И еще вы, ваше сиятельство, – большой палец встал торчком. – Он задумчиво посмотрел на сжатый кулак и добавил: – И Шамбер, если он жив, конечно.
– Где сейчас Козловский? В Петербурге?
– Нет, – твердо соврал Родион. – Он в армии.
Матвей уже неделю жил на мызе под крылом Клеопатры, но Родион решил пока утаить правду. Надо бы осмыслить создавшееся положение.
Бирон задумчиво смотрел на Родиона. Нет, этот пока его не продал, это ясно. Он ему слишком хорошо заплатил, и похоже этот Люберов вообще не способен на предательство. Кишка тонка.
– Ладно, иди. Пока свободен.
Значит, первого поручика отметаем. Второй, князь Козловский, менее надежен, он что угодно может разболтать по пьянке. Но, положим, сообщил он кому-то в трактире, что привез некоему вельможе большие деньги. Вряд ли он рискнул, где бы-то ни было упоминать всуе имя Бирона. Но как его болтовня доплыла до Парижа? Как достигла ушей Флера? Что-то здесь не так…
Сам собой вспомнился давний приватный разговор с лисой Остерманом. Дело было в середине зимы, сразу после Нового года. Они были в гостях, сидели рядом за столом.
И вдруг Андрей Иванович, дергая себя за пуговицу, что висела на одной нитке, и отвлеченно глядя в пространст во, отвратительная привычка, между прочим сказал:
– Дружить надо с Австрией. Франции никакой ни в каких делах поддержки быть не должно. Вы знаете, что Ягужинский пишет из Берлина?
И зашептал, зашептал, и сведения сообщал какие-то незначительные. Какое дело Бирону, что король прусский в отношении России держит нейтралитет, а посол французский в Берлине Шетарди интригует направо и налево?
А потом фраза, как бы никак к предыдущему разговору не пришитая:
– И вообще, кому он нужен у нас – Лещинский? Насколько я знаю, государыня Анна имеет виды на Курляндию…
По интонации фраза не окончилась, но Остерман и не хотел ее закончить. Все при дворе знали, как страстно Бирон мечтал о Курляндии. А сейчас в словах Андрея Ивановича прозвучал явный намек – Курляндия тебе предназначается, тебе… царица видит тебя герцогом.
– А если Франция заграбастает Польшу, – продолжал Остерман после минутной паузы, – то не видеть нам Курляндии как своих ушей.
В этот момент он пуговицу и оторвал. Красивая была пуговица, с цветной эмалью. Наверняка Андрей Иванович ее потерял. Все-таки Остерман страшный неряха, скатерть рядом с ним пегая от крошек, жует как-то неопрятно, под кувертом жирное пятно, но в тот момент Бирон готов был простить вице-канцлеру все его недостатки. Он вдруг почувствовал с его стороны доброжелательность – небывалое дело.
А сейчас Бирон вспомнил этот разговор совсем под другим углом зрения. Не доброжелательность звучала доминантой в том разговоре. Остерман не просто хотел дать ему совет, он его предупреждал, поскольку уже тогда знал про французские деньги.
Бирон разом вдруг обмяк. Не испугался, нет. Чего ему бояться, тем более что и доказательств нет никаких. Остерман, хоть и знает про французские деньги, Бирона не предаст. В противном случае он бы это давно сделал. А вот аббат может наломать дров. Аббат опасен.
Вечер Бирон катал идею, как орех во рту, но так и не придумал ничего путного. Но не даром говорят на Руси: утро вечера мудренее. Именно сон подсказал ему догадку: «А не может ли такое быть, что все это козни Шамбера? Француз вскрыл могилу, не обнаружил там денег, а в Париже, мерзавец, сообщил, что он отдал их мне. А ведь неплохая идея! Надобно бы выяснить, почему так долго нет писем от агента, которого он приставил к Шамберу. Фаворита мало волновало это молчание, потому что актуальность пропала. А сейчас француз опять понадобился. Имени агента Бирон запомнить был не в состоянии, правда, он и не старался.
А через день военный курьер, загнав по дороге пять лошадей, примчал в Петербург радостное сообщение, что Данциг взят.
13
Данциг пал 28 июня. Этому предшествовали следующие события. Русские войска, посланные генералом Люберасом из Варшавы на подмогу, прибыли на диспозиции в двадцатых числах мая. Чтобы лишить город продовольствия, и без того скудного, русские сожгли все пригородные деревни. Жители разбежались в ужасе. Магистрат Данцига запросил двухдневного перемирия, дабы поговорить с народом. Решено было призвать все сословия на расширенное совещание и решить, наконец, согласны они признать Августа III королем или нет.
На совещании было много крика и мало толку. Военные действия Миниха возобновились с новой силой.
Тогда же прибыл французский флот и высадил на песчаные острова вдоль правого берега устья Вислы три полка французской пехоты – всего две тысячи четыреста человек. Но и к нашим пришла давно ожидаемая помощь. Защищать своего государя явились, наконец, саксонские войска во главе с герцогом Вейсенфельским.
Французская пехота расположились вдоль берега между каналом и морем. Оттуда они и двинулись на русские ретраншементы. Укрепления наши имели высоту «в полтора человека», то есть около трех метров, с внешней стороны ретраншементы были выложены бревнами, а перед ними – засека из вырубленных сучьев и деревьев. Французы дрались со смелостью почти безрассудной. При этом всеми способами подавали сигналы городу, призывая жителей помочь им в ратном деле. Осажденные откликнулись, из города вышел большой отряд пехоты. Быстро разобрались, что к чему. Французы стали атаковать правое крыло русской обороны, горожане принялись за левый.
Русские подпустили атакующих поближе и, когда они были буквально в пятнадцати шагах, открыли по неприятелю шквальный огонь. В общем, и французы, и горожане бесславно отступили. Победа! Но русские воевать дальше тоже пока не могли, поиздержались с боеприпасами. Пули, бомбы – все кончилось. Теперь ждали русский флот. Хорошо хоть, что в конце мая в первый раз за всю осаду саксонская армия сменила в траншеях русскую. Можно было отдохнуть, в бане помыться, постираться и так далее – какие еще у солдата дела на отдыхе.
Двенадцатого июня прибыл и встал на рейде русский флот: 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и 7 прочих судов. В русский лагерь были доставлены артиллерия, боеприпасы и продовольствие. Теперь и воевать можно!
Меж тем французская эскадра как-то разом испарилась. Каждому разумному человеку приходила в голову мысль, что они узнали о скором прибытии русской эскадры и не пожелали принять бой. Но откуда они проведали об этом, если дело велось в жесточайшей секретности?
Объяснение этому вскоре было найдено, оно носило почти анекдотический характер. Оказывается, французы захватили наш фрегат. Как рассказывает в своих записках Эрнст Миних (сын фельдмаршала), на французском корабле служил «преискусный морской офицер по прозванию Бараль». Теперь представьте… военным строем движется наша эскадра, а один фрегат отбился от стада, может, отстал, а скорее вперед ушел: или поймал парусами слишком резвый ветер, или штурман с приборами перемудрил. Капитаном резвого фрегата был некто Фремери – француз, недавно вступивший в русскую службу. Далее Эрнст Миних: «Не имея в своей инструкции (каково, а?) ни малейшего извещения о разрыве мира с Францией, он был столь неосторожен, что по приглашению Бараля, старого своего знакомца, взошел на его корабль, и не успел лишь тут оглядеться, как его фрегат был окружен тремя линейными кораблями и под угрозами потопления принужден был сдаться».
По прибытии русской эскадры начались планомерные обстрелы города из пушек. На второй день обстрела взорвали пороховой магазин в крепости Вейксельмюнде, вблизи которого находилась французская пехота. Положение французов было безвыходным. Начались переговоры. Французы хотели, чтобы их посадили на суда и отправили в Копенгаген, но Миних на это не согласился. После долгих прений французам было дозволено выйти из лагеря под знаменами, соблюдая все почести. Далее они сели на русские корабли, там сдали оружие и отдались на волю русской императрицы.
Вскоре сдался и Вейсельмюндский форт, главная заноза для осаждавших. Весь гарнизон выступил стройными отрядами, с оружием и присягнул королю Августу III. Теперь можно было вести мирные переговоры с данцигским магистратом. За убытки город должен был заплатить России миллион талеров. Главным условием Миниха при подписании капитуляции было: немедленно выдать наших военнопленных, экс-короля Станислава, польского примаса и представителя Франции маркиза де Монти, а также все войско и офицеров, состоящих на службе у города.
Вот здесь русских ждала полная неожиданность. Магистрат известил фельдмаршал покаянным письмом, каждая строчка в нем выказывала смущение, что король Станислав сбежал! Вначале Миних не поверил, решив, что все это происки горожан. Вскоре узнали подробности. Боясь русского плена и предстоящего ему унижения, король Станислав переоделся в крестьянское платье, и с одним провожатым тайно отбыл морем в неизвестном направлении. При этом магистр и чиновники его клялись, что понятия не имели о побеге короля. Знали о побеге только маркиз де Монти и примас.
За побег Станислава контрибуция в пользу императрицы была увеличена вдвое, впрочем, уже при расплате Анна скостила эту сумму. Миних со штабом и саксонским герцогом переехал в Данциг. Отслужили благодарственный молебен, присягнули в верности законному королю. Теперь ждали самого Августа.
Король Август III приехал через неделю и принял от шляхты и магистрата «торжественное изъявление знаков приверженности». Действо происходило не в самом Данциге, а в пригороде, в Оливском монастыре. Имел место обеденный стол, то есть большая пьянка на сто человек. Прощаясь с Минихом, король поблагодарил его за службу, сказал необходимые при сем слова признательности и пожаловал шпагу, осыпанную драгоценными камнями, и не менее роскошную трость.
Вот, собственно, и все про осаду Данцига. Она продолжалась 135 дней лишений, жестокости, болезней, лазаретного кошмара, ругани, недосыпания, недоедания, здесь все понятно. Россия потеряла восемь тысяч солдат и около двухсот офицеров.
Из всех полученных сообщений Бирона больше всего взволновало известие о бегстве экс-короля Станислава. Да возможно ли, чтобы об этом не знали во Франции? Наверняка Париж и подготовил этот побег. Именно поэтому, с видами на будущее, они и подослали к нему скользкого, вежливого до угодливости и опасного аббата. Игра продолжается и будет настолько серьезной, что Флери, согласись Бирон на него работать, расщедрится и теперь уже реально вышлет ту сумму денег, которую у него запросит обер-камергер.
И дело здесь не в том, что Франция решила его шантажировать призрачными, случайно попавшими в его руки деньгами. Кого ему бояться? Перед кем отчитываться? Ответчиком он может быть только перед возлюбленной государыней. Пока он смело может употреблять этот эпитет – возлюбленная. Пока они с Анной идут по жизни, прижавшись друг к другу плечом, чувствуя тепло этого плеча и поддержку.
А если чьи-то подлые, завистливые губы нашепчут Анне в ухо о подкупе ее Эрнеста, то он просто и без утайки расскажет, как получил эти деньги, и они посмеются вместе. В конце концов, эти двести тысяч в золоте и брильянтах были посланы на выборы Станислава Лещинского. Следовательно, прикарманив их, Бирон уже который раз сослужил службу России.
Правда, Анна может поинтересоваться, почему он не сообщил ей об этом сразу. Сумма не слишком велика, но и не мала, а государственная казна не переполнена звонкой монетой. Но уж в этом случае он сумеет оправдаться. Аннушка добра и незлобива, может и пожурит по-матерински, а потом и поцелует в губы, и скажет, ладно, голубь мой, дарю. Все дарю: себя, деньги, Курляндию, новые усадьбы и земли, а также души рабов своих. Все – кроме трона.
Флери видит в нем реальную силу, реального политика, и это льстит. А может, Россия и впрямь тесновата для его, Биронова, ума и таланта?
Слуга вошел в кабинет с зажженными шандалами и тихо удалился. Через приоткрытую на миг дверь донеслись отдаленные шумы и детские голоса. Опять Ядвига ссорится с братьями. Характер у малютки слишком решительный. Некрасивая, веснушчатая, с непропорциональной фигурой и темным взглядом изподлобья, а характер таков, что слова ей поперек не скажи. Мальчики послушны и вежливы, Бенгина приучила их выказывать почтение и любовь к государыне, и ножкой шаркнут, и улыбнуться ангельски, а Ядвига даже на государыню смотрит букой. Надежда семьи – старший Петр. Только бы женить его на ком подобает. А в конце концов, и принцесса Анна Леопольдовна пока только невеста. Но ведь не жена!
Однако он отвлекся. Нашел время думать о детях. Сюда они не придут, им строжайше запрещено совать нос в отцовский кабинет. Так о чем он только что так спокойно и, главное, дельно думал?
Ах, да… Первый этап борьбы за польский трон выигран, теперь сцена словно раздвинулась. Теперь вся Европа – арена борьбы. Но за что и против кого? Бирон интересовался политикой постольку-поскольку. Это была епархия Остермана, а также Карла Левенвольде. Вначале надо точно, с бумагой в руках, определить интересы России на сегодняшний день. Идеально, конечно, чтобы они совпадали с французскими, но такое редко случается.
Что он знал точно? Франция воюет с Австрией, поскольку цесарь согласился с возведением на трон Августа Саксонского, своего близкого родственника. Теперь принц Евгений Савойский требует, чтобы Россия поставляла ему по договору русские войска. Здесь Карл Левенвольд повел себя правильно, ответил Евгению, что наши войска рассеяны по Польше, конца тамошним неприятностям не предвидится, а потому он не в праве налагать на наше и без того измученное войско новые тяготы.
Кроме того, России надо защищать собственные границы с Персией и с Турцией. Осторожно надо вести себя и со шведами. Наш посланник Михайло Бестужев пишет из Стокгольма, что там очень взволнованы французскими интригами. Достаточно малой искры, и они пойдут на нас войной, дабы отбить у России Ливонию и прочее. Шведский двор активно поддерживает Францию, а сам король благоволит России. Шведы осмелились послать военные отряды в осажденный Данциг. Естественно, Франция им за это заплатила. Правда, говорят, воевать отправились одни добровольцы, а король шведский умыл руки. Потому что он всего лишь пешка в политической игре. Сейчас, когда Данциг взят, шведы сильно жалеют, что так активно вмешивались в русские дела. Остерман говорит, что как только кончится вся эта возня с Лещинским, Швеция начтет искать военного союзника против России. И союзником этим станет, конечно, Порта.
А интересно, где Франция покупает лошадей, подумал Бирон. Понятное дело – в Испании и в Аравии. В этом свете вполне понятна дружба Франции с османской Портой. Что-что, а в хороших лошадях мусульмане понимают.
Но он опять отвлекся. Не о том он думает, не о том. Надобно проще. Возьми мысленно в руки сито и отсей все лишнее. Исконные друзья России – Австрия и Германские государства, а Порта, хоть с ней и заключен вечный мир, исконный враг. Во всяком случае так говорит Остерман. А Франция исконно дружит с Портой, у Швеции со Стамбулом тоже хорошие отношения. Не даром туда сбежал после Полтавской баталии Карл XII.
Порта в польские дела не вмешивалась, у нее своих забот полный рот – война с Персией. Однако наш посланник в Стокгольме Неплюев доносит, что мир России с Портой висит на волоске. Точкой спора была Кабарда, которую Россия считала своей, а Порта не соглашалась, утверждая, что Кабарда принадлежит крымским татарам, то есть, считай, самой Порте.
Крымский хан под предлогом войны с Персией без спросу России перевел через Кабарду свои войска. Татары считали, что русским принадлежит только узкая полоска земли вдоль моря, там стояли наши гарнизоны. На эту землю татары не сунулись, повели свои войска через горы. Но ведь все равно через принадлежавшую нам землю. И русская армия их там атаковала.
Тут уж Бирон знал все досконально, поскольку приятельствовал с принцем Людвигом Гессен-Гамбургским. Людвиг уже десять лет служит в России, отменный вояка, его словам можно верить. Людвиг был тогда на Кавказе вместе с генералом Еропкиным. Они заманили татар в ущелье и там разметали татарскую армию, обратив ее в бегство. Татары остановились в чеченских землях и принялись мутить против России местное население.
А теперь Франция мутит Порту, де, она должна объявить войну России за отлучение Кабарды, за нарушение мирного договора введением своих войск в Польшу и введение наследственного престола, что противоречит польским вольностям.
Бирон потер глаза, потянулся, распрямляя затекшие члены. Нет, он не будет ничего выведывать относительно политики у Остермана, он не призовет к себе завтра аббата Арчелли. Он подождет, посмотрит, как дальше будут развиваться события. Смотреть на чужие интриги и дрязги со стороны – право, это истинное удовольствие для умного человека.
14
Агент Петров не умер, но рана, нанесенная Шамбером, оказалась серьезной. Познания в языках польском, французском и немецком позволили ему сыграть в лазарете роль ганноверца, случайно угодившего в осажденный город и попавшего под пулю разбойников. Откликался он на имя Гербер.
Хочется хотя бы немного рассказать об этом трудолюбивом и по своему мужественном человечке, который хоть и играет второстепенную роль в нашем повествовании, является в каком-то смысле клейкой лентой, склеивающей в нужном месте сюжет.
Итак, что такое маленький человек в эпоху Анны Иоанновны? Он был всего лишь винтиком в машине сыска, но винтиком надежным, хорошо вкрученным в гнездо. Агент Петров не рассуждал, что есть хорошо, а что плохо. Он был солдатом, исполнительным и аккуратным, он знал свое дело и любил его.
Но службу свою на пользу государства он начал в другом ведомстве. Двадцать годков ему было, когда государь Петр учредил при Сенате особый «фискальный отдел» во главе с обер-прокурором. В обязанности новых сотрудников входило: наблюдать тайно, не учинился ли где неправый суд, не совершился ли незаконный, липовый «сбор в пользу казны», нет ли где грабежа и взяток. Они должны были донести на каждого, кто неправду учиняет, и если донос подтвердится, то половина штрафа злодея идет в пользу государства, а половина в пользу фискала.
Свою карьеру Петров начал в провинции самым малым чином. Случались в работе ошибки, но он был усерден в службе, начальство было им довольно. В пользу его честнос ти, а может глупости, говорит то, что, преуспев в провинции и попав в столицу, он так и не разбогател, а деньжат накопил только на малый домишко в Охте. Домик, правда, был справный, чистенький, с улицы палисад с мальвами, сзади за высоким забором плодовый сад с великолепным, крупным крыжовником. И не завидовал, что другие-то его соратники в неравной борьбе за справедливость имели куда лучшие жилища, а иные и особняками обзавелись.
А все почему? Слаб человек. Закон-то верный, плохих законов не бывает, беда только, что он рассчитан как бы на ангелов, в каждом человеке еще и черт сидит. Грех-то посильнее нас будет, а потому верные псы государевы, подобно обывателям, стали писать облыжные доносы в свою пользу. Понравился дом у соседа, тут же настрочишь на него бумагу. Сочинить донос не трудно, пошевели мозгами и в каждом россиянине найдешь противозаконные поступки, добавь к этому, де, говорил опасные речи и поносно ругал государыню, называя немкой безродной (а об этом весь Петербург кричал!), и готово дело.
Как уже было говорено, над всеми фискалами стоял обер-прокурор. Он облачен был огромной властью. Даже если взяточник и вор сидел в Сенате, он и его мог вывести на чистую воду. Всем известно громкое дело князя Гагарина, сибирского губернатора. Разоблачить его помог обер-прокурор Нечаев. Петров работал с ним, честнейший человек, смелый, преданный делу без остатка, о нем все говорили – неподкупен! Государь доверял ему, как самому себе, и много злоупотреблений было пресечено и первейшие для России по важности дела были завершены разумно и толково.
Однако грянул гром и для Нечаева. Обвиняли его не столько во взяточничестве, сколько в укрывательстве – знал и не донес. Фискал Петров был на казни. Состоялась она на Васильевском острове у здания двенадцати коллегий. Эшафот разместили под виселицей, где недавно еще висел князь Матвей Гагарин. Кроме Нечаева казнили еще трех заслуженных фискалов – за взятки. Несмотря на собачий январский холод, народу на площади собралось великое множество, большую часть толпы составляли чиновники и канцеляристы с женами, явившиеся на казнь по приказу начальства.
Казнь была столь мучительной, что автор не рискнет заняться ее описанием. На виду честного народа осужденных на колесе «допытывали», чтобы узнать последнюю, самую важную правду. За колесом семенил священник и шептал уже бесчувственному Нечаеву: повинись еще и в этом деле, повинись, и тогда сразу на плаху, и кончатся твои муки. Государь со свитой смотрел на казнь своего любимца из окон ревизион-коллегии. Рядом притихла свита. Было это ровно десять лет назад.
На агента Петрова эта казнь произвела ужасающее впечатление. Уж, кажется, видели-перевидели. В восемнадцатом веке от обилия справедливых казней на это действо привыкли смотреть с таким же спокойствием, как мы смотрим по телевизору кадры про самое ужасное насилие. А тут вдруг и проняло, агент Петров понял, как опасна и непредсказуема его служба. Отказаться от нее было сложно, почти невозможно, но через год почил в бозе царь Петр, и наш незаметный герой бочком, бочком, мелкими перебежками, не без помощи друзей, они и у фискалов бывают, перебрался в другое ведомство, которое сейчас бы назвали военной разведкой, а тогда оно точного определения не имело. Там он выучился шифрам, тайной цифири, но особо хорошо показал себя как наружный наблюдатель. Собственно, на этом он и сделал карьеру, попав в личное услужение к Бирону.
Работал, и успешно, но видно ослабил бдительность, если поймала его неприятельская пуля. Но оклемался, фискалы, хоть и бывшие, живучая порода. Как только на ноги встал, начал работать. Шамбера он упустил, это ясно. Вначале мучил профессиональный стыд, но потом прикрикнул на себя – не распускайся, ты всегда отечеству нужен.
Взятию Дангица агент радовался как ребенок. Тут, конечно, и патриотические чувства распирали грудь, но главное, наелся, наконец, вволю. Оголодал во время осады и болезни до полной неприличной худобы. А как только наелся, тут же накатал светлейшему Бирону отчет. В первых строках покаялся – упустил объект, далее сообщил о своем бедственном положении, присовокупив, что последнюю депешу с просьбой выслать деньги отослал в Петербург с князем Матвеем Козловским.
Но уже через день Петров обругал себя за поспешность. Мало того, что он послал письмо обычной почтой, которая ненадежна, так еще содержание послания было глупым, никчемным, ясное дело, начальство его за это по голове не погладит. Сейчас не про Шамбера надо писать, кому он нужен, а вести серьезную работу в павшем городе. Он хоть и взят нашей доблестной армией, в нем наверняка продолжается скрытая политическая борьба, и он, Петров, должен найти подпольных врагов и известить о них их высочество. Не повезет – другое дело, но попытаться он обязан.
Он стал бродить по улицам Данцига, вслушиваясь в речи и победителей – русских солдат, и побежденных. Народ беспечен, всегда сболтнет что-нибудь такое, что можно будет записать, а потом принести в клюве по инстанции.
Говорили о холоде, голоде, о погибших родственниках, о нарушенных торговых связях, но и политические речи можно было словить. Народ волновало, как покинул город Станислав Лещинский. Люди говорили не таясь, высказывали разные предположения. Одни уверяли, что экс-король наверняка уплыл на французском корабле и сейчас благополучно обретается в Гамбурге. Другие высказывали более смелые предположения: Лещинского надо спрятать, а от России лучше всего укрыться в Турции, уж со Стамбулом Россия из-за польских дел не будет воевать.
И тут повезло. Петров пришел на таможню справиться о давно ожидаемом из России грузе, посылке от жены со всякой мягкой рухлядью: бельем, носильными вещами, теплой накидкой, шапкой и варежками. Война помешала продвижению посылки, а сейчас при замирении груз мог и обнаружиться. Ну а если не найдут, и черт с ним, иногда больше теряем.
Петров потолкался в зале среди народа, которого в тот день скопилось великое множество, и, наконец, пристроился на подоконнике рядом с двумя мужчинами, по виду ремесленниками. Правда, разговор, который они вели, выдавал их принадлежность к другому сословию. Хотя, может быть, ремесленникам самое время вести разговоры на эти темы. Да и не так уж он хорошо знает польский, чтобы понять все тонкости их беседы.
Вначале они говорили о пленных, есть, мол, надежда, что их будут возвращать из России. Потом стали обсуждать продовольственные вопросы, а именно поступление зерна. Мельницы, говорили они, совсем истощились и прикидывали, когда ждать снятия запрета на ввоз пшеницы, назначенный русской государыней. Конечно, не удержались они и от того, чтобы не поговорить о видах на будущее. Тема была животрепещущая и опасная. Поэтому временами собеседники переходили на шепот.
Слух у Петрова был отменный и, слава Всевышнему, от ранения не пострадал, но и при его слухе он не все разбирал. Тот ремесленник, у которого серый суконный кафтан без позумента, был слегка гугнив, и это очень мешало правильному восприятию слов. Второй, в сером суконном кафтане с позументом по обшлагам, был более говорлив и решителен. Как бы поправляя затекшие от долгого сидения члены, Петров слегка приблизился к двум собеседникам и замер. Каменный подоконник так и исходил холодом, кажется лето, а все равно зад замерз, даже поясницу начало ломить, но агент сидел совершенно неподвижно, даже глаза прикрыл, выражая усталость и невнимательность к происходящему.
– Французы нас не оставят, помогут, – тихо, но достаточно решительно сказал гугнивый.
– Может, и не оставят, но я думаю, что лучше бы оставили. Пусть лучше будет один хозяин, чем два. Даже если этот хозяин… Ну, ты сам понимаешь. Двоих нам не потянуть.
– Еще ничего не решено. Король отчаянный человек, согласился на побег.
– А что ему было не согласиться, – хмыкнул второй, тот, что с позументом, – он ничем не рисковал. Русские сами помогли его побегу.
– А ты откуда знаешь? – у гугнивого, казалось, от удивления подпрыгнула шляпа на голове.
– Да уж знаю. Французы, говорят, славную сумму денег отвалили. Понимаешь кому?
– Главному? Миниху? – поразился первый. – И много заплатили?
Головы собеседников сдвинулись, губы того, что с позументом, коснулись уха гугнивого, названная сумма влетела туда, как вздох. Петров вытянул шею, словно гусь, но ничего, кроме этого вздоха, не услышал.
– Гербер, гербер! – закричал таможенник.
Петров очнулся, понимая, что его зовут. Тьфу, стоило бежать к таможеннику, чтобы получить из его рук огромный тюк ненужного белья и одежды. Зачем ему летом епанча с рукавами на меху и картуз пуховой? Видно, все-таки проклятое ранение помутило его разум. Или он просто стареет? Ранее он никогда не бросил бы на полдороге такой разговор, дослушал его до конца, а затем последовал хотя бы за серым сукном с позументом, чтобы выяснить, кто таков, чем живет и все такое прочее, чтобы потом в одиночестве внимательно обдумать, можно ли верить его словам или нет.
А тут сплоховал. Когда с тюком в руках он вернулся к обжитому подоконнику, мужчин, по виду ремесленников, и след простыл. Посылая очередную депешу Бирону, теперь уже не обычной почтой, а тайной, скорой, армейской, он несколько раз повторил, что не проверил полученные сведения. Но он знал, всем нутром чувствовал, что Бирону этот отчет в любом виде подойдет.
И в конце концов… Что, агенту Петрову больше всех надо? Да черт с ними со всеми, и с фельдмаршалом Минихом, и с королем Станиславом! Ему бы до дома добраться да жалование за полгода получить. На ордена он никогда не рассчитывал, но отпуск по ранению он у них зубами вырвет. И последняя депеша в Петербург ему в этом поможет.
15
Генеральша Адеркас жила во дворце при своей воспитаннице. Для начала она исхлопотала для Николь пропуск во дворец, дабы они могли в любое время заниматься чаепитием. Перстень с сапфиром и жемчугом плотно обхватил безымянный палец генеральши, она находила, что он очень идет к ее глазам, а также отлично сочетается с бальной парой, корсет на которой был вышит речным жемчугом. Словом, она была готова ответить на все вопросы Николь и оказать ей всяческое содействие в помощи поиска родственников.
Родственник хоть и не иголка в стогу сена, его в один день не найдешь, и пока Николь хочет познакомиться с русским обществом, а также с окружением царицы, а уж если быть совсем честной – узреть саму Их Величество Анну Иоанновну. Еще в Париже ей рассказывали, что царица умна, великодушна и умеет, как амазонка, стрелять из лука.
– И ружья… – с охотой добавляла мадам Адеркас. – Наша государыня великолепная охотница. Однажды Их Величество лично убили вепря.
– Говорят, она замечательно ездит верхом.
И это подтвердила любезная собеседница. Адеркас вроде бы и не сообщила ничего лишнего, ничего интимного, но дала понять, что любовь государыни к лошадям при ее-то, извиняйте, тучности, как бы выдуманная. Женщина на все пойдет ради любимого человека. А благодетель народа граф Бирон всем другим помещениям в Петербурге предпочитает манеж.
– Я мечтаю быть представлена государыне!
– Это стоит обдумать, – сказала генеральша, любовно поглаживая сапфировый перстень.
Начали перебирать варианты. Идеально подошел бы бал во дворце, но там Николь затеряется среди огромного количества гостей, государыня ее просто не заметит. И тут у генеральши мелькнула разумная мысль. Но следующей неделе или около того во дворце назначается публичный торг китайских товаров. Торги эти производились каждый год, и Анна Иоанновна была до них большая охотница. Купцы, говорят, уже на подходе к столице, а может быть, уже и вовсе приехали. Торг состоится в итальянской зале. Там будут дивные китайские шелка, всевозможные статуэтки, искусно вырезанные из слоновых клыков, веера, дивные бусы, а главное – фарфор. Вы что-нибудь понимаете в фарфоре? Николь понимала.
– Тогда у вас будет, о чем побеседовать с государыней…
Николь радостно улыбнулась.
– А пока я вас приглашаю на прогулку в Летний парк, – продолжала мадам Адеркас. – Принцесса желает вас видеть. Ваше общество ей чрезвычайно приятно. Господин Линар…
– Он тоже будет на этой прогулке?
– Он и есть главный зачинщик, поскольку не видел еще гордости Летнего сада, нашу славную, римскую Венус.
Фигура Венус действительно стала достопримечательностью Петербурга. Появлению ее предшествовала занимательная история. Сейчас я вам ее расскажу. При завоевании Прибалтики Петр I вывез из Ревеля в качестве трофея мощи святой Бригитты. Насколько они были подлинными, судить не берусь. Святая Бригитта, покровительница Ирландии, жила в шестом веке, была дочерью принца Ульстера. Дева чистая, непорочная, она рано приняла монашество и поселилась под дубом. Бригитту весьма почитают в Англии и во всей северной Европе. Как ее кости попали в Ревель – неизвестно.
Мощи святых всегда были ходовым товаром на политическом рынке, и Петр I, за полной ненадобностью останков католической святой, решил их обменять. Правда, идея обмена появилась позднее. Вначале он честно хотел купить у Рима «идолицу Венеру», только что найденную при раскопках. Присланный для этих целей агент Коло-гривов столковался с владельцем участка за сто девяносто шесть талеров – статуя без рук, без головы, куда ж больше платить?
Но римский губернатор наложил запрет на вывоз драгоценного произведения искусства. Статуя поразила всех своей красотой и уже прославилась на всю Европу. В дело вмешался сам папа Элемент XI. Вот тогда то царь и вспомнил о лежащих без дела святых останках. Надо сказать, что Петр поставил папу в безвыходное положение. Жалко было отдавать Венеру, поди проверь, чьи это мощи на самом деле, но если рассудить по-человечески, по-христиански, нельзя оставлять беспризорными в варварской стране останки почитаемой святой. Католический мир никогда не простит папе подобного попустительства.
Сделка состоялась. Петр подарил Риму мощи, папа подарил Петербургу мраморную Венеру, названную впоследствии Таврической. Но это произошло позднее, когда Венера поселилась в мраморном таврическом дворце, а пока статую поставили в Летнем саду в открытой галерее. Дабы не было попорчено дивное творение древности, рядом с Венерой был поставлен часовой.
Уморительное зрелище! Обнаженная богиня, вся нега и сладострастие, при ней смущенный гренадер, не смеющий выказывать свое любопытство и смущение из-за страха перед начальством, а вдруг зрители донесут. И ведь не знаешь, куда глаза деть! Эдакое бесстыдство выставили на обозрение, куда церковь смотрит… Но и любопытно, конечно, баба-то справная, груди как спелые яблоки и срамное место ничем не прикрыто. Где еще такое увидишь? Это в Европах голых баб намалевали в неисчислимых количествах, а на Руси народ целомудренный, он к иконам привык.
Позднее солдата убрали, Венеру перевели в украшенный раковинами грот. Доступ обывателей к идолице был ограничен, но знатные дворяне могли лицезреть прекрасную в любое время.
Вот в этом самом гроте и назначил свидание граф Линар юной Анне Леопольдовне. Встреча должна была состояться как бы случайно. Рассчитывали на дождь, который не заставил себя ждать и подыграл влюбленным.
Свита Анны Леопольдовны состояла из смуглянки Юлии Мегден, госпожи Адеркас и Николь, родственницы шведского посла. Красавец Линар пришел один, бледно-лиловый камзол выгодно подчеркивал белизну его лица, а также сочетался с меланхолическим выражением, которое наметил себе герой любовник. Но вопреки его намерениям меланхолия куда-то испарилась, а на смену ей пришли озабоченность и веселье. Их вызвал дождь. Первые полновесные капли дождя успели упасть на густо напудренный парик и на плечи, да и руки были мокры, ах, бог мой, какая незадача, сударыни, не пострадали ли вы от дождя? Сударыни не пострадали. Они явились в грот загодя и уселись рядком, как птицы на насесте. Если бы дождь не случился, они бы все равно не оставили своего поста. Поскольку тучи были налицо и Их Высочеству надо было переждать непогоду.
Первой нашлась Мегден.
– Ах, любезный кавалер, – она стрельнула глазами в сторону принцессы, – любезная фортуна свела нас вместе.
– Фортуна превратилась в золотой дождь, – тут же подыграл Линар, намекая на Зевса и царевну Данаю, заключенную самодуром отцом в темницу, но эти герои были чужды слуху дам, поэтому скрытого смысла фразы никто не оценил.
Только Николь наморщила лоб и пробормотала вопросительно:
– Даная ведь матушка Персея?
– Именно так, – подтвердил Линар, глубоко поклонился принцессе и сел напротив дам. Завязался безобидный разговор, который очень скоро вырулил к «нашей славной римской Венус».
В те времена в России еще не был изобретен язык, которым можно было бы спокойно и прилично обсуждать произведения искусства. Картины, скульптуры уже были, но глядеть на все это следовало «неизречно», слов не было. А Линар эти слова нашел и жонглировал ими, как мячиками. Оказывается, в Дрездене много наслышаны об этой находке, и теперь он благодарит Бога, что получил возможность лицезреть сей шедевр, а потому смело может сказать, что ваявший ее скульптор был вдохновлен работами Праксителя.
Дамы притихли. Принцесса сидела, не поднимая глаз. Соседство с обнаженной фигурой в присутствие Линара привело ее в состояние столбняка. Сидевшая рядом генеральша Адеркас время от времени машинально подталкивала локоточком в бок свою подопечную, мол, реагируй, по этикету положено. Как реагировать-то? Бедная Анна Леопольдовна и слов таких не слыхала, уже в имени Пракситель ей слышалось что-то неприличное. А тут еще текст немыслимый: «Посмотрите, как хороша! Сбросив с себя одежды, богиня любви вся отдалась блаженной неге…» Смелый разговор, очень смелый!
– И главное – без рук, – простодушно вставилась генеральша Адеркас. – Это как же понимать? Делай с ней что хочешь, а она даже постоять за себя не может?
Юлия Мегден звонко расхохоталась, принцесса еще теснее закуталась в накидку, заботливо припасенную генеральшей, Николь наблюдала эту сцену не без удовольствия и не вмешивалась.
– О, нет, конечно. Это не входило в замыслы художника, – терпеливо пояснил Линар, помогая себе жестикуляцией, лицо его сияло от возбуждения, локон у правого виска развился, придавая всему облику вдохновенное выражение. – Я думаю, руки богини были отбиты варварами еще в древности, потом она долго лежала в земле. А этот аккуратный спил сделали уже в мастерской. Говорили, что и голова у нее была отбита.
– Куда же без головы-то? – робко заметила принцесса, получив очередной толчок в бок.
– Голову можно потерять и от любви, – усмехнулся Линар, – но в нашем случае реставратор водрузил ее на мес то. Какая дивная шея. А эта линия… – он плавно в воздухе обвел статую, но впечатление создалось такое, что граф на глазах у дам погладил живое обнаженное женское тело.
Анна Леопольдовна проследила за его рукой, щеки девицы залил яркий румянец, который не сошел с них все время свидания.
«Экая сладострастная фигура, – думала меж тем Николь. – Линар хитрец, он сознательно развращает принцессу! А может быть, это вообще единственный способ ее соблазнить? Она, бедняжка, сопротивляется, как может, зато подружка ее, смуглянка Юлия, вся так и распахнута…» Юлия Мегден действительно находилась во власти, как сказали бы сейчас, сексуального переживания.
Бойкая была девица, что и говорить. Правда, народная молва приписывала ей и более серьезные грехи. Тесная, восторженная дружба Юлии и принцессы волновала русское общество все эти годы. Сплетен было столько, что когда Анна Леопольдовна через шесть лет благополучно сочеталась браком с Антоном Брауншвейгским, а Юлия Мегден вертелась рядом, мешая нормальным отношениям супругов, то Анна Иоанновна назначила медицинскую комиссию. Лекари должны были определить, не «женоложница» ли фрейлина Мегден. Девушку освидетельствовали и донесли, что она чиста, поскольку не имеет никаких мужских признаков. О том, что эти освидетельствования действительно имели место, мы знаем из письма прусского посла в России Мардефельда, которое он отправил королю Фридриху в Берлин.
Может быть, Юлия и не имела пристрастий, свойственных Сафо, но была очень чувствительна к такому понятию, как секс в традиционном его понимании. Это Анна Леопольдовна, валяясь на диванах с романами в руках, думала о любви в категории пронзенных сердец и сладких оков, а Юлия все называла своими именами: бунтовала плоть и надобно было ее утишить. И принцесса Анна всегда слушала подругу с удовольствием.
Если Линар хотел распалить девушку, то он своего добился. Она уже смотрела ему в глаза туманным взором, на лице появилась полуулыбка – томная, застенчивая, милая. И как-то все ощутили вдруг, что, не будь рядом публики, она бы давно бросилась в объятия опытному любовнику.
Генеральша вдруг заторопилась во дворец, но как же идти, если дождь моросит. Или не моросит? Линар вызвался пригнать к гроту карету.
– Не надо никакой кареты. Здесь до Летнего дворца два шага, – возражала Анна Леопольдовна, ей не хотелось никуда уходить.
Долго обсуждали, как именно поступить, и опомнились только тогда, когда пробившийся сквозь тучи солнечный луч снопом ударил в окно грота. Венус вдруг ожила, засветилась розовым светом. Тени от листвы лип играли на мраморном ее боку, как еле заметное движение мускулов. В воздухе стоял запах трав, откуда-то принесло сладкое благовоние шиповника, еще пахло морем, свежестью и чистотой.
«Вот здесь я следующее свидание князю Матвею и назначу, – подумала Николь, – что-то молодой человек не слишком горяч. Здесь он скорее разберется, что к чему».
Сама она была совершенно спокойна, ухаживания князя Матвея нужны ей только для дела, которое превыше всего. Шамбер, может быть, и не самый приятный человек, и характер у него отвратительный, и его надменный взгляд – эдак с полузакрытыми глазами – она не переносила, но он соратник в трудной работе, они в одной лодке, и она ему поможет. Зачем Шамберу надо держать князя Козловского на крючке – это его дело. Он попросил ее об услуге, и она ему эту услугу окажет, а что Шамбер поступил бы точно так же на ее месте, она не сомневалась.
Николь привыкла быть в мужском обществе хозяйкой положения и никогда не позволяла себе послабления – влюбленности. Она вообще относилась к сильному полу с некоторым пренебрежением. Да, они воины, мыслители, политики, скульпторы, но у каждого в душе есть дыра, через которую проскакивают в никуда тонкие и возвышенные чувства.
Кто-нибудь скажет, что у нее мало любовного опыта? Но она и не хочет его приобретать. Про покойного мужа вообще нечего говорить. Он был сущий глухарь. Но забудем о муже, у нее тоже была страстная любовь. Давно это было, еще до замужества. Она тогда ездила в гости к прабабке в Норвегию, в торговый город Берген. Игрушечный город, домики, облицованные белыми досками, черепичные, островерхие крыши. Был май, цвели глицинии, в воздухе была разлита нега, и майские жуки летали над кустами, словом, все как у людей. У него были зеленые глаза, обхватистые руки и довольно хилая бородка, которую он тщательно холил. Как сладко они целовались под кустами рододендронов, а потом бежали на набережную в маленькую харчевню, где подавали свежий, печеный с укропом хлеб, копченый лосось и холодную оленину. Николь уже придумала, что венчаться они будут в церкви Святой Марии. Но блестящий викинг, житель фьордов, предпочел любви море и отбыл на перегруженной товарами шняве в неизвестном направлении. Больше они никогда не увиделись, и Николь навсегда возненавидела мужчин. Отец мог бы явить ей образ истинного благородства, но он слишком рано умер.
Конечно, ей приятен князь Матвей, она этого и не скрывает. И что из того? Было у Матвея Козловского особое выражение лица – внимательное, очень доброе, без улыбки он словно улыбался насмешливо, и в то же время был как-то особенно спокоен. В такие минуты Николь невольно отводила взгляд, смущаясь неведомо чего. Так князь смотрел на нее в карете, а в Петербурге он как-то разом поглупел. И философическое спокойствие с лица исчезло, появилось просительное, испуганное выражение, и чем-то он вдруг стал похож на долговязого викинга из прежней жизни.
Не-ет, надобно вести его в грот, без помощи римской Венус тут не обойтись. В Летнем саду он сразу разберется, что к чему.
16
Хоть и говорил Матвей в свое время уверенно: «Моей любови к Лизоньке Сурмиловой сносу нет», она как раз и износилась. И виной тому были не поправившиеся денежные дела князя. Несмотря на явную легкомысленность и инфантилизм, Матвей был человеком чести, а он уже столько наобещал в письмах «розе голубой», что сам поверил – нужно жениться. Правда, иногда романтическое настроение куда-то отступало, верх брал прагматизм, и он с раздражением говорил себе, что Лизонька отнюдь не роза, а цветочек желтенький, сродни калгану. И опять же папенька Карп Ильич не больно жаждет сделать его своим зятем. Но в такие минуты Матвей сам себя ненавидел, а потому спешил вымести скучные мысли из головы вон. Судьба послала ему Лизоньку, и он будет ей верен.
И вдруг он понял, что судьба его забубенная явно поторопилась. Виной оскуднения чувств к Лизавете Карпов-не была встреча с Николь. Конечно, путешествие в карете было весьма приятным, и, млея в присутствии хорошенькой девицы, он предвкушал, вот ужо доберемся до места, отвяжемся от буки-папеньки, тогда и поговорим по душам. Тут уж он все ее пальчики и перецелует.
Странное, похожее на бегство исчезновение Николь на постоялом дворе смутило князя, но не больше… И только прибыв в столицу, он по настоящему, то есть до стеснения в груди, огорчился, что потерял хорошенькую мамзель.
Правда, первые дни не до того было. Вначале надо было покончить с полковыми делами. Он отнес письмо генерала Любераса по назначению и был принят весьма доброжелательно. Потом занимался оформлением отпуска. Три месяца ему разрешили бить баклуши – до полного излечения пустяшной, как он считал, раны. Плечо заживало плохо. Одно утешение, он так приспособился держать руку, что мог избавиться от унизительного, через шею перекинутого шарфа.
Тетка приняла племянника с распростертыми объятиями:
– Жить будешь у меня. До Клепки далеко, а в казармах в отсутствие твоего полка делать нечего.
В доме Варвары Петровны все осталось по-прежнему, разве что поменяли обшивку на инвалидном кресле, сменив зеленую камку на синюю. Все та же мрачная старуха в застиранном шушуне и красном повойнике на жидких волосах катала по дому барское кресло. Теперь главным летним гадательным инструментом тетки стали карты, в кофе она разуверилась – то ли помол не тот, то ли зерна низкого качества, потому что сразу видно – врет кофейная гуща. И вообще все в жизни испрокудилось, люди изолгались, погоды вконец испортились, продукты гадки, цены взлетели до немыслимых высот. Куда идем – Бог весть.
Однако трезвый взгляд на жизнь не испортил хорошего настроения Варвары Петровны и не на йоту не убавил в ней решительности. С первого же дня Евграф только вещи закинул на второй этаж, а Матвей сменил военный камзол на гражданский, она начала давать племяннику советы, более похожие на военные приказы.
– Матвей, слышь-нет? Пора тебе устраивать свою судьбу. Что молчишь? Отвечай!
– Сейчас, тетенька, только чай допью и тут же пойду устраивать.
– А ты словами-то не озоруй. К старшим будь почтителен. Во-первых, тебе дом надо в Петербурге купить.
– А во-вторых?
– Жениться, что еще. Я тут прознала, что Ванька, брат твой, так бобылем и живет. А это значит – тебе рожать, чтоб не пресечься роду. Ты об этом-то думаешь?
– Угу, – покорно кивнул головой Матвей, рот у него был полон. Уж больно знатную кулебяку готовит теткина повариха. Право слово, ум отъешь.
– Я вот смотрю, много сейчас развелось молодых людей, у которых на уме только ленность и забиячество, а христианские заповеди они в забвении держат. Днем маршируют с солдатами, а вечером кабаки да карты. Для этого много ума не надо. И еще моду взяли в бильярд играть. Это женская игра, в мое время только дамы шары катали.
– Угу…
– У этих петиметров одна страсть – лошади. А любовь? Они считают, что кувыркаться с зазорными девками где ни попадя, это и есть любовь? Ладно, не об этом речь. Я тебе дом присмотрела в Адмиралтейской стороне. Как думаешь, что выгоднее – новый покупать или под снос, чтоб заново строиться?
– Я пока, тетенька, ничего не думаю.
Надоела ему тетка, сил нет. Вот тут-то и вспомнил он с полной ясностью прекрасную Николь. Стал искать ее в городе, вопросы в гостиных задавать, мол, в чьи дома только что приехали гувернеры из Франции. Люди смотрели на Матвея с недоумением. К нам из Франции сейчас никто не приезжает, сейчас у нас с Францией война.
Потом письмо от Николь получил, обрадовался несказанно, но настоящий переворот в его душе произошел в кофейном дому. Здесь уж он с полным основанием мог сознаться самому себе, что такого любовного томления, смятения, неприлично и рассказать кому, он не испытывал никогда в жизни. Ласточка, птичка звонкая, чайка легкая, что кружит над бирюзовой волной… Теперь в мечтах он называл избранницу своего сердца не иначе как мадам де ла Мот. Конечно, имя Николь не исчезло из обращения, но оно, казалось, принадлежало деве юной, невинной и неопытной, тоже где-то «калгану желтенькому», а мадам ла Мот, несмотря на свою молодость, была дама зрелая, прекрасная и недоступная, как жрица. В голову лезли всякие слова типа «алтарь», «искупительная жертва», «власяница и вериги» и прочая чушь.
Верите ли, господа, совсем голову и сон потерял! При расставании в кофейном дому Матвей сообщил место своего проживания, даже Клепкину мызу подробно описал – на всякий случай. Мадам же де ла Мот отнюдь своего адреса не сообщила, напустила туману розового, мол, там, где она обретается, запретили называть оное место.
Он засмеялся счастливо и вдруг почувствовал, что ему рядом с Николь нечем дышать. Словно весь кислород уходил на обслуживание ее красоты, а на его долю приходились одни ошметки. Он даже, помнится, пошутил:
– А не в раю ли вы обретаетесь?
Она засмеялась, трень-брень колокольчики:
– Нет, не в раю. Но поверьте, милый рыцарь, я бы назвала свой адрес с полным удовольствием, но это не в моей власти.
Так и сказала – «милый рыцарь», этим прозвищем она его в первый раз в карете наградила, намекая, что он ее от поляков спас. И не поймешь сразу, всерьез говорит или шутит.
А в общем-то, Матвей не огорчился из-за этой скрытности, такая дама и должна иметь тайны. Кроме того, он хорошо запомнил имя шведского посланника и знал, где в случае необходимости можно будет найти обожаемую. Но пока об этом крайнем случае и разговора не было.
Неделя прошла с их встречи, а он уже два раза получал записочки с приглашениями – первый раз в гостиную неких иностранцев, немцев, кажется, милейшие люди. Второй раз в Летнем саду гуляли. Николь хотела непременно показать Матвею римскую статую, но на беду грот в этот день был закрыт.
В саду Матвей завел обстоятельный разговор, трещал без умолку, как скворец. Он решил стать степенным человеком, тетка для него дом присмотрела, и он надумал купить непременно. А как же! Пора начинать взрослую жизнь. Он хочет жениться. Только нет пока избранницы сердца. Но что-то подсказывает ему, что она недалеко. Мадам де ля Мот слушала его вполне благосклонно, ни разу не перебила. Это вам о чем-нибудь говорит?
Теперь Матвей собирался на конную прогулку вдоль набережной, далее – в парк, такое вот прекрасное путешествие. «Просто погуляем…» – сказала Николь. Матвей точно решил, что в этот-то раз уж непременно скажет, что влюблен, что она и есть избранница сердце, греза мыслей его. Только бы погода не испортилась, не нагнал бы финский ветер туч да туману. Но пока солнце держалось, исправно слало на землю лучи.
Другой, не менее важной заботой было – что надеть. В этом камзоле песошном он уже был. А какие на нем тогда были кюлоты? Господи, забыл совсем. Ну и шут с ними. Не в кюлотах дело. Главное, чтоб видно было, что ты человек со вкусом и не беден.
В чем лучше сидеть в седле – в бархате или в сукне? Что более соответствует прибрежному ветру и деревьям в парке? Тонкое сукно для прогулки более подходит, но сейчас лето. Суконный кафтан у него очень приличный – рукава, согласно моде, узкие, обшлага украшены пуговицами, обшитые черным шелком с металлической нитью. Но на рукаве вдруг обнаружилось жирное пятно. С первого взгляда не больно-то и видно, но если руку поднять… Нет бы на левый рукав пятно посадить, левая рука у него еще плохо работает.
– Евграф! Где камзол лазоревый из «ткани с насыпью»?
Евграф не отзывался. Видно, уперся куда-то. Наверняка на рынок, он обожает туда ходить. Тетенька еще с утра просила купить померанцев и миндальных ядер для пирога.
Лазоревый камзол как в землю канул, но нашелся другой – с травяным узором, хороший, мелкий, пейзанский узор. Но у ворота пуговицы нет, одни нитки торчат, и подкладка из белого байберика на вид какая-то несвежая.
– Она что, у тебя подкладку, что ли, будет смотреть?
Оказывается, он говорил вслух, оттого и не услышал, как дверь открылась. На пороге стояло инвалидное кресло, в нем царицей восседала тетка, за ней маячило лицо старухи. Все собрались!
– Это кого вы имеете в виду?
– А к кому ты на свидание-то собираешься? Я за тобой внимательно наблюдаю. Совсем ты, милый, за последнюю неделю голову потерял.
– Тетенька, позвольте мне одеться…
– Да позволю, позволю. Только ты перво-наперво скажи мне – кто она. Из каких фамилий? Достойное ли семейство?
Ах, как хотелось крикнуть Матвею в голос: «Не ваше дело!», можно и помягче выразиться: «Это только меня касается», а можно просто молчать со спокойным видом. Этим правом Матвей и воспользовался. Он с трудом просунул раненую руку в рукав рубахи, оправил кружева. Зеркало маловато… Выбрит отменно, но под левым глазом вроде прыщ… или нет, так только, пятнышко.
Протяжно вздохнула старуха, скрипнули колеса и, стуча ободьями, кресло покатилось прочь. Варвара Петровна не издала ни звука.
Тут и лазоревый камзол сыскался. И кафтан, и камзол шили прошлой осенью по присланным из Парижа патронам. Патронами называли уже раскроенную и вышитую ткань, которую потом подгоняли по фигуре. Матвей эту пару любил, одежда сидела на нем как влитая. Потом долго искал турецкий серебряный мундштук, куда же без этого мундштука на свиданье? Лошадь к нему привыкла, с другим мундштуком он ее и не удержит. Все, побежал!
На утро, когда мрачный Матвей спустился к завтраку, Варвара Петровна вместо приветствия сказала обиженно:
– Ну что? Не слушаешь тетку, вот и получай сюрпризы. Не пришла твоя инкогнито на свидание?
Ответом тетки был обиженный вздох и удивленный взгляд.
– А я еще вчера знала. Раскинула карты – ба-атюшки! За этим и к тебе потащилась. Предупредить. Опасная она, Матвей, дальняя и опасная.
– Что значит – дальняя? – он язвительно рассмеялся.
– А то значит, что не нашего раскрою. И много у тебя будет из-за нее неудобств и опасностей всяких. Дама червей, и не девица. Вдову, что ли, нашел?
Матвей поперхнулся чаем. Напиться бы сейчас в дым! Одна беда – не с кем!
17
Светский Петербург из-за взятия Дангица прямо с ума посходил. Все восхищались победой Миниха. Тут же вспоминали его прежние заслуги. И если раньше он был толковым инженером, приложившим некоторые силы в строительстве Ладожского канала, то теперь уже никто не сомневался, что он сам этот канал придумал, выкопал и шлюзами обустроил, дабы спасти от бурь и потопления многие русские суда. Военные чины от генералов до унтер-офицеров толковали о реконструкции армии, особенно упирая на то, что Миних уровнял в жаловании русских и иностранных офицеров (раньше русским за службу платили меньше). Но, главное, в глазах общества фельдмаршал был теперь гениальным полководцем. Ласси под Данцигом бился-бился, но так и не взял города, а Миних приехал и в три месяца обеспечил славу России.
Дело в том, что русские давно по-крупному не воевали. Это была первая значительная победа в царствование Анны Иоанновны. При Екатерине I не было войн, а про юного Петра II и говорить нечего, а здесь Россия взяла на себя ответственность за большое европейское дело и вы играла его, натянув нос и Франции, Швеции и даже Порте. Польша в этом списке не упоминалась, поскольку каждому было ясно, что Польше Россия принесла счастье. И по всем параметрам выходит, что «большое европейское дело» выиграл именно Миних.
Бирона вся эта суета раздражала необычайно. Он не завидовал Миниху, нет. Зависть свойственна слабым людям, которые ощущают себя не на месте, а обер-камергер был о себе очень высокого мнения. Он злился на себя самого за то, что своими руками подтолкнул Миниха к славе. Думалось, что поедет этот выскочка и дамский угодник воевать поляков и увязнет там на длительный срок, а он взял и всех победил. И ведь не только одну баталию выиграл, а решил европейскую проблему.
Особенно вывел из себя Бирона мимолетный, в общем-то пустой, но искренний разговор с графом Шереметевым, Бирон держал его за умного человека, а он такое лепит, что уши вянут.
Фаворит ездил по поручению Анны Иоанновны на Зверовой двор на Хамовой улице. Донесли, что старый леопард, любимец государыни, занемог, то ли перекормили, то ли зверь слишком возбудился от появления самки-леопардихи, которую недавно привезло в подарок восточное посольство. Потом сообщили, что леопард вроде пошел на поправку. Анна никому не верила и попросила Бирона самому посмотреть, как содержат зверей, хорошо ли кормят, тщательно ли чистят клетки. Чистота, как выяснилось, была на Зверовом двору отменная, звери гладки, шерсть без проплешин, но, поди разберись – здоров зверь или болен? Леопард – он не конь, у него свой режим и сроки жизни.
Возвращался Бирон в раздраженном настроении, по дороге заехал развеяться в усадьбу к графу Шереметеву, благо рядом. Фонтанная речка – чистое раздолье. У Шереметева пруды, оранжереи, а вокруг дикий, еще не освоенный мир. Травы стелятся под ветром, ветви дерев осеняют лицо благодатной тенью. Настроение у Бирона, считай, поправилось.
Потом они вместе верхами поехали во дворец. Выехали на Большую персшпективу, по-нашему Невскую, и в тот момент, когда подъезжали к Триумфальным воротам, воздвигнутым два года назад в честь приезда из Москвы Анны Иоанновны, Шереметев возьми и брякни:
– А все-таки Миних молодец. Может быть, он и не достоин триумфа, но овацию он заслужил.
Бирон не был образованным человеком, поэтому спросил с подозрением:
– Какой еще овации?
– Ну, овации… малого триумфа. Овация есть пеший триумф, которым удостаивали в древности великих полководцев. Все вроде так же, но скромнее. Герой идет не в роскошной золотой тоге, а в обычной своей одежде, и венок на голове не лавровый, а миртовый.
– Где же Миниху в Петербурге мирт найдем? – спросил Бирон с издевкой.
– Да не в этом дело. Венок можно хоть из березы соорудить. Главное – почет. И оркестр достойный в столице сыщется. Представляете? Впереди идет Миних, за ним армия победителей, потом везут захваченные в битве трофеи. Величественно…
Словно не замечая закипавшего в Бироне раздражения, Шереметев продолжал с увлечением перечислять прочие отличия триумфа от овации, упирая на то, что Миних явно заслуживает первого. При этом он словно подталкивал фаворита, ты там рядом, поговори, открой глаза государыне. Давно у народа не было широких праздников, а теперь самое время. И красиво, и по делу.
Может, Шереметев издевается над ним, невольно подумал Бирон. Но лицо графа было столь открытым, простодушным и веселым, что мысль эта казалась нелепой.
Фаворит оглянулся на Триумфальные ворота. Они были деревянными, но раскрашены под мрамор и выглядели очень внушительно. Время еще не смыло позолоту с резных завитушек и акантов над верхней перекладиной, там, где было выставлено изображение Анны Иоанновны в порфире и короне. Ворота эти или арку, как называли сооружение иностранцы, воздвиг Миних, и он же на правах губернатора Петербурга произнес в этих воротах прочувствованную приветственную речь.
Бирон был в бешенстве. До самого вечера он места себе не находил, выискивая способы сокрушения этого доморощенного стратега. Тоже мне, Александр Македонский! Он ему устроит триумф! Что там верещал Шереметев про Древний Рим? Туника, вышитая пальмовыми ветвями! Он погрозил кулаком в сторону запада, где-то там за окаемом обитал его удачливый соперник. Колесница, запряженная четырьмя конями… потом идет войско победителей и захваченная в битве добыча. Экий машкерад! И какую добычу привезет в Петербург Миних? Раненых, искалеченных, несчастных русских солдат! Святая ненависть к возможному сопернику подняла Бирона на такую высоту, что у него увлажнились глаза. Никогда в нем такого не наблюдалось. Надо же, он вполне искренне сочувствовал русским солдатам!
И вот прошло три дня после обидного разговора, и в руках Бирона оказалось письмо от агента Петрова. Нашелся! В отчете ни слова не было о Шамбере, но зато имелась фантастическая, горячая, как праздничный пирог из печи, информация. Миних польстился на взятку! И из чьих рук он принял деньги? Из рук врага, с которым воевал целых три месяца! Миних помог Лещинскому бежать, и этим свел к нулю все усилия русской армии.
Новости этой Бирон поверил сразу, не мог не поверить. Она была столь своевременна, словно само небо откликнулось на его справедливый призыв. А там на небе не ошибаются. Слов агента о том, что информация не проверенная, он просто не заметил. Немедленно приказано было выслать Петрову денежное воспоможествование и секретный приказ продолжать наблюдения. Теперь объектом для слежки у Петрова стал сам фельдмаршал Миних.
Бирон сам не заметил, как стал бегать по кабинету. Он то упирался взглядом во французскую шпалеру, изображающую библейский сюжет – Рахиль у колодца, то подбегал к окну, низкое небо, розовую от закатного солнца поверхность Невы, к вечеру сильно похолодало. Как все переменчиво в мире!
Бенгина вошла в кабинет. Одета просто, по-домашнему, только декольте, пожалуй, слишком глубокое, жена всегда помнила о главном ее богатстве – роскошном бюсте.
Ничего этого Бирон не заметил, только подумал бегло – а сколько ей лет? Исполнилось уже тридцать или еще двадцать девять? Если лицо сильно попорчено оспой, а в случае с Бенгиной так и было, то женщина стареет куда медленнее, чем красотки с гладкой кожей. Морщин совсем не видно, а должны быть, ведь не девочка уже…
– Вы чем-то взволнованы, мой друг? У вас нездоровый вид.
– Ах, оставьте, какие у меня могут быть волнения. Все прекрасно.
Тон капризный, взгляд искоса, она знала эту его манеру, поэтому продолжала спокойно и даже участливо:
– А я как раз волнуюсь. Их Величество ждет вас. Ужинать будете в голубой гостиной. Курица сегодня плохо приготовлена. Назвали-то пышно – пулярка с трюфелями, а эта самая пулярка расползается под ножом, и соус явно пригорел. Правда, очень хорошая ветчина и языки копченые. Да и кулебяка отличная. Я буду ужинать с детьми, – добавила она деликатно и вышла.
Государыня была в отличном настроении, поглядывала на фаворита томно. Вот про Анну Бирон помнил все, и возраст, и день рождения. Она моложе его на три года. Неужели у него тоже такие дряблые щеки? Он вздохнул и принялся за еду. К счастью, женщины его мало интересовали. Он и в молодости не был сексуально озабоченным, а уж сейчас-то мечтать об усладах любви. Увольте…
– Анна, я должен говорить с вами.
Она вскинула удивленный взгляд, мол, хочешь говорить, так говори. Зачем такие вступления?
– Может быть, это и не столь важное сообщение, чтобы портить вам ужин. Но я должен предупредить, – и он положил перед царицей расшифрованное письмо агента Петрова.
Она покорно начала читать, но быстро отложила бумагу.
– Ты, мой милый, лучше своими словами перескажи, что-то у меня глаза болят.
Еще бы они не болели. Анне давно надо было носить очки. Но эта мода пока не привилась на Руси. Очки не красят, а уж если человек вынужден ими пользоваться, то делал это очень интимно. Бирон пересказывал текст ровным голосом, ни намека на злопыхательство, только безучастная любовь к истине. Царица внимательно слушала, потом спросила:
– Этому агенту можно верить?
– Я за него головой ручаюсь, – твердо ответил Бирон, абсолютно уверенный, что никогда, ни при каких раскладах, хоть насочиняй он с три короба, его красивая голова не расстанется с телом.
– Плохо, – сказала Анна.
– Да уж куда хуже.
– А кто знает об этом письме?
– Никто. Только вы и я.
Он ждал продолжения разговора, но его не последовало. Успех следовало закрепить. Фаворит сделал красивый, легкий жест рукой, словно отгоняя от стола заботы сегодняшнего дня, потом улыбнулся ласково и призывно. Анна сразу почувствовала перемену настроения.
Про царицу говорили: красавицей не назовешь, но черты лица «не без приятности». Но чем Анна действительно умела пленять, так это голосом, и пользовалась им умело, как музыкальным инструментом. Голос ее вдруг приобретал совершенно особенный тембр, становясь грудным, округлым, певучим, чарующим. В такие минуты Бирон мог говорить о любви без малейшей натуги. Ах, Анна…
Ну что ж… Это победа, размышлял Бирон, оставшись, наконец, один. Плоды этой победы он увидит потом, но сейчас хотя бы можно передохнуть. И никаких оваций. Он опять, на этот раз уже спокойно, проделал путь от шпалеры до окна. Было совсем темно. Внизу на набережной медным блеском отливали бляхи на гренадерских шапках охраны. В красных опушках сверху этих шапок ему вдруг почудилось что-то неприятное, более того – угрожающее. О чем он подумал, что вспомнил?
Выражение самодовольства сползало с лица его, как неряшливо стертый грим. У Бирона было такое чувство, словно он подслушал чей-то опасный разговор. И очень неприятно было сознаться, что он просто вслушивался в собственный внутренний голос. Ты же сам совсем недавно, днями, как говорится, надумал продаться кардиналу Флери, увещевал этот тусклый, назойливый голосишко. Это что же получается? Где-то в глубине его сознания живет некий опасный тип, который только прикидывается Эрнес том Бироном, а на самом деле есть дурак и плут. «Да как тебе такое в голову могло прийти? – обратился он чуть ли не с визгом к своему внутреннему голосу. – Такое простительно отроку-несмышленышу, а тебе, болвану, уже полных сорок три!»
Внутренний голос пытался оправдываться, но он был жалок. Он никогда не будет связываться с Францией! В России, что ли, у него дел мало? Никаких политических игр. Он выбрал свой путь и будет следовать ему неуклонно. Терпение и последовательность. Наивно думать, что Франция за его труды отдаст в награду такой куш, как Курляндия. Подобные подарки может делать только царица Анна.
Бирон словно ластиком прошелся по памяти и стер не только свои переживания, но и самого аббата Арчелли, который заставил его погрузиться в пучину политических раздумий. Но жизнь сама напомнила ему о настырном аббате. И как вы думаете, кто постарался? Остерман. Андрей Иванович собственной персоной. Оракул дожидался приема государыни, а Бирон как раз от нее выходил. Остерман сразу схватил его за рукав, другой рукой поскреб плохо выбритый подбородок и проблеял невинным голосом:
– Я давно хотел спросить, вы не знаете, что за человек такой аббат Арчелли?
Бирон высвободил руку из цепких пальцев, отступил на шаг.
– Не знаю. А почему вас это интересует?
– Он просит аудиенции. А зачем мне с ним встречаться? Будет просить денег или хлопотать за каких-нибудь родственников. Навязчивый, говорят, господин.
И все… Далее дверь отворилась, и Андрей Иванович, плотно прижав сафьяновую папку под мышкой, мелкими шажками вбежал в приемную государыни, а Бирон остался стоять столбом и обдумывать ситуацию.
Что значит «говорят»? Кто говорит? Или аббат Арчелли уже протоптал тропочки к домам столичных вельмож? Хотелось бы послушать, какие речи он там произносит. Пока все спокойно, но когда этот господин доберется до Остермана или Левенвольде, вот тогда и запахнет жареным. Они такую интригу изобретут, такой узел завяжут, что год уйдет на его распутывание.
Арчелли опасен. Но куда его деть? Послать солдат и арестуют за милую душу. А дальше можно забыть, что он иностранный подданный, тем более что у него и паспорта, поди, приличного нет. Он грязный шантажист, с него можно спросить по полной мере. А о чем спрашивать-то? Кто его послал? Так он этого не скрывает – Флери. Зачем послал – тоже объяснил внятно: изменить политику России в отношении Франции, сделать ее дружественной. Вопрос-то, собственно, один – откуда в Париже узнали про деньги? Так вряд ли аббат это скажет. Здесь и дыба не поможет, потому что он этого не знает. Аббат пешка в сложной шахматной партии, но он выдвинулся на две клетки, и его необходимо оттуда убрать.
18
А потом Лиза увидела во сне пожар. Ожили страшные видения детства – опять трещала горящая кровля, падали на землю балки, поднимая снопы искр, нестерпимым жаром обдавало лицо, и совершенно некуда было деться от дыма. И главное, все происходило в совершенном безмолвии. Распахнутые до глотки рты, какие-то сгорбленные, мечущиеся дети, а то вдруг вплотную к ее лицу чья-то страшная рожа с вытаращенными красными глазами, а боковым зрением ты видишь занесенный в руке топор. И еще цепкие окровавленные и, наверное, обожженные руки, они вытряхивали из сундуков чужое добро прямо на землю и тут же запихивали его себе в карманы, в ранцы и за пазуху. Лизу никто не хватал за руку, не спасал, не тащил из этого ужаса. Она стояла там немым свидетелем, знала, что надо бежать, но ноги вросли в землю. Еще секунда и она бы задохнулась от дыма. Лиза сделала судорожный вздох и проснулась.
В спаленке было жарко и темно, войлок на окне не пропускал даже лучик лунного света, и только в красном углу розовым светом теплилась лампада. Где-то осторожно, видимо в коридоре, пиликал сверчок. За ширмой мирно сопела Павла.
Больно, нестерпимо больно, но где? Лиза с трудом села в постели и только тогда поняла, что ноги свело судорогой, ей казалось, что от коленок до пяток они закручены в спирали. Постанывая от боли, она стала изо всех сил растирать икры. Только бы Павла не проснулась, квохтания ее здесь совершенно неуместны. Пожар во сне – это знак, а для того, чтобы понять, что к чему, ей нужно одиночество. Наконец кожа потеплела, уже можно было безболезненно развернуть ступни. Все… отпустило, только меж грудей немного саднило, словно она и впрямь наглоталась угарного дыма.
Удивительно, что тело помнит давние физические переживания. Ей казалось, что она навсегда забыла тот ужас в Кукуе, когда город горел, а солдаты грабили бережливых немцев. Но, оказывается, мозг помнит не только картинку, но и запах. А шум забыл.
Страх не проходил. Она и думать не могла, чтобы откинуться на подушку и попытаться заснуть. Лиза перекрестилась на лампаду, потом боком сползла с постели. Молитва защитит, Бог надоумит. Она опустилась перед иконой на колени и долго беззвучно молилась.
Одеваться без Павлы было трудно, и не потому, что сама платье не могла надеть. Она не знала, куда дуэнья подевала ее одежду. Не в сундуках же ночью рыться. Нижняя юбка сыскалась под стулом, где бросили вечером, там и валялась, на спинке висела шаль-мантилья, домашние туфли ноги сами нашли. Лиза накинула на плечи шаль и осторожно вышла в коридор.
Дверь в сад была открыта. Деревья по пояс стояли в тумане. Еще не заалела полоска на востоке, но было уже светло. В подстриженных кустах жимолости блестела паутина, удивительно, как такие тонкие нити могли удерживать на своей поверхности столь полновесные капли росы. Скамейка была мокрой, и Лиза побрела по аллее в беседку. Дышалось легко. Ночной кошмар не потащился за ней в сад. Он остался в спальне, за закрытыми войлоком окнами.
Так что же предсказывал ей сон? После пожара в Кукуе на нее навалилась напасть – туберкулез, и много усилий пришлось сделать отцу и ей самой, чтобы выздороветь. Может быть, сон предсказывает ей возвращение болезни? Нет, в это она не верит. Прошло то время, когда просто так, от сильных переживаний могла потерять себя настолько, чтобы харкать кровью. Она сильная и может пережить любую беду. Пережила же она предательство Матвея.
В глубине души Лиза не верила, что у них все кончилось. С того незабываемого вечера, когда любимый мелькнул в окне кофейного дома, прошел почти месяц. Теперь смешно вспомнить, что вначале она успокаивала себя тем, что просто опозналась. Но от правды просто так не отвертишься. Все подтвердило письмо Клеопатры. Подруга писала, что Матвей стал странен, «после войны он как бы не в себе» и призывала Лизу подождать, дать ему опомниться и войти в колею спокойной жизни.
Лиза и ждала, и пыталась верить, что Матвей как-то откликнется на ее призыв. Но нет. Сердце подсказывало, что не ужасные баталии под Данцигом расстроили состояние духа любимого, а та худая, рыжая, которая с полным бесстыдством вошла вечером в кофейню – соперница. Может быть, недавний сон говорит, что пришло время бороться за свою любовь, пока она не сгорела в пламени чужой страсти?
Накануне вечером Лиза гуляла здесь в саду с графом Ипполитом, еще следы их не просохли. Фамилии молодого человека Лиза не помнила, да, может, он и не граф вовсе, но папенька к нему очень благоволил. Лиза знала только, что семья Ипполита очень богата. Про маменьку его в Петербурге рассказывали байку, что послала она как-то чиновнику взятку, предварив ее запиской, мол, попробуйте, ваше сиятельство, моих рыжичков в горшочке, де, сама солила. Горшочек был принят, а рыжичками в нем были золотые монеты.
Ипполит служил в Сенате, носил длиннополый кафтан канареечного цвета и такого же оттенка чулки со стрелками. У него были красивые ноги, и он был уверен, что вышитые черным шелком стрелки подчеркивают их стройность. Он мерно вышагивал своими красивыми ногами, внимательно рассматривал речной песок, которым были усыпаны дорожки, и монотонно, на одной ноте рассказывал, как он скучал всю эту неделю, не видя прекрасную, то есть Лизу. Из его речей она поняла, что в последний месяц они читали один и тот же французский роман.
– Душа моя уязвлена чувством, Лизавета Карпова, – бубнил Ипполит. – Уж и не знаю, как я жил все это время.
– Свет-то померк? – спросила она деловито.
– Померк, – согласился молодой человек и стал бережно ощупывать локоны над ушами, не растрепались ли. Рука его был в гусиной коже, с красными, словно опаленными костяшками и свежей царапиной на запястье.
– А почему у вас цыпки? Больно ведь. Вы бы смазали руки жирной мазью.
Ипполит покраснел как рак и сунул руки в карманы.
– Я вчера лодку смолил.
– Зачем?
– На рыбалку ехать. Я страсть как рыбалку люблю.
– Уязвлена душа рыбалкой-то? А как же я?
– Насмешничаете, Лизавета Карповна, – протянул он укоризненно. – Да я-то что, это все маменька. А мне это надо?
Папеньки-маменьки все за нас готовы решить! Вчера Ипполит ее только позабавил, а сейчас вдруг и разозлил. Особенно обидно было, что сейчас она могла бы во всем открыться отцу. Он наверняка одобрил бы ее выбор. Матвей сейчас не «долговязый пустобрех», как ранее отрекомендовал его Карп Ильич. Сейчас он князь Козловский, и при деньгах. Странно, но она совсем не помнит, какие у Матвея ноги. И какие ноги у Ксаверия, тоже не помнит.
Меж тем восходящее солнце растопило туман, зябкий ветерок пробежал вдоль сырой аллеи, словно любопытствуя, выискивая уголок, где можно пошуметь в листве, сбить росу с травы и разбудить птиц, которые уже начинали выводить неуверенные с утра трели. Ветер вздул юбку, вознамерился расстроить прическу, но это ему не удалось, Лиза выбежала в сад в папильотках. Она теснее закуталась с шаль.
«Ксаверий…» – произнесла она вслух и поняла, что ей хочется плакать. Нельзя сказать, чтобы Лизина ревность и обида на Матвея совершенно вычеркнули из памяти образ поляка. Она все время помнила о нем, но как-то отдаленно, откладывая не только действия, но и мысли на потом. А сейчас, дрожа от утреннего холода, она вдруг сообразила, что предала Ксаверия. Правда, она дважды напоминала батюшке об обещании похлопотать о пленном шляхтиче, но батюшка неизменно твердил: вот возьмем Дангиц, и все само собой образуется.
И что же? Взяли, разбили поляков на голову. Народ ликует, а о Ксаверии ни слуху ни духу. С кем поговорить, у кого просить совета? Клепа ей в этом деле не помошник, у нее младенец в чреве, по подсчетам, семимесячный. Все ее заботы теперь – донести плод до того мига, когда он увидит свет. Клеопатру волновать нельзя, оборони Господь.
Остается ее муж, Родион Люберов. У него теперь какие-то дела с отцом. Карп Ильич дважды поминал в разговоре его имя, и все как-то озабоченно. Если у отца и случаются какие-нибудь передряги и неприятности, то у него на эту тему слова не вытянешь.
Сегодня же утром она напишет Родиону письмо. Лиза вышла из беседки и решительно направилась к дому. В этот момент она даже про ночные ужасы забыла. Любовью, молитвою, делом… шептали ее губы. Нет, не так… любовью молитвой характером, делом потом… Вот именно характером. А у нее хватит характера, чтобы спасти Ксаверия Гондлевского.
Историческая справка
Читателям, которые не только следят за развитием сюжета, но интересуются историей России, небезынтересно будет узнать, как в правление Анны Иоанновны обходились с пленными. А с ними поступали куда человечнее, чем в наше время.
После падения Данцига шведские офицеры, а их было всего тридцать или сорок человек, были отправлены на галиоте в Стокгольм. С французскими батальонами поступили иначе. Когда французы сдались на милость победителя и погрузились на русские суда, они были уверены, что поплывут через Зунд в какую-нибудь балтийскую гавань, откуда их отправят во Францию.
На деле все получилось совершенно не так. Корабли с французами направились не на запад, а на восток, и приплыли в Кронштадт. Там произошла сортировка пленных. Высокие чины, а также офицеры были оставлены в Петербурге, прочих же перевели в маленькое местечко между Петербургом и Нарвой – Копорье. Там пленные солдаты встали лагерем, довольствие им было назначено самое скромное.
О пленных поляках разговоров пока не было. Как-то считалось, что их вообще не вывозили в Россию, а оставляли дома, в Польше. Но при этом все знали, что как только французы будут отпущены на родину, то дойдет очередь и до поляков, если таковые сыщутся.
Миних пока оставался при армии. В Петербург приехали данцигские депутаты во главе с бургомистром. Императрица дала им аудиенцию во дворце. Бургомистр Велен произнес покаянную речь. Он долго и трогательно восхвалял Анну Иоанновну, ругал себя и свой город за безрассудную опрометчивость, с коей они ввязались в войну с Россией. «Мы торговые люди, и нам совсем не свойственно… только происки врагов…» – ну, и так далее. Императрица растрогалась и спустила долг в миллион ефимков, тот самый, за побег Станислава. Но оговоренный миллион контрибуции Данциг должен был уплатить в свой срок.
А дальше – бал во дворце в честь победителей. На бал были приглашены и побежденные. В парадных мундирах французские генералы и офицеры должны были «шаркать ножкой», слушать победные тосты и поднимать куверты с вином за здравие императрицы. Русская знать обращалась с ними с подчеркнутой предупредительностью, которую впоследствии в мемуарах они назовут «оскорбительной». Боже избавь, никому в голову не приходило их оскорблять. Это совершенно в русском характере – забыть причиненное зло и брататься с недавним врагом. Дамы вообще были в восторге, французские офицеры такие душки!
А Париж негодовал. Как же так – французские войска сдались на определенных условиях. По этим условиям их должны были вывезти из Данцига в балтийскую гавань. Франция готова принять своих сынов, но где они?
Русские отвечали: название балтийской гавани не было оговорено, но почему бы таковой не считать Кронштадт?
И мы бы никогда не нарушили условий капитуляции, если бы не получили весьма огорчительную для нашей государыни новость. С прискорбием мы узнали, что французская эскадра без объявления войны пленила наши корабли: пакетбот, два галиота, а также фрегат «Митаву» (помните двух друзей французов?). Про «Митаву» теперь известно, что он был увезен во Францию. А потому Ее Величество за нужное находит удерживать у себя французских пленных до тех пор, пока России не будут возвращены ее суда с полным вооружением и сданы в каком-нибудь русском порту. Вот так: «Кто заказывает музыку, тот ее и танцует».
Поведение России вызвало негодование Европы. Надо сказать, что Европа исстари негодует по поводу нашей страны. И как-то всегда на западе все для всех очевидно. Я согласна, России не следовало мешаться в дела Польши и спускать ей очередного короля, даже если он сын предыдущего. Но будем объективны: Франции бы тоже следовало быть скромнее и не сажать на польский трон зятя Людовика XV. А потому, как сейчас говорят, «не надо двойных стандартов».
Куда там… Посланники всех европейских стран строчили отчеты своим правительствам, часть их, как уже говорилось, перлюстрировалась «черными кабинетами». Именно поэтому в Петербурге стала известна фраза французского посланника в Швеции, который написал про русскую царицу: «Эта женщина слишком высоко задрала нос, надо ей посбавить спеси. Моему повелителю королю обойдется не дороже ста червонцев ее отравить, потому что русские способны за сто рублей убить родного отца».
Надо ли говорить, что Анна Иоанновна пришла в ярость. Они нам, побудителям, будут диктовать условия! Она не стала закручивать гайки, но о возвращении пленных на родину вообще отказалась говорить.
И тут же встал вопрос – а нельзя ли из этой прорвы людей, которых надо охранять, содержать и кормить, извлечь хоть какую-нибудь пользу? После этих размышлений появился приказ, один из самых фантастичных на свете. Привожу экстракт, как говорили в XVIII веке, то есть выдержку из этого приказа, сохраняя стиль того времени. Приказ императрица адресовала флотскому капитану Полянскому: «Ехать тебе в Копорье в лагерь, где обретаются французы, и объявить наш указ гвардию майору Альбрехту или Астраханского полка подполковнику Лопухину, что мы указали быть тебе при тамошней команде обще с ними, потому что ты французского языка умеешь, и французам также объявить, что ты для них нарочно прислан. Притом майору или подполковнику секретно объявить, чтоб они помянутых французов впредь так крепко не держали как ныне, и ежели б кто из них стал уходить тайно, то за теми присматривать, и от того их удерживать не велеть, а для сыску за ними никуда не посылать, понеже из них многие есть мастеровые люди, и буде они будут уходить, то тот их побег к лучшему нашему интересу воспоследствует, чего ради не токмо б их от того удерживать, но еще по крайней возможности в том способствовать и к тому приговаривать, и как можно тайно отправлять в Санкт-Петербург».
Странный приказ, да? Причем нельзя толком понять – сами ли беглецы должны добираться до Петербурга и искать там работу, или же после побега, который сами же стражники и спровоцируют, они будут насильно привезены в столицу и пристроены на принудительные работы.
Приказ был действительно тайный, и только случай дал возможность Люберову ознакомиться с его содержанием в канцелярии Бирона. И тогда Родион понял, что время для освобождения Ксаверия из плена подошло.
19
Позднее Родион вспоминал эту поездку как одну из самых нелепых в жизни. Они ехали в сурмиловской карете, в великолепном новеньком экипаже имени Св. Фиакра, доставленном из Франции. Напротив Родиона сидела Лизонька в легком розовом платьице, в кокетливой соломенной шляпке, украшенной газом, лентами и цветами, вся возвышенная, нервная, отвергающая все преграды, а попросту говоря, взвинченная до предела. Рядом с Лизой примостилась горничная, которая «страсть как боялась дороги», потому что «вы знаете, барин, меня лошади в детстве понесли». Страх перед путешествием не мешал резвой девице с интересом пялиться в окно, весело подпрыгивать на ухабах и звонко ойкать. Горничная неимоверно раздражала Лизу, что она и не пыталась скрыть. Девицу из дворни навязала Клеопатра, потому что не отпускать же Лизоньку одну в дальнее путешествие, ей надо и одеться, и причесаться, и вообще не пристало девице ехать одной в мужском обществе. Лакея Касьяна, который привез Лизу в Отрадное, с собой не взяли, потому что если взять Касьяна, то куда потом посадить Ксаверия?
Отъезд Лизы в Отрадное был сопряжен с большими трудностями. Карп Ильич не хотел никуда отпускать дочь, потому что Павла приболела, а без дуэньи куда ехать? Но Лиза поведала отцу сон, и с такими подробностями, что ясно было – не выдумывает. Во время рассказа она старалась быть спокойной, и ей это почти удалось, только уголок рта угрожающе дергался, но кончилось все слезами. И Сурмилов сдался. Но ему и в голову не могло прийти, что Лиза рассматривает Отрадное только как перевалочный пункт.
Что Лизонька решилась ехать в Нарву дабы выручать Ксаверия из плена, мы удивляться не будем. В нее вдруг словно бес вселился, она жаждала полезной деятельности, но то, что Родион Люберов пошел у девы на поводу, требует объяснения.
Родион согласился помогать Лизе и Ксаверию, потому что его мучила совесть. Матвей слишком бесцеремонно, можно даже сказать по-хамски, бросил свою невесту. Положим, разлюбил, но объяснись по-человечески, веди себя как мужчина. А Матвей повел себя до крайности легкомысленно, если не сказать подло. Клепа глаза прячет, ей тоже стыдно за брата.
Лиза приехала в Отрадное с уже готовым планом и не намерена была ни при каких условиях от него отступать. Все наши разговоры строятся по принципу «да-да» и «нет-нет». Ну, скажем, один из собеседников говорит: «Будет дождь». Второй посмотрит на небо и согласится, хотя совсем и не уверен, что темное облако прольется дождем, и продолжит разговор: «Какие времена ныне тяжелые! Забыли люди правду!» Первый, особенно не размышляя на эту тему, вздохнет понимающе, хотя мог и возразить: «И потяжелее времена бывают, а правды люди никогда не помнили». Так мирно побеседуют друг с другом, узнают все новости и расстанутся.
А бывает, что оба участника диалога настолько привержены истине, что даже очевидные вещи подвергают сомнению. «Хлеб-то как вздорожал», – жалуется первый. «Разве это вздорожал? – не соглашается второй. – Вот два года назад действительно вздорожал. А против той цены он, можно сказать, остался в прежней силе». Ладно, подойдем с другой стороны, думает первый, поговорить-то хочется. «Дороги по весне совсем разбиты…» – «Не знаете вы, что такое разбитые дороги. Вот у нас в Твери…» Первый пытается и так и эдак нащупать примиряющую тему: «Все-таки правду говорят люди: волос долог, ум короток.
Все бабы дуры! Непонятное племя…» Уж тут-то, кажется, что спорить. Но второй и с этим не может согласиться. По его версии все женщины умницы-разумницы, просто не все мужчины умеют найти к ним подход. И как в таком разговоре сыскать истину? Вот так и Лиза на все самые разумные замечания говорила «нет».
– Поверьте, я не могу взять вас с собой.
– Нет можете.
– Елизавета Карповна, это сугубо мужское, крайне деликатное дело, – Родион старался говорить спокойно и не сбиваться на назидательный тон.
– Война – тоже сугубо мужское дело, а от нее одни безобразия. А сейчас мир. И я хочу вести себя, как добрая самаритянка.
– Вот, дай бог, привезу я Ксаверия, тогда и выказывайте свою доброту. Но сейчас мне надо выцарапать его из плена, а вы мне только руки будете связывать.
– Я никому ничего не собираюсь связывать! – голос уже на крике.
– Но без вас мне будет легче договориться с начальником лагеря.
– А это, Родион Андреевич, еще неизвестно. Может быть как раз тяжелее.
– Но что я Карпу Ильичу скажу?
– А вы ничего не говорите.
Ночью накануне поездки Клепа нашептала мужу в ухо.
– Да возьми ты ее, Роденька. Тут ехать всего ничего, верст пятьдесят.
– Не пятьдесят, а семьдесят, а по нашим дорогам будет все сто.
– Да хоть бы и сто пятьдесят! Поселишь их с горничной в гостинице и всех дел. А Лизе эта поездка, право слово, необходима. Ты видишь, она сама не своя, по Матвею сохнет. А этот поляк ваш пленный, может, ее от этой тоски и излечит.
Ладно, победила, едем уже, так, кажется, сейчас-то будь посговорчивей, так ведь опять – «нет».
– Мы едем в Копорье, – говорил Родион.
– Нет, нам надо в Нарву. Ксаверий там.
– Но мне доподлинно известно, что всех пленных собрали в один лагерь.
– Не могли они всех пленных собрать в одно место. Их слишком много.
– Елизавета Карповна, осада Данцига – это не Северная война. После нее шведских пленных действительно было, что называется, некуда девать, а сейчас контингент пленных весьма ограничен.
– Может быть, и ограничен, Родион Андреевич, но Ксаверий точно в Нарве, и он страдает. Для него каждая минутка перед освобождением дорога.
Родион устал спорить, он просто замолчал, но маршрут не поменял. В любом случае он должен был встретиться с начальником лагеря подполковником Лопухиным. И предъявить ему сочиненную в канцелярии Бирона бумагу.
Пункт назначения Копорье стоял на реке Копорье и был бы совсем неказист на вид, если бы не стоящая над ним на огромной горе старинная крепость. За пятьсот лет существования эти могучие стены переходили из рук в руки, владели ими и рыцари, и шведы, пока здесь накрепко не утвердились русские.
Обычно тихий и малолюдный городок сейчас был полон народу. Лагерь военнопленных обосновали в крепости, охрана жила тут же, начальство размещалось в домах обывателей. Никакой гостиницы в Копорье, разумеется, не было, но имел место очень оживленный и шумный постоялый двор.
Появившаяся на улицах модная карета привлекла внимание жителей. В те времена и в столице было мало карет, а в Копорье разъезжали только верхами или в телегах, а здесь эдакое чудо – фиакр французский! На карету показывали пальцами, обсуждали и колеса и упряжь, мальчишки бежали вслед, подпрыгивая и горланя.
На этот раз Лиза повела себя кротко. Она представила, как на нее, розовую фею, будут пялиться и охранники, и пленные, поэтому сочла за благо отпустить Родиона в крепость одного, а самой с горничной отдохнуть на постоялом дворе.
На входе в крепость никто не спросил у Родиона пропуска или пароля. Он беспрепятственно шагнул под своды ворот, украшенных иконой Спасителя. Лагерь выглядел очень живописно, здесь стояли и походные палатки, и наскоро построенные, похожие на шалаши строения, кухни были устроены под навесом, здесь и там дымились костры, на них готовили еду и сушили одежду. Каменное здание было определено под лазарет.
Глядя на пленных, Родион впервые подумал о Ксаверии не как об отвлеченной единице, которую он вознамерился освободить, а как о реальном человеке, который живет в нужде и унижении. Вид у пленных был не то чтобы откровенно голодный, но и не сытый, сносившиеся мундиры, небритые лица, во взорах безучастность. А ведь они здесь и месяца не прожили. И хорошо сейчас лето, а как им тут будет зимой?
По счастью, подполковник Лопухин сыскался быстро. Немолодой уже человек, старый службист и тертый калач, он попал в Копорье по недоразумению, тяготился новой должностью и потому был рад любому новому человеку.
– Табачку понюхать не желаете? – предложил он сразу после приветствия и, не выслушав ответ, спросил: – С чем пожаловали?
Кисть его левой руки была изувечена в баталиях и сейчас служила только для того, чтобы сжимать изуродованными пальцами трубку. Затягивался он редко, поэтому казалось, что запалил он ее не для курева, а в качестве дымовой завесы от комаров, которых к вечеру появилось великое множество.
Родион предъявил бумагу, а дальше пошел странный разговор. Да, он, Лопухин, получил известный приказ из столицы, приказ секретный, и удивительно, откуда Люберов о нем знает.
– А вы прочтите еще раз бумагу.
Прочитал, понял, в чьей канцелярии сия бумага писана, поэтому о секретности больше не говорил, но на следующем же витке разговор их зашел в совершеннейший тупик.
– Вы говорите, что он мастеровой человек. Так? И вы хотите забрать его для нужд господина Сурмилова, дабы он работал в его оранжереях с виноградной лозой. Я правильно вас понял?
– Вы поняли меня правильно.
– Но я не могу отдать вам этого мастерового, потому что не имею такого распоряжения, – Лопухин сделал круг левой рукой, словно петлю из дыма набрасывал на шею Родиона. – Приказ мне говорит: не препятствовать побегу пленных, коих потом должно отлавливать и препровождать на места, заранее объявленные. Так?
– А они бегут?
– Нет.
– И что ж делать?
– Не знаю я, что делать. Не объявишь же перед строем, мол, вы, господа французы, должны отсюда дать деру, поскольку содержать вас нечем. А по столичным резонам необходимо, чтобы к осени половина их оставила крепость.
– Ну, вот видите. Забирая у вас одного пленного, я способствую выполнению плана.
– Да как же могу такое сделать? Он должен вначале бежать. А в наказание за побег я имею право приспособить его к принудительным работам… А так что?
Разговор пошел по новому кругу. Препирательство их никогда бы не кончилось, если бы Родион не указал еще раз на фамилию пленного.
– Так он поляк? – воскликнул Лопухин. – Так что же мы друг другу голову морочим? У меня здесь поляков нет. Я точно знаю, – и он передохнул с облегчением.
Родион вернулся на постоялый двор. Он ждал от Лизы надутых губ и упреков: «Я же говорила! Я же предупреждала!» Но ничего этого не последовало.
– Значит, завтра мы едем в Нарву, – сказала она с улыбкой и пошла спать.
Два дня прошло, прежде чем наши путешественники увидели на горизонте громадину Нарвской крепости. Город уже успел оправиться от страшных военных разрушений, нанесенных ему Северной войной, и имел вполне благополучный вид: на улицах чисто, жители приветливы, торговля идет полным ходом. На правом берегу речки Норовы высились крепостные стены Иван города, над стенами возвышались луковки православных церквей, а на левом – могучие бастионы Пакс, Спес, Фортуна (всех не перечислишь) и огромный замок – прибежище датчан, ливонских рыцарей и шведских королей. Указующим перс том в небо смотрелась башня Длинный Германн.
В крепости стоял небольшой русский гарнизон. Родиона в его форме поручика беспрепятственно пропустили внутрь, на Лизоньку, которая поверх платья накинула длинный серый макинтош, только покосились. Мало ли кто она, эта дама, может, к кому-нибудь из господ офицеров пожаловала родственница. У первого же офицера Родион справился, где найти начальника гарнизона, но Лиза успела шепнуть в ухо: узнайте про пленных поляков! – и дальнейший поиск пошел совсем по другому сценарию.
– Да поляк у нас здесь всего один, – сказал офицер, – пан Ксаверий. Я думаю, он сейчас книги разбирает.
Родион настолько удивился такому ответу, что не успел задать следующего вопроса, офицера и след простыл, а в Лизу опять вселился бес нетерпения:
– Вначале надо найти Ксаверия! Видите, здесь даже имя его знают. Он работает в библиотеке. Библиотеку всегда просто сыскать.
Замок был огромен: южное хозяйственное крыло, северное жилое крыло, а также, разумеется, крылья западное и северное, называемое «двор», несчетное количество галерей, пыльных залов со сводчатыми потолками и мертвыми каминами, коридоры, тупики, лестницы каменные и винтовые металлические, вниз-верх, направо-налево. И ведь даже спросить не у кого! Родион уже не надеялся найти искомое помещение, какая здесь может быть библио тека – в эдакой разрухе, он мечтал об одном, вырваться наружу.
Наконец она набрели на зал, в котором шел ремонт. Видно, решили подновить потолки и стены, а может быть, начальство затеяло реставрацию. Мастеровые тут же отвлеклись от своих дел и, раскрыв рты, уставились на нарядную барышню.
– Как пройти в библиотеку?
Переглядки, пожатия плеч и опять выражение удивления и сосредоточенного внимания.
– Нам нужно помещение, где книги, может быть бумаги…
– Так это в Северном крыле, подвале, туда все свалили, – откликнулся один из мастеровых, – пойдемте провожу.
И опять галереи, пустые залы и лестницы, иногда деревянные, совсем ветхие, потом гулкие, пустые, изогнутые коридоры. Зачем-то поднялись на второй этаж, спустились вниз вышли на широкую площадку. Заскрипела окованная железом дверь, за ней открылась лестница, круто ведущая вниз.
Взору открылось помещение, которое только условно можно было назвать подвалом. Оно имело дневной свет и сводчатые потолки, пол устилали старинные плиты в крупную клетку. И на эти плиты в немыслимом беспорядке были свалены книги. Их было великое множество, здесь же лежали и старинные, намотанные на палки, свитки, окованные в металл библии, пыльные связки бумаг, роскошные фолианты в кожаных переплетах, многие из книг были опалены пожаром.
Около окна на стопке хозяйственных книг сидел Ксаверий и что-то читал. Кудрявые волосы его превратились в романтическую гриву, на нем был теплый партикулярный кафтан, вид он имел чистый и даже щеголеватый.
Родион не успел поздороваться. Лиза откинула назад макинтош, взметнулись, как утренняя пена морская, оборки розового платьица, и она бросилась вниз по лестнице, выкрикивая латинские слова, из которых он понял только «amore».
– Боже мой, Лизонька, как я рад вас видеть! – Ксаверий буквально поймал ее налету.
– Я спасла вас, спасла, – Лиза выскользнула из его объятий и закружилась вокруг улыбающегося шляхтича.
– О, меня не надо было спасать. Скоро придет бумага о моем освобождении. В Польше нашлись люди, которые взялись похлопотать о несчастном князе Гондлевском.
Лиза замерла на ходу, розовые оборки метнулись последний раз и опали безжизненно. Лицо девушки выражало вначале недоумение, потом огорчение и, наконец, обиду. Ксаверий явно перепугался:
– Что с вами?
– И вы спрашиваете, что со мной? Все это время я молила Господа о вашем спасении. Я уговорила отца помогать вам, я заставила благороднейшего человека, – слабый взмах руки в сторону хмуро наблюдавшего за этой сценой Родиона, – сопровождать меня. Мы скакали три дня, ночевали на ужасных постоялых дворах, а теперь вы хотите сказать, что это все зря?
– Но почему же зря? А счастье видеть вас? А возможность поблагодарить вас за участие, помощь и, наконец, за деньги, которые вы мне прислали. Я ваш должник навек!
– Зачем говорить о деньгах. Это такая малость. Папенька все измеряет деньгами, а я хотела выказать вам свою дружбу… и нежность.
Щеки молодого шляхтича слегка порозовели, он явно был смущен и не знал, как себя вести. Ища поддержки, он обратил взор на Люберова, но не прочитал в глазах его подсказки.
– Я думала, что вы в беде, спите на соломе, едите впроголодь. А вы, вы… сидите, почитываете книжечку, а главное – почти свободны.
Ксаверию оставалось только развести руками и умолкнуть со стыдом, но он нашелся: приблизился к Лизе, поднес к губам ее руку, а потом сказал проникновенно:
– Ах, Елизавета Карповна, как тронули вы меня своими словами. Плен и впрямь был поначалу ужасен. Это только теперь пришло послабление, и мне поручили разобрать брошенную, никому ненужную и очень ценную библиотеку. А первые месяцы плена мне страшно вспоминать. И голод был, и холод. А когда к кухне приспособили, полегче стало. Бывало, рубишь капусту или котлы моешь неподъемные, и вспоминаешь счастливое время, когда вы жили под кровом моего замка.
Лиза молчала, потупившись, а Родион, опасаясь, что она опять внесет сумятицу в диалог, с таким трудом выправленный, впервые подал голос.
– Надеюсь, вы узнали меня, сударь. Родион Люберов к вашим услугам. Я имею на руках бумагу, с помощью которой мы сегодня же можем забрать вас отсюда и отвезти в дом господина Сурмилова. Ваша задача состоит в том, что вы должны подтвердить начальнику гарнизона, что разбираетесь в виноградных лозах.
– Но я ничего в них не понимаю, – беспомощно сказал Ксаверий.
– Это не важно. Мне просто нужно ваше подтверждение, что вы мастеровой человек. Здесь знают, что вы князь?
– Разумеется.
– Князь тоже может разбираться в виноградной лозе. А если не в лозе, то в хороших винах, – вмешалась Лизонька.
Родион только поморщился и продолжал разговор серьезным и проникновенным тоном.
– Я вам очень советую ехать с нами, князь Гондлекский. Если моя бумага удовлетворит ваше начальство, то, попав в Петербург, вы уже через месяц сможете обрести свободу. Как с этим обстоят дела в Нарве, я не знаю. Но зато знаю, что в России дела делаются медленно.
Лиза смотрела на Ксаверия умоляющими глазами, полуоткрытые губы ее, казалось, шептали: «Ну, ну, соглашайся же…» Ксаверий подумал про сурмиловскую усадьбу, богатая наверное, про город Петербург, который и не чаял увидеть так скоро, про шумную толпу горожан где-нибудь в саду или на набережной, вдоль которой проплывают корабли из дальних стран, еще он представил себе золотистую корочку жареного гуся, которая чуть подсохла и не режется ножом… и согласился.
Привезенная Родионом бумага вполне удовлетворила начальника гарнизона, и через день Ксаверий уже сидел в карете, которая мчала его в Петербург.
20
Николь собиралась на верховую прогулку с князем Козловским, когда услышала, что кто-то бесцеремонно колотит в наружную дверь. Сама она никого не ждала, поэтому не обратила на грохот дверного молотка никакого внимания. Мысли ее были заняты другим – брать или не брать на свидание зонт. Она уже поняла, сколь неустойчива погода в Петербурге. Надо сказать, что зонты в описываемое нами время носили название солнечника и защищали прекрасных дев скорее от загара, чем от дождя. В плохую погоду приличные дамы просто сидели дома. Но она не могла принимать князя Матвея у себя в особняке, «работать» приходилось на свежем воздухе и не мешало себя как-то обезопасить. В крайнем случае, и солнечник может защитить прическу, если начнется дождь. С первого этажа раздавались мужские голоса, разговор был негромкий, мирный.
В тот момент, когда она твердо решила отказаться от зонта и ограничиться накидкой с капюшоном, раздался резкий выкрик Арчелли:
– Извольте говорить по-французски! Я не понимаю ни слова.
Батюшки, на кого же наш смиренный аббат повышает голос? Николь тихонько отворила дверь. Жилье у негоцианта было не анфиладное, старого покроя. Комната ее выходила в небольшой закуток, а оттуда прямо на деревянную лестницу в два изгиба.
Николь на цыпочках прошла один пролет, вытянула шею и увидела сверху двух мужчин. Первый, в форме кирасирского полка, держал в руках бумагу, и вид имел растерянный. Второй был в штатском, невзрачный, плешивый, эдакий огрызок. Ясно было, что в прихожей происходит что-то непонятное, драматическое, а может быть опасное.
Вдруг плешивый ловко вынул бумагу из рук офицера и через пень колоду стал переводить текст на французский язык. Первые же слова заставили Николь тихо присесть на ступеньку и затаиться. Арчелли вызывали на допрос в Тайную канцелярию. Он нужен был следствию по какому-то непонятному делу в качестве свидетеля.
– Это что, арест? – воскликнул Арчелли.
– Пока нет, – добродушно отозвался плешивый.
Дальнейшее произошло очень быстро. Арчелли разом решил покончить с неизвестностью, поэтому не стал задавать лишних вопросов, а сразу направился к двери. Николь рванула наверх, к счастью, она успела подбежать к окну. Русские называют этот вид транспорта колымагой: старинная повозка, отдаленно напоминающая карету, без подножки, с крохотными оконцами, тяжелая на ходу. Арчелли довольно неловко залез внутрь, офицер последовал за ним. Штатский плотно закрыл дверцу, влез на козлы и взмахнул кнутом. Что это за кучер такой, который изъясняется по-французски? Все, уехали…
В первую минуту Николь, что называется, себя не помнила. Из зеркала на нее таращилась испуганная особа с мятой прической, прижатыми к щекам ладошками и косящими глазами. Вихрь мыслей в голове, тысяча вопросов и не одного ответа. Что натворил этот несносный аббат, какое коленце выкинул, подставив под удар себя, Николь и все их дело?
Внутренняя установка была – не паниковать! Они иностранные подданные, а потому просто так не могут быть подвержены арестованию. Но с другой стороны, она отлично знала, как умеют в России расправляться с иностранцами. В Европе все решает суд, а здесь до суда еще дожить надо, если он вообще состоится.
Предположения одно другого причудливее являлись в голову. Арчелли стал чьим-то секундантом, а здесь дуэли запрещены. Абсурд… кто возьмет в секунданты аббата? Или… Этот негодник стал невольным свидетелем драки. Вздор! Из-за этого не потащат на допрос. Может быть, Арчелли не угодил какому-нибудь вельможе или подслушал чужой разговор? С него станется… Но кто самый главный вельможа в Петербурге? Или аббат не угодил чем-то самому Бирону? Намеками ей было дано понять, что встреча со всесильным фаворитом состоялась и имела положительный результат. Николь даже чуть-чуть позавидовала удачливости Арчелли.
Сама она, правда, тоже кое-чего добилась. Мадам Адеркас сдержала обещание и представила Николь императрице. Это произошло во дворце в итальянской зале. Китайские товары на импровизированной ярмарке шли очень ходко. Анна Иоанновна была благодушна и поощряла словами дам к покупкам. Сама она приобрела штуку бледно-сиреневого с изумрудной искрой шелку. Далеко не всем в этой зале такая красота была по карману, и многие барыни ограничивались покупкой штучной фарфоровой посуды, веерами и искусно вырезанными из слоновых клыков фигурками. Можно было предположить, что эти косоглазые уродцы имеют отношение к китайскому культу. Но зачем российским дамам были нужны эти статуэтки? Куда они их будут ставить в своих неказистых домах, где случайная голландская мебель соседствовала с бабушкиными сундуками, поставцами и резными лавками?
Но мода вносит великую смуту в женские сердца. Все берут, так отчего же мне не взять? Николь тоже купила статуэтку. Вольготно рассевшийся лысый, с непомерно большим голым животом мужичок щурился на нее лукавыми глазками. Государыня приветливо посмотрела на мужичка, похвалила покупку мадам де ла Мот, произнесла даже несколько ничего не значащих вежливых слов. Николь только начала произносить заранее заготовленную фразу: «Это огромное счастье, лицезреть великую…», как Ее Величество довольно бесцеремонно подхватил за руку их сиятельство Бирон. Он только скользнул взглядом по хорошенькой собеседнице со статуэткой в руке, но у Николь осталось ощущение физического прикосновения. Пронзительный взгляд был у фаворита, наверняка он ее запомнил.
А императрица не запомнила, мадам де ла Мот потерялась в череде лиц, растворилась в фарфоровых чашках, бусах и резных фигурках. Но Николь и не рассчитывала на многое в эту встречу. Для более тесного знакомства нужен небольшой круг людей. Вот когда она явится к Анне Иоанновне в свите принцессы Анны Леопольдовны, тогда она сумеет обратить на себя внимание царственной тетки и начнет самостоятельную игру.
Про верховую прогулку по набережной было забыто. Это пустое, об этом и думать не стоит. Завтра с утра она пошлет князю Козловскому объяснительную записку, а можно и не посылать. Главное, дождаться Арчелли.
Но аббат не вернулся. Ночь прошла беспокойно, Николь просыпалась от любого шума, а на утро послала письмо, но не к Козловскому, а к Нолькену. В письме она обрисовала положение и просила назначить время встречи.
Через час она получила ответ, в котором было обозначено не только время встречи, но и место. Шведский посланник не захотел принимать мадам де ла Мот в своем дому. Она должна была явиться в восемь часов вечера в лютеранский собор Св. Анны, постучаться условным стуком и назвать пастору свое имя.
Николь очень не понравилось это письмо. Считая себя католичкой, она никогда не была в названной церкви. Предложенная секретность ее огорчила, не хотелось лишний раз одалживаться у Нолькена. И еще ей стало страшно. Неужели посланник считает дело настолько серьезным, что боится обнародовать их встречу даже перед слугами или случайными прохожими? Еще оставалась малая надежда, что Арчелли вернется до вечера и сможет объяснить ситуацию. Если «вызов на допрос» кончится благополучно, она простит аббату его несносный характер и высокомерное поведение. Дальше они будут работать вместе.
Часы пробили половину восьмого. Аббат не появился. Она велела закладывать карету. На душе было тревожно. Горничная смотрела на барыню с испугом.
– Помоги мне одеться.
Стали перебирать платья. Николь выбрала самое скромное, незаметное, темно-серое из тарлатана с черной отделкой из кисеи. В нем она выглядела, как камеристка богатой барыни.
– Анюта, может быть, я сегодня не вернусь. Но я в любом случае пошлю записку. Если господин аббат будет дома – отдашь записку ему. Если нет, отдай записку нашему кучеру Игнацию. И помни, ему можно доверять. Если он тебя попросит о чем-то, – сделай.
– Господи, барыня, как же я без вас?
– Я тебя не оставлю. А пока на всякий случай упакуй дорожные сундуки.
Когда горничная ушла, Николь взяла шкатулку с драгоценными украшениями и ссыпала их вместе с деньгами, как горох, в ручную, вышитую бисером сумку.
Далее все пошло по предложенному посланником сценарию: собор Св. Анны, слабый огонек в окне, три удара дверным молотком, шепот пастора: «Пойдемте, сударыня», потом низкая боковая дверь с выходом в крохотный сад. На лавке подле разлапистой ели в обществе светляков, которое доверчиво сияли в траве, ее ждал Нолькен. Все это очень поэтично, черт побери, но глупо.
– Добрый вечер, моя красавица! Садитесь удобно. Это ничего, что я принимаю вас в саду? Вечер чудесный.
– Не нахожу.
– Велите отпустить карету.
– Все настолько серьезно?
Дальнейший разговор пошел в тревожно-минорном тоне. Нолькен уже узнал через своего агента, скромного писаря из Тайной канцелярии, что аббат Арчелли среди арестованных не числится, уже хорошо. Но тот же агент детьми клялся, что накануне никто никого на допрос не вызывал и бумаг о том не писал.
Отследить это было не трудно, Тайная канцелярия была опасным, но очень небольшим заведением. Не считая писцов и офицеров при поручениях, там работало всего тринадцать человек: секретарь – регистратор, протоколист, приказные служители, как-то канцеляристы, подканцеляристы, копиисты и прочая. Разумеется, в каждой тюрьме была своя служба.
– Плохо, все плохо, – подытожил посланник.
– Почему же плохо, если аббат не значится в Тайной канцелярии?
– Потому что он значится где-то в другом, не менее опасном месте. Вы не знаете Россию. Во всяком случае, в дом к негоцианту вам возвращаться нельзя. Сегодня вы переночуете в доме пастора, а завтра мой секретарь подыщет вам новое жилье.
– И что я буду делать в этом новом жилье? – с вызовом спросила Николь.
– Сидеть тихо, как мышь. А потом – посмотрим. Вас же не вызывали на допрос? – добавил он с кривой усмешкой. – Может, все и обойдется.
– Но я в четверг должна увидеться с генеральшей Адеркас.
– Ну что вы, как малое дитя? С этим надо повременить. Если беда вас минет и вы появитесь в свете, можете сказать, что были больны. Только не называйте заразительные болезни. Во дворце этого не любят. Скажите, что у вас болел зуб.
Николь сама понимала, что ее капризный тон неуместен. Уж очень разозлил ее Арчелли, и сорвать раздражение было не на ком. Если бы Нолькен был чуть участливее, она бы разговаривала с ним как подобает, но она видела, насколько неприятна посланнику эта ситуация. Его можно понять, политические отношения Швеции и России очень зыбки, каждый боится за собственную шкуру. Нолькен обещал ей помощь, но в словах его звучала явная неуверенность. Ему бы только спихнуть Николь с рук и забыть о тайной французской миссии в лице аббата и мадам де ля Мот. Николь поняла, что рассчитывать она может только на себя.
21
Утром, попив кофе с пасторской вдовой, Николь отправилась по адресу, который таила и от Арчелли, и от Нолькена. Адрес дал Шамбер на крайний, самый крайний случай. Почему он напустил такого тумана вокруг жилища старого шведа, она не знала. Известно было только, что когда-то француз оказал Карлусу важную услугу.
Впрочем, ее это никак не касалось. Николь знала только, что происшедшее с ней вполне подходит к определению «крайний случай».
После встречи в Кунсткамере она виделась с Шамбером только один раз. Вторая их встреча была назначена у маленькой деревянной церкви Успенья Богородицы, расположенной рядом с Никольской набережной. Добраться туда можно было только водой, и Николь всерьез обозлилась на Шамбера. Огюст явно назначал свидания в местах, удобных ему самому, хотя элементарные приличия предписывали вначале подумать о даме. И не надо забывать, что это он просил об одолжении, а не она его.
Шамбер явился вовремя. В церковь не пошли, остановились на маленьком, хилым забором обнесенном погосте. Более неудобное место трудно было себе представить. Николь слушала Шамбера, пожимала недоуменно плечами и думала с неприязнью: «Почему я безропотно отвечаю на вопросы Огюста? Или он имеет надо мной непонятную власть? И вопросы-то какие-то дурацкие. Мало ему князя Матвея, так он еще заинтересовался секретарем Нолькена. Она даже имени его толком не помнит. Дитмер, кажется, да, Дитмер. Зачем ему этот унылый молодой человек?»
На погост пожаловала старуха, за ней какие-то молодые люди, и Шамбер, схватив за руку Николь, потащил ее прочь. Они, как воры, юркнули в церковь. Там, возле русских икон, он и нашептал ей в ухо про шведа Карлуса, которому суждено было стать их связным.
Швед Карлус попал в плен в самом начале Северной вой ны. Судьба его была типичной для того времени. Строил город Петров, тогда еще жалкий поселок, бил сваи, мостил Главную першпективу, сажал вдоль нее молодые березы и как-то между делом женился на русской. Когда пришла пора возвращаться на родину, у него уже было несколько детей, дом и выгодная служба у богатого боярина Апраксина. Профессия садовника в те времена очень ценилась в России.
Теперь у него была большая семья, уютный флигелек в дачной усадьбе Апраксина-сына, огромный сад, в котором работали его дети, и надежный доход. Карлус сушил дикие травы, делал из них настойки и выгодно продавал. Лет десять спустя в Петербурге, а потом и за его пределами, стало безумно популярным лекарство под названием «Жизненный эликсир шведского столетнего старца». К эликсиру относились как к панацее от всех болезней: настойка из сабуры (вид алоэ), шафрана и горьких пряных кореньев. Автором эликсира был Карлус. Сейчас он только начал продавать первые образцы. «Столетнему старцу» в ту пору было пятьдесят шесть лет. Но это я так, к слову.
Встреча состоялась у круглой клумбы, от которой лучами расходились посыпанные песком дорожки. На клумбе росли великолепные белые пионы, обрамленные по бордюру анютиными глазками. Воздух был густой, настоенный на цветущих липах. Шмели и пчелы гудели в их молодых кронах. Рай, да и только.
Швед был ласков до угодливости. Николь сразу повела разговор по-шведски, Карлус насторожился, но как только она назвала фамилию Шамбера, всю его приветливость как корова языком слизнула.
– Поверьте, мне необходимо видеть господина Шамбера. Вы можете назвать мне его местожительство?
– Нет. Не могу.
– Почему?
– Запрещено.
– Тогда известите месье Шамбера, что мадам де ля Мот необходимо его видеть. Скажем, завтра. Встречу назначьте в вашем саду.
– Нет. У меня нельзя.
– Ладно. Экий вы несговорчивый. Тогда пусть Шамбер сам назначит мне место встречи в другом месте. Завтра утром я наведаюсь к вам.
– Нет. Сейчас в усадьбе барыня с детьми живет. Нехорошо, если вы будете ко мне часто ходить. Господин Шамбер этого не одобрит.
– Так что же делать?
– А это вам виднее.
Николь казалось, что мир сошел с ума. Вдруг взрослые, до этого вполне разумные люди сговорились играть в какую-то нелепую детскую игру. Она и раньше выполняла секретные поручения, поэтому всегда была осторожна, знала, что можно говорить и что нет, умела хранить тайны, и ей всегда все удавалось. А здесь она не может найти общего языка с простолюдином, более того, с соотечественником. Пришлось прибегнуть к угрозам, после этого швед стал покладистее.
Следующий день она опять провела в доме пастора. Известия от Нолькена были следующие: Арчелли не появился, квартиру для нее ищут. Кроме сообщения имелись и рекомендации: сидеть дома и не показывать носа на улице. Как бы не так!
Во второй половине дня появился сын Карлоса и нашептал на ухо место встречи с Шамбером: пристани у Кунсткамеры в семь вечера, лодка, выкрашенная в охряной цвет, лодочник в синем кафтане и войлочной шапке. В разговоры с лодочником не вступать, он сам знает, куда отвезти.
Опять Кунсткамера! Любит Шамбер науку, что и говорить. И заметьте, господа, идти ей туда пешком, у нее ни лошади, ни кареты. Черт бы подрал этого Огюста! Она ждет от него помощи, а он предлагает ей сносить сто железных башмаков.
Понятие извозчиков в те времена только начинало входить в употребление, зато снять лодку – было дело обычным. Николь перебралась через Неву на юрком ялике. Река была спокойной, никакого волнения, так только, мелкая рябь. На причале было полно лодок, катеров и узконосых рябиков. Искомая лодка цвета охры стояла у самых сходен. Гребец, толстый мужик в синем кафтане, не помог Николь спуститься в лодку, как сидел нахохлившимся истуканом, так и продолжал сидеть. На лавке для пассажиров лежала подушка. Мужик лениво оттолкнулся от деревянной сваи. Лодка, держась набережной, поплыла против течения.
Миновав унылую череду пакгаузов, лодка развернулась и поплыла через Малую Неву. Николь казалось, что мужик гребет как-то неловко, и была рада, когда они достигли противоположного берега. Он встретил их тишиной и шелестом прибрежных ив.
– Что у вас приключилось, рассказывайте.
У Николь были крепкие нервы, но тут она перекрестилась в испуге. Казалось, что голос шел из прибрежного ивняка. Неужели этот синий кафтан в дурацкой шапке с красной рожей – Шамбер? Его совершенно невозможно было узнать: борода, усы, выпирающий под кушаком живот.
– Вы меня испугали, Огюст. Зачем этот дурацкий маскарад?
– Никто не должен знать, что я в Петербурге. Это залог успеха.
Николь рассмеялась нервно.
– Тучность вам к лицу. Она делает вас добрее… и безобиднее.
– Говорите по делу. Зачем вы хотели меня видеть?
– Арчелли исчез. Видимо, его арестовали.
– Плохо. Расскажите все подробно.
Весла без всплеска опускались в воду, плакучие ивы и кусты лозняка остались позади. Появились лачуги рыбарей, сети сохли на деревянных распорках, пустынный, голый берег. Николь поставила в рассказе точку и спросила:
– Огюст, мы так и будем разговаривать в лодке? Или мы направляемся к вашему временному убежищу?
– Вы угадали. Только забудьте это место. Для вашей же пользы.
Временным убежищем оказалось небольшое мазанковое строение, обнесенное разномастным забором. Рядом с корявой, всеми ветрами битой сосной имелось подобие причала. Дом стоял на каменной гряде, и удивительно было, откуда здесь взялась земля для крохотного огорода. Вид у грядок был неухоженный, сплошные сорняки. У забора стоял буер на полозьях, очевидно, его использовали зимой. Рядом пристроился растопыркой якорь о четырех лапах. Через проушину была протянута тонкая цепь, на которой сидел черный пес с настороженными глазами. При виде Николь он не залаял, а только заворчал глухо.
– Это дом моряка?
– Сейчас это мой дом. Хозяин находится в отлучке.
– Как удалось вам сыскать эту… усадьбу?
– Я год жил в России, мне здесь много чего удалось.
Как не удивительно, внутри убогая мазанка выглядела вполне пригодной для жилья: сработанный на западный манер камин, поставец с посудой, рукомой в углу, на полу войлок. На грубо сколоченном, без скатерти столе стояли два прибора, в миске холодная говядина с зеленью, вино в оплетенной соломой бутыли и небольшой поднос, заставленный изящными флаконами с уксусом, сахарной пудрой и горчицей. Видно, хозяин дома ценил удобства.
– Ах, как славно. Я голодна.
Шамбер исчез за перегородкой и через пять минут явился без бороды и усов, в свеженьком напудренном парике, в лиловом камзоле и с тростью. Идя к столу, он чуть-чуть прихрамывал в угоду новому имиджу, который он примерил на себя после болезни и одобрил. Странно, когда он шел от лодки к дому, то отнюдь не хромал.
– Ну вот. Хорошее вино? Я рад, что мы, наконец, встретились в приватной обстановке.
А потом состоялся главный разговор, ради которого Шамбер решился рассекретить свое местожительство. Это был высший знак доверия. Уж если он решился посвятить Николь в свою тайну, то не стоило ему скрывать и всего остального.
В ту злополучную поездку покойный Сюрвиль взял его только в качестве попутчика. На него была возложена скромная роль охранника. Довезем груз до Варшавы, а дальше скачи в Россию по своим дипломатическим, шпионским делам. О том, что они везут, он узнал только в дороге. И тут случай! Нападение, все перебиты. О том, что сам палил и по своим, и по чужим, Шамбер уже забыл. Главное, он наконец обрел богатство!
Теперь надо было посвятить в тонкости этого события Николь. Шамбер врал всегда вдохновенно, и что поистине достойно восхищения, сам в это вранье тут же и верил. Ей все было изложено следующим образом. Он, Огюст Шамбер, вместе с Виктором Сюрвилем и мерзавцем Козловским везли деньги на подкуп русского двора. На них напали разбойники. Все погибли, тогда он был уверен, что и князь Козловский мертв. Шамбер спрятал деньги в могиле Виктора (да, да, моя дорогая, не надо больших глаз – что мне было делать?) и поскакал в Петербург в надежде, что со временем вернется за этими деньгами и отдаст их по назначению. В Петербурге он выяснил, что Россия не достойна доверия Франции, она повела себя как враг Лещинского. Вы понимаете, некому было давать взятки. Стало быть, деньги были уже никому не нужны.
– Но они были нужны вам, да, Огюст? – спросила умненькая Николь, в ее вопросе не было даже намека на насмешку.
– Не перебивайте меня! Эти деньги похитил Матвей Козловский. Надеюсь, вы уже поняли, что это за человек. Он негодяй и вор! Одно только прозвание – князь! Он сидел в тюрьме на цепи. Я это точно говорю. Из тюрьмы ему удалось бежать, и он украл наши деньги.
Николь не понравился этот разговор. Конечно, неприятно, что с могилой Виктора обошлись как с торговой лавкой, но в жизни все бывает. Шамбер кричит, что князь Матвей вор, но сам-то он кто в таком случае? Но надо смот реть на вещи трезво, реквизированные у врага деньги по законам войны тебе и принадлежат. Но был еще какой-то неприятный душок в рассказе Огюста, у Николь просто пока не было сил и охоты разбираться во всех этих тонкос тях.
– Где доказательства, что деньги взял князь Матвей?
– Есть масса доказательств. Например, я знаю, что он расплачивался за похороны Виктора золотыми из тех, что мы везли. По возвращении в Петербург он продал алмаз на сорок каратов.
– А если это наследство покойной маменьки?
– Да нет у него никакого наследства. В Париже он клянчил у Виктора деньги. Сюрвиль был ему должен, – Шамбер замялся, – долг чести.
– И Виктор ему не заплатил?!
– А откуда у Сюрвиля деньги. Он был мот. Он этого Козловского в карету взял в счет долга – довезти до Варшавы. И уж князь сорвал куш! А теперь он присматривает в Петербурге усадьбу!
В комнате было темно. Шамбер запалил свечи. Руки у него дрожали.
– И что вы хотите от меня? – бесцветным голосом спросила Николь.
– Только вы можете заставить его вернуть деньги. Не все. По правилам игры он имеет право на свою долю… Деньги поделим на три части.
– Кто третий?
– Вы, разумеется. Козловский купит себе усадьбу в Петербурге, а вы сможете без нужды прожить до старости.
– Только в том случае, если старость наступит через пять лет, – рассмеялась Николь. – А если он не отдаст?
– Тогда мы ему пригрозим, что знаем его тайну. И сообщим об этом Бирону.
– Бирону? – удивилась она. – Но, насколько мне известно, Арчелли должен был шантажировать фаворита именно этой суммой. В Париже уверены, что фаворит эти деньги получил.
Шамбер смутился на миг, но тут же овладел собой.
– Этого я не знаю. Это мне не интересно. Наш король Людовик богат. Он сорит деньгами направо и налево. У него своя игра, у нас – своя. Я понимаю, вы скажите, что у вас сложная ситуация, что после ареста Арчелли вы должны жить скрытно.
– Вот именно.
– И живите. Но одно другому не помеха. Вы не можете появляться при дворе, но кто вам запретит видеться с князем Козловским? Кстати, он светский человек и будет сообщать вам последние сплетни.
Шандал был красивый, с костяной ручкой и украшенным эмалью блюдцем-поддоном. Николь отколупывала стеариновые подтеки на свече, разминала их пальцами и молчала, а Шамбер продолжал ее уговаривать, находя все новые аргументы. Сквозняки вихрились и подвывали в каминной трубе, тени домовых, сбежавших с галер и парусников, корчили в темном углу страшные рожи.
– Ладно, я согласна.
В полном молчании и, можно сказать, в полной темноте, на луну в эту ночь была плохая надежда, Шамбер повез Николь на Адмиралтейскую сторону. На этот раз он отважился переплыть через Большую Неву. Они причалили у почтового двора. На прощанье Шамбер напомнил:
– Связь держим через Карлоса. Лучше все передавать ему на словах. Он не любит чужие письма. И первое, что мне нужно узнать, – местоположение усадьбы, которую продает Козловский.
22
Он изложил Николь только первую и второстепенную часть своего плана. Для него самого она отнюдь не была второстепенной, но в Париже о ней и не подозревали. Шамбера послали в Петербург совсем с другим заданием.
Тайный приказ из Парижа в Данциг привезли морем. В письме говорилось, что как только здоровье Шамбера войдет в норму, он должен будет тайно направиться в Россию. Здесь же были оговорены очень выгодные для Шамбера условия, да и деньги на экспедицию были отпущены щедрые.
Шамберу рекомендовалось для поддержания законного короля, то есть для снятия осады с Данцига, не больше и не меньше, как ввязать Россию в новую войну: можно со Швецией, лучше с Турцией. В шифрованной депеше давались кой-какие рекомендации, но, в общем-то, право выбора действия предоставлялось самому Шамберу.
В Петербурге наш вездесущий герой осмотрелся и выбрал Швецию. Он знал про дружбу Николь со шведским посланником и надеялся использовать ее в своих целях.
Лучший способ заставить воевать – обидное, оскорбительное для государства убийство. По логике вещей хорошо бы убить русского посланника в Швеции Михайлу Бестужева, но в этом смысле русские ненадежны. Они жизнью подданных не дорожат. Бучу, конечно, поднимут страшную, будут строчить дипломатические протесты, ноты слать, бить себя в грудь, бряцать оружием, а потом и утихнут. Русские воюют только тогда, когда им выгодно. Другое дело шведы. После Северной войны и Ништатского мира они почитают себя самой обиженной нацией в мире, им унижение спокойно спать не дает.
Отношения у России и Швеции действительно были сложными. Многих подробностей Шамбер просто не знал, но он их интуитивно чувствовал, однако я не могу рассчитывать на интуицию читателя и должна посвятить его в некоторые тонкости этого дела.
Союзный договор, заключенный между Петром I и Швецией, подходил к концу, и далее, для спокойных отношений двух государств, его надо было возобновлять. Но были в Стокгольме силы, которые не желали возобновления этого договора. Вот экстракт из отчета секретной шведской комиссии своему королю: «Россия похитила у нас все наши крепости и защиты, привела нас в нестерпимую зависимость от себя и в такое опасное положение, что и сама столица подвержена ее нападению и угрозам, поэтому справедливо принимать против нее всякие меры, ибо в ней мы имеем сильного и насилующего соседа…» Швеция боялась, что Россия может поступить с ней так же, как с Польшей.
Франция всеми силами добивалась, чтобы договор между Россией и Швецией не был подписан. Флери даже предлагал ежегодную субсидию в пятьсот тысяч, только бы шведы вняли советам Парижа. Тогда-то в Стокгольме и появились две партии: войны и мира.
Шведский король в политическом отношении – ноль. Он твердит, что для объявления войны надобно иметь важные и справедливые причины, а также добрую совесть, чтобы получить Божье благословение. Королева из-за своего решительного характера настроена более патриотично, но всю политику в Стокгольме осуществляет министр граф Горн. А Горн стоит за союз с Россией.
А кто против этого союза, кто за войну? Конечно, молодежь, гвардейские офицеры и дворянские сынки. Граф Горн не придавал важного значения молодежному движению. Он говорил: «Надо дать им вытрезвиться. Пусть лучше воюют за карточным столом». Но воинственных молодых людей поддерживают многие сенаторы, а более всего знатные дамы. Молодежь не хотела «вытрезвляться». Пили два тоста, которые провозглашали обычно дамы. Одна партия пила тост за войну, другая за мир, а дальше хмельные ссоры и дуэли. Патриоты дарили своим дамам ленты, сложенные в виде шляп, поэтому воинствующая партия получила название «партии шляп».
Противники назывались уничижительно «партией ночных колпаков», и, что удивительно, прозвище прижилось и стало официальным названием «партии колпаков». Патриотические игры верхушки достигли обывательских домов, солдат, а затем и черни. На всех уровнях пили, обсуждали, а потом дрались. Ушлые ремесленники освоили новый вид товара: активно стали продаваться табакерки в виде шляп, подушечки для иголок той же конфигурации, даже домашняя утварь незаметно приобретала намек на мужскую шляпу.
«Шляпы» говорили: Шведская корона до сих пор не успокоится, пока не будут освобождены отнятые у нас земли. Россия ослаблена войной с Польшей, у нее нелады с Персией. Сейчас самое время предъявить свои права. Да, для войны нужны большие субсидии, армия, но нас поддержат многие государства: Франция, Дания, Турция. Россия у всей Европы, как бельмо на глазу.
А мирные «колпаки» твердили свое: Россия знает свою пользу, она никогда не отдаст просто так Петербург и флот. Нужно помнить, страна велика, у нее хватит сил вести войну. И Пруссия ей будет помогать, а потом и Англия ввяжется.
При такой обостренной ситуации достаточно малой искры, чтобы все разом вспыхнуло. Шамбер решил, что убивать надо шведского посланника Нолькена. Хорошая, твердая кандидатура. Беда только в том, что в будущей трагедии по замыслу француза весьма серьезная роль отводилась князю Козловскому. Он должен был сыграть роль убийцы со всеми вытекающими отсюда последствиями: пытки, острог, каторга, а может быть, и лишение головы.
Но до тех пор, пока Шамбер не получил своих денег, он желал, чтобы голова Козловского была на месте. Николь отводилась роль подсадной утки. Шамбер и без нее узнал о князе массу подробностей. Он сам за ним следил, сгорая от ненависти и злобы. Право слово, если бы не высокая миссия, если бы Франция не доверила ему судьбу народов, он бы тут же, прямо в питейном заведении за карточным столом, прикончил бы этого молодца. А можно подкараулить его на улице. Князь часто без дела шляется пешком. И не надо всех этих экивоков, типа «защищайтесь, сударь!». Нож под ребро, и все дела.
Но тайну денег Козловский мог открыть только Николь, а для этого необходимо, чтобы он в нее влюбился без памяти. Мадам де Мот дамочка умная, она все понимает, но чтобы сделать любовника ручным, требуется время. Вот и болтался Шамбер без дела, подсматривая из-за плеча Николь за ворюгой-князем. Для успокоения совести он называл все это подготовительной работой.
Все, кажется, было на мази, но вдруг пал Данциг. Вначале Шамбер растерялся – что, конец всем надеждам? Но очень скоро он приободрился – экс-король Лещинский бежал, а его побег еще больше обострил ситуацию. Шифровка из Парижа, привезенная мелким чиновником из русской миссии в Копенгагене (впрочем, неважно, кем именно), подтвердила его домыслы. Игра продолжается!
К этому времени Шамбер уже несколько видоизменил свой план. Он не будет убивать Нолькена. Шведского посланника лучше иметь под рукой, чтобы было кому поднять дипломатический скандал. На роль козла отпущения великолепно подойдет его секретарь. Он вроде бы человек незаметный, но зато родственник графини Делагарди, весьма воинствующей дамы, одной из главных вдохновительниц партии шляп. И хорошо бы, чтобы в кармане убитого секретаря были обнаружены важные, компрометирующие его бумаги. Бумаги надо написать толково, это он умеет.
Убийство произойдет в новом доме Козловского, и сделать это надо до того, как он его купит. Пустующее помещение, вокруг сад и высокий забор. Николь назначит Козловскому свидание, он явиться туда в назначенный час, а там его уже будет ждать остывающий труп. О свидетелях надо позаботиться заранее. Вообще эту сцену надо продумать до мелочей. Николь обмолвилась, что Козловский вез какое-то тайное письмо в Петербург, значит, правильно он предположил, что князь русский агент. Жаль только, что он, Шамбер, не вытребовал себе этого письма. Хитрая де ла Мот (наверняка ведь ведет свою игру) уверяла, что уничтожила шпионское послание. Врет, конечно. Надо будет еще раз поговорить с ней на эту тему.
23
Луна, как известно, удаляется от Земли со скоростью три сантиметра в год. Следовательно, в 1734 году она была к нам на восемь метров ближе, а потому, очень может быть, выглядела и ярче и выразительнее.
Серебристый свет… Сообразить бы, сколько пудов драгоценного металла пошло бы на отлитие этого шарика. Можно ли представить себе что-нибудь более равнодушное к судьбе людей, а также более им не нужное, чем луна? Свет шлет слабый, по ее милости существуют приливы и отливы, в которых гибнет множество народу, на луну воют волки, и удивительно, она, сумеречная, умеет нагонять тоску.
Можно предположить, что Матвей, как и автор этих строк, заглянул однажды в слабенький телескоп и увидел на ночном светиле правильной формы отметину, круглую, как пуговка на фуражке, как хвостик на арбузе, от которого расходятся полосками меридианы. Помню, меня эта «пуговка» просто потрясла. Я тогда твердо для себя решила, что Луна сооружена не Божьим промыслом, а чьим-то рукотворством.
Но Матвей, сидя на подоконнике и глядя в небо, думал именно о Боге. Существует обывательское мнение, что если ты надолго задумался о Всевышнем, значит, боишься каких-то страшных событий и даже предчувствуешь смерть. Ничего подобного князь Козловский не испытывал, он думал именно о жизни, и не абы как – а о жизни в широком ее понимании, а заодно и о собственном бытовании, и находил, что Бог сделал его совершенно бессмысленным.
Кто таков он есть, князь Матвей? Уже поживший, двадцатисемилетний оболтус и офицер без определенных видов на будущее. Что он получал в жизни и что намерен получить в будущем?
Сознаемся, офицер он так себе: ни командного голоса, ни подабающей чину твердости. Приказы отдает, а сам в них отнюдь не уверен. Хотя у Ласси тоже негромкий голос, а воевать он умеет. Фельдмаршал Миних только распалять всех горазд, баталии выигрывает не умением, а количеством. Ему сколько солдат не дай, все равно мало. А решает, что к чему и затем победу одерживает, все равно Ласси.
Армия – еще экзерции на плацу, бесконечные рапорты, составлять которые Матвей тоже не мастак, и еще куча самых дурацких обязанностей. Под ядрами-то он не трусит, а вот фураж привезти, провиант достать для солдат, обуть всех, дабы уберечь от босоты, это он не любит и не умеет. Так что интендант из него тоже никакой, а без этого в армии нельзя.
Вот Данциг взяли… без него. Вначале Матвей на этой войне томился от безделья. И один только раз испытал светлый восторг, когда Шотландом овладели. Удивительное это чувство – победа! На извилинах спокойного существования такого восторга нигде не словишь.
Но зато после поражения он испытал другое, не менее сильное чувство. Горы трупов… это не просто вошедшие в обиход слова. Они лежали, как битая птица, как еще не разделанные скотские туши, какой-то страшный замес из живого творения Божия.
Ужас сменился скукой. Это была скука от бессмысленности бытия, когда ничего не хочется, ничего не в радость: и кофе горький, и водка пахнет тухлятиной, и закат над березами паскудный, кровавый, и былые мечтания воспринимаются как кошмарный сон, который хочется забыть поскорее. Тогда Матвей понял, что в бытии нашем все от Бога, и только скука от дьявола.
Далее он жил словно по инерции, куда подтолкнут, туда и покатишься. Из этого подлого состояния его вывела Николь – тогда еще девочка с пучком колокольчиков на узкой ладошке, а потом красавица невозможная – мадам де ла Мот.
А теперь он ее потерял. Матвей был совершенно уверен, что они больше не встретятся. После несостоявшегося свидания, прождав несколько дней, он поехал навестить шведского посланника. Мало того, что добрался до этого господина он только с третьего раза, так тот еще учинил форменный допрос: кто такой, зачем, почему, что вы, собственно, хотите от этой дамы? Да не ваше собачье дело, господин Нолькен! Мало того, что этот вальяжный представитель Швеции был с ним предельно холоден, так он еще сделал вид, что вообще не понимает, о чем речь. И только когда Матвей повысил голос и сказал, что он просто так из этого дома не уйдет, де, если хотите международного скандала, то вы его получите, только после этого со скрипом в голосе и испугом в глазах посланник смилостивился. Ладно, он откроет князю Козловскому страшную тайну, но после этого, чтоб ни одного вопроса, потому что он не волен… И в чем же тайна, господин сухарь? Оказывается, его племянница мадам де ла Мот уехала, навсегда оставив Россию.
Вот оно, счастье-то, уже, кажется, за хвост его держал, как комету, а она и вырвалась, улетела к звездам. А все было так недавно. Кажется, вчера только камзол лазоревый примерял, и душа его пела, потому что знал, чувствовал, мадам де ла Мот тоже не равнодушна к нему. Положим, это была не любовь, так только, любопытство, но чувствам свойственно развиваться. В глазах ее он все время видел вопрос. Со временем она бы непременно задала его и получила бы ответ, и много есть доказательств тому, что сердца их слились бы в блаженстве.
А теперь он пустой, как разорванный барабан. Вспомнились вдруг монсовы вирши: «Пробил стрелой сердца, лежу теперь без памяти…» Или лечу? Лечу вроде лучше, лечу в тартарары. Список стихов Вилли Монса ходил по рукам. Казненный Монс пользовался в армии особым почетом. Уже была придумана лютая легенда, мол, государь отчаянно ревновал царицу, а потому велел заспиртовать отрубленную голову и поместить ее в склянку. Эту голову Петр собственноручно принес в покои жены, поставил на подоконник, а потом наблюдал сладострастно, не изменится ли Екатерина в лице, не набежит ли на глаза невольная слеза и все такое прочее. Душа несчастной женщины в этот момент готова была расстаться с телом, но страх оказался сильнее, она совладала с собой и осталась спокойна.
В армии стихам Вилли Монса приписывали такую же чудодейственную силу, как обрывку веревки висельника или волосу с отрубленной головы. Большинство стихов Монс писал по-немецки, но это не мешало их популярности. Добрая половина офицеров были немцами, вообще этот язык был очень в ходу. Но были и русские стихи. Только для переноса их на бумагу Монс пользовался не кириллицей, а латинским шрифтом. Не силен был поэт в русской азбуке. Понятное дело, эти стихи пользовались особой популярностью. Их переписывали в тетради, оттуда переносили на глянцевую бумагу и посылали возлюбленным. С одной стороны, вопль сердца, а с другой – как бы кроссворд – красиво!
Вот образчик такого письма:
Probil streloyu isertza, lescu bes pamety, Ne mogu j atznutza, i otzi my plakati, Taska welikala… ну и так далееПереведем: «Пробил стрелой сердца, лежу без памяти, не могу я очнуться, и очи мои плачут, тоска великая…»
Трогательно, что и говорить. Вам не приходит на ум русская интернетовская почта в самом начале ее существования? Мы тоже выстукивали латинские буквы, это называлось «писать клером». Информацию этим способом можно было передать, и даже пожаловаться было можно, шутить с помощью клера – недопустимо, шутка выглядит как-то особенно глупо, но зато любовные послания только выигрывают. Написанное кириллицей сразу прочитал и запомнил, чуть ли не наизусть. А влюбленный вчитывается в каждое слово, шевелит губами, добираясь до смысла. Целый вечер можно просидеть над любовным письмом с восторгом в душе. Я разбирала стихи Монса как «емэйловское» послание, и удивительное дело, оно меня трогало, хотя все это и стихами назвать нельзя, так только, томление души и плоти.
Матвей, как вы понимаете, не получал писем по Интернету, поэтому все это можно было бы и не писать. Так что пусть читатель считает мои измышления лирическим отступлением. Поехали дальше.
Данциг пал, и шельма Лещинский сбежал. А это значит, что хоть и присягнули побежденные Августу, до настоящего мира еще далеко. Польша наводнена отрядами, подобно тем, которые задержал его по дороге домой. Эти головорезы будут продолжать грабить и жечь, выкрикивая старые лозунги про свободу. Порядок в один день не наведешь. Разгребать эти мусорные кучи будет Россия, она прямо грудью вперед рвалась, чтобы помочь саксонцу, черта он ей сдался. А это значит, что через три месяца, теперь уже через один с небольшим, он должен будет вернуться в свой полк, дабы усмирять бунтовщиков.
А ему это надо? Надоели все, хуже горькой редьки. Если повезет, его опять ранят. Тогда можно будет получить отставку по увечью. Плохо только, что достойным увечьем в армии считают оторванные руки-ноги, а это не приведи Господь. Но ведь можно взятку дать, деньги-то есть.
Уйдет он в отставку и уедет в деревню. Тихая усадебная жизнь, куры в цветнике, холодная простокваша по утрам, отчеты старосты, просьбы – не изволите ли подыскать деньжат на поновление износившегося храма, дети, Лизонька Сурмилова в легком платьице… Как раз там со скуки и одуреешь.
– Матвей, а Матвей! Что делаешь в темноте? Я думала ты спишь, а ты ходишь, половицами скрипишь. Спускайся вниз!
Надо же, докричалась тетенька, наверное, весь дом перебудила. Матвей оторвался от созерцания луны и пошел в гостиную. Варвара Петровна сидела за столом над разложенными перед ней планами.
– Бессонница у меня. Совсем старая, видно, стала, не могу при полной луне спать. Садись рядом. Обсудим.
После того как по наспех нацарапанному плану дома Варвара Петровна нашла клад, она прямо помешалась на чертежах, даже гадать остыла. Чтением она никогда особенно не увлекалась, но все-таки заглядывала в книгу, в Четьи минеи, например, в Жития святых или в газету какую. Теперь не читала, не до того было. Гостей, правда, принимала изредка, и сама в гости ездила, но делалось это словно по обязанности, а для лучшего время провождения, для души она рассматривала чертежи будущего дома, которые ей исправно носил чиновник из Канцелярии от строений, давний ее поклонник. Сама Варвара Пет ровна строиться не хотела, не по силам уже, да и денег жалко. Другое дело Матвей. Ему сам Бог велел жить в новом доме. Через ее руки прошли уже четыре земельных плана.
– Что-то есть охота. Может, нам от голода не спится? Кликнули девку. Со сна она долго не могла понять, что от нее требуют, но потом довольно быстро принесла с кухни остылые пирожки с грибами, лимбургский сыр куском, шмот вареного мяса и сбитень в медном сосуде. Несколько на особицу на подносе стояла оловянная стопа с анисовой водкой. С нее Матвей и начал. Тетка тоже закусила.
– Сейчас все обсудим. Этот план тебе подойдет. Настали новые времена, и жить надо сообразно новому, а не в той убогости, в которой я живу.
Матвей обвел глазами гостиную, словно желая увидеть ее по-новому. Хорошая, уютная горница: обои из синей камки, понизу травный рисунок с серебряным подмалевком, горка с посудой, которую стали называть «буфет», печь с зелеными изразцами, крепкие, голландской моды устойчивые стулья, обитые телячьей кожей. Что еще надо? Тетка не дала доесть, принялась объяснять:
– Сюда смотри. Дом, конечно, под снос. Фундамент каменный можно оставить, планировку комнат поменять, сделать по-новому, анфиладою. Церковь домовую пристроить обязательно. А печи сделаем на ножках, я видела, очень красиво.
План выглядел внушительно. Какой-то богатый купец продавал на Фонтанной речке землю с садом, конюшней, тремя сараями, амбаром, мыльней, баней и мельницей. Тетка была права, господский дом мало представлял интереса, поскольку был тесен, не комнаты – клетушки. Дотошный чертежник присовокупил к плану и рисунок дома. Хромина была построена из толстенных тесаных бревен, крыша смотрелась неказисто, хоть и имелся сообразно обычаю худой шпиц, украшенный флюгером в виде дракона.
– Дом сделаем каменный, о двух апартаментах, подъезд с широким крыльцом со столбами белого камня, и чтоб балкон.
– Тетенька, да у меня и денег таких нет.
– Добавлю, не перебивай. На первом этаже кухня, людская, кладовые. Зал тоже можно сделать на первом этаже, но чтоб изрядный и с хорами для музыкантов. Пол чтоб не кирпичный и не из досок, а из наборного паркета. У меня доски хоть и струганные, а коляска все равно спотыкается.
– Так вы в том доме тоже жить будете?
– Не перебивай! Я в гости ездить буду. Крышу сделаем с переломами, покроем черепицей.
А что? В отставке можно жить и в городе. Разумеется, он построит себе не такие хоромы, как тетка напридумывала, а удобное жилье, скромное, с мезонином. Главное, чтоб потолки были высокими. Матвей не переносил низкие потолки. И пусть в этом доме живет Лизонька, только не сейчас, немного опосля. Еще годик-то он имеет право погулять?
Матвей просидел с теткой над планами до трех утра, а на следующий день после обеда, как обещал, съездил на Фонтанную речку, посмотрел усадьбу. Она показалась ему огромной, безжизненной, бестолковой и до брезгливости чужой, словно ему предлагали переехать жить в папуасские вигвамы, или как это у них там называется. Зачем ему это добро, если неизвестно, когда он в нем поселится? Да и поселится ли вообще? «И очи мои плачут, и тоска великая…»
Но вечер будущего дня круто изменил его настроение. Пришел посыльный с письмом, и душа Матвея воспарила, а сам он, хоть и не понимал того, рухнул в бездну. Письмо прислала мадам де ла Мот. Она назначала ему свидание.
24
Голова Николь лежала на его плече, грудь Матвея еще вздымалась от волнения, сердце стучало, как метроном, не желая успокаиваться. Спасибо тебе, Господи! Без Твоей помощи я бы никогда не решился на такое. А помощь была в том, что Ты лишил меня разума. Разума не было, а инстинкты остались. Руки сами бросили плащ на чужие тюфяки, сваленные на лавку. Изголовье прикрыл кафтаном, вот тебе и брачное ложе! Кто спал на этих перинах? Чужие незнакомые люди… Эти пахнущие шалфеем, ромашкой и пылью матрасы многое видели и испытали, они привыкли к людскому бесстыдству. Но вряд ли им удалось подглядеть такое чистое и явное счастье.
А Николь гладила пальчиком влажную кожу на животе, волоски на груди, рубец от раны на плече и думала: ну, вот, теперь он мой, совсем мой. И что мне с ним делать?
Горяч был князь Матвей, горяч и нежен, никакая Венус не понадобилась. Они встретились у моста на Фонтанной речке и искренне обрадовались друг другу. Матвей посадил ее в лодку – будем кататься, любезная мадам де ла Мот, – а потом сам, без малейшего намека с ее стороны, предложил посмотреть свою новую усадьбу.
– Тетушка с ножом к горлу пристала – покупай! А мне нужен совет разумного человека. Покупка дорогая, да и не ко времени. Мне скоро опять в армию, а дом будет пустой стоять. Правда, я вообще хочу его снести и новый поставить.
– Я еще не видела вашей усадьбы, но готова дать совет – покупайте. Французы говорят – это хороший вклад денег.
Матвей хотел возразить, что содержание усадьбы, в которой будут жить одни сквозняки, вытянет у него все деньги до копейки, но ничего этого не сказал, а улыбнулся, бросил весла и сорвал яркую кувшинку. Стебель оторвался у самого дна, он был длинный, как бельевая веревка. На воде плавали круглые листья, он их тоже сорвал и бросил к ногам Николь. Влажные листья пахли малиной.
Николь выглядела замечательно. Платье рыжего шелку удивительно шло к ее волосам, а короткая накидка цвета болотной зелени оттеняли дивные глаза. Она оторвала стебель у кувшинки и сунула желтый цветок за лиф. Матвей вдруг так разволновался, что вынужден был отвести глаза.
А потом они гуляли по обширному саду – очень приличному. Приведи его в порядок, настрой беседок, и можно смело назвать этот кусок леса парком. Усадьба, казалось, оживала на глазах, даже мельница, никчемнейшее сооружение, его-то в первую очередь надо было срыть под корень, выглядела пригожей и романтичной. И дом был не столь неказист, как показалось давеча. Выходящие во двор окна его были украшены резными наличниками, и это придавало строению невинный деревенский вид.
Мадам де ла Мот осматривала все с искренним любопытством. Все сараи и баню обошла вокруг, даже в колодец заглянула. Шпиц на доме ее позабавил. Конец шпица был украшен не драконом, который изобразил художник на плане, а вырезанным из жести ангелом. Худенькая нога ангела изящно попирала медное яблоко. Эту идею мастер явно позаимствовал у строителей адмиралтейства, с той лишь разницей, что там на яблоке стоял корабль, да и сам шпиц был в тыщу раз больше. Николь рассматривала его, задрав голову.
– Зимой ангел замерзнет.
– Вы правы. Я его одену, тулупчик ему сошью, – слово «тулупчик» он произнес по-русски, но она не переспросила.
– Здесь строят смешные дома, – продолжала Николь. – Удивительно, как вы умеете перемешивать свое, русское, и чужое, из других стран пришедшее. У нас шпицы делают совсем не так.
– Во Франции все куда как роскошнее.
– Я не про Париж, я про Стокгольм говорю. Это муж мой был французом, а я шведка.
Матвей посмотрел на нее с восторгом, словно последнее сообщение добавило новые краски к несравненной красоте мадам де ла Мот.
А потом они вошли в дом. С того времени, как сторож открыл им тяжелую, с кованными набойками дверь, прошла вечность.
– Мне холодно, – сказала Николь, как замерзший ангел на шпице.
Душа Матвея тут же откликнулась восторгом. Значит, она не собирается немедленно одеться и убежать по своим неясным делам. Она согласна побыть еще в его (конечно, уже его!) доме. Рыжее платье на полу, вбирая лучи заходящего солнца, образовало яркий пылающий круг. Пусть лежит, пока в нем нет надобности.
Они, смеясь, сбросили плащ на пол и залегли между перин – душно, пыльно и прекрасно. В этом мягком гнезде они надежно спрятались от мира, а потому принадлежат только друг другу и никому более.
– Ну, рассказывай, рассказывай дальше. Я хочу знать о тебе все!
– Стокгольм… русские зовут его Стекольным городом. Родители умерли, а я была очень небогата. Родственники выдали меня замуж за старика. Он не был плохим человеком. Только, знаешь, некрасив и очень жаден. Говорят, что это свойственно преклонным летам. Словом, я не очень переживала из-за его смерти. Правда, выяснилось, что богатство, которым он так кичился, всего лишь миф. Хорошо хоть, что не было долгов и дом выкуплен из залога.
– Моя бедная девочка…
Поцелуи, объятья ласковые имена, нежные всхлипы…
– А дальше…
– Мне было трудно. С делами по наследству очень помог кузен мужа де Сюрвиль. Без него я бы совершенно запуталась.
– Кто помог? – Матвей откинул с плеч край перины.
– Виктор де Сюрвиль. Он тоже умер, бедный молодой человек. Погиб при невыясненных обстоятельствах.
– Почему же – невыясненных? Очень даже выясненных.
Матвей поднял с пола рубаху и начал неловко напяливать ее на себя. Он и сам не понимал, что случилось, но твердо знал – вселенная, где обитало счастье и сияли райские краски, схлопнулась. Во всяком случае, на сегодня. Ах, Виктор! Зачем ты появился в моей комнате в столь неподходящее время. Неужели несчастная душа твоя никак не хочет успокоиться и все время мешается в мою жизнь? И поделом тебе, Козловский, не надо было вскрывать его могилу!
– Куда ты? – тихонько позвала Николь. – Я тебя чем-то огорчила?
– Огорчила? Не-ет, нет…
Господи, конечно огорчила. Матвей не любил совпадений. Конечно, как всякий здравомыслящий человек, он понимал, что в жизни бывают любые случайности. Иногда все сходится в одной точке – и во времени, и в пространстве. Но смерть Виктора в жизни Матвея сыграла роковую роль. Уж два года прошло с той окаянной ночи, а он все еще продолжает расхлебывать связанные с ней неприятности. Это была его точка боли. Казалось, что вокруг этих событий кто-то очертил огненный круг и он никак через него не перепрыгнет. А теперь, оказывается, и Николь затесалась в эти дьявольские тенета.
Беда в том, что он не дает себе труда додумывать все до конца. И слепому видно, что за мадам де ла Мот тянется шлейф тайн. Ему бы задуматься, зачем Прекрасная дама его разыскала, для чего выказывала ласковость и произносила слова благодарности? А тут и Амур со стрелами подоспел. И ему, крылатому и беспечному, прежде чем по кофейному дому порхать, тоже следовало поинтересоваться, почему Николь должна играть чужую роль на польской границе. И куда делся ее досточтимый батюшка? Нет, не батюшка. Аббат. Она назвала его аббатом. Положим, в Россию ехал католический священник, чтобы совершать свои требы. Но для этого не нужно рядиться в партикулярное платье. И потом, в Петербурге вообще нет католического собора.
– Мне известны обстоятельства смерти Виктора де Сюрвиля, – сказал Матвей с большим запозданием. – Он был моим другом.
– Вы знали Виктора? Боже мой…
– Я и не подозревал, что у него в родственниках ходит некто де ла Мот.
– Он дальний родственник со стороны матери.
Матвей опять умолк. Николь лежала, подложив руку под голову. Косящий взгляд ее был устремлен мимо Матвея, выражение лица было напряженным и, как ему показалось, испуганным.
Но она не была испугана, а просто соображала, какую линию поведения выбрать дальше: «Сегодня рано спрашивать про деньги. Я только бросила пробный камешек, а круги по воде пошли до самого горизонта. Чего-то мальчик мой боится, но чего?»
– Иди ко мне…
Матвей снял рубаху и нырнул под перину. Николь сразу обхватила его шею нежной, чуть влажной рукой.
– Расскажи, как погиб Виктор.
25
Самое большое потрясение Сурмилов испытывал из-за того, что этот мальчишка, недавний пленный, да к тому же поляк, иными словами представитель поверженной нации, держится с ним на равных. Нет, он выказывает уважение должное возрасту хозяина дома, но не более! Этот Ксаверий должен в ногах валяться, взор держать долу и благодарить поминутно, а он ведет себя со своим благодетелем как желанный гость, а Лизонька, кровинка Сурмиловская, его в этом поддерживает.
А ты помнишь ли, добрый молодец, на каких условиях тебя из плена привезли? Твое место в оранжерее, а если мы тебя туда не сослали и за стол с собой посадили, так это от широкости русской натуры. Так цени отношение! Имей уважение к великой державе, то бишь к России. А он эдак ловко и небрежно берет салфетку, очень раскованно, словно никому не обязан своим освобождением, лакает дорогое вино, трещит как сверчок по-французски, а то вдруг латынью начнет дворню пугать, а во взоре ни намека на подобострастность. У нас дома, милый, так себя не ведут.
Лизонька зовет Ксаверия князем. Ах ты, фу-ты, ну-ты, лапти гнуты! Видел Карп Ильич их, заложенные перезаложенные земли, слуги драные, хозяева голодные. Одно название – замок, а на деле – развалины за высокой стеной. Теперь ты обретаешься в нормальном жилище, так восхитись домом-то, признай свою малость, ты небось такой роскоши и не видел никогда! А ты библиотеку мою хаешь, а своей хвастаешься, мол, книги у тебя в замке еще пращуры собирали. А то вдруг про французских писак заведет разговор. Зачем мне знать про твоего Монтеня, если у меня голова совсем другими заботами забита.
Но приходилось терпеть. Лизонька была веселой и оживленной, никаких пожаров во сне. Развлекает ее этот пленный пан – и хорошо. Дочь тоже можно понять, она испытывает к Гондлевским чувство благодарности, они в опасную минуту дали ей кров. Но это же естественно. Кров этот Сурмилов оплатил сполна. Но сейчас совсем другие погоды на дворе. Мы победители, вы побежденные, так ведите себя подобающе.
А Ксаверию и в голову не приходило, что он ведет себя вызывающе. Он был очень благодарен и господину Сурмилову и дочери его за то, что тягостный плен кончился. Но надо признать, что последний месяц в Нарве ему жилось совсем не плохо. В плену Ксаверий понял, что место его рядом с книгами, и интересно, и поучительно. Жаль, что на этом карьеру не сделаешь, но, видно, уж такая у него судьба.
У Ксаверия был легкий характер, он легко сходился с людьми и умудрялся при любых обстоятельствах чувствовать себя не скажешь – счастливым, счастье есть краткий миг, но благополучным… и уж, конечно, не несчастным.
А сейчас судьба подарила ему Петербург. Замечательно! Он был молод и полон сил, он верил, что рано или поздно вернется на родину, Лизонька уже казалась ему лучшей из девиц, и уже новые, неведомые доселе нежные мелодии звучали в его сердце.
Как только Ксаверия привезли в Сурмиловский дом, Лизонька окружила его такой заботой, что и не передохнуть. В трех водах мыли, кормили на убой, призвали портного, который в рекордно короткий срок сочинил великолепный жюсокор – синий, атласный, с серебряными пуговками и богатой вышивкой по обшлагам и манжетам.
Не только Лизонька, но и сам хозяин дома первое время был очень ласков, переслал письма Ксаверия родителям и начал хлопоты о его возвращении на родину. А потом вдруг взгляд изподлобья, речь через губу. Ну что ж, видно, и у таких могучих натур бывают неприятности. Россия для того и создана Господом, чтобы нервы людям мотать. То, что он сам является их источником, Ксаверию и в голову не приходило.
Сурмилов наставлял Павлу: смотри в три глаза, старая, на шаг Лизоньку от себя не отпускай, далеко ли до греха. Павла и смотрела, беда только, что бедную женщину замучили болезни. Сейчас говорят: артрит, полиартроз, остеохондроз и прочее, а раньше все называли подагрой, что есть костолом в ступнях и суставах. Иногда так одолеет боль, шагу ступить нельзя. Где же ей угнаться за молодыми, которые скачут, как белки, то они в апартаментах, то в парке, а то вдруг карету закажут и уедут кататься по городу.
А Лиза была счастлива. Ей рядом с Ксаверием всегда легко дышалось. Правда, в замке их отношения были отягощены роковой любовью к князю Матвею. Ксаверий на родине тоже имел свой предмет для воздыханий. А тут вдруг цепи и разрубились.
Но это все потом. Первое время при общении с Ксаверием Лиза была к себе очень строга. Она уже привыкла носить одежды несчастной, несправедливо отвергнутой Юлии, и согласитесь, есть в этом некоторое благородство. Ромео оказался никчемным человеком, он поступил с ней гадко, а она, дева чистая, по-прежнему верна высоким чувствам.
Но как только Ксаверий облачился в новый синий кафтан и новым своим обличием как бы перечеркнул месяцы разлуки, войны и плена, словом, и внешне стал тем же милым другом, каким был в Польше, Лизонька не утерпела и рассказала ему о предательстве Матвея.
Ксаверий правильно выбрал линию утешения. Он не стал говорить, де, может быть, все это ошибка, мол, подождите, дайте время, смотришь, жених опять будет у ваших ног. Ксаверий возмутился со страстностью, коей Лиза от него и не ожидала. Он стал поносить Матвея самыми страшными словами. Как смел этот недоумок оставить прекраснейшую из дев? Да он мизинца вашего не стоит, милейшая Лизавета Карповна. Нужно не иметь глаз, чтобы не видеть очевидного! Видно, у князя Козловского дырка в груди, через которую душа его при жизни улетела, оставив бренное тело на растерзание бесам. Он негодяй, проныра и пустой человек!
Вначале Лиза слабо возражала, а потом и согласилась. Нельзя сказать, чтобы пан Ксаверий напрямую предлагал себя вместо Козловского, но он тонко и деликатно дал понять, что жизни не пожалеет для того, чтобы прекрасные глаза Лизоньки опять были веселы. Рыцарь, одно слово, рыцарь. А еще умен и образован! С Матвеем прочитанный роман не обсудишь, он просто поднимет на смех, а Ксаверий человек литературный, его сказки можно часами слушать. Изучение латыни явно пошло ему на пользу.
Ксаверий не обсуждал с Лизонькой достоинства Монтеня и Рабле. Он хотел говорить о любви просто и возвышенно. В его распоряжении был прекрасный Буало, но Ксаверий предпочел великие трагедии Греции: вот где истинные страсти, предательства и подвиги!
Рассказы юноши падали на благодатную почву. Лиза умела слушать. На прогулке в Летнем саду Ксаверий поведал о судьбе каждого из мраморных героев с такими подробностями, словно лично был знаком и с Меркурием, и с Немезидой, и с Александром Македонским. Больше всего Лизоньку заинтересовала дочь Никты Немезида, богиня мщения.
– Дочь Никты. Это значит дочь ночи? – спрашивала Лиза.
– Именно.
– Красиво.
Любимые беседы с Ксаверием и происходили под присмотром этой самой Никты. Рассказ о Большой Медведице еще жив был в памяти Лизы. Бросив полуживую Павлу где-нибудь на лавочке, они убегали в глубь парка и на берегу пруда смотрели на звездное небо. От воды тянуло прохладой, но Ксаверий никогда не забывал захватить с собой теплую шаль или плед. Иногда Лиза набрасывала конец пледа на плечи Ксаверия. И не надо упрекать ее в отсутствии природной стыдливости. Если что, она и папеньке скажет, что в этот момент ею движет только сочувствие к недавним страданиям Ксаверия. Не будем забывать, господа, здоровье юноши ослаблено недавним пленом. Так они и стояли в темноте, прижавшись друг к другу. Ксаверий шептал в душистые, щекочущие нос волосы:
– Это Плеяды, видите, Лизавета Карповна? Шесть звезд ярких, а одна совсем бледная.
– А всего их семь?
– Семь, по числу дочерей титана Атланта. Их преследовал охотник Орион.
– А зачем они ему понадобились?
– Да мало ли… Чтобы спастись от Ориона, Плеяды превратились в белых голубей, и Зевс вознес их на небо.
– А почему шесть звезд ярких, а одна бледная?
– От стыда. Все сестры вышли замуж за богов, а одна – за смертного. И теперь ей стыдно.
– Чего же здесь стыдиться? Видно, любила сильно. Я тоже хочу выйти замуж по любви за смертного, хотя папенька мне ищет жениха среди богов. А зачем мне они нужны? А созвездие Ориона тоже есть?
– Да, но его хорошо видно только зимой.
– Надеюсь, что мы увидим его вместе.
– И я надеюсь. – Ксаверий не удержался, склонился в поклоне и стал целовать ее пальчики.
В одну из вечерних прогулок ветер с залива, а может с гнилых болот, был особенно ощутим, Павла простыла и слегла в постель. Позвали лекаря, он припал к обширной груди Павлы, сказал, что внутри все хрипит и свистит. Уже жар начался, поэтому отворили кровь. Павла стонала и твердила свое, мол, ей только одно лекарство поможет, надо ехать к шведу. Беда только, что он абы кому своих драгоценных настоек не продает.
Лиза сама вызвалась ехать за чудодейственным лекарством. Ксаверий, естественно, поехал ее сопровождать.
– Главное, назовите фамилию. Скажите только – Сурмилов, и Карлос все сделает. Фамилия Сурмилов – это как бы пароль. Швед чужим настойки вообще не продает. То ли по боязни, то ли по злобе.
Швед Карлос встретил Лизоньку доброжелательно. Выдал для Павлы две пузатые склянки – из одной суставы мазать, из другой – настойку пить, к ним присовокупил пузырек темного стекла с «горлемскими каплями», добытыми со дна Горлемского озера, бог весть, где оно находится. Деньги принимал с поклоном, пересчитывал внимательно. Может, показалось ему, что продешевил, или врачебная добросовестность взяла верх, но в последнюю минуту он увидел на розовом личике Лизы крохотный прыщик и тут же всучил ей отвар травы иссоп, за что получил еще денежку. А вокруг благоухали левкои, лилии и резеда.
Ксаверий и Лиза были уже в карете, когда увидели подъехавшую верхом на лошади молодую даму. Дамские седла тогда в России были мало распространены, в них не было надобности. Женщина верхом! Это не только неприлично, но и в голову никому не приходило. При батюшке Петре I и не такое приходило в голову, езди верхом на чем угодно, хоть на метле. И все-таки дамы предпочитали колымаги, кибитки и кареты.
Теперь все пошло вспять. Бирон приучил государыню к лошади, и Анна Иоанновна, несмотря на тучность, разъезжала верхом на могучих, широкогрудых жеребцах. И все-таки появление среди белого дня дамы верхом на лошади было редкостью. И мало того, что она была без спутников и в седле сидела уверенно, как в кресле, так еще без всякой посторонней помощи спрыгнула на землю и ловко привязала лошадь к коновязи.
– Она! – воскликнула Лизонька.
– Она! – эхом отозвался Ксаверий. – Неутешная вдова! – и оба посмотрели друг на друга в изумлении, и так же хором спросили друг друга: – Кто – она?
Разлучница, вот кто! Новая Матвеева пассия – развратная рыжая девка! Но, оказывается, и Ксаверию она была знакома. Что он там лепечет, какое еще кладбище? Ах, она приезжала откапывать труп? Самое для нее занятие, для дьяволицы! Она рыла могилу, а Ксаверий был рядом и, как видно, на всю жизнь запомнил эту даму.
Первое чувство, которое Лизонька испытала после его сбивчивого рассказа, была уже не ненависть к незнакомке, а ревность. Уже столько месяцев прошло после кладбищенской встречи, столько свершилось бед и лишений, а Ксаверий все хранит в памяти минутную осеннюю встречу. И помнит о ней ярко, иначе он не вскрикнул бы с таким придыханием и удивлением: «Она!» Лиза смертельно обиделась на судьбу. Мало того, что эта рыжая амазонка отняла у нее жениха, так она, оказывается, имеет еще загадочную власть над Ксаверием!
Удивительно. Но Ксаверий сразу все понял, и понял правильно. Все-таки чутким юношей был этот розовощекий поляк.
– Нет, Лизонька, нет! Эта дама запомнилась мне совсем не так, как вы думаете! Я думаю, она авантюристка, и просто назвалась родственницей покойного француза. А может быть, и нет, не мне об этом судить. Но жизнь и смерть Виктора де Сюрвиля очень тесно переплелась с жизнью моей семьи. Я вам никогда не рассказывал об этом. В ту страшную ночь, когда был убит этот француз, погиб мой старший брат Онуфрий. Это было страшным ударом для отца и матери. Замок тогда погрузился во мрак. И еще добавлю, в этих убийствах были замешаны очень большие деньги, и они пропали.
– При чем здесь деньги? Какое мне дело до этих денег?
– Да не вырывайтесь вы, Лизонька. Вы мечта моя! Я еще никогда не был так счастлив, как под кровлей вашего дома. И все потому, что вижу вас поминутно. Вы моя звезда, самоотверженная и самая прекрасная из Плеяд!
Лиза яростно отбивалась от нежных рук Ксаверия, карета тряслась мелкой дрожью.
– Ах, Лиза, примите в дар мою любовь. Я знаю, между нами преграда, но мечта всей моей жизни сделать вас своей супругой и рука об руку пройти через тернии этой жизни. И какое мне дело до этой рыжей особы? Ну, посмотрите же на меня…
Кучер Игнат не обращал внимания на крики молодой хозяйки, невозмутимо смотрел на лошадей и думал, что серый в яблоках жеребец потерял резвость, а барышня, наоборот, в силу вошла, такая стала вздорная и обидчивая, что не приведи Господь. Замуж ей пора, а жеребца пора отставить от барской конюшни и сослать в деревню. Пусть плуг тягает. Одно название – «яблоки», а на деле грязные пятна. Хотя если его отмыть хорошенько, то яблоки, может, и посветлеют. А вот и приутихла молодая госпожа, договорились, видно.
– Трогай, Игнат, трогай!
А что далее? Если бы мы снимали эту сцену в кино, то обозначили бы ее как «поцелуй в диафрагму». Так называют заключительный аккорд, когда все хорошо, герои доплыли до своего берега и счастливого конца. Наши герои еще не доплыли, им еще предстоит поработать руками, ногами и головой, но поцелуй этот был так безмятежен и сладок, словно их ждало впереди только счастье.
Они продолжали целоваться по дороге домой, переводили дух, шептали нежные слова, и опять приникали друг к другу. Они всех простили, всех любили. Лизонька дошла в своем восторге до того, что предложила Ксаверию написать письмо князю Козловскому. Если амазонка есть авантюристка, так надобно предупредить Матвея, чтоб был осторожен. Мало ли что она там задумала, а Матвей так доверчив, так непосредственен. Раз уж мы так счастливы, то не оставим его наедине с этой опасной особой.
Не будем скрывать, у Лизы мелькнула мысль, что этим письмом она накажет и Матвея, и свою соперницу, но обидная мыслишка тут же бежала, поджав хвост. У Лизы теперь нет и не может быть соперниц. Удивительно только, что судьба при первой встрече с Ксаверием не подсказала, что он ее избранный. Милый мой, нежный, ласковый друг. Мой аморэ, мой морэ и рэ.
Идею написать письмо Козловскому Ксаверий принял с восторгом. Вот только – где и когда?
– Не надо откладывать. Мы напишем сегодня же ночью.
– Да, да.
– В моей спальне нельзя. Там Павла. Правда, сейчас она так спит, словно ей мака в питье подсыпали. И храпит… Нет, в спальне нельзя. Ты приходи в библиотеку. Там есть и стол, и письменные принадлежности.
Комнату эту Ксаверий хорошо знал. Карп Ильич был не чужд культуре и хотел в своем дому все устроить, как во Франции. Беда только, что такого количества книг, чтоб заполнить все полки до потолка, во всей России не наберется. Но кой-что прикупил, и из Парижа целый воз литературы привезли. Сам читать не будет, так внуки освоят заморские мысли.
– Когда мне прийти?
– Как часы в синей гостиной пробьют два часа, так и приходи. Только разуйся, в носках иди, а то у слуг сон чуткий. Еще поднимут шум.
Все случилось так, как наметила Лиза. И письмо было написано. Хорошее, убедительное письмо, в котором она «прощала князю все». Лиза отпускала Матвея на все четыре стороны, только убедительно просила вернуть ей три медальона, которые собственноручно повесила ему на шею, а также рекомендовала «быть счастливым, если сможешь». Ксаверий со своей стороны подробно описал скорбный обряд на кладбище, коему был свидетелем.
Как только письмо было запечатано, поцелуи возобновились с новой силой. На свою беду Сурмилов распорядился поставить в библиотеке чрезвычайно удобное и доб ротное, обитое розовым атласом канапе, выполненное на манер турецкого дивана. Павла сама вышила подушки и разместила их на канапе в живописном беспорядке. Это канапе сыграло существенную роль в судьбе наших героев.
Их разбудил петух, предвестник солнца. Лизонька благополучно добралась до своей спальни, а Ксаверий так и остался видеть сны в библиотеке. И ничего не подсказало ему предстоящие житейские бури. Но будем надеяться, что все кончится хорошо. Тем более что поцелуй в диафрагму уже состоялся.
26
Письмо, которое агент Петров послал в Петербург с государственной почтой, с огромными трудностями добралось, наконец, до адресата. Бирон прочитал его, тут же вызвал к себе Люберова и приказал сыскать поручика князя Козловского.
– И не надо врать, что его нет в Петербурге! А на будущее помни, что я не потерплю своеволия.
Родион не ждал ничего хорошего от предстоящей Козловскому аудиенции. Буря, прошумевшая над головой по воле аббата Арчелли, отшумела, аббат исчез с горизонта, и Бирон больше о нем не вспоминал, но интуиция подсказывала Родиону, что интерес фаворита к Матвею вызван именно этим скандалом.
Родион явился в дом бригадирши и был принят с распростертыми объятиями. Вопросам не было конца. Варвара Петровна вела себя так, словно желанный гость пришел только к ней, а Матвей, который все тянет Родиона в свою комнату, только досадная помеха.
– Ты, Роденька, на него повлияй. Совсем от рук отбился. Уходит из дома с ранья, а приходит в глухую ночь. Где-то весь день пропадает, а потом спит до обеда. Задумчив, сердится без причины, чем прогневляет Бога. Живет праздно и о будущем не заботится. Может, его вообще испортили? Мне рассказывали, что баба в столице объявилась, которая портит людей шептанием, дутьем и пусканием изо рта огня и дыма.
– Может быть, она просто трубку курит? – предположил Родион, а Матвей обидно засмеялся. Варвара Петровна не выдержала и рассмеялась вместе с ними.
Как только молодые люди остались наедине, Родион дал другу полный инструктаж. Матвея очень заинтересовал аббат Арчелли.
– Как он выглядит?
– Смуглый, худой, мрачный, угодливый.
– А он не делает вот так? – Матвей схватил себя за подбородок и постучал указательным пальцем по губам.
– Не обратил внимания, может быть, и делает. Одно точно, Бирон после его ухода разозлился, как цепной пес, и спрашивал меня про деньги. Понимаешь?
Что ж тут не понять? Видно, эта история с французскими деньгами вечная. Не исключено, что и на том свете, ведь предстанет когда-то Матвей пред ангелами, они спросят его с пристрастием: «А зачем ты в чужой могиле рылся? Куда деньги подевал?»
На следующий день Родион отвел друга во дворец. Бирон был настроен благодушно, поэтому первый вопрос был задан спокойным, без надрыва голосом. Однако разговор начался с предмета крайне нежелательного.
– Почему вы не доставили секретный рескрипт по назначению?
Подобного вопроса наш герой никак не ожидал, поэтому переспросил с искренним удивлением:
– Какой рескрипт?
– А вы хитрец, князь. Какой… Тот самый, которое передал вам мой агент в Данциге.
Матвей смутился. Ему казалось, что встреча с агентом Петровым вообще произошла в другой жизни. Все было так давно, что потеряло смысл.
– Что вы молчите? Почем вы оставили свой полк во время военной кампании? И как вы оказались в Петербурге?
– Я был ранен, ваше сиятельство. Ранен и контужен. Но не только этим я могу объяснить мою забывчивость. Тайное послание, о котором вы изволите говорить, было похищено.
– Вот как? Кем?
– На границе Польши я был захвачен в плен конфедератами. Мне удалось бежать, – Матвей подробно описал подробности побега, не упомянув, разумеется, ни Николь, ни ее мнимого папеньку. – Письмо было зашито в камзол. Я думаю, что его похитили поляки-конфедераты.
– Но вы в этом не уверены?
Матвей промолчал. А что он мог сказать? Да, не уверен, потому что «папенька» очень похож на аббата Арчелли. И вовсе не исключено, что ловкие пальчики Николь распороли подкладку на его камзоле. Матвею показалось, что спина его покрылась гусиной кожей. Вены, мускулы, сухожилия, печень и почки – все напряглось.
– Что было в том рескрипте писано, знаешь?
– Никак нет, ваше сиятельство.
В голосе Бирона уже звучал металл, податливость Матвея его раздражала. Дальше он уже обращался к нему на «ты». А что церемониться с этим прохвостом?
– Вез тайное послание и не знал его содержания?
– Это чужая тайна, ваше сиятельство. Мне было поручено доставить письмо в Варшаву, что я и сделал, да не нашел там кому передать. Взялся сам везти, да вот не довез.
– А ведь это подсудное дело, поручик. Депеша не доставленная в военное время по назначению… Знаешь, чем это грозит?
– Я готов принять любую кару.
– Почему сразу не пришел ко мне с повинной? Что в этом – беспечность или злой умысел?
– Ах, ваше сиятельство, голова у меня от контузии пошла кругом. У меня ведь были и другие поручения, и я их выполнил. Я вез депешу от генерала Любераса к графу Левенвольде.
– В чем смысл депеши Любераса? Ее ты тоже не читал?
– Тоже не читал, – эхом отозвался Матвей, – но подозреваю, что генерал Люберас высказывал некоторое беспокойство…
– Продолжай, продолжай. Он фельдмаршалом не был доволен, так?
– Это мне не дано знать. Но мне известно, что фельдмаршал Миних послал в Варшаву приказ об арестовании Любераса.
– Понятно. А Люберас обвинял Миниха в том, что, воюя, тот чаще заботился о собственных интересах, чем о нуждах государства Российского.
– Так точно, ваше сиятельство.
– Что значит – так точно?
– Я принимаю ваши слова на веру.
А этот молодой человек вовсе не так прост, как выглядит, подумал Бирон.
– А в армии, что по этому поводу говорят?
– В армии ничего не говорят, в армии воюют, ваше сиятельство.
– А ты не дерзи, не дерзи! – крикнул вдруг Бирон, распаляясь, но тут же остыл. – Помнишь поручение мое, с коим в Польшу ездил? Ты кому-нибудь о деньгах говорил?
– Никак нет. Никому и никогда, ваше сиятельство.
– А тебя о них кто-нибудь не спрашивал?
– Не спрашивал, – твердо ответил Матвей и подумал с испугом: «А ведь спросят, как пить дать спросят. Только кто?»
– Ладно, поручик, догуливай свой отпуск. Твое счастье, что вверенный тебе рескрипт не нес важной информации. А то гнить бы тебе в каземате. Но помни, князь, за тобой должок. Придет время, и я о нем напомню.
Бирон обошелся с Матвеем милостиво из-за сообщения о генерале Люберасе. Об этой тяжбе с Минихом и о прочих военных склоках никто не поставил Бирона в известность. Теперь на руках у него еще один козырь. Маленький козырек, но и он сгодиться в борьбе с этим всеми обласканным героем. В том, что борьба будет серьезная, фаворит не сомневался.
А Матвей шел по дворцовым коридорам, молился мысленно и думал – пронесло. «Понять бы только, про какой должок толковал Бирон? И почему-то я всегда ему должен, а он мне никогда. А может быть, у этого расфранченного баловня судьбы совсем нет верных людей, и он каждого ловит на крючок, запугивая и стращая неведомыми карами?»
На всех изгибах коридора стоял караул, семенили куда-то ливрейные слуги с подносами, шурша юбками, пробегали фрейлины, успевая стрельнуть в сторону Матвея любопытным взглядом. Тесно живут во дворце, от интриг, подсиживания и доносительства небось спасу нет. Даже воздух здесь кажется густым и затхлым.
Зато на улице было свежо. Набережная встретила ветром, пропитанным влажной пылью. Небо было свинцовым, без единого проблеска. Нева жила обычной трудовой жизнью, вверх по течению тянулась барка с сеном, вниз шли струга с непилеными бревнами, хлопали на ветру паруса, грохотала цепь спускаемого в воду якоря. Гребцы резво колотили веслами в воде, перевозя в своих утлых челнах обывателей с одного берега на другой.
Матвей вскочил в седло и неторопливо поехал в сторону усадьбы. Купчая уже была составлена, часть денег отдана, поэтому он с полным правом мог называть усадьбу своей. Он даже название ей придумал – «Клены», поскольку очень хороши там были клены у каретного сарая и у мельницы. Да и у лодочного сарая рос пригожий кленок, молоденький еще, но аккуратный. Если очередное наводнение не подмоет ему корни, то вырастит со временем в могучее дерево.
Думай, Матвей, думай и сопоставляй. Что-то слишком много новостей ты получаешь за последние дни. И новости одна другой увесистее, словно камнепад в горах. Может, и впрямь его сглазили, нашептали, надули в уши ядовитого дыма?
Письмо от Лизоньки он получил за день до визита к Бирону. Взял его в руки с опаской, словно горячую бумагу. Сейчас начнутся упреки, и главная обида в том, что справедливые. Сколько можно его, словно слепого кутенка, носом в лужу тыкать? Но против ожидания, письмо было спокойным, почти радостным. Он прощен, слава тебе господи, прощен и забыт.
Одной заботой меньше, но в конце послания пришлось проглотить горькую пилюлю. Какой-то неведомый шляхтич подробно и со скрытым злорадством рассказывал «о той даме, с которой вы знакомство водите». Оказывается, Лизонька своими глазами видела его встречу с Николь в кофейном дому. Ах, если бы он знал это раньше, не чувствовал себя таким дураком. Однако этот шляхтич слишком много на себя берет. Видите ли, «названная дама» хоть и предъявила нужные для вскрытия могилы документы, вела себя странно, назвалась вдовой Виктора Сюрвиля, а потом выяснилось, что она вовсе не вдова, а дальняя родственница.
Тебе то, Ксаверий, какое до этого дело? Ты сам-то кто таков? А-а-а… Это же князь Гондлевский, как он о нем забыл? Родной братец атамана, который напал на их карету.
Вчера он страшно разозлился на «доброжелательного» Ксаверия, который всеми способами пытался очернить Николь, по самому тону письма это было видно, а сейчас вдруг вредная приписка пана Гондлевского высветлилась совсем в другом свете. Значит, не все ложь, если Николь действительно родственница покойного Сюрвиля. Вопрос только, кто дальше спросит Матвея про могильные деньги – сама Николь или аббат, ее мнимый батюшка.
Поспешая в «Клены», Матвей надеялся получить из рук сторожа записку от Николь. Однажды уже старик исполнял роль Гермеса, посыльного богов, и справился со своей ролью отлично: влюбленные обменялись письмами. На этот раз никаких записок не было.
Матвей не стал задерживаться в своих владениях. На прощанье сторож сказал ему озабоченно:
– Шлялся здесь вчера какой-то мужик, в ворота не входил, но все высматривал. Я говорю: «Дядя, тебе чего?», а он не ответил и поспешил прочь. Вы, барин, никого сюда не посылали?
– Да мало ли шляется тут разбойников? Место тихое, вот и выискивают, чем поживиться.
– Да не похож мужик на разбойника-то. Борода, как лопата, а рука, что палку держит, белая, к работе не привычная. Глаз-то у меня острый.
– Вот тебе деньги. Купи собаку. Не помешает.
Вечером Матвей достал из сундука три цепочки, на одной висела ладанка, на другой заговоренный оберег в виде камушка с глазом, на третьем медальон с Лизонькиным локоном. Все три цепочки пошли в кисет, который был послан слугой в дом богатея Сурмилова, его знали все на Васильевском острове.
А сторож в усадьбе «Клены» пересчитал вечером деньги, выданные барином, но собаку покупать не стал, пожадничал, за что ему со временем пришлось заплатить подороже – собственной жизнью.
Часть третья
1
Миних вернулся в Петербург в середине июля и сразу был принят во дворце. Конечно, фельдмаршал ожидал совсем другой встречи, и дело здесь не в пышности и не в количестве заздравных тостов. Просто он не почувствовал должного уважения к задаче, которую решил с таким блеском. Война – это хорошая мужская работа в хорошей мужской компании, там жизнь определяют твердый расчет и порыв. Удивительно, как эти два понятия могут уживаться рядом, но война состоит из противоречий. Но одно точно и непреложно. Обдумывая план очередной баталии, ты без зазрения совести можешь сбросить семейные вериги, не думать о детях, о деньгах, которых всегда не хватает, не размышлять с мучительной обидой, что государыня не была достаточно ласкова, а паршивец Бирон слишком лицемерно улыбался, затевая очередную каверзу, словом. Ты счастлив.
Война просветляет человека. Когда ты занят государственным делом, а плата за успех – смерть многих людей, а может быть и твоя собственная, ведь существуют на свете лихие пули, привычная суета мирного быта видится пустой и никчемной. На войне мозги не праздны, а пребывают в постоянном напряжении, чувство ответственности не дает расслабиться ни на минуту, спишь всего по пять-шесть часов в сутки, и этого достаточно для восстановления сил. И как-то само собой появляется ощущение понимания главного, словно ты вдруг разгадал смысл бытия и теперь уже никогда не будешь бессмысленно коптить небо, но каждый твое деяние будет кирпичом в угодной Богу храмине.
Именно в таком состоянии Миних летел на встречу с государыней, а она, похоже, не только не оценила его порыв и преданность, но и остудила. Вопросы, касаемые самой осады, были заданы как-то безучастно. Это и понятно, все доклады Миниха были очень подробны. Но истинный интерес проглянул во фразе, которую Миних раньше с государыней не обсуждал.
– Где обретается беглый король Станислав Лещинский?
– Этого я не знаю. Пока.
– А понимаешь ли ты, Христофор Антонович, что бегство короля обесценило наши победы? Что стоит ему теперь собрать новую армию и начать чинить козни против Польши и нас?
– Уверяю вас, Ваше Величество, это невозможно. Дух Станислава сломлен. Я уверен, что у него теперь одно желание – спасти свою жизнь и избежать плена, на большее он не претендует.
– Основываясь на чем, ты утверждаешь подобное?
Миних смешался, право, он не заслужил ни такого тона, ни такого допроса.
– Прежде всего, я основываюсь на здравом смысле. В Данциге я снимал допросы и знаю, что король бежал в крестьянском платье без денег и ясного плана действий. Французская армия ему не помогала.
– А кто помогал? – Анна Иоанновна так и подалась вперед.
– Вот этого выяснить не удалось. Побег короля был обставлен таинственно. Задумал все это французский посланник де Монти. Посланник сейчас находится в Петербурге. Велите его допросить.
Маркизу де Монти уже задавали каверзные вопросы. Он и не отпирался, да, он помогал королю. Вначале посланник жил под домашним арестом в частном доме, но потом решено было ужесточить режим, и сейчас маркиз находился в Копорье под крепкой охраной.
Далее разговор пошел о французской эскадре, который уже давно переплыл через Зунд и находился, по всей видимости, в Гамбурге. Миних отрапортовал с полным знанием дела.
– А может, король Станислав и отплыл на одном из этих кораблей? – с напором поинтересовалась императрица.
– Этого быть никак не может. Первые из французских кораблей вошли в устье Вислы четвертого апреля, но мы принудили их выйти в открытое море. Второй раз они появились только тринадцатого мая. На одиннадцати французских фрегатах было привезено французское войско. Оно высадилось на берег и вступило в бой с нашей армией. Я докладывал вам, что в этой битве русские солдаты и офицеры выказывали великий кураж, охоту к бою и радость по случаю победы. А в начале июня прибыл наш флот и встал на Дангигском рейде. После этого французские корабли, бросив своих солдат без защиты, удалились и больше не возвращались. Король Станислав бежал за два дня падения города, то есть двадцать шестого июня.
Миних докладывал лихо, слова так и отскакивали от губ. Выглядел фельдмаршал как обычно моложе своих лет, одет с иголки, при этом фасонил и не скрывал этого.
Красив, мерзавец, что и говорить. Бирон стоял за креслом государыни и весь извелся, ожидая от нее главного вопроса: «Сколько ты, шельма, получил ефимков золотом за побег Станислава?» Но Анна зачем-то тянула время, а при этом улыбалась благосклонно, а Миних, чувствуя эту благосклонность, еще шире распустил павлиний хвост.
– Славная была баталия! Достойно внимания Вашего Величества, что Данциг сдался прежде, чем прибыла из Петербурга осадная артиллерия. Город Вейксельмюнде, предместье Ора и множество редутов мы взяли с тремя восемнадцатифунтовыми пушками и пятью пятипудовыми мортирами, из которых одну разорвало. На двадцать моих пушечных ударов Данциг отвечал двумястами. Неприятель имел тридцать тысяч войска, а у меня было только двадцать тысяч. И заметьте, линия осады простиралась на девять немецких миль.
И как было не похвалить такого молодца? И Анна сказала: «Спасибо, граф», и сказала это без всякой натуги, даже ласково. Бирон был в бешенстве.
В тот же вечер он не удержался, спросил у императрицы:
– Анна, почему вы ни словом не обмолвились о мерзком приключении Миниха, о пренебрежении им чести офицерской? Я имею в виду подкуп.
– У меня нет доказательств. Да теперь это уже и не важно. Сейчас главное узнать, где Лещинский скрывается и действительно ли он выбит из колеи и не на что больше не претендует.
Да плевал Бирон на Лещинского. Фаворит хотел одного, чтобы этот пятидесятилетний щеголь, который играючи околдовал императрицу, поплатился за свои «подвиги». Да кто так воюет? Солдат положил несчетное количество. Все говорят, что осаду он вел бездарно, грубо, восстановил против себя подчиненных, поссорился с генералом Люберасом (Бирон, конечно, доложил об этом государыне), к тому же упустил короля, и опять ходит в героях. Ужо он найдет на него управу, только надо понять, как это сделать.
Меж тем во дворце в честь фельдмаршала закатили шикарный бал. Вино лилось рекой, тосты один другого вычурнее провозглашали до небес фельдмаршала и непобедимую русскую армию. Артиллеристы постарались и устроили такой фейерверк, что обыватели целую неделю потом судачили на эту тему.
Миних был на подъеме. Есть такое слово – «работоголик», оно имеет прямое отношение к фельдмаршалу. Сил много, хочется работать, творить, преобразовывать, он так и рвался вперед теперь уже на мирной ниве. Но оказалось, что он никому не нужен. Кабинет, в коем он главенствовал над военной коллегией, собирался не чаще чем раз в месяц, а в летнюю пору и того реже.
Миних надеялся получить если не повышение в чине, дальше вроде и повышаться некуда, то присоединить к прежним чинам новые. Но императрица вдруг забыла о своем фельдмаршале. Двор словно в разнос пошел. Что не день, то бал. И все так нарядно, весело. Дамы выглядели пленительно, музыка звучала великолепно, кругом оживление, смех, веселость, а Минихом никто не интересуется, не ловит его взгляд, не вздыхает украдкой. Даже в карты его не приглашают играть. Что же остается делать? Фельд маршал сидит в уголочке, смотрит на всех без улыбки, эдаким индюком, и каждым жестом своим дает понять, что он есть великий полководец, а вы все партикулярные кролики.
Но ведь он прав, тысячу раз прав! Раньше он умел и любил быть любезным, а тут все как-то разом надоело. Сплетни казались пресными. Он находил смешным ту непомерную взволнованность, которую выказывали кавалерские дамы при обсуждении распри князя Щербатова с женой. Или, скажем, государыня заинтересовалась, как ведет себя в Москве супруга царского шута Апраксина? Муж-то при дворе на должности, а супруга, говорят, о муже забыла, предается неумеренному питию и блуду с князем Долгоруковым.
Никто не предлагал Миниху новых должностей, русский двор оказался глух к его удаче. Это что же получается? Из всех наград, полученных им в кровопролитной битве, у него только и есть подарок от короля Августа Саксонского – шпага и трость, усыпанные драгоценными камнями?
А подите вы все! Настроение у фельдмаршала было принеприятнейшее. Столица казалась скучной, пыльной, балы бесцветными, а пикники на свежем воздухе убогими.
Миних решил удалиться в свою загородную усадьбу Гостилицы. Все разъехались по дачам. И почему бы ему тоже не вкусить заслуженный отдых. Преданная супруга Варвара-Елеонора, по домашнему прозвищу Еленька, чувствовала угнетенное состояние мужа, но лишних вопросов не задавала, вела себя нарочито бодро и что-то все время лепетала про «живительный воздух, успокаивающие взор дальние виды и свежее козье молоко», словом, всякие глупости.
Усадьба Гостилицы считается одной из жемчужин окрестностей Петербурга, и громкую славу ей дали поздние ее хозяева Разумовские и Потемкины. Но первоначально усадьбой с обширными угодьями владел фельдмаршал. Имение это пожаловал Миниху Петр I.
Надо сказать, что, толкуя про «дальние живописные виды», Еленька не ошибалась. Господский дом стоял на холме, полого сбегавшему к речке Гостилке, полной тихих заводей, окуней и раков. Дом хоть и был деревянным, но построен был в голландском вкусе и выглядел очень внушительным.
Парк был огромен. По распоряжению Миниха, а он понимал в водных сооружениях, был построен каскад из трех прудов. Пруды соединялись протоками, через которые веленьем архитекторов перекинулись каменные горбатые мостики. Глаз радовали разбросанные в живописных местах беседки, павильоны и грот из валунов, воздвигнутый над бьющим из земли ключом. Добавим к общей картине знатную церковь святого Владимира, водяную мельницу, оформленную так красиво и романтически, как только немцы оформлять умеют. Красильная мануфактура на задах парка изяществом не отличалась, но приносила верный доход.
Миних сразу нашел здесь применение своим силам. Были призваны рабочие для завершения каскада. Сам рельеф местности говорил, что надобно вырыть еще один пруд – четвертый. Красиво же, черт побери! Далее надо было проверить, правильно ли идет разведение форели в прудах, ему казалось, что рыбы стало не в пример меньше. А также пора, наконец, поменять в двух гостиных обои и обить их голубым и лиловым штофом, пусть Еленька порадуется.
2
Мы забыли сказать, что вместе с Минихом в Петербург прибыл агент Петров. Вначале он предстал перед начальством, которое тут же обругало его за недочеты в работе. Ругань была беспредметной. Никто в канцелярии толком не знал сущности его работы, поэтому и огрехи в ней представляли весьма туманно. А через три дня по прибытии, трясясь как осиновый лист, Петров предстал перед грозными очами их сиятельства.
Бирон с неодобрением окинул взглядом щуплую фигурку. Кафтанишко отутюжен, но жалкий какой-то, парик новый, но словно плохо промыт и явно великоват, но лицо агента имело правильное выражение, внимательное, подобострастное, и глаза горят, как неостывшие уголья.
– Ты Петров?
– Так точно, ваша светлость.
– Имеешь еще подтверждения относительно некоторых дел фельдмаршала Миниха.
– Никак нет, ваша светлость.
– Говори открыто, не бойся.
– Да в Данциге я ведь подслушал частный разговор. Если б беседовали высокие чины, то за ними можно было бы предположить высокие знания, а если обыватель берется обсуждать подобные темы, то можно ожидать, что это не более чем предположение.
– То есть сплетня.
– Если б я еще задержался в Данциге, то, может, и получил бы подтверждение, – он повторил слово в слово Бирона, – относительно некоторых дел фельдмаршала Миниха. Но мне велено было следовать за их сиятельством фельдмаршалом неотлучно.
– Кем приказано?
– Вами, ваша светлость.
– И как объект вел себя в Петербурге? Не было ли случайных, непонятных встреч?
– Никак нет, ваша светлость. Объект изволили вести себя соответственно их положению и чину.
Бирон и сам успел разувериться в версии со взяткой. Достаточно было взглянуть ему на Миниха – гордого, опьяненного успехом, эдакий Александр Македонский, прищемивший хвост Дарию. Миних, конечно, пузырь надутый, но не глупец. При эдаком фанфаронстве он не будет разжижать успех подачками Парижа. Французы ведь жадные, они много не дадут. Но Бирон начал интригу, и он доведет ее до конца. Да и теперь уже и не важно, что там было на самом деле.
Обер-камергер глянул на агента, тот истово пялился прямо в его переносицу. Бирон невольно почесал меж бровей. Что с ним делать: наказать, наградить, повысить в чине или выгнать с бранью? Таким людям всегда острастка нужна, они после острастки работают лучше. Бирон спросил первое, что пришло в голову:
– Где Шамбер? – вопрос прозвучал грозно.
Вот он и смутил спокойствие агента. Тот даже как-то подпрыгнул на месте и слегка подался вперед.
– Виноват, ваше сиятельство. Грешен раб ваш. Я упустил Шамбера в Данциге. Он почувствовал слежку и… и… – Петров покраснел от натуги, подыскивая точное слово.
– Ну что – и?..
– И Шамбер подстрелил меня, как куропатку. Я чуть богу душу не отдал. Простите меня, ваше сиятельство. Виноват. В Данциге Шамбер имел высокие знакомства, общался с высоким кругом лиц, а именно: с примасом королевским Потоцким, с князьями Черторижскими, с воеводой мазовецким графом Понятовским, а более всего с французским посланником маркизом Монти. Также встречался он с некоей молодой особой весьма миловидной внешности.
– Что за особа?
– Имени ее выяснить не удалось. Я предполагаю амур, поскольку сия особа навещала Шамбера еще в Варшаве, когда он там под арестом сидел.
– Куда же стража смотрела?
– Я предполагаю подкуп. Шустрая дама, наверное француженка. Потом она появилась в осажденном Данциге, но скоро исчезла из поля зрения. Я на всякий случай составил ее словесный портрет и послал в депеше, которую вез князь Козловский.
Бирона уже заинтересовал рассказ Петрова, и не только заинтересовал, но и позабавил. Подумайте, как романтично! Какая-то дама крутит роман с Шамбером, и страсть ее не знает преград. Даме удалось пробраться в осажденный город, а потом неведомым способом оттуда выбраться. Или она тоже переодевалась в крестьянское платье, как беглый король Лещинский? И повинуясь не логике, а ироничному и отчасти сентиментальному настроению, словно сама жизнь разыгрывала перед ним буффонадное представление, он сказал доброжелательно, почти с улыбкой:
– Вздуть бы не мешало этого князя Козловского. Он твою депешу вез, да не довез. Говорит, похитили по дороге. Ты здесь по сторонам-то посмотри. Что, если француз в Петербурге? – последнее замечание прозвучало шуткой. – Впрочем, он никому уже не нужен. Отдыхай пока, можешь числить себя в отпуске. Надо будет, позову.
Вот так они расстались. И никаких четких указаний. Так что же Петрову делать: отдыхать или Шамбера искать? Но лучше не рассуждать и не думать, сказано – исполняй! И приказы, и советы он понимал буквально. Но в мозгу гнездилось сомнение. Что Шамберу делать в Петербурге? Война кончилась, все его соратники обретаются в плену в России. Зачем же ему по доброй воле ехать за ними и подставлять себя под удар? Но их сиятельству виднее. Наверное, Шамбер этот сильно наследил во время пребывания в Петербурге, у них свои счеты.
Только где его искать, Шамбера-то? Надо пройти по адресам, найти старых знакомцев француза. Их не много, но со всеми надо встретиться, потолковать о том о сем, а потом все разговоры отжать до нитки, как мокрое полотенце.
Воздадим должное предприимчивости и настырности агента Петрова. Вся операция заняла у него три дня.
Дом немца Циммермана, в проулке у Троицкого собора, он хорошо знал. Год назад здесь квартировал Шамбер, занимая весь второй этаж, отсюда он ночью тайно и уехал.
Визит Петрову поначалу показался неудачным. Хозяин дома и супруга его отсутствовали. Ввиду летнего времени они уехали за город, сняв дачу. В доме жили только сторож и маленькая хорошенькая служанка, которую Петров запомнил еще по прошлым временам. Служанка была весела, говорлива. Видно, она наскучила уже своим одиночеством и воспринимала неожиданного гостя как развлечение.
– Сударь, а зачем вам господа, по каким делам? – спросила она кокетливо.
– Я из Адмиралтейского ведомства. Мне известно, что господин Циммерман в отпуску, но надежду имел, что он уже вернулся из оного. Может быть, вы мне сможете помочь и ответить на мои вопросы?
Петров разговаривал со служанкой уважительно. Той понравилось обращение на «вы», она расправила складки холщового фартука, сложила губки бантиком.
– Отчего же не ответить?
– У вас год или около того снимал квартиру некий француз, Огюст Шамбер.
– Было такое. Только мне не велено об этом говорить.
– А вы и не говорите. Я понимаю, что он как съехал, так больше и не появлялся.
Служанка молча скосила глаза, внимательно рассматривая кота на лавке. Тот лежал, обернувшись пушистым хвостом, не поймешь, то ли дремлет, то ли затаился и высматривает мышей.
– А что? Разве появлялся? Ну что вы молчите? Ваше молчание наводит на нехорошие размышления.
На миг хорошенькой служанке показалось, что человечек из Адмиралтейства похож на хозяйского кота, глаза полузакрыты, а то вдруг и блеснут любопытством. Но она уже не могла остановиться, ее так и распирало от желания высказаться.
– Да ладно. Подумаешь, тайна! Просто хозяин не любил, когда я языком болтаю. Говорит, уволю. А я не хочу терять это место. Правда ваша. Как уехал француз, так и не появлялся. А хозяйка добрая. Подарки мне дарит. На Трои цу свое платье подарила. Не новое, конечно. Огромное платье, я вам скажу, таких, как я, в нем трое уместится, но зато кружева и пуговицы не спороты, а по подолу золотая тесьма. Я платье перешила, теперь в самый раз. Не стыдно на люди показаться. А брат ихний подарил мне сережки синенькие, говорит, из самой Голландии привез. Врет небось. Хотя, может, и правду говорит, он капитан, под парусами ходит. Такой озорник! Чуть что обхватит меня вот здесь и ну целовать. Я, конечно, не даюсь, я девушка строгая…
Опасения Циммерманов теперь были понятны агенту. Это девица кого хочешь заговорит. Но Петров не затыкал чистый поток, вдруг среди словесных струй мелькнет золотая рыбка. Пока не мелькнула.
– Чей брат-то, – не выдержал Петров, – хозяйки или хозяина?
– Хозяина, тоже немец и фамилия Циммерман. Он отдельно живет на острове. Такой насмешник. Он и сказал мне, чтоб я прикусила язычок и не болтала ничего про Шамбера.
– А где сейчас этот брат, ну моряк?
– Уплыл, я думаю.
– Уплыл и дом продал?
– Зачем – продал? Летом он всегда в плавании, а дом порожний стоит. Младший-то Циммерман странный такой, живет совсем отшельником, место глухое, рядом – никого. Туда и добраться-то можно только на лодке. А жениться не хочет, говорит, женщин не любит. Как бы не так, не любит… – служанка звонко рассмеялась. – Как начнет ручищами лапать… Мыза-то у него неказистая, право слово, лачуга. У брата жить не хочет. Говорит, вот ужо заработаю денег, так и куплю справный дом. Но, по-моему, он в России не останется, ему здесь не приглянулось.
– А вы в той мызе на острове были?
Служанка независимо повела плечами.
– Один раз была. Хозяева вот так же в отлучке были. Поехали, говорит, кататься. Я это катание на всю жизнь запомню. Долго плыли. Малая Нева это ведь только название, что малая, а волна там очень даже приличная бывает. Неприглядное место. Рядом деревня рыбачья, и та веселее. А у капитана моего вокруг одни камни. Хорошо, хоть сосна на берегу выросла, было, за что лодку привязать. Правда, он потом причал построил.
– А как название острова?
– Точно не знаю, но, кажется, Петровским прозвали. Длинный такой…
Вот и весь улов. Агент для очистки совести еще наведался в пару домов. Ответ был один. О Шамбере никто ничего не знал. «Может, хватит мне искать вчерашний день?» – думал маленький сыщик, но природная добросовестность заставила его проверить все квартиры. Так дошла очередь до Сидорова.
3
Помнит ли читатель унтер-офицера Сидорова? Да, да, того самого, кто устроил нападение на князя Козловского у театра полтора года назад? Это он назвался «Доброжелателем» и оценил свою откровенность в пятьдесят рублей, а потом под нажимом Родиона разоткровенничался сверх меры и заработал еще два рубля.
Все эти подробности Петрову не были известны, он знал унтер-офицера совсем с другой стороны. Ранее агент проследил, как Шамбер наведывался в скромное жилище Сидорова. Теперь Петрову предстояло самому завести с ним знакомство. Время для посещения он выбрал вечернее. Дом бакалейщика Фанфаронова нашел без труда. Бакалейщик встретил щуплого незнакомца неприветливо.
– А зачем тебе нужен унтер-офицер?
– По делам службы.
– Так и ищи его по службе во дворце. Нет его дома.
– Позволите обождать?
– Не позволю. Откуда я знаю, кто ты таков? Обчистишь дом, а потом тебя ищи-свищи.
– Я могу документы показать.
До документов дело не дошло. Вид Петрова, может быть, и не внушал доверия, но и опасения не вызывал. Хозяин смилостивился, пустил гостя в комнату, но на всякий случай запер не только входную дверь, но и ставни.
– Только свечу не зажигай. Далеко ли до пожара.
Время тянулось медленно. Хуже нет на свете, чем ждать и догонять. Так, во всяком случае, все люди думают, но только не Петров. Вся его служба протекала под лозунгом – умей ждать! Для простоты агент завалился на жесткую, но удобную широкую лавку с изголовьем и заснул. Однако звук дверного колокольчика он услышал первым, и когда уставший, хмельной и в дым проигравшийся в квинтич унтер-офицер ввалился в комнату, Петров уже сидел на лавке в полной боевой готовности.
– Кто таков?
– Представитель закона, – строго ответил Петров. – Запалите свечу и посмотрите документ.
– А что от меня нужно представителю закона?
Сидоров был груб и не скрывал этого. Он честно служит, нареканий не имеет и опасаться ему нечего. Ощупью нашел шандал, зажег свечу. Рожа мятая, усы обвисли, и если физиономия его, круглая как блин, и носом пуговкой по-прежнему напоминала циферблат, но на ум автора могли прийти только потерявшие форму, оплывшие часы с картины Дали.
Но все изменилось, когда Петров произнес слово «Шамбер». Тут унтер-офицер даже отрезвел слегка, приосанился и произнес поспешно, слишком поспешно:
– Не знаю я никакого Шамбера и знать не хочу.
– А зачем же он к тебе шлялся? Я понимаю, это давно было, вот ты и запамятовал. Я знаю, что ты с Шамбером дружбу водил.
– Ошибаетесь, – сухо сказал Сидоров, на всякий случай переходя на «вы». – Путаете меня с кем-то.
Далее Петров говорил по чистому наитию, ему запало в голову оброненное Фанфароновым слово «дворец», и агент за него уцепился.
– А еще нам известно, что ты у оного Шамбера состоял на службе и доносил ему…
– Да что я мог доносить-то? – перебил гостя Сидоров, в голосе его появились плаксивые ноты.
– А дворцовая жизнь всем интересна, тем более иностранным агентам. Иной, за то, чтобы узнать, будет ли завтра царская охота или отменили ее, готов хорошие деньги заплатить. А деньги ведь тебе нужны, а?
Сидоров меж тем судорожно искал жбан с брагой. Ведь была же где-то под рукой! Там и осталось всего ничего, но горло смочить хватит. А когда горло смочишь, то и мозги прочистятся. На подоконнике нет, на столе тоже не видно.
– Че тебе надо-то?
Жбан сыскался за сундуком. Пьянящая влага забулькала в горле.
– Правду надо, – жестко сказал Петров. – Скажешь правду, и расстанемся. Врать начнешь, будешь давать показания в Тайной. Я из тебя всю душу вытрясу. Ты этим летом Шамбера видел?
– Ну?
Иной бы человек мог счесть такой ответ отрицательным, но агент Петров сразу все понял и взял быка за рога.
– Когда?
– Да не помню я! Может, две недели назад, может, три… Кажется…
Сидоров, сам того не ведая, использовал опыт старинного римского права. Свидетелю, даже если он видел происшедшее собственными глазами, не рекомендовалось настаивать на увиденном, а следовало прибавлять к рассказу обязательную формулу: «мне показалось», или «видимо так…», или «я думаю, что…». Но Петрова не смущали эти тонкости. Он только ахнул внутренне и перевел дух. Это надо же – Шамбер в городе! Как правильно Их сиятельство оценили обстановку. Большой ум, государственный, на три аршина в землю зрят.
– Зачем он приходил?
– Кто?
– Шамбер! Кто же еще?
– Не понял. Ты, говорит, на месте и хорошо. Если надо будет, я тебя найду.
– Денег дал? – Петров тоже умел зреть в корень вопроса.
– Разве это деньги? Три рубля.
– Раньше, значит, больше платил? Это хорошие деньги, это задаток. И какой службы он от тебя ждет?
– Не сказал.
– Когда еще обещал зайти?
– Не знаю. Ой, боюсь я! – взвыл вдруг Сидоров. – От этого Шамбера добра не жди. Он человек с умом практическим, он и убить может. Одно слово, крутой и резвый!
– А мы добра от него и не ждем. Мы тоже крутые и резвые, – весело сообщил Петров. – Вот что, друг Сидоров. Я тебе адресок сообщу, и ты его запомни. Если Шамбер вдругорядь явится, ты сразу по этому адресу придешь и все мне расскажешь. Если дома меня не будет – дождись. И запомни, если ты этот адресок Шамберу сообщишь, то на следующее утро этими же ногами пойдешь в Тайную канцелярию. Уж об этом-то я позабочусь. Я тоже человек практический. Ты понял? Нет, ты внятно повтори, что понял! По этому адресу моя супруга с малолетним сынком проживает, поживиться там Шамберу нечем, а тебя, если что, я лично на дыбу вздерну. Так что служи мне честно. Твоя честность – залог безопасности.
Сидоров только кивал раболепно, а потом встал и поклонился в пояс. В России все от мала до велика уважали Тайную канцелярию, а от этого тщедушного агента исходила такая могучая сила, что унтер-офицер сразу утратил и наглость, и удаль, ему присущую.
На улице стояла совершенная темень. От речки Мьи тянуло сыростью и запахом гнили. Паршивая речка. Все бабы Петербурга моют здесь белье, вот и загадили воду-то. На перекрестке караульные у рогатины жгли костер. Хоть встреча с ними не была опасна, нужный пропуск у Петрова всегда был при себе, он предпочел обойти караульных стороной. Начнут приставать – кто такой, да почему по ночам шляешься, читать, конечно, не умеют, потащат в полицейское управление.
А зябко, однако. Петрову вспомнилась хорошенькая служанка немца Циммермана, брат его капитан, подаривший синенькие сережки. А капитан-то знает Шамбера, иначе зачем он запрещал о нем говорить. Полученные от Сидорова сведения вызывали в душе его необычайный подъем. Он опять обыграл всех в благородном деле сыска! Он найдет Шамбера и сядет ему на хвост!
Видно, француз живет в городе тайно, если никто при дворе не знает о его присутствии. Теперь вопрос – сразу ли известить Их сиятельство, что Шамбер в Петербурге или погодить. Наверное, погодить. Уж ежели с докладом предстать, то надобно на руках иметь все козыри. Их сиятельство непременно спросят: «Где Шамбер живет? Какие делает визиты?»
Не плохо бы узнать, зачем Шамбер вообще явился в Россию. Сидорова он, конечно, в свои планы посвящать не будет. Унтер-офицер этот сундук сундуком. Если он нужен французу, то только как грубая сила. Но следить за Сидоровым надо постоянно.
А что, если, не откладывая дел в долгий ящик, наведаться в жилище капитана да понаблюдать издали? Если дом пустой, то и ладно. Но ведь, с другой стороны, такое жилье прямо само просится Шамберу в руки.
Петров ощупал карманы. Путь долгий. Через Неву через понтонный мост не перейдешь, его разводят на ночь. Удивительной выносливостью отличался этот хилый на вид человек. Петров добежал до почтовой мызы, что у Летнего сада, а потом неторопливо двинулся вдоль набережной, высматривая лодочника. И ведь нашел, несмотря на поздний час.
– Куда плыть-то?
– По Малой Неве вдоль Петрова острова.
– Ого! Прежде чем до Малой Невы добраться надо Большую переплыть…
– Вот и переплыви.
Лодочник торговался только для порядку. В этакую не-проглядь плыть с пассажиром никому не охота, но, с другой стороны, монета серебром на дороге не валяется.
– Когда вдоль берега поплывем, лодку веди скрытно и веслами не плещи.
– Да кто нас услышит-то? Жабы прибрежные? Или раки?
Больше они не разговаривали. Путь был долгий, лодочник явно устал, но не ворчал, честно отрабатывал деньги. А вот и деревушка рыбачья, видно, о ней толковала горничная госпожи Циммерман. Пока приплыли, рассвело, но туман был столь плотен, что Петров опасался, не промахнуть бы мимо сосны.
– Тихо, теперь тихо, как бы на цыпочках… – шептал Петров лодочнику.
Сосна стояла совсем близко у берега, рядом находился настил из досок – подобие пристани. На берегу лежала вытащенная на сушу лодка. Дом из-за тумана почти не был виден.
– Все, высади меня здесь.
– Подождать?
– А шут его знает. Нет, плыви назад, пожалуй.
– Так я к доскам подгребу, а то ноги замочите.
– Не беда.
Петрова томило предчувствие удачи, а в этом случае лишние свидетели ему совсем не нужны. Место для наблюдения отличное, рядом полно камней, за которые можно спрятаться.
Петров выбрался на берег и с мальчишеским проворством поднялся вверх по гряде. Плохо, забор высокий, правда, со стороны суши столбы перекрыты простыми слегами.
Дом был тих и безлюден. Петров было собрался перелезть через слеги, как вдруг коротко взлаяла собака. От неожиданности он плашмя бросился на землю. Ах ты, черт! При таком тумане можно было прямо до дома зайти и в окошко заглянуть. Но если в доме собака, значит, ее кто-то кормит. На кого она залаяла-то. Неужели его почуяла. Правда, он вроде с подветренной стороны.
Как хорошо, как уютно лежать меж камней, если лето, туман рассеялся и солнышко припекает. Жрать, конечно, охота так, что желудок сводит. Уже в своей каморе он отъестся от пуза. А пока он на службе, а служба государева превыше всего. Опасность только холодит лопатки, кажется, что шерсть на спине, как у зверя, встает дыбом, но страха нет.
Прямо перед глазами рос кустик щавеля. Петров сорвал вначале стебель с розовым соцветием, потом принялся отщипывать и жевать кислые листья.
Он пролежал меж камней четыре часа и дождался своего. Из дома во двор вышел мужчина, поставил перед собакой миску и едой, потом вернулся в дом. Издали, конечно, не разглядишь, но у Петрова не было сомнений – это он. И не важно, что платье бедное и простонародная прическа. Он узнает его из тысячи, потому что изучил все его повадки. Никто так не припадает на простреленную ногу, как Огюст Шамбер. Попался, каналья! Ты меня убить хотел, да не получилось у тебя, враг рода человеческого!
Спустя полчаса Шамбер вышел с веслами в руках и направился к причалу. На этот раз на нем были толщинки, делающие фигуру в два раза толще, и окладистая, черная борода. Ну вот, теперь я и маскарад твой знаю, внутренне ликовал Петров. Плыви по своим делам. Плыви, а завтра я у рыбачьего поселка обоснуюсь со своей лодкой. Путь-то у тебя один, в другую сторону не поплывешь. И все-то твои секреты, Огюст Шамбер, я узнаю. Душа маленького сыщика пела от счастья.
4
О пропавшем Арчелли не было ни слуху ни духу. По спискам Тайной канцелярии он не проходил, никто не являлся в особняк негоцианта с обыском и не интересовался мадам де ла Мот. Жалко, конечно, аббата, не так уж был он плох, но само собой явилось предположение, что в его деле никакой политической подоплеки не было. Видно, аббата похитили наряженные офицерами проходимцы или шутники, но можно было предположить, что похищение было частью его плана, о котором он не позаботился уведомить свою спутницу.
Квартира, которую сняли для мадам де ля Мот, была мала и неудобна. Николь ужасно сокрушалась, что оставила удобный особняк негоцианта, но Нолькен строго говорил ей:
– Сидите тихо! Зачем вам самой совать голову в петлю? Вы написали в Париж об исчезновении Арчелли?
– В то же день.
– А остальное вас не касается.
Утром, горничная еще причесывала Николь, посыльный принес письмо. Ее срочно просили наведаться в канцелярию шведского посланника. Николь не понравилось слово «срочно», оно не предвещало ничего хорошего.
В доме Нолькена ее встретил секретарь. При первой встрече этот белобрысый молодой человек заинтересовал ее не более чем стул в прихожей. Любит темное платье и яркие галстуки, лицо невыразительное, безукоризненно вежлив. По-французски говорит без акцента. Больше сказать о нем было совершенно нечего.
Но странное любопытство Шамбера заставило ее посмотреть на секретаря Дитмера другими глазами. Не так уж он неказист. Ресницы белые, зато глаза ярко голубые. И сложен не плохо. Руки, пожалуй, великоваты и плохой формы. На указательном пальце большой перстень с черным камнем.
– Господин Нолькен ждет вас.
– Благодарю. Хорошая погода, не правда ли?
Дитмер вежливо улыбнулся. Улыбка была грустной.
Николь обратила внимание, что верхний резец у него сколот. Впрочем, это не портило Дитмера, просто странно, что она этого раньше не замечала. Неужели этот педант принимал участие в кулачных боях? А может, просто упал с открытым ртом и напоролся на угол стола?
К удивлению мадам де ля Мот, Нолькен встретил ее с улыбкой.
– Мы получили прелюбопытную депешу из Варшавы. Арчелли нашелся.
– О! Где же?
– Там же, в Варшаве. По словам аббата, его самым неприличным способом выставили из России, и теперь он направляется в Париж.
– Что значит – выставили?
– Больше никаких объяснений. Читайте сами.
Николь прочитала короткую писульку. Аббат даже не удосужился зашифровать письмо. Хорошо еще, что он воспользовался дипломатической почтой.
– Значит ли это, что я могу вернуться к своим обязанностям?
Нолькен только улыбнулся благосклонно.
Сообщим, наконец, читателю тайну пропажи Арчелли. Вы помните, конечно, как он раздражал Бирона. И, наконец, он придумал, как убрать аббата с глаз долой. Гениальный план, а вернее сказать, способ, очень пригодился Бирону впоследствии, когда он стал таки герцогом Курляндским. Тогда в среде шляхты появилось множество недовольных новым правителем. Бирон ненавидел курляндскую знать, слишком много он выдержал от них в молодости унижения и обид. Теперь он имел возможность с ними поквитаться.
С особо строптивыми он расправлялся просто. Под видом арестования (иногда просто хватали на улице) шляхтича засовывали в карету и мчали в неизвестном направлении. День мчали, два, а потом выпускали в чистом поле, предоставив измученному голодом, страхом и самыми страшными предчувствиями арестанту добираться до дома самостоятельно. И помогало… Все живы, но ведут себя тихо. Пройдешь до родного дома пешком двести верст – поумнеешь.
Но впервые, так сказать, «опробовав перо», Бирон проделал все это в Петербурге с Арчелли. Всего-то два драгуна и кучер, но они сыграли арест по всем правилам. Аббату завязали глаза и посадили в карету с зашторенными окнами. Он не сопротивлялся, поскольку было объявлено, что его везут за город для секретного разговора. Карету погнали в сторону Киева, а через три дня пленника, измученного, злого, голодного, с худым кошельком в кармане, высадили около неведомого хутора его.
Не будем описывать все мучения незадачливого шпиона. Можно только порадоваться, что Бирон велел гнать лошадей на юг. А ведь мог бы выбрать восточное направление, а с Уральских гор, пешком… далеко. Словом, путь до Варшавы был очень долог.
Все это мадам ля Мот узнала много позднее, уже в Париже, а пока она запретила себе размышлять на эту тему и сразу после разговора со шведским посланником велела слугам поковать сундуки и перебираться в особняк гостеприимного негоцианта.
Уже на следующий день она встретилась с мадам Адеркас и с молодым кружком принцессы Анны Леопольдовны. Там ей очень обрадовались. Куда же вы делись, милейшая мадам де ла Мот, мы очень скучали без вашего общества. Николь объяснила свое отсутствие внезапным отъездом. Естественно, ее спросили, куда она ездила? Николь мило ушла от ответа. Скажи она бездумно «в Москву», начнут выпытывать новости старой столицы. А тут она сделала легкий намек на любовные похождения, и все – благожелательные улыбки, лукавые подмигивания и никаких лишних вопросов.
Вокруг Анны Леопольдовны шла прежняя веселая и беспечная жизнь, Линор вертелся вокруг принцессы, как голландский волчок, Юлия Мегден скалила зубы, генеральша сидела с чаркой в руке и выглядела при этом хранительницей традиций, эдакой языческой богиней, охраняющей людское благополучие. В компании появилось новое лицо, княгиня Аграфена Александровна Щербатова. Она была приятной собеседницей, с лица ее не сходила улыбка, и вообще она принадлежала к тому типу лиц, которые никогда не сомневаются, что небо голубое, а трава зеленая. Словом, она была оптимисткой. Николь не поняла, являлась ли она завсегдатаем компании или это был разовый визит, но в любом случае знакомство это было большой удачей, потому что княгиня Шербатова была дружна с самой государыней.
Княгиня позвала Николь в гости. А здесь как раз подвернулся Медовый Спас, который в русских семьях справляли по русскому обычаю очень широко. Николь не отказала себе в удовольствии подарить хозяйке дома премиленький браслет с жемчугом. Аграфена Александровна долго охала, отказывалась принимать дорогой подарок, но довольно скоро пошла на уступку. Браслет как влитой сел на ее полную руку.
Следующая неделя ознаменовалась новым, еще более значительным успехом – знакомством с задушевной, ближайшей подругой царицы – Анной Федоровной Юшковой, красивой, представительной дамой в роскошном бледном парике и в платье из серебристой парчи. Статс-дама была уже в летах, где-то около сорока, но выглядела очень молодо.
За глаза Юшкову называли «родственницей». Но произносили это слово шепотом и с оглядкой. Были слухи, что когда-то она была судомойкой в доме царицы Прасковьи, матушки государыни. Анна Иоанновна приблизила ее к себе за верность, за пряные любострастные разговоры и легкий нрав, а потом выдала замуж за племянника бывшего спальника Прасковьи Василия Юшкова. Молва приписывала Василию, мелкопоместному дворянину, огромному и сильному малому, отцовство всех дочерей царицы Прасковьи. А иначе, почему Анна вышла такая рослая и смуглая, если законный отец – царь Иван был скорбен не только головой, но и телом.
Но ведь свечку в спальне никто не держал. Кто там чей отец – загадка. Отцом Павла I считали Салтыкова. Была и другая легенда, де, он чухонский младенец, которым подменили умершее у Екатерины II дитя. Пусть кто хочет верит этим слухам, но меня увольте, Павел разительно похож на отца. А про Анну Иоанновну можно сказать, что рос том она пошла в дядю Петра, а от деда получила любовь к охоте, птицам и стрельбе в цель. Царь Алексей, хоть и не царское это было дело, собственноручно написал труд по соколиной охоте «Уложение чина Сокольничья пути».
Еще при дворе про статс-даму Юшкову говорили, что она большая озорница и затейница и как никто умела развлечь государыню в длинные зимние вечера. Еще она отлично стригла ногти на руках и на ногах и царице, и Бирону, и всей семье. Педикюрша очень интимная должность, прямо скажем. Говорили еще, что… ладно, хватит сплетничать!
Царский двор – это фабрика домыслов. Позднее некий господин Х. насочинял «Своеручные записки» или «Мемуары» и упомянул в них выпуклые подробности. Мы не можем проверить, что здесь правда, что ложь, но, конечно, поминаем каждую деталь за колоритность.
В обращении госпожа Юшкова была доброжелательна, языком проста и грубовата. Николь и сама не заметила, как перешла на русский язык. Юшкова пришла в восторг.
– Да как ты славно говоришь-то, красавица! И речь у тебя округлая, сама катится, ровно бусины. Матушка государыня таких говоруний по всей России ищет, а ты сама явилась. Через неделю сведу тебя во дворец, представлю матушке Анне Иоанновне. Все получишь, и благорасположение и деньги.
Николь улыбнулась благодарно. На беду себе она не понимала, что ее за глаза брали в штат шутих. Обрядят тебя, голубушку, в разноцветный парик, платье из лоскутков и иди, кривляйся на радость государыни. А почему бы нет? Лакоста тоже иностранец, и Педрилло, а здесь француженка по мужу, шведка по отцу и русская по матери.
5
А теперь последуем за каретой, которая только что пересекла мост через речку Мью и покатила дольше по Невской першпективе. Карету предоставила Матвею Варвара Петровна, но прежде учинила племяннику сущий допрос.
– Это зачем тебе карета понадобилась? Ты всегда верхами ездишь. Уж не надумал ли мамзель свою катать?
Примечательно, что Матвей на теткины выпады по поводу некой красотки-мамзели не отвечал ни слова, но Варвара Петровна поймала правильную ноту и теперь изо дня в день сочиняла только ей слышимую мелодию.
– Ладно, поезжай. Велю конюху тебе смирных лошадей впрясть. Ты не смотри, что Рыжая неказистая с виду. Она очень достойная кобылка, и неприятностей с ней никаких не предвидится. Ну что ты молчишь?
Матвей, стоя перед зеркалом, закручивал щеткой буклю над ухом. Проклятый локон никак не хотел ложиться ловко. Давно пора было выбросить эти обноски и заказать новый парик, да все как-то недосуг.
– Ты сердишься на меня, что ли? А как прикажешь себя вести, если любимый племянник ведет себя непотребно. Влюбился – женись. Но сделай все подобающе. Можешь не посылать в семью сватов, теперь новое время, но с родителями девицы познакомь! Обсудить надо все толком. Приданое – вещь очень серьезная. Хотя сейчас все с ног на голову. Иногда достойные боярышни за таких проходимцев замуж выходят, что не приведи господь. Но ты-то не проходимец. Приведи деву в дом. Представь по правилам.
Матвей послюнявил пальцы, прихлопнул непослушную буклю и отвернулся от зеркала. Что мог он ответить тетке? Что возлюбленная его как раз «темная лошадка» и есть, что он подозревает ее во многих грехах, но готов перешагнуть через все, только бы Николь была рядом и дарила ему свою нежность. Он поцеловал Варвару Петровну в обе щеки и выбежал вон.
Сегодня ему предстоял важный разговор. Он узнает, наконец, любовь ли привела мадам де ля Мот в его объятия или что-то другое. Что-то другое – это чужая воля, чья-то непонятная игра, в которой Николь – кто? В шахматах Матвей ничего не смыслил, но названия фигур знал. Понятно, что она не ферзь-королева, но и не наивная пешка, надо полагать.
Теперь они ехали в карете, Николь, сцепив пальцы в замок, положила ему на плечо руки и нежно дула в непослушный локон, а потом со смехом стала покусывать мочку уха.
– Почему мрачен мой рыцарь?
– Нам надо поговорить.
– И поговорим. Но вначале поцелуй меня. Иль разлюбил? Нет, нет, я по глазам вижу, что нет.
Какой там «разлюбил»? Ах, кабы можно было в книге записать ноты, чтобы они сами запели прямо с листа. И пусть струны кифары наигрывают что-нибудь нежное из Глюка.
Николь отерла губы после поцелуев.
– Куда мы едем?
– В луга. Ты же сама хотела, чтобы мы, как тогда, гуляли по тропочке и ты собирала бы полевые цветы.
– Так мы только что проехали луга. Цветы можно было собирать у Адмиралтейства. Не хочу в луга. Хочу в твой дом, в наш дом.
Карета вдруг остановилась. Сейчас бы сказали – «пробка», оказывается, и в восемнадцатом веке существовали заторы на дорогах. А случилось обычное для того времени происшествие. Под колеса роскошной кареты, с гербами, точеными стеклами и позлащенной отделкой попал какой-то нищий, а ехавший навстречу мужик не совладал с лошадью и перевернул воз сена, который совершенно перегородил улицу. Как не мало было движение, в «пробке» уже собралось несколько возков и колымаг. Вокруг собралась толпа, стояли, отплевывались от сенной трухи, выуживали из волос стебли сухого клевера и прочей травы и галдели на разные голоса.
Несчастный был еще жив. Неприлично заголенными выглядели его тощая, поврежденная колесами грудь, струпья на босых ногах. Бог знает, кем он был. Может, прибившийся к богадельне странник, которого нужда гнала на улицу просить подаяние, или посаженный за долги, которого по обычаю выпускали из тюрьмы, дабы узник «своими руками» искал себе пропитание. А как его найдешь-то? Красть нельзя, в работу никто не берет, оставалось только нищенство. Уголовные арестанты отличались от прочих только тем, что выпускались на улицы в кандалах и цепях. На этом страдальце никаких цепей не было. Матвей вышел из кареты, Николь потянулась было за ним.
– Нет, это не для твоих глаз. Оставайся в карете.
Она послушалась, убрала ногу с подножки, но дверцу не закрыла и все тянула шею, чтоб рассмотреть происходящее. Розовый шарф ее трепетал на ветру.
В толпе уже прекратили ругать толстого, в бархатном кафтане кучера. Громче раздавались сердобольные голоса, предлагавшие отнести раненого в ближайшую богадельню. Он, бедный, уже и стонать не мог. Кучер так и не слез со своего сиденья, таращился на всех сверху, только голову опускал все ниже, желая сжаться в комок. Если б ехал он не порожний, а вместе с барином, то не посмел бы остановиться, так и промчался бы мимо поверженного нищего. А здесь христианские чувства взяли верх и он, на беду себе, придержал лошадей. А тут еще воз с сеном! Теперь неприятностей не оберешься.
Матвей не мог оторвать взгляда от поверженной на мостовой фигуры. Все, кажется, отмучился, испустил дух. Князь истово перекрестился. Если бы он не следил так внимательно за умирающим, а повернул бы голову направо, то встретился бы глазами с обомлевшим от удивления агентом Петровым. Последнего поразил не столько князь Козловский, сколько его спутница, очаровательная незнакомка из Данцига. В первую минуту Петров даже потерял бдительность, вылез из толпы вперед, но быстро опомнился и спрятался за фигуру торговца пирогами.
На место происшествия уже явилась полицейская команда, труп унесли. Матвей сел в карету. До усадьбы почти не разговаривали.
– Плохое предзнаменование, – хмуро сказал Матвей.
– Милый, нельзя так жить. Плохие предзнаменования встречаются в жизни на каждом шагу.
С этим не поспоришь, так и ехали молча.
Несмотря на то что купчая еще не была до конца оформлена, Матвей распорядился придать одной из комнат жилой вид. У стены стоял туалетный столик на резной ноге, в центре комнаты разместился большой стол, подле него два кресла черной кожи с медными гвоздиками – очень прилично! Бокалы, бутыли с винами и напитками, съестные припасы хранились в пищевом сундуке. Свечи, чтоб не сгрызли крысы, покоились рядом в деревянном ларце. Особое внимание было уделено ложу. Перины были застланы тончайшим льняным бельем, имелось также атласное одеяло с куньей подбивкой.
Амур, опять амур. Ни ужасы на дорогах, ни раздробленные кости нищего, ни страшные подозрения не могли задушить страсти Матвея. Николь была так ласкова, так податлива! Он сжимал ее хрупкое тело и казался себе титаном, который в силах победить всех своих врагов и вырвать из их хищных лап свою обожаемую. О, свирепый огнь любви!
Потом выпили вина, и Матвей решился.
– У меня один вопрос. Щекотливый, – он глубоко вздохнул. – Почему ты не сказала, что сама приезжала за прахом Виктора. Ты ведь и на кладбище была?
Николь закрыла одеялом голую грудь, потом накрутила на палец прядь волос.
– А зачем?
– Что значит – зачем? Чтоб не врать.
– Ты думаешь, это так легко – вскрывать могилы? Мне трудно говорить об этом.
– А мне, значит, легко, – обозлился Матвей и сам удивился своей злости. – Я, как дурак, распинался перед тобой со всеми подробностями. Рассказал, как напали на карету, как людей поубивали. А ты, оказывается, все знала?
– Ничего я этого не знала. Зажги свечи. Темнеет.
– В темноте легче разговаривать.
– Ты говорил, что похоронил Виктора по католическому обряду. Но у нас не принято хоронить покойников кое-как, лицом вниз.
– Не я раздевал Виктора после смерти.
– А кто раздевал?
– Мой враг. И не надо тебе знать об этом.
– А где деньги, князь Матвей?
Душа у него сжалась в маковое зернышко. Вот и дошли мы до главного вопроса.
– Какие деньги?
– Те, которые вез де Сюрвиль.
– А ты откуда знаешь про эти деньги?
О, Николь уже давно подготовилась к этому вопросу, ей легко было отвечать.
– Я знаю только, что де Сюрвилю поручили привезти в Польшу большую сумму денег и что их украли. А как ты думаешь отнеслись к этому в Париже? Мать Виктора вызывали на допрос. Мы ведь только спустя месяцы узнали о его гибели, и то случайно. А вначале… он просто исчез с деньгами, и все!
Николь говорила быстро, взволнованно, Матвею даже показалось, что глаза у нее заблестели от слез. Но как не странно именно волнение Николь помогло ему сосредоточиться и продумать дальнейшее поведение, и именно это спасло ему жизнь.
– Да что вы все пристали ко мне с этими деньгами? Я откуда знаю, где деньги?
– А кто еще пристает к тебе с этим вопросом?
– Да уж есть кому, – обиженно буркнул князь и припал к бокалу, ища в нем спасения.
Не получился серьезный разговор, не получился. Все пошло куда-то не туда. В одном он был прав. Николь все-таки спросила про деньги. Теперь осталось только поинтересоваться, не она ли разрезала подкладку на его камзоле и – он не посмел сказать «выкрала» – похитила секретное письмо. Матвей отставил пустой бокал, весь напрягся и уже открыл было рот, но не успел произнести ни слова. Николь его опередила.
– Ты, наверное, хочешь знать, люблю ли я тебя? – спросила она негромко.
Матвей так и замер с открытым ртом. Дело в том, что Николь задала свой вопрос по-русски. Да, да, на чистейшем русском языке. Было от чего потерять голову.
– Люблю, или, как говорят, – она усмехнулась жестко и нехорошо, – завлекаю тебя в сети ради своих целей? Я скажу… Родителями покойными клянусь, что я влюбилась в тебя, князь Матвей. Только любовь эта мне не в радость, а на беду. Мне на беду, а тебе на горе, потому что я Кульдра.
– Какая еще Кульдра?
Ах, Матвей, наивный мальчик! Рассказать тебе, как безобразные тролли в северных горах заманивают в свои пещеры молодых мужчин? Тролли дурят людям головы, умеют превращаться в камни, но иногда они принимают облик прекрасной девы. Кульдра носит алое платье, каштановые волосы до плеч. Она показывается человеку только со спины, и он бежит за ней, не чуя ног. И еще Кульдра умеет раздваиваться. Была одна, а вот их уже две. Но согласитесь, глупо расписывать все это Матвею. Еще не хватало, чтобы она, как дура, рассказывала сказки. Последнюю фразу Николь подумала по-русски.
– Ладно, забудь.
– Откуда ты знаешь наш язык?
– Мать у меня русская, а отец – пленный швед.
– Я обожаю тебя.
Где ты, высокая музыка? Где струны кифары и великие музыканты. В предчувствии истинной любви они все собрались здесь в тесной комнате у одинокой свечи, и Пан со свирелью, и Орфей с лютней, и, кажется, сам Аполлон уже на подходе. Хорошо бы, чтобы они изобразили, скажем, си-минорный концерт Гайдна. Беда только, что концерт этот еще не написан, малютке Францу Гайдну всего два года.
6
Пришло время рассказать подробнее об отношении нашей героини к России и вспомнить ее бабушку, дедушку и матушку. Родители и прочие родственники нашей героини заслуживают отдельной главы, поскольку история их не только поучительна, но и типична для того времени. Николь было кое-что известно об этих событиях. Подробностей она и не узнает никогда, но читателю может быть интересно.
Давно-давно в далекой Сибири нянька пела маленькой Наташеньке лютую песню. Пела тайно, чтобы отец малютки не прослышал. Перескажем краткое содержание колыбельной: «Был государь наш за морем-окияном, и пришел он в немецкую землю в Стекольный город, а том городе государство держит девица. И взяла та девица нашего государя в полон, и ругалась над ним, и пытала, и на горячую сковороду ставила, и в темницу заточила. Но и этого ей показалось мало. Бояре этой девки взяли бочку, набили в ней гвоздей, а в ту бочку заточили нашего государя-батюшку и в море бросили, а на Русь вернулся под личиной государя совсем другой человек». Стекольный град это Стокгольм.
Уже и царевну Софью заперли в монастыре, и стрельцов казнили, и Петербург заложили, и новое летоисчисление ввели, и успехов военных не счесть, а народ все бунтуется, не хочет признавать нового государя. Народ терпелив, все может стерпеть – и поборы, и побои, и несправедливость, но как понять вещь несуразную, словно самим дьяволом придуманную: брадобритие и немецкое платье? А вывод один – немцы государя «испортили». Не иначе.
Городской фольклор начала XVIII века необычайно разнообразен, но главная мысль его – тот, на троне, которого Петром кличут, не прямой царь. Может, по злобе, а скорей всего сознательно, царевна Софья пустила по Москве озорные слова, де, Петр «стрелецкий сын». За такие поношения на дыбу волокли, но людям показалось мало. Начали говорить-перешептываться: «Царица Наталья Кирилловна родила девочку, а нужен был сын. Дочку и подменили немцем, а был тот немец-младенец Лефортов сын». Оно и понятно, иначе зачем он воюет без конца, зачем велит бороды и усы ругаючи с мясом обрезывать, зачем велит носить чужое платье?
Предков наших можно понять. Фигура Петра всегда волновала подданных. Я помню, в середине двадцатого века у интеллигенции популярна была сплетня (чаще говорили со смехом, а иные серьезно), что батюшкой Петра Великого был вовсе не тишайший Алексей, а грузинский князь. В сплетню верили не столько из-за кавказской внешности Петра, столько из желания уловить некую мистическую закономерность: Петр – великий русский царь, так же, как Сталин, происходит от грузинского корня.
Бунтовался народ и попадал в Преображенский приказ. «Бог любит праведника, а царь ябедника», – говорит народная мудрость. И еще шутили, что перья гусиные поднялись в цене – доносы писать.
Доносы писали все, и фискалы по службе, и «доброхоты», кто из патриотизма, кто по жадности. Тут случилась такая история. Певчий дьяк Федор Казанец донес на книгописца Гришку Талицкого, мол, режет тот Гришка неведомо какие доски, печатает на них подметные тетради и бросает в народ. А мысли в тех тетрадях таковы: настало последнее время, антихрист в мир пришел. И вообще много чего не попадя лепил Гришка в укоризну царю, но главное сообщал, что скоро стрельцы в Москве соберутся и царю конец.
Гришку сыскали, пытали, с ним взяли еще пять человек. Следствие шло полным ходом, когда в Приказ по доносу доставили еще одну пару – дворянина Большакова с женой. Достойные люди, каменный дом на Ильинке, сам Большаков на партикулярной службе, и вдруг донос. Текст этого хмурого документа обычный: «злодеи и поносители российской нации», а в качестве добавки – «порочили церковь истинную насчет совершения таинства Евхаристии».
Неделю или за две до того, как сосед Большаковых взялся за перо (не будем упоминать его фамилию, он не стоит того), Москва запестрела развешенными везде указами о перемене платья. Давно уже было велено «в русском» по улицам отнюдь не ходить, а москвичи без острастки ослабели в исполнении, живут, словно не слышат, продолжая щеголять в сапогах, епанчах и душегреях. Указы грозно напоминали, что всем, всем, всем! – «боярам и окольничим, и думным, и ближним людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и жильцам, и всех чинов служилым, и людям боярским, всем, кроме духовенства и пашенных крестьян, быть безбородыми и в немецком, французском али в венгерском платье».
Правительство не ограничилось словом, рядом с указами на воротах были повешены чучела для образца, на тех чучелах камзолы и штаны мужские, а также платья-робы, которые неприлично оголяют женскую грудь. Кроме того, и седла велено было использовать немецкого образца. Не подчинишься, на первое время штраф, а далее уж кому как повезет.
Грех, да и только! А как исполнить этого ядовитое приказание? Мало того, что немецкое платье уродливо, непривычно, тесно, так ведь и дорого. И потом спрашивается – старую одежду куда девать? Продавать запрещено. Иные люди, чтобы себя и челядь в немецкое платье обрядить, дома продавали, иконы в заклад несли.
Но шляхтич Большаков был законопослушен, в деньгах не бедствовал, справил обнову и себе, и жене, и двум дочкам, слуги сами себе кое-что сматрачили из старых одежок. И тут случилось одним злым вечером, что Большаков, застегивая бесконечные пуговки на камзоле, имел неосторожность крикнуть в сердцах (это при соседе-то!): «Повесил бы, право слово, того, кто это платье придумал!» А жена Матрена Филипповна в простоте душевной и присовокупила: «Прежде-то цари в монастыри ездили и Богу молились, а наш где? То в Кукуй к Монсихе полюбовнице, то на войну. А зачем нам швед?» И ведь как в воду смотрела! Как покажет время, жизнь свела ее со шведами очень тесно.
Доносчик на этом брюзжании супругов и построил донос, уж очень ему нравились каменные хоромы Большаковых. Взятые в Приказ на первых же допросах повинились, умоляя простить их за глупый язык. Осталось только выяснить, уж не старообрядцы ли, что там они толкуют насчет таинства Евхаристии? И тут вдруг выясняется, что Гришка Талицкий, государев преступник и вор, приходится родственником Матрене Филипповне, дальним, седьмая вода на киселе, но ведь это как посмотреть. Для красоты сыскного производства можно и объединить дело.
Но и в Преображенском приказе случаются разумные люди. Следователь не был лютым человеком, он так сумел повернуть дело, что имя Талицкого даже не мелькнуло в опросных листах Большаковых. Все быстро, быстро скрутилось в пружину, и дворянская чета была отправлена в ссылку в Тобольск. Дом каменный пошел в казну, а все нажитое разрешено было взять с собой, дабы шляхтич Большаков лично содействовал планам государевым в делах освоения Сибири. К слову скажем, что Гришка Талицкий с сотоварищами был казнен.
Тобольск в те времена был центром огромного края. Губернаторствовал там ставленник Петра – Матвей Петрович Гагарин. Край был богатый. Железные и оружейные заводы появились там раньше, чем в Туле. Большакову сразу нашлась работа. Словом, он сам и семейство его не бедствовали.
Меж тем после славных побед царя, особливо после полтавской баталии, в Тобольск стали поступать пленные шведы. Это ведь проблема, разместить в России целую пленную армию. В основном селили их, где поближе в столице, в Вятке, Сызрани или в Саратове, но большая часть этих несчастных пошла именно в Сибирь.
Если бы Николь имела возможность заглянуть в дело следственной комиссии по «рассмотрению преступлений бывшего губернатора Сибири князя Гагарина», безжалостно казненного Петром за воровство и лихоимство, то она нашла бы там имя своего отца. К опросным листам были присовокуплены расходные книги, в которых скрупулезно отмечалась раздача денег пленным шведам. Вот, пожалуйста: «Генерал Крейц отправил в Тобольск 163 рубля капитану Готфриду Крейцу. 1712 год». Деньги пришлись очень кстати. Николь (если хотите Наталье), по матери Большаковой, как раз исполнилось три года.
По государеву указу пленным шведам полагалось на кормление «две деньги в день и пол-осьмины муки в месяц». Скудно, голодно, но шведское правительство старалось, как могло, облегчить участь соотечественников. Высокопоставленных шведских пленных царь оставил в Москве. Им и приходили деньги из Швеции, а они в свою очередь рассылали королевские субсидии по всей России. Понятное дело, король на многое не расщедрится, основное воспоможествование шло от родственников пленных шведов.
Готфрид Крюйс приходился генералу Крюйсу племянником. Это родство помогло несколько сократить время ссылки, но не намного. Основная масса шведов вернулась домой уже после 1721 года, когда был заключен Ништадтский мир, а Готфрид с дочкой и женой вернулся на родину в 1719 году.
Десять лет плена… Их надо как-то прожить. Если бы не любовь к младшей Большаковой – Машеньке, не перенес бы капитан Крюйс всех тягот сибирской жизни. Любовь была горячей, стремительной. Родители не препятствовали их любви. Одна незадача, поп категорически отказался их венчать, поскольку Готфрид принадлежит в вере протестантской. А как дите крестить?
Позднее пленных шведов пригласили на государеву службу. Можно было идти служить «до отпуска», то есть до возвращения на родину, брали также и на постоянную службу с получением хорошего жалованья. Иные из пленных откликнулись на призыв русского царя. Были случаи даже массового перехода на русскую службу, пример тому, драгунский полк в Казани и шведский эскадрон в Тобольске. Но большинство пленных не пошли служить русскому царю. Обязательным условием перехода на русскую службу было принятие православия. Шведы предпочитали прозябать в голоде и холоде, служить на алапатьевских железных рудниках, где люди мерли как мухи, но оставаться в вере отцов. Варяги, сильные духом, что и говорить.
Готфрид не был слабаком, просто он решил, что у него нет выбора – как же его Мария будет с ним жить не венчанной. И потом, ребенка-то надо крестить! А уж раз стал православным, то надо у русских и деньги зарабатывать. Разная была служба: и торговал, и питейными делами занимался, и работал при посольском дворе у китайских посланцев.
Потом генерал Крюйс добился перевода племянника на гражданскую службу при коллегии в Москве. Готфрид получил пять рублей прогонных денег и отбыл с семейством в дальнюю дорогу. В столице капитан Крюйс был зачислен в Ревизион-коллегию асессором.
Все это, как умела, и рассказала Николь Матвею. Матвей слушал со вниманием, щеки его пылали. Да и как иначе? От этой удивительной истории весь огнем вспыхнешь.
– Ну а дальше ты все уже знаешь.
– А Париж? Расскажи про Париж!
– Это не интересно.
Увлеченные повествованием, мы потеряли агента Петрова, пора рассказать о его мытарствах. Трудно наблюдать за объектом, если тот не пеший, а в карете. И не когда бы он не нашел усадьбы с условным названием «Клены», если бы не побывал здесь накануне. Какой леший туда его занес? Образ лешего принял Шамбер, за которым маленький агент следовал по пятам. Что понадобилось Шамберу в пустой усадьбе, он не знал. А тут сверкнула молнией мысль, как озарение, честное слово – да это же место их шпионского схода!
И тут все шары сразу в лунки упали. В этом пустом доме они и назначают свидания – и незнакомка из Данцига, и Шамбер, и враг отечества князь Козловский. За какую мзду продался этот иуда врагам нашим? Все за те же сорок серебряников. Ах, блудодейство! И какова наглость! Врать их сиятельству, что потерял депешу по дороге! Не потерял, а сам отдал в руки хорошенькой незнакомке.
Петров ни на минуту не сомневался в своей догадке. Если человеку только своим умом удалось вычислить Шамбера и найти его логово, то он каждую свою версию находит непреложной. А тут факт налицо. Освещенное окошко легко найти. Вон они, голубки, лежат и целуются.
Теперь его мучил только один вопрос – сразу донести до ушей их сиятельства про измену Козловского или погодить? С одной стороны, ему нужна помощь. В одном лице сразу за всей шайкой не уследишь. Но с другой – много людей, много бестолковости. Начнут слежку вести без должного усердия, собранные факты сопоставлять не сообразно их значимости и угробят дело. И опять же, навар-то придется делить на всех!
7
И жил бы он себе припеваючи до осени, если б в одно пасмурное утро не явился на взмыленной лошади фельдъегерь с пакетом. Миниха срочно вызывали в столицу. Объявлена была и причина этой спешки – беглый король Станислав сыскался в Кенигсберге. Других подробностей по этому поводу в депеше не было. Миних был возмущен до глубины души. Он, фельдмаршал, должен был узнать эту новость первым, а умники из Петербурга даже не удосужились внятно описать суть дела! Варвара Елеонора велела закладывать карету.
Прежде чем Миних с супругой доскачет до Петербурга и явится во дворец, расскажем вкратце историю побега несчастного короля Станислава Лещинского. О многих унижениях и бедах короля Миних так никогда и не узнал, но мы-то знаем. Более поздние авторы ознакомились с мемуарами того времени, и даже романы об этом написали.
Когда Станислав вступил под защиту Данцига, жители города поклялись, что отдадут жизнь, но не выдадут его русским. На патриотическом подъеме клятвы давать легко, а умирать никому не хочется. Пали последние форты под натиском врага, и стало ясно, что города не удержать. Тут король и объявил, что возвращает славным данцигцам их слово.
Теперь Станиславу самому надо было думать о собственной безопасности. Бежать – один путь, но как выйти из города, окруженного со всех сторон врагами? Посыпались различные предложения, и все они были в той или иной мере экзотическими. Одна из дам, Королина Чанская, пфальцграфиня Померанская, предложила королю одеться мужиком, сама она согласилась тоже облачиться в крестьянское платье и сыграть роль его жены. Решили женщин в это дело не мешать, но от маскарада не отказались.
Французский посланник маркиз Монти взял на себя роль режиссера. Король оставил свой дворец и переселился к нему в дом. Все дело велось в крайней секретности. О побеге короля знал только очень ограниченный круг лиц. Маркиз сам занялся гардеробом Лещинского. Ему достали рубаху грубого полотна, старый кафтан, видавшую виды крестьянскую шапку. Дело было только за сапогами. Кажется, такая малость, а она порядком попортила нервы французскому посланнику. Монти сам лично занялся поиском сапог: они должны были быть грубыми и поношенными, но поношенными настолько, чтобы их было не стыдно предложить Их Величеству.
Непонятно, каким именно виделся маркизу искомый образец крестьянской обуви, только он вдруг увидел его на ногах одного из офицеров. Но не разувать же его! Монти подкупил денщика офицера, и тот выкрал у хозяина его обувку. Но ужас – сапоги оказались малы. В конце концов, короля обули в старые сапоги камердинера маркиза.
Вся эта история подробно описана Дюма-отцом в хронике «Людовик XV и его эпоха». Может быть, Дюма со свойственным ему размахом и широтой присочинил что-то для красного словца, но не в этом дело. Мне показалось интересным внимание великого писателя к этому историческому событию. Французов волнует история Лещинского и осада Данцига. Дюма с горечью пишет, что Россия и Австрия (нам всегда отводится роль союзника) нанесли Франции сокрушительное поражение. Русских авторов осада Данцига никак не заинтересовала – так… проходной момент истории. У нас были куда более славные победы.
Итак, король облачился в старые камердинерские сапоги и, имея в кармане двести дукатов, вышел в ночь навстречу опасностям. На углу улицы его уже ждал генерал Штейнфлихт, которому выпала честь сопровождать короля. Естественно, генерал тоже был обряжен в крестьянина.
Комендант крепости (чином майор, национальностью швед) согласился содействовать побегу, он помог королю миновать караул. Все трое вышли из города в заранее условленном месте. У рва за крепостными стенами их ждали две лодки с сопровождающими. Эти люди играли роль шкиперов, поскольку знали, как добраться до прусского городка Мариенвердер.
Король сам сел за весла, верный Штейнфлихт ему помогал. Беглецы рассчитывали быть к утру на противоположном берегу Вислы. Но опасности и унижения на этом не кончились. Лодки отплыли от осажденного города всего на милю, когда провожатые заявили, что по каким-то только им видимым приметам дальше плыть опасно. Может быть, погода им не понравилась? На берегу стояла убогая хижина, и они предложили остановиться здесь на ночлег, а на заре плыть дальше.
В словах провожатых королю чудился явный подвох, но делать было нечего. Пришлось уступить. В хижине обретался не только хозяин, человек простой и грубый, но двое других, как пишет Дюма, «полубродяг, полуцыган». Словом, общество было не только неподходящее, но и опасное.
Ночь король провел сидя на лавке, в нетерпеливом ожидании утра. Но на заре вновь возобновилась бомбардировка Данцига. Весь день король слушал гул обстрела и ждал – вот-вот и его придут арестовывать. Но ничего, обошлось. Ночью они, наконец, сели в лодки и благополучно переплыли Вислу. Были еще приключения, но их не имеет смысла описывать.
Король жив, да здравствует король! И это развязывает всем руки. Игра продолжается!
8
Первый намек, объясняющий холодный прием государыней Миниха, был сделан камер-фрау императрицы Юшковой. Про камер-фрау не скажешь, что она приятельст вовала с Варварой Елеонорой, но относилась к супруге фельдмаршала с уважением и иногда заезжала в их дом на Васильевском попить кофейку и посудачить о жизни. Она и сказала, как бы между прочим, что фельдмаршал потому не обласкан государыней, что Ее Величество зело боится нового выступления Лещинского и во всем винит Миниха. И вообще с этим побегом дело темное. А люди у нас знаете какие? Половину недослышат, половину не поймут, а потом болтают, что кому на ум взбредет, словом, всякие нелепицы.
– Да что ж болтают-то? Супруг мой уже ответил на все вопросы, касаемые этого побега. И был понят и прощен государыней. Сколько же можно воду в ступе толочь?
Юшкова на это ничего не ответила и очень ловко ушла от разговора на эту тему. Елеонора не стала рассказывать мужу об этом визите. Зачем волновать супруга понапрасну? Он и так плохо спит.
Но Миних вскоре сам узнал горькую правду, и сообщил ее ему никто иной, как развеселый шут и скрипач по прозвищу Педрилло. Прежде чем продолжить наше повествование, я хочу рассказать о важной примете двора Анны Иоанновны – болтушках и балагурах, уродах и карлицах, трещотках и дураках, словом, целого отряда странных людей, развлекающих императрицу. Именно они вызвали особое порицание и раздражение потоков.
Иметь одного шута королю не только пристало, но и необходимо. Недаром шут короля Лира чуть ли не любимый персонаж шекспировской трагедии. А про Анну Иоанновну говорят – «институт шутов», «грубое время, грубые нравы». Не в защиту, но хотя бы ради справедливости спрошу: «А институт любовников Екатерины Великой вам более по нраву?» Там ведь тоже при дворе имелись специальные люди, которые отслеживали передвижение красивых, рослых гвардейцев, смотрели за ними в оба глаза и ждали ответственного момента, а уловив этот миг, хватали избранника за руку, тащили к лекарю на обследование, а оттуда прямиком вели в спальню императрицы. А как вам нравятся потехи Петра Великого? На Святках в 1694 году Москва была напугана до полусмерти скоморошьим царским выездом. Петр женил шута Тургенева на дьячей жене. И не поймешь сразу, в шутку женили или всерьез, потому что поезд сопровождали бояре, окольничие, думные, словом, лучшие люди государства. Заправляли всем «птенцы гнезда Петрова». Ехали на собаках, козлах, свиньях в платьях из мочал и лыка, в сапогах, плетенных из соломы. И все это с шумом, смехом, матом и глумливой музыкой. Петр любил «пошутить». Его пьянки непременно сопровождались унижением подданных, глумлением над церковью, откровенной жестокостью и прочей гадостью. А на утро вставал с похмельной головной болью и начинал вершить государственные, в большинстве своем вполне разумные дела.
Это я к тому пишу, чтоб не чванились люди сверх меры, ах, какие мы тонкие, звонкие и все понимаем. А много ли поменялись нравы в наш XXI век по сравнению с XVIII? В каждом доме есть живая картинка, отражающая действительность. Нажми на пульт, и тебе сразу по всем программам покажут кровожадную бойню. С неистовой ненавистью и злобой люди уничтожают друг друга, таскают за волосы, выкручивают руки, обливают бензином, жгут, пытают, привлекают к своим мерзостям детей, а потом с ханжеской миной говорят о политкорректности, справедливости и гуманизме. Нет, люди не меняются. Мудрец Монтень писал: «Что было пороком, стало нравом». Сказано в XVI веке, а словно про нас.
Итак, вернемся к шутам. Я не буду говорить о безродных калеках и карликах, о сенных девках, которые могли нести всякую чушь в течение двадцати часов кряду, их имена проглотила история. Остановимся на людях знатных, которые надели шутовской колпак в наказание, но при этом считались на должности, скопили деньжат и умерли в полном достатке. Гвардеец лейб-гвардии Балакирев, например, претерпел по делам политическим многие нужды, попал в шуты, а умер в возрасте девяносто шести лет.
Самым известным из шутов из-за свадьбы в Ледяном доме стал князь Михайло Голицин по прозвищу Квасник. Потомок Гедимина и внук опального Василия Голицына, фаворита царевны Софьи, удостоился в сорок лет сомнительной чести подавать государыне квас за то, что поменял вероисповедание, а еще за то, что женился по любви, словом, за непослушание. Он уехал в Италию, там влюбился, принял католичество и был счастлив. Его силой вернули на родину, разлучили с женой, назначили шутом. Потом его насильно женили на калмычке Бужениновой. Она была не карлица, а просто мала ростом. Как ни странно это звучит, их брак был счастливым. Умерла Анна, Голицыну вернули его именье, где он и дожил свой век в сытости и довольстве.
Вот анекдоты того времени, которые приписывают Голицыну:
«Один генерал жаловался Голицыну, что женился на молоденькой, но, к сожалению, уже не может надеяться на потомство. Голицын ответил:
– Надеяться вы, конечно, не можете, но всегда должны опасаться».
«Бирон спросил Голицына, что думают о нем люди?
– Ваша светлость! Одни почитают вас богом, другие сатаной, но никто человеком».
Шут Никита Волконский, особо почитаемый императрицей за глупость, пострадал из-за жены. Князь Волконский был женат на Аграфене Петровне, урожденной Бестужевой-Рюминой. Друзья звали ее Асечкой. Семейная жизнь молодой женщины не сложилась, но она была живым и общительным человеком, а потому образовала в своем доме, как сказали бы позднее, салон. Молодые люди собирались у нее по вечерам, разговаривали, попивали квас, сбитень и рейнское, танцевали, сплетничали. Салон Асечки посещали весьма интересные особы, был среди гостей, например, всем известный «черный арап» – Абрам Ганнибал.
Асечка имела чин гофдамы Екатерины I, а потому была в курсе всех дворцовых сплетен. Она-то и принесла друзьям обжигающую новость: Меншиков замыслил женить наследника Петра Алексеевича – мальчику всего десять лет! – на своей дочери Марии. Салон вначале охал, ахал, потом ерничал, и едко. Меншикову донесли об этой болтовне. Салон был разогнан, потом сам собой появилось словечко «заговор». За власть боролись люто, кто там разберет – был ли на самом деле заговор или просто пустая болтовня. Скорее всего, второе. Но расправились с молодежью круто: Асечку – в монастырь, салонных гостей – в ссылки, а князя Никиту, беспечного мужа, – в шуты.
Веселый Лакоста – по одной версии португалец и моряк, по другой – Д’Акоста, еврей и торговец из Голландии, не тяготился своей должностью. Говорят, что он острил даже на смертном одре: «Если бы Господь продлил мои лета до тех пор, пока я не отдам все долги, я бы жил вечно».
Теперь о Педрилло. Звали его Пьетро Мира, он приехал в Россию из Неаполя для пения ролей буфф и игры на скрипке. Вначале он делал то, зачем явился, то есть он пел и играл на театре, заработок был, но не значительный. Потом государыня решила завести при дворе итальянскую оперу и поручила Пьетро завербовать труппу. Из Неаполя приехал композитор Франческо Арайа. Все получилось, и труппа собралась достойная, и постановку осуществили по всем правилам. Опера Арайи «Сила любви и ненависти» была благосклонно принята двором, но Пьетро в дым разругался с чванливым композитором. Пьетро Миро остался не у дел. Но государыня о нем не забыла. Его позвали во дворец, и он стал Педрилло.
Новая должность вовсе не казалась ему унизительной. Он был артист и мог позволить себе не драться до синяков с карлами и кудахтать курицей, а дурака он валял по вдохновению. Главной его задачей было услаждать чувства великих игрой на скрипке, угадывать желания императрицы и фаворита, всегда иметь хорошее настроение и, если надо, занять место за карточным столом. В картах Педрилло был мастак, и скоро стал любимым партнером государыни.
И еще он был великий озорник и острослов. Вот знаменитая история с козой. Что тут ложь, что выдумка, неизвестно, но рассказывают люди, что у Педрилло была очень неприметная, скучная жена, прозванная кем-то Козой. Бирон решил посмеяться над шутом и спросил прилюдно: «Правда ли, что ты женат на козе?» Итальянец расхохотался: «Истинно так, ваша светлость. Моя коза брюхата и скоро должна родить. Смею надеяться, что ваша светлость не откажется подарить что-либо младенцу-козочке на зубок».
Шутка была подхвачена двором, и состоялось фантастическое действо. Кто говорит, инсценировали свадьбу с живой козой – эдакая мистерия в античном, до крайности неприличном виде. Другие утверждают – не свадьба, а представление «младенца» публике. На сцене рядом с живой козой возлежала крохотная козочка. Одно точно – Педрилло обогатился за этот вечер. Государыня сделала щедрый подарок «младенчику», свита вынуждена была последовать его примеру.
Тут же скажем, что после смерти Анны, Педрилло вернулся на родину богатым человеком. Вот пара шуток, которые приписывают Педрилло:
«Некая очень худая танцовщица выступала в номере поочередно то с мужем, то с любовником. Педрилло сказал со смехом:
– Две собаки дерутся за одну кость!»
И еще:
«Педрилло под общий хохот вступил в спор с вельможей и, конечно, переспорил.
Вельможа воскликнул в сердцах:
– Замолчи, или я спрячу тебя в карман! (Итальянец был маленького роста.)
Шут ответил:
– Не лучше ли тебе спрятать меня в своей голове? Там много пустого места».
Вернемся к Миниху. Что могло связывать всесильного фельдмаршала и царского шута? Миних познакомился с Педрилло еще до его шутовской должности. В России всякий иностранец смотрит на другого иностранца как на свое го человека. Мало ли как дальше повезет, иной из конюхов сразу в фавор, другой совсем не преуспеет, но пока мы все одним миррою мазаны. Миних никогда не позволял себе унижать достоинство Педрилло. Он вообще не любил этот скомороший балаган и терпел его только по необходимости, а с Педрилло обращался точно так же, как в бытность последнего артистом оперы. И, как показало время, имел с этого кой-какой навар. Шут и произнес это точное слово – «подкуп».
– Вас обвиняют в том, что вы посодействовали побегу Лещинского и получили за то от французов знатную сумму.
Миних не поверил собственным ушам.
– В сим приключении я ни малейшего касательства не имею, – произнес он непослушными белыми губами. – Кто посмел измыслить эту подлую ложь?
Педрилло молча воздел глаза вверх, потом выразительно скосил их в сторону покоев императрицы, и фельдмаршал понял, о ком идет речь.
– Толкуют, что был какой-то донос из Данцига, но не знаю чей. И еще говорят: «А на какие деньги фельдмаршал в Гостилицах работы ведет? И мануфактуру красильную достраивает, и пруд роет, и дом под корень сносит, чтоб новый построить».
Миних захотел крикнуть, де, я только обои меняю, но вместо этого сказал коротко:
– Спасибо, Пьетро, – и пошел прочь, сжав зубы и кулаки.
Вот что умели наши предки, так это злиться и негодовать в полную меру. Выпускали пары, а потому и жили дольше моих современников. Про женщин я не говорю, они в детях и внуках всегда утешение найдут, а мужчины довели себя до такого состояния, что у них средний возраст пятьдесят с хвостиком. Ему бы выхватить шпагу или пистолет, или хоть голой рукой отхлестать обидчика по роже, ан нет… Нельзя, неудобно, мы цивилизованные люди, да и бессмысленно, потом не отмоешься, и вообще, себе дороже – примерно такие слова говорят оскорбленные, ну, разве что мысленно матом пошлют обидчика или напьются с горя. Первый раз снес обиду, второй, а потом сердце и лопнет.
Миних вернулся домой, велел принести в кабинет вина, сам взял в поставце пол-литровую кружку и заперся на всю ночь. Он решил вызвать Бирона на дуэль. Ему не приходило в голову, что не по чину фельдмаршалу вызывать штатского негодяя, выскочку, плута и хахаля на шпажный поединок. Да и не по возрасту! Прознает кто, так все мальчишки прапорщики и подпоручики будут зубоскалить в кабаках до скончания века. Сейчас у него одна задача – написать негодяю обоснованный и краткий вызов. Этого он никому не может поручить, он должен сделать это сам.
Мало ли было у него врагов? Еще в начале его карьеры в России при строительстве Ладожского канала на пути его встал всесильный Меншиков, а он был не чета «конюху». До Миниха канал строил Писарев, и хоть он совершенно развалил дело, Меншиков ему покровительствовал. Не иначе, что всесильный князь вместе со своим подрядчиком прикарманивали государственные деньги. Но Миних смог доказать свою нужность государю, Петр не изменил своего решения. Канал построен всем на диво, а где Меншиков? Вот так-то…
Миних никогда не терпел клеветы и оскорблений. Он служил пятерым государям, он сменил пять армий. А государыне Анне он будет служить честно до смертного часа. Во время выбора на престол Анны Иоанновны адмирал Петр Сиверс открыто выступил за Елизавету Петровну, мол, ей самое место на троне. Нет, Миних никого не вызывал на дуэль, но написал честный донос. И где теперь Сиверс? Лишен всех званий и на десять лет отправлен в ссылку.
Перо разбрызгивало чернила и рвало бумагу, уже три варианта вызова были изорваны в клочья. А четвертый получился. Строго, корректно Миних сообщил Бирону, что обвиняет его в злостной клевете, объяснил суть вопроса и предлагал смыть оскорбление кровью. «Бог нас рассудит» – так кончил он свое послание. И пошел спать.
Миниху бы упаковать письмо надлежащим способом, но не до того было, от ярости дрожали руки. А утром, прежде чем письмо попало в руки секретарю, в него заглянула верная супруга Варвара Елеонора. Она пришла в ужас.
Прежде всего, она унесла из кабинета опасную бумагу и спрятала ее в своей корзинке с рукодельем. Объяснение с мужем она начала жестко.
– Бурхард, ты что, сошел с ума?
Миних со сна плохо соображал. Жена редко входила в его кабинет, а бумагами вроде никогда не интересовалась. Но когда он понял, что речь идет о предполагаемой дуэли, то взъярился не на шутку.
– Я должен проучить этого проходимца! Это дело чести! И не в коем случае не касается женской половины этого дома!
Жену нисколько не пугал грозный вид супруга.
– Ты бы еще государыню на дуэль вызвал. Это менее опасно. Я понимаю, клевета ужасна. И я уверена, что ты найдешь способ посчитаться с Бироном.
Разговор был долгий, и что примечательно, тон его не менялся, по спальне так и метались молнии, то шаровые, то стреловидные. Примирение пришло неожиданно.
– Я все равно пошлю ему вызов! – крикнул Миних.
– Тогда тебе придется написать его заново. Твое послание я сожгла.
Миних воздел кулаки и опустил их бессильно. Он понял, что второго письма он не напишет. Не мальчишка же он, в самом деле, не безусый корнет. Еленька права. Можно будет найти другой способ отомстить Бирону. Надо только уметь ждать.
9
Агент Петров удобно лежал меж камней и смотрел на окна дома. В руках у него была подзорная труба. Если Шамбер вставал из-за стола, Петров немедленно прикрывал рукой окуляр. Не приведи господь, объект увидит блеснувшее на солнце стекло. Тогда беда! Разумеется, Петров был вооружен. Если Шамбер направится в его сторону с явно враждебными намерениями, он пальнет в него не задумываясь. Но надо сделать все, чтобы до этого дело не дошло. Противника надо арестовывать тогда, когда на руках все доказательства его вины, и план злодейства понят, и само злодейство предотвращено.
А пока он не вник в суть дела. Шамбер сидит за столом уже второй час и что-то пишет, потом рвет бумагу, и опять продолжает писать. Черновиков извел – гору! Но ведь не любовное послание он сочиняет. Хорошо бы хоть одним глазком заглянуть в эти черновики, еще лучше украсть один из листков. Вряд ли француз в таком ворохе бумаги обнаружит пропажу.
Но нельзя. И в отсутствие хозяина к дому не подступиться, кабель не дает. Такой дрянной пес, спасу нет. Пристрелить бы его для порядка, но нельзя, Шамбер сразу заподозрит неладное. Стоп! Куда это вы собрались, господин хороший? Неужели сейчас весла в руки возьмете? А усы, а борода? Петров так привык к маскараду, что без бороды на улице Шамбер казался ему полуголым. Отбой… по нужде ходил. Ему самому тоже бы не мешало опрастаться. Пятясь как рак, Петров отполз от места лежания. Отличное место, прямо-таки лабиринт из камней, и земля идет полого вниз. Полегчало…
Петров вернулся на прежнее место, опять взялся за трубу. Что-то объект по дому мечется, что-то потерял. В полутьме дома вдруг вспыхнул свет. А… спиртовку запалил. Значит, сейчас жрать будет. Мы тоже перекусим. В каждом деле надо иметь разумный перерыв, у тебя от долгого писания рука затекла, я тоже глаза проглядел. Отлично в жизни все складывается, кабы не сопли. До черта он устал шмыгать и нос утиральником тереть. Мох, конечно, хорошая штука, но от земли все ж сильно холодом тянет, вот и схватил простуду. Сегодня он с собой и попонку принес, подстелил, а дрожь все равно продирает. И беда не в том, что из носу течет и он распух, как брюква, а в том, что нельзя в сыскное дело соваться с чиханием. Жалко, пирожки остыли. Отличные пирожки супруга изображает: и с луком, и с зайчатиной, и с капустой.
Интересно, а чем сейчас Шамбер закусывает? Такой важный с виду господин, а приходится самому готовить. Неужели он сам щи варит и капусту рубит? Скорей всего на сухомятке живет. Слышь, шевалье, так недолго и желудок испортить. Петров улыбнулся сочувственно.
Вот ведь странная штука жизнь! Враги мы с тобой, Шамбер, а родись я, скажем, во Франции, были бы друзья. Ну, не друзья, конечно, но не испытывал бы я к тебе злобы, мало того… брезгливости. А ведь ты на службе, как и я, и над тобой французский их сиятельство имеется. Тоже небось боишься не угодить.
Агент вытер утиральником руки, высморкался и взялся за подзорную трубу. Стареешь, Петров, подумал он грустно. Такие мысли о противнике в твоем деле вовсе недопустимы. Судьба так распорядилась, что ты с Шамбером в одной связке живешь и знаешь его лучше, чем родного брата, каждую складку на морде этого Огюста исследовал, все его повадки и привычки изучил, но должен испытывать к нему только два чувства: любопытство и здоровую ненависть. «Слово и дело государево!» – вот твой лозунг.
Опять за перо взялся, гад!
Шамбер писал бумагу, которая должна была пойти в карман убитого секретаря Дитмера. Он заранее сочинил текст в уме. И все казалось логичным и убедительным, но как только дело дошло до бумаги, слова начали толкаться в беспорядке, заматывали мысли, а главное, исчезала внятность, присущая деловым депешам. Одно дело, когда ты пишешь от своего имени, но попробуй подделаться под турецкого чиновника!
Бумага должна была доказать, что Дитмер является не только секретарем шведского посланника, но откровенным шпионом и посредником в тайном деле. Бумага свидетельствовала, что Швеция вступила в тайный сговор со Стамбулом и в нарушение мирных договоров пригласила Турцию объединить усилия и объявить России войну. Но сообщать об этом надо было не в лоб, а окольными путями. Умный человек пишет умным людям, и на другом конце должны понять его правильно.
У Швеции давно были партнерские отношения с Турцией. В Стамбуле после Полтавской битвы нашел приют доблестный король Карл XII. Позднее он вернулся на север и погиб в 1718 году при осаде норвежской крепости. Король оставил отечеству огромный долг Турции, и долг этот висел на шее Стокгольма непереносимым грузом. Пока шведы долги не возвращали, но разговаривали на эту тему много и охотно дарили обещания. С обсуждения темы долга Шамбер и начал свое письмо, тут все шло гладко, а вот главная идея никак не желала изящно укладываться в приготовленное для нее ложе.
Перед лицом Перова появился муравей, ухватил крошку от недавнего пиршества и потащил ее, пятясь. Крошка была в два раза больше трудолюбивого насекомого, и, конечно, Петров нашел в этом сходство с собственной персоной. Он ведь тоже пытается ухватить кусок, который гораздо больше его возможностей. Опять встал ребром вопрос: пора докладывать их сиятельству о происходящем или не пора? Интересно ведь знать, что поделывают в этот час подручные Шамбера мадам де ля Мот и иуда Козловский? Имя хорошенькой француженки Петров узнал в особняке, до которого домчала ее карета князя. Но, кроме имени, ничего узнать не удалось. Таких неразговорчивых слуг Петров отродясь не видел.
Шамбер запалил свечу. Значит, вот-вот будет темнеть. А может, трудолюбивый шевалье начал, наконец, переписывать свою депешу набело? Ишь, старается…
В прихожей их сиятельство только шепни, что Шамбер сыскался в Петербурге, сразу назначат день аудиенции. Визитом во дворец Петров себя обезопасит, но будет ли сие способствовать делу? Их сиятельство Бирон бывает иной раз чрезмерно крут и, сознаемся себе, неразумен. Трах-тара-рах и сразу решит, что Шамбера надо за грудки брать и тащить в Тайную. И вся храмина, которую возводил агент, используя в качестве кирпичиков улики и разумные выводы, рухнет в одночасье. Потому-то он и не написал до сих пор отчет и не подал его по инстанции.
Второй муравей деловито прополз по мху, крошек вокруг предостаточно, сейчас приведет с собой еще товарищей. Умные твари! Как бы сюда весь муравейник не явился. Мысли Петрова неожиданно потекли по мягко устланному, приятному руслу. Вспомнился лес с его густым запахом, трелями птиц, с нежнейшим колыханием трав, а также дупло в старом дубе, откуда он наблюдал за Шамбером. Хорошее дупло, сухое и просторное. Такие большие, старые дубы только в Польше и бывают, а у нас в России климат не тот. А интересно, господин Люберов тоже влезал в это дупло при слежке или пренебрег? А может, и не пренебрег, а просто не уместился в дупле-то. Правда, Родион Андреевич не высок ростом, но все же массивнее, чем сам Петров, и в плечах шире.
О Родионе Люберове агент сохранил самые теплые воспоминания. Крепкий человек и надежный, как то дупло, и разговаривает просто, без вывертов. Сейчас, говорят, в большую силу вошел, служит в непосредственной близости от их сиятельства. По конному делу первая персона и, надо думать, не только по конному. Он и в людях не меньше, чем в лошадях, разбирается, большой глубины человек.
Казалось, только на миг Петром отвлекся, отдавшись приятным мыслям, а Шамбер уже камин затопил. Дым из трубы устремился в вечернее опаловое небо. Теперь вся горница просматривалась очень хорошо. Отлично было видно, как француз комкал исписанную бумагу и бросал ее на пылающие поленья. Вот ведь сволочь предусмотрительная, думал Петров, с жалостью глядя, как уничтожаются важнейшие улики. Может, он заметил слежку? Не похоже. В Данциге сразу было видно, что француз почуял «хвост», а в Петербурге, не скажешь, конечно, чтоб он вел себя беспечно, но не оглядывался поминутно, не прятался за угол, ожидая, кто выйдет ему навстречу. И на Петровском острове жил вроде спокойно. Осторожный Петров не подходил близко к мызе, лодку оставлял в рыбачьем поселке, а до пункта наблюдения добирался мелкими перебежками, а чаще ползком.
Что же это написал он такое важное, что боится даже в собственном дому след оставить? Кого он страшится – случайно забредших бродяг, разбойников или внезапного ареста? Все, кончил с огнем баловаться. Сел в кресло, взял книгу. Похоже, сегодня он больше никуда не пойдет.
Когда Петров снялся, наконец, со своего поста, он уже твердо решил, что пойдет в манеж навестить господина Родиона Андреевича. Люберов не только с легкостью испросит для него аудиенцию у их сиятельства, но и совет может дать по главным вопросам. Сомнение было в одном, рассказывать о вероломстве князя Козловского или смолчать для пользы дела? Он знал, что Родион Андреевич приехал в Польшу вместе с Козловским по заданию Бирона. И уж если этим двум молодцам понадобился Шамбер, то ясное дело, задание было тайным.
А что еще он знал о князе Козловском положительного? Да ничего! И теперь оглушить господина Люберова сообщением, что его, можно сказать, соратник на службе отечеству предатель? Не каждый спокойно воспримет подобное известие. А выгодно ли Петрову волновать господина Люберова? Отнюдь нет.
На встречу с Родионом Петров угрохал целый день. В манеже ему сказали, что искомый господин по неведомым делам вчера отбыл в Кронштадт, но сегодня непременно будет. Если хотите подождать – ждите. Петров внял совету капрала и голосу собственного рассудка. При их общей занятости они вообще могут не встретиться. Оставалось только молиться Пресвятой Богородице, чтобы Шамбер не задумал произвести какую-нибудь пакость именно сегодня в отсутствие Петрова.
Когда Люберов уже к вечеру явился в манеж, он застал в своей комнатенке старого знакомца, которого и не признал сразу. Свернувшись калачиком на крохотной кушетке, агент сладко спал.
10
Прости мне, мой милый читатель, что у меня так много действующих лиц. Я сама в них иной раз путаюсь, а каково вам? Дело в том, что очень трудно, почти невозможно расстаться со старыми героями. Они бродят у меня по комнате или тихо сидят в уголке, дожидаясь своего часа. Я дала им жизнь, и без моих усилий они не желают продолжать ее дальше. Но новые герои меж тем, бесцеремонно расталкивая всех локтями, вмешиваются в сюжет.
Кто любит Набокова, тот помнит его великолепное описание преддверия сна, кажется, в «Дальних берегах». Вы сами наверняка испытали подобное. Уже дрема поглотила тебя, глаза плотно закрыты, но мозг не уснул окончательно и сами собой вдруг являются неведомые лица.
Иногда это чудовища с полотен Брейгеля или Босха: носы с бородавками, проваленные рты, в набрякших веках прячущиеся алчные глазки – брррр… но чаще у них вполне симпатичные, почти узнаваемые черты. Мне кажется, что я их совсем не знаю, а потом вдруг как озарение – да это же Евграф, верный Матвеев денщик. Как поживаешь, браток? Что-то в доме Варвары Петровны тебя не видно?
Оно и понятно. В Петербурге Еврафа отыскал его прежний начальник и приспособил к новому, очень приятному делу. Теперь Евграф художник. Целыми днями он сидит в мастерской и малюет гербы для полевых, гарнизонных и ландмелицейских войск. Вот, скажем, герб для Новгородского пехотного драгунского полка: золотой щит, белое поле, желтый престол с красной подушкой, над ним три желтых подсвечника с горящими свечами, а совсем внизу крест на крест положенные скипетр и крест. По сторонам от престола расположены два черных медведя.
А вот другой герб, для московских пехотинцев, драгун и гарнизонных: на золотом щите, на красном поле св. Георгий Победоносец, порешающий змея. Сейчас Евграф занят рисованием герба для гарнизонных войск из города Козлова. Совсем не сложный герб: золотой щит, на красном фоне белый козел скачет по зеленой траве. Кажется, чего уж проще, а вот не получается козел, да и только. Вид у животного излишне легкомысленный, чуть подправишь ему морду – на человека похож. Евграф уже испортил одно полотнище. Не иначе как князь Козловский, сам того не ведая, озорует с кистью. Теперь Евграф мазки кладет осторожно и мысленно просит прощение у барина, что перестал ему служить.
Еще Набоков писал про голоса. «Так, перед отходом ко сну, но в полном еще сознании, я часто слышу, как в смежном отделении мозга непринужденно идет какая-то странная, однобокая беседа…» Я не слышу беседы. В мои барабанные перепонки бьется одинокий встревоженный фальцет. Поначалу и слов не разберешь, а потом сообразишь с испугом – Клеопатра. И жалобы ее мне вполне понятны. «Так мне рожать или как?» – спрашивает испуганная женщина. Я тут с головой влезла в интриги и бросила бедную мою героиню на сносях, а ее заботы куда важней, чем любые шпионские игры. Рожай, голубушка, пришла пора. Я сделаю все, чтобы роды были благополучны. У тебя родится мальчик. Как назвать? Сама придумаешь.
Одно скажу, Родион будет счастлив, но сдержан. Ты, Клепа, не обижайся на его сдержанность, такой уж он человек. Иные мужья веселые, спровадят жену в роддом, а сами бегом с друзьями праздновать. А как там бедная женщина корячится в родовых муках, это не их дело. Родион не таков, он просто не любит чрезмерных эмоций.
А что творится в Сурмиловском дому? Неуютно там стало хозяину, тяжко и сумрачно. Карпу Ильичу и в голову не приходило видеть в лице Ксаверия возможного жениха. Он был Лизиной игрушкой, не более, а как петрушку в разноцветном трико можно считать серьезной партией? Когда, наконец, Сурмилов сообразил, что к чему, и испугался, и довел Павлу до обморока, а Лизоньку до истерических слез, было уже поздно.
Жизнь под одной кровлей с поляком стала казаться Карпу Ильичу не просто трудной, но и невозможной. Он бросился хлопотать о полном освобождении Ксаверия из плена, но не тут-то было. Умные люди говорили: «Не стоило вызволять его из плена и забирать к себе домой. В Нарве дело с освобождением быстрей бы пошло, в столице тяжело. Ведь прямого указания, как поступать с беглыми мастеровыми, еще нет, и неизвестно, когда будет. Понятно, что ваш князь Гондлевский не француз, а поляк. Ну и что из того? В Польше по-прежнему неспокойно. Пишите письмо на высочайшее имя. И лучше бы, если бы ваш поляк сам догадался дать деру. Поверьте, никто его искать не будет».
Но Ксаверий не собирался «давать деру». Во-первых, он хотел, чтобы все было по правилам, во-вторых, куда же ему от любимой бежать?
Сурмилов уговаривал дочь:
– Оставь поляка в покое. Не сбивай его с панталыку. У тебя другая судьба. Ну что ты хмуришься? Я для твоего счастья на все готов. Помнишь, у тебя на примете был князь, наш, русский. Козловский его фамилия. Давай позовем его в дом, возобновим знакомство. Я знаю, он с самим Люберовым в родственниках состоит. А я за тобой такие деньги дам, что он не посмеет отказаться.
– Не хочу Козловского, – топнула ногой Лизонька, – он холодный, злой и неприятный человек.
На следующий день Сурмилов решил повторить попытку, опять стал предлагать Козловского. На этот раз Лизонька только плакала и трясла головой, выражая категорический отказ.
Тогда Сурмилов вызвал к себе Ксаверия и строгим голосом сказал:
– Прости, князь, но ты должен приступить к своим прямым обязанностям. Я тебя в дом взял как мастерового для работы. Вот этим делом и ты будешь заниматься. Жить назначаю в сторожке при оранжерее. Прости, но это делается для твоей же пользы. Я получил извещение, что по домам будет наведываться государева комиссия для выяснения, чем именно занимаются изъятые из лагеря пленные поляки.
Произнося свою речь, Сурмилов барабанил толстыми пальцами по лакированной столешнице, осанисто вскидывал голову, но воровато отводил глаза. Иногда самым нахальным, грубым и бесцеремонным людям бывает трудно произносить заведомую ложь. А ему было попросту стыдно. Когда князь Гондлевский дал приют его кровиночке, он не посмотрел на то, что Лизонька русская. А ведь тогда Россию в Польше ненавидели, наверное, и сейчас не больно-то любят.
Мы-то поляков любим, нам с ними делить нечего, а вот приходится, как простого садовника, отправлять высокородного шляхтича в оранжерею. Но с другой стороны – что ему делать-то? Может, для Польши князь Гондлевский завидный жених, а для России он ноль, поскольку католик. Никто разрешения на эту свадьбу не даст. И своевольничать нельзя, а то, не приведи господь, упекут Лизоньку в монастырь.
Ксаверий внимательно выслушал Сурмилова, ни один мускул в лице его не дрогнул.
– Я все понял, господин Сурмилов. Извольте показать, где я буду жить.
Расторопный слуга отвел шляхтича в сторожку, а вечером дочь закатила Карпу Ильичу совершенно фантастическую сцену со слезами, истерикой и, наконец, обмороком. Так и повалилась бедная на ковер, а когда после нюхательной соли пришла в сознание, то прошептала, словно в беспамятстве:
– Поздно уже, батюшка.
– Вот именно, что поздно. Уж двенадцать пробило. В постельку пора.
– Я не о том толкую. Поздно меня уговаривать. Ксаверий – отец моего будущего ребенка. Если не благословишь наш брак, я пешком за ним уйду. Мне без Ксаверия не жить.
Оставим их одних после этой трагической, душераздирающей сцены, пусть сами разбираются, а мы пройдемся по Петербургу и посмотрим, что делают другие наши герои.
Шамбер в этот момент обретается в совершенно новом для нас месте, а именно на загородной даче генерала Рейхеля и непринужденно беседует с садовником. Садовник, разумеется, немец, русских на эту должность в хорошие дома не берут, потому что они ничего не понимают в мальвах, нарциссах и шпалерных розах. На этот раз Шамбер отказался от бороды и усов и облачился в западное платье.
– А скажи, любезный друг. Может ли сыскаться в этом доме для меня достойная работа?
– Это вам лучше у хозяев узнать, – ответил садовник, с удовольствием отрываясь от работы.
– Вначале лучше потолковать с соотечественником.
– Так хозяин тоже немец.
– Это хорошо.
– А выговор у вас вроде не чистый.
– Я француз. А скажи, друг, дети есть у хозяина?
– Две дочери.
– Значит, гувернер им не нужен.
– И гувернантка не нужна. Они уж на выданье!
– Остается только порадоваться за милых дев, – Шамбер улыбнулся. Добродушная улыбка давалась ему явно с трудом.
– Да радоваться пока вроде нечему. Был жених, ходил в дом, а потом и перестал. Отказали ему. Вот так-то?
– А почему ж отказали?
– Что-то заболтался я, – вдруг озабоченно сказал садовник и принялся усердно обрезать сухие ветки у куста смородины.
– Почему свадьба расстроилась? – упорствовал Шамбер. – Жених плох?
– Уходите, сударь. Не моего ума это дело. Грех это, совать нос в господские дела, – секатор угрожающе щелкал в его руке.
Больше мнимый камердинер ничего не добился. Это был риск, явиться вот так в дом незнакомого генерала, но Шамберу необходимо было проверить сообщения мадам де ля Мот. Он нисколько не сомневался в добросовестности Николь, но она могла что-то напутать или стать жертвой откровенного вранья.
Теперь Шамбер знал все, или почти все, о секретаре шведского посланника. Молодой человек из хорошей семьи, но имел несчастье родиться младшим из трех сыновей. Это и заставило его искать счастья за морем в чужой стране.
Николь отзывался о секретаре Дитмере, как о хорошем работнике, он был трудолюбив, честен и лишен обычных, свойственных молодым людям пороков. Он не играл в карты на большие деньги, не дружил с Бахусом, не покупал дорогих лошадей, словом, был бережлив.
– Это у вас в Швеции называется «бережлив», а в Париже говорят скуп, – ворчал Шамбер, читая аккуратные, пахнувшие духами послания Николь. А может, и не духами они провоняли, а лекарствами шведа Карлоса.
«В Стокгольме у Дитмера была невеста, но, видно, все расстроилось. Во всяком случае, в Россию он уезжал стремительно. Сейчас он захаживает в дом генерала Рейхеля. Дитмера не раз видели на прогулке с Адель Рейхель. Я с ней незнакома, но, говорят, резвая девица. Видно, потому они и ссорятся так часто. Нолькен говорит, что по лицу секретаря сразу можно понять, пребывает ли он в мирных отношениях с Адель или они опять “расстались навсегда”. Но, похоже, дело идет к свадьбе».
Это были не просто ценные сведения, а единственная ниточка, а если хотите, нить Ариадны, которая привела бы Шамбера к его сомнительному успеху. Дитмер жил там же, где работал, то есть в шведской резиденции. Он редко выходил из дому, а если и выходил, то не подчинялся никакому режиму. Если бы Шамберу надо было его просто убить, то это была бы простейшая задача. Пробрался в дом через окно и всадил нож спящему в горло. Но как прикажите вытащить из дома труп и доставить его в усадьбу Козловского? Адель Рейхель была приманкой. Сама того не ведая, она поможет Шамберу привести секретаря в нужное место, в нужный час. А Петров меж тем сидит на удобной лавке в доме купца Фанфаронова, пьет с Сидоровым брагу и уже по третьему разу объясняет очевидное: если ты будешь вести себя так, как я тебе велю, тогда деньги и уважение, но если ты начнешь выкамаривать, проявишь самостоятельность и обманешь меня вместе с Шамбером, тогда Тайная канцелярия и Сибирь.
– Ты будешь делать все, что тебе прикажет Шамбер. Все, кроме смертоубийства. Этого не делай ни за что, потом не отмоешься. Понял?
Сидоров покорно кивал головой. Вид у него был вполне уверенный, усы на круглой роже опять показывали без десяти минут два.
– А как распоряжение получишь, этими же ногами беги ко мне. И горе тебе, если не успеешь. Понял?
Голова опять опустилась вниз в безусловном утверждении.
11
Нельзя сказать, чтобы любовь Матвея перевернула всю жизнь Николь, но она заставила ее о многом задуматься и посмотреть на себя со стороны. Она не обманывала князя, когда признавалась ему в любви. Это было то самое чувство, которого она втайне ждала всю жизнь.
Наивность князя она называла честностью, в бесшабашности, часто нелепой, ей виделись смелость и удаль, болезненную застенчивость, которая иногда и ее вводила в краску, казалась скромностью и добротой. Впрочем, все это не так уж далеко от истины.
И на русский язык она перешла без всякого умысла. Монтень описал подобное лучше, чем это бы сделала я. «Латинский язык для меня как родной, я понимаю его лучше, чем французский, но уже сорок лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным и совсем не пишу на нем; и все же при сильных и внезапных душевных движениях, которые мне довелось пережить раза два-три за мою жизнь, и особенно в тот раз, когда я увидел, что мой отец, перед тем совершенно здоровый, валится на меня, теряя сознание, первые, вырвавшиеся из глубины памяти и произнесенные мной слова были латинскими: природа сама выбивается наружу и выражает себя, вопреки долгой привычке».
Разумеется, мы не можем скалькировать этот текст точно на внутреннее состояние Николь. В Петербурге она открыто пользовалась русским языком. Более того, она рассказывала в свете историю своих родителей, на этом и была основана ее «легенда», как говорят на современном шпионском жаргоне: «она приехала в Россию искать своих русских родственников». Но на разговор по-русски с Матвеем было наложено строгое табу. Она видела в нем опасного противника и надеялась любым способом узнать, насколько он опасен.
Если бы не задание Шамбера, никогда бы она не стала играть с князем в любовь. Но служба заставила. Она начала эту игру и заигралась. Вот тут ей и вспомнился рассказанный Матвеем сон. Это было по дороге из Польши. Произошла поломка кареты, они пошли гулять в цветущие луга. Тогда ее всерьез озадачило и смутило виденье Матвея: корабль в море, брызги пены в лицо, и она на палубе в красном плаще, а розовый шарф обвивает фок-мачту. Рассказ этот был столь точен, что Николь в первый момент испугалась. Неужели этот русский каким-то неведомым способом подсмотрел реальную картинку из ее жизни. Но ведь это полный абсурд, это невозможно! Князь тогда смутился и пролепетал, что видел корабль и даму у мачты во сне. Но ведь это знак! Сама Фата-моргана подсказывает им, что встреча их не случайна, а просчитана заранее на небесах! А дальше все пошло, поехало, вырвалось из-под контроля.
Впервые она увидела в князе Матвее мужчину, когда он стоял полуобнаженным на фоне весенней зелени. Бабочки уже направились в свой первый полет, гудели шмели, горько благоухала черемуха. Незамысловатый пейзаж вызвал в памяти очень тогда популярную оперу Скарлатти «Коринфский пастух», так, кажется, она называлась, а потом слово, как озарение «Адонис». Впрочем, мы уже говорили об этом.
Николь сама себе созналась, что в своем желании завлечь князя Матвея не заметила, как перешла опасную грань. Случилось ли это в тот вечер, когда они лежали между двух пыльных перин или все произошло гораздо раньше? Откуда-то пришло ощущение, что она с князем одно целое.
Николь вдруг обнаружила, что может быть застенчивой. Куда-то делось ее тщеславие, ей хотелось подчиняться, а не руководить. Она с удовольствием смеялась над своим недавним благоразумием. Днем и ночью Николь думала о князе, более того, мысленно советовалась с ним, и что удивительно, получала ответ на свои вопросы. А главное, его ласки были столь пленительны!
Матвей настаивает на слове «любовь», значит, это так и есть. Слово это обжигало губы, и она призналась себе, что никогда не была так счастлива.
Иногда трезвый голос брал верх. «Остановись, подумай, – брюзжал он, – соразмерь свои наивные мечты с реальностью! Тебя полюбит государыня, ты станешь своим человеком при дворе и получишь монаршее распоряжение на брак. А дальше что? Княгиня Козловская останется в России навсегда и будет счастлива, счастлива всем на зло? Но ведь это вздор, – вопил истошно трезвый голос, – ты же сама отлично понимаешь, что эта любовь обречена на провал».
Но пока все складывалось именно так, как мечталось. Госпожа Юшкова, как обещала, устроила встречу с государыней, которая произошла в интимной, домашней обстановке. Государыня была обряжена в шелковое, почти без украшения платье-робу, в кресле сидела неподвижно, как монумент, и только глаза были очень живы и любопытны. Она оглядела мадам де ля Мот с ног до головы, видно, мимолетная встреча на китайском торжище прошла для нее совершенно бесследной.
– Садись. Да какая ты молоденькая и свеженькая, ровно бутончик. Ну, рассказывай…
– Что рассказывать, Ваше Величество? – не поняла Николь.
– Про Париж рассказывай, – шепнула стоящая рядом статс-дама Юшкова.
– А что – про Париж?
– Все рассказывай, и про дома, и про улицы, про короля и королеву, про обычаи и нравы, про их двор. Ну, говори, говори. Только быстро, споро и не прерывайся.
Николь умела рассказывать, она знала толк в интересных подробностях, умела во время пошутить и анекдот вспомнить из жизни великих.
Царица слушала внимательно, отзывчиво, где надо смеялась или улыбалась иронично, а ежели что трагическое появлялось в рассказе, то тяжелое, мясистое лицо ее хмурилось, переносье перечеркивала твердая поперечная складка и губы брезгливо поджимались.
Меж тем рядом с государыней поставили маленький столик с круглой столешницей, принесли кофий в китайской чашке, серебряный молочник и сладости на малых тарелочках. Их величества сами изволили налить себе в чашку сливок. Государыня сделала большой глоток и зажмурилась от удовольствия.
Николь прервала свой рассказ, простая вежливость подсказывала, что надо дать царственной слушательнице передохнуть и спокойно потрапезничать. Но не тут-то было. Статс-дама Юшкова довольно бесцеремонно и больно толкнула Николь в бок.
– Ты говори, говори, – прошипела она.
– Но меня уже не слушают.
Николь уже устала… В комнате не было часов, но она готова была поклясться, что молотит языком без умолку не менее двух часов, а может, и того больше.
– А ты все равно говори, – настаивала Юшкова.
Кабы в то время уже был изобретен нехитрый прибор под названием радио, Анна Иоанновна сильно сократила бы штат своих шутих и говоруний. Не одна она принадлежала к тому типу людей, которым для душевного комфорта необходим постоянный шумовой фон. И не важно, о чем вещает диктор, главное, он что-то говорит, и появляется ощущение, что у тебя есть собственное окошко в мир.
Видно, до государыни дошел смысл перебранки. Она вдруг засмеялась, бросила в сторону милостивую фразу: «Пусть отдохнет!», тут же хлопнула в ладоши и крикнула громогласно:
– Девки, пойте!
За стеной грянул хор. От неожиданности Николь подпрыгнула в кресле. Хороши порядки при русском дворе! Она уже слышала, что Анна собирает певуний со всей России. Чтобы попасть в хор, мало хорошо петь, нужно еще быть спорой во всех видах женского рукоделья. Целый день, ожидая царского окрика, прилежные девки вышивают, прядут или кружева плетут, не задаром же их кормить. Но как раздастся приказ, они должны все разом громко начать петь. Репертуар был русский – народные песни. Хор не фальшивил, рулады выводил звонко, и многоголосие было налицо, но вряд ли истинный любитель музыки получил бы удовольствие от их пения. Даже грустные, мелодичные песни исполнялись открытым, белым звуком, и все это громко, напористо. Юные певуньи вели себя как солдаты на плацу, исполнявшие военные марши. Об умении или не умении хористок говорить не будем, государыня любила, чтоб громко, и весь сказ. Пение прекратилось так же внезапно, как началось.
– Ну, рассказывай дальше, – Анна милостиво кивнула Николь. – Я буду звать тебя Настасьей, – и, уже обращаясь к Юшковой, добавила: – Надо переселить Настасью во дворец, чтобы всегда была под рукой.
Дальше пошло живое обсуждение, куда именно поселить мадам де ля Мот, вернее сказать, Настасью. Чтоб той было удобно, надобно выселить из «северной горницы, где Цицера на потолке», какого-то Прошку, который там не по чину живет. Можно, конечно, поместить Настасью в угольную комору на первом этаже, но в той коморе от окон дует и опять же караульня рядом, а гвардейцы галдят во всю пасть и в речах не воздержанны. Обсуждение прервалось уверенным приказом, почти окриком статс-дамы:
– Ты рассказывай, рассказывай…
А что рассказывать, если тебя не слушают? Разве она говорящий скворец в клетке, который сам себе на потеху трещит целый день одну и ту же заученную фразу? Но Николь рассказывала. Если таким путем надо идти к намеченной цели, то она пойдет им. Она будет говорить императрице именно то, что нужно Парижу… и ей самой, и возлюбленному князю Матвею. Она приоткроет окошко в большой западный мир и заставит царицу другими глазами взглянуть на Францию. Флери, мудрый правитель, скажет она, и нет у него более горячего желания, чем дружба с Россией. Флери хочет блага всем народам, живущим под солнцем: и французам, и русским, и туркам, и шведам, и, конечно, полякам. О несчастном короле Станиславе Лещинском мы поговорим отдельно. Она будет рассказывать интересно и ярко, но не сегодня. Сегодня она устала. Уже и голос сел, и запал вышел.
От бесконечной говорильни мадам де ля Мот спас Бирон. Он без стука вошел в комнату, что-то пошептал в ухо своей благодетельнице, и та, тяжело поднявшись с седалища, безропотно последовала за ним. В дверях Бирон обернулся и внимательно посмотрел в глаза Николь, и она почувствовала, что в отличие от царицы, он не забыл минутной встречи в итальянской зале на ярмарке китайских товаров. Обращенный на Николь взгляд был насмешлив и опасен.
12
А потом разразился скандал.
Предстоящее новоселье Николь отодвинулось на не определенный срок. Может быть, неведомый Прошка закапризничал, не желая расставаться с Цецерою, а скорее всего причиной была невообразимая теснота во дворце, людей там было, как грибов в непочатой кадке. Николь была рада, что ее оставили в покое, ей вовсе не хотелось впархивать в золоченую клетку. Она согласна была ходить во дворец, как на службу, но жить в доме негоцианта, иметь собственное время и принадлежать себе самой.
Однако во дворец ее больше не звали. Надушенные и нарядные записки, которые она аккуратно рассылала генеральше Адеркас и статс-даме Юшковой, оставались без ответа, и Николь решила сама нанести визит. Если она явится не вовремя, ее просто не примут. Это можно пережить. Главное, иметь хоть какую-нибудь информацию.
Генеральша Адеркас приняла неожиданную гостью сразу, хотя, судя по поведению хозяйки, Николь явилась именно не вовремя. Генеральша находилась в истерическом, болезненно-взвинченном состоянии, когда кажется, уже все слезы выплаканы, но стоит появиться новому лицу, и они опять начинаются литься щедрым потоком.
– Боже мой, что случилось, сударыня? На вас лица нет! Успокойтесь! Вы больны? Умоляю, как вы себя чувствуете?
Генеральша Адеркас не была больна, скорее, она была пьяна, но в меру. Привычка к спиртному и крепкое физическое строение удерживали ее от той грани, когда человек становится невменяем.
– Я уезжаю, – сказала она, утирая слезы и всхлипывая. – Я уезжаю в Германию. Меня прогоняют. Меня высылают из России, как каторжанку.
Николь хотелось уточнить, что каторжан из Петербурга отправляют на восток, но никак не на запад, но воздержалась от комментариев. Лицо ее уже приняло выражение живейшего сочувствия, и не стоило разменивать эту мину на другие, менее существенные маски. Про себя она думала, как бы ловчее заставить эту пьяную дуру разговориться.
Но генеральшу не надо было подталкивать к откровенности. Она готова была не только мадам де ля Мот рассказать «все-все». Выпей Адеркас еще бутылку, она бы на улицу пошла и рассказала прохожим о своем горе, и только боязнь ухудшить этим и без того бедственное свое положение удерживали ее от опрометчивого шага.
А случилось вот что. Не зря княгиня Щербатова посещала молодую компанию принцессы Анны Леопольдовны. Теперь уже с полным основанием можно сказать, что ездила она туда не за приятным общением и радостью, а с единой целью – следить за поведением принцессы и доносить все государыне.
Госпожа Адеркас не знает, как именно княгиня Щербатова оговорила молодую компанию, но при дворе теперь болтают страшные вещи. Про саму генеральшу говорят, что она потакала юной принцессе в ее недостойном поведении и даже своими руками толкала юное создание на путь порока.
– Что же теперь? – спросила потрясенная Николь.
– Принцессу под замок, меня в Германию, графа Линара в Саксонию.
– И графа Линара высылают?
– Он уже уехал. На его место явится другой посланник. А я, а я… Об одном прошу, чтобы мне позволили проститься с моей воспитанницей. Мое положение ужасно! Все, что нажито непосильным трудом, прахом, прахом…
Слезы из ее глаз хлынули новым, еще более мощным потоком. Если бы генеральшу в этот момент видел Кэрол, отец незабвенной Алисы, он написал бы, что генеральша не только плавала в собственных слезах, но и потонула в них.
Николь очень хотелось спросить, не замешано ли в этом скандале и ее собственное имя. Ведь княгиня Щербатова видела, что Николь принимают у принцессы Анны как близкого человека. Но пока она решила не заострять внимания на собственной особе. Если и ее имя склоняют при дворе, то генеральша наверняка проговорится.
– А почему бы вам не попросить помощи у вашего родственника? – спросила она, ласково взяв генеральшу за руку. – Господин Мардефельд, если не ошибаюсь, ваш дядя?
Прусский посланник Мардефельд, влиятельный человек при русском дворе, действительно был родственником генеральши, он и привез ее в Россию, где немцам было чистое приволье.
– Он мне не дядя. Он кузен по матери. Я уже обращалась к нему. Он отказался принимать во мне участие. Он сказал, что я сама виновата, что я играла с огнем, а в России, где все дома деревянные, к огню и пожарам относятся очень серьезно.
– А обо мне ничего при дворе не говорят? – спросила Николь осторожно.
– А что про вас могут говорить? Мало ли кто был в гостях у принцессы. Правда, княгиня Щербатова дала понять, чтобы все окружение Анны Леопольдовны, что называется, не высовывалось. Пока государыня гневается, все должны сидеть, как мыши. Вы карету-то где оставили? У подъезда? На всякий случай не говорите никому, что были у меня с визитом. И еще, прошу вас, верните пропуск во дворец, который я вам дала. Русские говорят: береженого бог бережет. А меня не уберег. Я уезжаю через три дня, – генеральша набрала в легкие новую порцию воздуха и опять начала причитать, как языческая плакальщица. – Мне бы только увидеть мою голубушку. Принцесса Анна в страшном горе. Ее разлучили с Юлией Мегден. Я думаю, что потерю общества графа она пережила с меньшим горем, чем разлуку с верной подругой. Поверьте, она жить не может без Юлии. Не знает, что есть, что надеть, какие романы читать.
Автору тоже жаль принцессу Анну, особенно если окинуть общим взглядом все ее судьбу. Она не любила жениха и потянулась к красавцу Линару. Гнев императрицы, опала, свадьба, далее мимолетная призрачная власть, всего-то год ходила она в регентшах, и, наконец, оскорбительная ссылка в Холмогоры, где она и умерла в возрасте двадцати восьми лет.
Были в России и более страшные судьбы, но грустно, что про Анну Леопольдовну русская историография даже не обмолвилась добрым словом. Передо мной портрет кисти Вишнякова из Романовской галереи Зимнего дворца. Он писан за несколько месяцев до ее смерти уже в ссылке. Сейчас портрет под названием «Анна Леопольдовна в оранжевом платье (с белой повязкой)» выставлен в Русском музее. Про эту белую повязку, которой она на манер простонародных замужних женщин убирала голову, упоминает Миних в своих мемуарах.
Молодая женщина с красивыми, выступающими из богатых кружев руками (впрочем, на портретах Вишнякова у всех красивые руки), на шее жемчуг в два ряда – и больше никаких украшений. Да и само оранжевое платье явно домашнее, простоволосая голова прикрыта косынкой. Леди Рендо пишет в своих «Записках»: «В ней нет ни красоты, ни грации, и ум ее еще не выказал ни одного блестящего качества. Она мало говорит и никогда не смеется…» Миних тоже не видит в ней женщину: «…принцесса Анна была очень невнимательна к своему наряду, часто в спальном платье ходила к обедне, иногда оставалась в таком костюме даже в обществе, за обедом и по вечерам, проводя их в карточной игре с избранными ею особами». И все историки хором пишут, что трудно было найти на роль правительницы менее подходящую кандидатуру.
Понятное дело – неподходящая. А где ее взять подходящую в двадцать два года. Цариц ведь не выращивают в специальных инкубаторах. Они обычные люди. И возвращаясь к портрету, добавлю: лицо как лицо, нос, пожалуй, длинноват, но зато великолепные, живые карие глаза. Чтобы объяснить форму этих глаз, назову только имя актрисы – Одри Хепберн. Помните Наташу Ростову или английскую принцессу из «Римских каникул»? У несчастной Анны Леопольдовны были такие же раскосые по-оленьи глаза.
Бедная девочка, несчастный олененок, лишенный «красоты и грации». Пока ей еще шестнадцать. Пусть со смыслом проживет оставшиеся годы, к сожалению, я не могу сочинить ей поменьше горестей, побольше радостей. Все уже свершилось.
Вряд ли мнение Николь совпадает с авторским, но и ей по-своему было жаль Анну Леопольдовну. Правда, по выходе от мадам Адеркас она о принцессе и думать забыла. Во дворец в ближайшее время ее не позовут, это ясно. Но не это беспокоило Николь. Ей предстояла встреча с Шамбером, от которой она не могла отвертеться. Пока они благополучно переписывались через шведа Карлоса, садовник был пунктуален, неразговорчив и надежен. Через Карлоса Николь и получила очередную записку, в которой ее просили приехать на Невскую першпективу, подле Слонового двора посадить в карету Шамбера и увезти его за город. Ехать с Огюстом в «цветущие луга», куда давеча она приглашала Матвея, ей совсем не хотелось, но у нее не было выбора. Шамбер был не тот человек, с которым можно было спорить.
И вот они сидят в карете. Шамбер по-прежнему обряжен в немыслимое крестьянское платье, на ногах рыжие от времени не чищеные сапоги. Иссиня черная борода лопатой вызывает в памяти шевалье Жюля Ре, прототипа героя известной сказки Перро.
– Зачем вы хотели меня видеть?
– Об этом мы поговорим после.
– Когда – после? – не поняла Николь.
– Когда выйдем из кареты. У вашего кучера тоже есть уши.
– Во-первых, он верный человек, а во-вторых, карета так тарахтит, что я себя-то слышу с трудом.
Шамбер помолчал с минуту, а потом решил, что Николь, пожалуй, права. В лесу тоже могут быть уши, мало ли кто шляется по буеракам в поисках грибов и ягод.
Шамбер задал первый вопрос. Вот оно, соберись, Николь, ты должна выглядеть спокойной и беспечной, и еще меланхолической, как кошка. Так, кажется, говорят англичане? Главное – не горячиться.
– Князь Козловский сказал, что он ничего не знает про эти деньги.
– Понятно, – с готовностью отозвался Шамбер. – А что еще он мог ответить. Вы говорили ему, что мы сообщим Бирону о его подвигах?
– Говорила, – соврала Николь.
– Предлагали поделить деньги на три части?
– Предлагала, – так же уверенно соврала она.
– И каков был ответ?
– Князь сказал, что ему нечего делить, потому что у него нет этих денег. Он клялся всем святым, всем, что ему дорого в жизни.
– Но нам известно, что он расплачивался в деревне этими самыми луидорами, которые Виктор вез в Варшаву. Вы сказали об этом князю?
– Конечно, сказала, но не забывайте, Огюст, что все деньги на одно лицо. Но и здесь князь нашел объяснение.
Во время вашего путешествия он украл из-под сиденья кареты одну бутылку вина и спрятал, чтобы распить ее в конце пути. Утром, после побоища, он достал эту бутылку и обнаружил в ней деньги.
Это было что-то новенькое. Шамбер интуитивно чувствовал, что если в этом рассказе и есть правда, то это только часть правды. Но сейчас уже некогда было добираться до сути. Он понял, что проиграл. Тем более важным было взять реванш в другом, уже не личном, а политическом деле.
Разговаривая с Шамбером, Николь мысленно расставляла вешки на пути, раскидывала камешки, словно Мальчик-с-пальчик. Впрочем, так же она разговаривала с Матвеем, но князь никогда не возвращался к трудно проходимым, уже оговоренным темам. Он только сто раз на день спрашивал: «Ты меня любишь? Нет, ты правда меня любишь?» Для ответа на эти вопросы не нужны были ни вешки, ни камешки.
Другое дело Шамбер. Он задал свои ключевые вопросы, получил на них ответ, а потом пошел бродить по кругу, выспрашивая с иезуитской настойчивостью: «Как именно вы спросили князя Козловского про деньги? Какими именно словами? Нет, уж вы вспомните, пожалуйста. А как он отреагировал на вот этот ваш вопрос? Понятное дело, разозлился. Но что ответил, дословно?» Николь морщила лоб, вспоминала, отвечала, потом опять поднимала глаза вверх, сочиняя ответ, и, наконец, взорвалась. Взрыв надо было тоже дозировать, чтобы злоба не вышла из берегов.
– Какого черта, Огюст? Я вовсе не обязана перед вами отчитываться. И ваш князь Козловский мне смертельно надоел! Вы попросили меня о любезности. Ну хорошо, речь шла не только о любезности, вы просили помощи. Я помогла вам. Но я не желаю, чтобы после всего вы трясли меня, как спелую грушу. У вас своя работа, у меня своя.
Шамбер словно опомнился, разом остыл. За разговором они успели заехать в непомерную даль. За кронами деревьев уже видны были стены Александро-Невского монастыря. Николь приоткрыла дверцу кареты.
– Назад! – крикнула она кучеру. – Поворачивай назад!
Шамбер не возразил ни словом. Он вдруг стал вежлив, как испанский гранд. Изыски его никак не сочетались с крестьянской одеждой, и, отвечая на его вопросы, Николь то и дело прыскала в кулак. Он спросил, добилась ли она успеха при русском дворе.
У Николь сразу улучшилось настроение. Опасная тема проговорена, разобрана по всем пунктам, теперь Шамбер вряд ли к ней вернется. И тот меж тем как-то незаметно соскользнул на разговор о секретаре Дитмере. На этот раз его интересовало, почему именно расстроилась его свадьба с резвой мадемуазель Рейхель.
– Понятия не имею. Я вообще не знала, что она расстроилась.
– Именно так. Последняя просьба, Николь. Узнайте в посольстве, в чем там дело.
– Дался вам этот Дитмер. Зачем он вам? Впрочем, можете не отвечать. Вы все равно не скажите правды. Но поверьте, я не могу исполнить вашу просьбу. Узнавать подобное у Нолькена просто неприлично.
И опять вешки на пути и камешки на повороте тропинки.
– Ладно. Я не могу заставить вас говорить со шведским посланником, но, если вдруг вы узнаете подробности, сообщите мне через Карлоса. Поверьте, мне очень нужны эти сведения.
– Не подлизывайтесь, Огюст.
– Не буду. У меня осталась одна, совсем последняя просьба. Обещайте, что вы ее выполните.
– Ну, если вы пообещаете, что она в самом деле последняя.
– Сегодня у нас уже вторник, так?
– Положим. Вы хотите, чтобы я устроила, чтобы сегодня был еще понедельник? – Николь смеялась под перестук колес, и казалось, что она не только смеется, но икает, считая бревна мостовой.
– Устройте так, чтобы князь Козловский непременно пришел в ночь с четверга на пятницу в свою усадьбу на Фонтанной речке. Скажем, в двенадцать ночи. Я сам хочу с ним потолковать.
Николь сразу перестала смеяться, но икота осталась, и ей пришлось изо всех сил сдерживать дыхание.
– Мне тоже прийти туда, Огюст?
– Нет, вам туда приходить не надо.
– Понятно. Это будет дуэль, да? Дуэль по всем правилам с секундантами?
– О правилах позабочусь я сам. Это не женское дело. Так вы поговорите с князем? И не надо говорить, что встречу назначил именно я. Вы обещаете мне сделать это? И пусть князь будет при шпаге.
– Обещаю… – тихо сказала Николь. – Но поклянитесь, что это будет последняя просьба.
Нет, он не стал клясться, но высокопарно и напыщенно стал убеждать Николь, что не может оставить дело с князем «просто так», его мужская и человеческая гордость уязвлена, и он, черт подери, имеет право узнать истину.
Николь покорно кивала головой, но не слушала Шамбера. «Ты, важный индюк, толкуешь мне о чести! Я вижу тебя насквозь. Ты передо мной такой же голый, как обглоданная кость. При чем здесь шпага? Я знаю, ты попытаешься выстрелить в Матвея, как только завидишь его фигуру в ночи. Или метнешь нож, чтобы он угодил твоему противнику в самое сердце. Почему ты мне веришь, безмозглый дуралей? Мы с тобой далеки друг от друга как полюса. Я сделаю все, чтобы с четверга на пятницу Матвей и носа не высунул из дома своей тетки».
– Николь, вы меня совсем не слушаете.
– Слушаю, Огюст, слушаю. Я просто удивляюсь вашей страстности. Знаете, я, оказывается, совсем не знаю мужчин. Вот и Слоновый двор. Вас высадить здесь или у Адмиралтейства?
Она высадила Шамбера у почтовой мызы. А дальше жизнь ее закрутилась в бешеном ритме. Обычные дни похожи друг на друга, как горошины. Катятся себе по наклонной плоскости, и ты зачастую не можешь вспомнить, что произошло в тот или иной вторник, или в среду, а может, вообще в воскресенье. А случаются дни, которые вбирают в себя всю страсть и боль, когда все успехи и просчеты спекаются в один плотный ком, и даже если ты благополучно переживешь этот день, спрессованный этот ком никуда не исчезнет, а закатится под сердце и заляжет там мертвым грузом, чтобы потом многие годы являться ночным кошмаром, или беспричинно испорченным настроением, или ощутимой физической болью, как ломота суставов перед дождем. События закружили Николь в водовороте, и когда все кончилось и она опомнилась, наконец, очнулась, как от гипноза, то поняла, что жизнь ее тоже кончилась.
13
Шамбер ждал, и тревога сжала ему горло. Оно внезапно пересохло, как от жажды, дьявол, такого с ним раньше никогда не было. Было очень тихо, даже вода не плескалась у берега. Все бы ничего, если бы не проклятый туман. Он еще не мог понять, помощником ли ему будет это разлитое меж дерев и кустов молоко или врагом. Будем надеяться, что помощником.
Только бы Дитмер пришел. Только бы этот ревнивый недоумок не заартачился, не стал бы играть в благородство.
Позавчера, в среду, у Шамбера был почтовый день. Уж что-что, а письма писать он умел. Удивительно, насколько люди серьезно относятся к написанному слову. Слово услышанное часто вызывает недоверие, а бумага, испачканная чернилами, для большинства двуногих непреложный закон.
Вначале Шамбер решил написать Дитмеру от имени его возлюбленной. Но при самом поверхностном размышлении он отказался от этой затеи. Во-первых, секретарь наверняка знал ее почерк. Можно, конечно, было написать, что письмо писано под диктовку, что она поранила пальчик и перо выпадает из рук, но это все вздор. В любом случае резвушка Адель назначила бы свидание в удобном для нее месте, а именно в собственном саду. А сад генерала Рейхеля никак не подходил для стрельбы.
В конце концов Шамбер остановился на самом простом варианте. Он сам написал секретарю письмо, содержание его было очень корректным, но расплывчатым, как водяной знак на сторублевке. Автор письма клялся, что может объяснить истинную причину размолвки Дитмера с Аделью и ее батюшкой, при этом осторожной фразой он дал понять, что только забота о счастье мадемуазель Рейхель заставляет его мешаться в чужие дела и что забота эта родственная. Далее шли намеки на «некоторые трудности» самой невесты, которая «полна раскаяния и навсегда останется верной своему избраннику», то есть Дитмеру. Шамбер хотел подписаться «Друг», но передумал. От такой подписи за версту несло шантажом, а в задачу Шамбера входило, чтобы Дитмер понял из текста, что автор послания является другом не только генерала Рейхеля и резвой Адель, но и всего человечества. В конце письма оговаривались место и время встречи.
Кажется, невинная вещь, мало ли где можно встретиться. Но к этому вопросу Шамбер подошел с особой тщательностью. Была у него мысль, была, назначить свидание в пустой усадьбе Козловского. С деловой точки зрения именно там и нужно было встречаться. Но это только на первый взгляд выглядело убедительным. Дитмер мог заподозрить неладное или просто проявить ненужное любопытство. Он педант, чиновничья крыса. Прежде чем пойти по указанному адресу, он мог поинтересоваться, кто в этой усадьбе живет, а это значит, имя Козловского могло всплыть раньше времени.
Место встречи должно было быть нейтральным. Деревянный Симеоновский мост находился сравнительно недалеко от шведского представительства, и значит, Дитмер знает это место. «С моста спуститесь к реке и идите в сторону Аничковой слободы, пока набережная не кончится. Там я вас буду ждать». Отличное место, пологий поросший кустарником берег и деревьев достаточно.
Хорошее получилось письмо, убедительное. Шамбер не доверил его почте, решил, что вышлет его с посыльным в последний момент, а именно в четверг.
Далее он очинил перья и продолжил работу. На повестке дня было еще насколько писем. Шведского посланника Нолькена он тоже не обошел вниманием. Но это последнее в череде писем должен был отправить по почте Сидоров.
Налетел вдруг ветер с залива и стал рвать туман в клочья. Сквозь облака проглянула луна, но тут же спряталась стыдливо. Луна совсем не входила в планы Шамбера.
Дитмер появился внезапно. Вдруг из кустов вышла высокая фигура и остановилась прямо перед носом Шамбера.
– Кто вы? – спросил Дитмер резко. – Я вас не знаю.
Шамбер вовсе не собирался вступать с секретарем в разговор и ответил скорее машинально.
– Зато я вас знаю, – бросил он и подумал: «Видимо, я переборщил в письме, секретарь ожидал увидеть здесь какого-то определенного человека».
– Если вы собираетесь очернить светлое имя мадемуазель Адель, то вам это не удастся!
Дитмер буквально наскакивал на Шамбера, еще не хватало, чтобы он выхватил шпагу. Надо кончать этот спектакль, рука ощупала рукоятку пистолета. И в этот момент как на грех меж деревьев забрезжил свет, и сразу на поляну вышла процессия. Впереди шел мужик с фонарем, следом за ним пожилой господин в немецком платье, замыкали шествие двое дворовых. По их разговору Шамбер понял, что это лекарь поспешает по своим делам. Почему они выбрали этот путь, было непонятно. Видимо, торопясь к больному, решили срезать часть пути. Дитмер тоже молчал, ожидая, когда процессия скроется из глаз.
Странно, что они зажгли фонарь. Неужели так поздно? Указом государыни было предписано, чтобы после того, как шлагбаум на Аничковом мосту опустится, горожане без нужды по городу не шатались, но если все-таки вышли из дому, то должны идти не иначе как с фонарем. Все, нарушившие правило, по закону подлежат задержанию.
– Отойдем в сторону, там и поговорим, – сказал Шамбер, махнув в сторону купы деревьев.
Дитмер решительно направился в указанном направлении. Шамбер неторопливо пошел за ним, просчитывая в уме, на достаточное ли расстояние удалилась процессия, чтоб не услышать выстрела. Они уже вступили под крону старого вяза, когда Дитмер вдруг круто повернулся и крикнул:
– Ну?
Шамбер тут же разрядил пистолет в его грудь. Секретарь, не издав ни звука, навзничь рухнул на землю и застыл, вытянувшись. Шамбер поднес руку к его горлу. Пульса не было, кажется, пуля попала точно в сердце. Он перевел дух, потом неторопливо достал письмо, которому суждено было сыграть роль компромата, и сунул его в карман липкого от крови камзола. И в этом момент, совсем рядом, кажется прямо под ухом, кто-то чихнул.
Шамбер вскочил на ноги и с такой силой повернул голову, что хрустнули шейные позвонки. По кустам прошло движение, словно волна прокатилась по листьям, а потом куда-то в бок метнулась быстрая тень.
– Стой! – крикнул Шамбер и бросился в погоню.
Откуда здесь взялся человек? Видимо, кто-то из недавней процессии решил вернуться назад тем же путем. Его надо догнать и убить, ему не нужны свидетели. Черная тень на миг материализовалась в узкую, низкорослую фигуру. Кто это – взрослый мужчина или мальчишка? Он выскочил вдруг на освещенную луной прогалину и опять скрылся за кустами прибрежного ракитника. Сложением и повадками незнакомец был так похож на Коротышку из Данцига, что у Шамбера мелькнула мысль – а не привидение ли это?
Француз не верил в приведения, однако все мы не верим до тех пор, пока не столкнемся с ними нос к носу. Дьявол, если бы не больная нога, он бы сразу его догнал. Ясное дело, он мчится к мосту… Нет, опять поменял направление. Дух Коротышки вдруг выскочил на открытое место, пробежал несколько шагов по кромке воды и опять метнулся в бок, нырнув в ракитник, как в воду. Если стрелять, то не наугад, приказал себе Шамбер, но не выдержал, спустил курок, ориентируясь исключительно на звук. В кустах слабо охнули, и все стихло.
Шамбер подбежал ближе. Убитый лежал лицом вниз, голова его оставалась в кустах. Только что улепетывал, как заяц, а теперь мертвее мертвого. Не гоже оставлять его здесь, лучше спихнуть труп в воду. Шамбер ухватил покойника за ноги и с силой дернул. В руках у него очутились сапоги. Он отбросил их с ненавистью. Босые ноги в свете ночи казались особенно белыми и потому неприличными. Вот уж неподходящее определение, но именно оно пришло Шамберу в голову.
На реке в условленном месте его ждет в лодке унтер-офицер Сидоров. Его помощь сейчас очень бы пригодилась. Ведь слышал же выстрел, недоумок, так подплыви. Но подлец унтер без дополнительной платы и шага лишнего не сделает.
Шамбер еще раз дернул за босые ноги. Нет, голова крепко застряла в кустах, видно подбородком за ствол зацепился. Ну и черт с тобой, валяйся здесь! Лежит покойник и пусть себе лежит. Завтра его найдет полицейская команда, вот пусть она с ним и разбирается. В Петербурге шляется полно всякого сброда, грабят, палят друг в друга, ножами режут.
А ему нужно торопиться. И пора сообразить, сколько времени он угрохал на эту погоню. Пытаясь сориентироваться, Шамбер огляделся, ища глазами кузню на противоположном берегу.
На поиски вяза ушло минут десять, не меньше, но, когда он наконец вышел к знакомому месту, трупа Дитмера он там не нашел. Проверяя себя, Шамбер сел на корточки и провел ладонью по траве. Все правильно, рука угодила в вязкое и липкое – в кровь. Вот и гнилой пень рядом, он за него запнулся, чуть не упал. Он не перепутал место, просто, пока он гонялся за мнимым Коротышкой, Сидоров пришел на выстрел и, как было договорено, унес мертвого Дитмера в лодку. Он прислушался, ветер шумел. Ага, вот… кажется это скрип уключин. Они так и не договорились толком, вместе ли поплывут к усадьбе Козловского или будут добираться до места порознь. Сидоров избрал второй вариант. Теперь надо сыскать привязанную к дереву лошадь.
Первоначально Шамбер предназначил для Сидорова совсем другую роль. Унтер-офицер должен был сделать черновую работу, а именно ликвидировать Дитмера, а сам Шамбер намеревался осуществлять операцию в целом, чтоб никаких накладок и все выстрелы в яблочко. Но меднолобый унтер уперся как бык. Он согласен помочь (еще бы ты не согласился за такие-то деньги!), но в смертоубийстве принимать участие отказался категорически. В этом отказе он проявил непонятное, угрюмое, темное, как дно колодца, упорство. Шамбер, помнится, подумал, что это какие-то религиозные, православные силы подключились к сознанию унтер-офицера, а если это действительно так, то спорить бесполезно. Теперь в задачу Сидорова входило только доставить по реке труп в усадьбу, помочь Шамберу перенести его в дом и затем, когда появится князь Козловский, позвать караул. Все!
Луна окончательно потонула в низких облаках, и небо разродилось мелким, теплым дождичком. Он приятно холодил лицо, от крупа лошади шел пар.
До усадьбы Козловского он добрался быстро. За забором было темно и тихо, в сторожке тоже ни огонька. Значит, сторож уже спит. Заперся, конечно, старый греховодник. Придется выбить хлипкое оконце. Но и здесь судьба мироволила Шамберу. Створка одного из окон была приоткрыта, мало этому Аргусу днем свежего воздуха. Сторож не проснулся от легкого шума, так и принял смерть во сне. Нож легко вошел в его дряблую, невинно открытую шею. «Пожил, и будет», – прошептал Шамбер по-французски. Ему вовсе не нравилось убивать беззащитных стариков, но сейчас все вокруг были не просто люди, но свидетели.
Сидоров привел лодку, как и было условлено, к мельнице. Шамбер уже ждал его. Труп Дитмера унтер-офицер предусмотрительно завернул в рогожу и обмотал веревками, мало ли кто мог встретиться на реке. «Странно, – подумал Шамбер, когда они волокли труп к дому, – Дитмер был выше меня на полголовы, и при этом такой легкий». Ему бы заостриться на этой теме, но он думал уже о другом. «В минуту опасности силы человека удваиваются», – вот что пришло ему в голову. Он и впрямь ощущал, что сейчас ему все подвластно.
– Деньги, – буркнул Сидоров, когда они внесли Дитмера в дом и положили у стенки в большой горнице.
– Расплата в конце. Сейчас ты выйдешь на улицу и дождешься князя Козловского. Пусть он спокойно войдет в калитку, затаись и жди выстрела.
– Все выстрелы, да выстрелы. Как на поле боя.
– Как услышишь выстрел, – продолжал Шамбер спокойно, словно и не было об этом говорено много раз, – немедленно беги к Аничкову мосту и зови караул. Скажешь – стреляли. Мол, ты мимо шел и услышал. Повтори…
– Ничего я повторять не буду, а половину денег пожалуйте сейчас. Я достаточно постарался. Вторую половину… ладно, согласен, потом отдадите.
Шамбер вытащил кошелек. Сидоров схватил его цепко и сразу пропал. «Почему этот дурак не спросил меня, где мы встретимся после операции? – подумал Шамбер и сразу себе ответил: – Потому что все уже оговорено. Он сам должен был прийти в дом галантерейщика Фанфаронова.
Но завтра он будет уже далеко от Петербурга. Сидоров просчитался. Но он уже достаточно получил за свою весьма скромную работу».
Дальше надо было действовать быстро. Перед появлением князя Козловского необходимо было подготовить сценические декорации: зажечь свечу, придать трупу естественную позу, но он только и успел, что развязать веревки и сорвать с Дитмера рогожу. Действовать пришлось в полной темноте. Свечей он так и не нашел. Действительно он слышал стук копыт или ему это только показалось? Шамбер выскочил во двор.
Он уже давно отказался от идеи оставить Козловского в живых. Когда Шамбер вынашивал план мести, его очень волновали разрозненные картинки, которые рисовало услужливое воображение: князя схватили полицейские (непонимание ситуации, унижение), князь сидит перед следователем, он отпирается, ему не верят (унижение, ярость), князь сидит в темнице в кандалах (отчаяние и ужас)… Но последняя картинка – плаха с отрубленной головой, имела такое же отношение к реальной жизни, как финальная сцена в опере.
Князь Матвей подстрелил шведского агента, Швеция поднимет хай и потребует выдачи Козловского. Россия будет, с одной стороны, оправдываться, а с другой – обвинять Швецию в преступном сговоре с Турцией. Поднимется яростная дипломатическая война, во время которой в Стокгольме партия войны возьмет верх. И тогда говорить будут пушки! Но с точки зрения Петербурга Козловский если и виноват, то самую малость. Что его ждет? Суд и ссылка. И добро бы в Сибирь сослали, но в последний момент царица сжалится и вышлет князя в собственную деревню. А разве такой казни достоин этот мерзавец?
А потому в роли обвиняемого пусть выступит труп князя Козловского. Жалко только, что в темноте он не поймет, кто в него стрелял.
Скрипнула калитка, Шамбер притаился за углом дома. Козловский был виден как на ладони. Он неторопливо шел по мощеной дорожке, ведя под уздцы лошадь.
Шамбер не успел выстрелить. Чья-то рука с силой схватила его за запястье, и глухой голос совсем рядом, как давеча под вязом, произнес:
– Огюст Шамбер, вы арестованы.
Нет, он не дал схватить себя, как барана, он бился из последних сил, даже нож успел выхватить, и с восторгом всадил в чью-то живую плоть, но солдат было больше, и они дрались так, словно на карту была поставлена их жизнь. Шамберу не просто связали руки, его укутали, как мумию, даже ноги от бедер до колен оплели вервием, так что он мог передвигаться только малыми шашками. Но никто не догадался заткнуть ему рот кляпом, поэтому Шамбер без перерыва ругался и угрожал:
– Вы мне ответите, сукины дети! Вы не имеете права меня задерживать, я иностранный подданный. Не подходи близко, негодяй, я тебе нос откушу!
Его втолкнули в комнату и с силой посадили на стул. Это было то самое помещение, которое Шамбер оставил десять минут назад. Сейчас оно было освещено, свечи горели и на столе, и на поставце. У трупа стояли двое. В одном Шамбер узнал Козловского.
– И вы здесь, князь? Может, объясните, почему меня схватили? Я совершенно случайно попал в ваш дом. Услышал крики о помощи, потом прозвучал выстрел. Естественно, я поспешил на помощь. Кого вы прикончили на этот раз?
Матвей молча взял со стола шандал на два рожка и поставил на пол рядом с трупом. Вначале Шамбер увидел босые, маленькие, нечистые ноги. Вдруг резко кольнуло сердце, боль отдалась в затылке. Предчувствуя непоправимое, Шамбер посмотрел в лицо покойника. Это был не Дитмер, а все тот же ненавистный Коротышка из Данцига. Даже мертвый он догнал его. И тогда Шамбер замолчал.
14
А теперь вывернем наизнанку. То есть откатимся несколько назад во времени и посмотрим на эту историю с подкладочной стороны. Вспомним вечер, когда Люберов по возвращении из Кронштадта застал агента Петрова спящим на кушетке.
Разбудил, поговорили, и разговор этот был долгим и сумбурным. Опустим радостные восклицания, которые непременно сопровождают начало подобной встречи. Родион был искренне рад маленькому агенту. Он сохранил о нем самые теплые воспоминания, которые усиливал успех, знаменующий конец их общей работы.
Можно было, конечно, встать в позу и начать чваниться тем, что ты честный человек с чистыми руками, а потому не желаешь запанибрата общаться с представителями государственного сыска. Но это поведение дурака, а Люберов им не был. Что ж тут похваляться своей безгрешностью, если ты сам вместе с Петровым в засаде сидел, выслеживая Шамбера? И в сыскной профессии есть порядочные люди, а Люберов знал, что Петров хороший агент и дело свое знает.
Надо сказать, что Родиону и в голову не пришло, что Пет ров пришел к нему по делу, поэтому вначале беседы они только хлопали друг друга по плечу и задавали друг другу невинные вопросы, сбиваясь в обращении то на «вы», то на «ты». Петров щурился со сна и весело смеялся.
– Да я уж давно в Петербурге. Прибыл, как говорится, с поля сражений, а вернее сказать, из осажденного города.
– Так ты был в Данциге?! И Матвей Козловский там был. Помнишь Матвея? Ну я же тебе о нем рассказывал!
– Не забыл, – коротко бросил Петров и, воровато оглянувшись по сторонам, добавил веско: – Шамбер в Петербурге. Вот какие дела, Родион Андреевич.
– Да ну?
– Он присутствует здесь тайно и наверняка приехал с важным заданием.
Люберов слушал внимательно, но ничем не потакал Петрова к откровенности, правда, кивал в нужных местах, а иногда даже вскрикивал с несколько показным удивлением. Зачем ему знать, что Шамбер разгуливает по городу в бороде, живет на убогой мызе за городской чертой и следит за секретарем шведского посланника? Если раньше Родион потащился в Польшу, без зазрения совести врал про их экспедицию, а потом, как Соловей-разбойник сидел на дубе, то он спасал друга, перед которым имел некоторые обязательства. Он дал слово отцу позаботиться о князе Козловском, и ради верности слову согласен был не только тайным сыском заниматься, но и на убийство пошел бы за правое дело. Но сейчас он не испытывал к Шамберу никакого интереса. Может быть, француз и есть враг государства Российского, но для обезвреживания сего господина у государства есть специальное ведомство, и немалое.
Упомянутая в рассказе фамилия «Сидоров» заставила Родиона несколько оживиться.
– А не тот ли это Сидоров, что живет у бакалейщика Фанфаронова?
– Так вы и его изволите знать? – на лице Петрова был написан живейший восторг, беседовать с Люберовым одно удовольствие, он во всех делах дока!
– Встречались, – бросил Родион уклончиво. – Давно.
Сидоров пробудил в душе его неприятные воспоминания. Как странно, жизнь бежит словно по кругу. По всем законам вероятности усатый унтер-офицер должен был отстать по дороге, затеряться в туманной дали, а он, оказывается, опять тут. И Бирон почему-то нервничает из-за польских денег, которые они с Матвеем вынули из могилы. Но здесь все чисто. И не стоит возвращаться к этой теме.
– …всемирно известная авантюристка мадам де ла Мот. Имя ее Николь.
– Подожди, я отвлекся. Кто такая эта Мот и почему она всемирно известная?
– А как же… В Данциге она в карете с самим маркизом Монти открыто разъезжала.
Про Николь Петров рассказывал с особым жаром. Даже если мужчина имеет рост «метр с кепкой», он все равно остается мужчиной, и женские прелести его тоже волнуют. Горячий поток слов иссяк совершенно неожиданно, Петров умолк и уставился на Родиона преданным взглядом.
– И что… эта авантюристка, мадам Мот, общается здесь с Шамбером? – не удержался от вопроса Родион.
– Наверняка! Только я никак не мог поймать их вместе, но они придумали особый канал для общения.
– Какой же?
Агент замялся.
– Не хочешь, не говори. В конце концов, это не мое дело.
Нет, не мог маленький агент скрыть главной правды от господина Люберова. Это дело государственное, здесь никак нельзя разнеживаться.
– Как же не ваше? – с горячность возразил он. – Очень даже ваше. Знаете усадьбу на Фонтанной речке, которую князь Козловский торгует?
– Знаю. Был там. Советовал Матвею купить.
– Так вот в этой усадьбе они все и встречаются. Я имею доказательство, что общение нашей мамзель с Шамбером идет именно через князя Козловского.
– Через кого?!
– Не удивляйтесь так и не гневайтесь, Родион Андреевич. Это не пустые выдумки. Эту парочку – мадам де ла Мот и князя Козловского, я не единожды вместе видел. Воркуют, как голубки. Но я уверен, что в любовь они играют только для отвода глаз. Все это обычный шпионский ход.
Так вот оно что! Варвара Петровна уши прожужжала про то, что Матвей влюблен без памяти. Деву от всех скрывает, но планы имеет серьезные. А как же – дом покупает и собирается гнездо вить. И кто же у нас добропорядочная перепелочка, сладкоголосая соловьиха или, скажем, трудолюбивая ласточка? Она у нас, оказывается, кукушка-авантюристка! Ну, Матвей, ну, романтик, ну, идиот! Вечно он влипает в какие-то пряные истории! Неожиданно для себя Родион расхохотался.
– Вот что, дорогой Петров, повтори-ка мне теперь все с самого начала.
На этот раз доклад агента был выслушан с полным вниманием, Родион буквально входил в каждую деталь, и только после того, как картина в целом прояснилась, он осторожно начал увещевать Петрова, что Козловский всего лишь шалопай и бабник, но никак не «подлый изменщик».
Петров послушно кивал. Внешне казалось, что уверения Люберова достигли цели, но угадать, что на самом деле таилось в душе сыщика, было невозможно.
– Я вообще-то посоветоваться пришел, – сказал он наконец строго. – Я уже два отчета написал, но пока не отослал их по инстанции. Здесь вот какое затруднение. Во-первых, их сиятельство мне относительно Шамбера четких указаний не давали, а потому могут разгневаться. А во-вторых, и это главное, дело-то не окончено. Их сиятельство горяч сверх меры. Заарестует Шамбера раньше времени, а предъявить-то ему будет нечего. И опять же вся работа втуне.
– С отчетами нужно повременить, – перебил агента Родион. – Здесь я с тобой совершенно согласен.
Ответом на эту реплику был настороженный взгляд Петрова.
– И опять же… Трудно мне одному за всем уследить.
– Я помогу. Будем, как прежде, работать вместе, – излишне бодро воскликнул Родион и дружески ударил агента по плечу.
Внутренний голос советовал Петрову принять помощь. Уж если Люберову не верить, то самому государству веры нет. А если нет веры государству, то какой же он, прости господи, агент и фискал на службе их величества?
– Спасибо, Родион Андреевич. Я принимаю вашу помощь. Но с условием. Вы даете мне честное благородное слово, что не посвятите князя Козловского в нашу тайну. А я, в свою очередь, попридержу до конца операции мои отчеты.
– Я даю вам честное слово, – твердо сказал Люберов. – Я помогу вам поймать и уличить Шамбера, но вы из ваших отчетов вымараете имя Матвея Козловского.
– То есть отчеты надо переписать заново?
– Именно.
На этом и расстались, условившись встретиться при появлении новой информации. Родион с легкостью дал Петрову слово, более того, его устраивала эта ситуация. Привлеки он к задержке Шамбера Матвея, вся операция бы вышла из-под контроля. Разбираться, что там было на самом деле – простая интрижка или высокая любовь, – было некогда, а вот в том, что Матвей ради спасения своей возлюбленной наломает дров кучей до небес, сомневаться не приходилось.
Единственное, что Родион мог сделать для друга, это спасти мадам де ла Мот от Тайной канцелярии. К осуществлению этой задачи он и приступил немедленно.
О том, что Шамбер готовит «заключительный аккорд», Петров узнал от Сидорова, к которому заглянул в четверг вечером. Заглянул просто так, на всякий случай, а улов оказался значительным. Пятнадцать минуту, не меньше, они точили лясы не о чем, пока, наконец, Петров угрозами буквально выдавил из унтер-офицера нужную фразу.
– Завтра ночью я буду нужен Шамберу.
– Что же заранее меня не упредил?
– Я сам только сегодня узнал. А теперь вот упреждаю. Задание простое. Я должен буду ждать ночью на Фонтанной речке за Симеоновским мостом. Там, где лес.
– А зачем ты будешь там ждать?
– Это мне неведомо.
– Ну ладно, ты будешь ждать в лодке. А где? Там какой-нибудь ориентир есть?
Сидоров подумал, вначале отрицательно покачал головой, потом все-таки сознался.
– Старая кузня на другом берегу. Сейчас она вроде бездействует.
– Шамбер задаток дал?
Сидоров воздел очи горе, словно намереваясь на потолке прочитать искомую сумму.
– Нет. Обещал расплатиться на месте.
– Да за что расплатится-то?
– Это мне не ведомо.
– И много посулил?
Сидоров опять уставился на потолок, но потом все-таки
назвал цифру. Даже если он ополовинил сумму, даже если на нолик скостил цену своему ночному пребыванию в лодке, видно было, что дело предстоит нешуточное.
Петров пошел к Люберову и, слава Всевышнему, застал его на месте. Господин Люберов сразу предложил помощь, но сказал, что полицейских драгун привлекать к операции не гоже, они бестолковы и все дело могут испортить, а он, де, возьмет с собой пару верных людей, и в назначенный час они явятся на оговоренное место.
Петров попытался возразить. Что значит «верные люди»? На подобные операции надобно звать не «верных», а казенных людей звать. Но потом все-таки согласился с разумными доводами. Уж вчетвером они Шамбером овладеют. Главное, понять, что он, негодяй, замыслил. Надо застукать его на месте преступления, арестовать и передать в руки их сиятельству.
Добавим еще, что Сидорову все-таки было ведомо куда больше, чем он сообщил Петрову. Унтер-офицер понимал, что затеяно убийство. И не важно, что сам он отказался взять в руки пистолет. Шамбер на полуслове не останавливается. Или он другого убийцу найдет, или сам исполнит эту обязанность. Но сам-то Сидоров не такой дурак, чтобы выбалтывать все этой крысе-фискалу.
И еще Шамбер обмолвился, что в означенную ночь убьет своего врага, за которым давно охотится. Для порядка он спросил у француза, кто этот враг, на что и получил резкий ответ: «А это не твоего ума дело». Да ради бога… Большие знания, большие печали. А Сидоров о себе с гордостью говорил, что он не любопытен.
15
О том, что взял с собой мало людей, Люберов пожалел сразу же, как только Шамбер неожиданно для всех всадил пулю в грудь Дитмера. Когда секретарь появился в условленном месте, Родион думал, что сейчас пойдет длинный разговор, какая-то дипломатическая торговля. С превеликой осторожностью они втроем (третьим был сослуживец по манежу, поручик Вебер) приблизились к опушке леса. Хорошо еще, что вокруг кусты стояли стеной. Ротмистра Пушкова еще загодя отправили на противоположный берег в пустую кузню для наблюдения. Разумеется, у Пушкова в прибрежных кустах была спрятана лодка.
Кажется, все предусмотрели, и вдруг выстрел. А тут случилась и вторая накладка. Петров всех предупредил, что близко к объекту ему подходить никак нельзя, поскольку от лежания в камнях он схватил простуду, а потом сам же свой наказ и нарушил. Мало того, что в азарте он вылез вперед, так еще и чихнул от излишнего возбуждения. Чихнул и присел в ужасе, закрыв ладонью рот. Родион только рукой махнул, мол, уведи Шамбера подальше. Агент понял все без слов.
Дитмер лежал без движения, не разберешь сразу – жив еще или умер. Вдвоем с Вебером они подхватили бездыханное тело и повлекли его в сторону дороги. А уж тяжеленный был господин секретарь! До моста тащить его не было возможности, надо быть торопиться. Дотащили до привязанного к дереву Резвого, и на том спасибо. Родион подтянул подпруги, расправил подхвостник. Теперь, друг Вебер, все зависит от твоей сноровки и удачливости. Вези Дитмера в полицейскую команду, там лекарь есть, сдай несчастного с рук на руки и тут же возвращайся назад. В объяснения с солдатами не пускайся, я потом сам все объясню. Скажешь, что нашел бездыханное тело рядом с мостом на дороге. Прежде чем перевалить тело секретаря через седло, Родион обшарил его камзол. Он ясно видел, что Шамбер успел что-то сунуть в карман убитого. Так и есть, бумага. Ну, ее-то мы потом будем читать, уже при свете дня.
Родион бросился назад на помощь Петрову. Но куда бежать-то? Кроме шума деревьев, ничего не слышно. Он не столько увидел, сколько почувствовал, что где-то рядом находится лошадь. Кто прискакал на ней – Дитмер, Шамбер? Ждать здесь или идти к реке? Шамбер может дальше поплыть в лодке с унтер-офицером Сидоровым, но такова же вероятность, что он вернется за лошадью.
Родион не только не успел ответить себе на эти вопросы, он еще не задал их все, когда лошадь издала характерный храп и буквально через считанные секунды мимо пронесся всадник. Люберов не мог с уверенностью сказать, что это Шамбер, но в том, что это был не Петров, он готов был поручиться. Ладно, с агентом потом разберемся. Сейчас надо поспешать за Шамбером. Родион от нетерпения кусал ногти. Вот когда ему позарез был нужен его верный друг, караковый жеребец Резвый. Господи, как глупо все, как нелепо! Говорил же тебе Петров, надо привлечь к делу профессионалов. Не послушался, упрямая башка!
Родион вышел на дорогу и к своему удивлению увидел Вебера, бежавшего ему навстречу.
– Ты здесь? Так быстро?
– Я караул встретил, Родион Андреевич. Они и повезли труп раненого в полицейское управление. Там и лекарь есть. Хотели меня с собой взять, но я отбился. Бумагу показал. С конюшенной конторой и их сиятельством Бироном никто не хочет связываться. Завтра вместе к полицейским пойдем. Куда теперь?
Вот именно – куда? Петров утверждал, что усадьба «Клены» и есть шпионский притон. Значит, если суждено ему найти Шамбера, то искать его надо именно там.
– Побежали, – сказал Родион.
– А далеко бежать-то?
– Далеко. Я этот путь только верхом покрывал.
Родион бежал и ругал себя последними словами. Кромешный идиот! Служащие Конюшенной канцелярии и пешие! И Вебер, и Пушков имели о предстоящей операции весьма иллюзорное представление. Нельзя сказать, чтобы они не понимали важности задачи, Люберов обрисовал ее в общих чертах, но ночной поход на Фонтанку, кого-то там ловить, за кем-то следить, воспринимался ими как безобидное приключение.
По счастью, их путь оказался не так и долог. Может быть, излишнее возбуждение помогло ногам энергично и без устали отмотать дорогу, а сердцу выдержать заданный ритм. Правда, пот по спинам лил ручьями. Потом они долго стояли у забора, осматриваясь, прислушиваясь и приводя в порядок дыхание. Не договариваясь, оба решили, что путь в усадьбу через калитку не для них, можно и в засаду угодить. С превеликой осторожностью они в глухом углу перемахнули через забор. Хорошо, клен рос рядом, он-то и помог им бесшумно преодолеть препятствие.
Удача им явно сопутствовала, потому что как-то сам собой объявился ротмистр Пушков. Он был горяч, как печка, от него так и несло теплом и ромом. Все в полку знали, что ротмистр не расстается с фляжкой.
– Они в доме, – прошептал Пушков в ухо Родиону.
– Кто – они?
– Первый, видимо, Сидоров, или как вы там его называли. Он сюда на лодке с грузом приплыл. И очень мне этот груз не нравится. Второй уже в усадьбе был.
– Шамбер?
– А шут его знает. Хромает.
– Значит, он.
– Тихо!..
Грохнула дверь в доме, на дорожке показался унтер-офицер Сидоров. Он решительно шел к калитке.
– Уйдет… – сквозь зубы проскулили Вебер. – Дать ему по башке?
Родион отрицательно затряс головой и приложил палец к губам. Сидорова они всегда найдут, не велика птица. Сейчас надо сосредоточиться на Шамбере. Предчувствуя неладное, Родион хотел спросить ротмистра про Петрова, но промолчал. Оставим неприятности на потом, сейчас не время расслабляться.
Родион не спросил, но читатель-то наверняка хочет узнать, что случилось с маленьким агентом на берегу Фонтанки. Предложенный Шамбером Сидорову порядок действий звучал так: «Как услышишь выстрел, тут же поспешай на звук мне навстречу. Поможешь мне перенести в лодку труп одного негодяя. Если случится неувязка, негодяй может меня обмануть и явиться на встречу не один, тогда сам волоки труп в лодку и вези его в усадьбу, которую я тебе показал. Там я тебя встречу».
Услышав выстрел, Сидоров не сразу вылез из лодки. Мы свое дело сделаем, но прежде шевалье пусть один покорячится. Не велика птица! Пока он подгребал лодку к удобному месту, совсем рядом прогремел второй выстрел. Унтер-офицер затаился, в голове мелькнула разумная мысль: а не дать ли деру? Шальная пуля, чего доброго, и в него самого может угодить. И зачем только он ввязался в это грязное дело. Но природная жадность взяла верх. Если он труп на место не доставит, то и денег не получит.
Голые ноги убитого лежали на прибрежном песке, голова ушла в ивняк. Шамбера поблизости не было. Сидоров осторожно выбрался на берег, с трудом освободил голову убитого, перевернул труп… Батюшки светы, господин фискал собственной персоной. От радости у Сидорова тряслись руки. Свободен! Ты мне, гад, Тайной канцелярией грозил, а теперь сам валяешься, как падаль. Правильно говорил господин Шамбер – враг. Ты не только ему враг, ты враг всему роду человеческому. А теперь за тебя мне еще денежки заплатят! И ты, недоумок, не сможешь у меня их отнять. Как ты твердил-то? На государственные нужды. И ведь сам все это дело и организовал! Смех, да и только.
Упаковал убитого в рогожу Сидоров по собственному почину. Мало ли кого можно встретить на реке? Солдаты сейчас всю ночь по городу шляются, ищут злоумышленников. А если к нему кто заглянет в лодку, так он объяснит без труда, что везет груз. И опять же с веревками волочить труп сподручнее.
Пистолет из рук Шамбера выбил ротмистр Пушков.
Матвей влип в ситуацию, как кур в ощип, то есть не понял ничего.
– Что здесь происходит? – повторял он возбужденно, глядя, как на его глазах опутывают веревками орущего человека. Потом он увидел Люберова. – Ты как здесь оказался?
Родион не ответил на вопрос, только бросил коротко:
– Это Шамбер.
Действительно он, собственной персоной! Вот уж кого не ожидал увидеть Матвей, так это Шамбера. Удивительно, что он сразу не признал его по голосу. Матвей тряхнул головой, словно отгоняя страшное виденье, и вдруг стремглав бросился в дом.
А потом все собрались в горнице. Матвей постарался, осветил помещение. Все молчали, глядя на убитого Петрова. Странно, но маленькая его фигурка стала как будто больше: ноги вытянуты, руки по швам, как в строю. Никто так и не догадался закрыть ему глаза. Лицо его было спокойным, можно даже сказать, что она имело удовлетворенное выражение.
Многие годы потом Люберова будет мучить одна и та же мысль: он «подставил» маленького агента, косвенно, конечно, но именно он виновник его смерти. Оно, конечно, такая работа, но все же…
– А теперь объясни, что ты здесь делаешь? – опять пристал с вопросами Матвей.
– А ты что здесь делаешь? – Родиону сейчас не хотелось ничего объяснять, его работа еще не была кончена.
– Я у себя дома, между прочим.
– Дом-то еще не куплен, а ты, насколько мне известно, в другом дому живешь. Может, ты ждешь кого-то?
– А вот это тебя совсем не касается, – с вызовом крикнул Матвей.
Ах, друг мой, если бы ты знал, насколько это меня сейчас касается! Матвей ждал Николь, которая просила его помощи. Именно это было написано в письме, только писала его не мадам де ла Мот, а Шамбер. В последний момент тот решил подстраховаться. Николь в последнее время вообще вызывала серьезные подозрения француза, видно, ее отношения с князем зашли очень далеко.
– Она не придет, – вдруг сказал насмешливо Шамбер. – У мадам Николь на этот вечер совсем другие планы.
Матвей опешил от подобной наглости.
– Развяжите его! – крикнул князь громоподобно и выхватил шпагу.
– Тихо!
Ротмистр схватил Матвея за плечи и с размаху посадил его на лавку.
– Ждите меня здесь! – приказал Люберов. – Из дома ни шагу. Если Шамбер будет болтать лишнее, заткните ему глотку кляпом. Я должен отлучиться. Надеюсь, что ненадолго. А может быть и до утра. Стерегите Шамбера.
Уже в дверях он сказал на ухо Веберу.
– Матвея тоже стереги. Он не должен отлучаться из этого дома.
16
Карету остановил всадник, скакавший навстречу во весь опор. Удивительно, что он не напугал лошадей. Правда, кучер мадам де ла Мот никогда не гнал карету слишком шибко, тем более по ухабистой, плохо освещенной дороге.
Дверца отворилась. Николь увидела перед собой офицера в форме кирасирского полка. Узкое лицо его с аккуратными буклями было строгим, в нем не было и намека на приличествующему случаю галантному выражению. «Что это – арест? – пронеслось в голове Николь. – Но почему он один?»
– Кто вы? – она изо всех сил старалась сохранить спокойствие.
– Меня зовут Родин Люберов. Князь Козловский наверняка рассказывал вам обо мне.
– Он жив? – быстро спросил Николь.
– Жив.
Она перекрестилась широким православным крестом справа налево и обессилено откинулась на подушки.
– Вы позволите? – он уже готов был впрыгнуть в карету.
– Да, да, конечно.
Николь уже запретила себе чему-либо удивляться. Последнее время все шло шиворот навыворот. Ей так и не удалось спровадить Матвея на пару дней из Петербурга. Отпуск его кончился, и возвращение в армию знаменовалось чередой крепких попоек в мужской компании. Но при этом она вырвала у него твердое обещание не отлучаться в четверг вечером из дому даже в кабак.
– Да в чем дело-то? – недоумевал Матвей.
– Я не могу объяснить тебе всего, но я знаю точно, что нам грозит опасность. Я не знаю, какая именно, что я чувствую, – лепетала в ответ Николь, придавая голосу милую беспомощность.
– Тогда я должен быть с тобой рядом!
– Ты и так рядом. Просто мы должны расстаться не надолго. Главное, не выходи этой ночью из дому.
Поверил ли он, нет ли, разобрать было нельзя. Матвей только балагурил по своему обыкновению, но пообещал выполнить просьбу Николь. Его умилили эти строгие слова: «нам грозит опасность», а если точнее, умилило слово «нам». Он слышал в нем обещание каких-то новых, еще более близких отношений.
В четверг вечером неожиданно для себя Николь получила приглашение во дворец. Кто написал приглашение – неизвестно. Вместо подписи стояла какая-то закорючка. Не иначе как госпожа Юшкова руку приложила. Про нее говорили, что она грамоте не обучена, но такую подпись и кошка может изобразить.
Николь одевалась с особой тщательностью. Вечер был прохладный, погода сулила дождь. Она накинула мантилью, голову прикрыла легким шарфом. Однако во дворце выяснилось, что ее там никто не ждет. Без пропуска попасть в святую святых невозможно. Николь знала неприметный боковой вход, его показала ей Юшкова: деревянное крыльцо без поручней, темные сени, а потом небольшая прихожая с малым караулом. Этим входом пользовалась не только прислуга, но и важные обитатели дворца, если им надо было уйти незамеченными.
В прошлый раз Николь прошла через эту прихожую беспрепятственно, но на этот раз гвардейцы встали грудью. Ей показалось, что один из них узнал ее, во всяком случае Николь его точно помнила. Именно этому молодцу она и протянула приглашение, упомянув при этом статс-даму Юшкову. Ее слова не произвели никакого впечатления на караул, более того, на лицах гвардейцев появилось подозрительное, если не сказать угрожающее, выражение.
Они не любили, когда самозванки являлись во дворец, и тем более проявляли при этом настойчивость.
Тут, на счастье, появился офицер. Разговор далее пошел по-французски. Он внимательно выслушал мадам де ла Мот, вежливо попросил подождать и с письмом в руках исчез за дверью.
Николь села на убогий стул и приготовилась ждать. Время тянулось медленно, но первые полчаса она не нервничала, мало ли какие дела сильных мира сего могут задерживать их в своих покоях.
Наконец явился офицер и с поклоном сообщил, что мадам де ла Мот велено подождать. Слово «велено» таило явную угрозу. Теперь она не могла просто так встать и уйти, гвардейцы не выпустили бы ее из дворца.
Николь успела до мелочей рассмотреть обшарпанную прихожую. Ее всегда поражало тесное соседство фантастической роскоши с откровенной бедностью. Из залов, украшенных венецианскими зеркалами, французскими гобеленами и персидскими коврами можно было сразу попасть в комнатенку со стоптанным войлоком на полу и колченогими лавками обочь стен. В этих комнатенках всегда плохо пахло, неприкрытые, в разводах перины казались сырыми.
Бог весть, сколько прошло времени – час, а может два. Николь устала сидеть, от долгого сидения затекли ноги, она даже успела вздремнуть, опустив голову на грудь. Чей-то палец ткнул ее в плечо. Николь вздрогнула и открыла глаза. Перед ней стояла госпожа Юшкова. Обычной благожелательности статс-дамы не было и в помине. Величественная и грозная, она не просто отчитывала нежданную гостью, она шипела, как рассерженная гусыня.
– Чем можно объяснить ваш странный визит, сударыня?
– Это ответ на письмо, – Николь присела в поклоне.
– Я не знаю, кто его писал. Никому во дворце и в голову не могло прийти выслать вам приглашение… в столь неподходящий час. Может быть, вы сами сочинили эту писульку?
– Помилуйте, сударыня… Анна Федоровна, да разве бы я посмела? Видно, кто-то решил сыграть со мной жестокую шутку. – Николь очень убедительно играла раскаяние, на глазах ее появились слезы, руки были сжаты на груди словно в предсмертной тоске.
Госпожа Юшкова смилостивилась, исчезла шипящая гусыня, в словах ее появились человеческие нотки.
– Их Величество изволят лежать в постели, – прошептала она одними губами. – У них сухие колики, – и добавила на той же доверительной ноте, – если сболтнешь об этом кому, голову сверну, живой с кашей съем. Явилась не запылилась! Экая прыткая. А теперь иди. Когда надо будет, тебя позовут.
У Николь хватило ума не переживать по поводу откровенного хамства, в конце концов, она сама выбрала эту работу, и потом другие, куда более важные переживания смущали душу. Кто мог подстроить ей подобную каверзу? Юшкова не удосужилась вернуть ей послание, и это было обидно. Николь казалось, что перечтя сейчас внимательно записку, она смогла бы по почерку или стилю угадать отправителя.
Заспанная горничная явилась разоблачать ее ко сну. Она только сняла драгоценности, как Николь отослала ее прочь. В голову само собой пришло имя. Шамбер, вот кто подстроил мнимый вызов во дворец! Огюст вряд ли знал, в отличие, скажем, от Нолькена, что во дворце сегодня не принимают, и решил, что Николь проведет ночь за картами в придворной компании. А это значит, что он уже не доверяет своей напарнице, значит, он решил подстраховаться и нашел способ вызвать Матвея на эту проклятую дуэль. И не надо самой с собой играть словами! Это будет не дуэль, а убийство. Она велела опять закладывать карету. Был час ночи.
Родион сидел напротив Николь и осторожно рассматривал свою спутницу. Каретный фонарь скупо освещал большеглазое лицо ее. Худенькие плечи по-птичьи выпирали из мантильи, не красавица, но что-то в ней есть притягивающее, очень женственна и, безусловно, умна, а вздернутый подбородок, видимо, неотъемлемая часть облика – она всегда готова и к защите, и к нападению. Он потом так и рассказывал Матвею об этой поразившей его встрече: «Очень женственна и умна, и я еще подумал тогда, а не сталкиваются ли два этих качества в жестком противоречии?»
Но сейчас Николь не хотела ни нападать, ни защищаться, она терпеливо ждала, со вниманием вглядывалась в неясный пейзаж за окном, хоть там и смотреть было не на что: пыльный бурьян вдоль дороги и чугунная, примитивная решетка, огораживающая чьи-то владения. Молчание затягивалось, и Родион решил сразу перейти к главному.
– Дитмер убит. Его убил Шамбер.
– Этого не может быть!
– Все произошло на моих глазах.
– Но зачем? Всемилостивый Боже, зачем?
– Это предстоит выяснить. Но уже не мне. Этим будут заниматься уже другие люди.
– Какие… люди?
Лоб ее наморщился в мучительном раздумьи, глаза растерянно метнулись вбок, но она тут же овладела собой. Что и говорить, международные авантюристки умели держать себя в руках. Родион внутренне усмехнулся. Спросит или не спросит про Шамбера? Не спросила…
– Прикажите кучеру развернуть карету, – сказал Родион негромко.
– Но я хочу видеть Матвея.
– Вам туда сейчас нельзя.
– И куда мы поедем?
Не дождавшись ответа, Николь отворила дверцу кареты и звучно отдала приказание кучеру. Сознайся, Родион, с этой леди приятно иметь дело. Она не капризничала, не задавала лишних вопросов, не закатывала глаза в притворном ужасе. Прежде чем повернуть назад, кучер доехал до небольшой развилки, карета тяжко переваливалась с боку на бок, минуя рытвины. Лошадь Родиона, словно привязанная, покорно следовала за каретой.
Они молчали до тех пор, пока не выехали на укатанную Невскую першпективу. Здесь лошади ходко побежали вперед.
– Так куда мы все-таки едем?
– На пристань. Там вас ждет катер. На нем вы доплывете до Кронштадта, а оттуда в Стокгольм. Вас устраивает такой вариант?
– Нет, не устраивает. Я остаюсь в России. Я так решила.
– Вы помогали Шамберу в его делах?
– Нет.
– Подумайте, прежде чем ответить. Он ведь вас на допросах не пощадит.
– Моя помощь не имеет к политике никакого отношения. Шамбера интересовали деньги, которые он вместе с Сюрвилем вез из Парижа.
– Ах, вот оно что? Шамбер все никак не может успокоиться. У Матвея нет этих денег. Они давно найдены и отправлены по назначению. Но Бирон очень болезненно реагирует на эту тему. Боюсь, он захочет допрашивать вас лично.
– Но я ни в чем не виновата!
На мосту через речку Мью их остановил ночной патруль. Родион показал документы, их тут же пропустили. Карета протарахтела по деревянному настилу. Николь все так же избегала встречаться взглядом с Родионом и неотрывно смотрела в окно. Только по рукам ее было видно, что она нервничает. Теперь они не лежали в подоле ладошками вниз, а беспокойно теребили бахрому крохотной, подвешенной на цепочке к поясу сумке.
– Вы должны уехать из России хотя бы затем, чтобы не подставлять под удар Матвея. У нас умеют допрашивать, а кое-кто считает, что Шамбер его завербовал.
– Какой вздор! – он вдруг фыркнула, как обиженная кошка.
– Разумеется вздор, но для следствия это не аргумент.
– Я люблю его.
– Охотно верю. И поверьте, сочувствую вам. Но любовь вещь опасная. Кто сосчитает, сколько на свете голов полетело именно из-за любви! Давайте остынем на время. Жизнь еще не кончена, но сейчас выпала такая минута, когда необходимо сделать выбор.
Николь опять замолчала надолго, а потом спросила спокойным, бесцветным тоном:
– Я могу заехать домой?
– Нет.
– Но там у меня деньги, документы, одежда, драгоценности, в конце концов.
– Ваши документы вам сейчас не понадобятся. Вы поплывете под чужим именем. Ваш багаж я перешлю со следующей оказией. Вас известят, где его получить.
Спросит или не спросит про Матвея? Не спросила… Догадлива была мадам де ла Мот, в достоинстве ей тоже не откажешь.
Привязанный катер танцевал на утренней волне. Николь вышла из кареты, высоко подобрала юбку, готовая прыгнуть на борт. Матросы тянули руки, готовые ей помочь. Казалось, она на миг застыла в прыжке, когда оглянулась вдруг и крикнула потерянно:
– Но я его увижу?
– Не знаю, – честно ответил Родион.
– Сделайте так, чтобы мы хотя бы попрощались. Поверьте, это не справедливо. Матвей этого не заслужил.
Николь опустилась на сиденье и закрыла лицо руками. Офицер отдал честь. Матросы дружно подняли весла. Все, поплыли…
И последняя глава, короткая
Так что там у нас осталось? Трудное, очень трудное объяснение Люберова с князем Козловским. С набережной Родион явился в усадьбу «Клены» с полицейской командой. Увели Шамбера, унесла останки Петрова. Труп бедного сторожа обнаружили только через два дня и то случайно.
А пока участники ночных событий сдвинули кубки и выпили за успех. Матвей, посвященный ротмистром Пушковым в суть дела, пил со всеми наравне и вопросов больше не задавал, только мрачен был против обыкновения. Потом Пушкову и Веберу доставили лошадей, и они отбыли по домам. Резвый тоже вернулся к хозяину.
Я не буду подробно пересказывать разговор Матвея и Родиона. Он шел относительно мирно до тех пор, пока не было произнесено имя мадам де ла Мот. Ну а дальше, что называется, дым коромыслом!
– Да пойми ты, я не мог позвать тебя участвовать в ночной операции, потому что покойный Петров подозревал тебя в связи с Шамбером!
– Твой агент мог подозревать, что я людей на дорогах граблю. Это его право. Но ты-то!
Здесь Матвей захохотал, и смех этот был какой-то ненатуральный, можно сказать, сатанинский. Он хохотал, а глаза оставались злыми, настороженными.
– Ты можешь сколько угодно ржать. Но Петров накатал отчеты Бирону, и мне стоило большого труда уговорить агента не посылать их до времени по назначению.
Ответом был все тот же смех. Потом Матвей запрокинул голову и влил в глотку полбутылки вина, а может, и больше, чем полбутылки, кто там считал, сколько осталось в темном сосуде живительной влаги.
– Я до сих пор не уверен, что он их не выслал. Правда, агент обещал не упоминать в этих служебных виршах твоего имени.
– А имени Николь? То есть мадам де ла Мот?
– А вот этого обещания он мне не давал.
– Так что же мы здесь сидим? – закричал Матвей.
– А нам торопиться некуда. Тихо, тихо… Ты руками-то не маши. Сегодня утром из Кронштадта отплывает датский галиот. Он идет с грузом пеньки и дегтя. Бирон в тайне от всех торгует пенькой. Ты не знал?
Родион ожидал, что Матвей рассмеется ехидно, так не вязался образ всесильного фаворита со столь низменным занятием, но князь не смотрел на друга насуплено и что-то соображал в уме.
– Мы уплывем на этом галиоте? – сказал он наконец.
– Нет, мой милый. Это мадам де ла Мот уплывет в Стокгольм под именем камеристки госпожи Адеркас. Сама генеральша покидает Россию по суше, а камеристка – морем. Николь уплывает, а ты остаешься.
– Ну, это мы еще посмотрим! – воскликнул Матвей и бросился из дома. Родион нагнал его, когда тот уже выводил из конюшни лошадь. Ни слова не говоря, он тоже вскочил на Резвого.
Это, я вам скажу, была скачка! «Только бы успеть!» – молил Бога Матвей. «Только бы опоздать!» – заклинал судьбу Родион.
А ты попробуй, доскочи в столь короткий срок до Кронштадта, доплыви до острова Котлина (он же Ретусари), который, судя по энциклопедии, находится в двадцати пяти верстах от устья Невы и в сорока шести от самого Петербурга. От Ораниенбаума или, скажем, мыса Лисий нос до Кронштадта рукой подать, поэтому наши герои, не сговариваясь, решили большую часть пути покрыть сушей. Из боязни загнать лошадей они отдыхали в пути и сами от возбуждения дышали как взмыленные кони, разве что пена не летела с губ.
– Как ты мог! – твердил Матвей, всхлипывая, как обиженный ребенок.
– Ты бы лучше мне спасибо сказал, – запальчиво отвечал Родион, – что я спас твою мадам. А тебе бежать за границу я не позволю, не надейся. Найдутся умники, которые обзовут тебя дезертиром, придумают, что ты потому деру дал, что сам в шпионском предприятии замешан. Да что ты понимаешь?
И опять они гнали лошадей, и опять переводили дух под кроной березы или сосны, а Матвей повторял с настойчивостью сумасшедшего: «Как ты мог?» Родион в ответ уже не оправдывался, молчал.
Это сейчас хорошо, позвонил по мобильнику и сказал все необходимые слова, а в романтическом XVIII веке даже наручных часов не было.
– Светает, – сказал Родион.
– Черт подери, действительно светает, – согласился Матвей.
И опять они гнали лошадей. А потом старый лодочник повез их на остров Котлин. Когда они отчаливали от берега, солнце уже поднялось над горизонтом.
Скажем сразу, они опоздали. Капитан галиота был человеком серьезным, слов на ветер зря не бросал. Прошли таможню, а дальше лови попутный ветер и вперед! Наши герои опоздали с точки зрения здравого смысла, но по законам моего сюжета они приплыли как раз во время. Таможня задержала галиот на час, и Матвей, отирая ладонью мокрое лицо, успел различить в утренней дымке отплывающий корабль и женскую фигуру на палубе. Она была в алом плаще, шарф развивался на ветру, в лучах зари он казался розовым. В эту минуту князь Козловский со всей очевидностью понял, что именно свою возлюбленную он видел под Данцигом, когда туман на минуту отступил и оголил палубу вражеского корабля. Конечно, это была Николь, и странно, что она не сказала ему об этом.
– Ты что, плачешь, что ли? – спросил потрясенный Родион.
– Нет, это просто брызги.
Эпилог
В начале разделаемся с делами политическими. Опыт Шамбера с намерением развязать войну не удался, однако он не был вовсе так бездарен, как кажется на первый взгляд. Через пять лет все повторилось, но события укладывались уже совсем в другую фабулу. Этот политический скандал вошел в историю под названием «убийство Синклера».
Россия тогда активно воевала с Турцией, фельдмаршал Миних одерживал славные победы. И как раз в это время Швеция собралась наконец вернуть туркам старый долг Карла XII. Долг можно отдавать деньгами, а можно оружием. Стамбул согласился на второе. Вначале шведы снарядили корабль и на нем послали десять тысяч мушкетов, при этом обещали через год выслать еще двадцать тысяч единиц того же оружия.
Посредником в переговорах с турками был майор Синклер. Опытный шведский агент со стажем, он уже успел попортить много крови России. Косвенно он был замешан и в польские дела, особенно болезненные для Петербурга. Недолго думая Миних отдал тайный приказ оного шпиона «анвелировать». Вот несколько скорректированные выдержки из приказа: «…искать с ним случая компанию свесть или иным каким образом его видеть, а потом наблюдать и, где б поляков не было, постичь. Ежели такой случай найдете, то надо стараться его умертвить или в воду утопить, а письма прежде без остатка отобрать».
Синклер был убит в июле 1739 года недалеко от Бреславля, депеши были отобраны и отосланы по назначению. Очень интересно, как развертывались события дальше. В Стокгольме среди «партии шляп» убийство Синклера вызвало страшное озлобление. Молодые, патриотически настроенные офицеры буянили в трактирах и на улицах, требуя немедленно напасть на Россию. Наш посланник Михайло Бестужев, ожидая нападения, сжег все важные документы и тайные депеши, а также счета по подкупам, а сам вынужден был скрываться. Где-то там разбили стекла в православном храме, в окно дома Бестужева запустили камнем. Словом, полное безобразие.
Но совсем иначе вело себя высокое шведское начальство. Поначалу оно вообще хотело скрыть убийство Синклера. Глава секретной миссии Грюнберг откровенно сокрушался, что убийцы русские и что всему миру это известно. Для шведских политиков в этот момент было куда выгоднее, чтобы убийцами были разбойники или гайдамаки.
А Россия с невинной улыбкой на устах твердила, что к убийству Синклера не имеет никакого отношения. Офицеры исполнители (история сохранила их имена: поручики Левицкий и Веселовский), конечно, были наказаны. Хороши исполнители тайной миссии, если перебаламутили всю Европу. Поручиков сослали в Тобольск, откуда их потом, правда с переменой фамилий, освободила Елизавета.
Меж тем русские одержали полную победу над турками. Стокгольмские страсти по поводу убийства Синклера ушли в песок, Франция еще не дала шведам команды на войну с Россией.
А спустя еще два года Франция эту команду дала. Тогда в России намечался государственный переворот, революция, как тогда говорили. Годовалый ребенок на троне со слабой регентшей никого не устраивал. Удивительно, но и Францию тоже. Министры-то остались на своих местах, Остерман как стоял за союз с Австрией против Франции, так и продолжал стоять. В Париже считали, что Елизавета на троне будет более уступчива, и они решили подсобить ей занять трон с помощью шведов. Откуда-то явилась наивная мысль, что дочь Петра, получив помощь извне, вернет Россию к старому образу жизни, и она опять станет безликой Московией, которая не путается под ногами и не вмешивается в политику Европы. Больше всего суетился в Петербурге французский посланник Шетарди.
Летом 1741 года шведы объявили войну России. Лозунгом операции было: «Избавить достохвальную русскую нацию для ее же спокойной безопасности от тяжкого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании». Перед объявлением войны шла долгая дипломатическая торговля. Нолькен и Шетарди обхаживали Елизавету с утра до вечера, требовали письменных обязательств, особо намекая, что Швеция надеется получить хотя бы часть земель, завоеванных Петром. Елизавета на письменные обязательства не согласилась, а на словах передала, что готова платить за оказанные услуги, но только деньгами, поскольку в противном случае «народ ее не поймет».
Войну шведы бездарно проиграли, а трон Елизавета получила с поддержкой русской партии. На долю Швеции и Франции пришлись моральные и денежные убытки. На этом я закрываю политическую тему, потому что продолжать ее можно бесконечно.
Вернемся в 1734 год. Суд над Шамбером был долгим, больше года он маялся в тюрьме, требуя на каждом допросе, чтобы его вернули во Францию. Но в Париже о нем явно забыли. Суд приговорил его к смерти, но императрица смилостивилась и заменила казнь пожизненной ссылкой в Сибирь. Дальнейшая судьба Шамбера мне не известна.
Императрица Анна умерла через шесть лет после описываемых событий. В последние минуты перед агонией она подписала бумагу о регентстве Бирона. Пока Анна еще была жива, все окружение царицы поддержало эту идею – вдруг выздоровеет! Но как только Анны Иоанновны не стало, Петербург возмутился: почему Бирон регент, почему не родители императора младенца? Больше всех негодовал Миних. Его руками и был осуществлен очередной переворот.
Регентом Бирон был двадцать два дня. Он успел указом остановить подписанные казни – такова была традиция, снизил на 17 копеек подушную подать и распорядился ограничить при дворе роскошь.
7 ноября Миних явился к принцессе Анне и предложил свою помощь в низложении Бирона. Разговор был сложным. Принцесса страшно рисковала. В случае неудачи молодая женщина теряла все, может быть и жизнь. В конце концов, Анна Леопольдовна согласилась на арест Бирона.
Миних провел операцию в строжайшей тайне. Надо присовокупить, что все это время фельдмаршал старался во всем угодить регенту, не упуская случая выказать ему свое доверие и привязанность. Бирон вел себя с Минихом очень корректно, часто звал к себе в дом обедать, где они дружески беседовали.
Вечер 7 ноября был очень похож на предыдущие. За разговором засиделись дольше обычного. Бирон казался рассеянным, а потом вдруг ни с того ни с сего спросил фельдмаршала, не делал ли он каких либо важных предприятий ночью? Миних взволновался было, но сдержал себя и незаметно ушел от ответа.
Они расстались в одиннадцать часов вечера. Спустя час Миних вызвал себе своего адъютанта подполковника Манштейна. Вместе они поехали во дворец. Там, как было условлено заранее, Миних представил Манштейна Анне Леопольдовне, затем были созваны все офицера, находящиеся этой ночью в карауле. Принцесса кратко рассказала собравшимся, какие неприятности делал регент младенцу императору, ей самой и ее мужу, и затем объявила, что Бирона необходимо арестовать и дело это поручается фельдмаршалу Миниху.
Бирон жил в летнем дворце, имея при себе триста человек охраны. В отряде Миниха было восемьдесят человек. Караул Бирона состоял из преображенцев. Их не надо было долго уговаривать. Как только Миних сообщил им, что пришел сюда от имени принцессы Анны, офицеров беспрепятственно пропустили во дворец.
Миних приказал Манштейну возглавить отряд из двадцати человек, арестовать Бирона, а в случае сопротивления убить его. В своих «Записках о России» Манштейн подробно описывает, как он шел на цыпочках по ночному дворцу. Отряд, остерегаясь произвести малейший шум, следовал поодаль. Подполковник не знал, где спальня регента. Он мог бы спросить у слуг, дежуривших в сенях, но боялся, что они перепугаются и закричат.
Спальня, наконец, сыскалась, Бирон безмятежно спал рядом с супругой. Регент отчаянно сопротивлялся и кричал. Гвардейцы оглушили его прикладом, повалили на пол, в рот засунули кляп и снесли в карету. Там чья-то добрая рука закрыла полуголого Бирона солдатской шинелью.
Несчастная Бенгина выбежала за мужем в одной рубашке и стала метаться по двору. Один из гвардейцев подхватил ее на руки и спросил Манштейна:
– А с этой что делать?
– Отнесите обратно в покои.
Гвардеец подумал, посмотрел на герцогиню и, решив, что она не стоит его забот, бросил несчастную женщину в снег и ушел.
На следующий день Бирон был препровожден в Шлиссельбургскую крепость. Комиссия по его делу заседала пять месяцев. В вину ему ставили: отсутствие религиозности, обманом захваченное регентство, желание утвердить трон за своим потомством и прочее. Приговорили к четвертованию, но Анна Леопольдовна смягчила приговор.
А далее – двадцать с лишним лет ссылки с конфискацией имущества. Бирон был лишен всех чинов, имений и сослан с семейством в Пелым Тобольской губернии. Миних и тут порадел о содержании бывшего «друга», разработал план дома, в котором должно содержать опального Бирона: «четыре малых жилья» (комнаты), высокий забор… Правда, дом этот вскоре сгорел.
В Пелыме Бироны оставались недолго. Придя к власти, Елизавета облегчила участь ссыльных и перевела все семейство на жительство в Ярославль. Освободил их уже Петр III, явивший свою милость почти ко всем пострадавшим за два предыдущих царствования. По политическим соображениям все годы ссылки за Бироном сохранялся титул герцога Курляндского. При Екатерине II Бирон переехал в Курляндию и стал фактическим герцогом, до самой смерти верно служа царице и России. Умер он в 1772 году в возрасте восьмидесяти двух лет.
У Бирона было трое детей – два сына и дочь. Старшего сына Петра Бирон сватал в свое время за Анну Леопольдовну – не получилось. На Елизавету Петровну Бирон тоже положил глаз, мечтая видеть ее своей невесткой. Кто только не метил в мужья к дочери Петра!
Очень хотелось Эрнесту Иоганну вплотную приблизиться к русскому трону. Может, он и имел для этого основания? Во всяком случае, существовала устойчивая сплетня, что матерью одного из сыновей Бирона была сама Анна Иоаннов-на. Особенно любила императрица младшенького – Карла.
Оба сына Бирона прожили долгую жизнь, служили России. Дочь Ядвига заслуживает отдельных слов, судьба ее интересна и поучительна. Ядвига была горбата. Красивое лицо, великолепные волосы, и вдруг такой изъян. Может, и не горбата она была, а сильно сутула или кривобока. Иные мемуаристы так и пишут.
Жизнь ссыльных в Ярославле была тяжелой. Все внимание родителей было отдано сыновьям, а уродливая дочь была позором семьи.
Принцесса бежала из родительского дома и явилась к жене ярославского воеводы Пушкина с просьбой защитить ее. При этом Ядвига высказала горячее желание принять православие. Госпожа Пушкина написала письмо на высочайшее имя.
Просьба принцессы растрогала сердце религиозной Елизаветы. Она сама стала крестной матерью беглянки. Ядвига Бирон превратилась в Екатерину Ивановну и обер-гофмейстерину императрицы, то есть ей был поручен присмотр за фрейлинами. Служба эта была и почетной и денежной.
Еще одна подробность. Кривобокая обер-гофмейстерина приглянулась великому князю Петру (будущему императору). Екатерина негодовала: «Мой супруг любит только уродливых женщин. Как это унизительно – иметь такую соперницу!»
Приняв православную веру, принцесса Ядвига очень облегчила участь родителей, а через пять лет сделала весьма выгодную партию, выйдя замуж за князя Черкасского.
После ареста Бирона регентшей при младенце-императоре стала Анна Леопольдовна. А далее все отразилось как в кривом зеркале. В Петербург немедленно прибыл красавец Линар. Время несколько поубавило в нем красоты, но тщеславие и самовлюбленность остались в прежнем качестве. Насмотревшись на жизнь своей царственной тетки, регентша решила строить свою жизнь по ее образцу. Линар попросил руки Юлии Мегден и получил согласие. Петербург уже видел в Линаре нового Бирона. Супруг Анны Леопольдовны вообще не учитывался. При дворце сплетничали, что Юлия Мегден запретила принцу Антону входить в покои жены. А потом был очередной переворот.
В 1741 году к власти пришла Елизавета Петровна. Пришла очередь Миниха пострадать. Его судили и сослали в тот же Пелым. Существует легенда, что бывший регент и экс-фельдмаршал встретились где-то на необъятных просторах России, молча поклонились друг другу и разъехались в разные стороны, первый на запад, второй – на восток.
Миних прожил в Пелыме двадцать лет, и это были годы неустанной работы. Он сочинял инженерные проекты, присовокуплял к ним просьбу о помиловании и отсылал в Петербург. Посылки эти были столь часты, что скоро двор запретил ему писать в Петербург. Но укротить Миниха, погасить в нем жажду деятельности было так же невозможно, как заткнуть пальцем реку.
В ссылке он стал очень религиозен, все время читал Священное Писание, молился, а когда приставленный к нему пастор умер, стал сам отправлять богослужение.
Петр III вернул его из ссылки, но к настоящей работе Миних приступил уже при Екатерине. В семьдесят восемь лет он был назначен начальником портов в Рогервике, Ревеле, Нарве и Кронштадте, а также Ладожским каналом, любимым его детищем. Главным его занятием тогда было строительство гавани в Рогервике. Судя по документам, Екатерина к нему благоволила. Умер Миних в возрасте восьмидесяти трех лет и похоронен в своем имении под Дерптом.
Пора вспомнить наших молодых героев. Я уже говорила, что во время регентства Бирона Родион Люберов тихо отошел от дел, а потом и вовсе, пользуясь наработанными связями, ушел в отставку. Однако это не защитило его от немилости Елизаветы. Спасли Родиона родители. Бумага об их возвращении из ссылки была подписана Бироном, но вернулись они уже при новой императрице в общем потоке ссыльных.
Тайная канцелярия расселяла людей по ту сторону Уральских гор по своей страшной и прихотливой системе. Иногда людей высылали под чужим именем и следы их совершенно терялись. Были случаи, когда документы и по факту ареста, и сами опросные листы сознательно уничтожались, и человек совершенно терялся в снегах Сибири. Возвращение дворянина и бывшего предпринимателя Андрея Люберова с супругой было несколько облегчено тем, что начальство знало, где их искать. Но одно дело знать, а другое обеспечить приезд – и долго, и дорого, и муторно.
По возвращении Андрею Корниловичу были возвращены и деревни и дом на Васильевском, который ранее занимал Миних. Овчарный завод, разумеется, остался за новым хозяином, но отец-Люберов успешно организовал новое производство. Словом, семья не бедствовала.
Нельзя сказать, что Родион ненавидел Бирона. Когда с человеком общаешься достаточно близко, то как бы он не был плох в глазах общественности, все равно находишь в его характере какие-то близкие тебе черты. Да, Бирон был коварен, жаден, властолюбив, он был груб и высокомерен, но он любил лошадей. Но главное, в семье Люберовых умели помнить добрые дела, даже если их делал неприятный тебе человек.
Как только семейство Биронов перевели в Ярославль, Родион поехал навестить бывшего фаворита. Он был принят как друг – и за стол вместе с собой посадили, и накормили до отвала. Бирон со слезой в голосе вспоминал о недавней своей власти. И удивительное дело, в воспоминаниях фаворита Родион был не пятой спицей в колеснице, ни маленьким человеком, знающим толк в лошадях, а еще дураком, честным до дури, а соратником, вместе с которым они вершили великие дела на пользу России. Но не поняли их, понеже русский народ суть бестолков, неблагодарен, необразован и темен. Теперь уже и сама отставка Родиона виделась карой новоявленной Елизаветы, дщери Петровой.
Теперь о Лизоньке и Ксаверии. Кто бы знал, сколько в Сурмиловском дому было пролито слез слабой половиной рода человеческого, сколько громоподобной ругани изрыгали уста представителя сильного пола! Карп Ильич, казалось, просто с ума сошел. Ксаверий держал себя с большим достоинством, тихо жил в сторожке и аккуратно посещал оранжерею, обихаживая нежные померанцы и виноградные лозы.
Разъяв молодых, Сурмилов категорически запретил им встречаться. Но отцовское сердце не камень. Он только слегка ослабил вожжи. И Лизонька тут же упорхнула к любимому. Павла с плачем повлеклась за своей подопечной, но Лиза с бранью закрыла перед ее носом дверь в сторожку.
После зрелого размышления Сурмилов все-таки склонился к браку. Жених из хорошего рода, Лизонька станет княгиней, в производстве благородных вин поляки тоже кое-что понимают, а деньги он сам заработает. Последнее было, пожалуй, единственным, что он умел делать хорошо. Но вот вопрос – как обвенчать католика с православной? Много, ах, много золота раздал Сурмилов на взятки, и церкви отвалил немеренно.
И тут случилась вещь неслыханная. Церковь выдала свой вердикт, вспомнив при этом, как в государственных видах русские цари отдавали своих дщерей на чужбину. Взять хотя бы Иоанна Великого III, отдавшего в жены великому князю Литовскому и Русскому Александру – свою старшую дочь. Тогда нравы в отношении церквей римской и греческой были куда как строги, а сейчас XVIII век, надобно идти в ногу со временем.
Конечно, если бы в Польше стихли политические волнения, дело бы приняло другой оборот. Но Европа никак не могла успокоиться, не хотела примириться, что Лещинский не стал королем. Иные западные политики всерьез настаивали на перевыборах – пусть, мол, Станислав Лещинский и Август Саксонский откажутся от притязаний на Польшу, а поляки кого-нибудь сами выберут себе на трон. Наивные рассуждения!
Старый князь Гондлевский при сообщении о свадьбе сына пришел в бешенство, но старая княгиня отписала Ксаверию, что отец бунтуется только для виду. И ты, мой обожаемый сын, должен понять отца. Каково ему, природному пясту, входить в родство с безродными москалями? Но слова эти были написаны как бы между строк, куда ярче и выпуклее просматривалась надежда, что родовой замок Гондлевских будет не только выкуплен из залога, но и отремонтирован.
Автор рад этому браку. Я люблю Польшу, дорогой читатель. Все наши автобусные маршруты в Западную Европу начинаются с Бреста. Там граница, таможня, иногда долгое и томительное ожидание, но и оно кончается, в паспорте тиснут вожделенный штамп, мы переезжаем через речку Прут… А дальше узкое, пустынное, обсаженное тополями и вязами шоссе, польские поля за окном, польская музыка по радио. Изящные костелы и крохотные чистенькие городки. Дальше Варшава, а за ней Париж и Венеция, Берлин и Лиссабон, Брюгге и Вена, но ничего нет лучше этого первого дня, когда все еще впереди, а в сердце ощущение покоя и счастья.
Мне хочется думать, что Лизонька Сурмилова именно по этой дороге ехала в Варшаву, влюбленный Ксаверий держал ее за руку, и оба верили, что их жизнь удалась.
А что любезный моему сердцу Матвей Козловский? Неужели его любовь к прекрасной Николь канула в Лету? Советую каждому строить судьбу героев по своему усмотрению. Он не участвовал в турецкой кампании, служба его была мирной. И все эти годы Матвей мечтал о Париже. У тетушки Варвары Петровны, слава богу, есть связи при дворе. Если похлопотать, то можно определить Мотеньку к дипломатической службе. Тем более что он с этого начинал.
При Петре в моде было все голландское, при Анне Иоанновне – немецкое, а при Елизавете – французское. И если наши герои останутся верны друг другу, то встреча их может состояться. Но это только в том случае, если Матвей очередной раз не воспылает любовью, мнимой или искренней, к прекрасной юной барышне, если деятельная Николь не умчится на скорых крыльях по пути очередной авантюры. Так что нечего пенять на коварную фортуну, мудрец сказал, что судьба человека – это его характер.
Относительно усадьбы «Клены» я могу точно сказать, что Матвей ее так и не купил. Сбегающий к реке сад, дом с ангелом на шпице, мельница с обросшей мхом колесом рождали в душе его смешанные воспоминания. Здесь он был счастлив, как никогда в жизни, но здесь же, под кроной кленов, он потерпел крах. Шамберу, хоть тот и проиграл свою игру, удалось отомстить князю Козловскому за все.
Усадьба на Фонтанной речке долго стояла бесхозной. Старому купцу никак не удавалось продать кому-либо свои владения. Меж тем место это, словно опенками на гнилом пне, обросло легендами. Толковали о многих убийствах, о загубленной девичьей душе, но самым живучим был миф о призраке в немецком платье, который, хромая, шляется по ночам и ищет какой-то клад. Нашлись простодушные, которые поверили вымыслу, явились в усадьбу с лопатами, перекопали весь сад, загубили яблони и клены. После смерти владельца усадьба перешла в казну, потом в ней, кажется, был сиротский дом. Когда он полностью обветшал, усадьбу подарили за заслуги перед государством дворянину средней руки, и он возвел здесь новые хоромы.




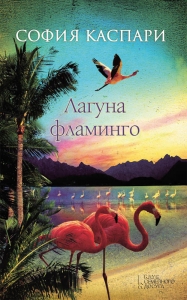
Комментарии к книге «Прекрасная посланница», Нина Матвеевна Соротокина
Всего 0 комментариев