Евгения Марлитт Златокудрая Эльза
Глава 1
Целый день беспрерывно валил снег, покрывший крыши и подоконники толстым безупречно-чистым снежным слоем. Разразившаяся с наступлением вечера метель гнала кружившиеся хлопья и с яростью налетала на мирные стаи голубей. Однако погода, в которую, как говорится, хороший хозяин не выгонит из дома и собаки, не отразилась заметно на уличном движении столицы между шестью и семью часами вечера.
Газовые фонари горели, а экипажи выезжали из-за углов с такой скоростью, что пешеходы должны были опасаться за свою жизнь и, желая ее сохранить, совершали прыжки в сторону домов. Град крепких словечек сыпался вслед кучеру и экипажу, за плотно закрытыми занавесками которого виднелись украшенные цветами головы дам, утопавших в волнах тонкого газа, шелка и не подозревавших, какие «лестные» пожелания сыпались на их изящные головки. В окнах магазинов, отбрасывающих яркий свет – завитые манекены с темными или светлыми шевелюрами, которые способны внушить зависть дикарю – собирателю вражеских скальпов; прилежно работающие часовщики; улыбающиеся лица; руки, перебирающие пышные ткани и наряды. Искусственные цветы, сложенные в гирлянды и букеты, соседствовали с живыми цветами, служившими моделью для них.
Из переулка на одну из центральных улиц вышла упругим и легким шагом женская фигура. Поношенное пальто плотно облегало стройные формы, она крепко прижимала к груди старую теплую муфту, придерживая свесившиеся концы вуали, из-под которой сверкала молодым задором пара блестящих голубых глаз. Они весело смотрели на пелену снега и с удовольствием останавливались на розах и темных фиалках в витринах магазинов, и только тогда прятались в тени густых ресниц, когда среди снежных хлопьев неожиданно попадалась колючая градинка. Кому приходилось когда-либо слышать, как женские руки начинают бойко играть на рояле знакомую мелодию, но тотчас же фальшивят, берут всевозможные ноты, кроме тех, которые нужны в настоящую минуту, затем быстро мчатся дальше, вставляя или пропуская несколько легких тактов, чей слух подвергался подобным пыткам, тот легко может понять, с каким наслаждением молодая девушка, только что дававшая в институте уроки музыки, подставляла снежным хлопьям и свежему ветру свое разгоряченное лицо.
Пока она легко и быстро движется среди густой толпы, я хочу немного познакомить читателей с ее прошлым.
Вольф фон Гнадевиц был последним представителем славного рода, ведущего свое начало с того доброго старого времени, когда проезжавшие по дорогам купцы подвергались нападениям рыцарей и отдавали свои дорогие ткани и прочие товары в обмен на жизнь. К тем временам относится и колесо в гербе Гнадевицей, на котором испустил свой геройский дух один из предков вследствие того, что, следуя рыцарскому правилу присвоения чужого имущества, пролил слишком много неблагородной купеческой крови.
Это была большая несправедливость, всколыхнувшая все дворянство страны, так как обычно колесование предназначалось лишь для людей низкого происхождения. Тем более, что «мученик» проливал только кровь торговцев и ремесленников, а она стоила дешевле воды. Итак, герой-разбойник не оставил темного пятна на своем генеалогическом древе, а его семья даже с какой-то бравадой включила в свой герб колесо, которое он облагородил.
Фон Гнадевиц, последний отпрыск своего рода, камергер при княжеском дворе X., был кавалером многих орденов, обладателем нескольких имений и всех свойств характера, присущих, по его мнению, лицам аристократического происхождения и называемых им благородными, потому что пониманию простого смертного, при его узких взглядах на нравственность под давлением условий жизни и нравов, были недоступны неподражаемая грация и изящество порока.
Вольф фон Гнадевиц, который подобно своему деду, очень любил роскошь, покинул замок в горах Тюрингии, служивший колыбелью его рода, и выстроил себе в долине совершенно сказочный дворец в итальянском стиле. Вскоре внук совсем забросил замок на горе, но значительно расширил и украсил этот большой итальянский дворец в долине. Казалось, Вольф ни на минуту не сомневался в том, что его род будет продолжаться до Страшного суда: ведь для того, чтобы заселить все вновь возведенные пристройки дворца, старое генеалогическое древо Гнадевицей должно было дать бесчисленное количество новых побегов.
Однако судьба распорядилась иначе. У Вольфа Гнадевица был сын, который уже в двадцать лет являлся таким истым Гнадевицем, что даже предок, прибавивший к фамильному гербу колесо, должен был бледнеть в сравнении с ним. Однажды во время охоты молодой барин нанес одному из загонщиков страшный удар хлыстом только за то, что тот нечаянно отдавил ногу любимой хозяйской собаке. Некоторое время спустя Ганс был найден на дубе в лесу с веревкой на шее. Избитый загонщик поплатился за это жизнью, но сия мера не воскресила последнего Гнадевица, и славный род угасал.
После страшного происшествия Вольф немедленно покинул свой роскошный особняк в долине и перебрался в Силезию, в одно из своих многочисленных имений. Он взял к себе в дом дальнюю родственницу по боковой линии для того, чтобы та заботилась о нем. Однако, оказалось, что эта родственница – прелестная молодая особа. При виде ее старик забыл о цели ее приезда и решил, что его шестидесятилетний стан еще достаточно строен для того, чтобы облачиться в свадебный фрак. Но, к глубочайшему негодованию, ему пришлось узнать, что уже наступило время, когда даже Гнадевиц может получить отказ: он пришел в ярость, когда девушка созналась ему, совершенно забыв о своем высоком происхождении, что отдала свое сердце молодому офицеру недворянского происхождения, сыну одного из лесничих Гнадевица.
У молодого офицера Фербера не было ничего, кроме сабли и стройной фигуры. Но он был очень образован и обходителен и отличался прекрасным характером. Когда после этого признания фон Гнадевиц оттолкнул от себя прелестную Марию, молодой Фербер женился на ней, и первые десять лет своего брака не согласился бы поменяться местами ни с одним королем. Но тут наступил 1814 год, принесший с собой тяжелые испытания и произведший полный переворот в его жизни. Для Фербера наступил критический момент, когда ему пришлось выбирать между двумя чувствами: первое еще с колыбели внушалось ему отцом и побуждало его любить ближнего своего как самого себя и прежде всего своих соотечественников; второе же было чувством долга, и оно повелело ему взяться за оружие.
В этой тяжелой борьбе победило первое. Фербер не пошел против своих братьев, но эта победа стоила ему карьеры и лишила обеспеченного положения. Он ушел в отставку. Вскоре после этого простуда уложила его в постель, с которой он поднялся только спустя несколько лет. Потом он переехал с семьей в Б., где получил сносное место бухгалтера в одной крупной торговой фирме. Это подоспело как раз вовремя, так как капиталец жены пропал при банкротстве банка, и только многократная денежная помощь старшего и единственного брата Фербера, служившего лесничим в тюрингском лесничестве, спасла несчастную семью от крайней нужды.
К сожалению, это счастье продолжалось недолго. Начальник Фербера был очень набожным и старался обращать на путь истины всех подчиненных. Фербер также не избежал этого, однако усердие Гагена, как звали хозяина фирмы, натолкнулось здесь на решительный отпор. Правда, отпор этот высказывался спокойно и основывался на глубоких научных знаниях, однако это страшно возбудило набожную душу купца. Мысль о том, что он дает хлеб вольнодумцу и тем способствует гибели царства Божия, не давала Гагену покоя, пока он, наконец, не избавился от этой тяжести, написав приказ об увольнении Фербера и выгнав заблудшую овцу из своего стада.
В это время Вольф фон Гнадевиц отправился к праотцам и, так как он строго придерживался правил своих предков – никогда не оставлять ни одной обиды неотмщенной, то жизнь старика закончилась достойным его завещанием, написанным им собственноручно. Этим завещанием, свидетельствовавшим о его родовой последовательности, он назначил дальнего родственника своей жены полным наследником всего имущества. Заканчивался документ следующими словами: «Вследствие того, что Анна-Мария Фербер, урожденная фон Гнадевиц, имеет неоспоримые права на наследство, я завещаю ей замок Гнадек в Тюрингии. Анна-Мария не может не сознаться в том, что я оказываю ей благодеяние, оставляя ей приют, с которым тесно связаны воспоминания нашего благородного рода, к которому она также принадлежит. Зная хорошо, что в этом замке всегда царили счастье и благоденствие, и обстоятельно взвесив сей неоспоримый факт, я нахожу излишним присоединять еще что-либо к этому подарку.
Если же она не сумеет оценить мой дар и пожелает продать его, то она тотчас же лишается своих прав на замок, который переходит, тогда в собственность сиротского дома в Л.»
Вольф фон Гнадевиц на своем смертном одре приготовил этим завещанием самую язвительную насмешку.
Ни Фербер, ни жена его никогда не видели этого старинного замка, но им, как и всем, было известно, что он представляет собою груду развалин, до которых в течение последних пятидесяти лет не дотрагивалась рука человека.
Вся домашняя утварь, панели и даже медная крыша с главных строений были сняты и перевезены в новый особняк в долине еще в самом начале его постройки.
С тех пор тяжелые запоры и висячие замки на громадных дубовых воротах запылились и заржавели, столетние деревья спокойно росли около серых зданий, и скоро старый покинутый замок, скрывавшийся за зелеными ветвями, стал походить на древнюю мумию в гробу.
Счастливый наследник всего имущества фон Гнадевиц, которому неожиданное наследство – владение среди леса – было крайне неприятно, охотно продал бы за хорошую цену старый замок, но предусмотренная в завещании оговорка не допускала никаких своеволий.
Госпожа Фербер, прочитав доставленную ей копию завещания и уронив на нее несколько горьких слезинок, молча положила ее на письменный стол мужа и снова с рвением принялась за свое вышивание.
Фербер, несмотря на все старания и хлопоты, все еще не мог получить никакого места и принужден был зарабатывать кусок хлеба для семьи дурно оплачиваемыми переводами и перепиской бумаг и нот. Жена помогала ему рукоделием.
Каким бы мрачным не было небо, распростершееся над этой семьей, все же в нем засверкала звездочка, казавшаяся залогом и обещанием благословения, заменяющего все земные блага. Фербер ощущал на себе ее благотворное влияние, когда впервые приблизился к колыбели своей дочурки и бросил нежный взгляд на ее тонкое личико с великолепными глазами, казалось, уже улыбавшимися ему.
Прошло несколько лет. Подруги, держа у купели девочку, спорили, кто из них больше любит крестницу, клялись не забывать этого дня, но когда дела Фербера стали совсем плохи, то от обещаний и воспоминаний не осталось и следа.
Этот грустный опыт, приобретенный Елизаветой на девятом году своей жизни, нисколько не обеспокоил ее. Добрая фея наделила ее веселым, ровным характером и большой силой воли.
Фербер сам учил свою дочь. Она никогда не ходила ни в школу, ни в институт. Умственные способности Елизаветы быстро развивались под руководством даровитых родителей. Науками она занималась очень серьезно с горячим стремлением основательно знать все, за что она бралась. Музыкой она занималась усердно и с любовью, с какой обыкновенно человек отдается тому предмету, в котором видит свое призвание.
Вскоре она далеко превзошла свою учительницу – мать, и несмотря на то, что была еще ребенком, заметив мрачное облачко на лице отца, она тотчас же бросала свои игрушки, садилась к нему на колени и рассказывала ему чудные сказки собственного сочинения. Позднее она изгоняла демонов тоски из души отца чудными мелодиями, зарождавшимися в ее душе и переливавшимися, как блестящий жемчуг. Прекрасная игра молодой девушки в мансарде привлекла внимание других обитателей дома. Елизавета получила несколько уроков, а затем ей предложили занятия в институте, благодаря чему она могла значительно облегчить заботы родителей о насущном хлебе.
Теперь мы можем снова продолжать начатый рассказ и последуем за молодой девушкой, спешившей в бурный зимний вечер под родительский кров.
Глава 2
Во время бесконечного пути по улицам Елизавета переживала то наслаждение, которое испытывала каждый раз, входя в свою уютную комнату. У письменного стола, освещенного небольшой лампой, сидел отец, с улыбкой подымавший бледное лицо при звуке шагов дочери. Он брал перо, неутомимо скользившее весь день по бумаге, в левую руку, а правой привлекал к себе дочь и целовал ее в лоб. Мать, сидевшая возле него с рабочей корзинкой в ногах, приветствовала дочь нежной улыбкой и указывала на домашние туфли Елизаветы, заботливо принесенные ею в теплую комнату. В горячей печной трубе пеклись яблоки, а в уютном уголке возле печки, на деревянном столе шипел чайник. Синее пламя спиртовки освещало целый полк оловянных солдатиков, расставленных шестилетним Эрнстом, единственным братом Елизаветы.
Молодая девушка должна была взобраться на четвертый этаж, чтобы достичь узкого темного коридора, ведущего в квартиру ее родителей. Здесь она, сняв шляпу, достала из-под пальто новую детскую шапку, надела ее и в таком виде вошла в комнату, где маленький Эрнст с криком радости бросился ей навстречу.
Сегодня темный уголок у печки был ярко освещен, а на письменном столе было темно. Отец сидел на диване, обняв жену. На их лицах было какое-то необычное выражение, глаза матери были заплаканы, но Елизавета увидела, что это слезы радости. Она с изумлением остановилась в дверях: удивленное лицо и съехавшая набок шапка, вероятно, придавали ей очень комичный вид, так как родители громко расхохотались. Елизавета присоединилась к ним и надела шапку на темные локоны маленького брата.
– На, голубчик, – сказала она, нежно взяв личико мальчика обеими руками и целуя его, – это тебе. Мамочке я тоже кое-что принесла, – с радостной улыбкой продолжала Елизавета, положив на руку матери четыре новеньких талера. – Сегодня я получила свое первое жалованье в институте.
– Ну, что ты! – сказала мать молодой девушке, привлекая ее к себе, – прошлогодняя шапка Эрнста еще совсем прилична, а тебе самой нужны теплые перчатки.
– Мне, мама? Пощупай мои руки, я только что с улицы, а они совсем теплые, как будто грелись у печки. Нет, это было бы излишней роскошью. Наш мальчик так вырос с прошлого года, а его шапка осталась того же размера, а потому этот расход был в данный момент самым необходимым.
– Ах ты, добрая, хорошая Эльза! – с восхищением воскликнул мальчуган, – такой чудной шапочки нет даже у маленького барона с первого этажа. Я ее надену, когда пойду на охоту, правда, папа?
– На охоту? – рассмеялась Елизавета. – Уж не собираешься ли ты стрелять по несчастным воробьям в парке?
– Не угадала, Эльза, – возликовал мальчик и серьезно добавил: – в парке мне этого не позволили бы. Нет, в лесу, в настоящем лесу, где оленей и зайцев не перечесть, так что, когда захочешь застрелить одного из них, даже целиться не надо.
– Я очень хочу знать, как отнесся бы дядя к подобному взгляду на этих благородных животных, – с улыбкой проговорил отец и, взяв со стола письмо, подал его Эльзе со словами: – Прочти его, милое дитя. Это от «лесного» дяди, как ты его называешь, из Тюрингии.
Елизавета пробежала глазами несколько строк, затем стала читать вслух:
«…Князь, которому, по-видимому, кислая капуста с ветчиной кажется более вкусной, чем паштеты, изготовляемые французом-поваром в его замке Л., провел третьего дня в моем доме много часов. Он был очень хорошо настроен и сказал, что думает взять мне в помощники письмоводителя, так как видит, что на меня возложено слишком много. Тут я воспользовался случаем и рассказал ему о том, как жестоко тебя потрепала судьба в последние годы, так что, несмотря на все твои таланты и познания, тебе приходится класть зубы на полку. Старик сейчас же понял, к чему я веду, и сказал, что готов взять тебя письмоводителем, потому что он меня… Тут он наговорил мне разных разностей, которые тебе совершенно незачем знать, но которым я, старый дед, так же обрадовался, как на экзаменах в школе, когда наш учитель сказал мне: „Молодец, Карл, ты хорошо сделал свое дело“. Ну-с, его светлость поручил написать тебе об этом и отдал соответствующие распоряжения. Содержание – 350 талеров и готовые дрова. Подумай об этом – все вовсе не так плохо! А зеленый лес, по-моему, во сто крат лучше, чем ваша распроклятая каморка на чердаке, где вечно мяукают кошки и дым из целого миллиона труб постоянно ест глаза.
Только не воображай, пожалуйста, что я тоже из таких подлиз, которые пользуются расположением хозяев, чтобы пристроить своих родственников к теплому местечку. Знай, что если бы ты был не тем, что ты есть, т. е. если бы ты не знал прекрасно своего дела, я скорее откусил бы себе язык, чем стал просить за тебя. Но вместе с тем, я точно так же стал бы ходатайствовать за всякого совершенно постороннего человека, обладающего такими же знаниями, как ты. Не сердись, но ты знаешь, что я враг всего недосказанного и невыясненного.
Однако тут возникает загвоздка, которую следует обсудить. Собственно говоря, ты должен был бы жить у меня. Это оказалось бы вполне возможным, если бы ты был холостякам, которому нужно только четыре стены для собственной персоны и ящик в комоде для воротничков и другой дребедени. Однако для целой семьи не найдется места в моей старой берлоге, которая уже давно нуждается в основательном ремонте, хотя высшие мира сего и не подумают об этом, пока она не развалится. Ближайшая деревня находится на расстоянии получаса, а город – в часе ходьбы от лесничества. Это совершенно не подходит, так как ты не можешь бегать в такую даль по скверной погоде, которая часто бывает у нас.
Вследствие этого моей старой домоправительнице Сабине, родившейся в соседней деревне, пришла в голову весьма нелепая мысль. Старый замок Гнадек, „блестящее“ наследие покойного фон Гнадевица, находится близко от нас. Сабина, будучи еще молодой девушкой, что, кстати сказать, было более четверти века тому назад, служила горничной у Гнадевица. В то время новый замок еще не был достроен, и в нем не хватало места для множества гостей, приезжавших каждый год для большой охоты. Тогда немного приводилось в порядок так называемое „среднее здание“ замка Гнадека, это была, вероятно, какая-нибудь постройка, соединяющая два флигеля главной части замка. Сабине приходилось стлать постели и проветривать эти комнаты, причем у нее всегда уходит душа в пятки от страха. Ну, да это на нее похоже, потому что в ее голове целый ворох всяких страшных сказок о ведьмах и нечистой силе, хотя в остальном Сабина – очень порядочная женщина и держит мое хозяйство в образцовой чистоте. Она уверяет, что это среднее здание еще не могло прийти в полное разрушение, потому что в то время было в довольно хорошем состоянии. Возможно, еще удастся устроить там сносную квартиру для тебя и твоей семьи. Но, может быть, твоим детям будет страшно жить в этих дряхлых стенах?
Ты знаешь, как я злился на завещание „блаженной“ памяти господина фон Гнадевица, а потому никак не мог заставить себя пойти посмотреть эту развалюху хотя бы только один раз. Однако после уверений Сабины один из моих лесников должен был вчера влезть на дерево, чтобы заглянуть в это совиное логово. Он сказал, что там черт ногу сломит – так все заросло. Тогда я сегодня утром отправился в городской суд. Однако там без доверенности твоей жены ключей не выдали и вообще, вели себя так, будто в этой старой развалине хранятся невесть какие сокровища. Никто из тех, кто в свое время накладывал печати, не мог сказать мне, что делается в доме, потому что все они предусмотрительно туда не входили из боязни, что какой-нибудь потолок пожелает обрушиться на их мудрые головы, и ограничились тем, что налепили на ворота дюжину печатей с ладонь величиной. Я очень хотел бы осмотреть все это вместе с тобой, а потому решайся скорее, забирай своих и собирайся в путь…»
Тут Елизавета опустила письмо и, затаив дыхание, устремила горящий взор на отца.
– Ну, что же ты решил, дорогой отец? – задыхаясь, спросила она.
– Мне довольно тяжело сообщать тебе свое решение, – серьезно проговорил он, – потому что я ясно вижу по твоему лицу, что ты ни за что на свете не согласишься променять прекрасный шумный Б. на лесное уединение. Но, несмотря на это, ты должна узнать, что вот там, на столе, лежит уже запечатанное в конверт мое прошение князю Л… Однако мы готовы принять во внимание и твое желание, а поэтому согласны оставить тебя здесь, если ты…
– Если Елизавета не поедет, так я лучше тоже останусь здесь, – перебил его маленький Эрнст, боязливо прижимаясь к сестре.
– Успокойся, голубчик, – со смехом проговорила Елизавета, – мне уж, наверное, хватит места в экипаже, а если нет, то ведь ты знаешь, что я отважна, как солдат, и умею бегать, как заяц. Компасом мне послужит моя любовь к зеленому лесу, уже с детства занимающая немалый уголок в моем сердце. Таким образом, я мужественно отправлюсь в путь на своих двоих. Ну, что вы сделаете, когда в один прекрасный вечер бедный усталый путник в истоптанных башмаках и с пустыми карманами постучит в старые ворота замка и попросит приюта?
– Конечно, нам придется впустить его, вернее ее, – с улыбкой ответил отец, – если мы не хотим навлечь на свой ветхий дом месть всех добрых духов, охраняющих отважные сердца… Впрочем, тебе, вероятно, придется пройти мимо старого замка и остановиться у некой одинокой избушки в лесу, если ты захочешь найти нас, потому что вряд ли нам удастся устроиться в этих развалинах.
– Этого я тоже побаиваюсь, – заметила мать. – Мы с громадным трудом проберемся сквозь чащу и заросли, как некогда несчастные женихи Спящей красавицы, и наконец найдем…
– Да это поэзия! – воскликнула Елизавета. – Ах, часть очарования нашей жизни в лесу уже исчезнет, если мы не сможем поселиться в старом замке! В какой-нибудь башне, наверное, найдутся четыре крепкие стены и хорошо сохранившаяся крыша, а остальное, поразмыслив хорошенько, можно всегда устроить. Мы заткнем щели мхом, заколотим досками ненужные двери и сами оклеим стены обоями. Растрескавшийся пол мы заклеим собственноручно сплетенными матами из соломы, объявим войну лакомкам в сереньких шубках, которые вздумают сделать набег на нашу кладовую и, вооруженные метлами, смело ринемся на огромных пауков, которые будут висеть над нашими головами.
Погрузившись в мечты о предстоящей жизни в лесу, Елизавета с горящими глазами подошла к роялю и открыла крышку. Это был старый инструмент, издававший старые, хриплые звуки, но «Весенняя песнь» Мендельсона с чарующей нежностью полилась из-под пальцев девушки.
Родители молча сидели на диване, слушая музыку почти с религиозным восторгом. Маленький Эрнст уснул. Буря улеглась, но в окнах виднелся снег, падавший на землю большими хлопьями. Трубы соседних домов, из которых больше уже не шел, клубясь, дым, медленно надевали белый ночной колпак и мрачно смотрели в окна маленькой комнатки, где среди зимней вьюги ликовала радостная весна.
Глава 3
Троица! Слово, которое будет производить чарующее впечатление на человеческие души до тех пор, пока будет цвести хоть одно дерево, раздаваться песнь хоть одного жаворонка и сиять безоблачное голубое небо. Даже под личиной эгоизма, даже под снегом старости, даже в безразличном усталом сердце, отягощенном заботами и горестями, это слово еще находит отклик.
Троица на дворе! В горах Тюрингена веет теплый ветерок, сдувает с их вершин последние остатки снега. Там, где еще несколько недель тому назад гневно бурлили весенние потоки, уже зеленеют яркие ковры мхов, бережно накрывающие наболевшие за зиму раны дряхлых гор и пересекаемые серебристыми нитями веселых ручейков.
По шоссе, вьющемуся в живописной долине тюрингенского леса, мчалась нагруженная почтовая карета, в которой семья Фербера направлялась в свое новое жилище. Стояло раннее утро, и ранний звон с какой-то маленькой колокольни возвестил три часа. Елизавета высунулась из душного экипажа и жадно вдыхала свежий лесной воздух, который, как она утверждала, сразу очистил глаза и легкие от городской пыли. Фербер задумчиво сидел напротив дочери. Он наслаждался красотой местности, но еще больше его трогали сияющие глаза молодой девушки, которая удивительно глубоко чувствовала чарующую прелесть природы и была бесконечно благодарна за наступившую перемену обстоятельств.
С каким рвением работали ее прилежные руки, когда, наконец, она получила долгожданную бумагу о назначении Фербера! Елизавета взяла на себя все хлопоты по переезду.
Князь, правда, ассигновал приличную сумму своему новому служащему на дорогу, да и дядя оказал посильную помощь, однако, несмотря на всю расчетливость, этого далеко не хватало, поэтому Елизавета в немногие свободные часы, предназначенные для отдыха, исполняла швейную работу для бельевого магазина и проводила за ней даже многие ночи, о чем и не подозревали мирно спавшие родители.
Эта неустанная деятельность была омрачена лишь одним обстоятельством, стоившим Елизавете немало горьких слез. Оно состояло в том, что пришли два работника и взвалили на плечи ее милый рояль, чтобы отнести его новому владельцу. Его пришлось продать за несколько талеров, потому что ввиду его преклонного возраста он не выдержал бы далекой перевозки. Ах, он был всегда таким верным другом их семьи! Его слабый дрожащий звук был так же мил сердцу молодой хозяйки, как голос ее матери, а теперь по его почтенным клавишам, быть может, будут колотить какие-нибудь шаловливые детские руки и замучают старый инструмент, пока он не заглохнет навеки.
Путешественники в течение получаса ехали по ровному шоссе, затем свернули на проселочную дорогу в густом лесу. Солнце сияло во всей красе и весело смотрело на землю. Около полуночи над этой местностью пронеслась гроза с проливным дождем, и крупные капли еще висели на деревьях и кустах и с шумом падали на крышу экипажа, когда возница задевал кнутом свесившуюся ветку.
Вскоре лес стал редеть, и через некоторое время показался охотничий домик, стоявший на большом зеленом лугу. Возница затрубил в рог, в ответ на это раздался лай собак и большая стая голубей, испугавшись, с шумом поднялась с крыши.
В дверях дома стоял человек в форме лесничего. Это был богатырь с громадной бородой. Мужчина внимательно всмотрелся в экипаж, а затем с громким возгласом сбежал с лестницы, распахнул дверцы кареты и прижал выскочившего Фербера к своей груди. Братья несколько мгновений простояли, обнявшись, затем лесничий, отстранив от себя брата, положил ему руки на плечи и окинул всю его тщедушную фигуру внимательным взглядом.
– Бедный Адольф! – наконец проговорил он, причем его низкий голос слегка дрогнул, – во что превратила тебя жизнь! Ну, подожди, ты поправишься, тут у меня и будешь как рыба в воде – еще время не ушло… – Стараясь совладать со своим волнением, лесничий принялся высаживать из экипажа свою невестку и маленького Эрнста, которого осыпал ласками. – Вы спозаранку двинулись в путь, надо сознаться, что это под силу настоящим мужчинам!
– Какое у тебя мнение о нас, дядя! – отозвалась из экипажа Елизавета. – Мы вовсе не такие сони и прекрасно знаем, каково солнышко, когда оно шлет земле свой утренний привет.
– Вот тебе на! – изумленно воскликнул дядя. – Что это там вздумало рассуждать в углу? Ну-ка, вылезай, маленький мышонок!
– Я – маленькая? Ну, дядечка, ты очень удивишься, когда увидишь, какая я большая девица. – С этими словами Елизавета выскочила из экипажа и, вытянувшись во весь рост, стала на цыпочки около него. Несмотря на то, что ее фигурка было выше среднего роста, получилось впечатление, будто изящная трясогузка вздумала тягаться с величественным орлом.
– Видишь, – добавила она, слегка сбавив тон, – я почти достаю до твоего плеча, а этого для порядочной девушки более чем достаточно.
Дядя, весело улыбаясь, несколько мгновений смотрел на нее сбоку лукавым взглядом, а затем взял ее, как перышко, на руки и под веселый смех остальных понес в дом, где закричал громким голосом:
– Сабина, иди, я покажу тебе, каковы в Б. маленькие птички!
В сенях он осторожно, словно хрупкую игрушку, поставил перепуганную девушку на пол, нежно взял ее голову своими громадными руками, несколько раз поцеловал ее в лоб и воскликнул:
– И этакий лилипут, этакий эльф воображает себя такой же большой, как и ее дядя! Маленькая волшебница, тебе немудрено знать, каково солнце, когда у тебя вся голова покрыта солнечными лучами.
Благодаря быстрому аллюру, которым дядя умчал молодую племянницу, шляпа слетела у нее с головы, так что стали видны необычайно густые белокурые волосы, золотистый оттенок которых резко отличался от совершенно черных бровей и ресниц.
Между тем из боковой двери вышла старушка, а наверху, на площадке лестницы, показалось несколько мужских лиц, но они исчезли тотчас, как только лесничий взглянул наверх.
– Нечего прятаться, я все равно уже видел вас, – со смехом воскликнул он и добавил, обращаясь к брату: – это мои молодцы, они любопытны, как воробьи. Сегодня, положим, их нельзя упрекать за это! – с улыбкой заметил он, искоса посматривая на свою племянницу, которая закладывала распустившиеся косы. Затем, взяв за руку старушку, с комической торжественностью представил ее:
– Девица Сабина Гольцин – министр внутренних дел нашего дома, высшая полиция для всего живущего во дворе и на конюшне лесничества и неограниченная правительница кухонного департамента. Когда она приносит на стол обед, вы смело можете следовать ее зову. Но когда она, чего доброго, начнет вам выкладывать свои россказни о нечистой силе, бегите от нее, что есть мочи, потому что им не будет конца. – А теперь, – обратился он к смеющейся старухе, которая была чрезвычайно некрасива, но располагала к себе открытым взглядом, неуловимой черточкой веселости у рта и безукоризненной чистотой костюма, – неси скорее сюда все, что у тебя есть! Ведь ты уже испекла пирог, чтобы гостям было что-нибудь свежее к кофе.
С этими словами он указал на кухню и открыл дверь в просторную, светлую угловую комнату.
Все вошли в нее, только Елизавета не могла удержаться, чтобы еще раз не выглянуть в дверь, ведущую во двор. Сквозь белый забор, ограждавший со всех сторон пространство, населенное всякого рода птицей, виднелись пестрые цветочные клумбы, а несколько яблонь, стоявших уже в полном цвету, простирали далеко во двор свои развесистые ветви. Большой сад подымался в виде террасы по склону горы и, заканчиваясь группой старых буков, примыкал к лесу.
В то время, когда Елизавета, замечтавшись, стояла на пороге дома, одна из дверей открылась и из нее вышла молодая девушка замечательной красоты. Она была немного маловата ростом, зато пара громадных глаз сияла, как звезды, на ее личике. Черные волосы были с видимым кокетством зачесаны кверху; несколько завитков ниспадало на белый лоб классической формы. В костюме проглядывало большое внимание к туалету, а из-под красиво подобранных складок виднелись две изящные ножки, которым, конечно, незачем было прятаться под длинным платьем.
Молодая девушка держала в руках корзину и, доставая из нее хлебные зерна, стала бросать их на землю. Во дворе тотчас же поднялся шум и гам, с крыши прилетели голуби, куры с кудахтаньем оставили свои насесты, а дворовая собака также сочла обязанностью принять участие в общем переполохе и залаяла. Елизавета была изумлена. Дядя, правда, имел жену, но у него никогда не было детей. Кто же эта девушка, о которой он никогда не упоминал даже в своих письмах?
Она спустилась со ступенек и подошла ближе к молодой незнакомке.
– Вы тоже здесь живете? – приветливо спросила она. Черные глаза пристально уставились на Елизавету, и в них на минуту появилось выражение большого удивления, но тотчас у рта возникла высокомерная складка и тонкие губы сжались еще плотнее. Незнакомка опустила веки и молча спокойно продолжала бросать зерна, как будто никого не было около нее.
В эту минуту Сабина, неся в руках поднос с кофейными чашками, прошла мимо дверей и поманила к себе глубоко пораженную Елизавету. Когда та подошла к старухе, последняя, взяв ее за руку, заставила войти в дом, проговорив:
– Идите сюда, деточка, вам тут нечего делать.
В столовой все сидели уже так дружно и непринужденно, как будто собирались там изо дня в день. Мать поместилась в удобном кресле, пододвинутом ее зятем к окну, из которого открывался прекрасный вид на лес. Большая кошка устроилась у нее на коленях, с видимым удовольствием давая себя гладить. Все стены столовой являлись для Эрнста сокровищницей различных интересных предметов. Он лазил со стула на стул и в эту минуту стоял в безмолвном восторге перед большим стеклянным ящиком, заключавшим в себе прекрасную коллекцию бабочек… Оба брата сидели на диване, беседуя о будущем местожительстве вновь прибывших. Елизавета услышала, как дядя сказал:
– Если на горе нельзя будет устроить квартиру, вы пока поместитесь наверху, в моей комнате. Я перенесу свой письменный стол и другие пожитки вниз и буду так долго надоедать в городе, пока мне не надстроят во флигеле второго этажа.
Елизавета сняла дорожный плащ и стала помогать Сабине накрывать на стол. Радостное настроение было только что омрачено – к ней еще никто и никогда не относился так недружелюбно, как черноглазая девушка во дворе. Она так обрадовалась и удивилась, встретив здесь девушку своих лет, что отпор, данный ей, причинил сильную боль. Но, тем не менее, красота незнакомки возбудила в ней живейший интерес.
Задумчивое выражение лица Елизаветы тотчас же обратило на себя внимание матери, она подозвала к себе дочь, и та начала рассказывать о своей встрече. При первых же словах племянницы лесничий обернулся к ней, и его лицо помрачнело.
– Так ты уже видела ее? – спросил он. – В таком случае, расскажу вам, кто она. Я взял ее к себе в дом в помощь Сабине несколько лет тому назад. Зовут ее Берта. Это дальняя родственница моей жены, круглая сирота. Я хотел сделать доброе дело, а вместо этого надел себе петлю на шею. Уже с первых дней я заметил, что у нее в голове нет ни одной здравой мысли, все только нелепости и высокомерие. Мне хотелось отправить ее обратно туда, откуда она явилась, но за нее стала просить Сабина, хотя у нее не было для этого ни малейшего основания, так как девчонка доставляла ей много хлопот и на каждом шагу давала ей почувствовать, что она родственница барина. Я старался заставить ее больше работать, чтобы изгнать из нее беса высокомерия, и дело как будто наладилось. Но по соседству в Линдгоре (это бывшее владение Гнадевицев, которое наследники продали некоему господину фон Вальде) с год тому назад поселилась баронесса Лессен. Сам владелец человек холостой, какой-то археолог, который почти все время путешествует и оставил свою единственную незамужнюю сестру на попечении этой баронессы. Не дай, Господи! С тех пор там все идет шиворот-навыворот. Баронесса мнит себя очень благочестивой и от ханжества стала жестокой, черствой и бессердечной. Всех, кто постоянно не опускает глаз к земле, а подымает их вверх, где ищут своего Господа, она злобно преследует, как собака дичь. Она познакомилась с одной из горничных и стала проводить там все свободное время. Сначала я не обратил на это внимания, но тут она вздумала наставлять на путь истинный и нас. Сабина оказалась недостаточно набожной, потому что по десяти раз в день не бросала своей работы и не начинала молиться. Мне она тоже попробовала проповедовать, но я в ответ на это запретил ей всякое общение с Линдгофом. Это, конечно, мало помогло, потому что племянница пользуется каждым удобным моментом, чтобы потихоньку сбежать туда. О какой-нибудь благодарности за то, что я о ней забочусь, и помышлять нечего. Между мною и ей нет ничего общего, а потому вдвойне тяжело опекать ее, Бог знает, что за нелепая мысль пришла ей в голову, но вот уже два месяца она совершенно нема, не произнесла ни звука. Ни строгости, ни убеждения – ничего не помогает. Она по-прежнему исполняет свои обязанности, ест и пьет, как и всякий здоровый человек и ни на йоту не стала менее тщеславной, чем прежде. Ввиду того, что она немного побледнела, я обратился за советом к врачу. Он сказал мне, что физически она здорова, но очень экзальтированна, и так как в ее семье было несколько случаев умопомешательства, то лучше предоставить ей свободу. Со временем ей самой надоест молчать, и она начнет болтать, как сорока. Ну, милая златокудрая головка, – обратился он к Елизавете, проведя рукой по ее лбу, как бы желая отогнать от нее все мрачные мысли, – отодвинь-ка кресло своей мамы сюда, подвяжи салфетку этому молодцу и будем завтракать. Потом отдохнете немного после утомительного пути. А после обеда мы отправимся наверх, в Гнадек. Будет очень полезно, если ваши глаза сначала подкрепятся сном, а то, пожалуй, они не перенесут блеска, который нам, вероятно, придется там увидеть.
После завтрака, пока отец и мать отдыхали, а маленький Эрнст видел во сне все чудеса, встреченные им в домике лесничего, Елизавета раскладывала вещи. Она не могла уснуть, беспрестанно подходила к окну и смотрела на покрытую лесом гору, возвышающуюся за домом дяди. Там, наверху, среди деревьев виднелась на ярком голубом небе черная полоса. Это был, как сказала ей Сабина, возвышавшийся на крыше замка Гнадек железный стержень, на котором в былые времена гордо развевался флаг Гнадевицев. Найдется ли там, за деревьями, так горячо желанный приют, где ее родители смогут отдохнуть после многолетних, утомительных скитаний?
Взгляд Елизаветы временами скользил и по двору, но безмолвная девушка больше не показывалась. Она не появилась и за обедом, и, казалось, решила избегать всякого общения с гостями. Елизавете было очень жаль Берту: рассказ дяди произвел на нее неприятное впечатление, но молодость не так легко отказывается от своих иллюзий и предпочитает разочаровываться, видя, что они разлетаются, как мыльные пузыри, чем принимать к сведению слова старших.
Молодая немая девушка приобрела в глазах Елизаветы только еще больший интерес, и она терялась в догадках относительно причин ее загадочного молчания.
Глава 4
После обеда Сабина взяла с полки туго набитую трубку и с зажженной бумажкой подала ее дяде.
– Что ты, Сабина? – воскликнул тот с комическим негодованием. – Неужели ты думаешь, что я буду в состоянии спокойно выкурить трубку, когда у маленькой Эльзы уже ноги не стоят на месте от нетерпении поскорее подняться на гору и сунуть носик в замок? Нет, я думаю, теперь мы можем отправиться в путь.
Все начали готовиться к отправлению. Лесничий предложил руку невестке, а остальные двинулись за ним. На дворе присоединился еще один человек – каменщик, которого дядюшка на всякий случай хотел иметь под рукой.
Пришлось подниматься в гору по крутой дорожке, однако она стала постепенно расширяться и, наконец, закончилась небольшой площадкой, за которой возвышалась, как казалось на первый взгляд, большая скала.
– Имею удовольствие представить тебе наследие блаженной памяти господина фон Гнадевица во всем его великолепии, – с саркастической улыбкой проговорил лесничий, обращаясь к изумленному Ферберу.
Они стояли перед высокой стеной, производившей впечатление одной целой гранитной громады. От зданий, лежащих позади нее, не было видно и следа, потому что их закрывали подступившие вплотную деревья. Лесничий пошел вдоль стены и остановился, наконец, около огромных дубовых ворот, заканчивавшихся железной решеткой, где он уже накануне приказал расчистить кусты. Здесь он достал из кармана связку ключей, которую госпожа Фербер получила проездом через Л.
Понадобилось немало усилий для того, чтобы очистить от ржавчины замки и засовы. Наконец, ворота поддались, подняв облако пыли. Вошедшие очутились во дворе, с трех сторон окруженном зданиями.
Перед ними возвышался величественный фасад замка, к которому вела широкая каменная лестница с тяжеловесными железными перилами. Вдоль боковых флигелей тянулась мрачная колоннада, гранитные колонны и арки которой, казалось, решили оказать сопротивление времени. Несколько старых каштанов посреди двора простирали свои тощие ветви над громадным бассейном, в центре которого возвышались четыре каменных льва с разинутыми пастями. В былые времена здесь, вероятно, били четыре фонтана, теперь же меж зубов одного из грозных чудовищ бежала лишь тоненькая струйка, своим тихим меланхоличным журчанием вносившая некоторое подобие жизни в эту картину полного упадка. Наружные стены зданий и колоннады были единственными предметами, на которых мог безбоязненно остановиться взгляд. Окна без стекол давали возможность видеть ужасное разрушение внутри зданий. В некоторых комнатах обвалились потолки, в других висели балки, готовые обрушиться при малейшем прикосновении. Лестница местами угрожающе висела в воздухе; некоторые большие, поросшие мхом камни, оторвавшись, докатились до самой середины двора.
– Тут ничего не сделаешь, пойдем дальше, – сказал Фербер.
Миновав арку, они прошли во второй двор, который был гораздо больше первого, но вследствие своей неправильной формы производил еще худшее впечатление. Большое, мрачное, полуразвалившееся строение далеко вдавалось в этот двор и образовало совершенно темный угол, куда не проникал ни один луч солнечного света. Тут возвышалась неприветливая башня, бросая густую тень на прилегающий боковой флигель. Старый куст бузины, листья которого были покрыты осыпавшейся известкой, и несколько пучков жухлой травы придавали этому месту еще более унылый вид. Ни один звук не нарушал мертвой тишины, царившей здесь, а потому даже шорох собственных шагов, гулко раздававшийся на мостовой, произвел на вошедших жуткое впечатление.
– Эти могущественные господа возводили каменные громады, думая, что колыбель их рода нерушима и будет во все времена возвещать миру славу их имени, – вздохнул Фербер, на которого столь полный упадок произвел сильное впечатление. – Каждый из них, как это видно по различным стилям построек, устраивал родовой замок сообразно своим вкусам и потребностям, не думая, что этому когда-то наступит конец.
– И все же ему пришлось прожить лишь краткое мгновение, – перебил его лесничий. – Но пойдем дальше. Бр-р… Мне холодно… Здесь царит смерть и запустение…
– Ты называешь это смертью, дядя? – внезапно подала голос Елизавета, указывая на одну из арок.
Там за решеткой виднелась залитая солнцем яркая зелень, и между железными прутьями выглядывали душистые цветы шиповника.
Елизавета в несколько прыжков очутилась около ворот, и, сильно дернув, отворила их. Довольно большая площадка, на которой она очутилась, видимо, когда-то представляла собой сад. Теперь уже нельзя было дать это имя чаще, сквозь которую никто бы не продрался. Кое-где сквозь заросли кустов, переплетенных вьющимися растениями, виднелись изуродованные статуи. Дикий виноград покрывал до самого верха стену прилегающего здания, обвивая подоконники и ниспадая оттуда зеленым дождем на одичавшие кусты роз и сирени. Над этим отрезанным от мира кусочком земли раздавалось невообразимое жужжание, в воздухе носилось бесчисленное множество бабочек, а по гигантским папоротникам бегала масса блестящих жучков. Сад был с трех сторон окружен двухэтажными зданиями, а с четвертой замыкался валом, за которым виднелся лес. Постройки и тут носили тот же характер – довольно хорошо сохранившиеся стены снаружи и полнейшее разрушение внутри. Только единственное одноэтажное здание, стиснутое двумя высокими флигелями, имело совсем другой вид. Оно не было прозрачным, как другие постройки, лишенные окон и дверей. Плоская крыша с кружевными каменными выступами, очевидно, одержала победу над бурями и непогодой. Лесничий высказал предположение, что это, очевидно, и есть то самое хваленое «среднее здание» Сабины. Может быть, оно и внутри не было в таком безнадежном состоянии, как остальные постройки. Только дядя совершенно не мог постичь, каким образом можно было добраться до этого «ласточкиного гнезда», так как нигде не было видно ни лестницы, ни дверей – все покрывала непроницаемая зеленая стена. Вследствие этого приехавшие решили подняться по лестнице одного из боковых флигелей, еще довольно крепкой, и таким образом добраться через обветшавшие постройки до цели, составлявшей главную надежду семьи. Это им удалось.
Все вошли в большой зал, потолком которому служило голубое небо, а единственным украшением – несколько зеленых кустов, выросших на стенах. Разрушенные балки, части крыши, куски потолка со следами живописи образовали целые завалы, через которые пришлось перелезать нашим путешественникам. Затем последовал ряд комнат, в таком же «блестящем» состоянии. На стенах виднелись клочки семейных портретов, на одних из которых оставался только глаз, на других – две скрещенные женские руки или мужская нога в театральной позе, что производило комичное и вместе с тем жуткое впечатление. Наконец, добрались до последней комнаты и очутились перед заложенной дверью.
– Ага, – сказал Фербер, – тут хотели предохранить среднее здание от всеобщего разрушения. Я думаю, разумнее разобрать эти кирпичи, чем продолжать наши опасные изыскания.
Это предложение было одобрено, и каменщик приступил к делу. Оба брата усердно помогали, и вскоре в полуразрушенной стене показалась толстая дубовая дверь, которая легко поддалась напору мужчин. Все вошли в темное, затхлое помещение. Только слабый луч света проникал в узкую щель и указывал направление, в котором находилось окно. Оконная задвижка и ставни, плотно прижатые снаружи ветвями деревьев, оказали упорное сопротивление усилиям лесничего, но наконец они с визгом зашатались и в окно ворвался яркий солнечный свет, озарив очень глубокую комнату, окна которой завешивались гобеленами. На потолке красовался в каждом углу герб Гнадевицев.
К всеобщему удивлению, комната оказалась полностью меблированной спальней. У стены стояли две постели под пологом, на них лежали шелковые стеганые одеяла и полотняное белье. Все предметы, необходимые для удобства богатых людей, были здесь налицо, хоть и покрытые слоем пыли, но вполне годные к употреблению. К этой комнате примыкала другая, с двумя окнами. Она также была обставлена, причем мебель, как видно, привозили отовсюду. Старинный письменный стол с вычурными точеными ножками и художественной мозаичной доской не подходил к обитому красной материей дивану гораздо более современного фасона. Золотые рамы картин, висевших на стенах и изображавших сцены из охотничьей жизни, не гармонировали с посеребренной оправой большого венецианского зеркала. Но тем не менее, в комнате было все необходимое для того, чтобы сделать ее уютной. На полу даже лежал ковер, хотя и немного поблекший, а под зеркалами стояли красивые старинный часы. Затем следовал небольшой, также меблированный кабинет, дверь из которого вела в переднюю, на лестницу. Позади этой комнаты находилась прихожая, два окна выходили в сад. В одной из боковых комнат, предназначавшейся, очевидно, для прислуги, стояла простая сосновая мебель и две кровати.
– Черт возьми! – поразился лесничий. – Мы нашли тут такие богатства, о которых и мечтать не смели. Если бы покойник узнал это, то, наверное, перевернулся бы в своем гробу. Всеми этими сокровищами мы обязаны, видно, какой-нибудь нерадивой ключнице или забывчивости дворецкого.
– А можем ли мы взять их себе? – в один голос спросили Елизавета и госпожа Фербер, которые до сих пор не могли вымолвить ни слова от радостного изумления.
– Конечно, милая, – успокоил жену Фербер. – Дядя завещал тебе замок со всем, что в нем находится.
– Нельзя сказать, чтобы это было слишком много, – проворчал лесничий.
– Но сравнительно с нашими ожиданиями – настоящий клад, – проговорила госпожа Фербер, открывая красивый шкаф, где стояла различная фарфоровая посуда очень хорошего качества, – и если бы тогда, когда я еще бодро и с надеждой смотрела на жизнь, дядя оставил мне наследство, это, наверное, не произвело бы на меня большего впечатления, чем сегодняшнее открытие, избавляющее нас от многих хлопот.
Елизавета высунулась в окно первой комнаты и старалась раздвинуть руками ветви, загораживающие окно всего фасада и пропускавшие в комнаты только зеленоватый полусвет.
– Как жаль! – произнесла она, убедившись в тщетности своих попыток. – Мне хотелось хоть немного видеть лес.
– Неужели ты думаешь, что я оставлю вас за этими зелеными баррикадами, вовсе не пропускающими свежего воздуха? – ободрил ее лесничий. – Это сегодня же будет устранено.
Они спустились по лестнице, которая вела в большую комнату. Посреди нее стоял стол, окруженный высокими стульями. Пол был выложен плитками, а стены и потолок украшены затейливой резьбой. В этом зале были четыре окна и две двери. Одна из них вела в сад, а другая выходила на узкую площадку, лежавшую перед домом и совсем заросшую кустами орешника и сирени. Мужчинам удалось пролезть сквозь эту чащу и они очутились около небольшой калитки, ведущей через ограду в лес.
– Прекрасно, – обрадовался Фербер. – Теперь конец всем колебаниям. Этот выход имеет большое значение – нам не нужно будет переходить по дворам, пробираться окружным путем через ветхие строения, что было бы очень сложно да и не безопасно.
Квартиру обсудили еще раз, осмотрели и стали распределять комнаты. Каменщику было предложено на другой день заняться устройством кухни в одной из задних комнат. Тщательно заперев ведущую в большой флигель дверь, все отправились в обратный путь.
В саду лесничества вернувшихся встретили Сабина и оставленный на ее попечение маленький Эрнст, который с нетерпением ожидал их. Старушка накрыла стол для кофе на площадке перед замком, под буками. Ей очень хотелось знать, как обстоят дела наверху. Выслушав рассказ обо всем, она радостно воскликнула:
– Ах, господи! Видите, господин лесничий, ведь я была права! Видите, все эти вещи были позабыты. Ну, да это и не диво. Когда засыпали землей молодого господина фон Гнадевица, старый барин уехал сломя голову и забрал с собой всю прислугу. Остался только старый управляющий Зильбер. Он под конец совсем выжил из ума. Да и в новом дворце была такая масса всяких вещей, что ему было довольно заботы следить, чтобы ничего не пропало. А наверху все так и осталось, и ни одна душа про то не знала. Господи, помилуй, ведь все эти вещи прошли через мои руки, я вытирала пыль и чистила их. А этих часов я всегда боялась, потому что они играли какую-то печальную музыкальную пьесу, когда били, и она звучала уныло-уныло в этих комнатах, где я была одна-одинешенька. Да, тогда я была еще молода! И куда только ушло время!..
Все уютно устроились пить кофе и мирно обсуждали, что предпринять. Елизавета сказала, что не может представить себе ничего более восхитительного, как в первый день Троицы проснуться там, наверху, под звон колоколов, доносящихся из ближайших деревень. Мать присоединилась к ней, а потому было решено на следующий же день приступить к работе, чтобы уже накануне Троицы переехать в новую квартиру.
Сабина примостилась невдалеке на сосновой скамейке, чтобы быть под рукой, если что-нибудь понадобится. Она не любила сидеть, сложа руки и, вытащив из грядки пучок молодой морковки, принялась мыть и скоблить ее. Елизавета села возле нее. Старушка бросила лукавый взгляд на тонкие белые пальцы, взявшие у нее несколько морковок, и сказала:
– Оставьте, эта работа не для вас – от нее желтеют ладони.
– Меня это нисколько не смущает, – рассмеялась Елизавета. – Я помогу вам, а вы расскажите мне что-нибудь. Вы здешняя и, наверное, знаете кое-что из истории старого замка.
– А то как же, – с радостью отозвалась старая ключница. – Ведь Линдгоф, где я родилась, принадлежал Гнадевицам с незапамятных времен. Да и, видите ли, в таком маленьком местечке все вертится около господ, которым оно принадлежит. Тут уж ничего не упустят из того, что делается в господском доме, и рассказы об этом передаются из рода в род. Господ уже давно и в живых-то нет, а парни и девушки все еще рассказывают друг другу разные истории про них. Вот, например, моя покойная прабабушка, которую я еще хорошо помню, знала вещи, от которых волосы дыбом на голове становились. Она питала огромное почтение к господам и всегда заставляла меня кланяться чуть ли не до земли, когда они проезжали мимо. Она знала имена всех господ, живших в замке с самых незапамятных времен. Многое из того, что творилось там, противно законам Божьим и земным.
Когда я позднее попала в новый замок и должна была убирать большие залы, где находились все портреты, от которых и пылинки теперь не осталось, я часто стояла перед ними и удивлялась, что у них такой же вид, как и у других людей, а важничали они так, словно господь Бог собственноручно принес их на землю. Красавиц среди барынь тоже не было. Я по своей глупости часто думала, что если бы красавица Лиза, самая красивая девушка из нашей деревни, села бы в такую золотую рамку, нарядилась бы в такое платье да нацепила столько драгоценных камней на грудь и в волосы, и позади нее встал такой же арап с подносом, что был на портрете, она была бы в тысячу раз красивее, чем барыня, выглядевшая настоящим уродом. Но ею больше всего гордился весь их род. Она являлась графиней, богатой-пребогатой, но жестокой и бесчувственной, как камень.
Среди мужчин был только один, на которого я смотрела с удовольствием. У него на милом открытом лице сверкала пара глаз, черных, как уголь. Но на нем оправдалась поговорка, что хорошим людям больше всех приходится выносить на свете. Другим жилось прекрасно, хотя они много зла наделали на своем веку, а у Йоста Гнадевица была очень печальная судьба. Бабушка моей прабабушки знала его, когда была еще ребенком. Он, страстный охотник, весь день проводил в лесу. На портрете его изобразили в зеленом охотничьем костюме с белым пером на шляпе. Он был очень добр, и никому не сделал зла. При нем в деревне жилось очень хорошо и все желали, чтобы всегда так было. Но вдруг он уехал, и никто не знал, куда он девался, пока как-то раз темной ночью он не вернулся обратно. С той поры он совсем изменился, его никто больше не видел. Он удалил всю прислугу и остался в замке один со своим старым слугой. Тогда пошел слух, что он занялся чернокнижием, и все стали бояться ходить на гору даже днем, не говоря уж о ночи.
Моя старая прабабушка в молодости слыла очень бойкой и всегда пасла своих коз наверху, под стенами замка. Раз она, замечтавшись, сидела под деревом, смотрела на стены и думала о том, что там творится. Вдруг наверху показалась рука, белая, как снег, а затем лицо – прабабушка рассказывала, что оно было красивее солнца, месяца и звезд, – потом в окне появилась молодая девушка и что-то крикнула. Но прабабушка не могла понять, что же именно. Красавица хотела спрыгнуть со стены в ров с водой, который в те времена окружал весь замок. Но тут появился Йост, схватил девушку и стал бороться с нею, просить и умолять так, что камень сжалился бы над ним. Он взял ее на руки, как ребенка и исчез. Однако девушка потеряла свой шарф, который упал вниз и долетел до прабабушки. Он был очень красив и дорог, и прабабушка взяла его домой, но ее отец испугался, что он, может быть, заколдован, и сжег его в печке, а прабабушка не смела больше ходить на гору.
Прошел, вероятно, год с той поры, как Йост Гнадевиц стал жить уединенно. Как-то однажды он спустился с горы верхом на лошади, но никто не мог узнать его – так он изменился в лице. Он ехал медленно и печально кланялся всем, кто попадался ему навстречу. С тех пор он исчез и больше не возвращался. Его убили в сражении и его старый слуга тоже погиб… В то время шла Тридцатилетняя война.
– А девушка? – поинтересовалась Елизавета.
– Она бесследно исчезла. Пост оставил в ратуше, в Л., большой запечатанный пакет, сказав, что это его последняя воля, и велел вскрыть его, когда придет известие о его смерти. Но вскоре случился большой пожар. Много домов, церквей и ратуша сгорели дотла. Пакет конечно, тоже. Говорили, что в последнее время линдгофский пастор был наверху, в замке, проводя розыски, но он хранил гробовое молчание. Он был уже стар и скоро умер, унеся с собой в могилу эту тайну… Так что никто и никогда не узнает, что это была за девушка.
– Не стесняйся, Сабина! – крикнул ключнице лесничий. – Пусть уж Эльза сразу привыкает к твоим историям со страшным концом, так что говори уж. Ты ведь превосходно знаешь, что эта красавица в один прекрасный день вылетела на метле в трубу.
– Нет, господин лесничий, этого я не думаю. Если я…
– И могу поклясться, что все окрестности кишат ведьмами, которым только и место, что на костре, – перебил ее лесничий. – Да-да, – обратился он к остальным, – Сабина еще старой тюрингенской закваски. В общем нельзя сказать, чтобы у нее голова была не на месте, да и сердце тоже, но как только дело доходит до ведьм, она сразу теряет и то, и другое, и в состоянии прогнать какую-нибудь нищую старуху, не дав ей даже ломтя хлеба, только потому, что у нее красные глаза.
– Ну, до этого не доходит, господин лесничий, – обиделась старушка. – Я ее накормлю, но подожму большие пальцы рук и не стану отвечать ни да, ни нет, за это никто меня обвинить не сможет.
Все посмеялись над этим средством против колдовства, а старая ключница, стряхнув с передника остатки моркови, принялась готовить ужин.
Глава 5
Когда на следующее утро Елизавета открыла глаза, большие стенные часы в столовой били восемь и она убедилась, что проспала – в этом был виноват тяжелый сон, который девушка увидела под утро. Ей снилось, что она в страхе бегает по большим пустынным залам старого замка, потому что за ней гонится Йост фон Гнадевиц, черные глаза которого зловеще блестят, а волосы стоят дыбом над мертвенно-бледным лицом. Она в ужасе протянула руки, чтобы оттолкнуть его и… проснулась. Сердце Елизаветы усиленно билось, и она с содроганием думала о несчастной, которую прабабушка Сабины видела тогда в окне и которая в отчаянии искала там смерть, но в последнюю минуту была настигнута своим преследователем.
Елизавета вскочила с постели, освежила свое пылающее лицо прохладной водой и, открыв окно, выглянула во двор. Там, под развесистой грушей, сидела Сабина и сбивала масло. Вокруг собралась вся куриная армия и с ожиданием посматривала на нее, так как старушка время от времени бросала птицам кусочки хлеба с маслом, лежащим возле нее на столе, при этом усердно бранила дерзких и ободряла более робких. Увидев молодую девушку, Сабина приветливо кивнула ей и крикнула, что все в лесничестве, у кого только есть руки и ноги, уже с шести часов утра прилежно работают в старом замке. В ответ на упреки Елизаветы, почему ее не разбудили, она сказала, что это было желание мамаши, так как ее дочка и без того работала не по силам все последнее время.
Доброе спокойное лицо Сабины и утренний воздух тотчас успокоили нервы девушки и вернули ее к действительности. Быстро одевшись, выпив стакан парного молока, она поспешила на гору. Небо покрывали светлые облачка, предвещавшие светлый весенний день, птицы еще не закончили свой утренний концерт, а капельки росы еще сверкали на цветочных лепестках.
Как только Елизавета вошла во двор замка, ей тотчас же бросился в глаза большой зеленый холм, возвышавшийся над фонтаном. Сад совершенно преобразился. Значительная часть его была расчищена, и в ней виднелись остатки клумб и причудливых дорожек. По одной из них Елизавете удалось добраться до заросшего травой вала. По обеим сторонам его виднелись полуразвалившиеся лестницы, ведущие наверх, к большому парапету. Здесь деревья немного расступились и открывали прекрасный вид на долину, где на зеленом лугу виднелся большой дом лесничего и стая белых голубей на его крыше. У подножия вала, в конце дорожки, находился небольшой бассейн, в который поросший мхом каменный гном лил сильную струю чистой воды. Две старые липы склонились над ним и бросали благодатную тень на нежные незабудки.
Против этого вала находилось среднее здание, которое сегодня, благодаря открытым ставням и широко распахнутой двери, имело такой гостеприимный вид, что Елизаветой овладело приятное чувство при мысли, что она здесь дома. Она окинула взглядом весь сад и вспомнила свои детские годы, те минуты необъяснимой тоски, когда она, отстав во время прогулки от родителей, останавливалась у запертых калиток и заглядывала в барские сады. Там играли счастливые дети, они могли рвать только что распустившиеся розы и нарциссы, а как приятно, должно быть, гулять по красивым аллеям и прятаться от солнца в их густой тени. Тогда она могла только мечтать и тосковать.
Когда она подошла к валу, в одном из окон показался дядя. Он увидел племянницу, мечтательно смотревшую в сад, и на его лице появилось выражение теплой нежности. Елизавета тоже увидела лесничего, приветливо кивнула ему и направилась к дому. Навстречу ей выскочил Эрнст, и она со смехом схватила его в объятия.
Судя по рассказам мальчика, можно было заключить, что он уже успел выполнить гигантскую работу: он носил кирпичи печнику, складывающему кухонный очаг, помогал маме выколачивать мебель и с гордостью заявил, что дамы и кавалеры, изображенные на стенах, стали гораздо красивее и приветливее после того, как он почистил щеткой их пыльные лица. Он с восторгом обвил ручонками шею сестры, несущей его на руках по лестнице, и радостно уверял, что здесь в тысячу раз лучше, чем в городе.
Дядя встретил Елизавету в передней, он едва дал ей время поздороваться с родителями и повел ее в комнату с гобеленами. Какая перемена! Переплет зелени исчез с окон, по ту сторону стены лес расступился в обе стороны и открывал вид на прекрасную долину, казавшуюся молодой хозяйке сказочной.
– Это – Линдгоф, – объявил дядя, указывая на огромное здание в итальянском стиле, лежавшее у подножья горы, на которой стоял Гнадек. – Я принес тут тебе нечто такое, что поможет тебе рассмотреть всякое дерево на горах и каждую травинку в долине, – продолжал он, приставляя к глазам девушки подзорную трубу.
Елизавета увидела в нее высокие хмурые горы, по долине серебрилась речка, и вилось обрамленное тополями шоссе. Деревушки оживляли задний фон долины.
На переднем плане находился особняк Линдгоф, окруженный обширным парком. Под окнами парка расстилалась лужайка, а на ней пестрели причудливые клумбы с яркими тюльпанами. Взгляд Елизаветы с удовольствием остановился на группе старых лип, густая и яркая зелень которых образовывала навес над темными стволами, дальше виднелся большой зеркальный пруд, окруженный парком. В его водах отражались прибрежные деревья, что придавало ему несколько меланхолический характер. Время от времени в таинственной тени аллеи по глади пруда проплывал белый лебедь, с любопытством протягивающий в воду шею и обдающий вековые стволы дождем серебристых брызг со своих крыльев.
Под последним деревом аллеи стояла кушетка, на которой лежала молодая женщина. Она откинула назад свою прелестную головку, так что волна длинных каштановых волос ниспадала на спинку кушетки. Из-под подола белого кисейного платья выглядывали стройные ножки в бронзовых туфельках. В тонких пальцах незнакомка держала какие-то странные предметы, которые машинально теребила. Ее лицо было белым, словно лилия, и только тонкие губы имели красноватый оттенок. Можно было усомниться, что это лицо живого человека, если бы не чудесные глаза на нем. Эти глаза были направлены на мужчину, сидевшего напротив и, по-видимому, читавший вслух. Его лицо Елизавета не могла рассмотреть, потому что он сидел к ней спиной. С виду это был высокий стройный молодой человек с густыми белокурыми волосами.
– Эта прелестная дама там, внизу – баронесса Лессен? – с живым интересом спросила Елизавета.
– Нет, – ответил лесничий, взяв подзорную трубу, – это барышня фон Вальде, сестра владельца Линдгофа. Ты назвала ее прелестной?.. Головка действительно очень красива, но она – калека и ходит на костылях.
В эту минуту в комнату вошла госпожа Фербер. Она тоже посмотрела в подзорную трубу и нашла молодую девушку хорошенькой, причем обратила внимание на выражение бесконечной доброты на ее лице.
– Да, – ответил лесничий, – говорят, она очень добра и кротка. Когда она поселилась здесь, все в один голос хвалили ее, но с тех пор, как баронесса Лессен забрала бразды правления в свои руки, все изменилось. Она повсюду сует свой нос. Горе бедняку, обратившемуся туда за помощью – он не получит ни гроша, но будет награжден потоком язвительных замечаний, если обнаружится, что он предпочитает ходить в церковь к нашему старому пастору, чем слушать в часовне замка проповеди кандидата, домашнего учителя баронессы, который каждое воскресенье посылает громы и молнии проклятий на головы безбожников.
– Такие принудительные меры – очень плохое средство для укрепления веры в народе, – заметила госпожа Фербер.
– Они совершенно убьют ее и разовьют только ханжество уже одним тем, что сами подают дурной пример, – с гневом воскликнул лесничий. – Они целыми днями читают в Библии о христианском смирении, а сами становятся все высокомернее. Они даже стараются уверить всех, что их благородное тело состряпано совсем по-другому, чем бренная оболочка их братьев во Христе. Они устраивают благотворительные лотереи, подписки и так далее, причем грабят всю округу, но чтобы взять из собственного кармана… Не тут-то было! О, как меня злит, когда люди выставляют всем напоказ свое мнимое благочестие! Там, в замке, поминутно звонит колокольчик, – тогда уже всем в окрестности известно, что «господа молятся». Хотел бы я знать, что чувствует при звуке этого колокольчика какая-нибудь горничная, у которой в руках раскаленный утюг, или повар, только что посадивший в печь нежное жаркое.
– Да, я очень сомневаюсь, в их молитвенном рвении в такие минуты, – с улыбкой заметила госпожа Фербер. – А господин фон Вальде одобряет эти нововведения баронессы Лессен?
– Судя по тому, что я о нем слышал, вряд ли. Но что из этого? Он в данное время исследует пирамиды, чтобы пролить свет на давно прошедшие времена; откуда он знает, что его достопочтенная двоюродная сестра в своем христианском усердии старается затушить сомнительный свет настоящего. Да он, кажется, тоже не без причуд. Князь Л., который к нему очень расположен, в былые годы весьма желал завлечь его сюда браком с одной придворной дамой, но фон Вальде отказался, как говорят, только потому, что у нее не было достаточного количества предков.
– Ну, тогда может случиться, что он привезет сюда какую-нибудь прелестную феллашку, предки которой покоятся среди мумий где-нибудь в Мемфисе, – со смехом воскликнула Елизавета.
– Не думаю, чтобы он вообще когда-нибудь женился, – возразил дядя. – Он уже не первой молодости, привык к кочевой жизни, да и, говорят, никогда особенно не возился с женщинами. Я готов отдать голову на отсечение, что этот, там, внизу, уже давно считает своей собственностью Линдгоф и все другие поместья в Саксонии и невесть еще где.
– Разве он имеет на них какие-то права? – спросила госпожа Фербер.
– Конечно, это сын баронессы Лессен. Кроме этой семьи у брата и сестры фон Вальде нет никаких родственников. Баронесса была раньше замужем за неким господином фон Гольфельдом, от этого брака у нее родился молодой человек, сидящий там, внизу. Ему после ранней смерти отца досталось громадное имение Оденбург по ту сторону Н… Молодая вдова скоро вторично вышла замуж за барона Лессена. Правда, его имя было окружено сомнительной славой, но это не имело большого значения, так как он являлся камергером и открыл своей супруге доступ ко двору. После десятилетнего супружества второй муж баронессы также скончался, оставив ей, кроме маленькой дочери, кучу долгов. Конечно, ей очень нравится властвовать в Линдгофе, так как, говорят, сын ни в грош не ставит ее.
Вошедшая служанка, вооруженная ведром и метлой, прервала разговор. Подзорная труба была поспешно сложена, лесничий снова принялся за очистку подоконников от остатков растений, а госпожа Фербер с Елизаветой занялись мебелью, стараясь при помощи тряпки и щетки вернуть ей прежний блеск.
Глава 6
Праздник Троицы миновал, но в старом замке еще парило праздничное настроение, несмотря на то, что Фербер приступил к исполнению своих обязанностей и ему предстояло делать неизбежные визиты в Л., а госпожа Фербер и Елизавета получили с помощью Сабины значительный заказ из бельевого магазина в Л., и, кроме того, усердно работали в саду, который должен был уже в этом году послужить им по мере сил. Это настроение, царившее в старых покоях, несмотря на неустанный труд, вызвано было тем обстоятельством, что семья Фербер, глубоко чувствовавшая перемену, прошедшую в ее положении, постоянно сравнивала настоящее с прошлым, что вместе с непривычной жизнью в лесу возбуждающим образом действовало на их души.
Заботливые родители предназначили для Елизаветы комнату с гобеленами, потому что из ее окон открывался самый красивый вид, и она при первом же осмотре замка больше всего понравилась молодой девушке. Дверь, ведущую в большой флигель, опять заложили кирпичом. В глубине комнаты красовалась одна из кроватей с балдахином, у окна стоял письменный стол, на котором, помимо старинного письменного прибора, стояли две хорошенькие маленькие вазы с цветами, а на широком каменном подоконнике среди нежной зелени сирени помещалась медная клетка, в которой кенарь Ганс распевал свои трели на зависть всем лесным виртуозам.
Когда обставляли комнату и госпожа Фербер поминутно приносила какую-нибудь вещицу, чтобы сделать ее как можно уютнее, отец, встав около самой длинной стены и загородив ее руками, изгнал в другую комнату диванчик, который только что собирались туда поставить.
– Нет, уж эту стену я оставляю за собой! – улыбнулся он, внося большую полку из темного дерева и прикрепляя ее к стене. – Здесь должен царить только он, – добавил Фербер, помещая на ней бюст Бетховена.
– Да, но ведь это совсем некрасиво! – промолвила жена.
– Подожди немного. Завтра или послезавтра ты убедишься, что у меня не такой уж дурной вкус.
На следующий день отец с братом уехали в город. Когда они вечером вернулись, то не прошли через калитку, а велели открыть большие ворота, и четыре носильщика внесли какой-то большой блестящий предмет. Елизавета стояла у окна на кухне и была занята в первый раз в новой квартире приготовлением ужина.
Она громко вскрикнула: это несли рояль, который был водворен в комнату с гобеленами под бюст Бетховена! Елизавета плакала и смеялась и в восторге бросилась на шею отца, который истратил на рояль все, что было выручено от продажи мебели в Б., чтобы возвратить ей то, что составляло радость в ее жизни. Это был инструмент гораздо красивее, чем прежний, и более новый. Она тотчас же открыла крышку, и в стенах, где так долго царило молчание смерти, раздались мощные аккорды.
Лесничий тоже пришел в замок, чтобы видеть радость племянницы, и молча прислонился к стене, когда из-под пальцев девушки полились дивные мелодии. До сих пор дядя и Елизавета обменивались лишь шуточками да острыми словечками. Он всегда называл ее «златокудрой Эльзой», утверждая, что ее волосы имеют такой золотистый цвет, что он увидел бы их блеск сквозь самую густую лесную чащу, как некогда Роланд – алмаз на щите великана. Когда она кончила играть и положила обе руки на рояль, как бы желая обнять его, лесничий тихо прошел по комнате, поцеловал ее в лоб и молча вышел. С этого дня он стал каждый вечер приходить в старый замок. Как только последние лучи солнца исчезали за лесом, Елизавета садилась за рояль. Маленькая семья помещалась в глубокой нише сводчатого окна и мысленно уносилась туда, куда ее звал великий композитор, бюст которого строго взирал на воодушевленное лицо молодой пианистки.
Однажды семья Фербер сидела за послеобеденным кофе. Дядя тоже поднялся наверх, захватив с собой газеты и трубку, чтобы получить из рук Елизаветы чашку горячего душистого кофе. Он только собирался прочитать вслух какую-то интересную статью, как вдруг у калитки послышался звонок. Эрнст открыл ее. Ко всеобщему удивлению вошел слуга замка Линдгоф с письмом для Елизаветы от баронессы Лессен. После целого ряда комплиментов по поводу игры молодой девушки, которую баронесса слышала, гуляя в лесу, Лессен обращалась к ней с предложением, не согласится ли та несколько раз в неделю играть в четыре руки с госпожой фон Вальде. Письмо было написано в очень вежливом тоне, но дядя, внимательно прочитав два раза, недовольно бросил его на стол, и, пристально посмотрев на Елизавету, проговорил:
– Ты на это не согласишься, надеюсь?
– А почему бы нет, милый Карл? – спросил Фербер.
– Потому что Елизавете там не место! – запальчиво воскликнул лесничий. – Если ты хочешь, чтобы то, что ты так старательно возделывал, было побито морозом, тогда делай, как знаешь.
– До сих пор, действительно, только я один лелеял душу моей дочери и прилагал все усилия к тому, чтобы старательно поддерживать каждый вновь пробивающийся росточек. Но, тем не менее, мне никогда и в голову не приходило воспитывать чахлое оранжерейное растение, и горе ей и мне, если то, что я холил и нежил в течение восемнадцати лет, не укоренилось и погибнет при первом дуновении ветра. Я воспитал свою дочь для жизни, так как ей придется вести борьбу с ней как и всякому другому человеку; и если я сегодня закрою глаза, она должна будет сама взять в руки руль, которым я до сих пор управлял за нее. Если обитатели особняка – неподходящее для нее общество, то это обнаружится очень скоро, или обе стороны, поняв, что между ними нет ничего общего, разойдутся, или Елизавета пройдет мимо того, что противоречит ее взглядам. Ты ведь сам принадлежишь к числу тех людей, которые никогда не бегут от опасности, а вступают в борьбу с нею.
– Ну, знаешь… На то я и мужчина, который должен уметь постоять за себя.
– А откуда ты знаешь, что у Елизаветы будет в жизни кто-нибудь, кто, кроме нее самой, захочет и сможет постоять за нее?
Лесничий бросил быстрый взгляд на молодую девушку, не сводящую с отца горящего взора.
– Отец, – проговорила она, – ты увидишь, что не ошибся и что я достаточно сильна. Та можешь спокойно отпустить меня в итальянский замок, дядечка, – лукаво обратилась она к лесничему, у которого между бровями легла хмурая складка, – если обитатели замка и бессердечные, то это вовсе не значит, что я должна тотчас превратиться в людоеда. Если же они захотят унизить меня своим высокомерием, то я облекусь в такую непроницаемую броню, что все их стрелы пролетят мимо. Если же они льстецы, яркий свет правды еще ярче засияет для меня, и тем я яснее увижу, как непривлекательны их черные маски.
– Прекрасно сказано, несравненная Эльза! Все это было бы легко исполнить, если бы эти люди имели любезность так явно носить свои маски. Ты будешь очень удивлена, найдя в один прекрасный день труху там, где искала золото.
– Но, дорогой дядя, неужели я буду настолько глупа, чтобы создавать себе такие иллюзии! Вспомни только, сколько печали выпало в детстве на мою долю… Вот, видишь, дядечка, что произошло благодаря твоим чрезмерным заботам о спасении моей души: твой кофе, вероятно скоро покроется льдом, а бедная пеньковая трубка едва теплится.
Лесничий рассмеялся, хотя, по-видимому, против воли, затем сказал Елизавете, когда она поспешно наполнила его чашку свежим кофе и разожгла трубку.
– Не думай, пожалуйста, что я ограничусь тем, что уже сказал. Ну, делай, как знаешь. Я, без сомнения, получу удовлетворение, увидев, как в один прекрасный день храбрый цыпленок испуганно прибежит под защиту родного крылышка.
– Ну, – рассмеялась госпожа Фербер, – этого тебе придется долго ждать. Ты совершенно не знаешь нашей маленькой гордячки. Однако, надо же прийти к какому-нибудь решению. По-моему, было бы уместным, если бы Елизавета завтра же представилась дамам.
Фербер и его дочь присоединились к этому решению, тогда как лесничий вздохнул и что-то проворчал относительно людей, которые смущают порядочных граждан даже в их доме и надоедают им. Когда Елизавета снова разожгла ему погасшую трубку, он устремил на нее странный взгляд, в котором смешивались раздражение, нежность и восхищение.
Около пяти часов вечера следующего дня Елизавета спускалась с горы. Хорошо расчищенная дорожка вела через лес, примыкавший к парку, который никак не отделялся от него. Елизавета надела новое кисейное платье и круглую белую шляпу. Отец проводил ее до лужайки, а дальше она храбро пошла вперед. Ни одна душа не попалась ей навстречу на длинных, извилистых дорожка парка. Наконец, девушка добралась до главного здания и увидела первое человеческое лицо. Это был лакей, усердно старавшийся не производить ни малейшего шума и хлопотавший в вестибюле.
Елизавета попросила доложить о ней баронессе. Лакей побежал наверх по широкой лестнице, у подножия которой прятались в листве померанцев две высокие статуи. Очень быстро вернувшись, лакей доложил, что барышню просят и, едва касаясь ногами пола, ринулся вперед, показывая гостье дорогу.
Елизавета с бьющимся сердцем последовала за ним. Ее угнетала окружавшая не роскошь, а чувство полного одиночества в новой, незнакомой обстановке. Слуга повел ее по длинному коридору, в который выходил целый ряд комнат, обставленных чрезвычайно изысканно и богато, затем осторожно отворил большую двухстворчатую дверь и пропустил молодую девушку.
Недалеко от окна, как раз напротив Елизаветы, лежала на кушетке дама, очевидно, тяжело больная. Голова ее покоилась на белой подушке, но фигура, насколько можно было судить под окутывающими ее теплыми одеялами, была весьма солидной полноты. В руках она держала флакон. При виде Елизаветы дама несколько приподнялась, так что девушке стало видно ее лицо – полное и бледное, оно производило, на первый взгляд, довольно приятное впечатление, но при более внимательном рассмотрении оказалось, что большие голубые глаза с совершенно белыми ресницами и бровями имели почти ледяное выражение, которое еще более подчеркивалось надменной складкой около рта и носа и широким, выдающимся вперед подбородком.
– Ах, это очень любезно с вашей стороны, что вы пришли! – воскликнула баронесса слабым голосом и указывая при этом гостье на одно из стоящих подле нее кресел, жестом пригласила ее сесть. – Я просила мою кузину сговориться с вами у меня, потому что я, к сожалению, слишком слаба, чтобы проводить вас к ней.
Прием Елизавете оказали очень любезный, хотя в тоне и движениях нельзя было не заметить значительной доли милостивого снисхождения.
Елизавета опустилась на стул и только что собралась ответить на вопрос баронессы о том, как ей нравится Тюринген, когда дверь с шумом распахнулась, и в нее ворвалась маленькая девочка лет восьми с развевающимися волосами, прижимавшая к себе хорошенькую собачку, которая визжала и вырывалась.
– Али так непослушен, мама, он совсем не хочет сидеть у меня! – запыхавшись, воскликнула малютка, бросая собачонку на ковер.
– Ты, вероятно, опять дразнила собачку, – проговорила ее мамаша. – Ты мне мешаешь, Бэлла и очень шумишь, а у меня болит голова… Иди в свою комнату!
– Ах, там так скучно! Мисс Мертенс запретила мне играть с Али, и я все время должна повторять басни, которые я терпеть не могу.
– Тогда оставайся здесь, только сиди смирно.
Девочка прошла вплотную мимо Елизаветы, причем оглядела сверху донизу ее костюм, потом влезла на резную скамейку для ног, чтобы добраться до вазы со свежими цветами. Прелестный букет в одну минуту превратился в бесформенную массу в маленьких ручках девочки, которые усердно выдергивали цветы и втыкали их в тонкую вышивку занавесок. Во время этого занятия со стеблей стекали большие капли бурой жидкости, в которой стояли цветы, и падали прямо на платье Елизаветы, так что последней пришлось отодвинуться, потому что мамаша, очевидно, не собиралась положить конец этому занятию. Елизавета только успела ответить на следующий вопрос баронессы, что в Тюрингене она чувствует себя прекрасно, как больная быстро поднялась и приветливо закивала в направлении скрытой в обоях двери, бесшумно открывшейся в эту минуту.
На пороге ее появились двое молодых людей, которых Елизавета уже видела в свою подзорную трубу. Какой контраст представляли они рядом! Гольфельд должен был сильно склонить набок свой стройный стан, чтобы поддерживать маленькую ручку, лежавшую на его руке. У Сильфиды, покоившейся тогда на кушетке, была совершенно искалеченная детская фигурка. Хорошенькая головка совсем пропадала в высоко поднятых плечах, а костыль, на который она опиралась правой рукой, указывал на то, что и ноги ей плохо повиновались.
– Прости, дорогая Елена, – проговорила баронесса, обращаясь к вошедшей, – что я побеспокоила тебя, но видишь, я опять обратилась в бедного беспомощного Лазаря, к которому ты всегда так ангельски добра. – Фербер, – представила она молодую девушку, которая, краснея, поднялась, – была так любезна, что в ответ на мою вчерашнюю записку пришла сама.
– За что я вам от души благодарна, – с приветливой улыбкой обратилась молодая особа к Елизавете, подавая ей руку. Ее взгляд с восхищением скользнул по фигурке Елизаветы и остановился на ее золотых косах, видневшихся из-под шляпы. – Да, я уже видела ваши чудные золотистые волосы, гуляя вчера по лесу, когда вы перегнулись через стену старого замка.
Молодая девушка покраснела еще больше.
– Но именно потому, что вы были на стене, – продолжала Елена, – мне пришлось лишиться удовольствия, ради которого я, собственно, и взобралась на гору. Я хотела послушать вашу игру. При такой молодости – и столь глубокое понимание классической музыки? Как это возможно? Вы доставите мне громадное наслаждение, если согласитесь иногда играть со мною в четыре руки.
По лицу баронессы скользнула легкая тень неудовольствия, и от внимательного наблюдателя не ускользнула бы презрительная улыбка, пробежавшая по ее губам. Елизавета совершенно не заметила этого, так как всецело была поглощена несчастной своей собеседницей, мягкий, серебристый голос которой исходил, казалось, из самого сердца.
Гольфельд тем временем пододвинул к кушетке кресло для госпожи фон Вальде и затем откланялся, не произнеся ни слова. Но так как он вышел в дверь, бывшую как раз напротив Елизаветы, то от нее не укрылось, что в то время, когда он медленно закрывал ее, взгляд молодого человека упал на гостью. Девушка испугалась этого взгляда и начала осматривать свой костюм, пытаясь найти в нем какой-то изъян.
Госпожа фон Вальде прервала размышления Елизаветы вопросом о том, какому учителю та обязана своей совершенной игрой, на что девушка ответила, что занималась только с матерью, и что родители учили ее всему сами.
Во время этого разговора Бэлла, поместившись на ковре, играла с собакой, причем та все время жалобно визжала, и госпожа фон Вальде всякий раз испуганно вздрагивала, а баронесса машинально замечала:
– Оставь эти проказы, Бэлла. Мне придется позвать мисс Мертенс.
– Ну, так что же! – пренебрежительно заметила, Бэлла, – она все равно не посмеет меня наказать: ведь ты сама запретила ей это.
В эту минуту в комнату вошла бледная, довольно пожилая особа. Почтительно поклонившись дамам, она робко проговорила:
– Господин кандидат ожидает Бэллу.
– Я не хочу сегодня учиться, – закричала девочка и, взяв со стола моток шерсти, бросила его в вошедшую.
– Нет, дитя мое, это необходимо, – произнесла баронесса, – иди с мисс Мертенс и будь умницей.
Бэлла уселась в кресло, как будто все это касалось ее столько же, сколько укрывшегося под диваном Али, и поджала под себя ноги. Гувернантка хотела было подойти к девочке, но гневный взгляд баронессы остановил ее.
Эта сцена, вероятно, еще долго бы продолжалась, если бы баронесса не прибегла к помощи конфет. Девочка, набив ими рот и карманы, покинула свое место. Англичанка хотела взять ее за руку, но Бэлла оттолкнула ее и выбежала из комнаты.
Елизавета совсем окаменела от удивления. На кротком лице фон Вальде лежало выражение неодобрения, но она не проронила ни слова.
Баронесса снова опустилась на подушки.
– Эти гувернантки вгонят меня в гроб, – со вздохом произнесла она. – Когда же, наконец, мисс Мертенс научится обращаться с Бэллой, как того требует ее впечатлительная и нервная натура… Она совершенно не считается с детским темпераментом и положением. Всех подгоняет под один шаблон – будь то дочь какого-нибудь лавочника или знатного лорда. Мисс Мертенс – отвратительный, педантичный педагог. Причем, ее выговор ужасен! Бог весть, из какой глуши Англии она явилась!
– Я не нахожу этого, дорогая Амалия, – сказала госпожа фон Вальде, в голосе которой звучала бесконечная доброта.
– Ах, это ты говоришь по своей ангельской доброте. Хотя я сама и не говорю по-английски, но прекрасно слышу, что твой выговор, милочка, несравненно элегантнее.
Елизавета мысленно усомнилась в справедливости этого суждения, а госпожа фон Вальде сделала отрицательное движение рукой и при этом слегка покраснела.
Баронесса же продолжала:
– Бэлла тоже прекрасно чувствует это. Она упорно молчит, когда гувернантка обращается к ней по-английски. Я вполне понимаю ее и всегда выхожу из себя, когда эта особа уверяет, что девочка упрямится.
Слабый вначале голос баронессы удивительно окреп во время произнесения этой тирады.
Она, казалось, сама заметила это и, вздохнув, утомленно закрыла глаза.
– О! Мои несчастные нервы снова расшатались. Я опять становлюсь раздражительной. Эти неприятности – сущий яд для тела и души.
– Я советовала бы тебе в те дни, когда ты так скверно себя чувствуешь, как сегодня, спокойно оставлять Бэллу на попечение господина Меренга и мисс Мертенс, – продолжала госпожа фон Вальде. – Я убеждена, что за нею будет хороший присмотр. Хотя я вполне понимаю твои трогательные заботы о ребенке, но все же должна заметить для твоего успокоения, что мисс Мертенс слишком хорошо воспитана, чтобы сделать девочке такое, что не послужило бы ей на пользу. У тебя совсем утомленный вид, – участливо сказала она. – Будет лучше, если я оставлю тебя одну. Госпожа Фербер, вероятно, будет настолько добра и проводит меня до моей комнаты.
С этими словами она встала, наклонилась к баронессе и поцеловала ее в щеку. Затем взяла под руку Елизавету, которую баронесса отпустила чрезвычайно благосклонным движением руки, и вышла из комнаты.
Во время продолжительного странствования по различным коридорам она сказала, что для ее брата, которого сейчас нет с нею, будет громадной радостью, если она опять начнет заниматься музыкой. Раньше он часами мог сидеть в темном углу и слушать игру, пока сильное расстройство нервов не заставило ее надолго отказаться от любимого занятия. Теперь она чувствует себя гораздо лучше, и доктор опять разрешил ей играть. Она будет усердно заниматься, чтобы сделать брату приятный сюрприз к его возвращению.
Елизавета мчалась, как на крыльях, по дорожке уединенного парка в гору. Наверху, у калитки, ее поджидали родители, а маленький Эрнст побежал ей навстречу. Каким уютным и родным казалось Эльзе все здесь, наверху. Родители встретили ее так, как будто давно не видели, у окна заливался от радости кенарь Ганс, а под развесистыми липами девушку ждал накрытый для ужина стол.
Итальянский дворец со всей его роскошью исчез для нее, как сон. Передав родителям все свои впечатления, она проговорила:
– Следуя тому, чему ты меня учил, папочка, я сегодня еще не должна делать какие-либо выводы относительно нового знакомства, потому что ты утверждаешь, что первое впечатление обманчиво, но когда я думаю об этих двух дамах, мне невольно представляется одинокая молодая березка, безропотно позволяющая налетевшему урагану трепать свои гибкие ветви.
Глава 7
С этого времени Елизавета стала два раза в неделю ходить в Линдгоф. Баронесса на другой день после визита своей молодой соседки написала очень нежное письмо, в котором назначила дни занятий и предложила ей очень приличный гонорар за ее труды. Эти уроки очень скоро сделались для Елизаветы источником высшего наслаждения. У Елены фон Вальде, вследствие того, что она не занималась несколько лет, сильно страдала техника, и она не могла соперничать с Елизаветой, но играла с глубоким чувством, обладая превосходным музыкальным чутьем, и никогда не относилась отрицательно к тому, что было ей не по силам. Баронесса фон Лессен никогда не присутствовала при их занятиях музыкой, благодаря чему минуты отдыха приобрели особую прелесть для Елизаветы. Лакей мгновенно приносил какое-нибудь угощение, Елена располагалась в своем кресле, а молодая учительница садилась на скамеечке возле ее ног, с восхищением слушая, как она своим грустным меланхолическим голосом рассказывала о своем прошлом. Тут всегда выступал на первый план образ отсутствующего брата. Елена не могла нахвалиться им за его заботы о ней, говорила о том, что брат купил Линдгоф исключительно потому, что она, гостившая продолжительное время при дворе в Л., нашла, что тюрингский воздух особенно хорошо действует на ее здоровье. Из этого следовало, что он нежно любит свою сестру.
Однажды после обеда, когда девушки особенно увлеклись музыкой, слуга доложил о приходе гостей.
– Останьтесь, пожалуйста, у нас пить чай, – обратилась Елена к Елизавете. – Приехал из Л. мой доктор, и хотели быть некоторые дамы из соседних имений. Я сейчас пошлю кого-нибудь к вашей маме, чтобы она не беспокоилась. Моя беседа с доктором не будет продолжительной, и я скоро вернусь к вам.
С этими словами она вышла.
Не прошло и десяти минут, как Елена снова вернулась, опираясь на руку господина, которого представила Елизавете как доктора Фельса из Л… Это был стройный мужчина с очень умным лицом. Он с интересом повернулся к молодой пианистке, услышав ее фамилию, и в юмористическом тоне рассказал о том изумлении и ужасе, в которое повергло почтенных жителей Л. известие о том, что в старом Гнадеке появились обитатели, и притом самые настоящие живые люди.
Вдруг в соседней комнате послышалось шуршание, и на пороге появились две дамы – старая и молодая. Сильное сходство лиц давало возможность безошибочно заключить, что это – мать и дочь. На обеих были темные платья, которые вопреки моде ниспадали почти до самого пола. Длинные мантильи из шерстяной ткани и круглые коричневые шляпы под подбородком были завязаны у матери черным, а у дочери лиловым бантам. Елена назвала их госпожами фон Лер. Позднее Елизавета узнала, что они, живя в Л., обыкновенно проводили лето в Линдгофе, где нанимали себе крестьянскую избу.
Непосредственно за вновь прибывшими вошла баронесса под руку с сыном в сопровождении молодого человека, которого все называли кандидатом Меренгом. Баронесса была в темном, но чрезвычайно элегантном платье и имела очень представительный вид. На пороге она на минуту остановилась и была, по-видимому, неприятно удивлена присутствием Елизаветы. Она смерила девушку высокомерным взглядом и ответила на ее поклон едва заметным кивком.
Елена уловила этот взгляд и, подойдя к ней, умиротворяюще шепнула:
– Я оставила сегодня свою любимицу у себя, потому что было уже поздно.
От тонкого уха Елизаветы не ускользнуло это извинение, она была возмущена и готова выскочить за дверь, если бы гордость не повелела ей остаться и принять высокомерный вызов баронессы.
Баронесса, очевидно, была удовлетворена раскаянием в совершенном за ее спиной преступлении и, обняв Елену, стала нежно гладить ее по голове и осыпать комплиментами. Затем она пригласила присутствующих последовать за нею в соседнюю комнату, где был накрыт стол. Она была очень любезной хозяйкой и проявила большой талант все время поддерживать разговор с ловкостью, достойной удивления. Она умела притворяться так, что Елена оставалась центром, на котором сосредоточивалось все ее внимание, не давая, однако, другим почувствовать себя сколько-нибудь обойденными.
Елизавета молча сидела между доктором и барышней Лер. Разговор представлял для нее мало интереса, потому что касался совершенно незнакомых ей людей и обстоятельств. Госпожа Лер говорила очень важно и казалась весьма осведомленной в том, что свершилось или говорилось, будь то тайно или явно, у гостивших в Линдгофе. Она сообщала обо всем удивительно жалобным голосом и, заканчивая пересказ какой-нибудь возмутительной новости, всякий раз смиренно опускала свое высохшее совиное лицо с таким видом, будто она – агнец, который должен нести на себе грехи всего мира. Время от времени она вынимала из своего огромного ридикюля бутылочку с укропной водой и смачивала свои больные глаза, постоянно устремленные к небу.
Какой контраст представляли собой эта госпожа и ангельское личико Елены, которая сегодня еще больше напоминала Елизавете водяную лилию благодаря какому-то особенному выражению, лежавшему на нем! Ее глаза сверкали счастливым блеском, на губах играла прелестная улыбка, всякий раз она брала в руки букет, который Гольфельд при своем появлении вложил ей в руку. Он сидел около нее и иногда принимал участие в разговоре. Когда он начинал говорить, все присутствующие умолкали и с видимым интересам слушали.
Хотя он вовсе не отличался красноречием и, как показалось Елизавете, не высказывал каких-либо оригинальных мыслей.
Это был красивый молодой человек лет двадцати четырех. Правильные черты его лица, имевшего очень спокойное выражение, говорили о твердости характера, но тот, кто внимательно присматривался к его взгляду, изменял свое мнение. Эти глаза были довольно красивы, но никогда не вспыхивали блеском, изобличающим умного, неординарного человека, даже когда он не произносит ни одного слова, и не наполнялись мягким светом, указывающим на глубокую натуру.
Однако только немногие делали подобные выводы, так как о Гольфельде почему-то установилось мнение, что это – оригинал, молчаливость которого исходит от слишком большой глубины его ума. Дамы в Линдгофе, очевидно, разделяли этот взгляд, что было особенно заметно по дочери госпожи фон Лер, которая всякий раз, как Гольфельд открывал рот, проявляла такое внимание, точно речь шла об ангельском откровении. Но, оказалось, и она была не прочь блеснуть своим красноречием.
– Вы, вероятно, тоже в восхищении от прекрасной проповеди, которой услаждает нас в праздники кандидат. Меренг? – спросила она, обращаясь к Елизавете.
– Очень сожалею, но я не слышала.
– Так вы совершенно не ходите в церковь?
– Нет, как же! Я с родителями была в церкви в Линдгофе.
– Так, – произнесла баронесса Лессен, в первый раз поворачивая голову к Елизавете. – Там, в Линдгофе, наверное, было очень назидательно?
– О да, – спокойно ответила Елизавета, хладнокровно выдерживая насмешливый взгляд баронессы. – На меня произвели сильное впечатление простые, но вместе с тем трогательные слова пастора, который, впрочем, проповедовал не в церкви, а на открытом воздухе, под дубами. Перед началом богослужения выяснилось, что маленькая церковь не могла вместить в себя всех слушателей, и тотчас же был сооружен алтарь под открытым небом, как уже происходило не один раз.
– Да, это, к сожалению, известно, – перебил ее кандидат, Меренг, который очень мало говорил до сих пор и довольствовался тем, что отвечал любезной улыбкой или кивком на сообщения госпожи фон Лер. Теперь же он покраснел до корней волос и насмешливо обратился к баронессе:
– Как далеко зашло, уважаемая баронесса! Старые боги опять спустились в священные рощи друидов приносить им жертвы под дубами.
– При всем своем пылком воображении я не могла себе представить, что присутствую на языческом жертвоприношении, – возразила Елизавета. Она улыбнулась, но затем тепло и сердечно продолжала: – В то чудное праздничное утро, когда мощные звуки органа лились через открытые окна и двери, и голос почтенного старого пастора так проникновенно звучал среди свежей зелени, мною овладевало такое же настроение, как в тот день, когда я впервые вступила в храм Божий.
– Вы, кажется, обладаете замечательной памятью, заметила госпожа Лер. – Разрешите спросить, сколько вам было тогда лет?
– Одиннадцать.
– Одиннадцать? О, да неужели это возможно? – с ужасом воскликнула старушка. – Неужели люди-христиане могли сделать подобное? Мои дети уже с самого раннего детства посещали дом Божий, вы должны засвидетельствовать, милейший доктор!
– Совершенно верно, – серьезно ответил тот. – Я еще прекрасно помню, что приступ круппа, вследствие которого вы имели несчастье потерять вашего сына, был вызван простудой при посещении холодной церкви.
Елизавета с испугом взглянула на своего соседа. Доктор до того времени не принимал участия в разговоре и ограничивался тем, что изредка вставлял едкие замечания, причем баронесса всякий раз посылала ему укоризненный взгляд. Вступив в разговор, Елизавета перестала обращать на него внимание так же, как и другие, потому что взоры всех были направлены на «нечестивую язычницу». Никто не заметил, что доктор чуть не умирал со смеху, слушая ответы своей молодой соседки и видя впечатление, производимое ею на окружающих.
Последние слова доктора показались Елизавете жестокими. Но он, вероятно, хорошо изучил своих ближних, потому что госпожа Лер приняла их совершенно спокойно и сладко ответила:
– Да. Господь взял к себе моего малютку. Он был слишком хорош для этого мира. Так, значит, в течение первых одиннадцати лет царствие Божие было закрыто для вас? – снова обратилась она к Елизавете.
– Только его храм! Я уже с малых лет знала священную историю. Мой отец придерживается того взгляда, что маленьким детям не следует ходить в церковь, так как их юные души не в состоянии постичь ее высокое значение, и дети скучают во время проповеди, которую при всем желании не могут понять, а из-за этого с ранних лет развивается небрежное отношение к религии. Моему маленькому брату семь лет, а он еще ни разу не был в церкви.
– О счастливый отец, имеющий возможность вводить в жизнь подобные взгляды! – воскликнул доктор.
– Ну, а что же мешает вам подобным образом воспитывать своих детей? – ехидно заметила баронесса.
– Этого я не могу объяснить вам в кратких фразах, многоуважаемая баронесса. У меня шесть детей, и я недостаточно богат, чтобы взять для них учителя. Моя профессия не позволяет мне самому учить их, так что я вынужден посылать их в школу, которая предусматривает и посещение церкви детьми. Я, например, совершенно не одобряю самостоятельного чтения детьми Библии. Дети предпочитают развлечение серьезному поучению и склонны интересоваться именно тем, чего им не следует знать, а потому часто вместо того, чтобы найти текст последней проповеди, обращают внимание на разные неподходящие выражения и затем обращаются к матери за разъяснениями. Умная мать сумеет выйти из затруднения, но вместе с тем бывает вынуждена запретить произношение этих слов, чреватых опасностями… Возьмем, к примеру, «Песнь песней». Таким образом, в детской душе зарождаются первые сомнения, которым неокрепшее сознание не может оказать никакого противодействия.
Здесь баронесса нетерпеливо поднялась. На ее бледных щеках вспыхнули два ярких красных пятна. Для всех, кто ее хорошо знал, они служили признаком сильного гнева. Вследствие этого Елена, не принимавшая участия в разговоре, тотчас же встала и, взяв кузину под руку, подошла с нею к окну, спросив при этом, не доставит ли ей удовольствие послушать музыку. Баронесса кивком головы выразила свое согласие, главным образом потому, что чувствовала свою несостоятельность перед доктором. Каждый должен был заметить ее негодование, и теперь она сочла вполне подходящим успокоить свое возмущение против вопиющих нападок доктора на ее христианское рвение: ведь она сама раздавала детям Библии.
Баронесса удалилась в оконную нишу и стала смотреть в парк, где появлялись первые тени спускающейся на землю ночи. Взгляд ее был холодным и даже жестоким, около губ появилась глубокая складка – признак сильнейшей досады, не исчезнувшей даже при звуках баллады «Лесной царь» Шуберта, мастерски сыгранной обеими молодыми девушками в четыре руки, но не вызвавшей отклика в ее душе. Когда замолкли последние аккорды, обе музыкантши встали. Доктор, напряженно слушавший все время, подошел к ним, его глаза блестели, и он с восхищением поблагодарил их за доставленное удовольствие, которого, по его словам, не испытывал уже много лет. При этих словах лицо барышни Лер побагровело, а мамаша бросила на несчастного ядовитый взгляд. Ведь ее дочь в прошлую зиму несколько раз выступала в Л. на благотворительных концертах, где присутствовал и доктор. Однако тот, казалось, вовсе не замечал грозы, собравшейся над его головой, и начал пространный разговор о творчестве Шуберта, проявив при этом глубокую музыкальную образованность и тонкое чутье. Вдруг раздался резкий громкий аккорд. Беседовавшие испуганно обернулись: кандидат сидел у рояля, высоко подняв голову и взяв второй аккорд. Он заиграл красивый хорал, однако ужасное исполнение просто раздирало музыкальный слух собравшихся. К ужасу Елизаветы, кандидат еще запел отвратительным гнусавым голосом. Это было уже чересчур. Доктор схватился за шляпу и раскланялся перед Еленой и баронессой, – последняя отвернулась к окну и сделала, пренебрежительный прощальный жест рукой. По лицу доктора проскользнуло выражение, полное неподражаемого юмора. Он серьезно пожал руку Елизавете, сделал дамам общий поклон и вышел из комнаты.
Как только дверь за ним закрылась, баронесса взволнованно подошла к Елене, расположившейся в углу дивана, и воскликнула глухо, как будто внутренний гнев сжимал ей горло:
– Это невыносимо! И ты так беспрекословно переносишь, Елена, когда в твоих комнатах поносят наше женское достоинство и даже попирают ногами самое святое для нас!
– Но, дорогая Амалия, я не вижу…
– Ты не хочешь видеть, дитя, при своем безграничном терпении и доброте, что этот доктор оскорбляет меня, где только может, я вынуждена выносить его, потому что я, как истинная христианка, предпочитаю терпеть несправедливость, чем прибегать к недостойному оружию и отплачивать тем же… Но всякому терпению приходит конец, когда попираются Божьи законы. И тут мы должны неутомимо бороться. Ведь прямо кощунство со стороны этого господина, что он так бесцеремонно берет шляпу и уходит, когда наши души возносятся к Господу, благодаря этому чудесному хоралу.
Она говорила все громче и возбужденнее, совершенно забывая, что совсем заглушает кандидата, неутомимо продолжавшего свое пение.
– Ах, ты не должна обижаться на доктора, – ответила Елена. – Он очень занят. Может быть, ему надо навестить в Л. какого-нибудь пациента. Ведь он хотел уже уходить, когда мы начали играть.
– Однако языческие чары «Лесного царя» заставили его забыть своих пациентов, – язвительно прервала ее баронесса.
– Боже мой, Амалия, что ты хочешь?.. Ты же прекрасно знаешь, что Фельс мне необходим. Он единственный из врачей, умеющий облегчить мои страдания! – воскликнула Елена, причем ее глаза заблестели, а щеки покраснели от волнения.
– Мне кажется, – медленно и торжественно начала госпожа Лер, молча сидевшая до тех пор в углу, притаившись, как паук, – что на первом плане должно стоять спасение души. Заботы о телесном здоровье – дело второстепенное. Кроме того, в Л. есть немало других врачей, которые смело могут соперничать с доктором Фельсом.
– Если бы я даже согласилась принести эту жертву и обратиться к другому врачу, то я не могу сделать это без согласия моего брата, – твердо заявила Елена, – я натолкнулась бы на решительное сопротивление, я это знаю, потому что Рудольф очень высоко ставит этого врача и вполне доверяет ему.
– Да, к сожалению! – воскликнула баронесса. – Это одна из слабых сторон Рудольфа, которую я никак не могла понять! Господин Фельс импонирует ему своим так называемым свободомыслием, которое я, скорее, назвала бы нахальством! Ну, я умываю руки и не желаю больше принимать его у себя. И уж, – извини, Елена, – не буду приходить к тебе во время его визитов.
Елена не сказала ни слова. Она встала и окинула комнату грустным взглядом, как будто не находя чего-то. Елизавете показалось, что причиной такого взгляда был Гольфельд, за несколько минут до того вышедший из комнаты.
Баронесса взяла свою накидку. Госпожа Лер с дочерью тоже собрались уходить. Обе они сказали несколько любезностей кандидату, окончившему свое пение и стоявшему, потирая руки, у рояля. Все распрощались с Еленой, которая усталым голосом пожелала им спокойной ночи.
Когда Елизавета спускалась с лестницы, она увидела Гольфельда, стоявшего в противоположном конце слабо освещенного коридора. Во время гневных излияний матери он перелистывал альбомы и не вмешивался в разговор. Елизавете это показалось совсем гадким. Она страстно желала, чтобы он стал на сторону Елены и прекратил выходку баронессы; еще более не понравилось ей, что он постоянно не сводит с нее глаз. Она чувствовала, что начинает краснеть под его взглядами, и очень рассердилась на себя, тем более, что это случалось уже не в первый раз и совершенно против ее воли. Всякий раз, когда Елизавета возвращалась из Линдгофа домой, случалось так, что она встречала Гольфельда. В коридоре, на лестнице или же в парке он появлялся где-нибудь из-за куста. Почему ей это было так неприятно, и почему она всегда в этих случаях смущалась, девушка сама не знала, она не раздумывала над этим, потому что очень скоро забывала об этих встречах.
Теперь Гольфельд стоял внизу, в темном коридоре.
Большая черная шляпа была надвинута на его глаза, а поверх светлого костюма он надел темное пальто. Казалось, он чего-то ждал, и когда Елизавета достигла последней ступеньки, быстро пошел к ней, как бы желая что-то сказать.
В эту минуту на верхней площадке лестницы показалась госпожа Лер.
– Эй, господин Гольфельд! – позвала она его. – Вы, кажется, собрались идти гулять?
Лицо молодого человека, показавшееся Елизавете очень возбужденным, тотчас же приняло спокойное, равнодушное выражение.
– Я возвращался из сада, где наслаждался чудесным ночным воздухом, – ответил он пренебрежительным тоном. – Проводи барышню домой, – приказал он слуге и, поклонившись дамам, вышел…
– Как хорошо, что завтра воскресенье, – радовалась Елизавета час спустя, сидя на постели матери и рассказывая все, что произошло в течение дня. – Я сниму в нашей милой деревенской церкви со своей души все неприятные впечатления последних часов. Я никогда не думала, что, слушая хорал, смогу испытывать что-либо, кроме благоговения. Сегодня же меня это так разозлило. Кажется, мамочка, во мне никогда не было духа возмущения, а теперь я чувствую непреодолимую склонность к упорству и противоречию.
Под конец она вспомнила еще о Гольфельде и его странном поведении в сенях и добавила, что совершенно не понимает, что ему, собственно говоря, было нужно от нее.
– Ну, не будем ломать себе над этим голову, – сказала госпожа Фербер. – Но если ему когда-нибудь вздумается предложить проводить тебя домой, то ни в коем случае не соглашайся. Слышишь, Елизавета?
– Но, милая мама, что тебе пришло в голову? – рассмеялась дочь. – Скорее небо обрушится на нас, чем он предложит мне нечто подобное. Госпожа Лер с дочерью, которые, кажется, принадлежат к высшему кругу, должны были возвращаться домой одни, так неужели же он снизойдет до моей ничтожной особы!
Глава 8
Спустя неделю после прибытия родных, лесничий объявил в своем доме новое постановление, которое, по его словам, было с радостью принято его «министром внутренних дел» и по которому семье Фербер было вменено в обязанность каждое воскресенье обедать в лесничестве.
Это были радостные дни для Елизаветы. Еще задолго до благовеста все отправлялись в церковь. В лесу к ним присоединялись богомольцы из окрестностей, а на лужайке перед церковью их обычно поджидал дядя. Он уже издалека поджидал семью Фербер. Старый лесничий, никогда не имевший детей, сосредоточил теперь всю нежность, на какую было способно его прекрасное сердце, на своей племяннице, душа которой, как он чувствовал, к своей великой гордости, была во многих отношениях родственна его душе, хотя черты ее характера смягчались нежной женственностью.
Она платила ему за любовь глубокой преданностью и заботливостью. Очень быстро Елизавета изучила его вкусы и незаметно, с большим тактом брала на себя хозяйственные заботы, никогда не задевая при этом самолюбия верной служанки. Она сумела окружить его совсем новой, уютной атмосферой.
На обратном пути из церкви дядя обыкновенно вел Елизавету за руку, как маленькую школьницу. Сквозь лесную просеку уже издали виднелся старый, залитый солнцем дом лесничего. С каждым шагом эта живописная картина становилась все яснее, и на пригорке уже можно было различить Сабину, которая прикрывала глаза рукой, внимательно оглядывала лесную дорожку и поджидала возвращавшихся. Завидев их, она поспешно скрывалась в кухне.
В этот день Сабина приготовила особенно вкусный обед. Около дымящейся суповой миски возвышалась целая пирамида ярко-красных ягод первой лесной земляники, которую не только маленький Эрнст, но и большая Елизавета приветствовали громкими криками радости. Лесничий громко смеялся над их энтузиазмом. Не желая отставать от Сабины, он также решил сделать сюрприз и велел запрячь лошадь, чтобы прокатить Эльзу в Л., как он уже давно обещал, тем более, что его там ожидали дела. Это предложение было встречено молодой девушкой с большим восторгом.
За столом Елизавета рассказывала о вчерашнем вечере. Дядя покатывался со смеху.
– В мужестве доктору отказать нельзя, но это, вероятно, последняя чашка чая, которую он выпил в Линдгофе.
– Это было бы возмутительно! – воскликнула Елизавета. – Такого не может и не должна допустить Елена фон Вальде. Она всеми силами воспротивится этому.
– Я хотел бы, чтобы ты расспросила госпожу фон Вальде о ее взглядах относительно доктора, – ответил дядя, – ты была бы вне себя от удивления. Да и как может в таком хрупком создании жить сильный дух? С нею эта деспотичная баронесса, на которую нет никакой узды: до Бога высоко, до царя далеко, как говорится в пословице. Нам пришлось видеть немало чудес с тех пор, как баронесса забрала в свои руки бразды правления. Не правда ли, Сабина?
– Ах да, господин лесничий, – проговорила Сабина, подавая на стол новое кушанье, – как только я подумаю о бедной Шнейдер… Это – вдова работника из деревни Линдгоф, – обратилась она к другим, – она всегда усердно работала, и никто не может сказать о ней ничего дурного, но она должна кормить четверых детей, а живет только своим трудом. И вот прошлой осенью ей как-то пришлось очень туго. Она не знала, что делать с детьми и тут совершила поступок, который, конечно, был скверным: она взяла с господского поля немного картофеля. Управляющий Линке, стоявший за кустом, в один миг выскочил и набросился на бедную женщину. Если бы он только угрожал ей, то была бы еще не беда, но он совсем избил ее и под конец даже стал топтать ногами. Мне в тот день надо было зачем-то сходить в Линдгоф. Поравнявшись с полем, я увидела, что кто-то лежит на земле. Это была Шнейдер. Она не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Лежала в полном одиночестве. Когда я позвала людей, мне помогли отнести ее ко мне домой. Я ухаживала за несчастной, сколько могла. Все в деревне были злы на управляющего, но что они могли сделать. Управляющий – правая рука баронессы, он всегда представляется очень набожным. Говорили, что дело дойдет до суда, но баронесса стала каждый день ездить в город и все замяли. Да, управляющий и старая горничная баронессы заодно. Они сидят в замковой церкви и примечают, кого нет, и уже немало хороших людей лишились из-за них работы и места.
– Ну, не будем теперь зря сердиться, – сказал лесничий, – мне кусок не лезет в горло, когда я об этом думаю, а воскресенье, которого я жду целую неделю, не должно омрачаться ни малейшей тенью.
Вскоре после обеда к дому подъехал маленький экипаж. Лесничий сел в него, и Елизавета тотчас же оказалась рядом. Посылая привет остающимся, она окинула их взглядом и испугалась до глубины души, увидев глаза, смотревшие на нее из верхнего этажа. Голова тотчас же снова исчезла, но Елизавета узнала Берту. Видела, что на нее был направлен взгляд, полный ненависти и злобы, хотя совершенно не могла представить себе причину этой ненависти. Берта до сих пор проявляла бесконечно недружелюбное отношение к семье Ферберов. Она никогда не выходила, когда Елизавета была в лесничестве. Узнав, что у дяди каждое воскресенье гости, она стала обедать в своей комнате. Лесничий не обращал на это внимания и был, по-видимому, очень доволен, что обе девушки вовсе не встречаются.
Госпожа Фербер тоже сделала попытку сблизиться с молодой девушкой. Со своей чисто женской точки зрения она считала недопустимым, чтобы причинами поведения Берты были упорство и озлобление. Она предполагала какое-нибудь тайное и горе и надеялась, что участливое слово и приветливое обращение снимут печать молчания с уст молодой девушки. Однако, она имела успеха не больше, чем Елизавета, и поведение Берты так возмутило ее, что она запретила дочери всякие дальнейшие попытки сближения с этим человеком.
После непродолжительной езды цель была достигнута. Л. оказался настоящим маленьким провинциальным городком, хотя обитатели его всеми силами стремились в образе жизни и модах подражать жителям столичных городов. Городок расположился в живописном месте и весь утопал в зелени бесчисленных фруктовых садов.
Лесничий привез свою племянницу в дом одного своего знакомого асессора. Она должна была подождать его там, пока он закончит свои дела. Несмотря на любезный прием хозяйки дома, Елизавета с удовольствием повернулась бы и побежала за уходящим дядей, так как, к своей величайшей досаде, застала здесь целое дамское общество.
Хозяйка объяснила молодой гостье, что в день рождения ее мужа предполагается постановка живых картин из мифологии, для чего и собрались сюда все эти дамы. В довольно хорошо обставленной столовой за кофейным столом сидело порядка десяти дам. Они были в мифологических костюмах, оживленно болтали и при появлении Елизаветы оглядели ее с ног до головы.
Все греческие «богини» охотно подчинились власти моды и надели свои белые туники на кринолины. Елизавета подумала, что, весьма возможно, вечернее освещение скроет недочеты своеобразных костюмов некоторых дам, но теперь, при ярком освещении солнца, некоторые из них производили весьма странное впечатление.
Хозяйка дома хлопотливо бегала взад-вперед, время от времени вставляя несколько слов в разговор гостей.
– Вот тебе раз, – проговорила она, входя в комнату после довольно продолжительного отсутствия, – советница Вольф прислала сказать, что ее Адольф заболел и лежит в постели. Получив это известие, я побежала к доктору. Но легче сдвинуть гору с места, чем переубедить этого человека в вопросе воспитания детей. Он повторил свой отказ и при том в еще более резкой форме, чем раньше. Он считает совершенно невозможным, чтобы такие юнцы, как его Мориц, выступали вместе со взрослыми. Он говорит, что они становятся слишком высокого мнения о себе, отвлекаются от занятий, делаются рассеянными и невесть еще что. Я, мол, тоже сделала бы лучше, как сказал он, если бы своему больному мужу… Скажите, пожалуйста, «больному»! Он здоров, как рыба в воде, только немножко страдает ревматизмом. Да, так по словам доктора, для меня было бы лучше приготовить своему больному мужу сегодня вечером его любимое кушанье, чем тешить таким маскарадом, который только нарушит его покой и из которого все равно ничего не выйдет.
– Какое невежество! Как глупо! Он всегда строит из себя ценителя искусства, а сам ничего в нем не понимает! – посыпалось градом со всех дамских уст.
– Утешься, милая Адель, – сказала дама, изображающая Цереру. – Если бы мой муж мог обойтись без Фельса как врача, его ноги давно бы уже не было в моем доме. Когда я в прошлом году устраивала детский маскарад, который ведь прекрасно удался, он наотрез отказался отпустить своих детей. А что он мне сказал, когда я лично пошла просить за его детей? «Неужели так интересно смотреть на обезьянью компанию?» Я этого ему никогда не прощу.
Елизавете вдруг представилось умное лицо доктора с пронизывающим взором и насмешливой черточкой у рта. Она в душе посмеялась над его резкостью, но вместе с тем невольно подумала о том, как трудно иногда бывает человеку поступать соответственно своим взглядам.
– Ах, что же вы хотите? – воскликнула «Флора» – хрупкое, тоненькое создание с очень хорошеньким, но совершенно бледным личикам, которое до сих пор было поглощено своим изображением в зеркале. – С нами он поступил не лучше. Два года тому назад он сказал моим родителям, что не только глупо, но даже преступно так рано начинать вывозить меня в свет при моем сложении. Будто родители не знают, что полезно их детям! Мы прекрасно знаем, чем объяснить подобную заботливость. Младшая сестра доктора в то время была еще не замужем, а таким всегда неприятно появление на балу более молодых. Папа хотел тотчас отказать доктору от дома, однако мама не может обходиться без его лекарств. Но, слава Богу, его советов не послушали и, как видите, я еще жива.
Молчание слушательниц подтвердило мнение Елизаветы, что это торжество весьма сомнительно и что этому хрупкому созданию с узкой впалой грудью и болезненным цветом лица придется тяжело поплатиться за пренебрежение докторскими советами.
Вдруг всех дам привлек к окну нарядный экипаж, проезжавший по улице. Елизавета со своего стула могла видеть всю ее, а вместе с тем и предмет всеобщего любопытства. В экипаже сидели баронесса Лессен и Елена фон Вальде. Последняя обернулась в сторону дома асессора и, казалось, старательно считала в нем окна. Ее щеки имели слегка красноватый оттенок, что служило признаком внутреннего волнения. Баронесса небрежно откинулась на спинку и вроде бы не замечала ни людей, ни домов.
– Дамы из Линдгофа! – воскликнула «Церера», – но что это значит? Они совершенно не обращают внимания на окна доктора. Ха-ха! А ведь там, в окне, его жена! Посмотрите, как у нее вытянулось лицо… Она поклонилась, но у этих дам, к сожалению, нет на затылке глаз!
Елизавета взглянула на противоположные окна. Там стояла очень красивая женщина с прелестным ребенком на руках. В ее голубых глазах, проводивших экипаж, действительно, светилось недоумение, но овал ее цветущего личика нисколько не «вытянулся». Ребенок потянулся ручонками в направлении разукрашенных голов дам в доме асессора. Следуя взглядом за его движениями, она посмотрела в ту сторону и с лукавой улыбкой кивнула дамам, которые отвечали на ее поклон воздушными поцелуями и другими нежными жестами.
– Странно! – удивилась асессорша. – Что случилось с этими дамами, ведь они проехали, не поклонившись. До сих пор они всегда останавливались, докторша по полчаса стояла возле экипажа, и Елена фон Вальде, кажется, находила большое удовольствие в беседе с ней, хотя баронесса и строила при этом очень кислую физиономию. Просто удивительно. Ну, будущее покажет, в чем тут дело.
– Господин фон Гольфельд, вероятно, остался в Оденбурге. Утром, когда экипаж проезжал мимо нас, он находился с ними, – сказала «Диана».
– Как Елена фон Вальде перенесла разлуку? – спросила «Флора», насмешливо улыбаясь.
– Разве уже так далеко зашло?..
– Неужели ты еще этого не знаешь? – воскликнула «Церера». – Что думает он, мы еще не выяснили, но что она страстно влюблена – вне всякого сомнения. Впрочем, можно безошибочно предположить, что любовь существует только с одной стороны. Разве такая несчастная калека может внушить любовь, к тому же такому ледяному человеку, как Гольфельд, не обращающему внимания даже на красавиц?
– Да, это верно, – заметила «Венера», искоса бросая взгляд в зеркало, – но Елена фон Вальде очень богата.
– Ну, он может получить это богатство и за меньшую цену. Ведь он – их прямой наследник.
– Но ведь сам фон Вальде еще может жениться, – произнесла асессорша.
– Ох, не говори мне о нем! – с гневом воскликнула «Церера». – Женщина, которая согласилась бы на это, видимо, еще не родилась и должна свалиться с неба специально для него. Он весь соткан из высокомерия, у него еще меньше сердца, чем у его двоюродного брата. Как я злилась на него в то время, когда была еще барышней, за то, что он на придворных балах стоял у дверей, скрестив руки, презрительно смотря на всех, и сдвигался с места только тогда, когда должен был танцевать с княгиней или принцессой. Ведь мы достаточно хорошо знаем, что он думает о той, которую считает достойной славного имени фон Вальде: она должна иметь предков и вести свой род по возможности от тех мужчин и женщин, которые плавали еще в Ноевом ковчеге.
Все рассмеялись. Только Елизавета оставалась серьезной. Поведение Елены фон Вальде произвело на нее глубокое впечатление. Она была возмущена и чувствовала, что ее взгляды относительно человеческого характера начинают колебаться.
Неужели была возможна такая перемена мнения за несколько часов? Для других, с менее идеальными взглядами, чем у Елизаветы, непонятное влияние, которое баронесса оказывала на Елену, было бы вполне объяснимо тем, что последняя любила ее сына. Для Елизаветы же – нет. По ее убеждению, такое возвышенное, идеальное чувство, как любовь, не могло быть причиной каких-либо низких поступков. По ее мнению, Гольфельд вовсе не мог являться воплощением идеала прекрасной женской души. Он не был ни умен, ни остроумен, отличался большим самомнением и хотел производить на женщин впечатление не только своей наружностью, но и внутренним содержанием, а поэтому напускал на себя молчаливость и замкнутость, давая людям повод предполагать, что за этими качествами скрываются разные другие – не имеющиеся у него достоинства. Среди мужчин у Гольфельда не было ни одного друга. Из хитрости он никого не пускал в свою душу, а дамы вполне удовлетворялись «жесткой скорлупой» и утешали себя надеждой на «сладкое ядро». Гольфельд прекрасно умел рассчитывать, и для достижения блестящего положения в свете не останавливался ни перед какой интригой, для которой у него была в качестве камер-юнкера при дворе самая благоприятная почва.
Елизавета очень обрадовалась, увидев экипаж дяди, поворачивающий за угол, и облегченно вздохнула, когда села рядом с ним. Она сняла шляпу и с удовольствием подставила свой лоб прохладному вечернему ветерку.
Лесничий несколько искоса посмотрел на молчавшую племянницу. Вдруг он сложил вожжи и кнут в одну руку, а другой взял Елизавету за подбородок и повернул ее лицо к себе.
– Ну-ка, покажись, Эльза! Что означают эти хмурые складки на лбу? Что-то случилось там? Выкладывай-ка скорее, в чем дело. Ты рассердилась на что-нибудь?
– Нет, дядя, я не рассердилась, но мне было очень больно, что твои предсказания относительно Елены фон Вальде оправдались, – ответила Елизавета, краснея от волнения.
– Тебе было больно, потому что я оказался прав, или потому, что Елена фон Вальде поступила нехорошо?
– Потому что ты предрекал гадкие вещи.
– Ну, а какое же обстоятельство принесло победу моим отвергнутым взглядам?
Эльза рассказала ему о поведении Елены и сообщила предположения дам. Лесничий улыбнулся.
– Ах, уж это бабье, а дамы в особенности! – проговорил он, – они уже женят людей, которые видятся в первый раз в жизни. В этом отношении они, пожалуй, правы чего только не делается ради любви! Хотя я нисколько не оправдываю слабость и уступчивость Елены фон Вальде, но не так строго сужу ее теперь. Любовь есть сила, которая заставляет нас забывать отца и мать ради одного человека.
– Вот этого-то я не могу совершенно понять! Как можно совсем чужого человека любить больше, чем отца с матерью? – с жаром заявила Елизавета.
– Гм, – пробормотал лесничий, слегка трогая кнутом спину Гнедого, чтобы немного подогнать его и, ничего не возразив, продолжал: – пока дело обстоит так, мое определение любви не будет понятно для тебя, если бы я даже обладал красноречием ангела.
А он сам!.. Давно прошли те времена, когда он вырезал имя любимой женщины на коре дерева, нежно пел любовные романсы. Когда он бегал за много верст, чтобы поймать один только взгляд, и считал смертельным врагом всякого, кто осмеливался взглянуть на его возлюбленную. Теперь, оглядываясь назад, он с удовольствием вспоминал то безумное время, но передавать словами все свои волнения, радости, отчаяние больше не мог.
– Видишь черную полосу там, за лесом? – спросил он после непродолжительного молчания, указывая бичом в направлении синеющих гор.
– Да, это флагшток на замке Гнадек. Я уже давно видела его и испытываю громадное наслаждение при мысли, что на этом кусочке земли мы дома, и что никто не может согнать нас оттуда. Слава Богу, у нас есть родина!
– Да еще какая! – сказал лесничий, окидывая окрестность блестящими глазами. – Еще будучи маленьким мальчиком, я всегда мечтал о тюрингенском лесе. В этом виноваты рассказы дедушки. Он провел здесь свою юность и знал массу всяких легенд и сказок. Изучив свое дело, я приехал сюда. В то время весь этот лес еще принадлежал фон Гнадевицам, но я не хотел поступать к ним на службу, потому что слишком хорошо знал их по рассказам деда. Я был первым из Ферберов, отказавшихся служить у них, и нашел место у князя Л… Наследник последнего Гнадевица продал часть леса князю Л., пожелавшему увеличить свои лесные владения и давшему за них хорошую цену. Таким образом, мечта моей юности осуществилась: я поселился в доме, который был, так сказать, колыбелью Ферберов. Ведь ты знаешь, что мы родом из Тюрингии.
– Да, еще с детства.
– А знаешь ли ты, как обстояло дело?
– Нет.
– Правда, с тех пор прошло уже много времени, и я, пожалуй, единственный человек, знающий это. Но история эта не должна быть предана забвению, и потому ты услышишь ее от меня теперь, чтобы потом передать когда-нибудь ее дальше. Около двухсот лет тому назад… Видишь, наше генеалогическое древо тоже не молодо, только жаль – мы не знаем, кто была наша родоначальница. Если тебя спросит баронесса Лессен, например, или кто-нибудь другой в этом роде, ты спокойно можешь ответить с полной уверенностью, что мы происходим от знатной дамы, а может быть, это была какая-нибудь маркитантка – дело-то происходило во времена Тридцатилетней войны. Ну-с, около двухсот лет тому назад, в одно прекрасное утро, жена охотника Фербера, открывая наружную дверь, ту самую, которую ты можешь видеть и теперь, нашла на крыльце маленького ребенка. Она поспешно захлопнула дверь, потому что в это время в окрестностях бродило много цыган, и она решила, что это такое же поганое создание. Но муж ее был человечнее и взял ребенка в дом. Это оказался новорожденный мальчик. На груди у него была записка, в которой выражалась просьба приютить ребенка, родившегося в браке и в святом крещении нареченного Иоанном, и обещание подробности о нем сообщить впоследствии. В пеленках нашли кошелек с небольшим количеством денег. Жена охотника была в общем хорошей женщиной и, узнав, что это ребенок христианских родителей, взяла его и воспитала со своими девочками. Это было его счастье, потому что из его родных никто больше не показывался. Позднее его приемный отец усыновил его и в довершение своего счастья он женился на своей молочной сестре. Он, его сын и внук служили егерями потомкам Гнадевицев, жили и умерли в нынешнем доме. Только мой дед был переведен в силезское поместье. Будучи мальчиком, я страшно сердился, что после многих лет не появилась какая-нибудь графиня, которая узнала бы в приемыше своего украденного сына и торжественно водворила бы его в свой родовой замок. Но потом я вполне смирился с этим, да и наше имя мне так нравится, что я не хотел бы менять его. – Лесничий наклонился и, указав Елизавете сквозь чащу ветвей, спросил: – Видишь эту белую точку?
Белой точкой оказался чепец Сабины, сидевшей на крыльце. Увидев экипаж, она поспешно встала, высыпала содержимое своего передника, оказавшееся массой незабудок, в корзину, и помогла Елизавете выйти.
Гнедой с радостным ржанием побежал во двор, где его ожидал работник. Лесничий пошел в дом, чтобы заменить свой форменный сюртук на удобную домашнюю куртку и затем с газетой и трубкой вернулся под липу.
– Какое глупое времяпровождение для такой старой бабки, как я! – рассмеялась Сабина, проходя мимо Елизаветы, усевшейся на пороге и принявшейся за продолжение гирлянды, начатой старушкой. – Но я уже привыкла так с детства. У меня в комнате висят два маленьких портрета моих покойных родителей, они, без сомнения, заслужили, чтобы я чтила их память и плела им веночки, пока есть цветы. Каждое воскресенье деревенские ребята приносят мне свежие незабудки, а сегодня я получила их столько, что хватит на веночек и для Эльзочки. Вы положите его в воду, и он простоит всю неделю.
Елизавета еще долго сидела у дяди. Перед лесничим промелькнул ряд воспоминаний, пришли на ум различные планы, решения и предположения, разрушенные действительностью. Теперь он совершенно спокойно говорил об этом, как человек, стоящий на твердой почве и только слышащий грозный прибой волн.
– Вот, – сказала через некоторое время Сабина, надевая Елизавете на голову венок из незабудок, – так вы его донесете до дома неизмятым.
– Ну, пусть он так и останется, – со смехом проговорила молодая девушка, вставая. – Большое спасибо за прогулку. Спокойной ночи, дядя, спокойной ночи, Сабина.
С этими словами она побежала через двор в сад и вскоре уже двигалась по лесной тропинке, ведущей в гору.
Наверху, в гостиной, горела лампа, ее свет был ясно виден, несмотря на луну. Когда Елизавета очутилась на опушке, на дорогу упала какая-то тень. Это оказалась незнакомая мужская фигура, стоявшая в стороне от дороги, но увидев испуг девушки, направившаяся к ней. «Приведение» вежливо сняло шляпу, и страх у Елизаветы моментально испарился, потому что она увидела улыбающееся, добродушное лицо пожилого, изящно одетого господина.
– Простите, я, кажется, испугал Вас, – проговорил он, приветливо поглядывая на нее поверх очков. – Но я не посягаю ни на вашу жизнь, ни на кошелек. Я – самый мирный путешественник и очень хотел бы знать, что означает этот огонек, который светится там, наверху, в развалинах. Впрочем, в данную минуту я убеждаюсь в праздности своего вопроса, потому что в них поселились эльфы и феи, одна из которых стоит передо мною, готовая наказать меня за вторжение в заколдованный круг.
Это галантное сравнение, как бы банально оно ни было, в данный момент оказалось очень удачным, так как молодая девушка в белом платье, с венком на голове, при свете луны действительно напоминала сказочный образ.
Елизавета в душе посмеялась этому комплименту, но с огорчением подумала, что вовсе не похожа на такое эфирное создание и решила немедленно высказать это пожилому господину.
– Мне очень жаль, что придется вернуть вас к суровой действительности, – ответила она, – но при всем желании я не могу видеть в этом огоньке ничего другого, кроме света настенной лампы в уютной комнате письмоводителя лесничества.
– Э, – рассмеялся незнакомец, – что же он, живет один в этих неприветливых старых стенах?
– Он мог вполне отважиться на это, потому что над теми, «кто идет по пути истины, злые духи не властны», но его одиночество разделяют еще некоторые живые существа, среди которых, между прочим, две породистые козы и прелестная канарейка, не говоря уж о совах, которые ведут теперь очень замкнутый образ жизни, так как оживленная деятельность людей не согласуется с их взглядами.
– Я думаю, они избегают яркого солнечного света, который засиял теперь в развалинах.
– Бедные совы! – со смехом воскликнула Елизавета и, слегка поклонившись, заторопилась дальше, потому что ее родители только что вышли из калитки и направлялись ей навстречу.
Они очень обеспокоились, услышав голос Елизаветы и какого-то незнакомого мужчины. Когда молодая девушка рассказала им о своей встрече, они побранили ее за то, что она пустилась в разговор с незнакомцем.
– Твои легкомысленные речи могли иметь очень неприятные последствия. К счастью, это были люди из общества.
– Люди? – с изумлением прервала их дочь. – Но ведь он был один.
– Ну, тогда оглянись, ты еще сможешь увидеть их.
Действительно, на крутой дорожке, ведущей под гору, еще виднелись две светлые мужские шляпы.
– Ты видишь, мамочка, эта встреча была вполне безопасна. Один из них даже не решился выйти из кустов, а у другого такое добродушное лицо, что вряд ли он может быть разбойником.
В своей комнате Елизавета осторожно сняла венок и, положив его на тарелку, поставила перед бюстом Бетховена. Затем она поцеловала спящего Эрнста и пожелала спокойной ночи своим родителям.
Глава 9
– Эльза, да не беги же так! – крикнул лесничий, выходя на другой день с ружьем через плечо из леса на лужайку, ведущую к дому. Елизавета бежала под гору, ее шляпа висела на руке, косы блестели на солнце. Она со смехом бросилась в объятия дяди, а затем, сунув руку в карман, отступила на шаг и спросила с улыбкой:
– Угадай-ка, что у меня в кармане, дядя?
– Ну, что же там может быть? Тут, не придется особенно ломать голову. Вероятно, клочок сентиментального сена, несколько засушенных цветков или кусочек печатной мировой скорби, заключенной в золоченый переплет.
– К сожалению, оба раза мимо, господин лесничий. Во-первых, потому что я не сержусь на ваши слова, а во-вторых… Вот, смотри!
Она вынула из кармана маленькую коробочку и приподняла крышку. Там, на зеленых листиках, лениво потягивалась толстая гусеница. Ярко-желтого цвета, с черными точками, косыми синевато-зелеными полосками и кривым рогом на хвосте.
– Батюшки, «сфинкс атропос»! – с восхищением воскликнул лесничий. – Однако, постреленок, где же ты раздобыла этот чудный экземпляр?
– В Линдгофе, на картофельном поле. Не правда ли, она хороша. Так, теперь мы хорошенько закроем коробочку и спрячем…
– Как, я не получу этой гусеницы?
– Нет, ты можешь получить ее, но только за плату.
– Ну и ну, ты, кажется, превратилась в торгаша-еврея? На вот тебе десять пфеннигов, давай сюда гусеницу!
– Боже упаси! Меньше, чем за тридцать, я ее не отдам. Всякие заплесневелые пергаменты, до которых противно дотронуться, ценятся на вес золота. Неужели же такое прекрасное произведение природы не стоит тридцати пфеннигов?
– Старые заплесневелые пергаменты! Сказала бы ты это какому-нибудь ученому – то-то бы тебе попало!
– Ах, здесь, в свежем зеленом лесу их нет!
– Берегись, господин фон Вальде…
– Сидит в пирамидах.
– Но мог бы внезапно появиться и привлечь к ответственности некоторых дерзких девиц. Он среди ученых – важная птица.
– Пусть они воздвигают ему памятники и сколько угодно осыпают лаврами, а я не могу простить ему, что, он за всем этим старым хламом забывает те требования, которые предъявляет ему жизнь, что он изучает вопрос о том, действительно ли римляне кормили рыб мясом своих рабов, а бедняки в его имениях голодают и изнемогают под гнетом баронессы.
– Э, у него теперь горит, наверное, левое ухо! Жаль, что он не может слышать эти слова! Вот тебе деньги. Ты, видно, хочешь купить себе какое-нибудь перо на шляпку или другую тряпку?..
Елизавета посмотрела на свою шляпу и с восхищением указала на две прекрасные розы, свежие, как заря, заткнутые за скромную черную бархотку.
– Разве это не прекрасно, дядя? – спросила она. – Неужели ты думаешь, что я добровольно стану обременять свою юную головку перистыми облаками, когда могу иметь свежие розы. Вот тебе гусеница. Сейчас ты узнаешь, почему я тебя ограбила. Сегодня утром у нас была жена одного бедного ткача из Линдгофа и просила помочь ей. Ее муж упал, повредил себе руку и ногу и уже в течение нескольких недель ничего не зарабатывает. Мама дала ей старое белье и большой домашний хлеб. Дать больше, как ты знаешь, мы не можем. Вот у меня есть двадцать пять пфеннигов, взятые мною из копилки – больше там не было. Шесть из них принадлежат Эрнсту. Он был готов продать всех своих солдатиков, лишь бы помочь бедной женщине. К этому еще прибавятся деньги за гусеницу, что составит целый талер. Я его сейчас отнесу в избушку ткача.
– Вот тебе еще талер и… Сабина! – крикнул он. – Достань-ка хороший кусок солонины из бочки и заверни в два больших листа. Возьми и это, – добавил он, снова обращаясь к Елизавете.
– Ах, милый, восхитительный дядюшка! – с восторгом воскликнула Елизавета, взяв его руку и усиленно стараясь крепко полоть ее своими тонкими пальцами.
– Смотри, чтобы мясо по дороге не превратилось в розы, – продолжал он, – от них мало пользы бедному ткачу. Ты поступаешь, как святая, имя которой ты носишь.
– Да, но к несчастью, мне не приходится бояться жестокого ландграфа. Впрочем, я все-таки не сказала бы ему неправды.
– Ишь ты, какая героиня!..
– Мне кажется, чтобы заведомо солгать, требуется гораздо больше мужества.
– Правда, моя девочка, я тоже не смог бы. А вот и Сабина!
Действительно, из дверей вышла ключница и, передавая Елизавете мясо, шепнула лесничему, что господин фон Вальде, вернувшийся вчера из путешествия, уже некоторое время ждет его.
– Где? – спросил лесничий.
– Здесь, в столовой.
Они стояли как раз около этой комнаты, а окна были открыты. Елизавета, вспыхнув, быстро обернулась. Дядя состроил прекомичную физиономию и, поглаживая свою бороду, с улыбкой проговорил:
– Вот тебе и раз! Ты заварила хорошую кашу! Он все слышал!
– Тем лучше, что ему пришлось услышать правду! – гордо поднимая голову, ответила девушка, а затем, распрощавшись с Сабиной и дядей, медленно двинулась к Линдгофу.
В первую минуту ей стало не по себе оттого, что фон Вальде, хотя и против воли, слышал ее суждения, но потом она решила, что так же открыто сказала бы ему правду в глаза. Но так как невозможно предположить, что он когда-нибудь станет спрашивать ее мнение (даже мысль об этом показалась ей смешной), то ему вовсе не принесет вреда, что он случайно выслушал правду, хотя бы даже из девичьих уст. Однако почему он так неожиданно вернулся? Елена фон Вальде предполагала, что он пробудет в отсутствии еще много лет и даже третьего дня не подозревала о его возвращении. Эльзе невольно пришла в голову вчерашняя встреча. Ведь незнакомец, остановивший ее, сказал, что он – возвратившийся путешественник. Но этот добродушно улыбающийся старичок не мог быть мрачным, гордым владельцем Линдгофа. Вероятно, им был тот, который молча ждал в кустах, пока его спутник наведет справки о заинтересовавшем их свете в развалинах. Но что фон Вальде понадобилось от дяди, который, насколько Елизавета знала, никогда не имел к нему никакого отношения.
Эти и другие подобные мысли занимали Елизавету, пока она шла к домику ткача.
Муж и жена заплакали от радости при виде неожиданного приношения. Елизавета покинула их дом, сопровождаемая неожиданными благопожеланиями, и направилась через деревню в замок, на обычный урок музыки, который, несмотря на прибытие хозяина, не был отменен.
С приездом фон Вальде замок совершенно изменил свою обычную внешность. Окна первого этажа, обыкновенно таинственно скрывавшиеся за закрытыми ставнями, теперь ярко блестели на солнце.
В комнатах передвигали мебель, выколачивали пыль, все мыли и чистили. Сквозь открытую стеклянную дверь виднелась внутренность большого зала. На ступенях, ведущих в сад, положив голову на лапы, лежала большая борзая. У открытого окна садовник устанавливал на жардиньерке цветы, а старый дворецкий Лоренц ходил по комнатам с видом судебного следователя.
Елизавете невольно бросилось в глаза, что все, попадавшиеся ей навстречу, имели другое выражение лица, чем обычно. Даже в глазах старого Лоренца светился какой-то радостный огонек, хотя он в эту минуту и сердился за что-то на людей, выколачивающих пыль. Его голос звучал сегодня так громко, что девушка с изумлением подняла на него взгляд, так как Лоренц всегда входил в комнату на цыпочках и докладывал обо всем вполголоса.
Удивленная такой внезапной жизнедеятельностью, девушка посмотрела на флигель, занимаемый обеими дамами. Но там царила полная тишина. В покоях баронессы были опущены все шторы и занавески, ни один звук не доносился из дверей, мимо которых проходила гостья. Воздух узкого коридора был пропитан пронизывающим запахом валериановых капель. Из последних дверей выглянула, наконец, голова, но в каком виде! Это была старая камеристка баронессы, вероятно, желавшая посмотреть, кто осмелился нарушить торжественную тишину коридора. Чепчик съехал набок, одна прядь фальшивых локонов грозила упасть, лицо имело совершенно растерянное выражение, а на выдающихся скулах горели яркие пятна. Она хмуро ответила на поклон Елизаветы и снова быстро исчезла за дверью.
Молодая девушка несколько раз постучала в комнату Елены и, не получив ответа, решила, наконец, войти. Не только шторы, но и толстые шелковые занавеси были опущены. Глубокий мрак и мертвая тишина смутили Елизавету, и она собралась снова закрыть дверь, как вдруг ее окликнул слабый голос Елены. Она лежала в кресле в глубине комнаты, зарывшись головой в подушки.
– Ах, милое дитя, – проговорила она, положив свои холодные влажные руки на руку Елизаветы, – у меня был нервный припадок. Никто этого не заметил, и я чувствовала себя такой заброшенной в этой комнате. Пожалуйста, откройте окно, мне нужен воздух, теплый, свежий воздух.
Елизавета тотчас же исполнила ее желание. А когда дневной свет упал на бледное лицо Елены, заметила, что ее глаза сильно заплаканы.
Солнечные лучи, осветившие комнату, пробудили в Елене больше жизни, чем могла думать Елизавета. Она сильно испугалась, когда вдруг из угла послышался резкий крик. Там качался на кольце белоснежный какаду с высоким темным хохолком.
– Боже, как ужасно! – воскликнула Елена, затыкая уши, – эта ужасная птица раздражает мне нервы.
Взор Елизаветы с удивлением остановился на маленьком чужестранце и скользнул по комнате, имевшей вид базара. На всех столах и стульях лежали богатые ткани, шали, книги в дорогих переплетах и различные принадлежности туалета. Елена заметила взгляд Елизаветы и отрывисто проговорила:
– Это все подарки моего брата, который вчера неожиданно вернулся.
Как холодно звучал ее голос при этих словах! На ее заплаканном лице не было и тени радости, обыкновенно столь кроткие глаза выражали досаду и гнев.
Елизавета молча наклонилась и подняла букет чудных полузавявших камелий, лежавший на полу.
– Ах, да, – проговорила Елена, поднимаясь, – это утренний привет моего брата. Букет упал со стола и был забыт. Пожалуйста, поставьте его в вазу.
– Бедные цветочки! – вполголоса произнесла Елизавета, оправляя завядшие лепестки. – Распускаясь, они и не подозревали, что попадут в такую холодную атмосферу.
Елена испытующе взглянула на девушку, и в ее взоре сверкнуло раскаяние.
– Поставьте цветы на окно, там больше воздуха, они, может быть, оживут, – шепнула она. – О, Боже, – она опустилась в кресло, – он чудесный человек, но его появление нарушает гармонию нашей жизни.
Елизавета недоверчиво взглянула на больную, лежавшую с таким видом, как будто судьба послала ей самое тяжкое испытание. Молодая девушка еще вчера совершенно не понимала образа действий Елены, сегодня же она была совсем подавлена странностью этого непонятного характера. Куда так внезапно исчезло чувство глубокой благодарности, с которым Елена обычно говорила о своем брате? Неужели нежность, по-видимому, наполнявшая ее сердце, могла испариться в одну минуту, и она сожалела теперь о том, что по прежним словам должно было быть для нее радостным событием? И если даже прибывший не симпатизировал тому кругу, в котором Елена чувствовала себя счастливой, если даже он противился исполнению ее желаний, то неужели же между ними так скоро могло наступить охлаждение или озлобление? Елизавета вдруг почувствовала глубокую жалость к человеку, который плавал по далеким морям, путешествовал по разным странам, а возвратившись теперь домой после долгого отсутствия, являлся лишь разрушительным элементом. Как глубоко должно было затронуть его то обстоятельство, что вместо сердечного приема он нашел в сердце своей сестры лишь один холод!
С этими мыслями молодая девушка поправляла цветы в вазе. Она не ответила ни слова на страстную речь Елены, беспощадно обвинявшей брата. Последняя, очевидно, сама почувствовала, что зашла слишком далеко, и совершенно другим тоном попросила Елизавету сесть и немного поболтать с нею.
В эту минуту дверь с шумом распахнулась и на пороге показалась женская фигура. Елизавета с трудом узнала в этой женщине баронессу Лессен. Ее белые волосы, обычно тщательно причесанные, выпали из-под утреннего чепчика на лоб. Лицо было покрыто красными пятнами. Глаза ее не имели обычного выражения гордой самоуверенности; какой ничтожной казалась она теперь!
– Ах, Елена! – с беспокойством воскликнула она, не замечая Елизаветы. – Рудольф только что позвал к себе несчастного Линке. Он так сердится и кричит на беднягу, что слышно через весь двор. Господи!.. Я чувствую себя такой несчастной! Сегодняшнее утро совсем убило меня, я еле держусь на ногах. Я не смогла больше выносить такую несправедливость и укрылась сюда. Рушится все то, что я с таким трудом создавала во имя Господне. И нужно же было случиться тому, что Эмиль оказался в Оденбурге! Как мы покинуты и одиноки, дорогая Елена! – и баронесса обвила руками шею молодой девушки.
Этим моментом и воспользовалась Елизавета, чтобы выскользнуть из комнаты.
Когда она очутилась в коридоре, выходящем в вестибюль, до нее донесся громкий разговор. Низкий, звучный мужской голос, иногда повышавшийся от сильного волнения, но ни разу не принявший резкого оттенка, что-то говорил. Елизавета не могла определить, откуда доносится этот голос, и побежала, торопясь поскорее выйти из особняка. Но не успела она сделать нескольких шагов, как ясно услышала:
– Вы покинете Линдгоф не позднее завтрашнего вечера.
– Герр фон Вальде… – пробормотал другой голос.
– Это мое последнее слово! – повелительно произнес первый из собеседников, и в эту минуту Елизавета с ужасом увидела себя возле открытой двери.
Посреди комнаты стоял высокий мужчина, заложив одну руку за спину, а другой указывая на дверь. Взгляд темных горящих глаз встретился со взором Елизаветы. Она поспешно отвела глаза и выбежала в сад. Ей казалось, что этот взгляд преследует ее.
Когда вся семья Фербер собралась за ужином, отец с оживлением рассказывал, что познакомился сегодня в лесничестве с господином фон Вальде.
– Ну и как он тебе понравился? – спросила жена.
– На этот вопрос, дитя мое, я смогу тебе ответить может быть, только через год, и еще при том условии, чтобы я мог видеть его ежедневно. Да, пожалуй, даже и тогда я не буду в состоянии составить сколько-нибудь определенное мнение. Меня этот человек заинтересовал тем, что все время наталкиваешься на вопрос, действительно ли она такая холодная и бесстрастная натура, как о нем говорят. Он пришел к моему брату, чтобы расспросить его об инциденте между управляющим и той бедной женщиной, Шнейдер, потому что ему сказали, будто бы Сабина сама все видела. Сабину позвали в комнату и она должна была рассказать, в каком виде застала несчастную Шнейдер. Он расспрашивал о мельчайших подробностях, но кратко и определенно. Он сюда приехал прямо из Испании. По некоторым его словам можно заключить, что какой-то друг написал ему обо всем, что здесь творится, после чего он немедленно отправился домой.
– А какова его наружность? – спросила госпожа Фербер.
– Мне он очень понравился, хотя я еще ни разу не встречал человека, который держался бы так холодно и неприступно, как фон Вальде. Я прекрасно понимаю, что его считают бесконечно высокомерным, но, как мне кажется, это мнение ошибочно, и он только сильно удручен жизнью.
Елизавета задумчиво слушала слова отца и рассказала о сцене, свидетельницей которой она случайно стала.
– Ну, значит, суд свершился скорее, чем можно было предположить, – сказал Фербер. – Может быть, тут имели значение и слова моего брата – ведь он беспощаден в своих суждениях, когда спрашивают его мнения, и, вероятно, выложил господину фон Вальде все, что было у него на сердце.
Глава 10
С этого вечера прошло не более недели, но в течение этого небольшого времени в Линдгофе произошли громадные перемены.
Уволенный управляющий был заменен новым, которому, однако, предоставили очень незначительные полномочия, так как хозяин оставил за собой верховный надзор. Некоторые люди, которым отказали в месте за то, что они посещали деревенскую церковь и не слушали проповеди в замке, снова были приняты на работу в имение. Наконец, в воскресенье, фон Вальде в сопровождении баронессы фон Лессен и маленькой Бэллы, присутствовали на богослужении в деревенской церкви в Линдгофе. Кандидат Меренг к всеобщему удивлению появился на хорах в качестве слушателя, а почтенный деревенский пастор обедал в замке.
Доктор Фельс каждый день приезжал в Линдгоф, потому что Елена заболела. Последнее обстоятельство и было, вероятно, причиной того, что Елизавету не приглашали больше на урок, и что, по словам лесничего, баронесса «избежала ссылки в Сибирь».
– Ведь господин фон Вальде вовсе не такой варвар, чтобы ухудшить здоровье больной сестры, лишая ее самого приятного для нее общества, – сказал лесничий. – Само собой разумеется, что с удалением баронессы прекратятся посещения ее сына.
В деревне все знали, что в замке свирепствуют страшнейшие бури, пока воздух не очистится. Первые три дня после приезда фон Вальде обедал один в своей комнате и отсылал обратно все бесчисленные записки, которые посылала ему баронесса, пока, наконец, болезнь Елены не заставила их встретиться у ее постели. С этого дня жизнь как будто вошла в свою колею, хотя слуги уверяли, что господа за столом не говорят ни слова. Гольфельд приезжал один раз, чтобы приветствовать хозяина, но, по слухам, уехал очень быстро и притом с чрезвычайно вытянутой физиономией.
В один пасмурный августовский день Елена фон Вальде попросила Елизавету прийти в замок. Войдя в комнату, девушка увидела, что Елена не одна – в кресле у окна сидел фон Вальде и, казалось, только что закончил какую-то речь. Его соседка, баронесса Лессен, наклонившись к нему, с любезной улыбкой слушала его слова, хотя они были обращены к Елене. Баронесса держала вязание, и вся эта картина носила довольно мирный характер. На кушетке лежала Елена, широкий капот окутывал всю ее тщедушную фигурку, русые волосы были запрятаны под утренний чепчик, розовые ленты которого еще больше оттеняли смертельную бледность ее лица. На пальце у нее сидел попугай, которого она время от времени ласкала и прижимала к щеке. «Ужасная» птица была теперь «милочкой» и могла кричать, сколько душе угодно. Значит, и тут состоялось примирение и царило полное спокойствие.
Елена сделала Елизавете при ее входе приветственный жест рукой, но от молодой девушки не укрылось, что она старалась подавить легкое смущение.
– Милый Рудольф, – проговорила она, взяв брата за руку, – вот та милая артистка, которой я обязана многими прекрасными часами. Фрейлен Фербер, которую ее дядя, да и все в окрестности зовут «златокудрой Эльзой», так увлекает всех своей игрой, что я хочу попросить ее заставить нас забыть сегодняшнее хмурое пасмурное небо. Вы видите, что я не могу составить вам компанию у рояля. Не будете ли вы так добры сыграть нам что-нибудь?
– С удовольствием, – ответила Елизавета, – но очень боюсь, потому что вы противопоставили мне две непобедимые силы: тучи на небе и похвалу моей игре, которую вы только что произнесли.
– Могу ли я теперь удалиться на часок? – спросила баронесса, складывая работу и вставая, – я хочу немного прокатиться с Бэллой – бедняжка так долго не была на воздухе.
– Ну, кажется, она может дышать им, сколько угодно, – для этого ей нужно только высунуть голову в окно, – сухо проговорил фон Вальде, стряхивая с сигареты пепел.
– Ох, Рудольф, тебе, возможно, неприятно, если я возьму лошадей? Я сейчас же останусь дома, если…
– Я совершенно не понимаю, чего ради мне удерживать тебя, катайся, пожалуйста, когда и сколько тебе угодно, – последовал равнодушный ответ.
Баронесса поджала губы и обратилась к Елене:
– Значит, решено, кофе будем пить у меня. Я недолго буду отсутствовать, так как идет дождь. Вернусь ровно через час и сама отведу тебя к себе.
– Это уже в течение многих лет составляет мою обязанность, – вступил в разговор фон Вальде, – и я надеюсь, что сестра не думает, будто я забыл о ней, пока меня не было.
– Конечно, нет, милый Рудольф, я буду благодарна, – оживленно воскликнула Елена, в то время, как ее взгляд боязливо перебегал от одного к другому.
Баронесса между тем мужественно поборола свой гнев. Она с милой улыбкой протянула руку фон Вальде, поцеловала Елену и, проговорив «До свидания», выпорхнула из комнаты.
Во время этих переговоров Елизавета рассматривала черты лица фон Вальде, взгляд и голос которого на днях произвели на нее такое сильное впечатление. Его лицо выражало твердость, которую ничто не может сломить, во взгляде сквозила честность и решительность. Как спокойно светились его глаза, которые тогда метали такие искры! Их выражение становилось более ледяным, когда они останавливались на баронессе. Темная, чуть вьющаяся борода покрывала нижнюю часть лица фон Вальде, сообщая ему строгость и величавость.
Когда баронесса вышла из комнаты, Елизавета открыла рояль.
– Нет-нет, пожалуйста, без нот, – воскликнула Елена, заметив, что молодая пианистка ищет их. – Мы хотим послушать ваши собственные мысли. Пожалуйста, сыграйте что-нибудь экспромтом.
Елизавета без колебания села за рояль. Вскоре она и в самом деле забыла о внешнем мире. В ее душе зародился целый сонм звуков, который увлек ее далеко ввысь. Весь ее внутренний мир вылился в этих мелодиях.
Последние аккорды отзвучали. На ресницах Елены висели две крупные слезы, ее лицо побледнело еще больше. Она посмотрела на брата, но тот глядел в сад. Когда он, наконец, повернулся к ней лицом, то его черты имели такое же спокойное выражение, как обычно, только легкая краска покрывала их. Сигара выскользнула у него из рук и лежала на полу. Он ни слова не сказал Елизавете относительно ее игры, зато Елена, которой, видимо, было неприятно молчание брата, рассыпалась в похвалах, чтобы замять или хотя бы смягчить его холодность.
– Это было гениально! – воскликнула она. – В Б., наверное, не имели понятия о золотом источнике мелодий, таящихся в груди Эльзочки, иначе ее не отпустили бы к нам в тюрингенские леса.
– Вы до сих пор жили в Б.? – спросил фон Вальде, переводя взгляд на Елизавету.
Та увидела, что лед в его глазах растаял. Они светились каким-то особенным блеском. Она просто ответила:
– Да.
– Перенестись вдруг из прекрасного большого города в тихий лес на одинокой горе! Это неприятная перемена. Вы были, вероятно, в отчаянии от нее?
– Я сочла ее незаслуженным счастьем, – последовал спокойный ответ.
– Что? Удивительно! Я думаю, что никто не станет скрывать репейник, когда может иметь розу. Это общепринятый взгляд.
– Да, но очень односторонний.
– Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из ваших друзей разделял ваши вкусы… Но все-таки, в ваших же интересах, предполагаю, что вам не легко было расстаться с вашими друзьями.
– Даже очень легко, потому что у меня их не было.
– Не может быть! – воскликнула Елена. – У вас совершенно не было знакомых?
– Были, но только те, кто мне платил.
– Вы давали уроки?
– Да.
– Разве у вас никогда не было потребности иметь друга?
– Никогда, потому что у меня есть мать, – с глубоким чувством ответила Елизавета.
– Счастливая! – пробормотала Елена, опуская голову.
Елизавета поняла, что задела больное место в сердце Елены. Она очень пожалела об этом и ей захотелось загладить неприятное впечатление. Фон Вальде, казалось, прочел эту мысль молодой девушки по ее липу и, не обращая внимания на печальный тон, спросил:
– И вы пожелали жить именно в Тюрингене?
– Да.
– А почему?
– Потому что мне с раннего детства рассказывали, что мы родом из Тюрингии.
– А, из рода Гнадевиц?
– Это девичья фамилия моей матери. Меня зовут Фербер.
– Вы говорите это с таким ударением, как будто благодарите Бога за то, что не носите этой фамилии.
– Да, я очень рада этому.
– Гм… Это имя было в свое время очень громким.
– Да, но слава его не всегда была безупречной.
– Э, да что в том! Зато это имя имело при многих дворах цену чистого золота, потому что было очень древним и носителей осыпали различными милостями.
– Простите, но я совершенно не могу понять то, что… – начала было Елизавета, но покраснев, замолчала.
– Ну-с? Вы начали предложение, и я настаиваю на том, чтобы вы его закончили.
– …что грехи награждаются потому, что стары, – неуверенно проговорила Елизавета.
– Прекрасно! Но многие предки Гнадевицев проявили большое мужество и отвагу.
– Возможно, но, по-моему, несправедливо, что их заслугами в течение стольких столетий пользуются те, кто вовсе не отличается этими качествами.
– Да разве великие дела не должны жить вечно?
– Конечно, но если мы не стараемся подражать им, то недостойны пользоваться их славой, – решительно ответила Елизавета.
В это время во двор въехал экипаж. Фон Вальде наморщил лоб и провел рукой по глазам, как бы внезапно просыпаясь от сна. Тотчас же после этого дверь отворилась, и вошла баронесса. На ней и Бэлле были шляпки и накидки.
– Вот и мы. Какой сегодня отвратительный воздух. Я очень сожалею, что решила выехать. Мне, вероятно, придется поплатиться насморком за свои материнские заботы. Бэлла хотела посмотреть, как ты себя чувствуешь, Елена, а потому я и взяла ее сюда.
Девочка направилась прямо к кушетке и, казалось, не замечала Елизаветы, сидевшей около нее. Наклонившись, чтобы поцеловать руку Елены, она задела Елизавету, пуговица ее накидки зацепилась за отделку платья гостьи и разорвала ее. Она подняла голову, искоса взглянула на дыру и, повернувшись, направилась к фон Вальде, чтобы поздороваться с ним.
– Ну-с, – проговорил тот, не подавая ей руки, – разве ты не можешь извиниться за свою неловкость?
Бэлла не ответила ни слова и ретировалась к мамаше, на щеках которой вспыхнули яркие пятна. Взгляд, который она бросила на Елизавету, ясно говорил, что все ее недовольство было направлено на последнюю.
– Что же, ты не умеешь говорить? – спросил фон Вальде, вставая.
– Госпожа Фербер сидела так близко, – проговорила за упорно молчащую девочку баронесса.
– Действительно, мне надо было отодвинуться, и беда вовсе не так велика, – проговорила Елизавета с приветливой улыбкой, протягивая руку Бэлле.
Девочка сделала вид, что не заметила этого и спрятала обе руки под пелерину. Фон Вальде, не говоря ни слова, подошел к ней, взял за руку, подвел к двери, открыл ее и приказал девочке.
– Иди сейчас же в свою комнату и не показывайся мне на глаза, пока я этого не пожелаю.
Баронесса была вне себя, но что она могла сделать? Она не имела оружия для борьбы с «варварством и насилием этого человека», который являлся хозяином дома. Наконец, рассудок взял верх.
– Надеюсь, милый Рудольф, ты простишь Бэлле маленький каприз, – проговорила она дрожащим голосам. – Прошу тебя принять во внимание то обстоятельство, что ее гувернантка – ужасная идиотка.
– Мисс Мертенс? Сомневаюсь, чтобы она при своем врожденном такте воспитала Бэллу такой, какой она себя только что показала.
Лицо баронессы снова вспыхнуло, но она овладела собой:
– Ах! – воскликнула она, чтобы придать разговору другой оборот, – с этими глупыми историями я совсем забыла сказать, что Эмиль приехал из Оденбурга. Он прибыл верхом и совсем промок, так что теперь переодевается. Он сейчас будет здесь. Может он засвидетельствовать тебе свое почтение?
Яркая краска залила щеки Елены, но она опустила голову, не сказав ни слова.
– Без сомнения, – ответил фон Вальде. – Долго он думает пробыть здесь?
– Несколько дней, если позволишь.
– Конечно, и мы увидимся с ним, когда придем пить кофе к тебе.
– Он будет очень рад. Если угодно, мы можем сейчас же перейти в мою комнату. Камеристка доложила мне, когда я выходила из кареты, что все готово к принятию гостей.
При этих словах Елизавета поднялась, собираясь уйти; фон Вальде, заметив это, устремил на баронессу вопросительный взгляд. Он, понятно, ожидал, что она пригласит молодую девушку присоединиться к ним. Баронесса в эту минуту нашла, что садовник очаровательно убрал цветочный стол в оконной нише, и вся погрузилась в рассматривание группы азалий, причем повернулась спиной к молодой девушке.
Елизавета низко поклонилась. Елена неуверенным голосом, но сердечно поблагодарила ее за доставленное удовольствие. В коридоре молодая девушка увидела Гольфельда, шедшего ей навстречу. Заметив ее, он ускорил шаги, а затем, убедившись, что вокруг никого нет, схватил руку Елизаветы, страстно поцеловал и прошептал.
– Как я счастлив, что снова вижу вас!
Елизавета была так ошеломлена, что не смогла произнести ни слова. Она только быстро отдернула руку. В эту минуту дверь в комнату Елены отворилась, и из нее вышел фон Вальде. Гольфельд, сделав вид, будто только что заметил Елизавету, слегка приподнял шляпу и пошел навстречу родственнику.
Елизавета была вне себя от этого. Она чувствовала себя глубоко оскорбленной. Она сердилась на себя за то, что сразу не осадила его за дерзость. При мысли о том, что мужчина посмел коснуться ее, яркая краска залила ей лицо. Девушке казалось, что то место, куда Гольфельд приложил свои горячие губы, еще горит у нее на руке, и она подставила ее под струю фонтана, как бы желая смыть это воображаемое пятно.
Елизавета вернулась домой в возбужденном состоянии и пожаловалась матери на полученное оскорбление.
– Ты теперь знаешь, что за человек этот Гольфельд, – сказала та. – Поэтому тебе нужно избегать встречи с ним, а при назойливости осадить. Ни на минуту не забывай, как вести себя дальше. Иди своей дорогой. Пока я еще не советую тебе прекращать своих занятий в замке Линдгоф.
– О, конечно, я этого никогда не сделаю! – воскликнула Эльза, – что сказал бы дядя, когда бы узнал, что цыпленок действительно прячется под родное крылышко! – добавила она, улыбаясь сквозь слезы.
– Было бы очень печально, если бы у меня не хватило силы дать такой отпор навязчивому человеку, чтобы у него навсегда прошло желание повторять свои поцелуи.
Она вспомнила свой сегодняшний разговор с фон Вальде и решила, к своему успокоению, что она очень мужественна, потому что перед этим проницательным взором и строгим лицом было вовсе нелегко высказать свои убеждения, которые осмеливались не признавать его увлечения предками. Она ежеминутно ждала, что его взгляд снова сделается ледяным, как при разговоре с баронессой, но этого не случилось. Ей даже показалось, что его губы несколько раз сложились в едва заметную улыбку.
«Вероятно, ему вздумалось сегодня сыграть роль льва, забавляющегося с мышонком. Он терпеливо сносил, что маленькая девочка выкладывала перед ним свои наивные взгляды», – подумала она.
Елизавета сама не знала, как ей пришла в голову мысль, что ей было бы очень больно, если бы высокомерие фон Вальде проявилось по отношению к ней, а потому она решила, что следует быть особенно осторожной с фон Вальде и не вводить себя в заблуждение простой вежливостью.
Глава 11
На другой день после полудня Елизавета только что собралась пойти с рабочей корзинкой в сад, как у калитки раздался звонок. Каково же было удивление девушки, когда она, отворив калитку, увидела перед собой Бэллу. Позади нее стояли мисс Мертенс и пожилой господин, которого она на днях встретила в лесу. Девочка тотчас же протянула Елизавете ручонку, но имела очень смущенный вид и не проронила ни слова. Елизавета с большим изумлением поняла цель ее прихода и постаралась облегчить ее затруднение, предложив пойти в сад. Однако тут вмешалась мисс Мертенс.
– Не облегчайте Бэлле ее задачу, – попросила она. – Девочке строго приказали извиниться перед вами за вчерашнее поведение, и я должна настоять на том, чтобы она это сделала.
Крайне решительно произнесенные слова, а, может быть, и полумрак сеней, куда они вошли, развязали, наконец, язык Бэлле. Она тихо попросила прощенья и обещала никогда больше не быть непослушной.
– Ну, слава Богу, все исполнено! – обрадовался пришедший господин; подошел и лукаво улыбаясь, сделал Елизавете глубокий поклон. – Вам может показаться странным, – проговорил он, что я присоединился к этой покаянной депутации, не имея к ней никакого отношения. Только я придерживаюсь того взгляда, что после примирения человек становится более снисходительным, и нахожу, что это – самый благоприятный момент для вторжения незнакомца. Меня зовут Эрнст Рейнгард. Я состою секретарем господина фон Вальде и в течение целой недели питаю непреодолимое желание познакомиться с интересной семьей, поселившейся в замке Гнадек.
Елизавета приветливо протянула ему руку.
– Мои родители будут очень рады, – проговорила она, отворяя дверь, ведущую в сад.
Ее родители и дядя, сидевшие вместе с Эрнстом под липами, увидев пришедших, встали и пошли им навстречу. Елизавета представила всех друг другу и снова пошла в дом, чтобы, по знаку матери, приготовить угощение для гостей. Когда она вернулась, Бэлла уже сняла накидку, положила зонтик и с сияющим лицом сидела на качелях. Эрнст усердно ее раскачивал и очень радовался своей новой приятельнице.
– Кто видел Бэллу сегодня утром, – сказал Рейнгард, указывая на девочку, – когда она вошла в кабинет господина фон Вальде, чтобы попросить у него извинения за вчерашнее поведение, и тот недобрый взгляд, который она бросила на него, когда он заявил, что не желает ее видеть до тех пор, пока она лично не попросит прощения у госпожи Фербер, – при этих словах Елизавета вспыхнула до корней волос, хотя сделала вид, что всецело занята намазыванием хлеба медом, – тот не узнал бы ее в этом беспечном ребенке.
Мисс Мертенс оказалась очень образованной и интересной собеседницей, а Рейнгард чрезвычайно увлекательно рассказывал о своих путешествиях и исследованиях.
– О возвращении домой не было и речи, – закончил он свое описание Испании, – но различные неутешительные известия из Тюрингена заставили господина фон Вальде изменить свой план. Неосторожное желание, вылившееся из-под нежного женского пера, чтобы господин фон Вальде уволил деревенского пастора, потому что тот слишком стар, переполнило чашу терпения, и мы отправились обратно. Когда мы поздно вечером, выйдя из экипажа близ Линдгофа, пошли пешком через лес, то натолкнулись на чудо. «Удивительно! Посмотрите, Рейнгард, что за мерцание там, наверху, в старом Гнадеке?» – удивился господин фон Вальде. «Это свет», – ответил я. «Мы должны это расследовать», – отозвался он и стал подниматься в гору. Светящаяся точка все увеличивалась, и в конце концов, к нашему великому изумлению, превратилась в два больших, ярко освещенных окна. Вдруг позади нас раздались легкие шаги, и на озаренную луной опушку выпорхнуло нечто, принятое мною за неземное создание. Я набрался смелости и подошел ближе, хотя очень боялся, что смелый образ рассеется, но тут прекрасные уста разверзлись и стали повествовать о двух породистых козах и прелестной канарейке…
Эти слова были встречены взрывом громкого смеха.
– Когда мы стали спускаться с горы, – продолжал Рейнгард, – мой патрон не произнес ни слова, однако некоторые признаки дают мне повод предполагать, что тогда надо мною смеялись не только вы… Когда мы подошли к Линдгофу, во всех окнах уже мелькали огни. Экипаж с нашими вещами успел опередить нас, и, судя по волнению, поднявшемуся в доме, произвел впечатление грома в день Страшного суда. Единственным, кто в этом растревоженном муравейнике сохранил завидное спокойствие, был кандидат Меренг. Он поспешил повязать белый галстук и встретил хозяина на лестнице, приветствуя елейной речью.
– Владычество этого господина теперь кончилось? – спросил лесничий.
– Слава Богу! – ответила мисс Мертенс. – Он скоро совсем оставит Линдгоф. Баронесса устроила ему место проповедника. Он не смог перенести, что из полного властелина превратился в ничто. Да это и понятно. Раньше без его ведома нельзя было и шагу ступить: все без исключения должны были ежедневно записывать свои мысли и впечатления, возникшие у них во время исполнения своих обязанностей.
– Слава Богу, наконец-то появился человек, имеющий достаточную силу и волю, чтобы повелевать разумно, – подтвердил лесничий.
– Да, Господин фон Вальде обладает редкой энергией и нравственной силой, – горячо проговорила мисс Мертенс.
Продолжая разговор, Рейнгард между тем внимательно рассматривал развалины бокового флигеля старого замка, примыкавшего к саду с южной стороны. Это было в высшей степени неправильное здание. Три огромных сводчатых окна высотой около шести футов прорезывали оба этажа. Около него в сад выходило нечто вроде башни, образовавшей глубокий угол. Между стенами вырос гигантский дуб, простиравший свои ветви сквозь ближайшие окна, лишенные стекол, в прохладное помещение, некогда бывшее замковой часовней и рассчитанное на большое количество молящихся, так как оно занимало весь флигель. Против этих окон лежало три таких же. Эти уже меньше подверглись разрушению, и в них сохранились еще остатки цветных стекол. Башня совсем покосилась набок, и, казалось, выжидала удобного момента, чтобы похоронить мощный дуб под своими развалинами. Но, как бы желая скрыть свою немощь, она вся окуталась покровом из темно-зеленого плюща, вьющегося по ней снизу доверху.
– Вскоре после своего переселения, – сказал Фербер, – я старался, насколько это возможно, изучить флигель, так как он заинтересовал меня своеобразным стилем, но я не смог пробраться дальше этой часовни. Да и там далеко небезопасно. Как видите, весь верхний этаж уже обвалился, и потолок часовни каждую минуту может обрушиться. Башня же только в последние недели пришла в такое состояние. Она должна быть снесена, потому что загораживает целую часть сада. Если бы я получил рабочих, то уже сделал бы это.
После этого у Рейнгарда пропал, как он выразился, аппетит к дальнейшему изучению развалин, но он проявил большой интерес к среднему зданию. Фербер, услышав это, пригласил гостей осмотреть квартиру, но прежде всего гости отправились на вал. Фербер пользовался каждой свободной минуткой для украшения своего нового жилища. Он собственноручно починил ступени, ведущие на вал, площадка была усыпана свежим песком, и на ней под тенью развесистых лип красовалась садовая мебель собственного изготовления.
В то время, как все общество стояло на валу, любуясь прекрасным видом, Елизавета рассказала о прабабушке Сабины и о сцене, которая разыгралась, вероятно, на этом самом месте.
– Бр-р-р, – пробормотал Рейнгард. – Благодарю покорно за такой прыжок! Стена так высока, а когда я представляю себе, что там, где теперь находится цветущий ковер, протекала грязная вода, кишащая лягушками и жабами, то совершенно не в состоянии понять подобное решение.
– Иногда, – вступила в разговор мисс Мертенс, – отчаяние заставляет искать еще более ужасной смерти.
В эту минуту Елизавете показалось, что она снова вдруг почувствовала на себе полный страсти взгляд, с которым к ней направлялся Гольфельд. Она вспомнила то чувство отвращения, охватившее ее при прикосновении рук этого человека, и подумала, что вовсе не так трудно представить себе состояние души той незнакомки.
– Что с тобою, дитя? – прервал ее размышления дядя. – Ты, кажется, собираешься слушать, как растет трава?
При звуке голоса и взгляде лесничего жуткое чувство, охватившее девушку, моментально исчезло.
– Нет, дядя, я не собираюсь это делать, хотя и воображаю, что смотрю на природу особенными глазами.
Дядя взял ее за руку, и они последовали за остальными, как раз входившими в дом. Наверху, на лестнице, к мисс Мертенс подбежала Бэлла. В одной руке она держала целую кипу книг, а другой потащила гувернантку в комнату Елизаветы.
– Представьте себе, мисс Мертенс, отсюда виден наш особняк! – воскликнула девочка. Видите ту дорожку? Там только что ехал верхом дядя Рудольф. Он меня узнал и помахал мне рукой. Мама будет довольна, что он больше не сердится на меня.
Мисс Мертенс посоветовала ей и впредь быть такой же послушной, а теперь надеть шляпку и накидку, так как пора идти домой.
Елизавета и Эрнст проводили их до парка.
– Мы слишком долго оставались здесь, – озабоченно заметила гувернантка, прощаясь с Ферберами у калитки, – придется приготовиться к буре.
– Вы думаете, баронесса рассердится из-за вашего долгого отсутствия?
– Без сомнения.
– Ну, ничего, не сожалейте. Мы во всяком случае прекрасно провели время, – весело заметил Рейнгард.
Дети, взявшись за руки, убежали вперед, время от времени исчезая за деревьями и собирая цветы. Гектор, изменив своему хозяину, тоже присоединился к их обществу и весело гонялся за ними, причем не забывал подбежать к Елизавете, «даме своего сердца», как говорил дядя. Вдруг он остановился посреди дороги. Парк был уже близко, сквозь кустарник виднелись зеленые лужайки и слышалось журчание фонтанов. Гектор заметил женскую фигуру, быстро шедшую навстречу нашим путникам.
Елизавета сразу узнала в ней «немую» Берту, хотя ее внешний вид совершенно изменился. Молодая девушка, очевидно, не подозревала, что поблизости находятся люди. Она оживленно размахивала руками, яркая краска покрывала ее лицо, брови были сдвинуты, губы шевелились. Белая шляпа свалилась с головы, едва держась на ленте вокруг шеи – в конце концов она упала. Однако Берта не заметила этого. Она неслась вперед и, только очутившись лицом к лицу с Елизаветой, подняла глаза и отскочила, как ужаленная. Ее глаза загорелись ненавистью, кулаки судорожно сжались, как будто она хотела броситься на молодую девушку. Рейнгард тотчас подскочил к Елизавете и оттащил ее назад. Берта, увидев его, слабо вскрикнула и бросилась в чащу, не обращая внимания на то, что ветки рвали ее платье и царапали лицо. Через несколько минут она исчезла за деревьями.
– Это была Берта из лесничества! – воскликнула мисс Мертенс. – Что с нею случилось?
– Что могло произойти? – повторил Рейнгард. – Эта молодая особа была до крайности возбуждена и пришла в ярость, увидев нас, – обратился он к Елизавете. – Она ваша родственница?
– Собственно говоря, нет, – ответила та. – Она только дальняя родственница жены дяди. Я даже не знакома с нею. Она с самого начала старательно избегает меня, хотя я и очень желала сблизиться с нею. Ясно, что она ненавидит меня, но я совершенно не знаю, за что. Это вроде бы должно огорчать меня, но ее характер мне настолько несимпатичен, что я не придаю значения ее отношению ко мне.
– Да тут уж дело идет не об одном лишь отношении… Эта фурия, кажется, была готова разорвать вас в клочья.
– Я не боюсь ее, – с улыбкой ответила Елизавета.
– Ну, а я все-таки посоветовала бы вам быть осторожнее, – заметила мисс Мертенс. – В этой особе есть что-то демоническое. Откуда она бежала?
– По всей видимости, из особняка, – ответила Елизавета, поднимая шляпу Берты и смахивая с нее сор.
– Не думаю, – возразила мисс Мертенс, – с тех пор, как Берта онемела, она прекратила свои посещения. Раньше она ежедневно приходила в замок, присутствовала на уроках библейской истории и находилась в большой милости у баронессы. Все это вдруг прекратилось, но почему – никому неизвестно. Во время прогулок я только видела Берту, пробиравшуюся по парку с ловкостью змеи. Она так же неприятна мне, как это пресмыкающееся.
Беседующие вышли на усыпанные гравием дорожки парка. Тут гости и хозяева распрощались самым сердечным образом.
– Послушай, Эльза, – сказал Эрнст, когда остальные исчезли за ближайшими клумбами, – кто скорее добежит до того угла?
– Хорошо, – улыбнулась сестра и побежала.
Сначала она не перегоняла мальчика, прилагавшего все усилия, чтобы не отстать от нее, но приближаясь к цели, помчалась, как стрела, чтобы подразнить брата, и вылетела на дорожку. Однако тут она к своему ужасу очутилась как раз возле головы лошади и услышала над собой ее сопение. Гектор; бежавший рядом, поднял громкий лай. Лошадь испуганно отскочила назад и взвилась на дыбы.
– Назад! – послышался властный голос.
Елизавета схватила мальчика, подбежавшего к ней, и отскочила в сторону. Почти в эту же минуту из леса выбежала лошадь и, едва касаясь копытами земли, промчалась мимо. На взбесившемся животном сидел фон Вальде. Животное всеми силами старалось сбросить всадника, но он словно прирос к седлу и только наклонился, чтобы хлыстом отогнать Гектора, который своим громким лаем еще больше пугал коня. Несколько мгновений всадник вертелся на лужайке, затем исчез в чаще.
У Елизаветы от страха стучали зубы: она ни на минуту не сомневалась в том, что должно произойти несчастье. Она взяла братишку за руку и хотела бежать в замок за помощью, но, сделав всего несколько шагов, увидела возвращавшегося всадника. Лошадь немного успокоилась, однако была вся в мыле, и ноги ее дрожали. Фон Вальде ласково похлопывал ее по шее, потом соскочил и, привязав к дереву, отправился к Елизавете.
– Почему вы с такой стремительностью бежали в лес? – спросил он после недолгого молчания.
Лукавая улыбка пробежала по побледневшим губам девушки.
– Меня преследовали.
– Кто?
– Вот он, – и она указала на Эрнста, – мы бежали наперегонки.
– Это ваш брат?
– Да.
Елизавета нежно посмотрела на мальчика и погладила его по голове.
– А она – моя единственная сестра, – серьезно проговорил тот.
– Так. Кажется, ты прекрасно ладишь со своей единственной сестрой?
– О да. Я ее очень люблю. Она играет со мной, совсем как мальчик.
– Правда? – спросил фон Вальде.
– Когда я хочу играть в солдаты, она надевает такую же большую бумажную шляпу, какую делает мне, и барабанит в саду, сколько я хочу, – продолжал Эрнст. – Перед сном она рассказывает сказки и мажет на хлеб гораздо больше масла, чем мама.
Веселая улыбка пробежала по лицу фон Вальде. Елизавета видела ее в первый раз и нашла, что она придавала его чертам особую привлекательность.
– Ты вполне прав, мой мальчик. – Сказал фон Вальде, привлекая к себе Эрнста. – Но разве она никогда не сердится? – спросил он, указывая на Елизавету, которая смеялась, как дитя, потому что ответы брата казались ей чрезвычайно комичными.
– Нет, никогда, – ответил мальчик. – Иногда она делается серьезной и тогда садится за рояль.
– Но, Эрнст…
– Ах, да, Эльза, – горячо перебил ее брат, – помнишь, в Б., когда мы были такие бедные?
– Что ж, ты, пожалуй, и прав, – просто ответила молодая девушка, – но это было недолго, пока папа и мама одни работали, чтобы прокормить нас, потом стало лучше.
– Но вы еще играете на рояле?
– О да, – со смехом ответила Елизавета, – но не в том смысле, как говорит Эрнст, ведь мы теперь обеспечены.
– А вы? – продолжал фон Вальде.
– Я? У меня достаточно мужества, чтобы завоевать себе независимое положение в свете. – В будущем году хочу взять место гувернантки.
– Неужели пример мисс Мертенс не пугает вас?
– Вовсе нет. Я не настолько малодушна, чтобы желать получать деньги даром.
– Да, однако, дело не в одной работе, но и в терпении. Вы горды. Не только выражение вашего лица в данную минуту, но и высказанные вами вчера взгляды доказывают это.
– Возможно, что именно гордостью я ставлю человеческое достоинство выше условностей, изобретенных эгоизмом.
Наступила небольшая пауза, во время которой Эрнст подошел к лошади и стал с интересом ее рассматривать.
– Насколько я мог заключить по вашим вчерашним словам, вы любите свою новую родину, – снова начал фон Вальде.
– Да, очень.
– Это я понимаю. Ведь здесь самая лучшая часть Тюрингии. Но как же вы миритесь с мыслью, что опять должны будете уехать?
– Мне это вовсе не легко, наоборот. Отец всегда учил меня ставить необходимое выше приятного. Но я не понимаю, как можно оставлять приятное, если не заставляет необходимость.
– А, это в мой огород! Вы не можете себе представить, зачем человек добровольно сидит среди раскаленных пирамид, когда может наслаждаться чудесным воздухом Тюрингена.
Елизавета почувствовала, что покраснела до корней волос. Фон Вальде с легкой усмешкой намекал на ее шутливый разговор с дядей, который он невольно подслушал.
– Если бы я стал объяснять вам это, вы все равно меня не поняли бы, так как вы, насколько я мог заметить, чувствуете себя прекрасно в кругу своей семьи, – продолжал он после некоторого молчания, наклонясь вперед и чертя хлыстом по песку. – Но наступает время, когда человека влечет вдаль, где он для того, чтобы заглушить это сознание, он погружается в науку, старается забыть, что дома у него недостает счастья.
Фон Вальде затронул больное место своего сердца. Он глубоко чувствовал, что дома не находит любви, которой жаждал и на которую имел полное право. Эту душевную боль Елизавета поняла раньше, чем познакомилась с фон Вальде, теперь же в ней проснулось непреодолимое желание его утешить. На язык просились необъяснимые сочувственные слова, но какая-то робость удерживала их. Посмотрев на гордый профиль своего собеседника, она подумала, что он забыл, кто сидит с ним рядом, и потом будет сожалеть о том, что позволил ничтожной девушке заглянуть в свою душу. При этой мысли вся кровь прилила к ее щекам. Она быстро встала и позвала Эрнста. Фон Вальде изумленно повернул голову и испытующе взглянул на нее, затем также встал со скамейки.
– Вы обыкновенно очень быстро соображаете, – сказал он, видимо стараясь перейти на более мягкий тон и идя рядом с Елизаветой, которая направилась за Эрнстом, не слышавшим ее зова. – Еще прежде чем успеваешь окончить фразу, видишь, что у вас уже готов ответ. Ваше молчание в данном случае рассказывает мне, что я был прав, предполагая, что вы не поймете меня.
– Понятие о счастье так различно, что я не могу знать действительно…
– Понятие у всех одно, – перебил фон Вальде, – только в вас оно еще дремлет.
– О, нет, – с жаром воскликнула она, забывая свою сдержанность. – Я люблю всех всем сердцем и знаю, что они также любят меня.
– Значит, вы все-таки меня поняли. Ну, а ваши… В свое сердце вы заключили большой круг людей?
– Нет, – рассмеялась Елизавета. – Их очень быстро можно пересчитать: мои родители, дядя, да вот этот человечек, – она взяла подбежавшего Эрнста за руку, – который с каждым годом завоевывает себе все больше и больше места. Теперь мы должны идти домой, мой мальчик, – сказала она брату, а то мама будет беспокоиться.
Она поклонилась фон Вальде. Тот вежливо снял шляпу и подал руку Эрнсту. Затем подошел к лошади, нетерпеливо бившей копытом землю, взял ее за повод и увел.
– Знаешь, Эльза, на кого похож господин фон Вальде? – сказал Эрнст, когда они поднимались в гору.
– Да?
– На Георгия Победоносца, убившего дракона.
– Вот тебе на! – рассмеялась девушка. – Но ведь ты никогда не видел Георгия Победоносца.
– Нет, но мне кажется, что он такой.
У Елизаветы мелькнула подобная же мысль, когда она увидела фон Вальде, скачущим на взбесившейся лошади. В эту минуту она вспомнила ту муку, которую испытала при мысли, что с ним может случиться несчастье, и радость при виде того, что он жив и невредим. Она остановилась и приложила руку к своему сердцу.
– Вот видишь, – заметил Эрнст, – ты опять так бежала в гору, что я не мог за тобой угнаться. Если бы дядя это увидел, то очень бы рассердился.
Елизавета медленно и задумчиво шла в гору, почти не слыша упрека мальчика.
– Эльза, что с тобой? – с нетерпением воскликнул, наконец, он – теперь ты пошла так тихо, что мы и до вечера не доберемся домой.
Он схватил ее за платье и стал тащить. Елизавета пришла в себя и, к удовольствию братишки, пошла быстрее.
Придя домой, она положила шляпу Берты на буфет. Она пока не хотела говорить родителям об этой встрече, потому что вполне справедливо предполагала, что они встревожатся и расскажут об этом дяде, который в последнюю неделю стал опять хмурым и вспыльчивым. Елизавета боялась, что лесничий, узнав об этом, прибегнет к крайним мерам и оттолкнет нарушительницу его домашнего мира. Эрнст не заметил шляпы в руке сестры и не мог выдать ее.
После ужина Елизавета пошла в лесничество, где к своему большому удовольствию узнала, что дядя отправился в Линдгоф. Отдав Сабине шляпу, молодая девушка сообщила ей о странном поведении Берты и спросила, вернулась ли та домой. Сабина была возмущена и расстроена.
– Уверяю вас, деточка, если бы вы были одна, эта девица выцарапала бы вам глаза, – сказала она. – Я совершенно не знаю, что с ней случилось. Она не спит ни одной ночи, все бегает взад и вперед и разговаривает сама с собой. Если бы я только могла собраться с духом и открыть дверь, когда она там беснуется, но я не могу, хоть бы вы меня озолотили. Вы посмеетесь надо мною, я это знаю, но Берта не в своем уме. Посмотрите на ее глаза – они так и горят! Я молчу и ничего не говорю, господин лесничий спит крепко, но я прекрасно знаю, что Берта по ночам убегает, а вместе с нею исчезает и цепная собака. Это единственное существо в доме, которое, кажется, любит ее и никогда не трогает.
– А дядя знает об этом? – поразилась Елизавета.
– Сохрани Бог! Я ничего ему не скажу, а то мне попадет.
– Но, Сабина, ведь ваше молчание может причинить дяде большой вред. Дом лежит так уединенно… Если в доме нет собаки…
– Я стою у окна и жду, пока девочка не вернется и не привяжет собаку.
– Ведь вы приносите большую жертву своим суеверием. Не лучше ли было бы Берту…
– Тише, не так громко, вот она сидит, – и Сабина указала под старую грушу посреди двора.
Елизавета медленно подошла ближе. На скамье сидела Берта и шинковала бобы. Она показалась молодой девушке сильно похудевшей: под глазами лежали темные тени, а между бровями пролегла глубокая складка. Все это придавало ее лицу страдальческое выражение. Елизавета забыла всю враждебность, с которой постоянно относилась к ней Берта и быстро направилась к последней, однако Сабина схватила ее за руку и поспешно прошептала:
– Не ходите, я это не допущу. Она в состоянии пырнуть вас ножом.
– Но она бесконечно несчастна. Мне, может быть, удастся убедить ее в том, что меня привлекает к ней только искреннее сочувствие…
– Нет, нет, вы сейчас увидите, что с нею ничего нельзя поделать.
Сабина спустилась во двор. Берта не подняла на нее глаз.
– Барышня Эльза нашла ее, – сказала Сабина, подавая Берте шляпу, а потом, положив обе руки ей на плечи, ласково добавила: – она хотела бы сказать вам несколько слов.
Берта вскочила, как будто ей нанесли смертельное оскорбление, с гневом стряхнула руки старушки и направила яростный взгляд на то место, где стояла Елизавета – это доказало, что она давно заметила присутствие фройлен Фербер… Бросив нож на стол, она отскочила, причем опрокинула корзину с бобами, разлетевшимися в разные стороны, и побежала в дом. В открытое окно было слышно, как она захлопнула дверь и закрыла задвижку.
Елизавета была совсем ошеломлена и огорчена. Она охотно сблизилась бы с этой несчастной, но теперь убедилась, что придется отказаться от этой затеи.
Елизавета в течение всей недели ходила в Линдгоф. Елена фон Вальде замечательно поправилась с того дня, как они пили кофе, и баронесса принимала сына. Она с особым рвением разучивала несколько музыкальных пьес в четыре руки и под секретом сообщила Елизавете, что в конце августа будет день рождения ее брата. Она готовила сюрприз к этому дню. Он должен был в первый раз после долгого времени снова услышать ее игру, что без сомнения обрадует его.
Елизавета ждала этих уроков с каким-то странным чувством, в котором смешивались радость, страх и неприязнь. Она сама не знала, почему, но замок и парк приобрели для нее особую прелесть. Она даже чувствовала необычайную привязанность к той скамейке, на которой сидела с фон Вальде, и всегда делала маленький крюк, чтобы пройти мимо нее. Но зато страх и неприязнь внушало ей поведение Гольфельда. После того, как она несколько раз уклонилась от встречи с ним в парке, свернув на другую дорожку, он без церемонии явился в комнату Елены и попросил разрешения присутствовать на уроке. К ужасу Елизаветы последняя с радостью согласилась. Он стал спокойно появляться, молча клал несколько свежих цветов на рояль, перед Еленой, вследствие чего та неизменно брала несколько фальшивых аккордов, садился к окну, откуда мог прекрасно видеть играющих, и закрывал глаза рукой, как бы желая всецело уйти от внешнего мира. Однако Елизавета, к величайшей досаде, заметила, что, закрывая лицо, он следил за каждым ее движением.
Елена, очевидно, не подозревала хитрости, с которой Гольфельд шел к намеченной цели. Она часто прерывала игру и оживленно беседовала с ним, принимая его суждения, как изречения оракула.
За несколько минут до окончания урока Гольфельд, обыкновенно, уходил. В первый же раз Елизавета в окно, из которого была видна большая часть парка, заметила, что он ходил взад-вперед по дорожке к лесу, по которой должна была пройти она. Молодая девушка нарушила его расчеты тем, что прошла к мисс Мертенс и просидела у нее больше часа. Гувернантка всегда принимала Елизавету с распростертыми объятиями и та очень привязалась к женщине, так что не могла пройти мимо двери, чтобы не забежать к ней.
Мисс Мертенс была обычно в очень печальном и удрученном состоянии. Она чувствовала, что ее пребывание в Линдгофе становится все более нестерпимым. Баронесса, лишенная теперь власти, скучала до смерти. Перед родными она должна была носить маску довольства, а потому срывала весь свой гнев на гувернантке.
Желая хорошенько проучить и помучить свою жертву, она приказала, чтобы отныне уроки проходили под ее личным наблюдением, в присутствии ученицы беспощадно критиковала методы учительницы, а иногда даже прекращала урок и читала англичанке нотацию. В тех случаях, когда баронесса чувствовала себя недостаточно уверенной, на подмогу приглашался кандидат Меренг. Госпожа Лессен прекрасно знала, что он плохо говорит по-французски, но тем не менее постоянно просила его присутствовать на уроках этого языка, чтобы поправлять выговор гувернантки.
Очень часто мисс Мертенс в слезах говорила Елизавете, что только любовь к матери заставляет ее претерпевать подобные мучения. Старушка жила лишь тем, что посылала ей дочь, а потому потеря места тяжело отразилась бы на ней. Но в каком бы удрученном состоянии ни была англичанка, ее лицо светлело, когда Елизавета просовывала голову в дверь и спрашивала, можно ли войти.
Эти послеобеденные визиты имели еще одну тайную прелесть для Елизаветы, хотя она не созналась бы себе в ней ни за что на свете. Окна комнаты мисс Мертенс выходили в большой двор, который девушка называла «монастырским садом», потому что четыре высоких стены отделяли его от всего внешнего мира. Несколько развесистых лип бросали густую тень на зеленую траву, мощеные дорожки и колодец, стоявший посередине и снабжавший весь двор прекрасной водой. В этот двор открывалась дверь из кабинета фон Вальде, в солнечные дни обыкновенно стоявшая открытый. Иногда появлялся и он сам, и скрестив руки, гулял по дорожкам.
Мисс Мертенс уверяла, что фон Вальде вернулся из путешествия совсем другим. До отъезда у него было лицо, как у статуи, теперь же оно стало гораздо подвижнее. При этом англичанка таинственно добавляла, что он, вероятно, привез с. собою очень приятные воспоминания и что у нее есть тайное предчувствие, будто в скором времени все должно измениться в Линдгофе. Однако мисс Мертенс никогда не замечала, что ее молодая подруга при этих словах всегда хваталась за сердце, в свою очередь, сама не замечая этого.
Фон Вальде очень часто приходилось прерывать свои уединенные прогулки под липами, так как к нему приходили разные люди со своими делами. Это были рабочие, подрядчики, а также бедные и несчастные, причем последние обычно уходили бодрыми и утешенными.
Сегодня Елизавета отправилась в замок на полчаса раньше. Ее отец возвращаясь из лесничества и торопясь к обеду, встретил в лесу мисс Мертенс. У нее было заплаканное лицо, и она не могла говорить, а потому только ответила на его поклон и быстро пошла дальше. Это известие не давало покоя Елизавете, и она была не в состоянии отложить посещение англичанки до конца урока.
На лужайке, примыкавшей к опушке леса, стоял очень красивый павильон, окруженный с трех сторон кустарником. Этот маленький домик до сих пор обыкновенно оставался запертым, но сквозь щели между занавесками Елизавета видела, что он обставлен очень нарядно. Сегодня, выйдя из леса, она сразу же заметила, что дверь павильона открыта. Оттуда вышел лакей с подносом и сделал Елизавете знак подойти. Приблизившись, она узнала Елену, баронессу и Гольфельда, пивших кофе в павильоне.
– Вы сегодня пришли слишком рано, дитя мое, – сказала Елена, когда гостья переступила через порог.
Елизавета ответила, что хотела навестить мисс Мертенс.
– Ах, отложите это, – с живностью воскликнула Елена, тогда как баронесса с чрезвычайно язвительной насмешкой подняла глаза от своей работы. – Сегодня из Лейпцига прислали массу новых нот, – продолжала барышня фон Вальде, – я их немного просмотрела, все чудные вещи. Может быть, мы найдем какую-нибудь выдающуюся пьесу для нашего концерта. Сядьте, мы потом пойдем вместе в замок, – и она, пододвинув Елизавете корзиночку с печеньем, положила прекрасную грушу ей на тарелку.
В эту минуту через порог перескочила собака фон Вальде. Елена устремила взор на дверь и усиленно постаралась придать своему лицу как можно более спокойный и беззаботный вид. Баронесса бросила свою работу, пощупала, достаточно ли горяч кофейник, приготовила чашку и сахарницу и пододвинула к столу стул. Язвительная улыбка ее исчезла, и она приложила все усилия, чтобы придать своей внешности как можно больше достоинства. Гольфельд, увидев собаку, поспешил в сад и несколько минут спустя вошел в павильон вместе с фон Вальде. Тот, по-видимому, возвращался с прогулки, так как его пальто запылилось и круглая войлочная шляпа тоже.
– Мы уже боялись, милый Рудольф, что вовсе не увидим тебя сегодня, – воскликнула Елена, протягивая ему руку.
– У меня оказалось больше дел в Л., чем я предполагал, – ответил он, не садясь на предложенный ему стул, а опускаясь на диван рядом с сестрой, благодаря чему Елизавета, поднимая глаза, была вынуждена смотреть прямо на него. – Впрочем, я вернулся уже полчаса назад, только Рейнгард задержал меня по делу, требующему немедленного решения, поэтому я чуть было не лишился удовольствия пить кофе у тебя, дорогая Елена.
– Противный Рейнгард! – капризно проговорила Елена, – он мог бы и подождать немного – свет от этого не перевернулся бы.
– Ах, милое дитя, – вздохнула баронесса, – это все вещи, которые мы никогда не сможем изменить. Мы всю жизнь должны быть рабами своих подчиненных.
Фон Вальде повернул голову и окинул взглядом всю ее фигуру.
– Почему ты так уставился на меня, милый Рудольф? – не без некоторого смущения спросила она.
– Я только хотел убедиться в том, насколько ты способна к такой роли.
– Всегда насмешка там, где я ищу сочувствия, – возразила баронесса, усиленно стараясь придать своему голосу мягкий печальный тон. – Не каждый обладает, – вздохнула она, – твоим завидным равнодушием. У нас, бедных женщин, существуют нервы, заставляющие вдвойне чувствовать всякое волнение. Если бы ты видел меня сегодня утром, в каком состоянии я была…
– Вот как?
– У меня случились ужасные неприятности. А во всем виновата эта несносная мисс Мертенс.
– Она тебя обидела?
– Какое выражение, милейший Рудольф! Как могла обидеть меня особа ее положения? Она меня страшно разозлила.
– Я вижу, к своему огромному удовольствию, что ты не так-то легко покоряешься своему игу.
– Мне пришлось в последнее время выносить так много от этой ужасной особы, – продолжала баронесса, как бы не замечая слов своего кузена. – Мои материнские обязанности для меня священны, а поэтому я считаю необходимым присутствовать на уроках. К сожалению, я убедилась, что познания мисс Мертенс очень ограничены, а ее взгляды на жизнь вовсе не таковы, какими, по моему пониманию, должна обладать Бэлла. Сегодня утром я слышала, как эта глупая мисс Мертенс говорила ребенку, что благородство души стоит гораздо выше благородства по рождению. Ты, вероятно, согласишься, дорогой Рудольф, что с такими взглядами Бэлла будет играть очень печальную роль при дворе, ведь я забочусь о ней и рассчитываю, что со временем она станет фрейлиной.
– Против этого я ничего не могу возразить.
– Ну, слава Богу, – воскликнула баронесса, облегченно вздыхая, – я немного беспокоилась о том, как ты отнесешься к тому, что я отказала мисс Мертенс, которую ты ценил далеко не по заслугам.
– Я не имею никакого права предписывать тебе что-либо относительно твоих подчиненных, – холодно возразил фон Вальде.
– Но я стараюсь, по возможности, сообразоваться с твоими желаниями, милейший Рудольф, Не могу тебе выразить, как я рада, что мне больше не придется видеть эту противную английскую физиономию.
– Мне очень жаль, но совсем избавиться тебе от нее не удастся: она останется в Линдгофе, так как Рейнгард, мой секретарь, полчаса назад обручился с нею.
Вышивка выпала из рук баронессы. На этот раз не только на щеках ее выступили пятна, но даже лоб весь побагровел.
– Кажется, этот человек лишился рассудка! – вскрикнула она, опомнившись, наконец, от своего оцепенения.
– Не думаю. Ведь он только что доказал обратное, – спокойно ответил фон Вальде.
– Ну, он и здесь проявил любовь к древностям! – с резкой насмешкой высказалась баронесса.
Гольфельд тотчас присоединился к этому смеху. Елена бросила ему томный взгляд. Елизавете показалось, что этот смех, как ножом режет ее сердце.
– Я надеюсь, – снова начала баронесса, – что ты не потребуешь от меня, милейший кузен…
– Что такое?
– Чтобы я все-таки оставалась под одной кровлей с этой особой.
– Заставить тебя, я, конечно, не могу, Амалия, точно так же как не в моей власти запретить своему секретарю жениться.
– Но ты можешь сказать ему, если его выбор делает невозможным пребывание в доме твоих близких.
– Этого я тоже не могу, потому что он состоит у меня на службе пожизненно, и я только что установил пенсию его будущей жене на случай его смерти. Я вполне одобряю выбор Рейнгарда и предоставляю ему квартиру в первом этаже северного флигеля. Он возьмет к себе тещу.
– Ну-с, поздравляю его с таким приобретением!
– воскликнула баронесса. – Позволю себе заметить, что я ни одного дня не желаю видеть у себя эту особу. Пусть она отправляется, куда хочет. Тем более, что жениху и невесте не полагается жить под одной кровлей.
– Если позволите, – обратилась тут Елизавета к Елене, – я попрошу своих родителей поместить невесту у себя. У нас места довольно.
– Ах, пожалуйста, сделайте это, – промолвила Елена, протягивая Елизавете руку.
Баронесса бросила на Елизавету яростный взгляд.
– Значит, дело уладилось ко всеобщему удовольствию, – сказала она, с трудом сохраняя самообладание. – Да, между прочим, – обратилась она к гостье, – я только что вспомнила, что ваш гонорар за уроки уже несколько дней лежит у моей горничной. Постучите к ней мимоходом, она отдаст вам деньги и счет, на котором я попрошу расписаться.
– Амалия, – испуганно воскликнула Елена.
– Я исполню ваше приказание, сударыня – спокойно отозвалась Елизавета.
Она заметила, что при словах баронессы в глазах фон Вальде вспыхнул гневный огонек, но тотчас сменился чрезвычайно насмешливым выражением лица.
– Советую вам не входить так смело на половину баронессы, потому что там – не смейтесь – даже днем бродят нечистые духи, – обратился он к Елизавете. – Не заботьтесь больше об этом деле, мой управляющий его уладит. Он вполне надежен и ведет подобные дела с таким тактом, которому могут позавидовать многие дамы.
Баронесса поспешно свернула работу и встала.
– Будет лучше, если я на остаток дня удалюсь в свою комнату, – обернулась она к Елене, – Иногда случается, что самые невинные поступки истолковываются совсем иначе. Я прошу заранее извинить мое отсутствие за чаем.
Она церемонно поклонилась брату и сестре и, взяв под руку сына, у которого был очень смущенный вид, вышла из павильона.
Елена поднялась со слезами на глазах и хотела последовать за нею, но брат с серьезной нежностью взял ее руку и снова усадил на диван.
– Что же, ты не хочешь посидеть со мной, пока я выпью кофе? – ласково спросил он.
– Нет, хочу, если ты этого желаешь, – нерешительно ответила Елена, – но я попросила бы тебя немного поторопиться, потому что госпожа Фербер пришла на урок, она и без того вынуждена была так долго ждать.
– В таком случае мы можем сейчас идти, но только с условием.
– С каким?
– Чтобы мне было разрешено слушать…
– Нет-нет, этого нельзя, я слишком отстала. Твои уши не перенесут этого ужасного бренчания.
– Бедный Эмиль! Он, вероятно, не подозревает, что разрешением слушать вашу музыку обязан своему «музыкальному» слуху!
Елена покраснела до корней волос. Она до сих пор не говорила брату о визитах Гольфельда и думала, что это ему безразлично. Оказывается, однако, что нет. У нее было такое чувство, как будто ее поймали на месте преступления. Елизавета чувствовала, что происходило с Еленой, и, смутившись вместе с нею, также покраснела. В эту минуту фон Вальде повернулся к девушке, и пронизывающий взгляд скользнул по ее лицу. Между бровями у него появилась хмурая складка.
– А что, во время этих так называемых уроков госпожа Фербер играет свои фантазии? – спросил он.
– О, нет, – Елена обрадовалась, что может овладеть собой. – Тогда я не говорила бы о бренчании. Я допустила Эмиля только потому, что, по моему мнению, нужно развивать просыпающуюся любовь к музыке, где возможно.
Слабая усмешка пробежала по лицу фон Вальде, но хмурая складка между бровями не сглаживалась; взгляд оставался мрачным, когда он снова взглянул на Елизавету.
– Ты права, Елена, – наконец, холодно проговорил он. – Но только какая притягательная сила, производящая такие чудеса, заложена в этих уроках… Еще недавно Эмиль предпочитал лай своей Дианы любой бетховенской сонате.
Елена молча потупила глаза.
– Мне только что пришла в голову опять эта несчастная мисс Мертенс, – вдруг произнес ее брат совершенно другим тоном. – Я думаю, было бы самое лучшее, если бы фрейлейн Фербер теперь же уладила это дело.
– Конечно, – ответила Елена, радостно хватаясь за эту мысль, давшую разговору другое направление. – Мы отменим сегодня урок, – обратилась она к Елизавете, – чтобы вы, милое дитя, могли сейчас же предпринять необходимое. Идите к своим родителям и попросите их от моего имени приютить бедную мисс.
Елизавета встала. Одновременно с нею поднялась и Елена. Ее брат, заметив, что она собирается покинуть павильон, взял ее на руки, как пушинку и посадил в кресло, стоявшее у двери, затем заботливо укрыл ее ноги, подложил под спину подушку и, раскланявшись с Елизаветой, покатил кресло к замку.
«Она заполняет все его сердце, – думала Елизавета, поднимаясь в гору. – Мисс Мертенс ошибается, предполагая, что он может поставить какое-либо женское существо наравне со своей сестрой. Он ревнует ее к своему кузену и, к сожалению, имеет для этого полное основание. Как только возможно, что именно Гольфельд приобрел столь большое значение в глазах Елены».
Ей снова пришло в голову, что фон Вальде как-то особенно взглянул на нее, когда речь зашла о Гольфельде. Быть может, он считает ее поверенной своей сестры и перенес гнев на нее, горячо желавшую, чтобы так внезапно появившаяся любовь этого господина к его владычице как можно скорее остыла.
Но этого она никому не могла сказать, даже самому фон Вальде, а потому ей оставалось только сердиться на себя за то, что она совершенно некстати и без всякой причины сильно покраснела в тот момент.
Глава 12
Родители сразу же согласились на просьбу Елизаветы, и она немедленно направилась в особняк, чтобы пригласить мисс Мертенс. Когда девушка вошла в комнату англичанки, та стояла у стены, а у ее ног находилась наполовину уложенная корзина. Шкафы и комоды были открыты, повсюду лежали платья, белье и книги. Елизавета поспешно подошла к гувернантке, заключила ее в свои объятия, и та подняла залитое слезами лицо.
– Я так поражена внезапной переменой в своей судьбе, – сказала она после того, как молодая девушка сердечно поздравила ее, – что должна по временам закрывать глаза, чтобы собраться с мыслями. Сегодня утром все вокруг было так мрачно, и я буквально не знала, куда направить свои стопы, земля уходила у меня из-под ног. И вдруг передо мною открылась новая перспектива. Человек, которого я глубоко уважаю и о склонности которого к бедной гувернантке я и не подозревала, согласен быть моим верным жизненным спутником. Кроме того, исполняется мое заветное желание: я могу сама холить и нежить свою старую матушку.
Далее англичанка рассказала Елизавете, что через несколько недель Рейнгард сам поедет в Англию, чтобы привезти ее мать, его патрон настаивает на этом и берет на себя дорожные издержки. Всякий раз, как англичанка начинала говорить о фон Вальде, у нее на глазах появлялись слезы, и она то и дело повторяла, что все, что сделала ей худого баронесса, в тысячу раз заглажено им, так как фон Вальде не терпит, чтобы в его доме совершалась какая-нибудь несправедливость.
Приглашение Елизаветы привело мисс Мертенс в восторг. Она на первых порах собиралась отправиться в маленькую линдгофскую гостиницу, а потом подыскать себе жилье в деревне.
– Теперь мы как можно скорее отправимся на гору, – воскликнула она, сияя от радости, – баронесса только что прислала мне жалованье и просила ни в коем случае не беспокоить ее. Бэлла прошла через мою комнату, даже не удостоив меня взглядом. Это было так больно, потому что я охраняла ее, как зеницу ока.
Девочка раньше была очень болезненной, и, пока мать веселилась на балах, я просиживала над нею целые ночи… Ну, да теперь все это должно быть забыто.
Мисс Мертенс пошла проститься с Еленой и с некоторыми другими обитателями замка, к кому она здесь успела привязаться, а Елизавета занялась укладкой книг. Новая обитательница Гнадека брала с собой самые необходимые вещи, все остальное отсылалось в дом будущей супружеской четы.
Укладка книг англичанки доставила Елизавете большое удовольствие: это все были сочинения, очень заинтересовавшие ее. Девушка не довольствовалась тем, что читала заглавия, но, стоя, торопливо глотала целые страницы. Мисс Мертенс, переезд – все исчезло, ее мысли были поглощены мощной фигурой Иосифа Второго в произведении Гете.
Вдруг на книгу упала свежая роза. Елизавета сначала испугалась от неожиданности, потом улыбнулась и продолжала читать, сбросив цветок и решив, что мисс Мертенс, видимо, стоявшая сзади, не должна торжествовать. Но внезапно девушка слегка вскрикнула: из-за ее спины показалась красивая белая мужская рука. Елизавета мгновенно обернулась: позади нее стояла не англичанка, а Гольфельд, который, улыбаясь, протягивал к ней руки, словно желая схватить ее.
Испуг Елизаветы тотчас превратился в негодование и гнев, но она не успела произнести ни слова, как позади нее раздался повелительный резкий возглас:
– Эмиль, тебя ищут по всему дому. Твой управляющий желает сообщить тебе что-то важное.
Около Елизаветы находилось открытое окно и в нем, опершись руками на подоконник, стоял фон Вальде и смотрел в комнату.
Это он произнес слова, которые немедленно заставили Гольфельда ретироваться. Какое хмурое выражение лежало в эту минуту на лице фон Вальде и в его сверкающих глазах, которые он еще несколько мгновений не сводил с двери, за которой исчез Гольфельд. Наконец, его взор снова упал на Елизавету, неподвижно стоявшую на своем месте, но теперь сделавшую движение, чтобы отойти от окна.
– Что вы тут делаете? – резко спросил он. Девушка почувствовала себя глубоко оскорбленной подобным тоном и уже собиралась дать такой же резкий ответ, но сообразила, что находится в его доме и спокойно ответила:
– Я убираю книги мисс Мертенс.
– Вы хотели сказать что-то другое. Я немедленно хочу знать, что именно.
– Я хотела сказать, что не отвечала бы на вопросы, заданные таким тоном, но затем вспомнила, что здесь вы имеете право повелевать.
– Прекрасно, что вы признаете это, потому что еще раз хочу воспользоваться этим правом. Наступите на розу, которая лежит у ваших ног.
– Этого я не сделаю, потому что она ни в чем не виновата.
Молодая девушка подняла розу и положила ее на подоконник, однако фон Вальде схватил цветок и, швырнув его на траву, насмешливо проговорил:
– Там эта роза умрет поэтической смертью, степные травы закроют ее, а вечерняя роса прольет на несчастную жертву несколько слезинок.
Его лицо немного прояснилось, но глаза имели все то же инквизиторское выражение, и тон не особенно смягчился, когда он спросил:
– Что вы читали, когда я имел несчастье потревожить вас?
– Гете, «Правда и вымысел».
– Вы уже читали эту книгу?
– Только выдержки.
– Как вам нравится трогательная история Гретхен?
– Я ее не знаю.
– Да ведь вы держите ее открытой в руках.
– Нет, я читала о коронации Иосифа II во Франкфурте.
– Покажите!
Елизавета протянула фон Вальде открытую книгу.
– Действительно. Но посмотрите, какое безобразное зеленое пятно на этой странице. Вы, наверное, слишком нежно прижали к ней розу. Этого мисс Мертенс, Гете и император не простят вам.
– Это пятно старинное, я до розы и не дотрагивалась.
– Но вы улыбнулись при виде ее!
– Да, но я думала, что ее бросила мисс Мартенс.
– Боже, какая трогательная дружба! И вам пришлось разочароваться, когда вы вместо лица вашей подруги увидели красивое лицо моего кузена?
– Да.
– Как странно звучит это «да». Я люблю лаконичные ответы, но лишь тогда, когда они не оставляют во мне сомнения. Как следует понимать это «да»? Оно звучит в одно и то же время и сладко, и горько, и к тому же выражение вашего лица… Почему у вас между бровями появилась суровая черта?
– Потому что я думаю, что всякое право имеет свои границы.
– Я вовсе не знал, что в настоящую минуту пользуюсь своим правом.
– Это станет вам ясно, как только вы зададите себе вопрос: обращались бы вы со мной так грубо в доме моего отца?
Фон Вальде сильно побледнел, крепко сжал губы и отступил на шаг. Елизавета взяла книгу, положенную им на подоконник, и подошла к шкафу, чтобы запереть его.
– При подобных обстоятельствах я и в доме вашего отца говорил бы с вами точно так же, – после минутного молчания ответил он немного спокойнее и снова приблизился к окну.
– Вы своими неопределенными ответами раздражали меня. Как мог я из одного слова понять, приятно или неприятно было ваше разочарование? Итак, что же вы скажете.
Он перегнулся через подоконник в комнату и стал пристально смотреть ей в лицо, словно думал прочитать па нем ответ, но она с досадой отвернулась. Ужасно! Неужели можно было подумать, что Гольфельд приятен ей? Разве ее лицо и все существо не выражало ясно отвращение к этому ненавистному человеку?
В эту минуту в комнату вошла мисс Мертенс. Она закончила все дела и зашла за подругой, чтобы вместе пойти на гору. Елизавета легко вздохнула и пошла ей навстречу, между тем, как фон Вальде, отойдя от окна, несколько раз прошелся взад и вперед. Когда он опять приблизился, мисс Мертенс низко поклонилась и направилась к нему. Она сказала, что уже несколько раз приходила к нему сегодня, но все не заставала его и что она очень рада поблагодарить его за доброту и заботу.
Он движением руки остановил поток благодарностей и пожелал ей счастья в супружестве.
Он говорил сдержанно, спокойно. Как бы по волшебству весь вид его преобразился, и он снова был окружен сиянием величия и неприступности, так что Елизавета, глядя на него, недоумевала, как у нее могла явиться смелость делать замечания насчет вежливости этому человеку. Его глаза, так недавно горевшие страстью, теперь серьезно смотрели на мисс Мертенс, низкий голос сделался мягким и обаятельным; нельзя было и предположить, что несколько минут тому назад он резко и язвительно насмехался, и в каждом его слове слышалось раздражение и желание уколоть и отомстить.
Фон Вальде был сегодня озлоблен на своего кузена, как это заметила Елизавета. Но чем же была виновата она, что этот ненавистный человек попался ему на глаза?
Разве она не была достаточно оскорблена назойливостью Гольфельда? За что же она должна была сделаться жертвою гнева, который по справедливости заслуживала только одна Елена?
Она почувствовала острую боль при одном воспоминании о том, с какой нежностью и всепрощением фон Вальде поднял на руки свою сестру. Ни одним взглядом не упрекнул он ее за посещение Гольфельда… Она же, бедная учительница музыки, по необходимости переносившая его присутствие, сделалась громоотводом для хозяйского неудовольствия. Или, может быть, он видел, как Гольфельд бросил ей на книгу розу, и его аристократическая гордость оскорбилась тем, что его высокородный кузен ухаживает за простой незнатной девушкой?
Эта мысль, подобно молнии, озарила Елизавету.
Да, это наверняка так, иначе чем же объяснить его поведение? Он требовал, чтобы она растоптала цветок и, таким образом, уничтожила бы доказательство того, что фон Гольфельд был способен хотя бы на минуту забыть о своем высоком происхождении.
Вот почему он заговорил с нею таким грубым высокомерным тоном, таким он, по всей вероятности, обращался только к провинившимся перед ним людям. И по этой же причине он хотел знать, какое впечатление произвело на нее внезапное появление Гольфельда.
В эту минуту она охотно подошла бы к фон Вальде и откровенно объяснила, как ей противен его высокородный кузен, и что она нисколько не чувствует себя польщенной его вниманием, а напротив – считает его оскорблением для себя.
Но теперь уже поздно. Фон Вальде так спокойно и любезно разговаривает с мисс Мертенс о предстоящей поездке Рейнгарда в Англию, что казалось бы смешным возобновлять прежний неприятный разговор. К тому же он не удостаивал ее больше ни одним взглядом, несмотря на то, что она стояла рядом с мисс Мертенс.
– Я думаю сам поехать с ним в Англию, – заключил он. – Рейнгард возвратится сюда с вашей матушкой, а я намерен поручить его надзору Линдгоф, сам же проведу зиму в Лондоне. Весной отправлюсь в Шотландию…
– И целые длинные годы не вернетесь сюда? – прервала его мисс Мертенс с испугом и огорчением. – Неужели Тюринген не имеет для вас никакой притягательной силы?
– Напротив, но я страдаю здесь, а вам, думаю, известно, что смелая операция иногда быстро и успешно излечивает рану, между тем как при медленном и нерешительном лечении она может сделаться опасной. Я полагаю, что шотландский воздух будет очень полезен для меня.
Последним словам он постарался придать шутливый тон, но глубокая морщина на лбу обозначалась все резче и позволяла Елизавете сомневаться в его веселом настроении.
Он поклонился англичанке, затем медленно пошел по дорожке и вскоре исчез за клумбами.
– Вот тебе раз! – печально произнесла англичанка. – Вместо того, чтобы, как я надеялась, привезти к нам в Линдгоф молодую хозяйку, он опять отправится скитаться и будет пропадать годами. Впрочем, если принять во внимание здешние условия, это вполне понятно. Баронессу фон Лессен он терпеть не может, а между тем постоянно вынужден видеть ее у себя ввиду заявления Елены о том, что она только в обществе баронессы забывает всю безотрадность своего существования. К своему кузену он также не питает симпатии, ну, да по моему мнению, фон Гольфельд – ужасный человек, и я хорошо понимаю переживания брата за Елену, которая отдала тому свое сердце.
– Значит, вам тоже известно это? – спросила Елизавета.
– Ах, деточка, это давно знают все. Елена любит Гольфельда так глубоко и с таким самопожертвованием, как только может любить женщина, но это чувство, которым она только и живет, причинит ей когда-нибудь жесточайшее разочарование. Господин фон Вальде видит это, но не хочет открывать сестре глаза, чтобы не причинить ей смертельной боли.
После этого разговора Елизавета и мисс Мертенс вышли из особняка и стали подниматься по дороге в гору, где вскоре встретили Рейнгарда, возвращавшегося из деревни. Англичанка передала ему слова фон Вальде относительно путешествия в Англию.
– Он мне еще ничего не говорил об этом, – ответил Рейнгард, – но вид у него был такой, словно он хочет уехать из Линдгофа хоть сейчас. Еще бы: хозяин дома, а должен изображать пятую спицу в колеснице! Если бы я был на его месте, то показал бы им. Кажется, слава Богу, господин Гольфельд уехал на несколько дней в Оденбург. Управляющий привез известие, что его ключница внезапно ушла с места. Да ни одна и не останется – он слишком скуп.
Все дошли до замка. Гостья была встречена с радостью и распростертыми объятиями. Ферберы приложили все усилия, чтобы ей было у них уютно. Все было прибрано, повсюду лежали салфетки, на письменном столе тикали часы, на окне красовались цветы:
Пока мисс Мертенс раскладывала свои вещи, Елизавета занялась приготовлением чая. Тем временем подошел и дядя с Гектором и трубкой, Рейнгард тоже остался, так что собралось целое общество. Лесничий был в очень хорошем настроении, Елизавета сидела около него. Она прилагала все усилия, чтобы отвечать на его шутки, но ей это плохо удавалось. Дядя очень быстро заметил это и воскликнул:
– Эге, Эльза, да что с тобою? Тут что-то неладно! – Он взял ее за подбородок и заглянул в глаза. – Ну, конечно, глаза совсем не такие. Ну надо же, что означает это печальное лицо монашенки?
Елизавета покраснела до корней волос, постаралась отделаться шуткой, и села за рояль, за которым дядя никогда не трогал ее.
Как благотворно подействовало на ее сжимавшееся сердце то, что она могла излиться в мощных аккордах! Оно говорило теперь сильным, могучим голосом. С души девушки как бы спала пелена, окутывавшая ее до сих пор, она с радостью и бесконечной мукой поняла, что любит…
Сколько времени она играла, Елизавета не знала. Но пришла в себя только тогда, когда из дверей на бюст Бетховена упала яркая полоса света. Мать зажгла большую лампу и дочь увидела, что дядя сидит возле нее на окне. Он, вероятно, подошел совсем тихо.
Когда она сняла руки с клавишей, он осторожно провел рукой по ее волосам и произнес растроганным голосом:
– Видишь ли, дитя, если бы я уже раньше не видел, что с тобою творится что-то особенное, то узнал бы это теперь из твоей игры.
Глава 13
После того, как мисс Мертенс поселилась в старом замке, семейная жизнь Ферберов приняла еще более уютный характер. Гувернантка чувствовала себя после долгих мучений у баронессы снова, как дома и была окружена лаской. Чтобы отплатить чем-нибудь за это, она старалась быть полезной где только могла. Главным образом, занималась с маленьким Эрнстом, который под ее руководством должен был учиться английскому и французскому языкам. Елизавета решила как можно лучше использовать время пребывания приятной гостьи и усердно занималась. Кроме того, это помогало ей справиться со своими мыслями.
Уроки с Еленой фон Вальде между тем шли своим чередом. Гольфельд пробыл в Оденбурге только один день, приходил по-прежнему слушать музыку и прилагал все старания, чтобы остаться с Елизаветой наедине. Он уже несколько раз придумывал разные предлоги, под которыми Елена должна была выйти в другую комнату, однако эти хитрости не достигали цели, так как Елизавета тотчас же вставала и уходила. О встречах по пути домой тоже нечего было думать, так как Эрнст и мисс Мертенс аккуратно выходили навстречу молодой девушке. Из-за всего этого посещения замка становились все более тягостными для Елизаветы, и она благодарила Бога, что скоро наступит день предполагаемого празднества, так как после него ежедневные уроки можно было прекратить.
Накануне дня рождения фон Вальде, Рейнгард, придя в замок, рассказал, что у баронессы появилась новая гостья.
– Только этой непоседы нам еще недоставало, – с досадой проговорил он.
– Кто же это? – в один голос спросили госпожа Фербер и мисс Мертенс.
– Ах, одна так называемая подруга Елены фон Вальде – придворная фрейлина из Л. Она хочет помочь в устройстве праздника. Вот несчастье-то! Она все перевернет вверх дном!
– А, это фон Киттельсдорф, – со смехом воскликнула его невеста, – у нее и правда вместо крови течет в жилах ртуть. Она очень легкомысленна, но, в общем, безвредна.
Позже Елизавета пошла в Линдгоф вместе с Рейнгардом. Когда они оказались возле замка, к подъезду как раз подвели верховую лошадь фон Вальде и вслед за тем из двери вышел он сам с хлыстом в руках. Елизавета не видела его с того дня, когда он так резко говорил с нею, и он показался ей очень бледным и мрачным.
В то время, как он садился на лошадь, на лестнице показалась молодая особа в белом платье. Она была очень красива. Грациозно сбежав с лестницы, она похлопала лошадь по шее, после чего дала ей сахар.
Елена фон Вальде, также вышедшая на лестницу под руку с Гольфельдом, сделала рукой прощальный жест.
– Эта молодая особа и есть госпожа Киттельсдорф? – спросила Елизавета.
Рейнгард молча кивнул головой.
– Она мне очень нравится, – произнесла девушка. Господин фон Вальде, кажется, охотно беседует с нею, – добавила она.
Всадник в эту минуту наклонился и, казалось, внимательно слушал болтовню барышни.
– Потому что он не хочет быть резким, – ответил Рейнгард. – Она несет всякую ерунду и готова схватить лошадь под уздцы, если он не выслушает ее до конца.
Между тем они вошли в вестибюль. Елизавета распрощалась с Рейнгардом и отправилась в музыкальную комнату, куда скоро явились и Елена с Гольфельдом. Первая пошла в другую комнату, чтобы поправить прическу. Гольфельд воспользовался этим моментом, и, подойдя к Елизавете, стоявшей у рояля и перелистывавшей ноты, прошептал:
– Нам тогда ужасно помешали.
– «Нам»? – серьезно и с ударением проговорила она, отступая назад – Я была очень возмущена, что мне помешали читать.
– С головы до ног графиня! – шутливо воскликнул он. – Впрочем, я вовсе не хотел обидеть вас, а даже наоборот! Разве вы не знаете, что говорит роза?
– Конечно, она, вероятно, сказала бы, что ей несравненно лучше было бы умереть на месте, чем быть сорванной совершенно зря.
– Жестокая! Вы холодны, как мрамор. Неужели вы не знаете, что привлекает меня ежедневно сюда?
– Без сомнения, преклонение перед нашими великими композиторами.
– Вы ошибаетесь.
– Во всяком случае, для вашего блага.
– О нет, музыка является для меня мостом…
– С которого вы легко можете упасть в холодную воду.
– И вы спокойно дали бы мне утонуть?
– Можете быть уверены. Я не настолько честолюбива, чтобы стремиться получить медаль за спасение утопающих, – сухо ответила Елизавета.
В эту минуту вошла Елена. Она была очень удивлена, застав их беседующими, так как до сих пор они не обменивались в ее присутствии ни одним словом. Она подозрительно взглянула на Гольфельда. Тому не удалось скрыть следы сильной досады, и он ушел за рояль. Елизавета горячо раскаивалась, что вступила с ним в разговор, и решила лучше отказаться от уроков, чем выносить навязчивость этого господина.
Занятия близились к концу, когда в комнату вошла Киттельсдорф. Она держала в руках какое-то существо в белом платьице, нежно прижимая его голову к своему плечу.
– Госпожа обер-гофмейстрина фон Фалькенберг шлет горячий привет, – церемонно проговорила она, – и очень расстроена, что из-за своей подагры не может прибыть на торжество, но имеет честь послать вместо себя свою нежно любимую внучку.
В эту минуту маленькое существо, бывшее у нее на руках, сделало отчаянное движение, с громким визгом соскочило на пол и исчезло под стулом.
– Господи, Корнелия, какой ты еще ребенок! – со смехом и досадой проговорила Елена, когда испуганная мордочка Али, окутанная чепчиком, выглянула из-под стула. – Если бы только это знала добрейшая Фалькенберг, твои дни при дворе, вероятно, были бы сочтены.
Бэлла, которая тоже вошла в комнату, чуть не умерла от смеха и немножко успокоилась только тогда, когда появилась баронесса, привлеченная необычайным шумом.
Елена объяснила причину смеха, баронесса шутливо погрозила его виновнице пальцем, а затем подошла к Елизавете и довольно милостиво произнесла:
– Госпожа фон Вальде, вероятно, еще не сообщила вам, что все приглашенные соберутся завтра к четырем часам. Прошу вас быть аккуратной. Концерт, скорее всего, окончится в шесть. Говорю вам это для того, чтобы вас не ждали дома раньше.
Елена при этих словах смущенно опустила взор на клавиши, тогда как Корнелия, став рядом с баронессой, с любопытством рассматривала Елизавету. Последняя почувствовала себя уязвленной подобной бесцеремонностью и, поклонившись баронессе, сказала, что не опоздает. Затем серьезно взглянула на молодую фрейлину. Это возымело свое действие. Киттельсдорф отвернулась и стала вертеться на одной ноге, как избалованный ребенок. В эту минуту она заметила в оконной нише Гольфельда.
– Как, Гольфельд? – изумилась она. – Это вы или ваш дух? Что вы тут делаете?
– Слушаю музыку, как видите.
– Вы слушаете? Ха-ха-ха! Такие неудобоваримые вещи, как произведения Моцарта, Бетховена? Не вы ли уверяли некоторое время тому назад, что на придворном концерте после классической музыки всегда страдаете несварением желудка? – и она покатилась со смеху.
– Ах, оставьте теперь все эти глупости, милая Корнелия, – попросила ее баронесса, – и помогите мне в составлении программы торжества. Ты, Эмиль, также доставил бы мне удовольствие, если бы пошел со мной.
Гольфельд поднялся с видимым нежеланием.
– Возьмите и меня с собой. Неужели вы можете быть такими жестокими и оставите меня на весь день одну? – с упреком воскликнула Елена, вставая.
У нее был очень недовольный вид, и Елизавете показалось, что она с завистью смотрит на проворные ножки Корнелии, которая, подхватив Гольфельда под руку, выпорхнула из комнаты. Елизавета закрыла рояль, поскольку была поспешно отпущена.
В коридорах замка, по которым ей пришлось проходить, царило большое оживление, всюду лежали груды гирлянд и венков. Елизавета направилась в деревню, чтобы исполнить поручение отца. Бушевавшая несколько дней назад буря привела покосившуюся башню в саду в такой вид, что можно было ожидать ее падения от малейшего сотрясения. Боялись и того, что она может засыпать своими развалинами только что с таким трудом возделанный сад. Два каменщика из Линдгофа обещали Ферберу снести башню на следующей неделе, но так как на их слова нельзя было полагаться, то Елизавета должна была еще раз напомнить им об обещании.
Результат этого путешествия был утешительным. Один из рабочих поклялся, что приедет, и Елизавета отправилась домой. На середине дороги, ведущей из Линдгофа в лесничество, она заметила узкую тропинку, ведущую к замку Гнадек. Ходили по ней очень мало, но Елизавета любила ее. Еще ни разу она не встретила никого на этой тропинке. Сегодня же, не успела она углубиться в чащу, как увидела в двадцати шагах от себя у ствола огромного дуба чью-то вытянутую руку. Девушка неслышно пошла дальше, но вдруг остановилась.
Возле большого дуба стоял какой-то человек, спиной к ней; он был без шляпы, а на голове виднелась грива лохматых волос. Несколько мгновений он не двигался, как бы прислушиваясь к какому-то звуку, потом сделал шаг вперед, протянул вооруженную револьвером руку по направлению к опушке и снова опустил ее.
«Он упражняется в стрельбе», – подумала Елизавета, но вместе с тем ею овладел необъяснимый страх.
Она не знала, бежать ли ей вперед или назад, чтобы не быть замеченной, и стояла, как вкопанная, не будучи в состоянии двинуться ни вперед, ни назад.
В эту минуту издали донесся конский топот. Незнакомец насторожился. Внезапно между деревьями промелькнул всадник. Лошадь медленно шла по мягкой траве, седок, погрузившись в свои мысли, отпустил поводья. Человек с револьвером быстро сделал два шага вперед и поднял руку по направлению к всаднику, причем немного повернул лицо. Елизавета тотчас узнала в бледных, искаженных ненавистью чертах его бывшего управляющего Линке, а тот, на кого он направлял свое смертоносное оружие, был фон Вальде. Елизавета, не помня себя, быстро бросилась вперед, а Линке, поглощенный своей жертвой, ничего не заметил. Молодая девушка из всех сил вцепилась в его руку и дернула ее назад. Раздался выстрел, пуля со свистом врезалась в дерево, а Линке от неожиданности полетел на землю. В ту же минуту из лесу донесся женский крик о помощи… Преступник вскочил и бросился в чащу. Испуганная лошадь поднялась на дыбы, но тотчас покорилась воле своего седока и помчалась к Елизавете. Девушка, бледная, как полотно, прислонившись к дереву, дрожала с головы до нот, но когда увидела, что фон Вальде жив и невредим, то радостно улыбнулась.
Последний, заметив Елизавету, поспешно соскочил на землю. Девушка, только что проявившая столько самообладания, вдруг громко вскрикнула и в ужасе обернулась, так как сзади на ее плечи опустились две руки. Это была мисс Мертенс, сама напуганная и бледная.
– Господи помилуй, Елизавета! – крикнула, едва переводя дух, англичанка. – Что вы сделали? Ведь он мог вас убить!
Фон Вальде прорвался в эту минуту сквозь густой кустарник, отделявший его от женщин и порывисто спросил:
– Вы не ранены?
Елизавета отрицательно покачала головой. Не говоря больше ни слова, он взял ее на руки и усадил на лежавший на земле ствол дерева. Мисс Мертенс положила ее голову к себе на плечо.
– Теперь расскажите мне, что произошло, – обратился он к англичанке.
– Нет-нет, не здесь! – со страхом попросила Елизавета. – Преступник убежал, пойдемте. Он скрывается, возможно, за ближайшим кустом и готовится исполнить свое намерение.
– Линке хотел убить вас, – дрожащим голосом произнесла мисс Мертенс, обращаясь к фон Вальде.
– Негодяй! Этот выстрел, значит, предназначался мне, – спокойно произнес он и молча углубился в чащу в том направлении, куда скрылся преступник. Елизавета, увидев это, вся затряслась и была готова броситься за ним, но он снова показался из-за кустов.
– Вы можете быть спокойны, – обратился он к молодой девушке, – его нигде нет. Сегодня он, наверное, не станет стрелять вторично, теперь расскажите мне все, мисс Мертенс.
Англичанка рассказала следующее. Она знала, что Елизавета пойдет сегодня в деревню и отправилась ей навстречу по узкой тропинке. Медленно спускаясь с горы, она сделала то же открытие, что и молодая хозяйка Гнадека. Намерение негодяя стало ясным для нее, но она в первую минуту так растерялась, что не могла двинуться с места и стояла в полном оцепенении. В этот момент позади преступника показалась Елизавета, которой она раньше не заметила. Испугавшись за молодую девушку, она вскрикнула, и этот-то крик раздался одновременно с выстрелом.
– И откуда вы набрались храбрости схватить этого человека? – закончила англичанка. – Я, к примеру, только закричала бы, но не решилась дотронуться до него.
– Если бы я закричала, – просто ответила Елизавета, – непроизвольное движение Линке как раз и могло бы принести несчастье.
Фон Вальде с большим вниманием и спокойствием выслушал весь рассказ, затем наклонился к руке Елизаветы и поцеловал ее.
Мисс Мертенс, заметив, что эта благодарность совершенно смутила Елизавету и заставила ее очень покраснеть, встала со своего места, подняла лежавший на земле револьвер и подала его фон Вальде.
– Какая гадость! – пробормотал он. – Негодяй к тому же воспользовался оружием, принадлежавшим мне.
Елизавета поднялась и на заботливые вопросы англичанки ответила, что она совсем оправилась от испуга и может идти домой. Обе женщины хотели распрощаться с фон Вальде, но тот крепко привязал свою лошадь к роковому дубу и сказал шутливым тоном:
– У Линке, как мы сегодня убедились, очень мстительная натура. Весьма возможно, что он ненавидит теперь мою спасительницу больше, чем меня самого, и я не могу допустить, чтобы вы шли домой без охраны.
Они стали подниматься в гору. Мисс Мертенс быстро пошла вперед, чтобы заставить и фон Вальде поторопиться, так как следовало принять меры для задержания преступника. Однако ее старания были напрасны. Он шел молча и медленно около Елизаветы, которая после продолжительного колебания робко попросила не возвращаться за лошадью, а послать за нею.
Он улыбнулся.
– Мой Велизар очень упрям, вы ведь это знаете, и пойдет только со мною. Но тот трус, без сомнения, не решится вторично напасть на меня, ну, а если бы… Так ведь я застрахован – сегодня для меня взошла счастливая звезда. – Он остановился, и вдруг спросил, понижая голос: – Как вы думаете, смею ли я мечтать, что она будет светить мне всю жизнь?
– Я вас не понимаю, – с изумлением произнесла Елизавета.
– Ну, да, это вполне естественно, – с горечью проговорил он, – ваши желания и мысли имеют совершенно другое направление. Нет-нет, не говорите мне ничего…
Фон Вальде ускорил шаги и присоединился к мисс Мертенс. Елизавета молча следовала за ними и ломала себе голову над вопросом, почему фон Вальде снова принял тот резкий тон, который так оскорблял ее.
Фон Вальде не произнес больше ни слова. Когда же показались старые стены Гнадека, он сухо распрощался и быстро пошел обратно под гору.
Мисс Мертенс с изумлением посмотрела ему вслед.
– Странный человек, – сказала она, с недоумением покачав головой, – если он даже ни в грош не ставит свою жизнь, в чем я только что убедилась, то все же не мешало бы сказать хоть слово благодарности за то, что вы ради него подвергли опасности себя.
– Я вовсе не вижу в этом необходимости, – ответила Елизавета, – да и вы вообще придаете слишком большое значение моему поступку. Ведь я только исполнила свой долг по отношению к ближнему и поступила бы точно так же, если бы, наоборот, опасность угрожала Линке. Я очень хотела бы, чтобы господин фон Вальде взглянул на это дело с подобной точки зрения, так как при его гордости мысль о том, что он кому-нибудь обязан, будет для него очень тягостна.
В эту минуту в душе Елизаветы шла сильная борьба между страхом за фон Вальде, и досадой против него, но при мысли об опасности, которая, быть может, все еще угрожала ему, все остальные доводы исчезли так бесследно, что она, к великому изумлению англичанки, внезапно завернула на дорогу, ведущую к Линдгофу. Тут она убедилась, что фон Вальде возвращается невредимым. Мисс Мертенс последовала за ней, и у нее тоже отлегло от сердца, когда она вскоре увидела, что молодой мужчина выехал из леса.
Глава 14
Вечером вся семья Ферберов собралась под липами. Хозяйка дома и мисс Мертенс работали над составлением теплого ковра из кусочков сукна, который зимой должен был лежать под роялем.
Госпожа Фербер все еще не могла успокоиться после происшествия, случившегося днем, несмотря на то, что ее дочь вернулась здоровой. Она была вне себя от рассказа мисс Мертенс, не спускала взгляда с дочери, опасаясь, чтобы волнение не отразилось на ее здоровье, и следила за изменением на ее лице.
Отец отнесся к этому совсем иначе.
– Так, молодец, дочурка! Такой я и хотел тебя видеть!
Госпожа Фербер всегда видела в своем муже идеал мужчины, всегда слепо доверяла ему во всем и считала его слова непреложной истиной. Но сегодня при его похвале дочери у нее невольно вырвался вздох, и она заметила, что мать все-таки любит своих детей больше, чем отец.
– Не больше, но только иначе, – спокойно ответил Фербер. – Именно потому, что я люблю Эльзу, я хочу сделать из нее человека мужественного и смелого, а не какое-нибудь безвольное создание, которое каждый может пихнуть, куда захочет.
Елизавета тоже принесла с собой работу, однако Эрнст отнесся к этому очень неблагосклонно.
– Подожди-ка, Эльза, – с негодованием воскликнул он. – Если господин фон Вальде спросит меня в другой раз, я не скажу, что люблю тебя. Ты совсем, больше не играешь со мной и, наверное, вообразила, что такая же большая, как мисс Мертенс. Только это совсем неверно!
Эти слова были встречены хохотом. Елизавета поспешно встала, подобрала платье, сосчитала, кому быть пятнашкой, и началась бесконечная беготня по саду.
Между тем у калитки раздался звонок. Отец отворил ее и сразу же в саду появились доктор Фельс. Рейнгард и лесничий.
– Вот это да! – останавливаясь, рассмеялся доктор. – Какое изумительное превращение! Днем – валькирия, вечером – бабочка!
Лесничий подошел к племяннице, схватил ее и повернул несколько раз вокруг себя.
– Молодец, девка! – воскликнул он, наконец, отодвигая ее от себя, и веселым взглядом рассматривая ее стройную фигурку. – Посмотрите только, с виду как будто выточена из слоновой кости, а сердце и руки сильны, как у мужчины. Жаль, что ты не парень, а то быть бы тебе лесничим!
Доктор Фельс также подошел ближе и протянул Елизавете руку.
– Господин фон Вальде был в городе и попросил меня приехать сюда. Он очень беспокоится, не повредили ли испуг и волнение вашему здоровью?
– Нисколько, – ответила она, густо покраснев, и добавила шутливо: – как видите, я вполне могу исполнять свои сестринские обязанности. Эрнст только что сердился на то, что меня трудно поймать.
– Ну-с, я дословно передам господину фон Вальде этот ответ, – сказал с улыбкой доктор, – пусть он сам решает, насколько эти слова успокоительны для него.
Фербер предложил гостям сесть, что они немедленно и сделали. Доктор закурил сигару и чувствовал себя, по-видимому, очень хорошо в этом обществе. Говорили, главным образом, о покушении Линке. Сразу же после его ухода обнаружился целый ряд махинаций, которые он учинил в отсутствие хозяина. Слухи об этом быстро распространились, и хотя фон Вальде не сделал ни одного шага для привлечения обманщика к ответственности, Линке все же не получил места, на которое он рассчитывал. Это обстоятельство и было, по-видимому, поводом для его сегодняшнего поступка. Были приняты все меры, чтобы поймать преступника. Лесничий со своими молодцами обыскал весь лес, но тщетно. Рейнгард рассказал, что фон Вальде строго-настрого запретил людям рассказывать что-либо об этой истории своей сестре, потому что испуг может повредить ей. Баронесса Гольфельд и старая камеристка не должны были ничего знать об этом.
В Л. по желанию господина фон Вальде это дело будет храниться в тайне, – продолжал он, потому что назавтра приглашено чуть ли не полгорода.
– Да, все животные или птицы на серебряном или золотом поле, – язвительно перебил его доктор, – то есть все дворянские гербы и все чиновники, начиная с тайного советника. Отбор самый строгий, как при дворе. Поэтому я внушил жене, чтобы она оделась очень скромно, как галка между благородными соколами. Нас, к величайшему нашему изумлению, тоже «просили пожаловать».
– Да, между прочим, доктор, – со смехом воскликнул Рейнард, – сегодня в Л. мне рассказывали, что старая принцесса Екатерина хотела сделать вас своим лейб-медиком, а вы сумели от этого отказаться. Это правда? Ведь Л. вне себя от изумления.
– Ах, это не ново и случается каждый день! Впрочем, это совершенно верно. Я имел дерзость отказаться от этой чести.
– Но почему?
– Во-первых, потому что мне некогда возиться с истерическими причудами высокопоставленных особ, я испытываю священный ужас перед придворным этикетом.
– Да-да, – рассмеялся лесничий, – я тоже всегда крещусь, когда ухожу из замка. Наша чудная княгиня не обращает внимания, если сделаешь не такой поклон, как предписывает этикет, но вся эта процедура возмущает придворную челядь, которая тотчас кричит: «Караул!»
Наступили сумерки. Вся семья и мисс Мертенс проводили гостей до калитки. Когда все вышли на площадку, снизу из долины донеслись звуки музыки. Это музыканты из Л. исполняли серенаду в честь фон Вальде.
Глава 15
На следующее утро обитатели Гнадека были разбужены в пять часов утра пальбой из ружей.
– Ага, – сказал Фербер своей жене, – торжество начинается.
Елизавета при звуке выстрела в страхе вскочила с постели. Она только что видела ужасный сон, навеянный вчерашним происшествием. Ей снилось в эту минуту, что фон Вальде упал, сраженный насмерть. Потребовалось немало времени, пока девушка немного пришла в себя. В долине все гремели новые и новые выстрелы, от которых дребезжали оконные стекла, а канарейка испуганно билась о прутья клетки. Елизавета каждый раз вздрагивала, и когда мать, которая еще не могла успокоиться после вчерашнего случая, подошла к ее постели, чтобы узнать, как она спала, то дочь, обхватив шею матери, залилась горькими слезами.
– Господи, помилуй! – с ужасом воскликнула госпожа Фербер. – Ты больна, милая моя. Я так и знала, что вчерашнее нервное потрясение не пройдет бесследно. А теперь еще эти глупые выстрелы там, внизу.
Елизавете стоило больших трудов убедить мать, что она совсем здорова и ни за что не останется в постели. Чтобы прекратить всякие разговоры, она быстро оделась, вымыла заплаканное лицо свежей водой и несколько минут спустя уже стояла на кухне, приготовляя завтрак.
Выстрелы прекратились, следы слез исчезли с лица девушки, и она веселее стала смотреть на мир Божий.
Вскоре она со своими близкими и мисс Мертенс спустилась в лесничество, где вся семья обедала по воскресеньям. Дядя, вышедший им навстречу, был совсем сумрачен. Берта доставляла ему много забот.
– Я не могу и не хочу больше видеть все это! – запальчиво воскликнул он. – Неужели мне на старости лет стать еще тюремщиком и день и ночь стоять на страже, чтобы караулить глупую, упрямую девчонку, которая меня вовсе не касается?
– Дядя, подумай, ведь она несчастна! – пыталась успокоить его Елизавета.
– Несчастна? Комедиантка она, вот что. Я ведь не людоед, и когда действительно считал ее несчастной, то есть, когда она потеряла обоих родителей, сделал все, что было в моих силах. Чем же она несчастна? Да я вовсе и не желаю знать эту государственную тайну. Если она мне не доверяет, то и Бог с ней. Пусть хоть целый день ходит с кислым лицом, если ей это нравится, но притворяться немой, бегать целыми ночами по лесу и в один прекрасный день спалить мне дом… Тут, кажется, я имею право голоса!
– Разве ты не принял во внимание того, что я говорил тебе на днях? – спросил Фербер.
– Как же… Я сразу же перевел ее в другую комнату. Теперь она спит надо мной, так что я слышу каждый ее шаг. На ночь входные двери не только запираются на задвижку, как раньше, но еще и на ключ, который я беру себе. Но женская хитрость – это давно известная вещь. Благодаря этим мерам, у нас хоть некоторое время был покой. Однако в эту ночь я не мог заснуть, мне покоя не давала история с Линке, и тут я услышал над головой осторожные шаги, как будто крадется кошка.
«Ага! – подумал я. – Опять начинается ночное странствование», – и встал. Но когда я поднялся к ней, птичка уже улетела из гнезда. На столе у открытого окна горела свечка. Когда я открыл дверь, занавеска взвилась над самым огнем. Помилуй Бог, если бы я не подскочил – могла бы разгореться такая иллюминация, что ой-ой-ой! А как она ушла? В кухонное окно. Э, да я лучше соглашусь сторожить целый муравейник, чем такую особу.
– Я твердо убеждена, что у нее есть какой-нибудь роман, – предположила госпожа Фербер.
– Вы уже говорили мне это, дорогая невестка, – с досадой бросил лесничий, – но я был бы вам очень благодарен, если бы вы указали мне, с кем. Подумайте: ну разве есть тут кто-нибудь, кто мог бы вскружить голову молодой девушке? Мои молодцы? Так они для нее не достаточно хороши, она с самого начала так отшила их, что мое почтение, а мошенник Линке с кривыми ногами и льняной гривой – вряд ли. Больше же никого и нет.
– Вы забыли еще одного, – сказала госпожа Фербер, оглядываясь на Елизавету, отошедшую в сторону, чтобы отрезать Эрнсту прутик.
– Ну-с? – поинтересовался лесничий.
– Господин фон Гольфельд.
– Гм, этот никогда не пришел бы мне в голову; во-первых, потому, что девчонка не настолько глупа, чтобы вообразить себя хозяйкой Оденбурга…
– Может быть, она на это надеялась, но ее надежды не оправдались, – перебила его госпожа Фербер.
– Положим, она достаточно тщеславна для этого, – продолжал дядя, – но он, говорят, не обращает на женщин ни малейшего внимания.
– Он холодный эгоист, – вступила в разговор мисс Мертенс.
– Последнему я охотно верю, первого же не понимаю, – возразила госпожа Фербер, – и объясняю себе этим поведение Берты.
– О, это была бы ужасная история! – гневно воскликнул лесничий. – А я по своей недальновидности позволял водить себя за нос, как старого дурака! Я не оставлю так этого дела, и горе этой бесчестной девчонке, если она осмелилась затеять под моей добропорядочной кровлей любовные шашни, которые только опозорят меня!
Обед прошел в молчании. Лесничий был не в духе и собирался немедленно привлечь к ответу Берту, но госпожа Фербер попросила его отложить это по случаю воскресенья. После кофе гости покинули лесничество. Дядя, перекинув ружье через плечо, проводил их до калитки и углубился в лес, который, по его словам, всегда успокаивал его.
Елизавета стала наряжаться для концерта, т. е. надела простое белое кисейное платье и в виде украшения приколола букетик лесных цветов. Мать принесла маленький золотой медальончик на черной бархотке и закрепила у дочери на шее. Елизавета оказалась очень довольна своим туалетом, только открытые шея и руки смущали ее. Госпожа Фербер сегодня сама причесала и заколола роскошные волосы дочери, которые своим золотистым отливом особенно оттеняли черные тонкие дуги бровей и придавали всему лицу особую прелесть.
Войдя в вестибюль замка, Елизавета увидела доктора Фельса, который вел под руку свою жену и как раз собирался завернуть в один из коридоров. Она поспешно подошла к ним и радостно приветствовала его, потому что нежное сердечко беспокойно билось всю дорогу при мысли, что ей придется входить одной в большой зал, где собралось уже немало приглашенных. Доктор тотчас протянул ей руку и представил жене как героиню вчерашнего события. Оба охотно согласились взять молодую девушку на свое попечение, под свой «надзор».
Дверь зала распахнулась, и Елизавета поблагодарила судьбу за то, что солидная фигура доктора совершенно скрывала ее за собой. Посреди зала стояла баронесса фон Лессен в роскошном темно-синем муаровом платье и принимала гостей. Она очень вежливо и вместе с тем чрезвычайно холодно поклонилась доктору и на его вопрос относительно фон Вальде указала на группу около окна, откуда доносился неясный говор многочисленных голосов.
В то время, как супруги Фельс направились туда, Елизавета с радостью поспешила на зов Елены, сидевшей у другого окна. Последняя заявила молодой гостье, что очень волнуется и боится играть перед этой огромной толпой и попросила Елизавету вместо пьесы в четыре руки, которой должен был начаться концерт, сыграть сонату Бетховена, на что та с удовольствием согласилась. Ее смущение исчезло. Она подошла к столу, где лежали ноты, и открыла сонату, которую должна была исполнить.
Дверь постоянно открывалась и впускала все новых и новых гостей. По тому, как кланялась баронесса, Елизавета могла безошибочно определить, какое место на общественной лестнице занимает вошедший. Фон Вальде вовсе не было видно, так как он все время был окружен тесным кольцом поздравляющих.
В эту минуту дверь снова отворилась, и в зал вошла, прихрамывая, толстая почтенная дама с пожилым господином под руку. Ее спутник был украшен многочисленными орденами. Баронесса поспешила ей навстречу, Елена тоже поднялась и, опираясь на руку Гольфельда, подошла к вошедшим, тогда как остальные присутствующие дамы и кавалеры последовали за ними, как хвост кометы. Группа у окна поредела, словно по мановению волшебного жезла и благодаря этому стала видна высокая фигура фон Вальде.
– Гадкий! Надо ехать к вам, если хочешь вас видеть! – воскликнула старая дама, грозя ему пальцем. – Прекрасная Испания, вероятно, заставила вас забыть всех своих старых друзей. Видите, несмотря на то, что у меня больные ноги, я все же приехала сегодня, чтобы поздравить вас.
Фон Вальде низко поклонился и сказал даме несколько слов, в ответ на которые она ударила его веером по плечу. Затем он повел гостью к креслу, и она очень важно опустилась в него.
– Баронесса фон Фалькенберг, обер-гофмейстрина в Л., – ответила госпожа Фельс на вопрос Елизаветы, кто эта дама.
Корнелия Киттельсдорф, вошедшая с баронессой фон Фалькенберг, была сегодня замечательно интересна в белом платье с венком пунцовых мальв.
Появление придворных гостей послужило сигналом к началу концерта. Елизавета почувствовала, что ее сердце начинает усиленно биться, ею внезапно овладела сильнейшая робость, и она сильно раскаивалась в том, что согласилась играть первой. Она вся дрожала, когда Елена подала ей знак начинать, но делать было нечего и, взяв ноты, Елизавета подошла с опущенными глазами к роялю и робко поклонилась.
Наступила мертвая тишина, потом по залу пробежал легкий шепот, который затих, как только Елизавета села за рояль. Вся робость молодой пианистки исчезла с первыми аккордами. Она забыла обо всем и всецело погрузилась в произведение великого композитора. Игра ее была великолепна.
Едва она окончила, раздалась буря аплодисментов, которые заставили ее придти в себя. Она поклонилась и поспешила к своей покровительнице, госпоже Фельс, которая молча пожала ей руку.
Концерт продолжался недолго. Четыре молодых человека из Л. пропели красивый квартет. Затем играл очень недурной скрипач. Корнелия Киттельсдорф исполнила два романса, причем оказалось, что у нее приятный голос, но совершенно нет слуха. Потом дошла очередь до так старательно разученной пьесы в четыре руки. Елена фон Вальде овладела собой и сыграла свою партию прекрасно.
Когда концерт окончился, Елизавета прошла в соседнюю комнату, чтобы взять накидку. За нею последовал пожилой господин, сидевший на концерте напротив нее и все время обращавший на нее большое внимание.
Госпожа Фельс, сопровождавшая молодую пианистку, представила мужчину по его просьбе как председателя окружного суда Буша.
Он наговорил Елизавете много лестного по поводу ее игры и добавил, что очень рад познакомиться с отважной спасительницей жизни хозяина дома, тем более, что несколько часов назад потерял надежду познакомиться с нею при разборе этого дела.
Елизавета испуганно отступила. Председатель рассмеялся.
– Ну, не пугайтесь задним числом, – воскликнул он, – мы, как я вам только что сказал, не имеем больше основания вызывать вас в суд. Труп Линке сразу прекратил это дело – его обнаружили сегодня в пруду в Линдгофе, – добавил он, понижая голос. – Мне доложили об этом в гостинице, где я остановился. В сопровождении врача, который случайно был там, я отправился к месту происшествия и убедился, что он никогда больше не поднимет руку ни на кого. Состояние трупа показывает, что Линке утопился сразу же после своего неудачного покушения.
Елизавета вздрогнула.
– Господин фон Вальде знает об этой ужасной смерти? – дрожащим голосом спросила она.
– Нет, я еще не имел случая говорить с ним с глазу на глаз.
– Кажется, никто из присутствующих не подозревает о случившемся вчера? – это подошла госпожа Фельс.
– К счастью, нет. И все благодаря нашей осторожности и молчанию, – насмешливо произнес председатель суда. – Бедный господин фон Вальде и так еле спасся от осаждающей его с поздравлениями толпы, а что было бы, если бы его еще поздравляли со счастливым избежанием опасности!
В это время дворецкий подошел к Елизавете с маленьким серебряным подносом, на котором лежало несколько бумажек, свернутых в трубочку. Когда она с удивлением взглянула на него, тот с почтением произнес:
– Извольте взять одну бумажку. Елизавета колебалась.
– Это, вероятно, какая-нибудь шутка, – произнесла жена доктора. – Берите скорее, чтобы не задерживать дворецкого.
Машинально девушка взяла одну бумажку, в эту минуту на пороге появилась баронесса Лессен и окинула комнату пристальным взглядом.
– Что вы тут делаете, Лоренц? – быстро проговорила она, подходя к дворецкому. – Вы, я думаю, можете сообразить, что госпожа Фельс согласится идти только со своим супругом.
– Я подавал госпоже Фербер, – ответил старик. Баронесса гневно посмотрела на него, потом смерила Елизавету высокомерным взглядом с головы до ног.
– Как, фрейлейн Фербер, – резко произнесла она, – вы еще здесь? Я думала, что вы давно дома почиваете на лаврах. – Не дожидаясь ответа, она повернулась, пожав плечами и бросив укоризненный взгляд на растерявшегося дворецкого. – Вы были опять рассеяны, Лоренц! Этот недостаток усилился у вас в последнее время.
С этими словами она вышла из комнаты. Дворецкий последовал за нею. Все трое оставшихся с изумлением смотрели друг на друга, но в этот момент вошел доктор, разъяснивший загадку. Он с комичной торжественностью раскланялся перед женой и сказал ей:
– Так как госпоже Киттельсдорф было только что угодно вновь соединить нас, как это сделал пастор пятнадцать лет тому назад, то я должен безропотно нести дальше свое брачное иго и весь день провести с тобою.
– Да что ты говоришь? – весело рассмеялась его жена.
– Пожалуйста, это не моя выдумка. Ах, ты же не слышала прекрасной речи госпожи Киттельсдорф? Как жаль! Значит, я вынужден повторить ее тебе. Всякая супружеская чета, как живущая в мире и согласии, так и стоящая на тропе вражды, должна немедленно и при том совершенно мирно отправиться к «Башне монахини» в лесу, где будет устроено торжественное празднество. Там ты обязана ухаживать за мною, то есть доставлять мне пищу и питье, и вообще заботиться о моем благосостоянии, как самая добродетельная Пенелопа. Чтобы холостые мужчины, которых здесь большинство, не умерли с голода, очень остроумно придумана лотерея. Каждая барышня должна взять бумажку, на которой написано имя ее кавалера. Тут уж сама фортуна должна решить: соединить ли два любящих сердца или коварно разлучить их. При этих словах доктора Елизавета пришла в сильное волнение. Она даже не остановилась на мысли о том, будут ли после концерта еще какие-нибудь торжества. Теперь ей стало ясно, почему баронесса так подчеркнула вчера время окончания концерта. Ее щеки горели от стыда, так как она, взяв бумажку, па ошибке поданную ей дворецким, показала чрезмерную навязчивость. Елизавета, быстро приняв решение, вошла в зал, где как раз при громком смехе разворачивались бумажки и происходили взаимные поклоны дам и кавалеров.
– Какая нелепая мысль пришла в голову этой Киттельсдорф! – раздраженно заметил какой-то молодой человек своему соседу, когда Елизавета проходила мимо. – Мне досталась эта толстая ханжа Лер.
Елизавете не пришлось долго разыскивать баронессу, так как последняя находилась в стороне, у окна. Корнелия, обер-гофмейстрина и Елена стояли возле нее и о чем-то спорили. Обер-гофмейстрина сердито внушала что-то Корнелии, а та в недоумении пожимала плечами. Лицо баронессы имело очень сердитое выражение. Невдалеке от этой группы, прислонившись к колонне и скрестив руки, стоял фон Вальде. Он, казалось, почти не слушал старого спутника обер-гофмейстрины и не сводил взора с расходившихся дам.
Елизавета поспешно подошла к баронессе. От нее не укрылось, что Корнелия при виде ее подтолкнула обер-гофмейстрину и поняла, что была предметом их разговора.
– Баронесса, – обратилась она, поклонившись, – я по недоразумению, не зная, в чем дело, взяла эту бумажку, и только что узнала, что с этим связаны известные обязательства, которые я не могу взять на себя, потому что меня ждут родители.
Она подала бумажку баронессе, а та, внезапно просияв, поспешно схватила ее.
– Мне кажется, вы ошибаетесь фрейлейн Фербер, – вдруг раздался спокойный голос фон Вальде. – Прежде всего вы должны обратиться к тому, чье имя написано у вас на бумажке, – при этом он с улыбкой окинул взглядом всех гостей, уже сгруппировавшихся в пары и приготовившихся отправиться в путь, – согласен ли тот кавалер, чье имя написано на этом билетике, отпустить вас. В качестве хозяина дома я не могу допустить, чтобы пострадали интересы какого-нибудь гостя, а потому прошу вас взять и развернуть бумажку.
Елизавета, испугавшись чего-то, быстро развернула бумажку и, сильно покраснев, протянула ему. Он искоса взглянул…
– А! – воскликнул он. – Оказывается, я охранял свои собственные интересы. Вы должны согласиться, что теперь ваш уход зависит от меня. Я попрошу вас самым точным образом выполнить все обязанности, возложенные на вас этим билетиком.
Баронесса подошла к нему и положила на плече руку – она готова была расплакаться.
– Прости, милый Рудольф, это право, не моя вина…
– Я не знаю, о какой вине ты говоришь, Амалия, – холодно произнес фон Вальде и взял шляпу, поданную ему лакеем, а потом, предложив руку Елизавете, подал знак уходить.
– Но мои родители? – пробормотала Елизавета.
– Они больны или уезжают? – спросил он, остановившись.
– Нет.
– В таком случае предоставьте мне уладить это дело.
Он подозвал лакея и послал его в Гнадек.
Зал постепенно пустел, но группа у окна, к которой присоединился очень сердитый Гольфельд, все еще не расходилась.
– Поделом вам, Корнелия! – ворчала обер-гофмейстрина. – Сегодня вы совсем осрамились. Какая бессмысленная идея эта лотерея! Теперь во всем, оказывается, виноват дворецкий. Зачем вы не дали ему точных указаний? Вам этот урок очень полезен, но почему же несчастный фон Вальде должен страдать от вашего легкомыслия? Воображаю, как он себя чувствует в обществе этой… учительницы музыки, дочери… письмоводителя!
– Зачем он так легко сдался? – ответила Киттельсдорф. – Ему совершенно ни к чему было вмешиваться. Она собиралась уходить, и надо же было сунуться этому рыцарю и добровольно взять на себя такую обузу!
– Эта «обуза» очень красива! – с наглой усмешкой прошамкал старый кавалер обер-гофмейстрины.
– Что вы выдумали, граф! – закричала та ему. – Это замечание на вас похоже, вы готовы восхищаться каждой деревенской бабой. Впрочем, я не отрицаю, эта девушка недурна собою, но разве бедная Роза фон Берген не была общепризнанной красавицей? Все падали к ее ногам, а фон Вальде, которым она заинтересовалась, остался к ней холоден. Советую вам, милая Лессен, в другой раз не слишком доверяться такту и таланту нашей Киттельсдорф.
Корнелия закусила губы и быстрым резким движением набросила на плечи кружевной шарф. В эту минуту к крыльцу подкатил экипаж, в котором должны были отправиться к месту торжества гофмейстрина, Елена, баронесса и старый граф.
– Фу, старая ведьма! – воскликнула фрейлина, после того, как самым заботливым образом усадила старуху в экипаж. – Она злится, что не спросили ее мудрого совета. Разве вы не заметили, Гольфельд, что у ее превосходительства чуть парик не съехал на нос, когда она гневно потрясала головой? Я бы две недели хохотала, если бы из-под ее прически вдруг выехал голый череп.
Она уже смеялась до упаду при одной только мысли об этом. Однако ее спутник молча шел вперед, по-видимому совершенно не слушая ее болтовню. Он чрезвычайно торопился, как будто ему во что бы то ни стало нужно было как можно скорее догнать остальное общество, и все время пытливо осматривался по сторонам.
– Ох, какой вы скучный, Гольфельд! Просто смертельно! – с досадой воскликнула Корнелия. – Положим, это ваша привилегия – молчать, как рыба и слыть поэтому умным человеком… Скажите, ради Бога, зачем вы так бежите? Примите во внимание, что на мне совершенно новое платье, а оно все время цепляется за кусты, через которые вы меня тащите.
Так называемая «Башня монахинь», единственная уцелевшая часть некогда находившегося здесь монастыря, возвышалась в чаще густого дубового леса, принадлежавшего Линдгофу и тянувшегося на много верст на восток. Одна девица из рода Гнадевицев, сестра пресловутого предка с колесом, возглавила этот монастырь, чтобы вместе с другими двенадцатью девами молиться о спасении души своего брата. Реформация, разрушившая монастыри, как азартные домики, проникла в густой тюрингский лес. Этот монастырь был тоже покинут, заброшен, стал постепенно разрушаться. Уцелела только башня. С ее плоской крыши, окруженной каменной галереей, открывался прекрасный вид на окрестности Л… Этому обстоятельству и была, видимо, обязана башня своим существованием, которое поддерживалось старательным ремонтом.
Сегодня эта старая башня принарядилась, как молодая девушка. Ее ветхая вершина была украшена четырьмя молодыми елками, между которыми весело развевались пестрые флаги, стены были обвиты гирляндами, а у подножия примостился шатер, где прятались батареи бутылок самых различных видов и укрывалась хорошенькая девушка в костюме маркитантки.
Елизавета молча и безвольно покинула зал об руку с фон Вальде, у нее не хватило мужества противиться ему – он говорил таким повелительным тоном, и, очевидно, хотел вывести ее из неловкого положения, а потому все ее возражения носили бы характер упорства и еще больше раздули бы все это дело, которое и без того привлекло к себе слишком много внимания.
Большая колонна дам и кавалеров, весело смеясь и разговаривая, следовала за фон Вальде до главных ворот замка, но тут ряды рассыпались в разные стороны по многочисленным лесным дорожкам, ведущим к «Башне монахинь». Многие дамы, заботясь о своих туалетах, пошли по вымощенной проезжей дороге.
Фон Вальде углубился дальше. Он, видимо, не думал, что его дама будет беспокоиться о своем собственноручно выстиранном и выглаженном платье, как другие о своих туалетах, иначе он, без сомнения, не повел бы ее по узкой, едва заметной тропинке, на которую внезапно свернул.
– Здесь очень сыро, – робко прервала Елизавета молчание, царившее до сих пор между ними, и в нерешительности остановилась, словно желая повернуть обратно.
Однако в данную минуту она совершенно не думала о своих тонких туфлях и свежем светлом платье. Она лишь боялась, что снова услышит тот резкий холодный тон, которым фон Вальде говорил всегда, оставаясь ней наедине.
– Дождя уже давно не было. Разве вы не заметили, как от сухости потрескалась земля? – ответил он, спокойно продолжая идти вперед и отламывая ветку, угрожавшую щеке Елизаветы. По этой дорожке мы скорее дойдем и избежим хоть на четверть часа шума, поднятого родственниками, в честь моего тридцатилетия. А, может быть, вы боитесь встретить Линке?
Сильная дрожь пробежала по телу девушки. Она вспомнила о самоубийстве, но не могла сообщить об этом своему спутнику и лишь серьезно проговорила:
– Теперь я его больше не боюсь!
– Он, думаю, скрылся из этой местности, да и не будет столь невежлив, чтобы нарушить своим появлением наш праздник. Между прочим, от вас, наверное, не укрылось, что все гости, от мала до велика, оказали мне сегодня особое внимание. Вы, вероятно, считаете меня недостаточно старым, чтобы пожелать мне еще несколько лет жизни?
– Я думаю, что это пожелание уместно как для молодого человека, так и для старого.
– Так почему же вы не подошли ко мне? Вчера вы спасли мне жизнь, а сегодня она стала так безразлична вам, что вы даже не раскрыли рта, чтобы пожелать мне ее продолжения.
– Вы сами только что сказали «все гости», я же не принадлежу к числу гостей и не имела права принимать участие в поздравлениях.
– Вы же были приглашены.
– Только для того, чтобы развлечь гостей.
– Этот ваш взгляд и был причиной того, что вы не хотели идти со мной?
– Да, мой отказ не имел никакого отношения к кавалеру, так как я вовсе не знала его имени.
– Пожалуйста, не сочиняйте! Вы с первого же взгляда могли убедиться, что все кавалеры, исключая меня, уже имели дам. Вы знали также, что моя сестра не брала билетика, потому что заранее выбрала себе Гольфельда, с которым ей удобнее всего идти. Сознайтесь, что это так.
– Я ничего не видела и не знала, так как была слишком взволнована, когда вошла в зал, чтобы вернуть билетик. Вчера мне очень определенно назначили час, когда я должна идти домой. Я даже не имела понятия о том, что после концерта предполагается торжество. Я просто по рассеянности взяла эту бумажку и никогда себе этого не прощу!
Фон Вальде вдруг остановился.
– Посмотрите на меня!
Она подняла глаза и, хотя чувствовала, что яркая краска залила ей лицо, смело выдержала его взгляд.
– Нет-нет, – тихо проговорил он, – тут не может быть лжи, – и вдруг добавил совершенно иным тоном – Разве я невольно не слышал собственными ушами вашего изречения, что нужно больше мужества, чтобы открыто солгать, чем сознаться в своей ошибке?
– Это мое убеждение, и я повторяю его.
– Если человек слишком правдив для того, чтобы запятнать свои уста ложью, то, я думаю, он не должен допускать, чтобы лгали его глаза. Между тем я знаю момент, когда это было так.
Молодая девушка сняла руку с его руки.
– Ну нет, так скоро вы от меня не отделаетесь, – воскликнул фон Вальде, удерживая ее, – вы должны мне отвечать! Вы приняли равнодушный вид, когда я на днях выбросил розу, так нежно преподнесенную моим кузеном.
– Что же, мне надо было бежать за нею?
– Конечно, если бы вы были искренни.
Елизавета теперь поняла, зачем он избрал эту уединенную тропинку – ему надо знать, что она думает о Гольфельде. Он, очевидно, беспокоится, что ухаживания его кузена принимаются благосклонно и она, чего доброго, вообразит, что Гольфельд хоть на минуту забудет о ее происхождении.
Елизавета быстро высвободила руку и, сделав шаг в сторону, промолвила:
– Я должна согласиться с вами, что мой равнодушный вид в тот момент не соответствовал состоянию моей души.
– Вот видите! – воскликнул фон Вальде, но в этом возгласе было заметно очень мало торжества.
– Я была возмущена.
– Мною?
– Прежде всего неуместной шуткой господина фон Гольфельда.
– Он вас напугал?
– Только оскорбил. Как смел он обращаться со мною подобным образом? Он мне отвратителен!
Эльза была права в своих предположениях, но конечно, никогда не думала, что ее собеседник придаст такое значение ее словам. Казалось, у него гора свалилась с плеч. Он облегченно вздохнул, и девушка почувствовала, что его рука сильно дрожала, когда он взял ее ладонь и положил на свою. Они прошли несколько шагов дальше. Фон Вальде не произносил ни слова, но вдруг снова остановился и мягко произнес: – В эту минуту мы совершенно одни. Я не могу и не хочу лишиться вашего поздравления. Скажите мне несколько слов теперь, когда никто, кроме меня, не услышит их.
Елизавета смущенно молчала.
– Ну, разве вы не знаете, как это делается?
– Знаю, – возразила она, и по ее лицу пробежала лукавая улыбка, – у меня большая практика в этом отношении: родители, дядя, Эрнст.
– У каждого бывает день рождения, – с улыбкой перебил ее фон Вальде, – но я хочу, чтобы вы сказали мне что-нибудь другое; не то, что говорите им, поскольку я вам не отец, не дядя и меньше всего претендую на права брата, с которым вы играете. Ну-с, говорите же!
Елизавета продолжала молчать. Что сказать? Она давно опустила глаза, так как не могла больше выносить проницательный взгляд собеседника, желавшего, казалось, насквозь пронзить ее душу.
– Пойдемте, – резко произнес он, выждав немного. – Это было безумное желание с моей стороны. Я знаю, что вы всегда находите несколько теплых слов для других и упорно молчите или делаете выговор, когда дело касается меня…
Елизавета побледнела при этих словах и невольно остановилась.
– Так что же, – мягче спросил он, – не выходит?
– Видя, что она все еще молчит и, заметив умоляющий взгляд, добавил: – Ну, тогда я предложу вам нот что: я скажу вам то пожелание, которое я хотел бы услышать из ваших уст с условием, что вы повторите его слово в слово.
На лице Елизаветы появилась улыбка, она утвердительно кивнула головой.
– Прежде всего надо… подать друг другу… руку, – начал фон Вальде, запинаясь и беря ее за руку (девушка дрожала, но не отняла руки), – и сказать: «Вы были до сих пор бедным, обездоленным странником, но, наконец, пришло время, когда и для вас засиял светлый луч, осветивший всю вашу жизнь. Желаю, чтобы он никогда не покидал вас. Вот моя рука как залог»…
До этих слов Елизавета точно повторяла это довольно странное пожелание, но тут с изумлением взглянула на него и засмеялась; однако фон Вальде попытался взять ее другую руку и произнес:
– Ну, продолжайте же!
– Вот вам моя рука… – начала она.
– Как это мило, господин фон Вальде, что мы опять вместе, – раздался из-за кустов голос Корнелии, – по крайне мере меня будут приветствовать музыкой, когда я приду вместе с вами.
Елизавете никогда еще не приходилось видеть такую перемену на чьем-то лице, как та, которая произошла в эту минуту в чертах фон Вальде. На лбу появились синие жилы, ноздри раздулись, он гневно топнул ногой и, казалось, имел громадное желание отправить Корнелию туда, откуда она явилась. Но на этот раз ему не удалось так быстро овладеть своим настроением, и его брови нахмурились еще больше, когда позади Киттельсдорф показалось лицо Гольфельда. Увидев его, фон Вальде быстро продел руку Елизаветы под свой локоть и крепко прижал, словно кто-то мог отнять у него драгоценную вещь.
– Ну и вид у вас! – воскликнула Корнелия, выскакивая на дорожку. – Такой, как будто мы разбойники, посягающие на ваши сокровища.
Не отвечая на эти слова, фон Вальде обернулся к кузену и отрывисто спросил:
– Где Елена?
– Она вдруг испугалась длинного, неровного пути и предпочла ехать в экипаже.
– Но я думаю, ты не предоставишь старому графу Вильденау помогать Елене при выходе из экипажа. Я вообще не понимаю, как ты, верный рыцарь, мог оставить ее и пошел по дороге? Но несколько быстрых шагов могут все исправить, и я не хочу мешать тебе, – резко произнес фон Вальде, отходя в сторону, чтобы пропустить их.
– А позвольте спросить, почему вы не пошли по большой дороге, а свернули на эту глухую тропинку? – язвительно проговорила Корнелия.
– Охотно отвечу вам: просто потому, что хотел избежать некоторых чересчур болтливых девушек, – не выдержал именинник.
– Фу, какой невежа! Огради, Господи, от такого несносного виновника торжества, – воскликнула фрейлина с комическим ужасом, отскакивая в сторону. – Мы сделали большую оплошность, что не явились закутанными по уши в черный креп.
Она снова взяла Гольфельда под руку и потянула его вперед, но тот, казалось, решил сегодня в первый раз в жизни поступить наперекор кузену. Он еле передвигал ноги, внимательно осматриваясь по сторонам, как будто его интересовал каждый камешек на дороге, каждая пробегавшая ящерица. Он даже завел вроде бы очень интересный разговор со своей спутницей и останавливался, чтобы выслушать ее ответ.
Фон Вальде что-то пробормотал сквозь зубы, чего Елизавета не могла расслышать, но взгляд, брошенный им на двоюродного брата, дал ей понять, что он взбешен. С нею он совсем не разговаривал, а она не решалась поднять на него глаза, хотя чувствовала его взгляд на себе постоянно. Она боялась, что ее лицо выдаст ему все, что происходило в ее душе.
Слабый звук трубы, долетевший до них с площади, возвестил, что начало торжества уже близко. Оттуда доносился глухой шум, и за деревьями были видны пестрые движущиеся фигуры гостей, И вот музыканты заиграли туш.
Елизавета воспользовалась подходящим моментом, чтобы ускользнуть от фон Вальде, так как его тесным кольцом обступила толпа гостей. Какая-то дама выступила вперед с букетом цветов, окруженная четырьмя нимфами, чтобы поздравить виновника торжества неудачными стихами.
– Фон Вальде сумел в нужный момент отделаться от своей Дульсинеи! – шепнула гофмейстрина старому графу, сидевшему возле беседки. – Он никогда не простит Лессен и нашей Корнелии, что из-за этой нелепой выдумки ему пришлось играть роль рыцаря этой девицы! Милочка, – обратилась она к Елене, сидевшей возле нее и смотревшей на толпу грустным взглядом, – мы должны забрать вашего брата сюда, как только его там отпустят, и приложить все усилия, чтобы заставить его забыть неудачное начало праздника.
Елена машинально кивнула головой. Очевидно, она слышала только половину того, что ей сказала старуха. Ее маленькая искалеченная фигурка, окутанная тяжелыми складками голубого шелка, беспомощно прислонилась к высокой спинке стула, а щеки стали белее водяных лилий вокруг ее головы.
Елизавета между тем пробралась к доктору Фельсу и его жене.
– Останьтесь, пока не начнут танцевать, – предложила последняя, в ответ на желание Елизаветы уйти домой. – Мы тоже пробудем недолго – мысли о моих малышах не дают мне покоя. Мое присутствие здесь – это большая жертва, которую я приношу общественному положению своего мужа. Господин фон Вальде, дамой которого Вы должны быть сегодня, не танцует, он отпустит вас, когда начнется танец.
Толпа гостей внезапно рассеялась. С крыши башни раздались звуки марша. Мужчины появились из-за деревьев, дамы, подчиняясь составленным на этот день правилам, поспешили к ним, чтобы сопровождать своих кавалеров к столу.
Фон Вальде медленно шел, заложив руки за спину и разговаривал о чем-то с незнакомым господином.
– Милейший господин фон Вальде, идите к нам! – позвала его старая гофмейстрина, протягивая ему руки. – Я оставила вам очаровательное местечко, вы отдохнете здесь на вполне заслуженных лаврах. Эти нимфы будут ухаживать за вами и принесут из буфета все, что вы пожелаете.
– Ваши заботливость и доброта трогают меня, ваше превосходительство, – ответил он. – Но я не думаю, что фрейлейн Фербер собралась оставить меня на произвол судьбы.
Он говорил громко и обернулся к Елизавете, оказавшейся неподалеку. Она слышала каждое слово и сразу подошла к нему, после чего так же смело и решительно встала около него, как будто и не желала уступать своих обязанностей другой. На его лице в эту минуту промелькнуло нечто вроде радостного испуга. Казалось, он совершенно забыл о том, что гофмейстрина приготовила для него «прелестное местечко», потому что слегка поклонившись старухе и любезным барышням, предложил Елизавете руку и повел ее на другую сторону площадки под старый дуб, в тени которого приютились супруги Фельс.
– Нет, это уже чересчур – обратилась баронесса Фалькенберг к старому графу Вильденау и весьма смущенным «нимфам», – он хочет испортить праздник, подчеркивая присутствие этой особы. Теперь я начинаю сердиться на него. Никто не сознает яснее меня его полное право быть недовольным, но мне кажется – ему незачем заходить так далеко и забывать остальных, которые совершенно ни при чем. Я готова держать пари, что эта глупышка вообразит, будто все делается ради ее прекрасных глаз.
Все десять любезных «дриад» метнули уничтожающий взгляд на Елизавету, которая в этот момент направлялась к шатру и скоро возвратилась оттуда с бутылкой шампанского и четырьмя бокалами к дубу, где устроились за столом доктор Фельс с женой и фон Вальде.
– Все наши дамы устроили себе сегодня целые цветники на головах, только фрейлейн Фербер лишена какого-либо украшения, точно Золушка. Этого я не потерплю, – сказала госпожа Фельс и, вынув из большого букета, который держала в руках, две розы, хотела украсить ими Елизавету.
– Постойте, – фон Вальде удержал ее за руку, – в этих волосах я хотел бы видеть только флердоранж.
– Это, знаете, подобает только невесте, – спокойно возразила докторша.
– Вот именно поэтому, – ответил он таким тоном, будто сказал что-нибудь само собой разумеющееся и, наполнив бокалы, обратился к доктору: – Выпьем, доктор, за здоровье моей спасительницы, златокудрой Эльзы из Гнадека!
Доктор улыбнулся и чокнулся с ним. К ним подошли еще несколько кавалеров с бокалами в руках.
– Прекрасно, что вы пришли, господа! – воскликнул хозяин дома. – Выпейте за исполнение моего самого горячего желания!
Раздалось громкое «ура» и весело зазвенели бокалы.
– Ужасно! – возмутилась старая гофмейстрина, роняя на тарелку вилку с куском маринованного угря, – Они ведут себя, как в студенческом кабачке. Я совершенно поражена. Между прочим, – обратилась она к Елене, – я, к своему величайшему изумлению, вижу, что ваш брат в замечательных отношениях с доктором Фельсом.
– Да, он очень ценит его как весьма справедливого человека с чрезвычайно обширными познаниями, – ответила Елена.
– Все это прекрасно, но он, вероятно, не знает, что этот человек на очень дурном счету при дворе. Представьте себе, он имел дерзость…
– Да, я знаю эту историю, брат рассказал мне ее на днях, – перебила Елена.
– Как! Ему известно это, и он так мало считается с настроением двора, где его всегда так выделяли? Ужас! Уверяю вас, дитя мое, меня уже сейчас мучает совесть, и я, наверное, не посмею поднять глаз при дворе, сознавая, что встретила здесь этого невоспитанного человека.
Елена пожала плечами и предоставила обер-гофмейстрину упрекам ее совести и большому бокалу шампанского.
Молодая девушка испытывала те душевные муки, которые иногда причиняются светскими обязанностями. Она должна была внимательно выслушивать всякие пустяки, тогда как страшная боль разрывала ее сердце.
Гольфельд был настолько невнимателен, что предоставил Елену, прибывшую на место торжества, заботам старого графа, и сам, соблаговолив, наконец, явиться, даже не извинился за это. Он был сумрачен и рассеян, и Елена ломала себе голову над этой переменой. Сначала она подозрительно следила за Корнелией, но быстро успокоилась, так как ей не удалось уловить ни одного взгляда Гольфельда по направлению к кокетливой фрейлине. На заботливые вопросы Елены кузен отвечал очень односложно, не притронулся к еде, но выпил один за другим несколько стаканов крепкого вина. Такое невнимание кузена, которое девушке приходилось замечать впервые, причинило ей сильные страдания. Наконец, она замолчала и утомленно закрыла глаза. Никто не заметил, что с ее ресниц скатились крупные слезы.
В самый разгар веселья между деревьями показалось лицо дворецкого Лоренца. Он всеми силами старался, обратить на себя внимание хозяина так, чтобы не заметили другие. Наконец, это ему удалось. Фон Вальде встал и последовал за стариком в чащу, вскоре он вернулся с расстроенным лицом.
– Я получил очень взволновавшее меня известие, – понижая голос, сообщил он доктору, – с господином фон Гартвигом в Шалмбеке – он мой старый друг – во время прогулки произошло несчастье. Он проживет, как мне пишут, не более суток, и просит меня приехать, чтобы поручить мне заботы о своих маленьких детях. Сообщите баронессе Лессен о моем отъезде и его причинах. Пусть она позаботится о том, чтобы празднество ничем не было омрачено. Как только начнутся танцы, мое отсутствие не будет больше заметно, а до тех пор пусть моя сестра и гости думают, что я отозван по делу и скоро вернусь.
Доктор тотчас удалился, его жена уже раньше отошла к буфету, так что Елизавета и фон Вальде на несколько минут остались одни. Последний быстро подошел к ней.
– Я думал, что мы не расстанемся сегодня без того, чтобы вы не произнесли окончания пожелания, которое я хотел от вас услышать, – сказал он, стараясь встретиться с ее взглядом, который она смущенно отводила в сторону. – Но уж такова моя судьба, что в последнюю минуту какая-нибудь неудача снова закрывает передо мною врата земли обетованной, – он старался придать этим словам шутливый оттенок, но они звучали от этого еще более горько. – Однако на этот раз я буду тверд. Я должен уехать, тут ничего не поделаешь, но эта тяжелая обязанность может быть значительно облегчена, если вы мне пообещаете… Помните вы те слова, которые повторяли за мной?
– Я так скоро не забываю.
– Это звучит очень обнадеживающе для меня. Существует сказка, в которой одно слово заключает в себе несметные сокровища. В конце этого пожелания тоже содержится такое слово. Согласны ли вы помочь мне в том, чтобы оно было произнесено?
– Как могу я вам помочь в этом?
– Это мое дело. Я серьезно прошу вас не делать в эту минуту никаких попыток уклониться в сторону. Я спрашиваю вас, постараетесь ли вы во время моего отсутствия сохранить в памяти начало моего пожелания?
– Да.
– И вы готовы после моего возвращения выслушать конец?
– Да.
– Хорошо. До свидания!
Фон Вальде подал Эльзе руку и пошел по кратчайшей дорожке, ведущей к замку.
Елизавета стояла в каком-то сладком оцепенении, из которого вывела ее госпожа Фельс, вернувшаяся с грудой тарелок и, к своему удивлению, не заставшая больше ни одного кавалера. Молодая девушка рассказала ей обо всем случившемся. Вскоре явился доктор и сообщил, что баронесса была очень уязвлена тем, что ее кузен не счел нужным лично сообщить ей о том, что произошло, и излила весь свой гнев на несчастного доктора. Однако это нисколько не тронуло его, по крайней мере, он преспокойно уселся за стол и с большим аппетитом принялся за еду.
В это время Елизавета пошла к Елене фон Вальде, чтобы проститься. Ее ничто не удерживало здесь больше, и она хотела поскорее остаться наедине со своими мыслями.
– Вы хотите уйти? – огорчилась Елена, когда ее юная учительница музыки подошла к ней. – А что скажет на это мой брат?
– Рудольф пошел по неотложному делу в замок, – быстро ответила за Елизавету баронесса. – Обязанности фрейлейн Фербер таким образом окончены.
Елена, бросив неодобрительный взгляд на говорившую, возразила:
– Я вовсе не вижу, на каком это основании. Дела, вероятно, не помешают ему вернуться обратно.
– Возможно, – ответила фон Лессен, но он может возвратиться очень поздно. Фрейлейн Фербер будет очень скучно в совершенно незнакомом ей обществе и…
– Мой брат освободил вас? – обратилась Елена к молодой девушке, не давая договорить баронессе.
– Да, – ответила Елизавета. – Я прошу и вас разрешить мне удалиться.
Во время этого разговора баронесса Фалькенберг откинулась назад и окинула дерзкую девицу, как она считала, презрительным взглядом с ног до головы. Гольфельд, ни слова ни говоря, встал и ушел. Елена с горечью посмотрела ему вслед и не сразу ответила Елизавете. Наконец, она очень рассеянно протянула молодой девушке руку и проговорила:
– Ну, хорошо. Тогда идите, милая. Большое спасибо за ваше участие в концерте.
Елизавета быстро простилась с доктором и его женой и с облегченным сердцем отправилась домой.
Теперь она могла всецело предаться сладкому очарованию, вызванному в ней тем голосом, который так глубоко проникал в ее душу. Она с полным доверием последовала бы за ним на край света. И тут она поняла, что женщина может покинуть и родителей, и друзей, чтобы принадлежать человеку, до сих пор совершенно ей чужому. А еще два месяца тому назад это было для нее откровением.
Она свернула на извилистую дорожку, по которой часто ходила в лес с мисс Мертенс и, замечтавшись, не заметила, что за нею уже давно раздаются поспешные шаги, а потому сильно испугалась, услышав за спиной свое имя, произнесенное мужским голосом. Позади нее стоял Гольфельд.
Сердце Елизаветы отчаянно забилось, но она быстро овладела собой и отошла в сторону, чтобы пропустить его вперед.
– Нет-нет, фрейлейн, – улыбаясь, произнес он необычайно интимным голосом, чрезвычайно оскорбившим ее. – Я хотел проводить вас.
– Благодарю, – спокойно ответила девушка, – это совершенно лишнее самопожертвование с вашей стороны, потому что я предпочитаю ходить по лесу одна.
– И вы ничего не боитесь? – спросил он, так близко подходя к ней, что его дыхание коснулось ее щеки.
– Только непрошеных провожатых, – с трудом сдерживая свое негодование, ответила она.
– А, это опять тот высокомерный тон, который вы всегда принимаете по отношению ко мне? Но почему? Сегодня я непременно должен говорить с вами.
– И это так важно, что вы оставили своих друзей и праздник?
– Да, это желание, от которого зависит моя жизнь, которое преследует меня день и ночь. Я захворал с тех пор, как стал бояться, что оно никогда не осуществится. Я…
Елизавета тем временем все быстрее шла вперед. Ей стало очень жутко в присутствии этого человека, внушавшего ей отвращение. Она чувствовала, что самообладание является в данную минуту ее единственным оружием, а потому старалась улыбнуться, перебив его:
– Ах, наши уроки музыки, очевидно, имели прекрасное действие, и вы желаете моей помощи в области музыки, насколько я понимаю?
– Вы умышленно искажаете мои мысли, хотя догадываетесь о них! – с гневом воскликнул Гольфельд.
– Да, иначе мне пришлось бы сказать вам такие вещи, которые вы, вероятно, еще меньше желали бы услышать, – серьезно ответила Елизавета.
– Говорите, что угодно. Я прекрасно знаю женщин: они очень любят некоторое время носить маску холодности и неприступности. Ничего. Победа тогда еще слаще! Я разрешаю вам это невинное кокетство, но потом…
Елизавета, пораженная этой наглостью, на мгновение остановилась. Подобные слова еще никогда не касались ее слуха. Стыд и негодование заставили ее покраснеть, и она тщетно искала слова, чтобы дать отпор этой дерзости.
Гольфельд совершенно иначе истолковал ее молчание.
– Видите, как я проницателен! – торжествующе воскликнул он. – Вам очень идет это смущение. Вы прекрасны, как ангел! Я еще никогда не встречал такой восхитительной фигуры, как ваша. Вам очень хорошо известно, что с первой встречи вы сделали меня своим рабом, изнывающим у ваших ног. Какая шея! Какие руки! И вы скрывали все это до сих пор!
Возглас глубокого возмущения сорвался с губ Елизаветы.
– Как вы смеете так оскорблять меня? – запальчиво крикнула она. – Если вы еще не поняли, то я коротко скажу вам снова, что ваше общество мне ненавистно, и я хочу остаться одна.
– Браво! Этот повелительный тон у вас выходит прекрасно, – насмешливо произнес Гольфельд. – Сейчас же видно, что со стороны матери в вас течет несколько капель дворянской крови. Что я вам сделал, что вы вдруг разыгрываете такое негодование? Я только сказал вам, что вы прекрасны. Но ведь ваше зеркало ежедневно говорит вам то же самое, и я очень сомневаюсь, что вы разбиваете его за это.
Елизавета презрительно повернулась к нему спиной и поспешно пошла вперед. Он последовал за нею и, казалось, вовсе не намеревался отказаться от предполагаемой победы.
Они как раз подходили к шоссе, когда мимо них промчался экипаж. Из окна высунулась мужская голова, но сразу, будто чего-то испугавшись, спряталась. Это ехал фон Вальде. Он еще раз оглянулся на тропинку, словно желая убедиться в том, что не ошибся, а затем экипаж исчез за поворотом дороги.
Елизавета невольно протянула руки вслед удалявшейся карете. Человек, ехавший в ней, знал ее отношение к Гольфельду. Неужели он не мог остановиться на минуту, чтобы избавить ее от этого навязчивого спутника?
Гольфельд заметил ее движение и со злобной усмешкой воскликнул:
– О, какие нежности! Если бы я не знал возраста кузена, то стал бы, пожалуй, ревновать. Вы, наверное, думали, что он тотчас же выйдет и галантно предложит вам руку? Как видите, он добродетелен и отказывается от этого счастья, чтобы исполнить свои так называемые священные обязанности. Это – человек-льдина, для которого не существует женских прелестей. Если он сегодня против обыкновения был любезен с вами, так это вовсе не ради ваших прелестных глаз, восхитительная Эльза, а только для того, чтобы позлить мою мамашу.
– Неужели вам не стыдно обвинять в столь низком образе мыслей человека, гостеприимством которого вы постоянно пользуетесь? – возмутилась Елизавета.
Она решила ни слова не отвечать больше Гольфельду, в надежде, что ее молчание надоест ему и заставит уйти, однако тон, которым он говорил о фон Вальде, возмутил ее до глубины души.
– Низком? – повторил он. – Вы употребляете слишком сильные выражения. По-моему, это маленькая месть, на которую он имеет полное право, а что касается гостеприимства, так я только пользуюсь частицей того, что впоследствии будет все равно моей собственностью, и совершенно не вижу, почему я из-за этого должен изменить мнение, которое составил о своем кузене. Впрочем, это я приношу себя в жертву и потому заслуживаю благодарности. Разве вы ни во что не ставите моего внимания к Елене?
– Да, действительно, очень трудно иногда сорвать цветок для бедной больной, – с иронией произнесла Елизавета.
– А, вам, как я вижу, к своему большому удовлетворению, не нравится мое невинное ухаживание? – с торжеством воскликнул Гольфельд. – Неужели вы думаете, что я могу испытывать к ней что-нибудь серьезное? Я очень ценю свою кузиночку, но ни на минуту не забываю, что она на год старше меня, что у нее горб, что…
– Ужасно! – перебила его Елизавета вне себя от негодования и перескочила на шоссе. Гольфельд последовал за нею.
– Я тоже говорю «ужасно», – продолжал он, стараясь не отставать от Елизаветы, – особенно, когда вижу рядом вашу фигуру богини. Не бегите так, пожалуйста, лучше заключим мир. Не оттягивайте блаженства, о котором я мечтаю день и ночь.
Гольфельд внезапно положил свою руку на талию Елизаветы и заставил ее остановиться. Его пылающее лицо с горящими глазами приблизилось к ее глазам.
В первое мгновение она смотрела на него, словно окаменев от изумления, но тотчас же по всему ее телу пробежала брезгливая дрожь, и она с жестом глубочайшего отвращения оттолкнула его, крикнув при этом:
– Только посмейте еще раз коснуться меня! В эту минуту послышался громкий лай собаки. Елизавета с радостью обернулась в ту сторону.
– Гектор, сюда! – позвала она, и вслед за тем из кустов выскочила собака лесничего и с радостным визгом запрыгала вокруг девушки.
– Мой дядя где-то поблизости, – спокойно и холодно обратилась она к растерявшемуся Гольфельду, – и может каждую минуту быть здесь. Вы, конечно, не захотите, чтобы я попросила его освободить меня от вашего общества. Поэтому советую вам добровольно отправиться в обратный путь.
Гольфельд остановился, а Елизавета удалилась вместе с собакой. Тогда он сердито топнул ногой и разозлился на себя за свою страсть, заставившую его забыть всякую осторожность. Ему даже не приходило в голову, что он действительно внушает девушке отвращение, и он упрекал себя за то, что был слишком неловок и чересчур предприимчив, вследствие чего исполнение его желания снова отодвинулось на неопределенное время. Гольфельд целый час бегал по лесу, чтобы овладеть собой, так как участники праздника, с которого еще доносилась музыка, не должны были знать, что за его видимой холодностью скрывается настоящий вулкан.
Он твердил себе, что был неловок и решил поискать лучшие средства для того, чтобы добиться Елизаветы. Вновь обретя спокойствие, он вернулся на празднество утешать Елену фон Вальде, обеспокоенную и несчастную из-за его отсутствия.
Елизавета быстро шла домой. Хотя с виду она казалось спокойной, но тем не менее не решалась смотреть направо или налево, боясь снова увидеть ненавистное лицо Гольфельда. Наконец она остановилась и оглянулась – его не было. Облегченно вздохнув, она прислонилась к стволу дерева, чтобы собраться с мыслями, тогда как Гектор остановился подле нее, словно понимая, что сегодня играет роль защитника. Он, очевидно, самостоятельно предпринял прогулку по лесу, так как его хозяина нигде не было видно. Елизавета только теперь почувствовала, как дрожат ее колени; ужас, овладевший ею, когда Гольфельд посмел обнять ее, был безграничным. Перед нею внезапно встал образ фон Вальде, и она залилась горькими слезами, так как считала, что не посмеет поднять больше на него глаза, после того, как Гольфельд имел дерзость прикоснуться к ней. А пожелание, которое повторяла она вслед за фон Вальде, и его неизвестный конец? Конечно, теперь нечего больше и думать об этом, все мечты должны были рассеяться, как дым.
Когда она подошла к домику лесничего, ее встретила Сабина, бледная, как полотно. Она молча указала на столовую. Дядя говорил что-то сердито и громко. Было ясно слышно, как он шагал при этом по комнате.
– Ах, – прошептала Сабина, – там Бог знает что творится! В последнее время Берта ловко избегала господина лесничего, но сегодня стояла в сенях и не заметила, как он вошел, а барину только этого и надо было. Он, недолго думая, взял ее за руку и потащил в комнату. Она жутко побледнела… Господи, помилуй, я тоже не хотела бы исповедоваться господину лесничему.
Громкое рыдание, похожее на сдержанный крик, прервало шепот Сабины.
– Так, – послышался уже более мягкий голос лесничего, – это признак того, что ты еще не совсем очерствела. А теперь говори. Вспомни, что я заменяю твоих родителей. Если у тебя есть горе, выкладывай его, и если ты ни в чем не виновата, то можешь быть уверена, что я помогу тебе.
Снова послышался тихий плач.
– Ты не хочешь говорить? – спросил дядя после короткого молчания. – Я прекрасно знаю, что поводом к этому не является какая-нибудь болезнь, потому что ты разговариваешь сама с собой, когда думаешь, что тебя никто не слышит. Значит, есть какая-нибудь нравственная причина. Чего доброго – обет?
Вероятно, утвердительный знак подтвердил его предположение, потому что он снова с раздражением продолжал:
– Дурацкая выдумка! Ты думаешь доставить удовольствие Господу Богу тем, что пренебрегаешь его драгоценным даром? Ты что, будешь молчать всю жизнь? Нет, ты опять заговоришь, даже если не получишь того, чего хочешь достичь этим обетом. Прекрасно! Я не могу заставить тебя говорить, сноси одна то, что тебя угнетает и делает несчастной. Что это именно так, достаточно ясно написано на твоем лице. Я попытаюсь еще некоторое время подержать тебя в своем доме. Но знай, если я хоть раз замечу, что ты бегаешь по ночам, то можешь отправляться, куда тебе угодно. И еще одно: завтра я позову доктора, пусть он мне скажет, что с тобой, потому что в последние дни ты стала неизвестно на кого похожа… Теперь иди!
Дверь отворилась, и Берта, шатаясь, вышла из комнаты, не замечая Елизаветы и Сабины. Услышав, что дверь закрылась, она в немом отчаянии подняла руки к небу и, словно преследуемая фуриями, бросилась вверх по лестнице.
– У нее что-то есть на совести, это уж как Бог свят, – промолвила Сабина, покачивая головой.
Елизавета вошла к дяде. Он стоял у окна и барабанил по стеклу, что делал всегда, когда был чем-нибудь взволнован. У него был очень хмурый вид, но при виде Елизаветы лицо лесничего сразу просветлело.
– Хорошо, что ты пришла, Эльза! – обрадовался он. – Мне непременно нужно видеть светлое, чистое человеческое лицо. Черные демонические глаза той, что только что вышла отсюда, для меня ужасны. Я опять взвалил на себя крест, который должен нести дальше. Не могу видеть, когда плачут, хотя прекрасно знаю, что все это делается нарочно, чтобы одурачить меня.
Елизавета была очень рада, что встреча дяди с Бертой закончилась сравнительно спокойно. Она поспешила совершенно отвлечь его от мысли от несчастной рассказывая ему о сегодняшнем празднике, упомянула об отъезде фон Вальде и сообщила о самоубийстве Линке.
Он проводил племянницу до верхней калитки.
– Будь осторожна и не звони очень сильно, – предупредил он ее на прощание. – У твоей матери приступ мигрени и она лежит в постели. Я недавно был там.
Обеспокоенная Елизавета заторопилась и побежала под гору. Ей не пришлось звонить, потому что мисс Мертенс и Эрнст встретили ее на опушке леса и сразу же успокоили. Приступ болезни прошел, а мать спокойно спала, когда дочь осторожно подошла к ее постели.
Наступил поздний час, и в уютной квартирке царила полная тишина. Отец тщательно удалил все, что могло обеспокоить больную.
Если бы мать сидела в своем кресле у окна в столовой, то Елизавета, став на колени и положив голову на ее руки, излила бы все, что переполняло ее душу; но теперь ее тайна, которая, без сомнения, сильно встревожила бы мать, осталась скрытой в самых дальних уголках ее сердца.
Глава 16
Развалины Гнадека, вероятно, с изумлением прислушивались к необычайному стуку, с рассвета раздававшемуся среди их старых покосившихся стен. То не был привычный шум дождя или ветра. Это руки человека приступили к разрушительной работе и быстро разбирали камень за камнем. Башня, в течение многих столетий, как верный часовой, сторожившая флигель, имела совсем плачевный вид. Она стала вдвое ниже, плющ, обвивавший ее зеленым покровом, был сорван. Стали видны темные окна и заплесневелые стены, потрескавшиеся украшения которых доказывали, что они являлись когда-то очень красивой художественной постройкой. Каменщики трудились весьма усердно, несмотря на то, что работа была далеко не безопасна. Их очень интересовало то обстоятельство, что они будут иметь возможность заглянуть во все темные уголки старого гнезда, по народному поверью, населенного всякими ужасными привидениями.
После полудня госпожа Фербер, Елизавета и мисс Мертенс сидели на валу, но приход Рейнгарда, появлявшегося ежедневно в определенное время, прервал их чтение. Он рассказал, что сегодня утром состоялись похороны Линке, и что Елена фон Вальде узнала от какого-то неосторожного слуги о покушении на жизнь брата. Рейнгард с глубокой горечью добавил, что беспокойство фон Вальде о том, что волнение по этому поводу вредно отразится на ее здоровье, было совершенно излишним, так как она очень хладнокровно приняла это известие. Несчастный случай с Гартвигом, с женой которого она была дружна, тоже произвел на нее гораздо меньшее впечатление, чем можно было ожидать.
– Если бы дело касалось ее кудрявого любимца, – с досадой добавил он, – то она проливала бы, наверное, потоки слез и выдрала бы все свои каштановые волосы. У фрейлейн Елены все чувства направлены лишь на него. А этот Гольфельд становится просто невыносимым. Сегодня он расхаживал с таким лицом, как будто хочет отравить всех в доме. Я готов побиться об заклад, что его «восхитительное» настроение является единственной причиной заплаканного лица Елены, которое она так тщательно старалась скрыть от меня, когда я только что встретил ее в саду.
При упоминании ненавистного имени Гольфельда, Елизавета ниже склонилась над вышивкой. Вся кровь бросилась ей в лицо при мысли о его вчерашней дерзости, о которой она ничего не сказала матери, чтобы не беспокоить ее. Может быть, это была и не единственная причина. Она старалась не упоминать об этом еще и потому, что родители из-за его навязчивости могли запретить ей посещение Линдгофа, и она лишилась бы всякой возможности видеть фон Вальде.
Между тем работа по разрушению башни шла своим чередом. Вскоре в сад пришел Фербер, он был в лесничестве, а теперь в сопровождении брата вернулся пить кофе. Взволнованный Эрнст выбежал ему навстречу. Мальчик, не заходя за веревку, протянутую ради безопасности отцом, все время стоял на дороге и с большим интересом следил за происходящим.
– Папа, папа! – закричал он. – Каменщик хочет что-то рассказать тебе. Он говорит, что видел нечто необычное.
Действительно, каменщик усердно делал им знаки приблизиться.
– Мы добрались до какого-то склепа или чего-то подобного, – крикнул он, – и, кажется, там стоит гроб. Вы посмотрели бы эту штуку, господин Фербер, прежде чем мы начнем работать дальше. Вы смело можете подняться – мы стоим на крепком потолке.
Рейнгард, услышав эти слова, поспешно сбежал со ступеней террасы. Таинственный склеп, в котором стоит гроб – как заманчиво это звучит для археолога!
Все трое осторожно взобрались по лестнице.
Рабочие находились у того места, где башня примыкала к главному зданию. У ног их зияло довольно большое отверстие. До сих пор они еще не наталкивались на какое-либо закрытое помещение. У главного здания крыши давно не было. С башни виднелись по всем направлениям целые ряды комнат и полузасыпанные коридоры, а сквозь щели в полу можно было заглянуть в часовню. Внутри сама башня имела гораздо более страшный вид, чем снаружи. Повсюду виднелось голубое небо, и свежий воздух имел везде свободный доступ. Внезапно внизу оказалось какое-то помещение, окруженное крепкими стенами и закрытое хорошо сохранившимся потолком. Насколько можно было судить сверху, этот склеп врезывался клином между часовней и помещением, находившимся позади башни. В наружном углу, вероятно, располагалось окно, так как оттуда сквозь бледные стекла падали неяркие лучи света и слабо освещали какой-то предмет, принятый каменщиком за гроб.
Немедленно спустили лестницу нужной длины, так как помещение отличалось значительной высотой и все один за другим с живейшим интересом стали спускаться. Первое, что они увидели, была деревянная обшивка стен, совсем почерневшая от времени и украшенная необычайно вычурной резьбой. По потолку шел узкий художественный карниз, очевидно, более позднего происхождения. С него спускались длинные черные лоскутья сукна. Остальная часть этой траурной обивки валялась на полу в виде гниющей бесформенной массы.
По-видимому, при постройке этого помещения стояла цель сделать его по возможности скрытым, форме же не придали особого внимания. Это был правильный треугольник, в основании которого помещалось узкое окно, тесно примыкавшее к часовне. Предположение Рейнгарда, что в древние времена здесь хранились церковные драгоценности, было весьма недалеко от истины, тем более, что пять-шесть стертых ступеней вели к замурованной двери, находившейся в стене, которая примыкала к часовне. Окно было как раз за старым дубом, прикрывавшим его своими ветвями. Несколько веточек плюща покрыли стекло своей тонкой сетью, но все же отдельные солнечные лучи пробивались сквозь красивые разноцветные розетки, на которых не было заметно и следа всеобщего разрушения.
Около стены действительно стоял одинокий узкий маленький цинковый гроб, резко выделявшийся на черном бархате катафалка. В головах находился большой подсвечник с остатками толстых восковых свечей, в ногах располагалась скамеечка, на которой лежала мандолина с порванными струнами.
При приближении к гробу с него слетели последние остатки засохших цветов, и на крышке стала заметна надпись золотыми буквами: «Лила».
В самую широкую стену этого помещения был вделан большой шкаф из темного дуба. Рейнгард высказал предположение, что он служил для хранения облачения священников. Он открыл обе половинки дверей. От этого сотрясения из складок множества висевших здесь женских платьев поднялось облако пыли. Это был весьма фантастический гардероб из очень пестрых материй и кокетливого покроя, напоминавший собою маскарадные костюмы, который представлял резкий контраст с окружающей обстановкой.
Вероятно, чрезвычайно нежное создание носило эти наряды, потому что шелковые юбочки, расшитые золотом, были коротки, как детские платьица, а корсажи из красного и лилового бархата с шелковыми лентами указывали на очень тонкую девичью талию. Наверное, много-много лет прошло с тех пор, как этих платьев касались чьи-то руки. Материя вся истлела, а нитки, прикреплявшие когда-то жемчуг и бисер, оборвались и висели.
У одной из боковых стен помещался столик с мраморной доской. Его покосившиеся от времени ножки еле держались и грозили уронить стоявший на нем большой металлический ларец редкой художественной работы, выложенный слоновой костью. Он не запирался, крышка была только опущена, чтобы придержать большую бумагу, торчавшую из ларца и старательно положенную именно так, чтобы обратить на нее внимание. Она потемнела от времени и на ней, как и на всем, лежал толстый слой пыли, но большие, прямые черные буквы ясно виднелись из-под нее. Даже издали можно было прочесть имя «Йост фон Гнадевиц».
– Вот это да! – воскликнул дядюшка вне себя от изумления. – Йост фон Гнадевиц. Ведь это герой рассказа Сабины о прабабушке.
Фербер подошел ближе и осторожно поднял крышку. Там на темном бархате лежали различные украшения старинной работы: браслеты, шпильки, ожерелья из золотых монет и несколько ниток настоящего жемчуга.
Бумага упала. Рейнгард поднял ее и предложил прочитать вслух. Она была написана очень безграмотно, даже для того времени. Автор, вероятно, лучше умел владеть оружием, чем пером, но несмотря на это, строки носили поэтический характер. Они гласили:
«Кто бы ни был ты, который вступишь в это помещение, ради всего святого, ради всего, что ты любишь и что когда-либо трогало твое сердце, не нарушай ее покоя! Она лежит и спит, как дитя. Прелестное личико, обрамленное темными локонами, снова улыбается с тех пор, как его коснулась смерть. Еще раз, кто бы ты ни был – дворянин или нищий, имеющий какие-либо права на умершую, оставь ее! Пусть мой взор будет последним, покоившимся на ней!
Я не нашел в себе сил положить ее под тяжелую черную землю. Здесь вокруг нее играют солнечные лучи, и на дерево у окна прилетает птичка, из горлышка которой льются напевы, которые были ее колыбельными песнями. Светлые лучи так же золотили ту лесную чащу, и птицы так же пели в ветвях деревьев, когда стройная лань раздвинула кусты и устремила робкий взор на молодого охотника, отдыхавшего под деревьями. Тут сердце его воспламенилось, он далеко отбросил от себя ружье и последовал за девушкой, бежавшей от него. Она, дитя лесов, дочь того племени, над которым тяготеет проклятье, заставляющее ею кочевать, нигде не имеющего ни отчизны, ни клочка земли, где преклонить голову, она покорила сердце молодого дворянина. Вымаливая у нее любовь, он день и ночь бродил вокруг табора, следовал за нею по пятам, как собака, и сгорая от страсти, молил ее до тех пор, пока она не согласилась тайно покинуть своих и последовать за ним. В ночной тиши он на руках снес ее в свой замок и – горе ему! – стал ее убийцей! Он не обращал внимания на все ее мольбы, когда ею вдруг овладела внезапная, непреодолимая тоска по лесной свободе. Как пойманная птичка в страхе бьется о прутья клетки, так в отчаянии бродила она в стенах замка, где еще недавно раздавался ее ласкающий голос и звуки гитары, а теперь слышались лишь жалобы и стоны.
Он видел, что ее щеки бледнели, а ее глаза с ненавистью отворачивались от него. Его сердце испытывало страшнейшее мучение, когда она отталкивала его от себя и содрогалась от его прикосновения. Он приходил в отчаяние, но задвигал двойные засовы, в страхе охранял запертые двери, потому что знал, что она будет потеряна для него, как только ее нога коснется лесной почвы.
Наступило время, когда она стала немного спокойнее, хотя по-прежнему проходила мимо него, как мимо тени или пустого места. Она не поднимала глаз, когда он подходил к ней и ласково разговаривал с нею, она не ломилась больше в окна, раздирая нежное горло дикими криками; она не носилась как бешеная по комнатам, залам и по стенам замка с намерением броситься вниз. Она тихо сидела под дубом около башни – она знала, что скоро будет матерью. Когда приближалась ночь, он брал ее на руки и нес в замок. Она позволяла это, но отворачивалась, чтобы его дыхание не касалось ее и горячий взор его глаз не падал на нее.
Однажды священник из Линдгофа постучал в ворота замка. В народе ходили слухи, что его духовный сын Йост фон Гнадевиц имеет сношения с дьяволом, и он пришел, чтобы спасти заблудшую душу. Он был впущен и увидел то создание, ради которого веселый охотник забыл свою привольную жизнь в лесу и небо.
Ее красота и чистота тронули старика. Он заговорил с нею ласковым голосом и ее сердце, окаменевшее от горя, смягчилось. Ради своего ребенка она согласилась креститься, и их злополучный союз был освящен пасторским благословением.
Когда ее тяжелое испытание кончилось, она прижала побледневшие губы к лобику ребенка, и с этим поцелуем улетела ее душа! Теперь она была свободна. Свободна! Мальчика при крещении назвали именем отца, моим именем. Я со страхом поглядел на его глаза – это были мои глаза. Он и я убили ее. Мой старый слуга унес мальчика. Я не могу жить для него. Симон говорит, да и священник тоже, что едва ли найдется женщина, которая согласится давать грудь моему сыну, потому что в глазах народа я – погибший человек. Жена моего лесничего Фербера кормит теперь младенца, не зная его происхождения…»
Рейнгард остановился и, пораженный, поднял глаза. Лесничий, который до этого момента, внимательно слушая чтение, стоял, прислонившись к стене, быстро подошел к нему и взял его за руку. Его загорелое лицо сильно побледнело от внутреннего волнения. Фербер также с изумлением подошел ближе.
– Дальше! Дальше! – задыхаясь, воскликнул лесничий.
«Симон положил его на порог домика лесничего, – читал Рейнгард, – и видел сегодня, что жена Фербера ласкает его, как свою родную дочурку. По закону нашего рода мой сын не имеет права на наследство Гнадевицев, но то, что я имею от матери, вполне оградит его от нужды. В ратуше в Л. лежат мои распоряжения и документы, доказывающие, что он – мой сын и наследник. Пусть Господь Бог и сострадательные сердца охраняют его юность, а я этого уже не смогу! Все, что окружало ее в дни счастья, должно быть около нее и после смерти. Драгоценности по праву принадлежат ее ребенку, но мысль о том, что те вещи, которые покоились на ее шее, головке, могут попасть в чужие руки, возмущает меня. Пусть лучше все погибнет здесь.
Еще раз обращаюсь к тебе, которого случай приведет сюда, может быть, только через много столетий: помолись за меня и не нарушай покой умершей.
Йост фон Гнадевиц».
Оба брата молча подали друг другу руки и подошли к гробу. В них текла кровь удивительного создания, которое зажгло любовь в сердце молодого Йоста и не вынесло неволи!
– Она оказалась нашей родоначальницей, – сказал, наконец, Рейнгарду растроганный Фербер. – Мы – потомки того подкидыша, происхождение которого до сих пор оставалось тайной, потому что бумаги, которые должны были установить права ребенка, погибли в пожаре. Мы должны на несколько дней прервать работу, – обратился он к одному из каменщиков, который, из вполне извинительного любопытства, наполовину спустился с лестницы и с удивлением слушал разъяснение тайны, до сих пор живущей в Линдгофе.
– Но зато вы должны завтра сложить склеп на кладбище, – велел им лесничий. – Я сегодня же поговорю с пастором.
Он подошел к шкафу и взглянул на платья, некогда окутывавшие стройные формы цыганки и, по-видимому, висевшие в том порядке, в котором видели их на красивой Лиле восхищенные взоры влюбленного.
На дне шкафа стояли туфли. Лесничий взял одну пару. Они как раз покрыли его большую ладонь. Вероятно, только настоящим ножкам Золушки они были бы впору.
– Я снесу их Эльзе, – с улыбкой проговорил он. – Пусть она увидит, что ее прабабушка была такой же миниатюрной, как и она.
Фербер между тем очистил от пыли мандолину. Рейнгард запер ящик с драгоценностями и взял его за изящную ручку, приделанную к крышке. Все трое снова поднялись по лестнице. Отверстие в потолке заложили досками и все трое снова направились в обратный путь.
Дамы с напряженным интересом ждали у подножия башни и были немало удивлены, увидев необычайное шествие. Однако они не узнали ни слова обо всем случившемся, пока общество не собралось под липами. Тогда Рейнгард поставил ларец на стол, подробно описал потайную комнату и ее содержимое, достал роковой документ и прочитал его на этот раз гораздо глаже, чем раньше.
Дамы, затаив дыхание, молча слушали эти излияния пылкого сердца. Елизавета сидела бледная и молчаливая. Но когда Рейнгард дошел до места, проливающего свет на неясные стороны прошлого их семьи, вскочила и с изумлением взглянула на улыбающееся лицо дяди, который наблюдал за нею. Госпожа Фербер после окончания чтения в течение нескольких минут оставалась ошеломленной. Это романтичное разрешение старой семейной загадки являлось непостижимым для ее ясного ума.
Мисс Мертенс, которой пришлось рассказать всю историю, потому что она ничего не знала о подкидыше, всплеснула руками, услышав о чудесном стечении обстоятельств.
– Что же, на основании этой бумаги вы имеете права на наследство? – с живейшим интересом спросила она.
– Без сомнения, – ответил Фербер, – но как мы узнаем, что представляло собой то материнское наследство. Этот род вымер, имя Гнадевицев угасло, все перешло в чужие руки, откуда мы можем узнать, как и где заявить о своих правах?
– Нет, на это нечего пускаться, – решительно проговорил лесничий. – Подобные истории стоят денег. Да и в конце концов мы, может быть, получим всего несколько талеров. Бог с ними! Мы до сих пор тоже с голоду не умирали.
Елизавета мечтательно взяла туфли, которые дядя поставил перед ней. Вылинявшая и кое-где лопнувшая материя еще ясно обрисовывала все изгибы ноги. Туфли, очевидно, часто бывали в употреблении, но в них вряд ли ходили по лесу, так как подошвы были совершенно чистыми.
– Смотри-ка, Эльза, – теперь мы знаем, откуда ты явилась со своей хрупкой талией и ногами, которые бегают по траве, не ломая ее, – сказал дядя. Ты совсем такой же мотылек, как твоя прабабушка и тоже, видно, стала бы биться головой о стену, если бы тебя заперли. В тебе тоже есть цыганская кровь, хотя ты и златокудрая Эльза, а кожа у тебя, как у Белоснежки. Надень-ка эти штучки. Ты, наверное, сможешь в них танцевать, – и лесничий протянул ей туфли.
– Ах нет, дядя, – воскликнула Елизавета, отстраняя их рукою, – это для меня реликвия. Я не могла бы так обращаться с ними, мне все казалось бы, что черные глаза Поста гневно смотрят на меня.
Госпожа Фербер и мисс Мертенс были того же мнения, и первая предложила осторожно перенести шкаф со всем его содержимым в сухое место. Он должен стоять в неприкосновенности, как семейная драгоценность, пока совсем не развалится.
– Ну, с этим пунктом я, пожалуй, согласен, – сказал Рейнгард, – но относительно этих вещей я думаю иначе. – Он открыл ящик, и солнечный луч, упавший внутрь его, заиграл на драгоценностях. Рейнгард вынул ожерелье, отличавшееся замечательно художественной работой, и поучительно произнес: – Это бриллианты чистейшей воды, а вот эти рубины, вероятно, чудесно сверкали в темных локонах цыганки.
При этом он взял две булавки. Их головки изображали цветок из красных камней, а из чашечек падали изящные цепочки, на которых висело по рубину. Елизавета с улыбкой примерила чудесный аграф.
– Вы находите, господин Рейнгард, что мы должны присвоить себе эти вещи? Не знаю, что скажет мое белое платье, если в один прекрасный день я заставлю его появиться в таком обществе!
– Эти камни очень идут вам, – улыбаясь, ответил Рейнгард, – но к кисейному платью, кажется, гораздо больше подойдет букет живых цветов. Поэтому я советую отнести всю эту прелесть к ювелиру и обратить в звонкую монету.
Фербер одобрительно кивнул головой.
– Как, Рейнгард, ты находишь, что следует продать эти фамильные драгоценности?
– Конечно, было бы просто глупо и грешно дать такому капиталу лежать без пользы, – ответил он. – Одни камни здесь стоят не меньше семи тысяч талеров, да, кроме того, жемчуг и оправа составят еще кругленькую сумму.
– Да что же это! – воскликнул лесничий с удивлением. – Нечего и раздумывать – долой их! – продолжал он, положив руку на плечо брата. – Посмотри-ка, Адольф, как все переменилось к лучшему! Ведь я сразу сказал, что в Тюрингене все изменится, хотя мне и на ум не приходило, что тебе вдруг свалятся на голову восемь тысяч талеров.
– Мне одному? – с удивлением воскликнул Фербер.
– Ты как старший, имеешь больше права на эту находку.
– Вот еще! На что она мне? Не начать ли мне на старости лет отдавать деньги в рост? Только этого не хватало! Я бобыль, получаю хорошее жалованье, а когда не смогу больше служить, стану получать пенсию. Поэтому я уступаю свое первенство вот этой девице с золотыми волосами и нашему наследнику, шельмецу Эрнсту и даже не возьму взамен чечевичной похлебки, потому что, по словам Сабины, она к дичи не подходит… Отстаньте от меня! – крикнул он, когда госпожа Фербер со слезами на глазах поднялась, чтобы пожать ему руку, а Фербер хотел продолжать свои возражения.
– Вы сделали бы гораздо лучше, невестушка, если бы позаботились о чашке кофе. Это Бог знает что! Четыре часа, а у меня до сих пор ни крошки не было во рту! Чего же ради я лез в гору?
Он достиг своей цели и избежал благодарностей, так как госпожа Фербер в сопровождении Елизаветы поспешили в дом, а другие рассмеялись.
Немного времени спустя все общество удобно расположилось на террасе за чашкой душистого кофе.
– Да, – протянул лесничий, сидевший в кресле, – вот уж не думал, когда вставал сегодня утром, что лягу спать господином фон Гнадевиц. Теперь уж место главного лесничего не уйдет от меня. Эта пожелтевшая бумажка со своими вычурными письменами сделала в один день то, чего не могли достичь тридцать лет усердной службы. Как только его сиятельство прибудет в Л., я отправлюсь к нему на поклон и представлюсь под своим новым именем. Воображаю, как они вытаращат глаза!
При этих словах он искоса взглянул на Елизавету и, сильно затянувшись, скрыл свое лицо в густых облаках табачного дыма.
– Дядя! – воскликнула молодая девушка, – ты можешь говорить все, что угодно, но я-то прекрасно знаю, что тебе и в голову не придет починить сломанный герб Гнадевицев.
– Совсем не знаю, почему. Это очень красивый герб со звездами.
– И окровавленным колесом, – перебила его Елизавета. – Не дай Бог, чтобы мы поступали так, как некоторые, кто выкапывает грехи своих предков для того, чтобы доказать древность своего рода. Да и если сравнить обоих отцов: родного, малодушно бежавшего, ни минуты не подумав о своих священных обязанностях относительно ребенка, и другого, приютившего у себя беспомощное, покинутое создание и давшего ему свое честное имя, то вполне ясно, кто из них проявил благородство и чье имя не должно угасать. А сколько огорчений доставил этот род моей бедной мамочке!
– О, да, – подтвердила госпожа Фербер, тяжело вздохнув, – прежде всего я обязана ему беспокойным и безотрадным детством, потому что моя мать была прелестная женщина, но не дворянского происхождения, а мой отец женился на ней против воли своих родителей. Этот так называемый «мезальянс» служил поводом к бесконечным огорчениям и мучениям для несчастной. У моего отца не хватило силы воли порвать со своей семьей и жить только для жены. Из-за этого возникали между родителями различные раздоры, которые, конечно, не могли укрыться от меня. Ну, а мы, вероятно, никогда не забудем, – она протянула руки своему мужу, – той борьбы, которую нам пришлось вынести, прежде чем мы поженились. Я больше никогда не хотела бы возвращаться в касту, которая ради блеска и внешних форм попирает человеческие чувства.
– Да этого и не нужно, Мария, – с улыбкой успокоил ее муж, пожимая ей руку и бросив лукавый взгляд на своего брата, который, пуская клубы дыма, тщетно старался нахмурить лоб.
– Ах, мои чудные планы! – с комическим вздохом проговорил, наконец, дядя. – Эльза, ты глупа, ты вовсе не представляешь того, какую прекрасную жизнь я мог бы устроить тебе, будучи главным лесничим. Разве тебя это не прельщает?
Елизавета засмеялась, но очень решительно покачала головой.
– И почем знать, – добавила мисс Мертенс, – может быть, мы не успеем оглянуться, как какой-нибудь благородный рыцарь безукоризненного происхождения постучится в ворота Гнадека и посватается к златокудрой дворянке Эльзе?
– И вы думаете, я пошла бы за него? – запальчиво воскликнула Елизавета, при этом на ее щеках вспыхнул яркий румянец.
– А почему бы и нет? Если бы ты полюбила его.
– Никогда! – возразила девушка прерывающимся голосом, – даже если бы и любила. Я бы еще больше была огорчена тем, что мое имя для него значит больше, чем я сама, чем мое сердце.
Госпожа Фербер в смятении взглянула на свою дочь, на лице которой вдруг отразилось сильнейшее душевное волнение. Лесничий, взяв свою трубку в зубы, захлопал в ладоши.
– Эльза, золото! Дай свою руку. Ты настоящий молодец! Я с тобою вполне согласен. Послушай-ка, Адольф, ведь мы не посрамим метрической книги той маленькой деревенской церкви в Силезии, где нас крестили, и будем всегда носить то имя, которое там записано?
– И которое верно служило нам целых полвека, – добавил с улыбкой Фербер. – А этот документ я сохраню для него, – он положил руку на голову Эрнста, – до тех пор, пока он сам сможет иметь об этом зрелое суждение. Теперь я не могу и не имею права решать за него, но постараюсь воспитать его так, чтобы он предпочел пробить себе дорогу собственными силами.
– Аминь! – воскликнул лесничий, выколачивая золу из трубки. – А теперь пойдем и поговорим с пастором, – обратился он к брату. – Мне больше нравится место под раскидистыми липами на нашем деревенском кладбище, чем мрачные стены, в которых столько лет лежала наша прабабушка. Для того, чтобы «тяжелая холодная земля не касалась ее гроба», мы сделаем склеп, который выложим камнем.
Он ушел в сопровождении Фербера и Рейнгарда. В то время как фрау Фербер и мисс Мертенс убирали ящик с драгоценностями в безопасное место, Елизавета поднялась на башню и, раздвинув доски, опустилась в тайное помещение. Тонкий луч вечернего солнца пробивался сквозь красное стекло, бросая кровавый отблеск на имя «Лила».
Молодая девушка, опустив голову и сложив руки, долго стояла возле одинокого гроба, в котором нашло последнее успокоение горячее сердце цыганочки.
Глава 17
Слухи о происшествии в замке Гнадек дошли до Линдгофа еще раньше, чем Рейнгард вернулся домой. Каменщики, возвращаясь через парк особняка, рассказали одному из слуг всю историю, после чего она, передаваясь из уст в уста, с быстротой молнии долетела до хозяек дома и произвела на них почти такое же впечатление, как внезапно разорвавшаяся бомба.
Теория «голубой» крови была любимой темой баронессы. Она утверждала, что может по некоторым достоверным признакам судить о происхождении людей, имени которых даже не знает, и, конечно, усердно подчеркивала присутствие хоть малейшей капли благородной крови в плебейских жилах. На этом основании она иногда милостиво соглашалась с тем, что в маленькой Фербер есть что-то, доказывающее дворянское происхождение ее матери. Что же касается лесничего, то эти «достоверные» признаки у него совершенно отсутствовали, и она всегда отвечала на его поклон кивком из разряда для «низших». И как раз он должен был посрамить все ее пресловутые теории! Он оказался отпрыском славного древнего рода, имя которого было окружено феодальным блеском. Конечно, тут много значило то обстоятельство, что благородная кровь в течение двух столетий утратила свою чистоту из-за неравных браков.
Эту мысль баронесса с большой живостью высказала Елене фон Вальде, лежавшей на кушетке.
Та слушала ее с немного ироничной улыбкой. Был ли это личный интерес к семье Ферберов или же фрейлейн фон Вальде имела тайное основание для того, чтобы преподать урок своей кузине?
– Прости, дорогая Амалия, – возразила Елена не без некоторой резкости, – но ты ошибаешься. Я знаю наверняка, что жена письмоводителя – не единственная дворянка, вышедшая замуж за одного из Ферберов. Они всегда были красивыми, выдающимися людьми, личные качества которых удерживали верх над сословными предрассудками. Весьма возможно, что в этой семье насчитается не более неравных браков, чем в роду Лессен, а ты, вероятно, не станешь утверждать, что в жилах Бэлы течет абсолютно чистая дворянская кровь?
Бледные щеки баронессы покрылись легким румянцем, и она бросила далеко не кроткий взгляд на молодую девушку, но тотчас на ее губах появилась примирительная улыбка. К своему ужасу она почувствовала со вчерашнего дня, что почва ускользает из-под ее ног. Это было очень неприятным открытием – наталкиваться на возражения там, где она привыкла встречать лишь слепую покорность.
Она была права, приписывая изменившееся обращение Елены не столько «ужасному» влиянию брата, сколько своему собственному сыну, который в последние дни держался как-то совсем необычно. Елена хотя и обладала безусловно благородной натурой, но с детства привыкла считать себя предметом самых нежных забот и внимания. Постоянная заботливость Гольфельда, некоторые случайно брошенные нежные словечки подтверждали мнение Елены, что ее чувство встречает ответ. И вдруг он сделался оскорбительно рассеянным и невнимательным. Елена испытывала ужаснейшие мучения, все в ней было возмущено. Ее оскорбленное женское достоинство, никогда не испытанный гнев и безграничная любовь, все это боролось одно с другим. Она сделалась ворчливой и раздражительной, однако эти свойства проявлялись не по отношению к тому, чье иго Елена терпеливо сносила ради своей любви.
В тот момент, когда горничная баронессы вошла в комнату с каким-то докладом, причем, конечно, сейчас же сообщила о необычайном происшествии в Гнадеке, Гольфельд читал дамам вслух. Если бы взоры Елены не были устремлены на рассказчицу, от нее не скрылась бы перемена, происшедшая в лице ее двоюродного брата. Он слушал новости с выражением глубокого удовлетворения, затаив дыхание. Найденные драгоценности успели уже превратиться в «несметные сокровища», а гроб прекрасной Лилы – в чистое серебро.
Баронесса также не заметила разительной перемены, происшедшей с ее сыном, и после иронического замечания Елены относительно благородного происхождения семьи Лессен, бросила на него сердитый взгляд. Она была чрезвычайно удивлена, увидев, что он вдруг пододвинулся к Елене, поправил подушку за ее спиной и повернул букет так, чтобы она могла вдыхать его аромат.
– Елена совершенно права, мама, – сказал Гольфельд, обращаясь к молодой девушке и бросая на нее ласковый взгляд, – тебе меньше, чем кому-либо следовало бы критиковать происхождение этой семьи.
Баронесса оказалась достаточно умна для того, чтобы сдержать резкое замечание, готовое сорваться с ее уст, и удовольствовалась словами о том, что все это звучит слишком сказочно и трудно в это поверить. Она должна услышать рассказ из уст какого-нибудь более достоверного свидетеля, чем каменщики и убедиться, что это правда.
Этот самый свидетель, как по волшебству, появился как раз под окнами. Это был Рейнгард, возвращавшийся из замка. Он усмехнулся, когда ему передали, что его немедленно просит к себе госпожа фон Вальде, так как из любопытных расспросов он уже знал, что о находке в Гнадеке известно, и тотчас же понял, зачем его зовут.
Едва он успел войти, как был засыпан вопросами. Он отвечал с обычным спокойствием и его чрезвычайно смешило, что за показным равнодушием баронесса скрывает напряженное любопытство и глубокую досаду.
– И что же, Ферберы на основании этой бумаги действительно могут заявить свои права на это имя? – спросила она, вынимая из вазы большой георгин и усердно нюхая его.
– Я хотел бы знать, кто может оспаривать у них это право, – ответил Рейнгард. – Им надо только доказать, что они – потомки Ганса фон Гнадевица, а это они могут сделать в любой момент.
Баронесса откинулась на спинку стула и опустила веки, как бы очень утомившись или соскучившись.
– Ну, а эти «сокровища Голконды» действительно так несметны, как говорят? – спросила она.
Ее тон должен был звучать насмешливо, но чуткое ухо Рейнгарда уловило в нем громадный интерес и нечто вроде тайного страха. Он улыбнулся.
– Несметны?! Все зависит от того, как посмотреть… Я не могу судить об этом.
Как мы знаем, он прекрасно мог судить об этом, но считал, что небольшое беспокойство очень полезно этой даме.
Этот допрос, вероятно, не скоро кончился бы, если бы Бэлла не ворвалась вдруг в комнату.
– Мама, приехала новая гувернантка, – запыхавшись, воскликнула она. – Фу, она еще безобразнее, чем мисс Мертенс! – продолжала девочка, не обращая никакого внимания на присутствие Рейнгарда, – на шляпе у нее красный бант, а накидка еще старомоднее, чем у Лер. С этой я ни за что не пойду гулять, можешь быть уверена, мама!
Баронесса зажала уши руками.
– Дитя, прошу тебя, ради Бога, не делай такого шума!.. – простонала она. – И что это за глупые речи? – строго добавила она. – Ты пойдешь с мадемуазель Жаннет, если я этого пожелаю.
Причина довольно резко произнесенного выговора, из-за которого ошеломленная Бэлла надула губы и оборвала кусок бахромы с кресла мамаши, заключалась в так называемом «времени пыток», которое наступило после ухода мисс Мертенс. Баронесса должна была волей-неволей взять на себя надзор за Бэллой, что было, по ее уверениям, истинной смертью для нервов. С прибытием новой гувернантки у баронессы упала гора с плеч; для нее было вовсе нежелательно, чтобы с первой же минуты между ученицей и учительницей вышел конфликт, а потому она высказала порицание замечаниям девочки. Затем она встала и в сопровождении надувшейся дочки отправилась на свою половину, чтобы посмотреть на прибывшую. Рейнгард был тотчас же отпущен Еленой.
– Прикажешь читать дальше, Елена? – снова взявшись за газету, очень любезно спросил Гольфельд после того, как все трое оставили комнату.
– После… – нерешительно ответила она, бросая на него пытливый взгляд. – Я просила бы тебя сказать мне, что именно так рассердило тебя за последнее время. Ты знаешь, Эмиль, мне ужасно больно, когда ты не разрешаешь мне разделить твое горе. Тебе также известно, что не праздное любопытство побуждает меня вмешиваться в твои дела, а горячее участие. Ты видишь, как я страдаю от твоей холодности и замкнутости. Скажи мне откровенно, может быть, я невольно делаю что-нибудь такое, из-за чего ты не считаешь меня больше достойной твоего доверия?
Она умоляюще протянула ему руки. Камень смягчился бы от бесконечно грустного тона ее голоса. Гольфельд вертел в руках газету, опустил голову и тщательно избегал прямого взгляда молодой девушки.
– Я вполне доверяю тебе, Елена, – прервал он, наконец, продолжительное молчание, – ведь ты единственный человек в мире, пользующийся моим полным доверием. – Глаза Елены засияли, бедняжка гордилась таким предпочтением. – Но существуют различные печальные необходимости, в которых мы сами не можем себе сознаться, не говоря уже о том, чтобы говорить о них другим.
Пораженная молодая девушка приподнялась с напряженным интересом.
– Я вынужден, – запинаясь, произнес Гольфельд, – принять одно решение, а между тем оно очень и очень тяжело для меня и гнетет в последние дни.
Он поднял глаза, чтобы увидеть, какое впечатление произвели его слова.
Елена, очевидно, не имела ни малейшего понятия о том, что он собирается сказать ей, и с напряженным вниманием ловила его слова.
– Ты знаешь, Елена, что в последний год мне очень не везет с ключницами, – медленно продолжал он, – они не живут у меня, и я ничего не могу с ними поделать. Третьего дня опять отказалась последняя, поступившая две недели тому назад. Я вне себя. Эти постоянные перемены приносят мне громадные убытки, мое имение опротивело мне.
– А, ты хочешь продать Оденбург? – прервала Елена.
– Нет, это было бы глупостью. Оденбург – одно из лучших имений в Тюрингии. Я вынужден искать другой выход. Мне не остается ничего другого, как жениться!
Елена открыла задрожавшие губы, но ни один звук не сорвался с них. Не будучи в состоянии овладеть собой, она закрыла лицо руками и с тихим стоном опустилась на подушки.
Гольфельд поспешно приблизился к ней и взял ее руки в свои.
– Елена, – тихо, но нежно прошептал он (этот тон удался ему прекрасно), – согласна ли ты, чтобы я высказался и обнажил перед тобою рану своего сердца? Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, и что эта любовь останется первой и единственной в течение всей моей жизни. – При этой ужасной лжи Гольфельд даже глазом не моргнул. Он сумел придать своему голосу такой оттенок, который привел молодую девушку в необычайное волнение.
– Если бы это было возможно, – продолжал он, – то я последовал бы исключительно голосу своего сердца, жил бы только для этого чувства, потому что общение с тобой, Елена, дает мне счастье… Но ты знаешь, что я последний из рода Гольфельдов, и уже по этой причине вынужден жениться. Мне остается только одно средство, которое облегчит для меня эту жертву: я должен выбрать жену, которая знакома с тобой…
– О, говори скорее, – с тоской воскликнула Елена, в то время как слезы брызнули у нее из глаз, – ты уже решился, предчувствие не обмануло меня. Это – Корнелия!
– Киттельсдорф? – произнес он с презрительной ухмылкой. – Эта непоседа? Нет, тогда я лучше оставлю свое имение в руках непокорных ключниц? Что мне делать при моих и без того неблестящих доходах с такой легкомысленной женой? Впрочем, я уже сказал тебе и постоянно повторяю, что я еще ни на ком не остановился. Дай мне высказаться, дорогая Елена, и не плачь так горько, это переворачивает мне всю душу. Эта девушка должна знать и любить тебя и быть настолько разумной, чтобы я мог сказать ей: «Мое сердце принадлежит другой, на которой я не могу жениться. Будь другом, мне и ей».
– И ты думаешь, что найдется такая, которая согласится на это?
– Конечно, если она будет любить меня.
– Ну, я этого не смогла бы никогда… Никогда! – закричала Елена и, истерически рыдая, спрятала лицо в подушки. На гладком белом лбу Гольфельда вдруг обозначились две суровые черты. Губы его плотно сжались, и краска сбежала с лица. По всему видно было, что он сильно взбешен. Глаза его вспыхнули ненавистью в то время, когда он устремил их на девушку, которая, вопреки его ожиданиям, усложняла задачу, казавшуюся ему такой легкой. Но он преодолел себя и с нежной лаской приподнял ей лицо. Бедняжка задрожала при этом лицемерном прикосновении и бессильно опустила головку ему на руку.
– Значит, ты покинешь меня, Елена, – продолжал он грустно, – если я решусь сделать этот тяжелый шаг. Ты отвернешься от меня и оставишь одного с нелюбимой женой?
Она приподняла красные от слез глаза, в которых светился луч неизъяснимой любви. Он мастерски сыграл свою роль, и этот взгляд доказал ему, что его дело выиграно.
– Ты теперь переживаешь ту же борьбу, которую мне пришлось испытать за эти дни, пока я не пришел к твердому решению. Я понимаю, для тебя в эту минуту ужасна мысль, что в наш прекрасный союз должно вступить третье лицо, но поверь мне, я даю тебе мое слово в том, что это нисколько не изменит наших отношений. Подумай, Елена, что тогда я буду иметь возможность делать для тебя гораздо больше и чаще бывать с тобой, чем теперь. Ты можешь поселиться у меня в Оденбурге, и я стану носить тебя на руках и беречь, как зеницу ока. Сейчас ты зависишь от капризов своего брата, тогда как я, женившись на твоей подруге, посвящу тебе всю свою жизнь…
Гольфельд не обладал умом, но зато, как видно, у него было много лукавства и хитрости, которыми он достигал большего, чем другие умными речами. А бедная жертва с растерзанным и истекающим кровью сердцем и разбитой волей прямо шла в его сети.
– Я постараюсь свыкнуться с этой мыслью, – чуть слышно прошептала Елена, – но разве найдется такая девушка с возвышенными чувствами, способная на жертву, которая согласилась бы терпеть мое присутствие и которую я могла бы полюбить как сестру?
– Да, у меня есть одна мысль, она совершенно неожиданно пришла мне в голову, и я еще не совсем ее обдумал. Но, прежде всего, ты должна успокоиться, дорогая Елена. Подумай, ведь выбор зависит лишь от тебя одной, я предоставляю тебе право принять или отвергнуть ту, которую предложу тебе.
– Найдешь ли ты в себе достаточно сил, чтобы жить с женой, к которой не лежит твое сердце? – спросила Елена.
Гольфельд вовремя скрыл насмешку, так как Елена не спускала с него испытующего взора.
– Я все могу сделать, если захочу, – ответил он, а твое присутствие дает мне силы… Об одном прошу тебя: не говори пока моей матери об этом важном деле. Она, как тебе известно, любит всюду вмешиваться, а я не переношу ее опеки, она еще успеет узнать об этом, когда я представлю ей свою невесту.
Во всякое другое время это бессердечное замечание страшно возмутило бы Елену, но теперь она даже не обратила на него внимания, потому что все мысли и чувства ее в эту минуту пришли в сильное возбуждение и замешательство при одном только слове «невеста», с которым (хотя немало бывает и несчастных невест) тесно связано представление о радостях и блаженстве любви.
– О, Боже мой! – в невыразимом мучении простонала она, судорожно ломая руки, сложенные на коленях. – Я всегда надеялась, что не доживу до этого… не потому, чтобы я была настолько эгоистична, и желала бы, чтобы ты ради меня остался холостым. Нет, я только полагала, что близкая, по всей вероятности, смерть моя принудит тебя удалить от меня эту чашу горести и подождать, пока глаза мои закроются навеки.
– Но, Елена, зачем ты заходишь так далеко?! – воскликнул Гольфельд, с трудом скрывая свое нетерпение. – Кто в твои годы думает о смерти? Ты будешь жить, и я вполне уверен, что придет время, когда и мы с тобой будем счастливы. Теперь я оставлю тебя одну. Подумай хорошенько о том, что я сказал тебе, и ты сама придешь к тому же решению, что и я.
Он нежно прижал ее руки к своим губам и слегка поцеловал ее в лоб, чего прежде никогда не делал, взял свою шляпу и тихо вышел из комнаты.
Едва затворилась за ним дверь, отделившая его от несчастной, обманутой им девушки, и он очутился один в коридоре, как он лукаво улыбнулся, самодовольно щелкнул пальцами… Каким низким и презренным плутом казался он в эту минуту! Он был невыразимо доволен собою. Еще час тому назад его сердце было переполнено злобой. Страсть к Елизавете, постоянно подстрекаемая упорным сопротивлением девушки, достигла высшего предела, а со вчерашнего дня лишила его даже самообладания, которым он так гордился. Но в пылу страсти ему ни разу не пришло в голову предложить свою руку желанной девушке. Он счел бы себя за сумасшедшего, если бы подобная мысль явилась ему.
Но зато он изобретал в своем уме подлые планы и замыслы и ломал голову над тем, как бы подавить упорство дочери письмоводителя. Событие в Гнадеке придало его мыслям совершенно другое направление. Молодая фрейлейн представляла собой теперь завидную партию. Она происходила из старинной дворянской семьи и была богата, а потому он принял великодушное решение осчастливить ее предложением. Что она без колебаний примет честь – для него это было вне всякого сомнения. Единственное препятствие в исполнении этого решения заключалось в Елене – не потому, что этот шаг должен был причинить страдания горячо любившей его девушке (в этом отношении он не знал жалости), а вследствие того, что, благодаря женитьбе он мог лишиться наследства, которое ожидал после смерти Елены. Из этого следовало, что надо действовать с хитростью и осторожностью. Мы видим, что он совершенно хладнокровно играл любовью несчастной, и еще больше привязал ее к себе тем, что предоставил ей решение важнейшего вопроса своей жизни.
Как только Гольфельд вышел из комнаты, Елена, шатаясь, подошла к двери и задвинула засов. Теперь она всецело предалась своему отчаянию. Бросившись на ковер, молодая девушка стала рвать на себе волосы, тогда как вся ее тщедушная фигурка тряслась как в лихорадке. Она жила только своим горячим чувством и чрезвычайно страдала при мысли, что должна потерять любимого человека.
В ее голове бушевал настоящий хаос самых разнообразных мыслей, но она не могла уловить ни одной из них. Сегодняшнее признание в любви, которое открыло ей одновременно ад и рай, безумная ревность к той, которой она даже не знала еще, но которая будет иметь все права жены, все это бродило в ее душе и грозило прервать слабую нить, связывающую ее с телом.
Лишь вечером Елена решила отворить дверь встревоженной горничной и после усиленных просьб последней дала уложить себя в постель. Она строжайше запретила приглашать доктора, не приняла баронессы, которая хотела лично пожелать ей спокойной ночи и провела в одиночестве эту самую ужасную ночь в своей жизни.
Она немного успокоилась только тогда, когда утренний свет заглянул в щели ее занавесей. Она уверяла себя в том, что Гольфельд поступает совершенно бескорыстно. Разве он тоже не приносит себя в жертву? Ведь он любит ее, только ее, а должен принадлежать другой. Имела ли она право еще больше затруднять ему исполнение священной обязанности своими жалобами? Он предлагал ей следовать с ним по тяжелому пути жизни; могла ли она проявить трусость и малодушие там, где он рассчитывал встретить большую силу воли с ее стороны? И если он найдет девушку, которая удовольствуется дружбой, хотя с полным правом она может требовать любви, как же Елена даст другой превзойти себя в самопожертвовании!
С лихорадочной поспешностью Елена схватила с ночного столика звонок и позвала горничную, чтобы та помогла ей одеться. Она решила быть мужественной, но прежде всего должна была узнать имя той, которую Гольфельд считал способной взять на себя эту трудную миссию. Она мысленно перебирала всех своих знакомых девушек, но не было среди них ни одной, которую она тотчас не отвергла бы.
Час, в который она обыкновенно по утрам пила кофе с баронессой и Гольфельдом, еще не наступил, но Елена была не в состоянии больше сидеть у себя в комнате и велела отвезти себя в столовую в кресле, так как чувствовала себя очень слабой. К своему великому изумлению, она узнала от лакея, накрывавшего на стол, что баронесса уже с полчаса тому назад ушла гулять. Это необычайное явление было в данный момент очень удобно для Елены, потому что в окно она увидела Гольфельда, прохаживавшегося по площадке перед домом и не подозревавшего, что за ним наблюдают. Он находился в прекрасном настроении, время от времени с удовольствием подносил ко рту сигару, и на его губах играла бессознательная улыбка, позволявшая видеть прекрасные зубы. На всем его лице не было видно и следа той борьбы, которая мучила всю ночь Елену. Он вовсе не походил на жертву рокового стечения обстоятельств. Или, быть может, это являлось результатом сильной мужской воли?
Фрейлейн фон Вальде нахмурилась.
– Эмиль! – резко крикнула она.
Гольфельд от неожиданности вздрогнул, но быстро очутился у окна и помахал шляпой в знак приветствия.
– Как, – вскрикнул он, – ты уже здесь? Можно мне подняться к тебе?
– Да, – уже мягче прозвучало в ответ.
Через несколько минут Гольфельд вошел в столовую. На его лице лежало выражение глубокой серьезности. Он бросил шляпу на стол и пододвинул стул к креслу молодой девушки. Нежно взяв ее за руки, он заглянул ей в лицо и был, очевидно, поражен, его землистой бледностью и потухшим взглядом.
– У тебя очень скверный вид, – участливо произнес Гольфельд.
– Это тебя удивляет? – отозвалась Елена, не будучи в состоянии подавить горечь. – К сожалению, я не обладаю тем равнодушием, которое дает возможность через несколько часов после тяжелого испытания смотреть на жизнь так же весело, как и раньше. Я завидую тебе.
Елена с упреком посмотрела на его цветущее лицо. Гольфельд в душе проклинал свою утреннюю прогулку или, вернее, ту неосторожность, с которой проявил свои мысли о Елизавете и будущей победе, и с живостью ответил:
– Ты несправедлива, Елена, если судишь обо мне по внешнему виду. Что же, по-твоему, человек, которому приходится примириться с необходимостью, должен жаловаться и плакать?
– Ну, до этого тебе, кажется, очень далеко.
Им овладела необъяснимая досада: этот уродец осмеливался делать ему выговоры! Несмотря на то, что он прилагал все усилия, чтобы заставить Елену поверить в его пламенную любовь, он находил, что со стороны несчастной горбуньи было неслыханным самомнением воображать, что она может внушить подобное чувство. Ему стоило большого труда сдержаться, однако это удалось, и он даже сумел изобразить на своем лице меланхолическую улыбку, что придало ему интересное выражение.
– Если ты узнаешь, почему у меня только что был такой веселый вид, то, вероятно, пожалеешь о своем упреке, – сказал он. – Я представлял себе тот момент, когда подойду к твоему брату и скажу: «Отныне Елена будет жить в моей семье». Не отрицаю, что я думал об этом с чувством глубокого удовлетворения, потому что твой брат всегда неодобрительно относился к моей любви, дорогая.
Елена со вздохом облегчения протянула ему руку и сердечно произнесла:
– Я верю тебе и знай: утрата этой веры была бы для меня равносильна смерти. Ах, Эмиль, ты никогда не должен обманывать меня, даже в тех случаях, когда будешь думать, что это для моей пользы. Я предпочитаю услышать ужасную правду, чем вечно мучиться подозрением, что ты обманываешь меня. Я провела ужасную ночь, но теперь могу овладеть собой и прошу тебя сообщить мне идею, о которой ты говорил вчера. Я ясно чувствую, что не достигну душевного равновесия до тех пор, пока не буду знать ту, которая должна стать между нами. Скажи мне имя, Эмиль, настоятельно прошу тебя об этом.
Гольфельд опустил глаза. Ему казалось, что дело снова принимает скверный оборот.
– Знаешь, Елена, – наконец начал он, – я не решаюсь говорить с тобой сегодня об этом. Ты очень утомлена, я боюсь, что от серьезного разговора ты можешь заболеть. Кроме того, я должен заметить, что моя вчерашняя мысль при дальнейшем рассмотрении кажется мне все более практичной. Мне будет очень неприятно, если ты в своем взволнованном состоянии упустишь из виду ее выгодные стороны.
– Это я, во всяком случае, не сделаю! – воскликнула Елена, оживленно приподнимаясь, причем ее глаза лихорадочно блестели. – Я овладела собой и готова покориться необходимости. Обещаю тебе быть такой беспристрастной, как будто я не люблю тебя…
Она покраснела, потому что впервые произнесла это слово.
– Ну, хорошо, – нерешительно произнес Гольфельд, не будучи в состоянии всецело овладеть собой. – Что ты думаешь о молодой девушке из Гнадека?
– О Елизавете Фербер? – с изумлением воскликнула Елена.
– Елизавета фон Гнадевиц, – быстро поправил ее Гольфельд. – Внезапная перемена в ее положении привела мне на ум такую мысль. До сих пор я не обращал на нее внимания и заметил только, что она очень скромна и ее лицо выражает большое спокойствие.
– Как? В этой восхитительной девушке ты не заметил ничего, кроме скромности и спокойствия?
– Ну да, – равнодушно ответил Гольфельд. – Я помню, что ты часто сердилась на свои пальцы, тогда как она совершенно спокойно начинала пьесу и играла до тех пор, пока ты могла следовать за нею. Это мне уже тогда понравилось. Я считаю, что у нее очень ровный характер, а у моей будущей жены должен быть именно такой. Непременно! Кроме того, нельзя отрицать, что она тебя обожает и, таким образом, главное условие было бы выполнено. К тому же она выросла в очень скромных условиях, так что не будет предъявлять большие требования и легко освоится со своим положением относительно тебя. Я думаю, что она не лишена такта, хорошо воспитана и…
– Нет, нет! – закричала она, вдруг резко приподнимаясь и прерывая его. – Это бедное, очаровательное дитя заслуживает, чтобы ее любили!
Внезапный собачий вой прервал ее и заставил громко вскрикнуть. Гольфельд наступил на ногу своей Диане, которая пришла вместе с ним и разлеглась у его ног. Эта случайность пришлась очень кстати, так как слова Елены показались Гольфельду столь комичными, что он еле удержался от смеха. Он открыл дверь и выгнал хромавшую собаку. Когда он вернулся к девушке, ему удалось совершенно овладеть собой.
– Мы и будем любить ее, Елена, – сказал он совершенно спокойно, снова садясь па свое место. – Она только должна предоставить тебе мое сердце, что она, без сомнения, и сделает. У нее много хладнокровия и она ясно доказала это третьего дня, когда спасла Рудольфа.
– Как так? – поразилась Елена, раскрывая глаза от неожиданности.
Слуга, который нечаянно проболтался вчера о случае в лесу, испугавшись, что его выбранят за бестактность, умолчал о подробностях покушения и сказал только, что выстрел по счастливой случайности не попал в господина фон Вальде. Гольфельд сам узнал, как все было, лишь час тому назад от садовника. Смелое поведение Елизаветы еще больше усилило страсть, которую он испытывал: он готов был на все, чтобы добиться ее любви.
Передав в нескольких словах Елене то, что он узнал, Гольфельд заключил:
– Теперь у тебя должно быть еще одной причиной больше, чтобы любить эту девушку, а меня ее поступок лишний раз убеждает в том, что она – единственная подходящая в данном случае кандидатура.
С этими словами Гольфельд медленно отбросил своей тонкой белой рукой волосы со лба и с напряженным вниманием следил за Еленой, спрятавшей лицо в подушки. Из-под ее опущенных век струились слезы. Она не произносила ни слова. Быть может, она в последний раз боролась с собой.
Молчание, начинавшее становиться тягостным, было прервано приходом баронессы, возвратившейся с прогулки. Елена быстро поднялась и поспешила вытереть слезы. Она с видимым нетерпением сносила ласки, которыми осыпала ее очень разгоряченная баронесса, и крайне односложно отвечала на вопросы о своем самочувствии.
– Фу! – сказала баронесса, бросая накидку па руки сына и тяжело опускаясь в кресло. – Мне стало жарко. Какая ужасная дорога па гору. Никакие силы в мире не заставят меня больше идти туда.
– Ты была на горе, мама? – спросил Гольфельд.
– Ну да. Ты ведь знаешь, доктор всегда советовал мне подобные утренние прогулки.
– Да, но это было уже много лет тому назад, с тех пор ты всегда утверждала, что сердечная болезнь не дает тебе возможность совершать подобные путешествия.
– Все на свете надо испробовать несколько раз, – немного смущенно ответила его мамаша, – и так как я вчера ночью совершенно не могла уснуть, то решила сделать еще одну попытку. Но придется этим и ограничиться. Кроме того, меня ужасно рассердили. Подумай только, Елена, на площадке я встретила Бэллу с новой гувернанткой, и можешь себе представить, эта особа имела дерзость идти справа от девочки. Я сейчас же указала мисс на ее место. Где уж тут думать об улучшении своего здоровья, когда все делается так, чтобы причинять мне неприятности и огорчения.
Баронесса хотела томно опустить голову на руки, но почувствовала, что ее искусно приколотые фальшивые косы от давления шляпы съехали на уши. Она быстро поднялась и, надвигая шляпу на упрямые косы, небрежно сказала:
– Да, между прочим, Рейнгард вчера все насочинял нам. Я случайно встретила наверху письмоводителя Фербера, поздравила его…
– А, теперь я понимаю, как ты очутилась на горе, – насмешливо произнес Гольфельд. – И ты заговорила с этим человеком?
– Ну что же, теперь это можно. Меня, главным образом, интересовали драгоценности.
– Ты хотела купить их? – язвительно спросил сын, намекая на постоянную пустоту в ее кассе.
– Нет, – ответила мать, бросая на него гневный взгляд, – но у меня всегда была слабость к драгоценным камням и, если бы твой отец не умер так внезапно, у меня были бы теперь очень хорошие бриллианты, потому что он обещал их мне, но зато твой капитал был бы приблизительно на шесть тысяч талеров меньше. Однако вернемся к найденным драгоценностям. Фербер объяснил, из чего они состоят и прямо высказался, что они стоят около восьми тысяч талеров. И это Рейнгард называет громадной ценностью! Пока до свидания, через несколько минут я вернусь.
Насмешливая улыбка сбежала с лица Гольфельда во время рассказа матери и сменилась сильным разочарованием. Ему показалось, что на него вылили ушат холодной воды.
Не успела закрыться дверь за баронессой, как Елена очнулась от своей притворной апатии и протянула Гольфельду обе руки.
– Эмиль, – проговорила она сдавленным голосом, и губы ее задрожали, – если тебе удастся завоевать сердце Елизаветы, в чем я не сомневаюсь, тогда я согласна с твоим проектом, но с тем, чтобы я жила у вас в Оденбурге.
– Это само собой разумеется, – ответил он, хотя не таким уверенным тоном, как раньше. – Но я должен заранее предупредить тебя, что условия нашей жизни будут не блестящи. Мои доходы невелики, а ты только что слышала, что у Елизаветы ничего нет.
– Она не будет бесприданницей, Эмиль, можешь быть уверен, – мягко ответила девушка, причем глаза ее горели неестественным блеском. – С момента ее согласия стать твоей женой, она будет моей сестрой, и я честно поделюсь с нею. Пока я предоставлю ей доходы с моего имения Нейборн в Саксонии и поговорю насчет этого с Рудольфом, как только он приедет. Ты доволен мною?
– Ты ангел, Елена! – обрадовался Гольфельд. – Тебе никогда не придется пожалеть о своем великодушном решении и бескорыстной любви.
На этот раз его энтузиазм был непритворным, так как доходы в Нейборне превращали Елизавету в очень богатую невесту.
Глава 18
Два дня прошло с тех пор, когда Елена, как она думала, одержала над собой полную победу. Но как мало знала она всю глубину своего чувства. Она, подобно утопающему, хваталась за соломинку, тонущую вместе с нею. Елена все яснее чувствовала, что ее обещание жить в Оденбурге делает ее жертву еще более тяжелой, но ни за что на свете она не согласилась бы отступить от слова, данного Гольфельду. Она хотела быть достойной его любви, заслужить его уважение.
Ее слабая нервная система несказанно страдала от продолжительной душевной борьбы. Ее непрестанно лихорадило, она находилась в сильном возбуждении. То, что всецело заполняло мысли и чувства Елены, ежеминутно готово было сорваться с ее уст, но она молчала, как того желал Гольфельд. Он не позволил ей даже в течение первых дней звать к себе Елизавету, так как боялся, что двоюродная сестра из-за своего волнения испортит ему все дело. Он сам сделал первые шаги, чтобы снова сблизиться с красавицей из Гнадека, и дважды появлялся у калитки замка, чтобы сделать визит семье фон Гнадевиц. Он чуть не оборвал звонок, но никто не отворил ему. В первый раз действительно никого не было дома, а вчера Елизавета увидела Гольфельда издали. Родители и Эрнст были в лесничестве, а мисс Мертенс вполне одобрила намерение молодой девушки не принимать гостя. Они сидели в столовой и смеялись, в то время, как колокольчик звонил до хрипоты. Гольфельд, конечно, не имел никакого понятия об этом заговоре.
Было семь часов утра. Елена, одетая, лежала на кушетке, проведя всю ночь без сна. Баронесса еще спала, Гольфельда нигде не было видно. В одиночестве девушка оставаться не могла, да и не хотела, поэтому горничная должна была взять работу и сесть к ней. Елена ничего не слышала из того, что болтала девушка, но тем не менее звук человеческого голоса успокоительно действовал на нее.
Стук колес приближающегося экипажа заставил рассказчицу замолчать. Елена выглянула в окно и увидела, как въехал на дорожку сада экипаж ее брата. Его колеса утопали в толстом слое щебня, коляска оказалась пуста.
– Где же твой господин? – спросила Елена кучера, когда тот проезжал мимо окна.
– Их милость вышли на шоссе, – ответил старик, снимая шляпу, – и отправились пешком по шоссе мимо Гнадека в гору.
Девушка вздрогнула и захлопнула окно. Одно слово «Гнадек» произвело на нее действие электрического тока. Она не могла без ужаса слышать о чем-либо, напоминавшем Елизавету.
Елена встала и, опираясь на горничную, направилась в комнату брата. Она приказала подать завтрак и в ожидании его возвращения взяла один из роскошных альбомов, лежавших на столе. Она машинально переворачивала листы, но не могла бы сказать, что рассматривает – портреты или пейзажи.
Через полчаса в дверях показалась высокая фигура брата. Елена положила альбом на колени и протянула ему руку. Рудольф, казалось, был очень удивлен этим приемом и обрадовался, что видит сестру одну. Он быстро подошел к ней, но взгляд, брошенный на ее лицо, поверг его в недоумение.
– Ты чувствуешь себя хуже обычного? – озабоченно спросил он, садясь рядом.
Он просунул руку за спину сестры и слегка приподнял ее, чтобы лучше видеть ее глаза. В его взгляде и тоне было столько нежной заботливости, что ей показалось, будто ее изболевшаяся душа озарилась лучом весеннего солнца. Две крупные слезы покатились по ее щекам, и она крепко прижалась плечом к брату.
– Разве Фельс не навещал тебя в эти дни? – с тревогой спросил он.
– Нет, да я и сама настоятельно потребовала, чтобы его не звали. Я принимаю капли, которые он мне прописал, а больше он ничего не может сделать. Не беспокойся, Рудольф, я скоро поправлюсь. Тебе пришлось пережить много тяжелого в Тальлебене?
– Да, – ответил фон Вальде, не сводя взора с заметно изменившегося лица Елены. – Я не застал бедного Гартвига в живых. Вчера его похоронили. Ты не узнала бы несчастной жены, она в одну ночь стала старухой. – Он рассказал сестре подробности о несчастье, затем провел рукой по глазам, как будто хотел изгладить все горе, которое видел в последние дни. Потом спросил:
– Ну, а у вас тут все по-старому?
– Не совсем, – ответила Елена. – Меренг вчера уехал…
– Да? Ну, счастливого пути. Он тщательно избегал встречи со мной. Теперь у меня одним врагом меньше на свете.
– А на горе… У Ферберов радость, – продолжала Елена прерывающимся голосом, отвернув лицо.
Она не подымала глаз и поэтому не видела, что лицо ее брата подернулось мертвенной бледностью и что его дрожащие губы зашевелились и, наконец, с трудом смогли произнести только одно короткое «ну».
Елена рассказала о находке в развалинах. Услышав это, ее брат облегченно вздохнул. С каждым ее словом у него, казалось, с души спадала тяжесть.
– Это, действительно – изумительное разрешение древних загадок, – сказал он, когда Елена закончила свой рассказ. – Только я сомневаюсь, чтобы эта семья считала большим счастьем свою принадлежность к роду Гнадевиц.
– Ты думаешь так на основании того, что Елизавета столь неодобрительно отзывалась об этом роде? – прервала брата Елена. – Я ничего не могу поделать, но в таких случаях мне невольно приходит на ум виноград, который слишком зелен для лисицы.
Последние слова она произнесла с большой резкостью, и на лице фон Вальде появилось выражение сильного удивления. Он наклонился и испытующе взглянул в лицо сестры, как будто желая убедиться в том, что это действительно произнесла она.
В эту минуту в комнату вбежала собака Гольфельда и тотчас исчезла, повинуясь громкому свисту, донесшемуся с площадки. Ее хозяин проходил мимо. Очевидно, он не знал о возвращении фон Вальде, иначе, без сомнения, зашел бы, чтобы приветствовать его.
Гольфельд быстро шел вперед и завернул на дорожку, ведущую к Гнадеку. Взоры Елены следили за ним, пока он не исчез из виду. Тогда она, судорожно сжав руки, откинулась на спинку кресла с таким видом, будто все силы покинули ее.
Фон Вальде налил в рюмку немного вина и поднес к ее губам. Она ответила ему благодарным взглядом и попыталась улыбнуться.
– Я еще не все сказала, – приподнявшись, снова начала она. – Я следую примеру романистов, которые главный эффект приберегают на конец. – Было очевидно, что во время этого предисловия, которое должно было прозвучать шутливо, она собиралась с силами, чтобы спокойно произнести то, что хотела. – В нашем доме ожидается счастливое событие: Эмиль хочет жениться.
Она, вероятно, ожидала, что брат выразит большое изумление и, не получив немедленного ответа, с удивлением обернулась к нему. Рудольф сидел, закрыв глаза рукой, его лицо было мертвенно бледным. При движении Елены он быстро встал и подошел к окну, чтобы подышать свежим воздухом.
– Ты нездоров, Рудольф? – испуганно спросила Елена.
– Нет, только легкое головокружение, но оно сейчас пройдет, – ответил брат, снова подходя к ней.
Фон Вальде совершенно переменился в лице. Пройдясь несколько раз по комнате, он сел на свое место.
– Я говорила тебе, Рудольф, что Эмиль хочет жениться, – снова начала Елена, оттеняя каждое слово.
– Да, ты это сказала, – прошептал ее брат.
– Ты одобряешь это?
– Меня это не касается. Гольфельд сам себе хозяин и может делать все, что ему угодно.
– Мне кажется, он уже сделал свой выбор. Если бы я имела право, то назвала бы тебе имя этой девушки.
– Совершенно незачем. Я услышу его, когда будет соглашение. – Лицо фон Вальде еще больше побледнело и словно окаменело, голос звучал резко.
– Рудольф, прошу тебя, не будь таким жестоким – умоляюще проговорила Елена. – Я знаю, что ты не любишь многословия и привыкла к твоим лаконичным ответам; но в данную минуту ты просто невежлив, и как раз теперь, когда я хотела обратиться к тебе с просьбой.
– Говори, пожалуйста. Может быть, я должен иметь честь быть шафером у господина фон Гольфельда?
Елена вздрогнула от язвительной насмешки, звучавшей в этих словах, и после небольшой паузы, во время которой фон Вальде встал и несколько раз прошелся по комнате, с упреком произнесла:
– Ты не симпатизируешь бедному Эмилю, и сегодня это особенно заметно. Настоятельно прошу тебя, милый Рудольф, выслушай меня спокойно, я должна сегодня поговорить с тобой об этом.
Скрестив руки, он прислонился к окну и сухо произнес:
– Ты видишь, я готов выслушать тебя.
– Его невеста, – нерешительно начала Елена (ледяной взгляд брата пугал ее!) – бедна…
– Как это бескорыстно со стороны Гольфельда! Дальше!
– Доходы Эмиля невелики…
– Да, у него всего лишь шесть тысяч годового дохода. Конечно, он должен умереть с голоду.
Елена замолчала, удивленная. Ее брат никогда не преувеличивал. Сумма, которую он назвал, очевидно, была верна до последнего пфеннига.
– Ну, может быть, он и богаче, чем я думала, – снова начала Елена после продолжительного молчания, – но в данном случае это совсем неважно. Я очень люблю ту, которую он выбрал… Она сделала нечто, за что я буду ей вечно благодарна… – Фон Вальде забарабанил по стеклу пальцами с такой силой, что оно грозило разлететься вдребезги. – Пусть она будет моей сестрой, – продолжала Елена, – я не хочу, чтобы она вошла в дом Эмиля бесприданницей и хотела бы предоставить ей доходы с Нейборна. Можно?..
– Это имение принадлежит тебе, ты достигла совершеннолетия, и я не имею права что-либо запрещать или разрешать.
– Конечно, имеешь, хотя бы потому, что являешься моим наследником. Значит, у меня есть твое согласие?
– Разумеется, если ты считаешь, что оно безусловно необходимо.
– Благодарю тебя, благодарю, – перебила его сестра, протягивая ему руку, но он не заметил этого, хотя и смотрел на нее. – Ты недоволен мною? – тревожно спросила она после некоторого молчания.
– Я не могу быть недовольным тобою, когда ты имеешь намерение осчастливить людей и, вероятно, вспомнишь, что я не раз помогал тебе в этом. Но тут я сделаю тебе упрек в чрезмерной поспешности. Ты, кажется, очень торопишься устроить несчастье этой молодой девушке.
Елена подскочила, как ужаленная и запальчиво воскликнула:
– Это жестокие слова! Твое предубеждение против бедного Эмиля, основанное Бог знает на чем, заходит уже слишком далеко… Ты очень мало знаешь этого молодого человека.
– Я знаю его слишком хорошо, чтобы не иметь желания узнать ближе. Это дармоед, ничтожный человек без всякого характера, с которым будет несчастна каждая женщина, предъявляющая хоть какие-то требования к мужчине. Горе бедняжке, когда она придет к этому убеждению!
Голос его задрожал от внутреннего волнения. Елена же слышала в нем только досаду и озлобление.
– Боже, как ты несправедлив! – воскликнула она, поднимая глаза, полные слез. – Рудольф, ты грешишь! Что сделал тебе Эмиль, что ты с таким озлоблением преследуешь его?
– Разве для того, чтобы узнать характер человека, нужно получить от него оскорбление? – гневно произнес он. – Дитя, это тебе нанесено оскорбление, но ты ослеплена. Настанет день, когда ты убедишься в этом и прозреешь. Если бы я приложил все усилия, чтобы чаша миновала тебя, все равно это не привело бы ни к чему. Теперь ты видишь во мне варвара, оскорбляющего тебя в твоих лучших чувствах. Ты сама заставляешь меня предоставить тебя себе до того момента, когда ты придешь искать утешение от него у меня на груди. А что должна делать та, которая будет связана с ним навсегда?
Фон Вальде вышел в другую комнату, захлопнув за собой дверь. Елена некоторое время сидела, словно пораженная громом, а потом, с трудом поднявшись и держась за стены, вышла из комнаты.
Ею овладело чувство глубокой горечи и ненависти к брату. Ей казалось, что она жутко виновата перед Эмилем уже в том, что подобные речи коснулись ее слуха. Он никогда не должен был узнать, что позволил себе говорить о нем ее брат, но после этого она ни в коем случае не могла допустить, чтобы Гольфельд пользовался гостеприимством в Линдгофе. Она должна была, конечно, не называя причин, предложить ему вернуться в Оденбург. Но перед этим предложить ему выяснить отношения с Елизаветой.
С этими мыслями Елена вошла в столовую, а когда несколько минут спустя там появился Гольфельд, приняла его со спокойной ласковой улыбкой и рассказала, что ее брат дал свое согласие относительно приданого невесты, не спросив ее имени. Она выразила желание видеть сегодня же Елизавету у себя, и Гольфельд, обрадованный спокойной манерой, с которой она говорила, согласился на это. Было решено, что свидание состоится в четыре часа в павильоне. Гольфельд тотчас пошел, чтобы от имени Елены отдать соответствующие распоряжения. Как удивилась бы она, если бы услышала, что лакею было велено пригласить фрейлейн Фербер к трем часам, а дворецкий должен был все приготовить в павильоне к этому времени, никак не позже!
Глава 19
Когда слуга из Линдгофа позвонил у калитки Гнадека, Елизавета сидела в сенях и плела гирлянду из плюща, а мисс Мертенс держала в руках наполовину готовый венок из астр. Могила на кладбище Линдгофа была убрана. Сегодня между пятью и шестью часами пастор назначил торжественное предание земле гроба с бренными останками прекрасной Лилы, и гирлянды послужат ее последним украшением.
Посоветовавшись с матерью, Елизавета приняла приглашение. Вскоре после ухода слуги явился Рейнгард. У него был озабоченный вид и на вопросы мисс Мертенс он ответил, что фон Вальде явился из Тальлебена в ужасном состоянии духа.
– Вероятно, впечатления, вынесенные отгула, были ужасны. Мне надо было сделать кое-какие сообщения, но в течение своего доклада я убедился, что он ничего не слушает; он сидел передо мною, как потерянный. Когда я начал говорить ему о находке здесь, в Гнадеке, он с нетерпением и досадой прервал меня словами:
«Я уже довольно слышал об этом. Пожалуйста, оставьте меня в покое».
От мисс Мертенс не ускользнуло, что Рейнгард был очень оскорблен топом, которым говорил с ним его хозяин.
– Мой друг, – с утешением в голосе сказала она, – когда большое горе сваливается на нас, все окружающее становится нам безразличным или даже непереносимым. Господин фон Вальде, вероятно, очень любил покойного. Но ради Бога, Елизавета, – прервала она себя, – что вы делаете? Неужели вы находите, что это красиво? – и она указала на гирлянду.
Елизавета, слушая Рейнгарда, схватила несколько больших георгинов и вплела их в однообразную зелень гирлянды, что действительно придало ей очень некрасивый вид. Девушка, покраснев до корней волос, с неудовольствием посмотрела на свою работу и поспешила выбросить несчастные цветы.
На колокольне Линдгофа уже давно пробило три часа, когда Елизавета торопливо спускалась с горы. Дядя задержал ее своим разговором. Его возмутило то, что Елизавета приняла приглашение.
– Та бедняжка, которая будет сегодня предана земле, вполне заслуживает того, чтобы хоть один день был посвящен ее памяти, – справедливо заметил он.
Но добрый дядюшка совершенно не имел представления о том, что совершается в душе молодой племянницы. Он не знал, что его любимица все эти дни считала часы до того момента, когда «он» снова вернется.
Ноги Эльзы едва касались земли. Она хотела нагнать просроченное время и чуть не расплакалась, когда ее легкое платье зацепилось за куст шиповника и его пришлось долго и терпеливо распутывать. Она, едва переводя дух, добежала до павильона. Дверь была открыта настежь, но в нем еще никого не было. На столе стояла масса различных угощений, а в углу дивана было приготовлено уютное местечко. С облегченным сердцем вбежала Елизавета в павильон и прислонилась к одному из окон, как вдруг услышала позади себя легкий шорох. К ней приближался Гольфельд, прятавшийся за дверью. Елизавета хотела выскочить из павильона, но он закрыл ей дорогу и стал уверять, что остальные дамы сейчас придут.
Елизавета с недоумением подняла на него взор. В его тоне не было и тени той дерзости, которая так возмущала ее.
– Уверяю вас, госпожа фон Вальде сейчас придет, – повторил он, видя, что гостья сделала новую попытку приблизиться к двери, а затем добавил печальным тоном: – Разве мое присутствие так неприятно вам?
– Да, – холодно ответила Елизавета. – Если вы вспомните недавнее обращение со мной, то должны понять, что мне невыносимо оставаться с вами даже в течение одной минуты.
– Как жестоко и непримиримо это звучит! Неужели я должен так страдать за маленькую невинную шутку?
– Советую вам впредь быть осторожным в выборе людей, с которыми вы собираетесь шутить.
– Ах, я давно уже согласен с тем, что это было ошибкой и стыжусь ее. Но как я мог подумать…
– Что я требую к себе уважения? – с горящими глазами прервала его Елизавета.
– Нет-нет, в этом я никогда не сомневался. Как вы, однако, вспыльчивы! Но я же не знал, что вы имеете право требовать еще большего.
Елизавета вопросительно взглянула на него – она не поняла его слов.
– Могу ли я сделать что-либо большее, чем на коленях попросить у вас прощения? – продолжал он.
– Оно будет дано вам, но с условием, что вы немедленно оставите меня одну.
– Какая вы упрямая! Я был бы дураком, если бы упустил такой удобный случай. Елизавета, я уже говорил вам, что пламенно люблю вас.
– А я, кажется, очень ясно сказала вам, что вы мне совершенно безразличны.
Молодую девушку начала пробирать дрожь, но ее взгляд оставался твердым и спокойным.
– Елизавета, не доводите меня до крайности! – взволнованно воскликнул Гольфельд.
– Прежде всего я попрошу вас придерживаться первоначальных правил вежливости, которые запрещают нам называть посторонних по имени.
– Вы – дьявол в своей холодности и злости! – воскликнул он, дрожа от гнева. – Я допускаю, что вы имеете некоторое право проучить меня, потому что я провинился перед вами, но ведь я же готов все исправить. Выслушайте меня спокойно и вы, вероятно, раскаетесь в своей жестокости. Я прошу вашей руки. Вам, конечно, известно, что я могу доставить своей будущей жене блестящее положение. – Он с торжествующей улыбкой посмотрел на Елизавету, ожидая, что она будет вне себя от радости. В самом деле, какая перспектива, какой взлет для бедной девушки: попасть в высшее общество, быть принятой при дворе, иметь роскошные туалеты, экипажи, дворец… Сердце Елизаветы вне всякого сомнения должно быть переполнено признательностью к нему, Гольфельду.
Но этого почему-то не случилось. Елизавета гордо подняла голову и, отступив на шаг назад, спокойно ответила:
– Очень сожалею, господин фон Гольфельд. Вы могли бы избавить себя от этой неприятной минуты, а после всего того, что я сказала вам, я совершенно не понимаю, как вы могли заговорить о подобном. Но раз вы непременно желаете этого, то я объявляю вам, что наши пути совершенно расходятся.
– Что?!
– И что я никогда не соглашусь жить подле вас.
Гольфельд мгновение смотрел на нее, ничего не соображая, и не мог произнести ни слова. Его лицо приняло зеленоватый оттенок, зубы впились в нижнюю губу.
– Вы действительно заводите свою игру так далеко, что решаетесь дать мне подобный ответ? – спросил он сдавленным, хриплым голосом.
Елизавета презрительно улыбнулась и отвернулась. Это движение привело его в ярость.
– Причину… Я хочу знать причину! – пробормотал он, вновь став между Елизаветой и дверью, к которой она устремилась, и, схватив молодую девушку за платье, пытался удержать ее.
Она испугалась и отошла поглубже в комнату.
– Оставьте меня, – задыхаясь, крикнула она. Страх почти заглушил ее голос, но она собрала все силы и гордо вскинув голову, проговорила: – Если в вас нет ни искры чести, то я буду вынуждена пустить в ход свое оружие, сказав вам, что глубоко презираю вас и ненавижу. Теперь оставьте меня и…
– И не подумаю, – злобно прошипел Гольфельд, не дав ей договорить. Его бледное до этого лицо теперь горело, он был вне себя от страсти и бросился к Елизавете, как хищный зверь. Она подбежала к окну и пыталась открыть его, чтобы выскочить, но вдруг словно приросла к земле от страха. В кустах у самого окна на нее смотрело ужасное лицо, в котором Елизавета лишь с трудом узнала Берту. Она вздрогнула и отшатнулась. Гольфельд схватил девушку и сжал ее в объятиях, в своем возбуждении он не заметил искаженного лица в окне. Чтобы не видеть его, Елизавета закрыла лицо рукой. Она чувствовала на руке горячее дыхание своего мучителя, его волосы касались ее щеки, она содрогалась, но силы буквально оставили ее, и даже ни один звук не вырвался из ее груди. Увидев Гольфельда, Берта угрожающе подняла кулаки, чтобы разбить стекло, но вдруг повернула голову, словно услышав какой-то шум, а затем повернулась, опустила руки, громко захохотала и исчезла в кустах.
Все это было делом нескольких секунд. Услышав хохот, Гольфельд испуганно поднял голову. Его взор, казалось, хотел проникнуть в кусты, где исчезла Берта, но тотчас снова перевел его на молодую девушку, которую держал в своих объятиях, и теперь еще сильнее прижал ее к своей груди. Гольфельд совершенно не думал о том, что в открытую дверь павильона его могли увидеть. Он позабыл, что фрейлейн фон Вальде должна вот-вот прийти в павильон и не заметил появившуюся на пороге Елену, которая опиралась на руку брата. За ними показалась баронесса с выражением сильнейшего неудовольствия на лице.
– Эмиль! – воскликнула она дрожащим от гнева голосом.
Он вздрогнул и растерянным взглядом осмотрелся кругом. Его руки невольно опустились.
Елизавета схватилась за спинку ближайшего стула. На этот раз резкий голос баронессы показался ей прелестной музыкой, так как он явился ей на помощь. А там, дальше, стояла высокая, стройная фигура человека, при виде которого ее остановившийся пульс снова забился сильнее. Ей хотелось броситься перед ним на колени и умолять его: «Огради меня от этого человека, я бегу и отворачиваюсь от него, как от греха». Но какой взгляд был брошен ей! Неужели этот холодный уничтожающий блеск исходил из тех глаз, которые еще несколько дней тому назад с такой нежностью искали ее взгляда?
Елена, окаменев, смотрела на эту сцену. Внезапно она выдернула свою руку и, шатаясь, направилась к Елизавете. Она ни минуты не сомневалась в том, что предложение Гольфельда принято и союз заключен.
– От души поздравляю вас, дорогая Елизавета! – горячо воскликнула она, между тем как у нее из глаз брызнули слезы, и взяла дрожащие руки молодой девушки, – Эмиль дает мне в вашем лице милую сестру. Любите меня и я буду до гроба благодарна вам. Не будь так мрачна, Амалия, – обратилась она к баронессе, которая продолжала стоять на пороге, как соляной столб, – ведь речь идет о счастье Эмиля! Посмотри на Елизавету. Разве она не может удовлетворить все твои требования к той, которая в будущем должна стать столь близкой тебе? Она молода, богата, щедро одарена природой, из древнего рода, с известным именем…
Она испуганно остановилась. Только теперь в оцепенелые члены Елизаветы начала возвращаться жизнь, она лишь теперь стала понимать то, о чем говорилось. Быстрым движением освободив свои руки из рук Елены и высоко вскинув голову, она дрожащим голосом произнесла:
– Вы ошибаетесь, сударыня, я не дворянка.
– Как? Разве вы не имеете бесспорного права носить имя фон Гнадевиц?
– Да, но мы отказываемся от этого права.
– И вы действительно хотите пренебречь таким счастьем?
– Я не могу себе представить, чтобы истинное счастье могло зависеть от простого звука.
Ясно чувствовалось, что изо всех сил она старалась придать своему голосу уверенность.
Тем временем баронесса подошла ближе, начиная понимать все, что здесь происходит. В душе она чрезвычайно злилась на своего сына – ведь он не спросил ее материнского совета и согласия. К тому же эта избранница была для нее ненавистным существом. Но она прекрасно знала, что ее возражения вызовут только презрительную усмешку сына и еще более укрепят его в своем решении. Баронесса видела также, что Елена принимает горячее участие в этом деле и инстинктивно чувствовала – с этой стороны нечего бояться какого-либо проигрыша. Поэтому она решила изобразить прощающую и все понимающую мать. Но слова Елизаветы заставили ее замолчать. У надменной дворянки мелькнула мысль, что молодая девушка своим упорством может сама испортить дело, значит, нужно подлить масла в огонь.
– Мы имеем здесь дело с чисто мещанскими взглядами, – сказала она Елене, которую возражение Елизаветы до крайности удивило, и язвительно продолжала, обращаясь к Елизавете: – Вероятно, вы имеете веские причины, заставляющие вас бояться света?
– У меня нет никаких причин, заставляющих бежать от света, – возразила последняя, уже значительно овладев собой. – Мы любим свое имя, потому что оно чистое и честное и не хотим менять это бесспорное наследие на имя, приобретшее свою славу чужими слезами и потом.
– О, как возвышенно! – со злой иронией заметила баронесса.
– Вы не можете говорить это серьезно, Елизавета, – сказала Елена, – не забывайте, что это зависит от вас – счастье двух людей, – и она бросила на собеседницу многозначительный взгляд, однако та не поняла его. – В ту среду, где вы теперь будете вращаться, вы должны принести с собой дворянское имя. Вы это знаете так же хорошо, как и я, и из-за каприза не станете разбивать надежды свои и другого человека.
– Я не понимаю вас! – опять разволновалась Елизавета. – Мне совершенно не приходило в голову связывать в этим именем какие-либо надежды, я не могу себе представить, как может счастье другого человека зависеть от решения такой незаметной девушки, как я.
– Но, милое дитя мое, – возразила Елена, – подумайте: ведь с сегодняшнего дня мы – сестры. Не правда ли, Рудольф, ты с радостью примешь невесту Эмиля в нашу семью и разрешишь мне поделиться с нею?
– Да, – послышался глухой, но решительный ответ. Елизавета в изнеможении провела рукой по лбу.
Слова, которые она только что услышала, звучали крайне несправедливо и неверно. «Невесту Эмиля» сказала Елена. Значит, это она! Ужас! Кажется, эти люди сговорились, чтобы напугать ее? И фон Вальде, знавший, что она ненавидит Гольфельда, заодно с ними.
– Я вижу, что здесь произошло недоразумение, причину которого совершенно не могу понять, – задыхаясь, произнесла девушка, – разъяснить его было бы делом господина фон Гольфельда, но так как он предпочитает молчать, то я вынуждена заявить, что никогда не давала ему подобного слова!
– Но, милая, – нерешительно и смущенно произнесла Елена, – разве мы при входе не видели собственными глазами, что…
Она остановилась.
Эти слова как громом поразили Елизавету. В ее невинной душе ни разу не появлялся страх, что ее минутная беспомощность может быть истолкована как-нибудь иначе, теперь же она, к своему великому негодованию увидела, что эта беспомощность бросает на нее ужасную тень. Она еще раз обернулась к Гольфельду, но одного взгляда ее было достаточно, чтобы убедиться: с этой стороны ей нечего ждать спасения своей чести. Он стоял у окна спиной к присутствующим, как уличенный школьник. Его молчание, конечно, могло быть истолковано весьма различно.
– Боже мой, какой кошмар! – воскликнула несчастная. – Вы видели, – продолжала она, переводя дух, – как беззащитное существо тщетно старалось избавиться от навязчивости бесчестного человека. Уверения в моем глубоком презрении и полнейшей антипатии не смутили его. Я не раз уже высказывала такое свое отношение к господину фон Гольфельду, но несмотря на это…
Шум позади заставил Елизавету вздрогнуть и замолчать. Елена упала на диван, судорожно ухватившись за скатерть рукой, которая так сильно дрожала, что вся посуда на подносе зазвенела. Лицо ее стало мертвенно бледным, ее угасший взор был устремлен на Гольфельда. Она тщетно старалась овладеть собой. Свет, внезапно озаривший отвратительную интригу, сплетенную ее двоюродным братом, был слишком ярок и сильно поразил доверчивую душу Елены.
Елизавета, несмотря на свое волнение и негодование, сразу же смягчилась, видя, что творится с Еленой. Защищая свою честь, она сорвала пелену с глаз несчастной. Ей стало до крайности жаль бедную девушку, хотя она и понимала, что рано или поздно это должно произойти. Елизавета быстро подошла к ней и взяла ее похолодевшие руки.
– Простите меня, что я расстроила вас своими словами, – проговорила она. – Вы легко поймете мое положение. Нескольких слов господина Гольфельда было бы достаточно, чтобы снять с меня недостойное подозрение. Мне не пришлось бы тогда высказывать свое мнение о его характере и поступках. Я очень сожалею, что так получилось, но не могу ничего изменить.
Елизавета поцеловала бессильно повисшую руку Елены и молча быстро вышла из павильона. Ей показалось, что фон Вальде протянул ей руку, когда она проходила мимо, но она не подняла глаз.
Глава 20
Очутившись в парке, Елизавета двинулась по извилистой дорожке, ведущей к пруду. Она вышла на площадку, миновала замок и свернула на тропинку, к «Башне монахинь». Не отдавая себе отчета, куда она идет, Елизавета все больше удалялась от дома.
Ею овладело невыразимое волнение. Мысли вихрем проносились у нее в голове. Предложение Гольфельда, его необузданная страсть, неожиданное появление Берты у окна; необъяснимый факт, что Елена радостно приветствовала ее как невесту того, кого сама безумно любила!.. Среди всего этого у нее в ушах все время звучало резкое «да» фон Вальде. Значит, он бы обрадовался, стань она невестой Гольфельда! Эта женитьба, без сомнения, обсуждалась на семейном совете; фон Вальде, своим холодным умом взвесил все «за» и «против» и вместе с сестрой пришел к заключению, что избранница Гольфельда теперь не сможет обесчестить генеалогическое древо рода Гольфельдов. Было решено милостиво принять ее и устранить один недостаток – бедность, выделив ей часть своих собственных доходов.
При этой мысли Елизавета крепко стиснула зубы, словно от сильной боли – ею овладела злость. Погруженная в размышления, она иногда останавливалась, но увлекаемая вихрем своих мыслей, поспешно шла по той же дороге, что и несколько дней тому назад с фон Вальде. Ветви деревьев безжалостно стегали ее по лицу, она не думала о том, что тогда он тщательно отстранял их. Кусты были еще смяты, и вялые листья валялись на земле на том же месте, где Гольфельд и Корнелия Киттельсдорф пробрались к ним. А сот то место, где Рудольф подсказывал ей положение… Но Елизавета шла мимо, не обращая ни на что внимания. Наконец, она остановилась и удивленно оглянулась кругом: рядом с ней возвышалась «Башня монахинь». Под дубами царил полумрак, хотя на их вершине и крыше башни еще играли золотистые лучи солнца. Девушке стало жутко в чаще этого безмолвного темного леса, но ее неудержимо влекло к тому месту, где фон Вальде попрощался с нею. Она пересекла лужайку, где валялись осколки бутылок и обрывки гирлянд, и вдруг остановилась, как вкопанная. До нее донеслись звуки человеческого голоса. Сначала они звучали отрывисто, но постепенно стали яснее и начали быстро приближаться. Это был пронзительный женский голос, скорее кричавший, чем певший какую-то духовную песню. Елизавета ясно слышала, что певунья быстро бежала вперед.
Вдруг пение прервалось, и раздался ужасный смех, вернее, крик, в котором выражались насмешка и торжество, смешанные с горькой мукой. Елизаветой овладело мрачное предчувствие. Она со страхом смотрела в ту сторону, откуда доносился шум. Снова началось пение, оно приближалось с быстротой ветра. Елизавета подошла к двери башни, так как хотела избежать встречи с этой странствующей певицей, которая, без сомнения, была каким-нибудь неприятным существом. Как только Елизавета перешагнула через порог, смех раздался снова и притом очень близко. По другую сторону лужайки из чащи выбежала Берта, а с ней Волк, цепная собака лесничего.
– Волк, куси! – закричала она, указывая на Елизавету.
Собака с визгом помчалась через лужайку. Елизавета захлопнула за собой дверь и побежала по лестнице, но не успела достичь верха, как дверь внизу отворилась. Животное, пыхтя, бросилось вверх за своей жертвой. За ним бежала безумная, продолжая натравливать собаку.
Елизавета, едва переводя дух, добежала до верхней ступеньки и уже слыша за собой сопение собаки, которая почти настигала ее. Собрав последние силы, она захлопнула дубовую дверь, выходившую на площадку башни и, задыхаясь, прислонилась к ней.
Вдруг Берта дернула за ручку, но дверь не поддалась. Безумная пришла в ярость и стала колотить и ломиться в двери. Волк с визгом и ворчанием царапался у порога.
– Янтарная колдунья! – закричала Берта. – Я сверну тебе шею! Я схвачу тебя за твои желтые волосы и потащу по всему лесу. Ты украла у меня его сердце! Ты, бледнолицая ханжа! Волк, хватай ее! – Собака визжала и скреблась в дверь.
– Разорви ее на куски, Волк! Впейся зубами в ее белые пальцы, которые околдовали его своей музыкой, исходящей от дьявола. Пусть будут прокляты те звуки, которые выливаются из-под твоих рук! О горе, горе! Будь ты проклята! – И Берта снова стала биться в дверь.
Старые доски стонали и дрожали, но не поддавались ударам маленькой ноги. Елизавета, побледнев и сжимая губы, продолжала стоять у двери. Она схватила лежавший у ее ног кусок дерева, чтобы в случае необходимости защититься от нападавших. При брани и проклятиях Берты она вздрагивала всем телом, но решительно и гордо выпрямилась.
Если бы девушка внимательно осмотрела дверь, то убедилась бы, что ей совершенно нечего бояться и прислоняться к ней, так как дверь оказалась заперта на большую щеколду, которую безумная красавица не смогла бы выломать.
– Откроешь ли ты, наконец, прозрачное, хрупкое создание! – снова закричала Берта. – Ха-ха-ха! Златокудрой Эльзой называет тебя старый ворчун, которого я ненавижу. Старик ни за что не хочет быть благочестивым! Пусть он отправляется в ад, а я буду в раю! Златокудрой Эльзой называет он ее потому, что у нее янтарные волосы. Фу, какая мерзкая рыжая лисица! Мои волосы черны, как вороново крыло, я красива, я в тысячу раз красивее тебя. Слышишь ты, обезьяна?
Она замолкла. Волк также прекратил свое царапание у порога. В эту минуту в лесной тишине раздался колокольный звон. Елизавета знала, что это означает. Из развалин Гнадека двинулось погребальное шествие. Бренные останки Лилы покидали дом, о стены которого прекрасная цыганка некогда хотела разбить себе голову.
Берта, казалось, тоже прислушивалась к колокольному звону. Она не шевелилась.
– Звонят! – крикнула она. – Давай, Волк, пойдем в церковь. Пусть она остается там, наверху. Ночью ветер будет рвать ее волосы, а тучи окутают с головы до ног, вороны прилетят и выклюют у нее глаза, потому что она проклята, проклята!
И сразу после этих слов она начала свою песню. Ее ужасный голос раздавался еще громче среди узких сырых стен башни. Берта шумно сбежала вниз и с пением пошла обратно в том же направлении, откуда пришла. Пес ринулся за нею.
Берта ни разу не оглянулась назад, на башню, казалось, забыв, что там наверху стоит предмет ее ненависти. Ее красная юбка еще раз мелькнула в кустах, затем хозяйка исчезла вместе со своим страшным спутником-псом. Постепенно ее пение становилось все тише и тише. До Елизаветы доносился лишь погребальный звон.
Она, облегченно вздохнув, покинула свой оборонительный пост и взялась за ручку двери, но старый, заржавленный замок оставался неподвижным. Елизавета с ужасом заметила, что заевшая щеколда не двигается с места, несмотря на все ее старания. Обессилев, молодая узница поневоле опустила руки.
Что теперь делать? Она со страхом думала о своих родителях, которые, вероятно, уже теперь обеспокоены ее отсутствием, так как она непременно хотела быть на похоронах.
Надежду быть замеченной Елизавета тотчас же оставила. Она знала, что ее слабый крик о помощи останется неуслышанным, потому что башня находилась в самой чаще леса, и вблизи нее не пролегало никакой дороги, а кто станет бродить вечером по узкой тропинке, ведущей к зловещей «Башне монахинь»? Несмотря на это, девушка все же попыталась крикнуть, но звук ее голоса лишь спугнул нескольких ворон, которые, каркая, пролетали над ее головой… И вновь наступила полная тишина.
Елизавета в отчаянии ходила по площадке башни и, когда останавливалась возле угла, откуда должен был виднеться Линдгоф, снова пыталась звать на помощь. Наконец, она прекратила эти бесплодные попытки и опустилась на скамейку.
Она не боялась, что ей придется провести здесь всю ночь. Она знала, что ее будут искать в лесу, но пока обнаружат место ее заключения, сколько тревожных часов переживут ее родные.
Эта мысль невыразимо пугала ее и увеличивала отчаяние. Она закрыла лицо руками, и слезы закапали из глаз. Между тем наступали сумерки. На небе взошла молодая луна. В башне начала проявляться жизнь: послышались жалобные стоны, раздались шаги по лестнице, стук в дверь. Девушке стало не по себе. Но это совы и летучие мыши, отправляясь в ночное странствование, тщетно искали обычный выход. В лесу тоже зашуршало и застонало. Из чащи выходили дикие звери. Издали доносились глухие звуки выстрелов, при которых Елизавета всякий раз вздрагивала и прижималась к стене. Это охотились браконьеры.
Помощь не являлась. Очевидно, мысль дочери о том, что родители будут волноваться, была напрасной. Наверное, они думали, что она все еще в замке, и будут до десяти часов ждать ее, так что раньше полуночи нельзя было надеяться на избавление.
Становилось уже слишком прохладно. Елизавета, дрожа от холода, завернулась в легкую накидку и повязала шею носовым платком. Ей пришлось оставить скамейку и походить взад-вперед, чтобы оградить себя от простуды, причем часто перегибаться через перила и смотреть вниз.
Ее ноги все еще подкашивались, когда она вспоминала свирепое преследование Берты. Чем объяснялась ее ярость? Она твердила о чьем-то сердце, которое Елизавета у нее похитила. Не была ли госпожа Фербер права, когда предположила, что Гольфельд играл какую-то роль в странном поведении Берты?
Елизавета устало прислонилась к холодной стене. Другой образ всплыл в ее памяти. Все было кончено, кончено навсегда! Она сама разорвала всяческие отношения с особняком Линдгоф. Она лишила Елену иллюзий, на которых сконцентрировались все ее надежды, она отвергла «великодушное» предложение ненавистного ей Гольфельда и отказалась от щедрости фон Вальде, готового дать ей в приданое часть состояния ослепленной мошенником сестры… Его гордости, должно быть, нанесена болезненная рана. Фон Вальде никогда не простит ее и теперь поспешит уехать, как собирался, в какое-нибудь долгое путешествие за моря, за океаны. Она его никогда не увидит.
Елизавета закрыла лицо руками, и слезы заструились между ее пальцами.
Вдруг, когда она, вытерев лицо, снова посмотрела вниз, ей показалось, что там, где лес примыкает к парку, виднеется красноватый свет. Это, без сомнения, был факел, двигавшийся по узкой дорожке, которая привела Елизавету к «Башне монахинь». Свет внезапно остановился. В эту минуту до слуха несчастной донесся слабый зов. Она с радостью поняла, что приближается помощь, что ее ищут. Она откликнулась, хотя знала, что ее крик не будет услышан. Свет еще минуту оставался неподвижен, затем стал быстро приближаться.
– Елизавета! – пронеслось вдруг по лесу.
Этот голос проник в ее сердце – это был «его» голос. Фон Вальде звал ее, она услышала глубокое беспокойство.
– Здесь! – крикнула она вниз. – Я здесь, на башне.
Через несколько минут фон Вальде стоял на верхней ступени лестницы и сильной рукой тряс дверь. Вслед за тем он толкнул ее ногой, и старые доски с треском разлетелись. Фон Вальде вышел на площадку. В одной руке он держал факел, а другой притянул девушку к свету. Он был с непокрытой головой, его темные волосы в беспорядке падали на лоб, мертвенная бледность покрывала его лицо. Он окинул Елизавету быстрым взглядом, желая убедиться, что она невредима. Он очень волновался, его руки дрожали. В первую минуту он был не в состоянии выговорить ни слова.
– Елизавета, бедное дитя! – наконец проговорил он. – Сюда, в эти темные стены, в эту жуткую ночь загнало вас унижение, которое вы перенесли в моем доме.
Елизавета решила объяснить ему причину своего пребывания здесь и в нескольких словах изложила ему суть дела. При этом она стала спускаться с лестницы. Рудольф пошел вперед и протянул ей руку, но она взялась за веревку, служившую перилами и сделала вид, что не заметила его движения.
В эту минуту сильный порыв ветра потушил факел. Они очутились в совершенной темноте.
– Дайте мне руку! – сказал фон Вальде повелительно.
– Я держусь за перила и мне не надо никакой опоры, – ответила она.
Не успела Елизавета произнести эти слова, как почувствовала, что ее обхватили две сильные руки, которые, как перышко, подняли ее и снесли с лестницы.
– Глупое дитя! – сказал фон Вальде, опуская ее на лужайку, – не могу же я допустить, чтобы вы разбились о каменные плиты этой башни.
Елизавета направилась по дороге, ведущей к Линдгофу. Этот путь являлся самым коротким. Фон Вальде молча пошел рядом с нею.
– Вы, кажется, имеете намерение расстаться со мною, не сказав мне ни слова примирения? – произнес он, внезапно останавливаясь, причем в его тоне послышалось огорчение и сдержанная досада. – Я имел несчастье обидеть вас?
– Да, вы причинили мне боль.
– Тем, что тотчас не привлек к ответственности своего двоюродного брата?
– Вы не могли сделать это, потому что его сватовство совершилось с вашего ведома. Вы, как и другие, хотели заставить меня выйти замуж за господина Гольфельда.
– Я?! Заставить вас? Дитя, как плохо вы понимаете мужское сердце. Знайте, я удалю все, что может вам напомнить сегодняшнее событие. Вы охотно бываете в Линдгофе?
– Да.
– Баронесса Лессен покинет замок, и я хочу просить вас поддержать мою сестру, когда… Когда я снова отправлюсь в дальние страны. Вы согласны?
– Этого я не могу обещать вам. – Но почему?
– Ваша сестра не захочет моего общества, даже если… Я уже сегодня сказала, что не буду носить другого имени.
– Странный ответ. Но это к делу не относится. А, теперь я понимаю. Вы думаете, что я одобрил выбор Гольфельда потому, что на вашу долю выпало дворянство. Что? Разве не так?
– Да, я так думаю.
– И считаете, что я на этом же основании прошу вас не оставлять мою сестру? Вы убеждены вообще, что во всем, что я делаю, думаю, аристократизм играет главную роль?
– Да, именно так.
– Ну, тогда я спрошу вас, какое имя вы носили, когда я здесь, на этой самой дороге, просил вас высказать мне пожелание в день моего рождения?
– Тогда мы еще не знали, какую тайну заключает в себе башня, – чуть слышно прошептала Елизавета.
– Вы забыли те слова, которые должны были сказать мне?
– Нет, они запечатлелись в моей памяти, – быстро ответила девушка.
– И вы считаете возможным, что они могут закончиться: «Будьте здоровы в наступающем году» или что-то в этом роде?
Елизавета ничего не ответила, а смотрела на него, сильно покраснев.
– Выслушайте меня спокойно, Елизавета, – продолжал фон Вальде, однако сам был далеко не спокоен, и его голос прерывался от волнения: – Человек, которого судьба наградила всеми благами жизни, пренебрег этими преимуществами, когда начал серьезно мыслить. Он создал себе идеал своей жизненной спутницы, однако с течением времени убедился, что этот образ навсегда остался несбыточным идеалом, потому что в поисках его он достиг тридцати лет. И вот, когда всякая надежда была потеряна, блеснула яркая утренняя заря, которая всецело завладела его душой и вместе с тем повергла ее в бесконечное море сомнений, не дающих ей возможности поверить в неожиданное счастье. Елизавета, этот человек нашел драгоценный образ. Удивительно ли, что зрелый человек, не обладающий броской наружностью, недоверчиво и боязливо взирал на другого, отличающегося молодостью и красивой внешностью? Удивительно ли, что из-за одного поступка молодой девушки он на минуту увлекся самыми смелыми надеждами, а в следующее мгновение впал в полное отчаяние? Разве не казалось очевидным, что молодость привлечет к себе молодость. И когда ему сказали, что его обожаемый кумир будет принадлежать другому, то он испил эту горькую чашу до дна и ответил «да», потому что думал сделать приятное для той, которую он втайне любит! Елизавета, сегодня я совершенно уничтоженный стоял в полном отчаянии на пороге павильона. Вы не можете понять, что значит, когда человек видит гибель своих мечтаний и надежд! Нужно ли вам рассказывать о чувствах, волновавших меня, когда вы отвергли знатное имя, и я понял, что ваш союз с Гольфельдом стал невозможен?
Надо ли говорить вам, что только болезненное состояние сестры и мое чувство к вам заставили меня сдержаться и не наказать бесчестного человека в вашем присутствии? Теперь он навсегда уехал из Линдгофа и никогда больше не встретится на вашем пути. Можете ли вы забыть оскорбление, нанесенное вам сегодня в моем доме?
Он давно уже держал ее руки в своих и крепко прижимал их к груди.
Она не противилась и дрожащим голосом ответила утвердительно на его вопрос.
– Итак, моя милая, златокудрая Эльза, забудем все, что случилось между началом и окончанием пожелания. Моя прелестная фея, моя маленькая Елизавета Фербер снова стоит передо мною и повторяет пожелание слово в слово, не правда ли? Ведь я услышу пожелание, то есть последнюю фразу, так неуместно и жестоко прерванную?
– Вот вам моя рука как залог невыразимого счастья, – смущенно пролепетала девушка, покраснев.
– …Я хочу быть твоею на всю жизнь и вечность, – подсказал ей дальше Фон Вальде.
Но напрасно она открывала губы, желая повторить эти слова, так торжественно и с таким чувством произнесенные им. Слезы хлынули у нее из глаз, и она обвила руками шею того, кто с таким восторгом прижимал ее к своей груди.
– Ну вот, мое небесное видение опять покидает меня, – сказал он со вздохом, когда Елизавета осторожно высвободилась из его объятий, – оставь мне хотя бы свою руку, Эльза, мне нужно научиться верить своему счастью. Когда ты сегодня покинешь меня, вокруг моей головы снова сгустится мрак сомнений. Поняла ли ты, что ради меня должна оставить мать, отца и твое родное гнездо там, на горе? Поняла ли ты, что теперь ты моя безвозвратно?
– Да, я это знаю и желаю этого, Рудольф, – сказала она с улыбкой, но твердо.
– Будь благословенна за эти слова, моя любимая! Но ты должна знать всю глубину моего неверия. Не было ли это только жалостью ко мне, заставившей тебя принять мое предложение?
– Нет, Рудольф, любовь к тебе живет в моем сердце с того времени – не странно ли это? – когда я увидела твои гневные глаза и услышала твой голос, неумолимо осуждающий человеческую жестокость и несправедливость. И с той самой минуты это чувство никогда не покидало меня. Напротив, оно все усиливалось и росло, несмотря на мои старания уничтожить его, несмотря на все резкие слова, оскорблявшие меня.
– Кто говорил их?
– Ты сам, ты бывал вспыльчив и очень резок!
– Ах, дитя, то были вспышки неудержимой ревности. Я всю свою жизнь упражнялся в самообладании, но ужаснейшее из всех мучений – ревность превосходила мои силы. И из-за этого моя маленькая девочка хотела закрыть для меня двери рая, которые теперь открываются передо мной.
– Из-за этого? Нет, подобный труд был бы напрасен, так как один твой ласковый взгляд живо исправлял все, но тут вмешивался другой упорный боец – рассудок! Он прекрасно удерживал в памяти все рассказы о твоем невероятном аристократическом высокомерии и упорно напоминал моему сердцу причину, по которой ты отказался от руки фрейлины княгини.
– А, шестнадцать предков! – рассмеялся Рудольф.
– Знаешь, маленькая златокудрая Эльза, это перст Немезиды, – серьезно продолжал он. – Я, во избежание всяких неприятностей, схватился, недолго думая, за первое попавшееся средство, которое, как теперь вижу, едва не отбило мне счастье всей моей жизни. Я был в очень хороших отношениях с князем Л., но пребывание при его дворе в течение некоторого времени стало для меня совершенно отравлено тем, что меня хотели во что бы то ни стало женить. Принцесса Екатерина вбила себе в голову сосватать мне одну из своих фрейлин. Она не допускала мысли, что девушка могла мне не нравиться, так как та считалась первой красавицей и кружила всем головы. Все мои протесты ни к чему не привели, и однажды я решил положить конец этому, объявив, что подобный выбор ее светлости заставит меня лишиться одного из моих имений, так как оно, согласно завещанию моего дяди, должно перейти в казну, если у девушки, которую я изберу себе в жены, не будет шестнадцати предков. После этого заявления все мои мучения кончились. Во всем маленьком княжестве не было такой родословной, И все, конечно, понимали, что я хочу сохранить имение.
– И теперь ради меня ты должен будешь потерять его? – воскликнула Елизавета.
– Это вовсе не потеря. С такой женой я приобрету неизмеримо большее сокровище – счастье моей жизни.
В чаще блеснул свет факела.
– Сюда! – крикнул фон Вальде.
И вот перед ним стоял один из его слуг. Рудольф приказал ему как можно скорее идти в Гнадек и доложить о том, что барышня Фербер нашлась.
Слуга поспешно удалился.
– Я был большим эгоистом, сказал фон Вальде, положив руку Елизаветы на свою и отправляясь в путь. – Я знал, что твои родители очень беспокоятся о тебе, отец и дядя ищут тебя в княжеском лесу. Все мои люди и крестьяне Линдгофа, разыскивают тебя в окрестностях, а я забыл обо всем, когда нашел тебя.
– Бедные родители! – со вздохом произнесла Елизавета не без укоров совести, ведь для нее исчез весь мир, когда Рудольф нашел ее и пришел освободить.
– Генрих быстро ходит, – утешал ее фон Вальде, – он будет раньше нас и успокоит твоих родителей.
Они пошли в парк и миновали особняк, погруженный в полный мрак; только в окнах Елены виднелся тусклый свет.
– Там идет борьба не на жизнь, а на смерть, – пробормотал фон Вальде. – Елена безумно любила этого негодяя. Как ужасно должно быть это разоблачение.
– Пойди и утешь ее, – предложила Елизавета.
– Утешить? В такую минуту? Елена заперлась с того момента, как я отдал приказание подать господину фон Гольфельду лошадей. Пройдет немало времени, пока она снова захочет видеть меня. Человек, которому пришлось так горько разочароваться, не скоро возвращается к тем, кто предостерегал ее. Кроме того, я не вернусь сегодня домой, не удостоверившись в том, что твои родители не отнимут тебя у меня.
Они прошли мимо того места, где стояла дерновая скамейка.
– Помнишь? – с улыбкой спросила Елизавета.
– Да, там ты произнесла свое смелое решение стать гувернанткой, а я имел смелость подумать, что никогда не допущу этого. Там я невольно вырвал наивное признание, что твои родители занимают первое место в твоем сердце. И ты приняла строгий и неприступный вид, как только я стал говорить откровенно.
– Это была застенчивость.
Некоторое время спустя старые буки, заглядывавшие в окна ярко освещенной столовой дома Ферберов, увидели необычайную картину.
Высокий стройный человек, лицо которого было бледно от сильного внутреннего волнения, возвратил родителям дочь, но в ту же минуту потребовал ее обратно, как свою будущую жену, свое второе «я». Старые буки видели, как он взял молодую невесту в объятия и получил благословение потрясенных родителей, видели улыбающееся лицо матери, с благодарностью поднявшей глаза к небу и маленького Эрнста, который тряс клетку кенаря, чтобы торжественно возвестить заспанному певцу в желтом фраке, что Эльза странным образом стала невестой.
Глава 21
В то время, как в старом Гнадеке воцарилось счастье и радость, внизу, в домике лесника, произошло печальное событие.
Два крестьянина из Линдгофа, с факелами искавшие Елизавету, внезапно услышали в лесу сердитое ворчание собаки; невдалеке, поперек дороги, лежала какая-то фигура. Большая собака стояла возле нее, положив передние лапы на этот предмет, словно пытаясь его защитить. Заметив приближающихся людей, собака оскалила зубы и пришла в ярость. Она хотела броситься на них. Крестьяне не решились подойти ближе и побежали назад в деревню, где в это время собрались остальные крестьяне, ходившие на поиски под предводительством лесничего, только что услышавшего от фон Вальде, что Елизавета нашлась.
Все сразу направились к указанному месту. На этот раз собака не ворчала и завиляла хвостом, затем с визгом подползла к ногам лесничего. Это оказался Волк, а возле него лежала Берта, очевидно, без признаков жизни. У нее шла кровь из раны на голове, а лицо было покрыто мертвенной бледностью.
Лесничий не произнес ни слова, избегая сочувственных взглядов окружающих. На его лице печаль сменялась гневом. Он поднял Берту и отнес ее в последнюю избу деревни. Это был дом ткача. Оттуда он послал за Сабиной. К счастью, в деревне оказался доктор, за ним сбегали, и он скоро привел больную в чувство. Берта узнала его и попросила воды. Рана была не опасна, но доктор покачал головой и устремил странный взгляд на лесничего.
Доктор оказался прямым человеком с несколько порывистыми резкими движениями. Он быстро подошел к Ферберу и вполголоса сказал ему несколько слов. Старик отшатнулся, как пораженный смертельным ужасом и, словно ничего не сознавая, вышел из комнаты.
– Дядя! Прости меня! – крикнула Берта диким голосом, но он уже исчез во мраке ночи.
Между тем на пороге еле переводя дух, появилась Сабина, за нею следовала служанка с бельем, перевязочным материалом и различными нужными вещами.
– Господи помилуй! Что вы наделали, Берточка! – со слезами воскликнула старуха, увидев ее, бледную, лежащую на подушке.
Девушка закрылась руками и разразилась судорожными рыданиями.
Доктор дал Сабине кое-какие указания и, запретив больной всякие разговоры, ушел.
– Мне запрещено говорить, – вскрикнула Берта, приподнимаясь на постели, – но я должна рассказать Сабине все, даже если это причинит мне смерть. Оно и лучше будет.
Она привлекла старую ключницу к себе на кровать и с горькими слезами покаялась ей в своей вине. У нее была любовная связь с Гольфельдом. Он обещал на ней жениться, она же должна была торжественно поклясться ему, что будет держать это в тайне, и предъявить свои права только тогда, когда он даст свое согласие, так как, по его словам, он должен был считаться со своими родными, которых он хочет постепенно подготовить к этому решению. Она поклялась и, будучи очень восторженной, добавила к этой клятве, что ни одно слово не вырвется из ее уст до тех пор, пока она не получит возможность всем сообщить свою тайну. Их свидания происходили в «Башне монахинь» или в павильоне парка.
Никто ничего не подозревал об этом, и только баронесса, заметив что-то неладное, крайне рассердилась и запретил девушке бывать в замке. Однако это нисколько не поколебало смелых надежд Берты, так как Гольфельд утешил ее счастливым будущим.
Тут появилась Елизавета Фербер, и он стал совсем другим. Он избегал Берты, а когда она насильно добивалась свиданий, то выказывал ей жестокость и презрение, возмущавшие ее гордость. Наконец, она убедилась, что все кончено, что она обманута – вот тогда-то ей и стало все ясно о своем положении. Она пришла в отчаяние, и тут начались ночные странствования. Она не могла сомкнуть глаз и только в тихом, пустынном лесу ей становилось немного спокойнее. Наконец, все закончилось, как заканчивались бесчисленное множество раз подобные драмы, Гольфельд предложил ей некоторую сумму денег для того, чтобы она отказалась от своих притязаний и уехала в отдаленный город. Он уверял, что мать и линдгофские родные заставляют его жениться на новоиспеченной «девице фон Гнадевиц». Берта назвала его лжецом и, преисполненная жаждой мести, ворвалась в комнату его матери, и рассказала ей все. До этих слов Берта, оживленно жестикулируя, повествовала по порядку обо всем. Теперь она замолчала, и на ее лице, горевшим лихорадочным румянцем, появилось безграничное выражение ненависти.
– Эта ужасная женщина, у которой всегда на языке библейские изречения, – задыхаясь, продолжала она, – вытолкала меня вон и пригрозила затравить собаками, если я еще когда-нибудь окажусь в замке. С той минуты я не помню, что было со мной, – закончила Берта, в изнеможении падая на подушки. – Ах, Сабина, я еще большая преступница, чем вы думаете! Я пыталась убить племянницу человека, который заботится обо мне.
– Елизавету?! – ужаснулась Сабина.
– Да. В душе своей я убила ее и, если мой замысел не удался, то вовсе не из-за того, что мне недоставало злобы. Я ненавидела ее из-за Гольфельда… Волк ее бы разорвал. Но она осталась на башне.
И Берта потеряла сознание. Когда она очнулась, то увидела над собою лицо доктора.
– Господин лесничий знает о моем позоре, я это слышала, – прошептала Берта. – Сабина, что будет со мною? Он не простит мне да и вы тоже отворачиваетесь от меня. Я всем хотела зла и пожинаю позор сама… Лучше бы я умерла!
Сабина в содроганием слушала ее исповедь. Она была очень строгих правил и беспощадно осуждала подобные проступки, но все же ее сердце обладало мягкостью и жалостью. Она со слезами смотрела на Берту. Затем с состраданием положила ее голову к себе на грудь и девушка, как наплакавшийся ребенок, уснула в ее объятиях.
Берта не умерла, как надеялась. Она очень переменилась, благодаря уходу госпожи Фербер и Сабины. Припадок безумия не повторялся. Рана на голове возникла от падения на острый камень и вызвала большую потерю крови, что послужило на пользу.
Лесничий не мог прийти в себя от позора, нанесенного его честному дому. Он в первые дни не хотел слушать уговоров брата. После того, как Сабина сообщила ему о признаниях Берты, он тут же направился в Оденбург, чтобы вразумить «негодного мальчишку». Однако слуги, пожимая плечами, сообщили ему, что барин уехал на неопределенное время и неизвестно куда. Розыски, проведенные фон Вальде, тоже не дали никаких результатов. Берта заявила, что не желает ничего слышать о своем соблазнителе, так как ненавидит его столь же пылко, сколь раньше любила.
Несколько дней спустя после своего выздоровления, она покинула домик ткача (в лесничество она больше не возвращалась), чтобы отправиться в Америку. Но уехала она туда не одна. Один из помощников дяди попросил расчета, потому что давно любил Берту и не мог допустить, чтобы девушка отправилась в дальние страны одна-одинешенька. Берта обещала выйти за него замуж. Они должны были обвенчаться в Бремене. Фон Вальде снабдил их значительной суммой и по просьбе госпожи Фербер и Елизаветы, лесничий разрешил Сабине опустошить запасы его покойной жены, чтобы дать приличное приданое будущей фермерше.
В один из пасмурных, туманных осенних дней, когда, наконец, экипаж, нагруженный чемоданами, поехал в Л., в нем сидела совершенно уничтоженная и разбитая баронесса Лессен. Ее спокойная жизнь в Линдгофе закончилась и ей пришлось возвращаться в скудные условия и тесное помещение.
– Мама, – сказала Бэлла своим резким и пронзительным голосом, поминутно открывая и закрывая окно, – разве особняк принадлежит теперь Елизавете Фербер? Старый Лоренц сказал, что она теперь будет хозяйкой и что нужно исполнять все ее приказания.
– Дитя, не мучай меня своей болтовней, – простонала баронесса, закрывая лицо платком.
– Как глупо со стороны дяди Рудольфа, что он отправил нас прочь, – продолжала девочка. – Ведь в Б. у нас нет серебряных тарелок, не правда ли, мама? Я это еще помню. И повара тоже нет… И теперь нам будут приносить обед из кухмистерской, да? И ты будешь сама причесываться? А Каролина будет стирать и гладить? Почему…
– Замолчи! – перебила баронесса этот поток вопросов, каждый из которых кинжалом поражал ее сердце.
Бэлла замолчала, съежилась в углу и только тогда выглянула в окно, когда карета выехала на мостовую города Л. Баронесса же – напротив, бросив пугливый взгляд на княжеский дворец, торопливо опустила штору, закрыла лицо вуалью и залилась слезами.
После признания Берты, между фон Вальде и баронессой произошла ужасная сцена, окончившаяся изгнанием последней. Баронесса бросилась к Елене, ища ее помощи и покровительства, но та с отвращением оттолкнула ее от себя, и бывшая надменная властительница села в карету, поданную ей по приказанию хозяина замка в назначенный час.
Впрочем, в чашу ее скорби попала капля сладости. Фон Вальде назначил некоторую сумму на воспитание Бэллы, более благоразумное, чем полученное до сих пор.
Почти в тот же самый час, как баронесса навсегда покидала Линдгоф, обер-гофмейстрина фон Фалькенберг вошла в будуар ее высочества княгини, которая вместе со своим супругом только что вернулась с вод.
Обер-гофмейстрина отвесила такой низкий поклон, какой только позволили сделать ее ненадежные ноги, но это было совершено очень быстро, так что сделай это кто-либо другой, она с негодованием увидела бы в этом нарушение всех правил этикета. Она держала в руке раскрытое письмо, безукоризненная чистота и свежесть которого, как видно, сильно пострадали между ее дрожащими пальцами.
– Я почитаю себя очень несчастной, – начала она с видимым смущением, – что должна передать вашим высочествам такое скандальное происшествие! Кто бы мог подумать? Если и в наших высоких сферах пропадут стыд и совесть, если каждый будет следовать влечению своих страстей и пренебрегать своими общественными привилегиями, бросая их к ногам черни, то не удивительно, что мы не сможем удерживать свой ореол и что, наконец, народ осмелится потрясать троны.
– Пожалуйста, не волнуйтесь так, моя милая Фалькенберг, – сказал князь, которого этот монолог очень рассмешил. – В вашем предисловии мне слышится величественный язык Кассандры. Но я не вижу еще и начала предсказываемого вами землетрясения и, к своему большому удовольствию, замечаю также, – при этих словах его веселый взгляд скользнул по тихой пустынной площади, – что мои верные подданные остаются совершенно спокойными. – И что же вы желаете сообщить мне?
Она смущенно взглянула на него; его саркастический тон лишил ее уверенности.
– О, если бы ваше высочество изволили знать! – воскликнула она наконец. – И именно он, на чьей гордой крови я основываюсь, как на твердыне! Господин фон Вальде уведомил меня, что он выбрал себе невесту. И кого же? Фрейлин Фербер!
– Племянницу моего старого честнейшего лесничего, – добавил князь, улыбаясь. – Да, я уже слышал об этом. Фон Вальде, как я вижу, не глуп. Девочка, должно быть, настоящее чудо красоты и привлекательности, я надеюсь, что он не заставит нас долго ожидать такого приятного знакомства и в скором времени представит ее нам.
– Ваше высочество! – воскликнула обер-гофмейстрина, – но она дочь письмоводителя лесничего!
– Да, милая Фалькенберг, – успокоила ее княгиня, – мы это очень хорошо знаем. Но не волнуйтесь. Она принадлежит к высшему дворянству, как мы знаем?
– Позвольте, ваше высочество, – возразила старая дама с раскрасневшимся лицом, указывая на смятое письмо, – здесь прямо сказано, – помолвка с мещанкой, здесь обозначена фамилия Фербер и никакой другой нет. Так оно и останется на генеалогическом древе фон Вальде на вечные времена, и жених еще как будто особенно подчеркивает это! Что Ферберы не имеют ничего общего со старым благородным родом фон Гнадевиц, они доказывают тем, что не умеют почтить это знаменитое имя, отказываясь принять его по какой-то странной фантазии. Я очень жалею бедного Гольфельда, который, как известно, человек чистейшей крови – теперь, по случаю этого неравного брака, он теряет по меньшей мере несколько миллионов! А баронесса Лессен? В знак протеста она сегодня покинула Линдгоф!
– Все эти выпады не имеют под собой никакой основы. Вы же с ней дружите, – сухо заметил князь. – А нам не к лицу жалеть родственников, лишившихся по вполне понятной причине крупного состояния. Вы известите госпожу княгиню и меня, когда господин фон Вальде захочет представить нам свою жену.
А за дверью к этому разговору с любопытством прислушивалась фрейлина, в которой легко можно было признать фрейлейн Киттельсдорф.
– Ну, что я говорила? – произнесла она, подходя к своей напарнице. – Я знала, что мне бесполезно было приезжать в Линдгоф и кружить голову этому оригиналу фон Вальде. О, как это меня забавляет! Как мы теперь посмеемся над этой скучной старой гофмейстриной!
* * *
Если читатели пожелают вновь заглянуть вместе с нами через два года в руины Гнадека, то увидят широкую красивую аллею, ведущую туда из особняка Линдгоф. Самих развалин больше нет. Посреди зелени и журчащих фонтанов высится отремонтированный, помолодевший на сотни лет замок. Дорожки усыпаны желтым песком, газоны пестрят веселыми цветами…
Сегодня супруги Фербер ожидают в гости лесничего и его ключницу Сабину. А сейчас они радостно встречают у себя зятя с дочерью. Это первый визит Елизаветы в Гнадек за несколько недель. Они принесли дедушке с бабушкой своего первенца, который находится теперь в ласковых руках мисс Мертенс – жены славного Рейнгарда. Она приподнимает легкое кружево, открывая розовое личико младенца, который уже сейчас имеет сходство со своим отцом. Эрнст крутится тут же, со смехом показывая на маленькие кулачки младенца, которыми тот беспокойно шевелит.
Сегодняшняя радость вытеснила из всех сердец легкую грусть: год назад тихо угасла Елена и теперь покоится в беломраморной гробнице с трогательной надписью. Она умерла на руках Елизаветы, осыпая ее благословениями и вверив Богу свою чистую душу.
Об интригане Гольфельде ничего не было слышно. Он продал Оденбург и уехал за границу – неизвестно куда, чтобы скрыть досаду из-за своих провалившихся планов.
Лесничий, примирившийся с проступком Берты, давно простил ее, зная, что она исправилась и стала хорошей и верной женой своему мужу. Недавно он получил от родственницы письмо, в котором она передавала привет семье Фербер.
Дядя по-прежнему обожает свою племянницу, и нет таких похвал и благ, которых он не считал бы достойной своей «златокудрой Эльзы».



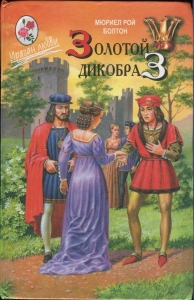

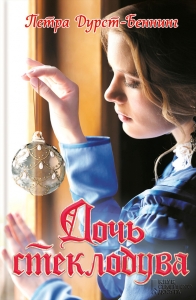

Комментарии к книге «Златокудрая Эльза», Евгения Марлитт
Всего 0 комментариев