Ирина Сахарова Февраль
Аннотация
Роскошный отель в Альпах, что он на самом деле? Элитный курорт или тюрьма, откуда нет выхода? Волею случая, постояльцы оказываются под одной крышей с безжалостным серийным убийцей, который вовсе не намерен останавливаться. Кто станет его следующей жертвой? Загадочная француженка Жозефина, бегущая от своего прошлого? Получится ли у неё сбежать от убийцы? Ведь времени на разгадки всё меньше и меньше, а подозреваемых всё больше и больше…
Пролог
Она была мертва, несомненно. Но Эрнест де Бриньон всё же наклонился к телу девушки, и коснулся её шеи, будто надеясь отыскать пульс. Напрасно. Тело было ещё тёплым, но уже безжизненным. И эта проклятая ромашка у неё на груди! Де Бриньон терпеть не мог ромашки. Они напоминали ему о далёкой юности, и о девушке, которую он любил когда-то. Сейчас, глядя на этот аккуратный белый цветок, он возненавидел их окончательно.
– Цветок, комиссар, гляньте-ка! Как и в предыдущих девяти случаях, – негромко произнёс Жан Робер за его спиной. – На этот раз ромашка! Этот ублюдок никогда не повторяется!
Де Бриньон выругался, поднялся на ноги, и сказал хмуро:
– Возможно, он ещё здесь. Тело не успело остыть. Обыщите всё хорошенько. И перекройте выходы. Нельзя дать ему уйти. Не в этот раз.
Дважды повторять не пришлось, Робер всегда отличался понятливостью, за это де Бриньон его и ценил. И пока верный помощник расставлял караул у парадного и чёрного выходов, сам комиссар отправился поверять остальные комнаты. Вдруг на этот раз ему повезёт? В конце концов, сколько уже можно гоняться за этим мерзавцем? Стыдно, право, десятерых уже потеряли, десятерых! Вышестоящее руководство намекнуло, что ещё немного, и его полицейской карьере придёт конец. Не говоря уж о том, что девушек, всех как на подбор молодых и красивых, жаль было до боли в сердце.
Нахмурившись, де Бриньон прошёл в малую залу, соседнюю с гостиной, где обнаружили тело Марии Лоран. Окно было распахнуто настежь, вот что сразу привлекло внимание комиссара, а уж потом… Он остановился, казалось бы, без малейших на то причин, замер посреди комнаты, невольно опустив оружие. Вид при этом он имел такой растерянный, что и словами не передать! Скажи вы об этом его подчинённым – те ни за что не поверили бы. Для них комиссар де Бриньон давно уже стал образцом непоколебимой решительности, твёрдости и уверенности, ярчайшим примером для подражания! И кто бы мог подумать, что такая сущая мелочь, как лёгкий фиалковый аромат, способна повергнуть его в столь глубочайший ступор?
– Не может быть! – Прошептал он, помотав головой. Прочь, прочь наваждение, что за дурные мысли? И что за странный шум там, за окном?
Де Бриньон недаром считался легендарным полицейским, из оцепенения вышел довольно быстро, и поспешил к раскрытому окну, через которое ушёл убийца.
Поначалу это казалось безумием: выпрыгнуть в окно четвёртого этажа и не разбиться насмерть абсолютно невозможно, если не умеешь летать! Но, выглянув наружу, де Бриньон заметил покатую крышу летнего кафе, занимавшего едва ли не весь первый этаж дома, где жила бедняжка Мария Лоран. А совсем рядом тянулась пожарная лестница – этот ублюдок всё просчитал! У де Бриньона появилась замечательная возможность понаблюдать, как незнакомец в сером плаще ловко спрыгивает с парапета, и, по-кошачьи мягко приземляется на прямо крышу кафе. А затем, быстро, но осторожно, чтобы не соскользнуть вниз, убегает прочь, по этой же самой крыше, минуя полицейские кордоны, поджидавшие его внизу. Чудесно, неправда ли?
Комиссар пришёл в такую ярость, что позабыл про свою нелюбовь к высоте, и, запрыгнув на подоконник, бесстрашно оттолкнулся от него, силясь ухватиться за лестницу. Рассчитал он правильно, руки сомкнулись на холодных проржавевших ступенях, но сама лестница заскрипела, задрожала под ним, грозясь в любую секунду обрушиться вниз. Пришлось действовать быстро, ибо умирать в возрасте тридцати двух лет, согласитесь, мало кому хочется. Вот и де Бриньону не хотелось, хотя порой возникали мысли, что лучше уж так, нежели в очередной раз выслушивать разнос от начальства за – подумать только! – уже десятую жертву!
Но на этот раз всё будет по-другому! На этот раз он поймает этого мерзавца, и тогда… Правда, о том, что будет после, де Бриньон задумываться не хотел. Уж очень смутил его этот запах фиалок. Неужели…? Чёрт возьми, неужели его догадки подтвердятся?
Спрыгнув на крышу летнего кафе, де Бриньон крикнул своим людям, стоявшим внизу, чтобы бежали к привокзальной площади наперерез убийце, а сам поторопился следом, по крыше, стараясь не соскользнуть и не загреметь вниз. Здесь-то насмерть не разобьёшься, но шанс поймать этого мерзавца первым будет навсегда упущен. Впрочем, они и так его поймают. Он сам дал приказ в случае крайней нужды стрелять на поражение – что угодно, лишь бы не дать убийце уйти! И сейчас об этом уже жалел. Ведь если он не ошибся на счёт фиалок – страшно подумать, чем всё это может обернуться!
Отгоняя прочь мысли, комиссар де Бриньон ускорил шаг, в результате чего два раза поскользнулся и три раза едва не скатился вниз, но, благо, обошлось – вовремя удержался, схватившись за решётки чьего-то аккуратного балкона, заставленного цветами. Не фиалками, благо, и не ромашками, от которых несчастному комиссару уже делалось дурно.
А убийца тем временем добрался до угла дома, где крыша спасительного кафе заканчивалась самым неудачным для него образом. Ну и что теперь ты будешь делать, дружище? Де Бриньон усмехнулся в усы, заметив некоторую растерянность убийцы, но длилась она, увы, не более трёх секунд. А дальше тот, уже не колеблясь, разбежался и перепрыгнул на соседнюю крышу. Комиссар, который был уверен, что уже настиг беглеца, в результате руки его схватили только воздух. Пахнущий фиалками воздух…
Полицейские внизу растерянно замерли, ожидая, что убийца спрыгнет вниз, когда поймёт, что дальше бежать уже некуда, и были весьма удивлены этой поразительной изворотливостью и категорическим нежеланием сдаваться. А де Бриньон снова выругался, прекрасно понимая, что либо ему придётся либо повторить акробатический подвиг этого фиалкового мерзавца, либо смириться с очередным поражением. Пришлось рискнуть. В конце концов, рухнуть прямо на мостовую, под ноги к своим подчинённым виделось не так страшно, как предстать перед начальством с десятой неудачей подряд. Разбежавшись, он перемахнул на соседнюю крышу следом за убийцей. Кто-то из ребят снизу воодушевлённо присвистнул, восхищаясь прытью своего начальника. Но любовались зрелищем они недолго – почти сразу же рассредоточились по закоулкам, чтобы перекрыть пути отступления для попрыгунчика-акробата, когда тот надумает, наконец, спуститься.
Вот только он, видимо, и не собирался этого делать. Ловко уходил по крышам, ничуть не заботясь о суетящихся полицейских визу, будто и не слыша их криков, будто не обращая внимания на тяжёлые шаги комиссара за своей спиной. Тогда де Бриньон решил напомнить о себе. Револьвер по-прежнему был в его руках, и он, прицелившись прямо на ходу, выстрелил без предупреждения.
Мимо. Убийца пригнулся, но шага не замедлил. Ещё крыша. И ещё одна. Трёхсекундный разбег для прыжка дал комиссару время, чтобы лучше прицелиться. Второй выстрел пришёлся в цель – человек в сером плаще рухнул на крышу соседнего дома, зажимая рукой плечо. Но, видимо, ранение было недостаточно серьёзным, ибо в следующую секунду он вновь поднялся, и побежал ещё быстрее. Де Бриньон, чертыхнувшись, ринулся следом. Можно было попробовать выстрелить снова, но он рисковал отстать и потерять убийцу из виду. Да и боялся он, по правде говоря – боялся, что его выстрел может оказаться смертельным, а убивать беглеца комиссар не хотел. До тех пор, пока не разберётся с этими проклятыми фиалками! Поэтому он предпочёл действовать наверняка – разбежавшись, перепрыгнул на крышу дома напротив, и бросился вслед за убегающим незнакомцем.
А вот и привокзальная площадь! Де Бриньон облегчённо перевёл дух: ну всё, добегался, дальше не уйдёт! Этот дом был последний, и через несколько шагов крыша обрывалась тёмной пустотой, где, внизу, наверняка уже ждал полицейский патруль. Однако убийца действовал весьма решительно, не думая останавливаться, он прямо с разбегу прыгнул вниз. Де Бриньон оказался разумнее, слепо кидаться с крыши не стал, и остановился у самого края: что ж, мерзавец и здесь всё просчитал, приземлился аккурат на повозку с сеном, что стояла прямо посреди улицы, перегораживая путь полицейскому патрулю. Комиссар уже слышал их голоса, слышал пронзительные свистки, разрывающие ночь, но все они тонули в нарастающем гуле толпы, собравшейся у вокзала. Что за чёрт? Откуда столько народу, в такое-то время?
По правде говоря, привокзальная площадь и по ночам никогда не пустовала, но, помилуйте, что за столпотворение? Пока де Бриньон спускался вниз, он тысячу раз успел обозвать себя идиотом. С этими поисками, расследованием и погонями он совсем забыл, какой сегодня день! Четырнадцатое июля, чёрт возьми, национальный праздник во Франции! А у него-то совершенно вылетело из головы… Вот почему столько людей! И вот почему этот мерзавец действовал так уверенно: он знал, куда бежать! В толпе затеряться гораздо проще, ну разумеется! Он всё просчитал, всё продумал!
Стиснув зубы, де Бриньон метнулся в толпу, следуя за серым плащом убийцы. И, нещадно расталкивая шумных и веселящихся горожан, он упорно продвигался вперёд, стараясь не отставать ни на шаг. Если он упустит его в очередной раз, это будет катастрофа! Почему-то вдруг вспомнилась Мария Лоран, милая улыбчивая девушка семнадцати лет, торговавшая цветами вот на этой самой площади. Де Бриньон знал её отца, старина Лоран и сам служил когда-то в полиции, но недавно подал в отставку. Бедняга, новость о смерти единственной дочери сломает его.
Ещё одна причина, почему убийцу нужно как можно скорее поймать и призвать к ответу! Ради Мари Лоран, ради тех девятерых, кто был до неё. И ради тех, кто, возможно, ещё будет, если вовремя не остановить этого фиалкового демона.
Де Бриньон прибавил шаг, случайно наступил на ногу какому-то господину и выслушал о себе много нелестных слов, но останавливаться не стал. Но в следующий момент понял, что упустил из виду серый плащ, а отыскать его заново в такой толпе не было ни единой возможности. Отчаяние охватило комиссара, он остановился, беспомощно оглядываясь по сторонам, а запах фиалок, казалось, стал ещё сильнее, будто издевался над ним! Возможно, какая-то дама просто щедро сбрызнула себя духами, но де Бриньону казалось, что этот запах будет преследовать его до конца дней.
А потом небеса вдруг взорвались сотнями разноцветных искр, с оглушающим грохотом, под радостные крики толпы. Яркие сполохи, алые, синие, белые – фейерверк, новомодное развлечение, китайское, кажется? Де Бриньон никогда прежде такого не видел, но нынешняя ситуация как-то не располагала к развлечениям. К тому же, очередная вспышка озарила тёмный закуток возле самого входа в здание Восточного вокзала, а там – не показалось ли? – промелькнул знакомый серый плащ!
Комиссар без малейших колебаний направился туда. Какой-то мужчина преградил ему путь, но де Бриньон довольно бесцеремонно оттолкнул нерасторопного мсье в сторону, под возмущённые возгласы его жены, грозящейся позвать полицию.
Полицию! Да он и есть полиция – она, что, не заметила на нём мундир? Де Бриньон только фыркнул в ответ, и ускорил шаг, всё так же беззастенчиво расталкивая людей, имевших несчастье попасться ему на пути. И вот, здание вокзала, почти пустое, погружённое в сумрак. Свет горел только у касс, где стояло несколько человек: два джентльмена, да какая-то дама с ребёнком. В такое время, право? Почему они не на празднике?! Почему не смотрят фейерверк с остальными? Комиссар огляделся по сторонам, но больше никого не обнаружил. Револьвер пришлось поспешно убрать, чтобы не пугать честных граждан, но поздно – малыш уже заметил оружие, и теперь во все глаза смотрел на незнакомого господина в полицейской форме. А когда на улице снова громыхнуло, и радостно завизжала толпа, мальчик испуганно завыл, дёргая мать за юбку. Но та ни малейшего внимания на своё чадо не обращала, вовсю пререкаясь с кассиршей за стеклом:
– Как это – ничего не можете сделать?! Но мы же опоздали всего на три минуты! А всему виной ваши проклятые праздники! Все дороги перекрыты, на площади яблоку негде упасть, да что за невезение?! – С кошмарным акцентом говорила она, от души коверкая французский язык. – Поезд ещё наверняка не отбыл! Я прошу вас, сделайте что-нибудь, у меня же ребёнок! Леон, милый, прошу тебя, не плачь! Видите, что вы наделали? Мой сынишка плачет из-за вас!
Чёрт возьми, подумал де Бриньон. Но вовсе не из-за рыдающего мальчика – увы, наш комиссар был не настолько сентиментален! Расстроило его то, что часы над кассами показывали пять минут первого. И эта женщина, бессовестно скандалившая на кассе, только что опоздала на свой поезд, кажется? «Ваши проклятые праздники», она сказала? Стало быть, сама не француженка. И ещё этот её акцент – судя по всему, немецкий… но имя у ребёнка явно не германское.
Швейцария, чёрт возьми! Там живут и французы, и немцы в равном количестве. Каждый день с Восточного вокзала в Берн отходит полночный экспресс. Помнится, частенько опаздывает – так что претензии этой мадам, может статься, не такие уж безосновательные? Может, ещё есть шанс успеть? Размышлять де Бриньон не стал, стремительно бросившись в сторону дебаркадера, а в голове билась одна мысль – только бы не опоздать, ну только не опять, Господи!
Но он опоздал. Именно этой ночью поезд отправился по расписанию. Когда де Бриньон выбежал на платформу, состав уже почти скрылся из глаз, но комиссар всё же успел увидеть, как человек в сером плаще на ходу запрыгивает на заднюю площадку последнего вагона.
В дальнейшей погоне не было смысла, но упрямый комиссар всё равно побежал – вплоть до самого конца платформы, будто в ожидании чуда. Однако никакого чуда не случилось, поезд уехал, увозя убийцу с собой. Де Бриньон ещё видел его, человека, в сером плаще – переводя дух, тот прижимался спиной к двери багажного вагона, и, как будто, смотрел на своего преследователя. Но де Бриньон не мог разглядеть лица, как ни старался. Состав успел отъехать слишком далеко.
Да и имело ли это смысл? На ближайшей же станции поезд остановят, полицейский патруль проверит вагоны на наличие посторонних, и, если убийца не спрыгнет где-нибудь на перегоне, то его обязательно найдут. В любом случае, нужно послать ребят прочесать окрестности, далеко он не уйдёт, к тому же неизвестно, насколько серьёзно его ранение.
Де Бриньон чертыхнулся, и уже собрался, было, пойти назад, но помедлил, заметив что-то на самом краю платформы. Подошёл поближе, пригляделся – это оказался платок. Обычный шейный платок, судя по пятнам крови, оброненный убийцей. Комиссар наклонился и поднял его.
Платок пах фиалкой.
Часть первая. Жозефина I
– Вы уже слышали последние новости?
– Вы про того убийцу? Право, как же не слышать?
– А правда ли, что он сбежал из Франции сюда к нам, в Швейцарию?
– Помилуйте, дорогая! Вздор и вымысел!
– Вы так считаете? Об этом все газеты только и пишут!
– Да-да, я тоже слышала! Вроде как, французская полиция села ему на хвост, и он не придумал ничего лучше, чем приехать сюда, в Швейцарию, полночным бернским экспрессом!
– Бог мой, как страшно! Говорят, он убивает только женщин?
Вот такими оптимистичными возгласами встретили меня во дворе курортного альпийского отеля с мрачным названием «Коффин» [1]. Надо думать, англичане здесь останавливаются нечасто, и о причинах догадаться нетрудно.
Однако, что за чудесное начало дня! Все эти истории о серийном убийце звучали, хм, многообещающе. Что ж, я суеверной никогда не была, в отличие от моей Франсуазы, которая замерла на выходе из экипажа, начисто игнорируя протянутую ей руку услужливого лакея. Бедняжка вся обратилась вслух. Мнительность, определённо, сведёт её в могилу однажды.
А кумушки, сплетничающие под сенью раскидистых каштанов, как на грех, не умолкали:
– Он убивает не просто женщин, а непременно молодых и непременно красивых!
– И зачем-то кладёт цветок рядом с каждой своей жертвой, об этом в газетах тоже писали!
– У него наверняка какая-то мания! Психические отклонения, или что-то в этом роде, я читала труд одного австрийского учёного, господина Фрейда, так вот он говорил…
– Право, дорогая, это скучно! Вечно вы читаете всякую ерунду! Другое дело французские газеты, вот это поистине увлекательно! Говорят, последней жертвой этого психопата стала семнадцатилетняя Мария Лоран, дочка полицейского!
«Бог ты мой, это когда-нибудь закончится?», раздражённо подумала я, и обернулась на Франсуазу, всё ещё в смятении стоявшую на подножке экипажа. Лакей деликатно покашлял, и она, спохватившись, вежливо улыбнулась и спустилась-таки, опираясь на его руку.
– А предыдущая, вы слышали? Дочка посла! Посла! Этому мерзавцу, похоже, жизненно необходимо было утереть нос французской полиции и указать на её немощность!
– А вы, дорогая, никак поощряете подобную дерзость? Забыли, должно быть, что этот убийца перебрался к нам, в Берн? Кто знает, может, именно сюда, в этот самый отель?
– Помилуй господи! Да как у вас язык-то повернулся такое сказать?
– А я бы на вашем месте призадумалась. У вас, между прочим, дочка нежного возраста. И, черноволосая, как раз в его вкусе. Я уже говорила, что он убивает только брюнеток?
Мы с Франсуазой как раз заходили во двор, и на этой замечательной оптимистичной фразе все три кумушки как по волшебству повернулись к нам. Увлечённые своей беседой, они не слышали, как подъехал наш экипаж, но, по-моему, куда больше их заинтересовали мои угольно-чёрные волосы, завитые в локоны и спускающиеся по плечам. Одна из женщин толкнула свою подругу в бок, призывая обратить внимание именно на этот факт, а третья кумушка прижала руку к виску и сказала:
– У меня от ваших разговоров заболела голова!
Вот-вот. И у меня тоже! Я вежливо улыбнулась, сделала короткий реверанс, и две немолодые уже дамы поспешно ответили на приветствие. Третья, сидевшая в плетёном кресле возле стола, выглядела столь удручённой, что не обратила на нас с Франсуазой ни малейшего внимания. Но я простила ей эту невежливость – как-никак, именно у неё была молоденькая черноволосая дочь, кандидатка на роль следующей жертвы для кровожадного убийцы! Усмехнувшись, я посмотрела на побледневшую Франсуазу, тенью следовавшую за мной.
– Какие страшные вещи они говорят! – Прошептала она, поняв по моему взгляду, что я догадываюсь о причинах её волнения. – Неужели он и впрямь сбежал от французских властей сюда, в Швейцарию?
– Бог мой, Франсуаза, ну хотя бы ты не начинай! Мне эти истории ещё дома до смерти надоели! – Обняв её за плечи, я ехидно улыбнулась, и сказала без малейшего зазрения совести: – К тому же, ты слышала, что они сказали: он убивает только молодых и красивых! Так что можешь быть спокойна, к тебе ни то, ни другое не относится!
– Ты, как всегда, сама доброта, Жозефина! – Со вздохом произнесла моя верная спутница, но беспокойство в её глазах сменилось задорным блеском, и меня это несказанно порадовало.
На самом деле, я любила Франсуазу. Говорить о ней я могла всё, что угодно, но в глубине души давно признала неоспоримый факт – кроме неё, у меня не было больше близких людей, ни единого в целом мире. Матушка моя умерла, когда я была ещё малюткой, а чудовище, называвшее себя моим отцом, до определённых пор не знало даже, как меня зовут. Потом, когда семнадцатилетняя Жозефина превратилась из нескладного ребёнка во вполне себе милую девушку, дорогой отец соизволил вспомнить о том, что у него есть дочь.
Брак с Рене был самым ужасным событием в моей жизни. Когда мне сообщили, что совсем скоро я выйду замуж, я от отчаяния попыталась покончить с собой. Это был второй раз, когда я оказалась на грани отчаяния, и первое неудачное самоубийство на моём счету. Вот такая я была эмоциональная, а ещё маленькая и глупая – сейчас вспоминаю о случившемся лишь с лёгкой грустью, но не более. Дальнейшая жизнь научила меня мыслить трезво и здраво, и жить без эмоций. Впрочем, эмоции были слишком большой роскошью рядом с таким человеком, как Рене. Под стать моему отцу, он был чудовищем, бесконечным эгоистом и собственником – другими словами, он вобрал в себя все те качества, что я презирала в мужчинах. Но только кому это важно, если он богат? Моему отцу, например, было неважно. Его волновали исключительно собственные выгоды, а счастье единственной дочери – помилуйте, что за глупости?
В чём-то, однако, он был прав. Если бы не Рене, меня сейчас не было бы здесь. Да если бы не он, я вряд ли могла и помечтать о двухнедельном отдыхе в самом лучшем отеле в Швейцарии! У дочки простого адвоката мечты были попроще: выйти замуж за соседского мальчишку, голубоглазого красавца-блондина, родить ему детей и быть счастливой…
Однажды у меня всё это отняли, не оставив ничего: ни воспоминаний, ни мечтаний, вообще ничего, точно огнём выжгли душу – только чернота и пустота внутри. И можно было уныло кусать губы от отчаяния и медленно увядать, жалуясь на жизнь своей верной Франсуазе, а можно было начать всё сначала. Как вы думаете, что же выбрала ваша покорная слуга?
Вот-вот.
Поэтому очаровательная Жозефина, яркая брюнетка двадцати пяти лет, смело зашла в фойе отеля «Коффин», с лёгкой улыбкой на губах приветствуя швейцара на входе, портье в коридоре и распорядителя за стойкой – всех вокруг! Жозефина не привыкла грустить! Жозефина была оптимисткой, и забирала от жизни по максимуму, а если надо – отбивала с боем. Так что от плачущей девчушки, пытающейся перерезать себе вены в ванной, не осталось и следа. Её сменила вечная оптимистка, самоуверенная до неприличия, бесстрашная и обворожительная.
Красавицей себя не назову – слишком острые скулы и слишком светлая кожа, кажущаяся почти болезненно бледной при таких ярко-чёрных волосах! Но внешностью своей пользоваться я умела, как и любая уважающая себя француженка. Одного взгляда было достаточно, чтобы очаровать метрдотеля за стойкой – он растёкся перед нами, как швейцарский шоколад на солнце, едва мы успели подойти.
– А он ничего, правда? – Шепнула я Франсуазе, прекрасно зная, как она стесняется общаться с мужчинами напрямую. И правда: её щёки тотчас же вспыхнули, и моя подруга послала мне укоризненный взгляд, осуждая мои манеры, не иначе.
О, милая моя Франсуаза! Дожила до сорока пяти лет, дважды была замужем, а всё равно стесняется точно юная девочка! Мне стало безумно смешно от её застенчивости, но я всячески постаралась скрыть улыбку и придать своему лицу серьёзный вид. А у стойки, едва прочитав на значке метрдотеля имя «Ганс», я неожиданно забыла немецкий. Знаете, так бывает – ну, как отшибло!
– Фрау Морель? – Откашлявшись, уточнил милейший Ганс, обращаясь почему-то ко мне.
Франсуаза всегда обижалась, что рядом со мной её никогда не замечали, но сегодня я была просто счастлива исправить это недоразумение! Тем более, насколько я знала вкусы моей Франсуазы, Ганс подходил ей как нельзя кстати. Поэтому я сказала:
– Ich spreche kein Deutsch! [2]
Моя подруга в недоумении посмотрела на меня, видимо, собираясь напомнить, что незадолго до замужества я подрабатывала именно преподаванием немецкого, коим владела в совершенстве, но я отмахнулась.
– Это же не беда, милая Франсуаза! У тебя превосходный немецкий! Поговори с ним!
– Нет нужды, э-э… мадам… я… я неплохо знать… французский…
– О-о, нет-нет, моя подруга прекрасно говорит по-немецки! Её второй муж был немец, между прочим, друг вашего хозяина! Добрейшей души был человек, жаль, скончался пару лет назад, – тут я состроила скорбную мину, искренне надеясь, что французский старина Ганс действительно знает «неплохо», и мою историю поймёт как нужно. Особенно ту её часть, что намекала на беспросветное одиночество бедной вдовушки Франсуазы.
Последняя, правда, не спешила благодарить меня за мою разговорчивость, и обжигала пламенным взглядом. Как это я не превратилась в горстку пепла до сих пор? Наигранно хихикнув, я прикрыла рот ладошкой, и отошла на пару шагов в сторону, сделав вид, что изучаю великолепные картины на стенах.
Подборка и впрямь была занятная. Меня, как человека, к искусству неравнодушного, она порадовала несказанно. Например, репродукции работ родного Моне, Вокзал Сен-Лазар, Бульвар Капуцинок, и прочие милые любому французу вещицы. Чуть дальше по коридору я обнаружила знакомые работы Франсуа Бонвена, и даже парочку оригиналов Мари-Дениз Вильер! [3] Это было вдвойне удивительно, потому что Вильер – женщина, а к женскому творчеству в наше время относились с осторожностью. Что сказать: ещё один плюс хозяину отеля! Вдобавок ко всем предыдущим.
Немцев я вообще-то не любила, но, по крайней мере, у господина Шустера чудесный вкус, это радует. Так, а что у нас здесь? Я так увлеклась картинами, что и не заметила, как ушла вглубь коридора, оканчивающегося небольшой залой.
Напротив возвышалась широкая лестница, укрытая дорогими коврами алого цвета, она вела на верхние этажи. Слева и справа от неё стояли столы, укрытые кружевными белыми скатертями, за некоторыми из них сидели люди. Чуть поодаль, у стены, я заметила бар, а у стойки, несмотря на ранний час, уже прочно обосновались троица желающих выпить. Я присмотрелась к ним, и сразу поняла – русские. На столе стояла бутылка хорошей водки, и тарелка с корнишонами, с намёком на традиционно русские солёные огурцы. Двое мужчин отчаянно спорили, третий записывал что-то в маленький блокнот, не обращая ни малейшего внимания на своих товарищей. Правда, будто почувствовав на себе мой любопытствующий взгляд, он оторвался от своей писанины, и внимательно посмотрел на меня. Я поспешила приветливо улыбнуться в ответ, не испытывая ни малейшей неловкости из-за того, что он застал меня врасплох. Стесняться я разучилась лет, эдак, с пять-шесть назад. С таким мужем, как Рене, о скромности быстро позабудешь!
Светловолосый мужчина улыбнулся в ответ, не менее нагло, чем я, и кивнул мне в знак приветствия, после чего продолжил записывать что-то в свой блокнот. Я же, решив не заострять внимания на русских блондинах, продолжила изучать взглядом банкетный зал. У стены слева от лестницы моё внимание привлекла высеченная из дерева фигура медведя, а напротив – такая же в виде охотника с ружьём, который будет вечно целиться в свою жертву, но никогда её не убьёт. Надо же, какая красота! Работа была выполнена довольно грубо, но, в то же время, с претензией на утончённость! Как это они добились такого эффекта? Я уже собиралась подойти и посмотреть поближе, когда меня окликнула Франсуаза. Судя по её недовольному тону, пришёл час расплаты.
И верно, едва она подошла ко мне, я уже ощутила исходящую от неё ярость и негодование.
– С твоей стороны это было бессовестно! – Произнесла она гневно, но, тем не менее, ключ от номера всё же вручила. – Как ты могла так со мной поступить?! Ты хотела меня опозорить? Что ж, ты своего добилась! Я не говорила на немецком со смерти Дольфа! Вот уже два года как! О, Жозефина, какая ты жестокая, как ты могла!
– Тем не менее, ты блестяще справилась со своей задачей, не так ли, старушка? – Рассмеявшись, я обняла её и чмокнула в щёку, прекрасно зная, как не любит Франсуаза такие любезности на людях. Стесняется, а как же? Я снова рассмеялась, глядя на её розовеющие щёки. В самом деле, как маленькая! Что за чудо? За это я её и люблю!
– Ты неисправима, – заключила она. И увлекла меня за собой в сторону лестницы, наши комнаты располагались где-то на верхних этажах.
– О-о, и это вместо: «Спасибо, милая Жозефина»? Неблагодарная! Ещё скажи, что этот милашка Фриц тебе не понравился!
– Его зовут вовсе не Фриц, а Ганс! Ганс Фессельбаум! – С подозрительной горячностью поправила меня Франсуаза, и, в ответ на мой весёлый смех, добавила: – И, между прочим, он тоже вдовец…
Я специально не стала ничего говорить на это, лишь многозначительно подняла указательный палец, дескать – вот-вот! Разумеется, он вдовец. Я ведь куда более наблюдательна, чем моя Франсуаза, я сразу обратила внимание на обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки [4]. Стало быть, неплохая партия, а? Но торопиться не будем, посмотрим, кто ещё есть в этом «Коффине»! Глядишь, подберём для Франсуазы какого-нибудь графа или герцога. Или, быть может, и не только для Франсуазы?
Стоило мне только подумать об этом, как впереди на лестнице показалась парочка. Они тоже шли рука об руку, как мы с Франсуазой, вот только мужчина держал руку своей спутницы нежно, полюбовно, и уж точно не имел намерения её оторвать, как некоторые! Я бросила укоризненный взгляд на свою подругу и демонстративно потёрла запястье, а затем вновь вернулась к созерцанию молодых людей, идущих навстречу.
Наверное, это тоже одно из достояний отеля. Потому, что эта пара была так же прекрасна, как и всё вокруг, она идеально вписывалась в окружающий пейзаж, словно являясь его неотъемлемой частью.
Девушка была юной красавицей, с мягкими чертами лица и блестящими чёрными волосами, уложенными в замысловатую причёску. Бежевое платье с круглым вырезом подчёркивало её смуглую кожу, на изящной лебединой шейке красовалось изумрудное колье. Изумруды идеально подходили под цвет её зелёных глаз, таких весёлых, улыбающихся, добрых.
Да и спутника себе она выбрала подстать – такой же красавец-мужчина, притягивающий к себе женские взгляды, довольно высокий ростом, во всём белом, с лёгкой, уверенной походкой. Он был брюнет, имел чуть вытянутое, овальное лицо, высокий лоб, узкий подбородок и классический гасконский нос с лёгкой горбинкой – типично французская черта. В целом, он был очень похож на француза, и я готова была поспорить, что он француз и есть. Свой свояка видит издалека, знаете, как в поговорке? Тёмно-каштановые волосы незнакомца едва достигали плеч, а светло-зелёные глаза смотрели с любопытством на возникшую на пути преграду в виде стройной брюнетки Жозефины и необъятной покрасневшей, по своей привычке, Франсуазы.
Они прошли мимо, вежливо кивнув в знак приветствия, а милейшая девушка в бежевом платье ещё и улыбнулась – я приветливо улыбнулась в ответ, не желая показаться невежливой. А сама, всё равно, снова вернулась к манящим зелёным глазам незнакомца, будто магнитом притягивали они меня! Что за диво? Я-то думала, что давно перестала обращать внимания на таких вот классических красавчиков и разбивателей сердец! Однако.
Что интересно, и он на меня смотрел так же неотрывно! С его стороны нехорошо: как-никак, он был не один, и вёл под руку прекрасную девушку. Тем не менее, взгляд его будто приклеился ко мне, не забыв для начала бегло, но весьма бессовестно (думал, что я не замечу) скользнуть по моей фигуре, оценивая все её прелести. Точно, француз! Надеюсь, он остался доволен чудесным светлым платьем от Дусе [5], с версальским кружевом, между прочим, и с вставками из нежнейшего голубого шёлка. Я, по крайней мере, была страсть, как довольна! В этом платье я выглядела лет на восемнадцать, что, определённо, делало его моим самым любимым.
– Подумать только, – пробормотала Франсуаза, – не успела приехать, а уже произвела фурор!
В голосе подруги я уловила сарказм, и решила ответить тем же:
– А ты не завидуй! Фриц Фессельбаум тебе, что же, уже не мил? А этот… право слово, он слишком для тебя молод! И вполне мог бы быть твоим сыном, если бы ты вышла замуж лет в пятнадцать, а не была такой недотрогой!
– Его зовут Ганс Фессельбаум! – Выходя из себя, прорычала Франсуаза.
– Ну да, ну да! – Примирительно воскликнула я, и рассмеялась, предчувствуя очередной поток упрёков в свой адрес. Но этого не случилось – на лестнице показался ещё один мужчина, отчаянно спешивший куда-то вниз. Оказалось, он торопился за этой парочкой, что прошла мимо.
– Месье Гранье! Месье Гранье! – Едва не сбив Франсуазу с ног, он пронёсся мимо, обдав нас волной тёплого воздуха с ароматом дорогого одеколона. Скажу сразу, мою Франсуазу с её-то габаритами сбить с ног было практически невозможно, но торопливый господин, поистине, умел творить чудеса, заставив пошатнуться эту непоколебимую твердыню. – Месье Гранье! Габриель! – Продолжал кричать он, чем добился, наконец, того, что парочка остановилась, едва успев спуститься.
Гранье, стало быть? Что ж, я угадала. Чистейший француз! И почему это заставило меня улыбнуться?
– Лассард, боже мой, что случилось? К чему так кричать? – Как и следовало ожидать, голос зеленоглазого брюнета был таким же прекрасным, как и он сам. Низкий, чувственный, чуть с хрипотцой. А его милейший парижский выговор! Боже мой. Кажется, я влюбилась! И, кажется, Франсуаза это заметила – ах, как нехорошо! Появится ещё один повод для шпилек, которые она любила не меньше, чем я сама!
– Вы не видели доктора Эриксона? – Спросил невоспитанный Лассард, по-прежнему громко. Его крики, кажется, услышали и русские за барной стойкой. Симпатичный блондин с блокнотом вновь смотрел в нашу сторону, не иначе гадая, какая у господина Лассарда приключилась беда. Видимо, серьёзная, раз понадобился доктор.
– Нашли у кого спрашивать! – Пробормотал Габриель Гранье, но в голосе его не было раздражения, скорее, негодование. – Вы же знаете, мы с ним не самые лучшие друзья!
– Вернее сказать, они на дух друг друга не выносят! – Хихикнула его спутница. Милейший у неё выговор! Не француженка, это точно. Немка. Или нет, швейцарка? Скорее, швейцарка немецкого происхождения, да.
– Жозефина, пойдём, это невежливо! – Зашипела на меня Франсуаза, и, между прочим, была абсолютно права! Слишком надолго мы задержались на лестнице, прислушиваясь к чужим беседам. Нехорошо.
– Я спросил потому, что ваши номера по соседству, и, возможно, вы слышали или видели, куда он пошёл! – Принялся оправдываться господин Лассард, слава богу, уже гораздо тише, сбавив голос на полтона, чтобы не привлекать к себе внимания. Впрочем, он уже и так добился того, что все взгляды были обращены к нему.
– У вас что-то случилось? – Заботливо спрашивала тем временем девушка, спутница Габриеля Гранье. – Что-то серьёзное?
– Моя рана снова начала кровоточить, – посетовал господин Лассард, при этом в голосе его засквозила такая рассеянность, что мне стало его по-настоящему жаль. Знаю, что некрасиво, но я всё же обернулась, сама не знаю зачем.
– Доктор Хартброук, кажется, был где-то здесь, я видела его с утра, – ответила девушка.
– Но он англичанин! – Возмутился Лассард так, словно не было в мире кары страшнее, чем родиться англичанином. – Я не доверяю их нации! Уж лучше своё, родное, европейское! Так, говорите, вы не видели доктора Эрикссона?
– Рано или поздно ваши национальные предпочтения сыграют с вами злую шутку, Лассард. – Сказал Габриель Гранье, и я склонна была согласиться с ним. Мудрый парень, не так ли?
Франсуаза уже едва ли не силой тащила меня наверх, но я в последний момент всё же успела бросить взгляд на Лассарда. Только теперь я заметила перевязку под его пиджаком, небрежно накинутом поверх рубашки. Он пронёсся мимо нас так стремительно, что я поначалу и не углядела деталей, а может, увлёкшись красавцем Гранье, мне уже и не было дела до остальных? За наблюдательность мне, безусловно, минус.
А вот Лассард был ранен, и ранен довольно серьёзно, судя по хорошенько пропитавшейся кровью повязке. Неудивительно, что так кричал! Я бы на его месте не отказывалась от услуг доктора-англичанина, сейчас какой угодно доктор сгодится, лишь бы поскорее перевязать кровоточащее плечо, пока этот упрямый националист не умер от кровопотери прямо здесь, на лестнице! Благо, на этот раз спорить Лассард не стал, и, внимая голосу здравого смысла, заспешил вниз по лестнице, на поиски доктора Хартброука.
Да уж, начало хорошее, подумала я мрачно. Уведи, уведи меня отсюда, Франсуаза! И сама не смотри, бога ради, я же знаю, какая ты пугливая! Надумаешь потом себе невесть что, и весь отдых будет испорчен ненужными страхами и подозрениями. Но, право, в тот момент и жизнерадостной Жозефине стало неприятно на какое-то время. Сначала леденящие душу истории про французского маньяка-убийцу, перебравшегося в Швейцарию, а затем этот Лассард, прячущий под пиджаком окровавленное плечо!
Хотела бы я спросить: а дальше что? Вот только уже боялась услышать ответ.
II
Мою новую горничную, очаровательное создание восемнадцати лет, звали Селиной. Она была худенькой, подвижной и какой-то на удивление лёгкой, будто не ходила, а порхала, как бабочка! Но главным её качеством являлась ну прямо-таки неприличная для горничной разговорчивость. Я, впрочем, ничуть не расстроилась по этому поводу, ибо истории юной Селины мне и впрямь было интересно послушать – рассказывала она в основном о других постояльцах отеля, а некоторые из них меня очень даже интересовали.
Вот, например, этот самый Лассард. Что с ним такое приключилось, и почему, чёрт бы побрал этого упрямца, он до сих пор не в больнице? Ходит себе, видите ли, как ни в чём не бывало, пугает честных людей своими окровавленным повязками! Я не про себя сейчас: я до замужества ещё и в госпитале успела поработать, так что вида крови не боялась, а вот бедняжка Франсуаза до сих пор не могла прийти в себя! Та же Селина упомянула вскользь, что моя подруга заперлась у себя в номере, приказав приготовить ей прохладную ванну с лавандовым маслом и молоком, для успокоения нервов. Ах, несчастная Франсуаза! Непременно нужно будет к ней зайти перед обедом.
– Так что же мсье Лассард? – Не боясь показаться невежливой, спросила я. Селине хотелось с кем-нибудь посплетничать, и я прекрасно это видела. Девушка еле сдерживала свой восторг от того, что нашёлся, наконец, благодарный слушатель, который ещё не слышал её знаменитых историй!
– В это трудно поверить, но господин Лассард стал жертвой разбойничьего нападения! – Округлив свои и без того огромные глаза, поведала мне Селина. Затем улыбнулась, и добавила, смущённо покраснев: – По правде говоря, господин Гранье склонен предполагать, что вместо разбойников выступал какой-нибудь обманутый муж… Господин Лассард, он, знаете ли… падок до женского полу, да.
– Кто?! Он?! – Я невольно рассмеялась. – Бог ты мой, а так с виду-то и не скажешь!
Я живо представила себе неуклюжего толстоватого венгра (Селина сказала, что он из Дебрецена), с этими его пухлыми влажными губами, блестящей лысиной и обвислыми собачьими бакенбардами… Герой-любовник? Определённо, у швейцарок дурной вкус! Неужели получше кого не нашлось? Тот же Гранье, например… Ох, похоже, мысли развратной Жозефины вновь ушли не в ту сторону.
Селина тем временем посмеялась вместе со мной, и смущённо кивнула.
– Я тоже с трудом верила, пока однажды он и ко мне не пытался приставать. Ох, ваша милость, вы бы поосторожнее с ним! Неприятнейший человек, помяните моё слово!
Я заверила Селину, что буду предельно осторожна с коварным венгром, под неказистой внешностью скрывающим свою чувственность и страсть, и Селина снова рассмеялась. Ей, похоже, нравилась моя компания, ровно как и мне её.
– Так что же с разбойничьим нападением? – продолжила выпытывать я. – На дворе двадцатый век, где он сумел отыскать разбойников?
– На подъезде к «Коффину», как он говорит, – Селина развела руками. – Он въехал к нам не так давно, точнее будет сказать – ввалился в фойе с простреленным плечом, и едва не потерял сознание прямо в коридоре. Вы ведь наверняка знаете, как тяжело у нас в самый разгар сезона отыскать свободные номера? Их резервируют и оплачивают заранее, и так было всегда. Но не вышвыривать же его на улицу, в самом деле? Наш управляющий, господин Грандек, принял решение оставить его. Один из номеров как раз оказался свободным, наша постоялица, мадам Симонс, отменила бронь, так что господину Лассарду сказочно повезло. Более того, на тот момент у нас было целых два доктора: господин Эрикссон, один из постояльцев, и наш местный врач, господин Хартброук. Они не дали пропасть господину Лассарду и быстро привели его в чувство.
Занятная история! Не понравилось мне только одно:
– Ты сказала, ту женщину, чей номер занял Лассард, звали мадам Симонс?
– Да-да, именно так! – кивнула Селина. – Мадам Иветта Симонс, она каждое лето приезжает к нам, чтобы поправить здоровье. В прошлом году я прислуживала ей, мы поладили, она была такой доброй и никогда не скупилась на чаевые. Я так расстроилась, когда Грандек сказал, что её не будет… А вы с нею знакомы? Может, знаете, что с ней приключилось?
Знаю.
Она умерла не так давно.
Но говорить об этом улыбчивой Селине, искренне переживающей за свою предыдущую хозяйку, я не стала. Ни к чему портить девушке настроение! Думаю, лучше его, наоборот, поднять – теми же чаевыми, к примеру. Покачав головой в ответ на её вопрос, я достала из ридикюля горстку монет, и, не глядя, вручила ей. С некоторых пор я вообще не считала деньги, уже и забыв о том, каково это – испытывать в них острую необходимость. Спасибо, Рене! Я всегда знала, что рано или поздно мы с тобой поладим, милый мой супруг!
– Ой, мадам, вы так щедры! – Ахнула Селина, заглянув в свою ладошку. И просияла, счастливая. – Думаю, отныне вы у меня самая любимая госпожа!
Эта милая простушка была такой трогательной, что мне на секунду захотелось обнять её, по-сестрински. Порыв свой я, конечно, сдержала. Жозефина никогда не повторит своей ошибки дважды, Жозефина никогда больше не станет ни к кому привязываться. Никогда.
– Куплю на них шарфик! – Поведала мне Селина, задорно блестя глазами. – Здесь, в городке, видела недавно: шёлковый, нежно-голубого цвета, чудо, а не шарфик! В белый горошек. Как думаете, подойдёт к синему платью?
– Лучше к белому, – смеясь, ответила я. Определённо, эта юная прелесть выходила за рамки моих представлений о горничных. Обычно они все молчаливы, суровы, и, как будто бы, начисто лишены способности чувствовать и переживать, и делают свою работу механически. И все как одна ненавидят своих хозяев. У нас дома, в Лионе, было именно так. Я поэтому всех их и уволила, устала от их лицемерия. А Селина была не такая, совсем не такая, и мне это сказочно нравилось! Мне вообще всё здесь нравилось, и никакие мрачные истории о парижском маньяке, вкупе с расхаживающим по коридорам Лассардом в окровавленной рубашке – не могли испортить моего чудесного настроения!
– Белое у меня тоже есть, но оно мне казалось слишком скромным… – Задумчиво проговорила Селина, покусывая губу.
– Слишком скромным для чего? – уточнила я. – Ты на свидание собралась?
– А я не сказала, да? – Она смущённо улыбнулась и кивнула.
– О-о, как это прекрасно! Тогда, определённо, белое! – Поднявшись с пуфика, на котором я, было, устроилась, я подошла к массивному белому шкафу с позолоченными узорами, и широко распахнула створки. Появилась у меня кое-какая идея, считайте это порывом, или моей аристократической блажью. – Ох, я ещё не разобралась, где у меня что лежит… Погоди-ка… Ах, да, вот же!
С улыбкой на лице я достала с верхней полки шкафа небольшую шляпную коробку. И, не переставая улыбаться, развязала ленточки, и открыла её. Внутри лежала миниатюрная шляпка из белого фетра, украшенная бисером и нежно-голубыми ленточками. Чудо, а не шляпка! Правда, Франсуаза всегда говорила, что в ней я похожа на юную гимназистку, и выгляжу слишком скромно, что, по её словам, «уж точно не по мне»! Я же, в свою очередь, отвечала ей, что она просто безбожно завидует и уже не знает, как меня уязвить.
Так или иначе, к нежно-голубому шарфику в белый горошек эта шляпка подойдёт идеально!
– Вот. Держи, это тебе! – Всё ещё улыбаясь, я вручила растерянной Селине шляпку. – Коробку, в общем-то, тоже можешь забрать, нужно же тебе будет где-то хранить эту красоту? Давай померим? Встань-ка возле зеркала, я тебе помогу. Ну, как? Нравится?
Девушка казалась совершенно обескураженной, то ли очаровательной шляпкой, выгодно смотревшейся на её тёмных волосах, то ли моей неожиданной щедростью. А что тут такого, спрошу я? Да, у меня случаются порой такие порывы! И не слушайте Франсуазу, которая наверняка скажет вам, что я – бездушная стерва, да ещё и с десяток хорошеньких примеров приведёт! Ничего подобного. Не скрою, иногда я бываю жёсткой, или даже жестокой, но никогда – без причины. Пока меня не трогают, я вполне себе белая и пушистая, и умею быть милой не хуже этой очаровательной девушки, Селины. В конце концов, я и сама когда-то была точно такой же – восторженной юной особой. Помню, как я трепетала и волновалась перед самым первым своим свиданием… Вот только рядом со мной тогда не было никого, кто мог бы меня успокоить или помочь добрым советом! Так что, смело можем считать, что Селине со мной сказочно повезло. О, тщеславная Жозефина! Я вновь улыбнулась своим мыслям, и взглянула на её отражение.
– Ты красавица! – Убедительно произнесла я, и я действительно так думала. Она была само очарование! Наверняка её избранник, кем бы он ни был, по достоинству оценит её юную красоту.
– Ах, вы так добры ко мне, мадам! – Прижав обе руки к груди, сказала Селина. – Какая чудесная шляпка! Да мне бы и два жалованья не хватило на то, чтобы купить себе нечто подобное! Теперь я точно его очарую, да? Я всё волновалась, что он не обратит внимания на такую, как я, но теперь, когда я буду так красива… Ах, мадам, спасибо, спасибо вам! Право, мне так неловко за своё поведение! Грандек говорит, я слишком болтлива и не умею вовремя смолчать, но что ж теперь поделать, если мне нравится разговаривать с людьми? А вы… вы просто чудо, мадам!
С этими словами она встала на цыпочки, и чмокнула меня в щёку. После чего хихикнула, и, сделав реверанс, поспешила сбежать, прихватив с собой шляпную коробку. То ли устыдилась своего порыва, то ли побоялась, что я передумаю. А я с некоторой растерянностью смотрела на закрывшуюся за ней дверь, пребывая в каком-то странном состоянии. С одной стороны, мне была безумно приятна её благодарность, и душу грело осознание того, что я сделала что-то хорошее для неё, причём совершенно безвозмездно.
Но с другой… с другой, я вдруг ощутила острую боль на сердце. Невыносимую, признаться, боль. Знаю я, из-за чего это всё. Мне двадцать пять лет. В этом возрасте женщине жизненно необходимо о ком-то заботиться, так уж мы устроены. И лучше всего, если этим кем-то станет ребёнок. Свой собственный ребёнок, а не детишки Франсуазы, или не эта миленькая горничная.
«Господи, дай мне сил», подумала я, и взглянула на своё вмиг помрачневшее отражение.
Нет. Я не буду об этом думать! Хватит. Настрадалась, намучилась! Теперь я буду веселиться и радоваться жизни, и ничто не сможет мне помешать! С этими утешительными мыслями я и направилась к Франсуазе. А на душе всё равно остался неприятный осадок, и какое-то нехорошее чувство тяготило меня изнутри.
III
Заполучить Франсуазу на обед представлялось мне невыполнимой задачей. Видите ли, она устала с дороги и мечтала проваляться в постели как минимум до завтрашнего утра. А ещё у неё разболелась голова после всех этих разговоров, и даже успокаивающая ванна с лавандой не помогла, ну что за невезенье?
Но ваша покорная слуга издавна славилась своей любовью к трудным задачкам, так что путём получасовых уговоров нерушимая крепость под названием Франсуаза Морель объявила-таки о своей капитуляции. При условии, разумеется, что я надену самое скромное своё платье, чёрное с белым кружевом, из женевского атласа. Я в нём самой себе казалась похожей на монахиню, и Франсуаза всячески подтверждала эти мои мысли, а потому едва ли не силой заставила меня в него влезть. Так, по её мнению, я сделаюсь чуть более невзрачной, и тогда она уж точно затмит меня своей красотой!
Про красоту, конечно, и речи не шло. Франсуазе было сорок пять, но я знала её и в сорок и в тридцать, и фотографий её в молодости видела немереное количество – этого достаточно, чтобы с уверенностью заявить: красавицей она не была никогда. Совершенно обычное лицо, немного полноватое, и, прости меня Франсуаза! – даже глуповатое, создающее впечатление детской наивности и доверчивости. И кое-кто этим беззастенчиво пользовался, искренне считая, что женщина с таким лицом просто обязана быть конченной идиоткой и легко принимать на веру всё то, что о ней говорят.
Но это было неправдой. Франсуаза Морель была женщиной величайшего ума, и превосходным стратегом – ей бы французской армией командовать! Правда-правда, это я без малейшего сарказма вам говорю! Другое дело, что Франусаза редко когда пускала в ход свои способности, ещё с детства убеждённая, что мужчины не любят умных женщин. И умело притворялась доверчивой простушкой, смущённо краснея и пряча взор за длинным ресницами. Впрочем, краснеть у неё выходило вполне естественно – я ведь уже говорила, какая она у меня скромница? Думаю, это было ещё одной причиной, по какой она не хотела выходить к обеду – боялась новых знакомств, боялась людей, боялась косых взглядов. Будто кто-то из здесь присутствующих знал, кто мы такие!
Хотя, как выяснилось из беседы с Селиной, шанс встретить знакомых всё же был. Если бы Иветта не умерла пару месяцев назад, она, несомненно, была бы уже здесь, в этом самом отеле. Не знаю, что было бы, встреться мы вот так, неожиданно, да ещё и в чужой для обеих стране… Но, думаю, ничего хорошего. Мы с ней никогда не ладили, ещё до моего замужества, а уж после и вовсе перестали здороваться. Всему виной, как вы правильно догадались, мой муж. Иветта Симонс страсть как хотела выйти за него, и была весьма огорчена, что он предпочёл ей, графине до седьмого колена, какую-то девчонку из деревни, дочку жалкого адвоката. Вот так-то, Иветта! Неисповедимы пути господни!
Злорадствовать можно было сколько угодно, но я всячески старалась вытравить из своей души эти низменные порывы. Иветты больше нет, и делить мне с нею нечего. Зато есть Франсуаза, которая смотрит в широкое зеркало и недовольно сопит. Видимо оттого, что это самое зеркало, несмотря на свои колоссальные размеры, оказалось неспособно отразить её габариты! Я решила не озвучивать свои мысли, лишь спрятала улыбку и поправила рюши на её платье, чтобы лежали ровнее. И, хитро улыбаясь, посмотрела на её отражение. Оно кисло улыбнулось мне в ответ, и сказало:
– Его зовут Габриель Гранье. Он француз.
– Браво, Франсуаза! Перед твоими мыслительными способностями преклонился бы сам мсье Шерлок Холмс, если б слышал тебя сейчас! И как же ты только об этом догадалась? Ах, дай угадаю, быть может потому, что этот Лассард назвал его по имени?
– Будешь ёрничать, не скажу тебе, что ещё удалось про него узнать! – Безжалостно сказала эта негодяйка, спрятав улыбку. И, как ни в чём не бывало принялась поправлять те же самые рюши на своём платье, уже и без того доведённые мною до безупречности.
– Ну?! – Не выдержав, спросила я. Франсуаза подняла взгляд, улыбнулась и чинно кивнула, будто императрица на каком-то важном государственном приёме.
– Он художник из Парижа.
А вот это было интересно!
– Художник?
– Подающий большие надежды художник! – Добавила Франсуаза со значением. – Говорят, в столице у него хорошая слава. Странно, что ты о нём ничего не слышала, при твоей-то любви к живописи!
– Да, но когда это я в последний раз была в столице? – Я всерьёз озадачилась этим вопросом. – С некоторых пор, знаешь ли, я стараюсь объезжать этот город стороной. Но, пожалуйста, прошу, не будем об этом! Лучше расскажи ещё что-нибудь об этом Гранье! Кто была та девушка с ним? Его невеста? Подруга?
Точно не жена, скажу я, забегая вперёд. Внимательная Жозефина заметила, что Гранье не носил обручального кольца. Ах, Жозефина, Жозефина!
– Скорее подруга. Но, похоже, у неё на него большие планы, – пожала плечами Франсуаза. – Это дочка графини Вермаллен, богатая наследница огромной ткацкой империи. Насколько я понимаю, вся Швейцария ходит в её шелках. Даже эти занавески на окнах, и те наверняка прямиком с фабрики Вермалленов. А ещё она бесконечно мила и молода, как ты могла заметить! У такой старушки как ты просто нет шансов перед её молодостью, Жозефина!
Не обращайте внимания, мы с Франсуазой издавна так общаемся! Я, например, ничуть на неё не обиделась, тем более, слова её были чистейшей правдой, хоть и жестоки. Этой роковой красавице-брюнетке лет было не больше двадцати, невинный и нежный цветок, а чего стоила её улыбка!
Но старушку Жозефину рано списывать со счетов! Прозвучит самодовольно, но я была уверена, что одного моего взгляда окажется достаточно, чтобы любой прибежал по первому моему зову, в том числе и Гранье. Вот только звать никого я пока не собиралась. И его тем более. Я же прекрасно видела, как он смотрел на меня там, на лестнице… Что-то было в этом взгляде… Что-то, чему я не находила объяснения.
А, так как Жозефина не собиралась никем увлекаться всерьёз, Габриель Гранье пока отходил на второй план.
– Что на счёт остальных? – поинтересовалась я, поправляя, на этот раз, тяжёлые тёмные локоны Франсуазы, забранные в узел на затылке. Сколько себя помню, она всегда носила эту причёску. На мой взгляд, это её ужасно старило, но Франсуаза меня не слушала, упрямо продолжая изо дня в день завязывать этот скучный узел, и закалывать его шпильками.
– Троица за барной стойкой, – отчиталась моя подруга, – русские. Самый симпатичный из них, некто Арсен Планшетов, знаменитый журналист.
Видимо, тот нахальный красавец-блондин с блокнотом, поняла я. Наверняка готовил материал для своей статьи. Журналист, стало быть?
– Русский по происхождению, пишет материалы для французских и швейцарских газет, образованный и дельный парень, – продолжила Франсуаза. – Двое других – его товарищи, один наследник какого-то сибирского золотодобытчика, проматывает папенькины денежки на курорте, а второй я так и не поняла, откуда взялся. Прибился к скромной компании соотечественников, не иначе. Подозрительный он какой-то.
– Чем же?
– Не знаю. Мне вот он сразу не понравился!
– Ты мнительная, Франсуаза! Видела их всего пару секунд, и то издалека, а уже сделала дурные выводы, наслушавшись сплетен от прислуги!
– Будет возможность рассмотреть их получше, все они сидят с нами за одним столом. У нас отдельная столовая внизу, под номером три. Это означает, что все, чьи номера расположены на третьем этаже, будут сегодня там.
Вот как? В том числе, тот самый доктор Эрикссон, и невоспитанный венгр Лассард. Надеюсь, у него хватит такта не заявляться в окровавленном костюме на трапезу, и не пугать честных людей своим внешним видом? Надеюсь, что так.
А вот на счёт Габриеля Гранье – это, пожалуй, можно расценивать как добрый знак. Надо же, как совпало! Я невольно улыбнулась, и это, конечно, не укрылось от моей внимательной подруги.
– Чему ты улыбаешься, хотела бы я знать? – с издёвкой спросила она.
– Радуюсь хорошей погоде на улице! – солгала я, не слишком-то удачно, но к правдоподобности я и не стремилась. От Франсуазы у меня никогда не было тайн. – Знаешь, у нас в Лионе в последнее время шли дожди! А здесь… даже и дышится как-то по-другому!
– А может, всему виной смена обстановки? – Предположила моя подруга, и на этот раз голос её зазвучал серьёзнее. О, да, похоже впереди был тот самый «серьёзный разговор», которые я так не любила. И точно. Повернувшись ко мне, она взяла меня за руки, и спросила: – Ты рада, что мы наконец-то уехали?
Я отвела взгляд. Я не знала, что сказать. С одной стороны – безусловно, я была просто счастлива оставить Францию хотя бы на две недели! Но с другой: я знала, что всё равно придётся возвращаться, и эти мысли угнетали меня.
Вовремя я вспомнила о том, что Жозефина – вечная оптимистка! И, каким бы не было моё дальнейшее будущее, чёрные мысли не смогут испортить грядущие две недели беззаботного отдыха! Поэтому я подняла голову и искренне улыбнулась Франсуазе, и она с облегчением улыбнулась в ответ.
– Спасибо, что поехала со мной, – искренне сказала ей я.
– Разумеется! – ответила та, и, обняла меня так крепко, что рёбра мои неминуемо заныли в знак протеста. – Ты же без меня пропала бы, глупая моя Жозефина!
И не поспоришь ведь, подумала я с улыбкой.
IV
Лакированные двери из красного дерева гостеприимно распахнулись перед нами, и мы попали в настоящую средневековую сказку. Здесь всё было так чудесно, что и словами не передать! Белые стены с позолотой, изысканная мебель в современном стиле ар-нуво [6], расписной потолок с чуть мрачноватыми картинами из «Божественной комедии» Данте, а на полу – перламутровая плитка, выложенная в причудливый узор. На такую красоту и наступать-то было жалко! Я невольно улыбнулась, как обычно, чуткая к прекрасному, и вдруг поймала на себе заинтересованные взгляды со стороны уже собравшихся здесь постояльцев.
Я поначалу подумала, что мы опоздали, и лишь потом заметила, что кое-какие места всё ещё пустовали, стало быть, я и Франсуаза не были единственными, кто пренебрёг приличиями.
Как и следовало ожидать, Габриель Гранье, истинный француз и галантный кавалер, вышел из-за стола первым, чтобы зарекомендовать себя и предложить свои услуги. Он был обольстителен, он был безупречен, чёрт возьми! Лёгкий твидовый пиджак в светло-серых тонах, элегантный шейный платок вместо галстука, тёмная жилетка и тончайшая белая рубашка, облегающая его потрясающую фигуру – боже, неужели я и впрямь поддалась на его бесконечное очарование? Похоже на то.
– Добрый день, милые дамы! Прошу вас, присоединяйтесь к нам смелее! Позвольте представиться – Габриель Гранье, – тут он лучезарно улыбнулся, и я окончательно влюбилась в уже одну только его улыбку. Окинув всё тем же оценивающим взглядом моё платье, Гранье перехватил мой взгляд и ещё раз улыбнулся. И добавил, чуть тише, но очень проникновенно: – Это честь для меня!
Так как Франсуаза, в извечной своей манере, стыдливо краснела за моей спиной, мне пришлось взять ситуацию под свой контроль. На нас смотрели абсолютно все собравшиеся, здесь есть от чего смутиться! Но Жозефина давным-давно забыла про стыд, её ничем невозможно было пронять. Думаю, если бы Габриель начал раздеваться прямо здесь и сейчас, под тихую музыку оркестра, я бы и то не выказала признаков смущения. Ни малейших. Глядишь, и похлопала бы ему ещё? Фигура у него была поистине великолепная!
– Жозефина Лавиолетт, рада с вами познакомиться! – включив одну из своих коронных улыбок, сказала я.
Да-да, одну из тех самых улыбок. Из коллекции настоящей француженки, перед которой ни один мужчина не устоит! Вон, Лассард, между прочим, уже потянулся ослабить ворот рубашки – ему стало тяжело дышать. Из-за моего очарования, или из-за своего ранения, вот что я хотела бы знать! Какого чёрта он вообще здесь делает, почему не соблюдает постельный режим?! И ведь не подойдёшь, не спросишь!
Деликатное покашливание за моей спиной в мгновение вывело меня из размышлений, я спохватилась и продолжила:
– А это Фрасуаза Морель, моя подруга и компаньонка.
Причём сначала первое, а потом второе. Молодой женщине в наше время не с руки было путешествовать в одиночку, разговоры могут пойти самые разнообразные. Особенно, если эта женщина француженка – тут уж точно пиши пропало, торопитесь же, заботливые матушки, прятать своих сыновей, коварная Жозефина вышла на охоту! А так, вроде бы, приличия соблюдены. Хотя я очень сомневалась, что Франсуаза сумеет меня остановить, если я вдруг и впрямь надумаю поохотиться. Да и что значит «сумеет»? Вряд ли она захочет. Вряд ли она даже станет пытаться! Определённо, мы с ней хорошо понимали друг друга, поэтому и поладили, несмотря на колоссальную разницу в годах.
– Вы не представляете, какое это чудо – встретить здесь соотечественников! – Смеясь, сказал Габриель, целуя мою руку. Взгляд его, при этом, был по-прежнему прикован к моим глазам, так же как и тогда, на лестнице. И от этих его зелёных глаз у меня неминуемо начиналась кружиться голова. Давненько со мной такого не было!
– Французы в Швейцарии? – я улыбнулась, кивком головы поблагодарив за поданный стул. – Что, такая редкость?
– Отель-то немецкий! – посетовал Габриель, изобразив безнадёжность на лице. – Здесь французов не очень жалуют. Хозяин-немец отчего-то невзлюбил нашу нацию. Доподлинно известны случаи, когда достойнейшим парижанам отказывали в размещении без объяснения причин, в то время как свободные номера имелись в наличии!
– Шустер разорится такими темпами, – с усмешкой сказал широкоплечий пожилой господин, седовласый, с аккуратной бородкой и пышными усами. У него были удивительные синие глаза, живые и добрые, в прошлом, наверняка, помогавшие ему очаровать не один десяток швейцарских красавиц, да и сейчас, признаться, не утратившие былого шарма.
– Ваша правда, мсье Гарденберг! – Согласно кивнул Габриель, подавая стул теперь уже Франсуазе, которая прямо-таки растаяла от этой любезности. И я её прекрасно понимала: лестным было внимание такого красавца! Интересно, а его подруга не взревнует? Я кинула на неё беглый взгляд, но девушка смотрела с любопытством, и претензий ни малейших не имела. С удивлением я заметила рядом с ней одну из тех женщин, что встречали нас во дворе своими страшными историями. Ту самую, с больной головой, мать юной красавицы-дочки, так подходящей на роль следующей жертвы. Запоздало я догадалась, что красавица-дочка это и есть мадемуазель Вермаллен, а эта желчная некрасивая женщина – её мать, госпожа графиня.
– Как это вас самого впустили сюда, в таком случае, мсье Гранье? – вяло поинтересовался ещё один широкоплечий господин со скандинавской наружностью. У него была прекрасная шевелюра, которая куда больше подошла бы юной девушке, нежели крепкому сорокалетнему мужчине – непокорные светлые кудри, торчащие в разные стороны. Причём налицо были все попытки привести их в божеский вид, но ни воск, ни фиксатуар, ни даже сладкий чай, похоже, не в силах были совладать с непокорными белокурыми локонами этого господина. Бедняга, подумала я с сочувствием. Вот это не повезло!
– Меня поначалу тоже не хотели заселять, когда узнали, что я из Парижа, мсье Эрикссон, – признался Габриель. Затем, коротко улыбнувшись своей подруге, сказал: – Но благодаря протекции мадемуазель Вермаллен, мсье Грандек изменил своё решение и для меня тотчас же нашёлся свободный номер!
– Какая удача, в самом деле, – недовольно пробормотал кучерявый швед, тот самый доктор Эрикссон. Помнится, мадемуазель Вермаллен упоминала тогда, что доктор не в ладах с Габриелем. Как выяснилось позже, доктор был не в ладах со всем миром, не считая своей жены, немолодой остроносой шатенки, что сидела по правую руку от него. – Ну а вы, мадемуазель Лавиолетт, за какие заслуги заполучили номер-люкс на третьем этаже? – Спросил он с явным вызовом. Я ему не понравилась, это определённо. Думаю, это взаимно: хамства я не любила и не терпела.
– Мартин, это невежливо! – Вполголоса осадила доктора его жена, но ему, похоже, не было дела до хороших манер. Гранье метнул на нашего недоброжелателя взгляд-молнию, и, видимо, собирался заступиться за нас, но в том-то и было дело – Жозефине давно уже не нужна была ничья защита! Я вполне могла постоять за себя сама.
И для начала я решила не хамить в ответ, дабы не портить первое впечатление о себе. В конце концов, помимо невоспитанного доктора, здесь присутствовали и другие люди, коим не чужды были хорошие манеры. И, раз уж французов в этом отеле так не любят, следовало бы сделать всё, дабы показать себя с хорошей стороны и развеять эти предубеждения.
– Лестно ваше внимание, мсье Эрикссон, но, к сожалению, я уже семь лет как мадам, а не мадемуазель. А заслуги наши были не слишком выдающимися – дело в том, что покойный муж мадам Морель был дружен с мсье Шустером. Настолько, что тот решил в порядке исключения закрыть глаза на нашу национальную принадлежность и предоставить нам два номера в своём отеле. – Я очаровательно улыбнулась и поймала на себе полный благодарности взгляд мадам Эрикссон. Она была счастлива, что я не стала обижаться на дерзость её супруга, и наверняка пожала бы мне руку за это, если б дотянулась. Я послала ей в ответ мягкую улыбку.
– Невероятная удача, – многозначительно произнёс Габриель – так тихо, что его услышала только я. Вскинув голову, я перехватила его взгляд, он по-прежнему смотрел на меня так странно, проникновенно… Ему я тоже улыбнулась – дружелюбно, и он улыбнулся в ответ.
Обстановка, кажется, потихоньку начала развеиваться, и причиной тому – живейшее обаяние Габриеля, и отходчивое сердце Жозефины. Ладно-ладно, не буду прикидываться хорошей: то, что я сделала вид, будто простила шведу его грубость, ещё не означало, что я действительно её простила. Память у меня была хорошая. Особенно на дурные поступки или слова в мой адрес. Спросите Франсуазу, она подтвердит!
– Что ж, начнём знакомство, – продолжил Габриель, убедившись, что мы с Франсуазой удобно уселись, и лишь тогда сел сам – на свободное место рядом со мной. В этом я тоже увидела добрый знак. – Позвольте представить, мадемуазель Вермаллен, Габриэлла, моя тёзка.
– Рада с вами познакомиться, мадам Лавиолетт! И, мадам Морель, у вас просто потрясающая брошка! Я всегда любила янтарь, но он, увы, не подходит к цвету моих глаз!
Определённо, девушка была само очарованье! Добрейшая, искренняя и непосредственная, отличительные черты её нежного возраста. Я в восемнадцать лет тоже была такая, знаем, проходили. А вот Франсуаза зарделась от похвалы, невольно коснувшись той самой брошки, что отметила Габриэлла Вермаллен. Я подумала с тоской, что, кажется, давненько моя бедная подруга не слышала в свой адрес никаких добрых слов – лишь бесконечные язвительные упрёки от меня, и ничего больше. Неудивительно, что она так польстилась этой самой обычной вежливости! А я почувствовала себя ужасной подругой в тот момент. Надо бы это исправить. Куплю Франсуазе что-нибудь приятное, у неё как раз день ангела скоро… И скажу, от всего сердца, что люблю её. То-то она удивится. И наверняка подумает, что я больна.
Ах, я, кажется, отвлеклась?
– А это мадам Вермаллен, моя матушка, – перехватила инициативу Габриэлла, и с улыбкой обняла за плечо грузную, толстую женщину в чепце. Ничего общего, если хотите знать моё мнение! Габриэлле, видимо, сказочно повезло уродиться в отца. Старшая Вермаллен была пугающе некрасива, неприлично толста, и выражение лица имела такое, словно в глубине души яростно презирала весь мир. Правда, когда она смотрела на дочь, её бесцветные глаза вспыхивали любовью и заботой, но это не долее трёх секунд, а дальше – уже по известному сценарию.
Бог мой. Если я в её годы буду такой же неприятной и отвратительной, нужно будет непременно попросить Франсуазу задушить меня. Что-что, а это она рада будет сделать, в отместку за все мои обидные слова и выходки в свой адрес! Я криво усмехнулась, и заверила старшую Вермаллен, что безумно счастлива познакомиться с ней, а разве может быть иначе?
– Господин Вильгельм Лассард, подданный австро-венгерской империи, прошу любить и жаловать, – объявил Габриель, когда я перевела взгляд на полноватого венгра, сидевшего по правую руку от графини. Вот уж не знаю, кто из них был более отталкивающим – мадам Вермаллен, или Лассард! Впрочем, нет, она уступала ему – по крайней мере, она была изысканно одета и красиво причёсана. У Лассарда же причёсывать было уже нечего, голова его напоминала бильярдный шар, такая же гладкая и блестящая. Время от времени он промокал извечно потеющий лоб платком, и то и дело улыбался влажными губами. Отвратительный это был господин! И рубашку носил несвежую! Герой любовник, да? Не знаю, как Габриелю пришло такое в голову. Должно быть, он в шутку это сказал, или, вероятно, Селина не так его поняла. Или, что ещё более вероятно, добавила от себя – людям свойственно преувеличивать.
А Лассард возьми и скажи, в самый неожиданный момент:
– Кажется, я знавал вашего мужа, мадам!
Моего, видимо, а не Франсуазы. Он не конкретизировал, за что ему большое спасибо, а я решила, что обращался он всё же ко мне. Ведь это меня он раздевал похотливым взглядом вот уже с пять минут как! Выдержав осторожную паузу, я вкрадчиво ответила:
– Это неудивительно, мсье Лассард. Мой муж бывал в Дебрецене, где-то с полгода назад, думаю, его визит там надолго запомнили. – Я говорила осторожно, на какое-то время опустив взгляд на скатерть, и старалась, чтобы голос мой звучал ровно. Я не любила разговоры о Рене. Нет, не так. Я ненавидела разговоры о Рене. И всячески старалась их избегать. Я видела, как напряглась Франсуаза, видела волнение на её лице. Хорошо, что на Франсуазу никогда никто не смотрел, особенно в те моменты, когда рядом была я. А уж на моём-то лице, можете не сомневаться, не дрогнул ни единый мускул. За долгие годы брака у меня выработался блестящий самоконтроль, спасибо моему «замечательному» супругу! Помнится, высшей наградой для меня стало, когда он однажды сказал: «Глядя на тебя, невозможно понять, что у тебя на уме, Фифи!» Тогда я поняла, что достигла совершенства в искусстве скрывать свои истинные чувства от окружающих. А на счёт дурацкого «Фифи» – вы не удивляйтесь, он всегда называл меня так, прекрасно зная, что мне это претит.
Нехорошую тему быстро закрыли, Лассард не стал продолжать, насколько я поняла, он вообще бросил эту фразу наугад, стараясь быть вежливым. И сам уже наверняка пожалел тысячу раз, что завёл разговор о моём супруге, беспокоясь о том, что придётся лгать – где и при каких обстоятельствах они встречались.
За мыслями своими я едва не пропустила следующее знакомство: замечательная супружеская пара из Лозанны, Томас и Нана Хэдин. Они были ещё довольно молоды, и, кажется, любили друг друга именно той любовью, о какой пишут в книгах. Оба производили впечатление людей современных и эрудированных, и очаровали меня с первых минут знакомства. Томас, невысокий, с иголочки одетый брюнет лет тридцати пяти, сказал мне с улыбкой, что счастлив знакомству, а его жена, доверительно понизив голос, сообщила мне по секрету, что мистер Хэдин с давних пор неравнодушен к Франции и французской истории. И, в особенности, к француженкам, да-да! Может, это было немного бестактно, но все заулыбались, даже желчная графиня Вермаллен и та снизошла до короткой улыбки. А я решила, что рыжеволосая и чуть полноватая Нана – настоящая находка. И невероятно интересная собеседница, как и её муж: они заняли меня разговором до самого конца обеда, когда Габриель закончил представлять мне прочих гостей.
Собственно, их оставалось всего четверо: двое русских и уже знакомый мне грубиян Эрикссон с женой. Жену звали Астрид, и она представляла собой, к сожалению, всего лишь дополнение к своему колоритному супругу – своего мнения Астрид не имела, а если и имела, то высказывать его боялась. Что ж, спасибо на том, что не дерзила, и не пыталась меня задеть, как её дражайший муж, который не соизволил сказать мне ни слова больше. Видимо, решил, что предыдущей фразы с меня хватит. Более того, когда Габриель представил его, Эрикссон бестактно промолчал, лишь сделав жест ладонью, дескать – да, доктор Эрикссон – это я! И продолжил трапезничать, с таким видом, словно ничто в цело мире не волновало его так, как восхитительное рагу с телятиной под соусом. Ну, или, что его уж точно не волнуют всякие там подозрительные француженки… Ха! Я уже не обращала внимания на его грубость, и с любопытством перевела взгляд на парочку русских.
Да-да, их было именно двое, вы всё поняли правильно. Третье место пустовало, и не было как раз того самого симпатичного блондина-журналиста. Эрикссон вяло высказался о дурной привычке опаздывать, свойственной только плебеям и нахальным русским, но его неодобрения никто не подтвердил. Из чего я сделала вывод, что отсутствующий Арсен – или, Арсений, на их лад, пользуется большим уважением среди собравшихся. Явно большим, чем сам доктор, настоящий ханжа и грубиян!
– Я так рад нашему знакомству! – с приветливой улыбкой и забавным акцентом сказал мне худой русоволосый мужчина, с серыми глазами и родинкой на щеке. Милый он был, по правде говоря! – Вообще-то меня зовут Фёдор, но здесь меня называют Теодор, а лучше сразу Тео, к чему условности?
Что это вы, любезный, флиртуете со мной? Я решила поддержать хорошее начинание, кокетливо опустила ресницы, и сказала, что простое европейское Тео моему слуху куда привычнее, чем небывалое «Фёдор». Тео расплылся в улыбке, а Габриель, как мне показалось, поглядел на меня с некоторой укоризной. Что это? Ревность? Я решила улыбнуться и ему тоже, и он сразу оттаял. И представил последнего гостя, тоже русского, коего, похоже, не волновали ни новые знакомства, ни французские женщины, ни даже элементарные правила приличия. Куда больше его интересовала телятина со специями, и он до того увлёкся своей трапезой, что поначалу и вовсе не среагировал, когда Габриель назвал его имя.
– Monsieur Tarte [7], – сказал он с улыбкой. Толстоватый, ещё совсем молодой паренёк, с пышными усами и не слишком пышной бородкой, замер над своей тарелкой на несколько секунд, затем поднял взгляд на Гранье и недовольно прищурился.
– Gâteau au fromage [8], раз уж на то пошло! – Смеясь, отозвался Тео, и похлопал своего товарища по плечу. – По-русски его фамилия звучит как Ватрушкин, но Габриель всё время путает!
Думается мне, что делает он это нарочно, судя по смешинкам, мелькнувшим в зелёных глазах…
– Браво, Гранье! – фыркнул мсье Ватрушкин, вытирая салфеткой сальные губы. И, всё ещё недовольный, изобразил короткие аплодисменты для Габриеля и его остроумия. – Никак не могу понять, неужели вам так сложно запомнить эту простую фамилию?
Видимо, это была далеко не первая шутка в адрес смешного русского толстячка, ибо собравшиеся едва сдерживали смех. Только старшая Вермаллен смотрела с лёгким неодобрением, но почему-то не на Габриеля, а на самого Ватрушкина. Судя по всему, этот забавный паренёк отравлял её жизнь уже одним существованием – боже, что за неприятная женщина!
– Прошу прощенья, – покаянно отозвался Гранье, сделав самые невинные в мире глаза – я и то едва ли не поверила в его искренность! – Но, monsieur Chignon [9], ваша фамилия слишком сложна для моего восприятия, простите мне моё невежество!
Последняя черта была переступлена, и столовый салон №3 взорвался дружным хохотом. Странно, но неприятный швед Эрикссон – и тот смеялся заливисто, видимо, русских не любил так же сильно, как и французов. Я позволила себе короткую улыбку, и то после того, как убедилась, что Ватрушкин совсем не обиделся на шутки неугомонного Гранье. Он лишь посмотрел на Габриеля как на конченого человека, махнул рукой в его сторону, а мне сказал, что он полностью в моём распоряжении. И снова вернулся к своей телятине.
Мы с Франсуазой переглянулись, и она подарила мне весёлую улыбку. Это означало, что моя подруга осталась довольна как этим обедом, так и небольшим представлением, что устроил для нас милашка Габриель. И им самим, видимо, Франсуаза осталась довольна не меньше, судя по взглядам, что она кидала время от времени в его сторону. Один из этих плотоядных взглядов я изловчилась перехватить, и с негодованием нахмурила брови, а затем кивнула Франсуазе в сторону пожилого Гарденберга, с явным намёком, что ей-то в её возрасте уж лучше заглядываться на мужчин постарше, нежели на молоденьких красавчиков, годящихся ей в сыновья. Франсуаза намёк мой поняла, удручённо вздохнула, и, сделав вид, что обиделась, уткнулась в свою тарелку. Минуты через три, впрочем, я заметила, что она с интересом поглядывает теперь уже, действительно, в сторону Гарденберга, увлечённо обсуждающим с Томасом современное искусство. Тут-то Нана и меня подключила к их беседе, и когда выяснилось, что Жозефина превосходно разбирается в живописи, поклонников у меня явно прибавилось. Ватрушкин соизволил оторваться от своей тарелки, повернувшись в мою сторону вслед за своим другом Тео – они явно не ожидали, что молодая симпатичная француженка может оказаться ещё и эрудированной до неприличия! А Габриель Гранье и вовсе взглянул на меня другими глазами, ну, или мне так показалось.
Неудивительно, учитывая то, что он художник. Думаю, ему должно быть приятным моё повышенное внимание к роду его деятельности. А ещё это стало бы отличным поводом познакомиться поближе, с улыбкой подумала я.
Что уж греха таить, эти его зелёные глаза меня пленили!
V
С управляющим, мсье Грандеком, познакомиться довелось только после обеда. Он приносил извинения за эту вынужденную задержку, но его не было в отеле с утра, он ездил в город по делам, и вернулся только что.
Надо отметить, что Грандек разговаривал исключительно с Франсуазой, и я почувствовала себя на удивление нехорошо. Вот значит, каково ей, бедняжке, ютиться в моей тени! О, да, определённо, стоит перед ней извиниться. Эта мысль уже во второй раз за день пришла мне в голову!
И пока Грандек любезничал с моей подругой, вспоминая её покойного супруга, с которым, оказывается, был дружен не меньше самого Шустера, пока он выражал ей свою глубочайшую скорбь в связи с его скоропалительной кончиной, я отошла в сторону, чтобы полюбоваться картинами. В беседе их я была лишней, и мешать не хотела – куда интересней было полюбоваться на творения художников! Как я уже говорила, подборка у Шустера в отеле была замечательная, услада для моего взыскательного вкуса.
Бродя между работами Диде и Калама [10], писавшими швейцарские красоты, я вскоре остановилась возле небольшой картины без подписи. На ней был изображён дом, одиноко стоящий на берегу горной реки. Воды стремительными потоками неслись вниз, бурлили и пенились, художнику удалось до того грамотно передать всю эту красоту, что я как будто слышала шум воды прямо здесь и сейчас! Заинтересованная, я подошла поближе и невольно коснулась холста кончиками пальцев. Картина была написана до того живо и натурально, что я вполне ожидала, что руки мои окажутся мокрыми от брызг ледяной воды, и я даже как-то удивилась, когда этого не произошло.
– Стефан Трауб, местный художник, – тихий голос за моей спиной заставил меня вздрогнуть, я обернулась и увидела Томаса. Он был один, без супруги, и приветливо улыбался мне. – Простите, не хотел вас напугать. Вы так увлечённо разглядывали эту картину!
– Я… да. Меня поразила игра света и тени вот здесь и вот здесь, – я показала, где именно. – Должно быть, из-за этого цветового перехода река кажется такой живой. Вот здесь она ещё тёмная, а тут, ниже, кажется, что воды совсем прозрачные! Бог ты мой, у этого Трауба большое будущее, попомните моё слово!
– Разделяю вашу точку зрения, – Томас улыбнулся мне. – Между прочим, этот домик расположен недалеко от отеля. Если хотите, можем пойти посмотреть. Заодно сравните, насколько точно у Трауба получилось передать красоту окружающих пейзажей!
– В самом деле? – Признаться, такая возможность очаровала меня. – О, я была бы очень рада! Покажете, где это?
– Разумеется, – он с улыбкой подал мне руку. – Это один из излюбленных туристических маршрутов для прогулок в горы. С этим домом связана очень интересная история, одно из местных преданий. Я вам обязательно его расскажу, вот только отыщем мою неугомонную супругу, если вы не будете против.
О, разумеется, я была не против! Более того, без Наны эта прогулка наверняка вышла бы не такой весёлой и увлекательной! Правда, для начала мадам Хэдин пришлось хорошенько поискать. Пока я пыталась убедить Франсуазу прогуляться со мной (идея заведомо обречённая на провал), Томас вышел в сад – я же, сходив в номер за накидкой, последовала за ним с некоторым запозданием. Массивные часы за стойкой как раз отбивали три пополудни, когда я прошла меж стеклянных дверей отеля, и едва ли не столкнулась с мсье Арсеном, русским журналистом. Он поспешно извинился на безупречном французском, а затем продолжил свой путь. По-видимому, он куда-то очень спешил. Или, от кого-то?
– Арсен! Арсен! Арсений! – Визгливые крики раздавались со стороны двора. – Немедленно вернитесь! Чёрт возьми, Арсен! Мы с вами не договорили!
Мимо меня промчалась ещё одна из утренних сплетниц, смуглая черноглазая мадам с пышным бюстом, любительница доктора Фрейда. Рассмотрев её поближе, я поняла, что ей наверняка ещё нет и сорока, но неуместная полнота добавляла ей как минимум лет пять сверху, а то и десять. Поэтому, должно быть, я ошибочно приняла её за ровесницу мадам Вермаллен этим утром. При всём при этом, двигалась она на удивление плавно для своих габаритов. Думаю, Франсуазе стоило бы у неё поучиться. И в вопросах общения с симпатичными блондинами, безусловно, тоже. Толстушка-смуглянка совершенно не стеснялась присутствия посторонних, и, подобрав юбки, бежала следом за удаляющимся прочь русским журналистом. Я, проводив эту странную парочку взглядом, покачала головой, и, пряча улыбку, спустилась по ступеням вниз.
Во дворе цвело лето, ласковое солнце переливалось искристым блеском в каплях воды на изумрудном газоне. С вечера прошёл дождь, трава ещё не успела высохнуть, и я, любуясь этим замечательным зрелищем, на несколько секунд остановилась прямо посреди этой красоты. И, вдыхая полной грудью свежий альпийский воздух, я прикрыла глаза, и, разведя руки в стороны, вскинула голову, подставив лицо тёплым солнечным лучам.
– Она просто прелесть, не так ли? – донёсся до меня чей-то тихий голос. Я почувствовала себя не лучшим образом, из-за того, что меня застали врасплох в минуту моей слабости, и впредь пообещала себе быть сдержаннее. Меня вполне утешило бы то, что фраза эта принадлежала Нане Хэдин, но куда хуже было, что она коротала досуг под сенью лиственниц в компании Габриеля Гранье. Габриэлла Вермаллен, разумеется, тоже была здесь, как и сам Томас, а это уж совсем никуда не годилось. Я смутилась бы, непременно, если бы помнила, как это делается.
– Я просто слишком долго не выбиралась на природу, – попыталась оправдать я свой порыв, наблюдая за их умилёнными улыбками. – Наверное, в последний раз это было ещё до замужества. А уж такой красоты я и подавно нигде не видела! – Подумав немного, я добавила зачем-то: – Извините.
– Ах, милая, здесь не за что извиняться! – Воскликнула Нана. – Я, хоть и сама коренная швейцарка, а всё равно первые два дня ходила, очарованная, никак не могла налюбоваться окрестными пейзажами!
Габриэлла подтвердила её слова, скромно улыбаясь, а Томас сказал, что и его суровое мужское сердце не оставили равнодушным здешние красоты. А Габриель не сказал ничего. Он просто смотрел на меня своим фирменным загадочным взглядом, будто в самую душу пытаясь заглянуть. Напрасно стараешься, красавчик! Душа Жозефины – тайна за семью печатями, которую тебе не разгадать, как не пытайся! Я коротко улыбнулась ему и перевела взгляд на Томаса.
– Кажется, вы обещали прогулку к домику у реки?
Мне хотелось как можно скорее уйти от неприятной темы и уж тем более не заводить ненужных разговоров о моей излишней сентиментальности. Я стыдилась этого, будто и впрямь эта чувствительность была чем-то позорным, чем-то, о чём ни в коем случае не следовало знать посторонним. И мне было неприятно, что у моей секундной слабости были свидетели. Ещё неприятнее казалось то, что одним из них был тот самый Гранье… И что он так на меня смотрит?
Томас тем временем подал одну руку Нане, а другую – мне, чтобы я не оставалась без пары. Сомнений в том, что Габриэлла выберет Гранье, ни у кого не оставалось: её словно клеем к нему приклеили, она ни на шаг не отходила от него, и не то, чтобы сам Габриель был этому рад. А может, я просто льщу себе этим? Возможно, он и не хотел вовсе оказаться именно в моей компании? Как бы там ни было, мы втроём ушли вперёд, оставив эту сладкую парочку чуть позади. Неподалёку от парадных ворот, гостеприимно распахнутых для проезжающих туда-сюда экипажей, нас нагнал Арсен.
Русский журналист появился из ниоткуда, будто из-под земли вырос! Я видела его не далее, чем пять минут назад, в фойе отеля, а сейчас он волшебным образом вышел со стороны сада, и выглядел при этом запыхавшимся, будто натурально спасался от погони. Вспомнив его черноволосую пышнотелую преследовательницу, я невольно улыбнулась, и он принял эту улыбку на свой счёт, растерянно улыбнулся в ответ. И спросил у Томаса осторожно, прежде чем выйти из-за раскидистого куста акации:
– Всё чисто? Её здесь нет?
Томас отрицательно покачал головой, давая ему добро, а Габриель на всякий случай огляделся по сторонам.
– Кажется, пока всё в порядке, – добавил он с безграничным состраданием в голосе.
– Фуф, слава богу! – Выдохнул русский журналист, и, проведя рукой по волосам, наконец-то представился мне: – Арсений Планшетов. Простите ради бога мою невежливость там, на входе. Я, хм, страшно торопился! Совершенно не было времени на любезности, да.
– Жозефина Лавиолетт, – ответила я с располагающей улыбкой.
– Боюсь, мадам Соколица не оставит тебя в покое, Арсен, – сказал Габриель, и меня немного удивило это дружеское и почти запанибратское обращение на «ты». Видимо, они с русским журналистом были добрыми друзьями.
– Боюсь, что так, – согласился с ним Арсений, всё ещё опасливо оглядываясь на тропинку, ведущую к отелю. Похоже, он всё ещё опасался погони.
– Меня она, к примеру, преследовала ровно до тех пор, пока не добилась-таки своего! – Загадочно добавил Гранье.
О чём это они? Я невольно обернулась на Габриеля, а тот, спрятав улыбку, пояснил:
– Мадам Фальконе требовала от меня написать её портрет, как только узнала, что я художник. Я поначалу пытался отказаться, но вовремя сообразил, что отделаться от неё не так-то просто. Эта итальянка на редкость упёртая женщина, и во всём привыкла идти до конца.
– А от вас, Арсен, чего она так старательно добивалась? – Заинтересованно спросила Нана.
– Статью о её фамильном замке в Турине, – вздохнув, пояснил мсье Планшетов. – Я пытался сказать ей, что освещаю только светскую хронику, но уж никак не историческую, но эта упрямая мадам и слушать меня не желала! Господь всемогущий, кому вообще пришла в голову идея сказать ей о том, что я журналист? – Он с подозрением прищурился, глядя на Гранье. – Не тебе, часом?
Габриель прижал руку к груди, изображая неподдельное возмущение, но я уже знала эти его уловки, и невольно засмеялась. И не одна я.
– Думал, таким образом она отстанет от тебя с просьбой о портрете? – Простонал Арсен, взявшись за голову. – Габриель, ну и какой ты друг после этого?!
– Портрет, между прочим, я ей уже написал, – смеясь, ответил Гранье. – Я же не виноват, что она запросила ещё один? Видите ли, в прошлый раз наряд её был слишком скромен, и ныне она захотела что-то более современное, декольтированное и… хм, я, кажется, отвлёкся от темы. Так что твоя статья?
– Я объяснил ей, что история старого туринского замка вряд ли заинтересует парижскую или бернскую газету, но она и слушать меня не стала! – Отозвался Арсений. – Представьте только, поехала за мной в город, и всю дорогу рассказывала о своей родине! Право слово, никогда ещё дорога не казалась мне такой долгой!
– Арсен, вы жестоки! – Воскликнула Габриэлла с укоризной. – Возможно, мадам Фальконе просто хотела вашего общества, а вы совсем не оценили её попыток!
А что, предположение здравое. Учитывая то, как бесконечно красив был русский журналист. Я и сама, вероятно, не отказалась бы от его общества. Блондины меня всегда привлекали куда больше брюнетов. Невольно вспомнился тот самый соседский мальчик, голубоглазый и светловолосый, моя первая любовь… чем-то они с Арсеном были похожи. Наверное.
– Ох, Габби, я прошу вас, не будем об этом! – Закатив глаза, произнёс Планшетов. И, подмигнув мне, спросил: – Вы, кажется, собирались на прогулку? Прошу вас, позвольте составить вам компанию! Спасите меня от общества мадам Соколицы! Боюсь, ещё пару минут с ней я просто не переживу!
Бестактно, конечно, говорить такое о женщине, но Арсен был столь очарователен, что ему простили всё. И не только я: и Нана, и Габриэлла тоже попали под власть его обаяния. И, похоже, обе они искренне сострадали ему, до того испытав на себе, как невыносима порой может быть мадам Фальконе. Поэтому я улыбнулась, и сказала дружелюбно:
– Как вам будет угодно, мсье.
Томас выпустил мою руку, ибо у меня наконец-то появилась пара, и, когда Арсен коснулся моей ладони в кружевной чёрной митенке, я невольно улыбнулась. В самом деле, он был похож на того мальчика, которого я любила когда-то. Правда, глаза у него были не голубые, а карие. Тёмно-карие, почти чёрные, что казалось немного удивительным при таких-то светлых волосах!
Однако, я решила не забивать голову мыслями о красивых мужчинах, и обратилась в слух, когда Томас начал рассказывать печальную историю домика у реки.
VI
– Когда-то давным-давно, около столетия назад, в этом доме жила одна девушка, дочь местной знахарки и травницы, – тихим и печальным голосом начал Томас, – ей не посчастливилось влюбиться в кого-то из предков герра Шустера, хозяина этих земель. Тогда «Коффин» ещё не был известным на всю Швейцарию отелем, тогда это было всего лишь большое поместье неподалёку от столицы.
Парковая аллея поворачивала налево и спускалась вниз, где начиналась дорога к городу, а мы же пошли направо, по маленькой тропинке, выложенной мелкими камешками. Здесь повсюду были кусты шиповника, идеально подстриженные и ухоженные, очевидно, эта часть парка не была заброшенной. Шустер наверняка знал печальную историю дома у реки и умудрился даже её обернуть себе во благо, превратив старую хижину в излюбленное место для прогулок.
– Её избранник был молод и богат, и являлся так же единственным наследником отцовского состояния, и хозяином близлежащих земель, – продолжал Томас, с интересом оглядываясь по сторонам. Лиственницы сменились елями, кусты стали гуще, а оттого лес казался темнее. А какой здесь был воздух! Бог ты мой, какой чистый, какой приятный, лёгкий… Здесь даже дышалось по-другому. Не то, что в душном, давящем Лионе, где в окно то и дело залетали «чудесные» ароматы железнодорожного вокзала… Ах, даже вспоминать не хочется!
– Мы уже почти пришли, – тихонько сказал мне Арсений, довольно интимно склонившись ко мне. Думаю, он просто не хотел перебивать Томаса с его рассказом, поэтому шептал мне в ухо, но со стороны этот жест наверняка выглядел двусмысленно. Готова поспорить, что Габриель обратил на это внимание. Но оборачиваться и проверять я не стала, и, спрятав улыбку, сделала шаг вперёд, и вышла на аккуратную поляку неподалёку от небольшого водопада.
О, да, мы пришли. Я сразу узнала местность по картине, и, воссоздав ранее увиденные образы в своей памяти, пыталась наложить одно на другое, увидеть этот пейзаж глазами художника, понять, прочувствовать… Гранье, надо отметить, отреагировал точно так же: позабыв о своей Габриэлле, он встал вполоборота, и, склонив голову, неотрывно глядел на домик у бурлящей воды, пытаясь уловить игру света и тени. Кажется, он полностью ушёл в себя, таким отрешённым и чуждым ко всему земному он выглядел. Это тоже заставило меня улыбнуться.
– В один прекрасный день, возлюбленный той девушки, Матильды Хальскен, предал её, – сказал Томас с грустью, остановившись у входа в небольшой старый домик. – Он обещал на ней жениться, и своими обещаниями добился её благосклонности, но когда пришло время сдержать своё слово – он выбрал другую. Ту, что была богаче.
Чёртова история, старая как мир! Я поняла, что ещё немного, и не сдержусь, расплачусь. И вовсе не Матильда Хальскен тому виной, не считайте меня до такой степени сентиментальной! Просто, вспомнилось тут кое-что… Я стиснула зубы, изо всех сил стараясь сохранять непринуждённый вид, а предательская память под тихий и печальный голос Томаса подсказывала знакомые, и, казалось, давно уже забытые картины…
Светловолосый мальчишка с голубыми глазами, такими же чистыми и ясными, как это швейцарское небо над головой. Его улыбка, его нежные поцелуи, и его такое искреннее: «Я люблю тебя, Жозефина!» И наша первая ночь вместе. В ромашковом поле, среди белых цветов, венок из которых украшал тогда мои волосы… Мне было семнадцать лет, когда я отдалась ему. Всего семнадцать! Но тогда я чувствовала себя самой счастливой на свете, ведь я знала – у нас впереди светлое будущее, непременно, с собственным домом и кучей маленьких детишек. Он был богат. Он мог спасти меня от нищеты, которая грозила нашей семье.
Вот только, увы, он не стал этого делать. Как там сказал Томас? Когда пришло время сдержать своё слово – он выбрал другую. Ту, что была богаче. Тривиально, пошло, и до отвращения банально! Тысячи таких же историй я слышала от подруг, но почему-то они все казались чем-то далёким и отстранённым, ровно до тех пор, пока я сама не попала в эту ловушку.
Так что, бедная Матильда Хальскен, я сочувствую тебе всем сердцем, и понимаю тебя как никто другой!
Господи, какой позор, что это – на моих щеках? Неужели слёзы?! Я всерьёз испугалась, но вскоре успокоилась – это всего лишь вода. Мы подошли слишком близко к водопаду, и она теперь была везде: на моих волосах, на лице, на платье… Какое облегчение! Я всерьёз подумала, что расчувствовалась слишком сильно – заплакать на людях, ну не глупа ли я? Как хорошо, что это всего лишь холодные речные брызги!
– Что было потом? – Тихонько спросила Габриэлла у меня за спиной. Томас спохватился, что увлёкся пейзажем и взял слишком долгую паузу, потому поспешил завершить свою историю:
– Она не выдержала его предательства, и спрыгнула вот с этого самого моста, прямо в реку.
О, бедная Матильда! Я понимаю тебя, как никто другой. Машинально коснувшись страшных шрамов на запястье, я в очередной раз порадовалась, что надела платье с длинным рукавом и кружевные митенки, а затем подошла к самому краю обрыва, чтобы взглянуть вниз.
Мне, правда, было любопытно.
– Жозефина, осторожнее! – послышалось сзади. Я невольно обернулась. Это Габриель. Он назвал меня по имени? Надо же. Как мило! И почему из его уст это прозвучало как-то по-особому нежно, романтично? Или, возможно, так подействовало на меня очарование этого места?
– Не волнуйтесь, я вовсе не собираюсь прыгать следом за ней, – отозвалась я, и вновь вернулась к краю. Господи, какой величественной и красивой была эта горная река! И, вроде бы, совсем небольшая, но воды её бежали так уверенно и неумолимо… Точно само время, философски подумала я. Его тоже не остановить, как ни старайся.
– Красиво здесь, правда? – А это уже Нана, подошедшая вплотную ко мне. Она тоже не боялась высоты, и с интересом наблюдала за ревущей внизу рекой. – И история очень красивая, жаль только, что такая печальная!
А большинство известных мне любовных историй были печальными! Это как у Шекспира, в «Ромео и Джульетте». Право слово, не думаете же вы, что это произведение стало бы легендарным, если бы они в итоге остались вместе и жили долго и счастливо? Вот и я не думаю. У историй, берущих за душу, непременно должен быть несчастливый финал. Иначе она попросту не запомнится. Но это было моё сугубо личное мнение, и делиться им ни с кем я не собиралась, сохраняя свойственный мне оптимистичный настрой.
– Этот домик сохранили в память о бедной Матильде, – добавил Томас. – А сейчас влюблённые парочки превратили его в излюбленное место для свиданий. Не желаете ли зайти внутрь? Там довольно уютно.
И впрямь, уютно и на удивление чисто. Томас сказал, что по настоянию герра Шустера, прислуга из отеля два раза в неделю наведывается сюда с генеральной уборкой, по понедельникам и четвергам. Сегодня была среда, чистка и планировалась на завтра, так что помешать нам никто не мог.
Вас, конечно, уже ничуть не удивит, что я первым делом остановилась возле одной из картин, висящих на стене? Да-да, Жозефина редко когда могла пройти мимо хорошего произведения искусства! На картине была изображена девушка, сидевшая вполоборота, стыдливо прячущая в ладонях лицо. Стыдиться было чего – она была практически обнажена, если не считать белой простыни, закрывающей её прелести.
– Стефан Трауб, – произнёс Габриель, бесшумно подошедший сзади. – Швейцарец по происхождению, чудесные вещи пишет! Видели «Домик у реки» в фойе? Милая вещица, не так ли?
Он стоял так близко, что я чувствовала его дыхание на своей шее. Это ощущение будоражило, и у меня не возникло ни малейших сомнений, что Габриель нарочно затеял всё это. Я обернулась через плечо, взглянув на него с улыбкой, и решила послать ему один из тех самых взглядов, который означал, что я принимаю правила его игры.
Ладно, Гранье, будь по-твоему. Ты меня заинтриговал!
Бо-оже, Франсуаза меня убьёт…
– Взгляните-ка, здесь совсем недавно кто-то был! – Возглас Габриэллы, вставшей у окна, разрушил незримые нити между нами, и мы с Гранье, будто опомнившись от наваждения, одновременно повернулись к ней.
И я тотчас же замерла в полнейшей растерянности. У неё в руках была моя шляпка! Та самая, что я подарила Селине этим утром! Белая, с голубенькими ленточками, нет ни малейших сомнений в том, что это она! Ах, впрочем, чему я удивляюсь? Томас же сказал – этот домик ныне самое популярное место для свиданий у местной молодёжи, а Селина предупреждала, что собирается именно на свидание. И, похоже, поклонник здорово увлёк её, если она забыла такой ценный подарок на подоконнике в старом доме. А может, мы просто спугнули их, что куда более вероятно.
Подумав об этом, я испытала некую досаду – это ж надо, как неловко получилось! Испортили девушке свидание, заставили прятаться, бросить шляпку впопыхах! И приспичило мне именно сейчас взглянуть на этот дом? Селина меня не простит. Ей ведь, наверняка, нечасто удаётся вырваться из отеля – управляющий Грандек произвёл на меня впечатление строго человека, и, скорее всего, она бегала на встречи с возлюбленным в тайне от него. Вряд ли он поощрял бы такое поведение, и плевать ему на то, что она молода и влюблена! Ну, ничего, я найду способ, как исправить свою ошибку. Например, попрошу Селину у Грандека на целый день под каким-нибудь благородным предлогом, а сама отпущу её к любимому, но только так, чтобы никто не знал. Пусть это будет с ней наш маленький секрет! Улыбнувшись, я провела рукой по полям фетровой шляпки, которую всё ещё держала Габриэлла.
– Прекрасная вещица, вы не находите? И дорогая, должно быть!
О, да. Не дешёвая. Но вслух я ничего не сказала, лишь улыбнулась.
– Наверняка какая-нибудь знатная дама оставила, – шепнула мне мадемуазель Вермаллен, на удивление сообразительная барышня. – Никому из деревенских в жизни не накопить на такую красоту! Ох, прямо руки чешутся забрать себе, взгляните же, какая она милая! Жаль, не могу, воспитана по-другому. Оставим здесь? Хозяйка рано или поздно вспомнит, где могла забыть свою шляпку, и вернётся за ней. Правда же?
Да, так и поступим. А потом я извинюсь перед Селиной за то, что помешала ей своим приходом и заставила её прятаться. С улыбкой на лице я кивнула Габриэлле, и мы вместе положили шляпку на подоконник – туда, где она и лежала до того. Затем моя очаровательная собеседница поспешила к своему ненаглядному Габриелю, который ждал её у выхода, я замешкалась на секунду, приметив на том же самом подоконнике маленькую золотистую запонку. Она поблёскивала в солнечных лучах, будто изо всех сил стараясь привлечь моё внимание.
– Жозефина, вы идёте? – Окликнула меня Нана, остановившаяся в у порога. Все уже вышли, я оставалась последней, и времени на чрезмерное любопытство у меня не было. Прости меня, Господи, но я оказалась воспитана куда хуже Габриэллы Вермаллен. Без малейших раздумий, я смела запонку с подоконника, и, спрятав в ладони, быстро сунула к себе в карман. Понятия не имею, зачем я это сделала. Вероятно, мне хотелось рассмотреть её поближе. А, может, проснулась дремлющая до этого страсть к клептомании? Вот уж чего не хотелось бы, какой позор!
Нет, нет, убеждала я себя, быстрыми шагами догоняя Нану у дверей. Мною двигало обычное женское любопытство, не более! Запонку наверняка обронил кавалер моей Селины, когда они миловались вдвоём, пользуясь уединением старого домика. Этим же вечером я непременно верну запонку ей, и под таким предлогом обязательно попрошу Селину рассказать, кто же её кавалер? И, быть может, показать мне его? А что, я бы с радостью посмотрела!
Уверяю вас – то, что сама я была неспособна никого полюбить, вовсе не делало меня бесчувственной и бездушной эгоисткой (как любила говаривать Франсуаза). О, нет, всё совсем не так! Я обожала такие вот истории, и всегда с интересом слушала, а иногда и принимала непосредственное участие в становлении чьих-нибудь отношений. Думаете, кто познакомил Франсуазу с её вторым мужем? То-то же.
Да и Селина, несомненно, ещё скажет мне спасибо! Уж я-то что-нибудь придумаю!
Поэтому, сжимая в кармане своего платья маленькую запонку, я возвращалась назад в «Коффин» почти счастливой. Слушая весёлые рассказы Арсена о местных жителях, я смеялась вместе с Наной и Габриэллой. Счастливая и беззаботная, я даже не догадывалась, что больше никогда не увижу Селину живой.
VII
Графиню Фальконе звали Виттория, а прозвище «мадам Соколица» [11] за ней закрепилось исключительно благодаря стараниям Габриеля. Ну, а кто же ещё мог выдумать остроумную шутку, и высмеять человека так, чтобы тот смеялся над самим собою громче остальных?
Всё это я узнала за ужином, где нас с горячей итальянкой наконец-то представили друг другу. Причём, как выяснилось, из нас двоих мадам Соколице куда больше понравилась Франсуаза, нежели я. Моя скромная подруга с первых секунд общения стала для Фальконе просто «милочкой», но и себя в ответ она разрешила называть точно так же. Мне с трудом представлялась Франсуаза, строгая и правильная Франсуаза, называющая «милочкой» пышнотелую мадам Соколицу, тогда как свою собственную дочь, малышку Манон, Франсуаза называла исключительно «мадемуазель Мари-Женевьев Морель», безо всяких там «милочек», «пупскиов» и «ангелочков».
– Только попробуй, предательница, польститься на чары этой итальянки, и я жестоко отомщу тебе от имени малышки Манон! – Прошептала я Франсуазе, пользуясь тем, что все увлечены очередной историей Габриеля, и не смотрят в нашу сторону. Франсуаза порадовала, на чары не польстилась, но вместо приемлемого «мадам Фальконе» называла её теперь попросту Витторией, думается, исключительно мне назло! Негодная Франсуаза! Ну, да бог с ней.
Помимо Фальконе, из отсутствующих за обедом, ныне был русский журналист Арсен, с которым мы уже успели познакомиться на прогулке, и ещё один интересный молодой человек по фамилии Гринберг.
Прошу, не поймите меня неправильно – когда я говорила «молодой человек», я имела в виду его исключительно юный возраст. Вряд ли он был старше Габриэллы, но Габриэлла всё же приехала сюда с матерью, тогда как мсье Гринберг явился один. А когда я назвала его интересным, я ни в коем случае не подразумевала внешнюю привлекательность, хотя собою он и впрямь был хорош – вот только его бы побрить, да убрать куда-нибудь эти неаккуратные пейсы! Интересным его делал скорее этот восточный колорит, а так же лёгкий ореол загадочности: никто из собравшихся толком не знал о нём ровным счётом ничего. Не считая тех фактов, которых никак не получилось бы скрыть: во-первых, он еврей, а, во-вторых, поселился в отеле совсем недавно. Номер люкс, комната «13А», на третьем этаже. Это всё я узнала от Франсуазы, а она от своей горничной. Ещё сказали, что Гринберг, как истинный представитель своей нации, затребовал скидку на номер, в силу того, что число-то уж больно нехорошее! На месте Шустера, я бы предложила нахальному мальчишке выметаться ко всем чертям, но хозяин отеля пошёл навстречу и любезно согласился сбавить некоторую часть от стоимости в качестве компенсации за тринадцатый номер. Каково? По-вашему, это не делает паренька ещё более интересным? Мне вот он, например, сразу понравился. Умный, хваткий, с живыми, бегающими глазами. Его бы в business с таким-то потенциалом, далеко пойдёт!
А ещё, по-моему, он был безнадёжно влюблён в Габриэллу, если я хоть что-то понимала в людях! Вот только мадемуазель Вермаллен не было ни малейшего дела до сохнущего по ней Гринберга, сама она всей душой была расположена исключительно к Габриелю Гранье. А тот, в свою очередь, неровно дышал в мою сторону – теперь я знала это уже наверняка. Презабавная получалась ситуация! Замыкая круг, я должна была воспылать тайной страстью к хваткому еврейчику, но, увы, он был для меня слишком молод. Лет семь нас разделяло, или даже восемь – ну куда это годится? Вот и я думаю, что никуда.
Так что, вашей покорной слуге ничто не мешало весь вечер любезничать с Габриелем, но, в то же время бросать взгляды украдкой на симпатичного блондина Арсена, что сидел напротив, и тоже, время от времени, поглядывал на меня. Хороший он был парень! Мы могли бы поладить.
После ужина Нана пригласила всех прогуляться по саду, но от доктора Эрикссона сразу же получила категорический отказ. Меня прямо-таки переполняло желание сказать ему, что Нана приглашала уж точно не его лично, но я благоразумно промолчала, чтобы не начинать конфликта. И, дабы не обижать милую женщину, ответила с улыбкой, что я, безусловно, согласна на её предложение. При этом ничто не мешало мне бросить взгляд-молнию в сторону вредного доктора, что я и сделала с превеликим удовольствием. Его жена, правда, молитвенно сложила руки, глядя в мою сторону, будто умоляя меня не говорить ничего, и просто дать им спокойно уйти.
– Если мой Томас начнёт вести себя так же в его возрасте, я, пожалуй, задушу его подушкой! – с философским видом сказала мне Нана, когда супружеская чета Эрикссонов удалилась. Я лишь усмехнулась, провожая их взглядом, а затем повернулась к Франсуазе – что она?
О-о, разумеется, то же, что обычно!
– Я, пожалуй, поднимусь к себе, и…
– Категорическое нет! – Сразу же ответила я. – И думать не смей, иначе я обижусь!
– Право слово, я нехорошо себя чувствую, и…
– На свежем воздухе тебе полегчает, вот увидишь! – Бодро ответила я.
– Но я не…
– Мадам Морель, позвольте, я был бы так счастлив, если бы вы составили нам компанию! – Пришёл мне на помощь мсье Гарденберг, и тут уж моя Франсуаза не смогла устоять. Думаю, если бы мне было сорок пять, я тоже не устояла бы перед обаянием этого человека! Да, что уж там, я и в двадцать пять едва-едва сдерживалась – клянусь вам, мсье Эрик Гарденберг был просто чудо, как хорош! А какой обходительный, м-м! Просто прелесть! Неудивительно, что Франсуаза сдалась, вроде как, уже и позабыв про своего Фрица Фессельбаума. Или Ганса? Боже, почему я всё время путаю эти имена?
Ещё одна удача ждала меня в виде графини Вермаллен, у которой снова разболелась голова, причём на этот раз так сильно, что она в приказном порядке потребовала присутствия дочери подле своей постели.
– Ты должна, непременно, почитать мне что-нибудь перед сном, Габриэлла! – Скрипучим голосом говорила она, будто и не догадываясь при этом, что разбивает сердце бедной девушки. Та явно предпочла бы прогулку в обществе милого Габриеля, но звёзды сегодня не благоволили ей. Ей пришлось остаться, и, таким образом, Габриель Гранье попал в моё полнейшее распоряжение.
Он-то поначалу и вовсе не хотел идти, но быстро переменил своё решение, когда узнал, что Габриэлла остаётся с матерью, а я иду, и, вроде бы, даже без хорошей компании. Дважды мне повезло с мадам Соколицей, которая приклеилась к Арсену как банный лист – и если русский журналист ещё хранил робкую надежду прогуляться вместе со мной, то пламенная итальянка живо развеяла его наивные заблуждения. Планшетов был вынужден развести руками, с искренним сожалением глядя на меня.
Таким образом, мы разбились на пары: Нана с Томасом возглавляли процессию, за ними мадам Соколица едва ли не силой тащила за собой русского журналиста, то и дело бросающего полные отчаяния взгляды на Габриеля, будто тот мог чем-то помочь! За ними, тихонько воркуя о чём-то своём, шли мсье Гарденберг с Франсуазой, им едва ли не наступали на пятки Гринберг с Ватрушкиным – оказывается, они были старые друзья! Гринберг, я слышала, рассуждал о плачевном будущем Германской экономической системы, а Ватрушкин, как обычно, что-то жевал, и отвечал ему невпопад.
Шествие замыкали мы с Габриелем, причём шли нарочито медленно, не имея ни малейшего намерения догонять кого-либо из наших друзей. Нам было хорошо и так. Не знаю, как ему, но мне-то уж точно было хорошо.
Скажите-ка, что ещё нужно? Тёплый июльский вечер, пение цикад, тихий сад, тонувший в сладкой сумеречной дымке, и всюду этот невероятно лёгкий альпийский воздух…! И красивый мужчина рядом, держит тебя под руку, и смотрит так маняще…
На секунду мне показалось, что я снова дома. Не в Лионе, разумеется, в этих каменных джунглях тесного города, который так обожал Рене – а в нашем скромном предместье, где я выросла, где прошла моя юность. Мне снова неминуемо захотелось закрыть глаза, и встать посреди тропинки, широко раскинув руки, и кружиться, кружиться на месте, беспричинно, просто так. Кружиться до тех пор, пока не подкосятся ноги. А потом, обессиленной, рухнуть на мягкую постель из ромашек, в объятия любимого. И только потом открыть глаза, и увидеть его нежный, ласковый взгляд, и услышать это самое: «Я люблю тебя, Жозефина!» И целовать его, и позволить ему любить меня – до тех пор, пока не иссякнут силы, а потом лежать вместе, обнявшись, и прислушиваться к биению его сердца, и счастливыми глазами смотреть на мерцающие звёзды на вечернем небе…
Господи, как давно это было! А я до сих пор не могу забыть. Непроизвольно подняв голову, я и впрямь увидела звёзды. Те же самые звёзды, что и у нас. Они-то не изменились за эти годы, а вот я изменилась. Господи боже, как всё это грустно…
– Вам так идёт эта задумчивость, – голос Габриэля прозвучал совершенно неожиданно, я за это время успела забыть, что я не одна. Бог ты мой, ну опять! Что за наваждение? Слишком часто в последнее время я ударялась в воспоминания! Дома такого не было. Рядом с Рене я никогда не позволяла себе этих слабостей. Ненужных, глупых слабостей! Он бы сразу заметил, наверняка. Слишком хорошо он меня знал.
Впрочем, не о том я думаю, в сумраке июльского вечера, в компании красавца-мужчины, под сенью деревьев в спящем саду. Лучше подумать о том, какие прекрасные у него глаза, и какой манящий взгляд, преисполненный чувственности. Гранье, когда я повернулась к нему, показался мне чуть смущённым и растерянным. И, на секунду опустив взгляд, он сказал:
– И вообще, вы очень красивая, Жозефина. Я… если позволите, я бы хотел написать ваш потрет!
Думаю, это признание далось ему куда сложнее, чем то же признание в любви. Знала я творческих людей, и прекрасно понимала, с каким трепетом они относятся к собственной деятельности. И уж тем более понимала я, как боится он сейчас получить отказ. Думается мне, откажись я провести с ним ночь, Габриель и то расстроился бы меньше.
Собственно, я и не собиралась отказываться.
Сдержанная улыбка была ему ответом.
– Вот как? – Я задумчиво прикусила губу. – Стало быть, мадам Фальконе добивалась от вас своего портрета едва ли не силой, а мне вы предлагаете добровольно?
– Бог мой, вы ещё и сравниваете себя с ней? – Габриель закатил глаза, как обычно делал это Арсен, а затем улыбнулся мне. – Милая Жозефина, я готов на коленях умолять вас позировать мне! Вы не представляете, какое удовольствие мне доставит эта работа! – Нервно облизнув губы, он продолжил: – Ну так? Что скажете?
Да что тут можно сказать? Его внимание льстило моему самолюбию, и я, ласково коснувшись его руки, ответила:
– Разумеется, я согласна.
По-моему, выдохнул он только теперь. Бедняга и впрямь переживал, и, похоже, мой отказ имел все шансы разбить ему сердце.
– Вы только что сделали меня самым счастливым человеком на свете, Жозефина! – С приятной искренностью произнёс Габриель. Я улыбнулась ему, и решила, что для одного вечера любезностей, пожалуй, хватит. Иначе выйдет перебор, а это не слишком хорошо даже для двух не самых нравственных в мире французов.
– Пожалуйста, давайте нагоним остальных! – Тихонько сказала ему я. Говорила, вроде бы, вполне серьёзным тоном, и очень разумные вещи, но взгляд мой, посланный Габриелю, просил совсем о другом. Что ж, он понял меня прекрасно, говорю же, настоящий француз! Видимо, с женщинами он имел немалый опыт, раз умел читать между строк. Очаровательно улыбнувшись мне, он взял мою руку и поднёс её к губам.
Казалось бы – что такого? Обычный поцелуй! Но в этот раз меня обдало волной острого желания, и я сделала всё, чтобы скрыть от Габриеля свои истинные чувства. Ещё одна сдержанная улыбка в ответ на этот его жест, сдержанная но одобрительная. Что ж, и он знал толк в искусстве соблазна, и прекрасно понимал, когда нужно остановиться.
Взяв меня под руку, мы продолжили наш путь вслед за остальными, теперь уже разговаривая о самых разнообразных вещах, но в большей степени о живописи. Габриелю, как художнику, было интересно моё видение некоторых картин, кое-где наши с ним взгляды совпадали, и тогда он радостно улыбался, а кое-где в корне расходились, и тогда он с забавной горячностью пытался доказать мне, как я неправа. Я лишь искренне смеялась в ответ, заверяя его, что мне, дилетантке, далеко до его профессиональных суждений, но он убеждался, что всякий раз я оставалась при своём мнении, и расстраивался по этому поводу.
С ним было интересно и легко, и я поймала себя на мысли, что давно уже так запросто не общалась с мужчиной. Едва ли вообще когда-либо общалась так, хоть раз в жизни! Габриель, которому ещё не было тридцати, имел огромный жизненный опыт за плечами, и в некоторых вопросах разбирался получше, чем шестидесятилетний мсье Гарденберг, отец четверых детей и дедушка десятерых внуков. Габриель рассказал мне о своём тяжёлом детстве, о том, что вырос в нищете и ничуть этого не стесняется, и с грустной улыбкой подытожил, что жизнь ничему не научила его, раз он выбрал в качестве заработка такую сомнительную стезю, как живопись. О, да, сегодня у тебя есть признание – а что будет завтра? Когда твои картины перестанут продаваться, что тогда? Определённо, нужно было искать себе другую профессию, но в том-то и дело, что в живописи была вся его жизнь. Габриель очаровательно улыбался и сам же называл себя глупцом, но, увы, вот уже сколько лет не мог ничего с собой поделать. Я на это отвечала то же, что и десяткам молодых художников до него – если есть талант, его нужно развивать, а не закапывать в землю! Это дар божий, от него нельзя отказываться так просто, а приносить его в жертву суровым реалиям жизни, это… это так грустно!
Грустно, но ничего с этим не поделаешь. Сколько великих художников погибло под гнётом этой самой нищеты – вынужденные тяжким трудом зарабатывать себе на хлеб на фабриках или заводах, они просто не имели лишней свободной минутки для себя и своего любимого дела. Нескольких таких я даже знавала в былые времена. Я ведь говорила, что я и сама выросла в небогатой семье, и друзья у меня были из того же круга – хорошие, в сущности, люди, но жестокая и голодная жизнь загубила их потенциал безвозвратно.
Вот и Габриель так же, балансировал на грани. И я прекрасно понимала, к чему он всё это говорил. Единственная тема, которую мы не затронули во время этой прогулки, касалась Габриэллы. Он вообще не упоминал о ней. Ни словом. Как будто её не было. Но ведь и я умела делать выводы, и видела, к чему он клонит. Брак с богатой наследницей ткацкой империи в Швейцарии стал бы для него спасением. Если он женится на ней, ему никогда не придётся задумываться о крыше над головой, и он сможет писать картины в своё удовольствие. И тогда его талант не пропадёт. Вот что он хотел сказать на самом деле. Будто бы оправдывал свои отношения с Габриэллой Вермаллен, искренне надеясь, что я пойму его правильно и не стану осуждать.
Бог мой, милый Габриэль, да кто я такая, чтобы осуждать тебя? Я слушала его с лёгкой улыбкой на лице, и пыталась понять, как бы я сама поступила бы на его месте. Пожертвовала бы своей свободой ради мечты? Правда, вспоминая красавицу Габриэллу, я вообще не понимала, чего ещё Гранье хочет от жизни? Она же само совершенство! Юна, образованна, и бесконечно красива – разве можно мечтать о большем?
Додумать эту мысль до конца у меня не вышло, на втором круге по парку мы догнали наших друзей, остановившихся у дороги, что вела к воротам «Коффина». Несмотря на поздний час они были всё ещё открыты, и это насторожило меня не меньше, чем наша выстроившаяся в ряд компания.
– Что там такое? – Озадаченно спросил Габриель, и, нахмурившись, подошёл к Арсену. Он журналист, как-никак, его профессия обязывает всегда быть в курсе! Вот только Планшетов ничего не говорил, растерянно глядя на большую чёрную карету, как раз проезжающую мимо.
– Кто это, в такой час? – Тихо спросила Нана у своего супруга. Я встала рядом с ними, делая ставку на Томаса. Почему-то у меня сложилось неизгладимое впечатление, что этот человек знает всё на свете. И я не прогадала.
– Может, кто-то из новых постояльцев? – Робко предположила тем временем мадам Фальконе. А я всё не сводила взгляда с огромной чёрной кареты, которая уже одним своим видом предвещала неминуемую беду. Совсем дурно мне сделалось, когда я заметила небольшой прицеп на четырёх колёсах, тянущийся за ней. Там, на телеге, лежало что-то, накрытое тёмным брезентом.
О, нет, это вовсе не постояльцы. Сглотнув подкативший к горлу ком, я взглянула на Томаса, в надежде, что он опровергнет мои догадки. Он в ответ ничего не сказал, только сокрушённо покачал головой.
Карета заехала на задний двор, остановившись у ворот чёрного хода. Дверца приоткрылась, и оттуда вышел высокий худосочный мужчина с чёрными усами и в форме, очень напоминающей полицейскую. Я до этого не видела никогда швейцарских полицейских, но ничто не мешало им выглядеть именно так, как этот господин.
Потом русский журналист тихонько произнёс пылкое: «Твою же мать!», а затем добавил к этой колоритной фразе ещё парочку фраз на своём языке. Ну, а Томас, от которого я надеялась добиться хоть каких-то объяснений, наконец-то заговорил, но, право слово, уж лучше бы молчал!
– Это комиссар Витген, бернская полиция. Похоже, что-то случилось.
Я невольно взялась за голову и неслышно застонала от отчаяния. «Что-то случилось»? Я скажу тебе, милый Томас, что случилось! Кончилась, чёрт возьми, моя спокойная жизнь – вот что случилось!
VIII
На следующее утро мы с Франсуазой словно поменялись ролями. Она выглядела на удивление спокойной и сдержанной, и, сурово поджав губы, бесстрастно глядела на сад за окном, а я, вне себя от бессильной ярости, нервно расхаживала по её комнате. И выдавала отчаянные реплики, время от времени:
– Всё пропало, чёрт подери! Всё в очередной раз пошло прахом! О-о, ну почему, почему, за что мне это?! Вот только полиции сейчас нам и не хватало! Ах, Франсуаза, отчего ты так невозмутима? Будто не понимаешь, что всё это означает?
Я была не в себе, определённо. Ночной приезд комиссара Витгена выбил меня из колеи. В другой ситуации я ни за что не позволила бы себе нагнетать обстановку таким образом, да ещё и пугать мою бедную впечатлительную подругу своими домыслами! Вот только у нас с Франсуазой издавна так повелось – когда одна начинала бояться, вторая неизменно превращалась в незыблемую опору, и оказывалась рядом, чтобы подставить дружеское плечо. Чаще всего, правда, этой опорой была всё же я, но из любого правила бывают исключения.
– Успокойся, Жозефина! Мы ещё не знаем, для чего он приехал. – В рассудительности этим солнечным утром Франсуазе было не отказать. – Может, у него какие-то дела в отеле? С хозяином, к примеру? Почему нет?
– Шустера даже нет в стране, насколько мне известно, – быстро ответила я, не забыв нахмуриться. – Да и какие у него могут быть дела с полицией?! В первую очередь он должен беречь репутацию отеля, а это само собой подразумевает – никаких полицейских, чёрт возьми! – Переведя дух, я осторожно продолжила: – Ты видела эту тележку, прицепленную к карете? Как думаешь, что на ней привезли?
– Ох, Жозефина! – Франсуаза поджала губы, и посмотрела на меня с опаской.
– Я скажу тебе, что, – я кивнула ей. – Когда-то давно, ещё до замужества, у меня была подруга по имени Луиза. С самого детства у меня не было человека ближе, чем она! Разве что, её чёртов брат, в которого меня угораздило влюбиться? Но не о том речь! Незадолго до моей свадьбы, Луиза исчезла. Её долго искали и не могли найти, а через неделю поисков её тело выловили из Роны [12]. И привезли к нашему дому вот на такой же тележке, точно так же накрытую брезентом, из-под которого свисали её длинные светлые волосы… Господи, у меня всё внутри перевернулось, когда я вчера увидела этот прицеп! Франсуаза, говорю тебе совершенно точно: они привезли труп. Кого-то убили неподалёку от отеля.
Вероятно, с моей стороны эгоистично и неправильно было говорить всё это Франсуазе, и запугивать её ещё больше. Но не в том я была состоянии, чтобы мыслить трезво! К тому же, моя дорогая подруга из запуганной серой мышки на глазах превратилась в настоящую тигрицу, смелую и бесстрашную. Меня несказанно обрадовало уже одно то, что она не собиралась падать в обморок после моих предположений. Более того, Фрасуаза продолжила рассуждать вместе со мной, что порадовало меня ещё больше.
– Судя по всему, убили кого-то из постояльцев, раз тело не побоялись привезти сюда! Не думаю, что мсье Шустер скажет Витгену спасибо за эту самодеятельность. Если это и впрямь убийство, на репутации «Коффина» можно будет смело ставить жирный крест! – Она жёстко усмехнулась, и эта её удивительная твёрдость и прагматичность меня несколько удивила. В такой-то момент она ещё рассуждала о репутации отеля, каково?
– Скрыть нечто подобное у них ни за что на свете не получится! Планшетов, русский журналист, к примеру, был вчера с нами и своими глазами всё видел. Не сомневаюсь, что он уже настрочил пару строк в «Ревю паризьен», или для какой там газеты он пишет?
– Не нравится мне всё это, Жозефина, – серьёзно сказала моя дорогая подруга, перехватив мой взгляд. – Напрасно мы сюда приехали!
– Согласна. Но что ты прикажешь делать? Собирать вещи и уезжать? – Я покачала головой. – Нет, Франсуаза, нельзя. Если у них тут и впрямь произошло убийство, это вызовет ещё большие подозрения. А нам с тобой сейчас меньше всего нужно привлекать к себе внимание!
– Тогда давай просто подождём, и посмотрим, что будет дальше, – Франсуаза пожала плечами, играя в невозмутимость, но по глазам её я видела, что она волнуется не меньше моего.
– Тем более что ничего другого нам не остаётся, да? – Вяло спросила я, и, устало вздохнув, повернулась к зеркалу. Я практически не спала этой ночью, не находя себе места от волнения, и моля Господа о том, чтобы он уберёг меня от встречи с комиссаром Витгеном.
Не нужны мне были никакие полицейские, чёрт возьми! Это стало ещё одной причиной моего скоропалительного отъезда из Лиона – я хотела исчезнуть на время, отдалиться от этих вечно вынюхивающих что-то ищеек, спрятаться, забыться… И тут, нате пожалуйста, и суток не прошло, как невезучую Жозефину вновь угораздило наткнуться на полицию, на этот раз швейцарскую! Что-то мне подсказывало, что она будет в разы хуже нашей, французской. Уж не знаю, откуда у меня появилось такое предчувствие.
Неспокойно было у меня на душе. Тут и прохладная ванна с лавандой и молоком не спасёт! Ни за что не успокоюсь теперь, пока всё не наладится! Разыскать бы Селину, уж она-то, несомненно, в курсе последних событий. И, хотя Грандек наверняка приказал всем слугам и рта не раскрывать, я отчего-то не сомневалась – моя милая Селина расскажет мне все подробности ночного визита комиссара. А я как раз отдам ей запонку, и спрошу, как прошло вчерашнее свидание.
Вот только Селины нигде не было. Когда я вернулась к себе в номер, уже другая горничная заправляла постель, разглаживая невидимые складочки на простыни. Заметив меня, она вежливо поздоровалась, сделала аккуратный реверанс, и вернулась к прерванному занятию.
– Будут какие-то поручения, мадам? – Увы, в отличие от Селины, эта чопорная блондинка излишним дружелюбием не блистала. Речь её была сдержанна, а говорила она исключительно по делу.
– Да, – равнодушно ответила я, – помоги мне одеться.
Как и ожидалось, кроме фраз «да, мадам», «нет, мадам», и «не могу знать, мадам» в запасе у худенькой светловолосой Эллен не было больше ничего. Ах, ну, разумеется, на вопрос как её зовут, она отличилась, и выдала: «Эллен, мадам!» А на все остальные мои попытки разговорить её, девушка отвечала сдержанно: да, нет или не знаю. Судя по всему, работала она здесь не первый год, и за долгое время службы научилась держать дистанцию. Что ж, это похвально, но вы же не удивитесь, если я скажу, что миленькая болтушка Селина нравилась мне гораздо больше? Вам бы она тоже понравилась.
Утренний туалет был завершён, я выбрала светло-сиреневое платье из легчайшей тафты с квадратным вырезом, закрытым полупрозрачной сеточкой в белых мушках. В любую погоду я всегда носила длинные рукава, чтобы скрыть шрамы на руках, но у этого платья рукава были всё же коротковаты, а потому пришлось надеть длинные перчатки. Задача усложнялась тем, что сиреневых перчаток у меня как раз не было – в тон к платью подошли бы только белые, и как раз когда я искала их в своём огромном шкафу, в дверь постучали.
Я замерла над ворохом кружевных перчаток и ленточек, уже заранее почувствовав неладное. Франсуаза не стала бы стучать, ведь так? Излишней воспитанностью в отношении меня она никогда не блистала.
На секунду закрыв глаза, я собралась с мыслями, и надела на лицо маску той самой бесстрастной Жозефины, которую хорошо знали в Лионе. Поднявшись с колен, я задвинула ящик обратно и пошла открывать.
Это был Грандек, низкорослый толстоватый мужчина, управляющий господина Шустера и его правая рука в «Коффине».
– Мадам Лавиолетт, прошу простить меня за это вынужденное беспокойство, я никогда не посмел бы, если бы не обстоятельства… – Теряясь под моим требовательным взглядом, он повесил голову, и, нервно комкая в руках носовой платок, сказал роковую фразу: – Кое-что случилось вчера вечером… приехала полиция, и… в общем, комиссар Витген хотел бы с вами поговорить. Он просил меня проводить вас в его кабинет как можно скорее. Надеюсь, вы не будете против?
Разумеется, я была против! Вот только выбора мне бернская полиция уже не оставила.
IX
Грандека мне было искренне жаль. Равно как и ему было жаль меня. Бедняга от всей души переживал за репутацию отеля, и без конца извинялся, что вынужден просить нас о беседе с полицией, и слёзно умолял не сдавать ключи и не съезжать из-за этого «неприятнейшего инцидента». Он обещал позаботиться о скидке на проживание для нас с Франсуазой, в качестве компенсации за доставленные неудобства, но я не Гринберг, меня такими вещами было не пронять. На мои вопросы о том, что же, в конце концов, у них приключилось, управляющий так и не дал мне ни единого внятного ответа, чем напомнил мою новую горничную Эллен. Но это не из-за нежелания откровенничать именно со мной, вовсе нет. Скорее всего, Витген просто запретил ему распространяться на эту тему в интересах следствия.
Единственное, что удалось выпытать от Грандека, так это то, что я была вовсе не единственной постоялицей «Коффина», с кем захотел побеседовать комиссар. Это меня немного успокоило, не скрою. Следуя за Грандеком на четвёртый этаж, где для Витгена и его ребят выделили один из кабинетов, я размышляла на ходу, пытаясь понять, чего же мне ждать от грядущей беседы. Промелькнула мысль, что комиссар нарочно вызвал нас в такую рань – стремился успеть до завтрака, когда все постояльцы третьего этажа соберутся вместе внизу в столовой. А уж там-то, можно не сомневаться, этот возмутительный визит полиции станет главной темой для пересудов. Витген торопился поговорить с каждым из нас до того, как причины его приезда станут известны всему отелю. Стало быть, думал застать кого-то врасплох? Чтобы кто-то не успел подготовиться, не успел придумать правдоподобную ложь, не успел ввести в заблуждение своих соседей по этажу? Умно, умно.
Вот только на месте убийцы – а в том, что произошло убийство я уже не сомневалась – я бы давным-давно просчитала все возможные пути отступления, и к разговору с господином комиссаром была бы готова. Я бы сохраняла похвальное хладнокровие – вот, как сейчас, к примеру, и, вежливой улыбкой поблагодарив Грандека за открытую передо мной дверь, вошла бы в кабинет как ни в чём не бывало, и посмотрела бы на комиссара как на старшего брата или на дорогого дядюшку, но уж точно не как на человека, в одночасье способного разрушить всю мою жизнь.
И Витгена, похоже, моя полнейшая невозмутимость слегка озадачила. Что ж, и он меня слегка озадачил – вблизи он оказался ещё меньше похож на швейцарца, чем издали. Как я уже говорила, он был высоким и довольно худым, эта худоба казалась почти болезненной. Из-за острых скул щёки казались впалыми, а подбородок – слишком узким. Вчера я заприметила у него роскошные чёрные усы, а сегодня выяснилось, что и сам он был на удивление черноволос, да ещё и черноглаз. При таких острых чертах лица он куда больше походил на турка, чем на швейцарца. Вот так диво!
При моём появлении он встал, оказавшись выше меня ростом на две головы, и отрекомендовался:
– Бертольд Витген, полиция Берна. Извольте присесть, разговор нам предстоит долгий и малоприятный.
Начало многообещающее. Но, несмотря на не слишком приветливый тон, правила приличия комиссар соблюдал, и подал мне стул, чтобы я смогла усесться напротив небольшого письменного стола. Профессиональный взгляд Жозефины отметил, лакированное красное дерево и изысканную позолоченную инкрустацию в стиле чиппендейл [13]. Ещё один плюсик мсье Шустеру за хороший вкус. В моём кабинете, в Лионе, стоял похожий стол, но он был чуть пошире, с выемками под чернильницу. Здесь же на месте чернильницы стояли небольшие настольные часы, показывающие половину девятого. Завтрак через полчаса, подумала я. И, судя по хищному выражению лица мсье Витгена, я на этот завтрак безнадёжно опоздаю.
– Что ж, моё имя вам известно, – подала голос я, поудобнее устраиваясь на невысоком стуле с полукруглой спинкой, обитой алым бархатом. – Позвольте узнать, зачем я здесь? Что случилось?
Комиссар поднял на меня тяжёлый, неприятный взгляд, и, как и Габриель Гранье до него, очевидно, попытался заглянуть мне в душу. Бесполезный трюк, я же говорила. Единственный, кому удавалось это когда-то – был мой супруг. Но и он за последние четыре года разучился преодолевать этот незыблемый барьер, который возвела Жозефина между собою и окружающими её людьми. Так что, увы, господин комиссар, трюки ваши на меня не действуют. И вогнать меня в священный трепет этим пронизывающим взглядом у вас не получится.
Молчание затянулось, а спрашивать дважды я была не намерена. Поэтому решила повторить свой вопрос лёгким поднятием бровей. Ну же, Витген, не томите! Мне не хотелось опаздывать на завтрак – представьте себе, я была голодна!
Комиссар, внимательно изучавший моё лицо, сделал для себя какие-то выводы. И выводы не в мою пользу, надо полагать, судя по его недоброй усмешке.
– Вчера вечером, – сказал он, – у моста за рекой было найдено тело некой Селины Фишер, горничной на вашем этаже. У вас есть, что сказать по этому поводу?
Меня до такой степени шокировала эта новость, что я поначалу и не обратила внимания на его вопрос. А следовало бы удивиться или возмутиться – с какой стати он полагал, что у меня найдутся какие-то комментарии по этому случаю? Да ещё и таким тоном, будто имел наглость подозревать меня! Я ответила лишь:
– Господи, боже мой…
И ничего больше. И, растерянно глядя куда-то сквозь Витгена, прижала ладонь к губам.
Селина, милая Селина! Весёлая и беззаботная хохотушка восемнадцати лет отроду, а у кого же рука поднялась на такое чудо, как ты? Хотя… постойте-ка… она ведь говорила, что собирается на свидание! Тело обнаружили на той стороне реки, у моста. Это в двух шагах от старого домика, где вчера вечером Габриэлла обнаружила забытую шляпку…
Значит, на встречу с возлюбленным Селина всё-таки пришла! И ещё эта запонка… я машинально потянулась к карману своего платья, но вовремя вспомнила, что вчера была в чёрном – запонка осталась там. А что, если она принадлежала вовсе не возлюбленному Селины, а её убийце? А что, если эта запонка – как и сама шляпка – слетела в результате борьбы, а не во время страстных объятий двоих влюблённых? Или, версия пострашнее: что, если возлюбленный Селины и есть её убийца?
Но на самом деле всё оказалось ещё хуже. В десятки тысяч раз. Когда я подняла взгляд на комиссара, искренне собираясь поделиться с ним своими соображениями, тот сказал, опережая меня:
– Селина Фишер была задушена собственным шарфом. На теле мы обнаружили цветок лаванды. Он был зажат в её ладони.
Долговременная память моя работать отказывалась категорически. Столь явный намёк Витгена и его фраза о цветке прошли мимо меня, я и вовсе не обратила на них ни малейшего внимания, ибо в голове моей зазвучал тонкий голосок Селины… И я повторила её слова вслух, словно вместе с ней:
– Шёлковый, в белый горошек, нежно-голубого цвета – чудо, а не шарфик! – По оживлённому взгляду Витгена я поняла, что, кажется, сказала лишнее, но назад пути уже не было.
– Откуда вам это известно? – быстро спросил он, словно боясь, что я начну отрицать.
– Я дала ей чаевые. Это было вчера утром. Она сказала, что купит на них шарф. Голубого цвета, в белый горошек. Она видела его в одном из городских магазинов, и была очарована.
– Прекрасно, мадам Лавиолетт! Этим-то шарфом её и задушили.
– Право слово, а почему такой тон?! – С негодованием спросила я, сдвинув брови на переносице. Я начала выходить из себя, что со мною случалось довольно редко. – Почему вы говорите так, словно я приложила к этому руку?! Откуда же я могла знать?!
– Стало быть, не знали? – С ещё большей издёвкой спросил комиссар.
– Что её убьют?! – Уточнила я, и резко встала из-за стола, с шумом отодвинув стул. – Да что вы себе позволяете, комиссар? Право, я не собираюсь более терпеть ваши оскорбления!
– И куда же вы собрались, мадам Лавиолетт, позвольте полюбопытствовать? Я вас, помнится, пока ещё не отпускал. – Холодно сказал он мне вслед. А один из его помощников, присутствовавших в кабинете, сделал пару шагов к двери, тем самым преграждая мне выход, и вот это-то вывело меня из себя окончательно. Я остановилась, и медленно обернулась на Витгена через плечо.
– А я, помнится, пока ещё не давала вам согласия к сотрудничеству. У вас нет протокола на столе, стало быть, допрос неофициальный. Что неудивительно, учитывая заботу мьсе Грандека и Шустера о репутации отеля и его постояльцев, чьи имена ни при каких обстоятельствах не должны мелькать в полицейских сводках. Я не права? А раз так, прошу немедленно дать мне пройти!
А что, он думал, он один тут такой, мастер повелительных интонаций? Как бы не так! Я говорила настолько уверенно и грозно, что помощник комиссара, не смея перечить, мигом исчез с моего пути, хотя сам Витген приказа выпустить меня пока ещё не давал.
И, видимо, даже не собирался.
– А вы неплохо разбираетесь в специфике полицейского расследования, мадам Лавиолетт, – сказал Витген мне вслед, когда я уже остановилась возле двери. – Или… вас лучше называть мадам Бланшар?
Моя рука, опустившаяся на дверную ручку, невольно замерла. Я прикрыла глаза на пару секунд, сосчитала четыре удара собственного сердца, и вновь обернулась на Витгена. Тот самодовольно улыбнулся и с наигранным гостеприимством кивнул на тот самый стул напротив его стола, будто приглашая вернуться.
– Что вам от меня нужно? – Недрогнувшим голосом спросила я. И тут же расстроилась: вроде бы, прозвучал мой вопрос достаточно уверенно, а интонации всё равно не те! Побольше бы стали, побольше ледяных ноток…
– Где вы были вчера в промежутке с половины первого до половины третьего пополудни?
– Вы меня подозреваете? – Ахнула я. Надо сказать, вполне естественно, без малейшего притворства. Я, действительно, была поражена таким поворотом событий. – В убийстве горничной? Меня? Бог мой, да мы познакомились только вчера утром и виделись не дольше, чем полчаса! С чего бы мне её убивать? Вы… вы не в своём уме, комиссар!
– Давайте начистоту, мадам Бланшар, я подозреваю вас во многом, и в убийстве Селины Фишер в том числе, – сказал этот негодяй, – и в ваших же интересах будет рассказать мне правду. Меж тем, на мой вопрос вы так и не ответили, что, безусловно, не делает вам чести!
Каков мерзавец, а? Да как он смел так со мной разговаривать?!
Я, однако, неспешными шагами вернулась к своему оставленному месту, и вновь опустилась на мягкий стул, хмуря брови и силясь вспомнить. С половины первого до половины третьего, вчера? Где я была? Я задумалась всего на несколько секунд. Господи, да это же проще простого!
– Я была в столовой, на обеде, вместе с остальными, – тут я не удержалась от ядовитой усмешки, – и тому есть свидетели! Как минимум дюжина человек может подтвердить мои слова, и это не считая официантов, что прислуживали за столом.
Я гордо вскинула голову, и смело поглядела в чёрные проницательные глаза Витгена, с видом победительницы. Что, съел? Самодовольный, невоспитанный швейцарский мерзавец! Но моё неоспоримое алиби, похоже, комиссара не впечатлило. Выдвинув один из ящиков стола, он достал оттуда мою белую шляпку с голубыми лентами, и небрежно бросил её на стол. Я воздержалась от колких фраз о том, что такая дорогая вещь требует более осторожного обращения, я промолчала. Потому что поняла – мне конец.
– Узнаёте эту вещь?
– Узнаю, – мой хмурый взгляд вернулся от милой фетровой шляпки к неприятным глазам комиссара Витгена.
– Мы нашли её в домике у реки, в двух шагах от моста, где была задушена Селина Фишер. Это ваша шляпка, следует полагать?
– Имеет смысл отрицать? – Изогнув бровь, спросила я. – Вы же наверняка осмотрели её с должным тщанием и нашли мои инициалы с внутренней стороны на подкладке. Шляпка делалась на заказ в одном из ателье Лиона. Да, она принадлежала мне.
– Жозефине Бланшар, если верить надписи, – чинно кивнул Витген, довольно улыбаясь. В тот момент он походил на сытого кота, объевшегося сметаны. – Скажите-ка, а почему вы остановились под вымышленной фамилией? По-моему, это в высшей степени подозрительно! Вам самой так не кажется?
Эта фамилия вовсе не была вымышленной, он ошибался. Восемнадцать лет жизни, вплоть до замужества, я была Жозефиной Лавиолетт. Эта фамилия нравилась мне куда больше, а известна была куда меньше, нежели фамилия Рене Бланшара. Но раскрывать противному Витгену свои мотивы я была не намерена.
– Я обязана отвечать? – с вызовом спросила я, в то же время прекрасно понимая, что таким поведением ещё больше настраиваю комиссара против себя. Но, по-моему, сделать хуже было уже невозможно. Что бы я ни говорила, как бы себя не вела, результат будет один и тот же: он мне не поверит. Для него я уже была виновна, заранее. Классический пример настоящего полицейского – уверяю вас, они все такие! А если не все, то уж точно большинство. Мне, например, исключения не попадались ещё ни разу.
– Думаю, нет, тут и так всё понятно, – хмыкнул Витген, и мне очень захотелось спросить, что же именно ему понятно?! Но я сдержалась, а он продолжил: – Лучше объясните мне вот что: как ваша шляпка оказалась неподалёку от места преступления? Вы были там?
– Нет. То есть – да, я была там вчера вечером, – сбивчиво ответила я. – Мсье Хэдин устроил для нас прогулку. Я была там с его женой, русским журналистом, мсье Гранье и мадемуазель Вермаллен.
– И вы, конечно, по чистой случайности обронили свою шляпку на месте, где задушили Селину Фишер. И, конечно, не заметили этого вплоть до возвращения в отель?
«Он всё про меня знает», подумала я в отчаянии. Отсюда эта ненависть, отсюда это нескрываемое презрение. Да, права была Франсуаза – напрасно мы приехали! Кажется я, в попытке сбежать от всеобщего порицания и пересудов в Лионе, наткнулась на кое-что в десятки раз хуже – здесь, в Берне.
Тем не менее, раскисать я не стала. Стиснув зубы, я сдержала ругательство, так и просящееся на язык, и ответила порывисто, резко, тоном, далёким от дружелюбия:
– Не говорите ерунды, комиссар! Я, по-вашему, до такой степени рассеянная? Или настолько глупа, чтобы оставить вещь с собственными инициалами в домике, где только что убили горничную?
– Я не говорил вам, что мы нашли её в домике! – Уцепился за мою фразу этот внимательный негодяй.
– Это мы нашли её в домике, – поправила его я. – Вчера вечером, когда ходили на прогулку. Габриэлла Вермаллен заметила, что шляпка лежала на подоконнике, и вы наверняка уже знаете об этом, если беседовали с ней. Я не стала им ничего говорить вчера, потому что не хотела компрометировать Селину. Дело в том, что я сама подарила ей эту шляпку незадолго до того, как…
Дальше я уже не могла продолжать. Ещё секунда, и голос мой сорвался бы неминуемо, а я не могла позволить себе быть слабой. Тем более, показать свою слабость этому человеку! Я замолчала, опустила взгляд, и постаралась взять себя в руки. Когда мне что-то подобное удалось, я добавила:
– Видите голубые ленты? Они как нельзя кстати подходят под цвет голубого шарфика в белый горошек, который она собиралась купить. Я всего лишь хотела сделать девушке приятное.
– Я не очень понимаю в дамской моде, но, по-моему, эта шляпка стоит немалых денег, – с явным намёком произнёс Витген. Мог бы не ходить вокруг да около, а прямым текстом сказать, что ни одному слову моему не верит. Я бы не обиделась. Это было бы честнее, чем бесконечные ехидные замечания в мой адрес.
– Какая разница, сколько она стоит? – устало спросила я. – Раз вам известно моё настоящее имя, вы, должно быть, знаете, что я не бедствую. Меня не волновала стоимость этой глупой шляпки, я просто хотела порадовать милую девчушку-горничную, вот и всё.
– Думаете, я вам верю? – Бесцеремонно спросил комиссар, вертя в руках мою фетровую шляпку.
– Думаете, меня это волнует? – Тем же тоном отозвалась я, глядя на сад за окном, поверх его плеча. Там, внизу, уже прогуливались люди – парочка влюблённых, склонившись друг к другу, шептались о чём-то, рядом грациозно проплыла мадам Соколица в оранжевом наряде (одна, без Арсения), и с осуждением посмотрела на молодых людей. Чуть поодаль, у ворот, я заметила мужчину, похожего на мсье Эрика Гарденберга, он держал на поводке огромную тощую собаку, лениво поглаживая её по загривку. По-моему, эта порода называется борзая, но утверждать не берусь, в собаках я разбиралась не так хорошо, как в живописи.
С тоской я подумала, что все эти люди там, за окном, свободны и беспечны, ничто не мешает им наслаждаться жизнью, как и мне ещё вчера. А ныне я пленница в четырёх стенах этого кабинета, пленница вот этого черноглазого черноволосого мужчины, изучающего меня пытливым взглядом.
Часы начали отбивать девять утра, время начала завтрака. Я подумала, что неплохо было бы поинтересоваться у Витгена, как долго он ещё собирается молчать и гипнотизировать меня. Если он тем самым надеялся добиться от меня чистосердечного признания в убийстве Селины, то это был проигрышный вариант. Собственно, я бы в любом случае ни в чём ему не призналась, он избрал не ту тактику, абсолютно не ту.
– Допустим, – на выдохе произнёс он, когда замолчали часы. – Допустим, всё так. В таком случае, назовите мне хотя бы одну причину, по которой Селина Фишер могла бы пойти в домик у реки в разгар рабочего дня.
– По-моему, у неё был выходной вчера, – не согласилась я. – Она что-то такое говорила, я, признаться, плохо слушала. Якобы Грандек вызвал её на подмогу, потому что Эллен – вторая горничная – не справлялась одна. В комнате господина Лассарда нужна была уборка, ночью у него открылась рана, а наутро все простыни были в крови. Эллен не могла разорваться, потому что мсье Лассард – мужчина очень и очень требовательный, комнату срочно нужно было убрать, а тут ещё наше заселение… Грандек потому и вызвал Селину. Да, сейчас я совершенно точно вспомнила это: она не должна была работать вчера. У неё был заслуженный выходной, который она собиралась провести с пользой для дела… – Я подняла взгляд на комиссара и замолчала, совершенно не представляя себе, уместным ли будет сейчас выдавать тайны покойной девушки и порочить её светлое имя.
Глупая я, да? Можно подумать, я не понимала, что это, вероятно, единственная возможность для меня самой выйти из-под подозрения у Витгена! Ведь если выяснится, что Селина встречалась с кем-то на берегу реки, где, впоследствии, обнаружили её тело – я перестану быть единственной подозреваемой!
Впрочем, нет.
Не перестану. Комиссар смотрел на меня так, будто уже давным-давно понял, что это именно я задушила Селину Фишер. И теперь ему только и требовалось, что найти доказательства моей вины.
А выдавать тайны этой милой девчушки мне и впрямь не хотелось. Слишком деликатными были эти секреты, она наверняка не одобрила бы… Но если это единственный способ выйти на след убийцы… имела ли я право молчать? По-моему, это моё благородство могло сыграть с нами злую шутку. Со мной – в первую очередь.
Поэтому я решилась. Не скажу, чтобы я питала какие-то иллюзии на счёт Витгена, и более того – я удивилась бы, если бы он сказал: ах, ну раз так, мадам Лавиолетт, мы снимаем с вас все подозрения и немедля отправимся на поиски этого таинственного мужчины!
Разумеется, ничего такого он не сказал. Он лишь переспросил, будто с первого раза не понял меня:
– Свидание?
Я повторять не стала, ибо до этих пор комиссар на слух, вроде бы, не жаловался. Тогда он сказал:
– Хм. Что ж, я уже слышал о чём-то подобном. Одна её подруга из горничных упоминала, что покойная мадемуазель Фишер частенько бегала в домик у реки на тайные встречи со своим возлюбленным. Но она не говорила, что мадемуазель Фишер была там и вчера тоже. М-м, хорошо, – Витген достал из нагрудного кармана своего мундира блокнот, и сделал там какие-то пометки, после чего поднял взгляд на меня. – И как же его звали?
Ну, разумеется! Я усмехнулась и покачала головой.
– Я не знаю. Я не спросила об этом.
Витген фыркнул в знак протеста, проклиная то ли мою очередную «ложь», как он наверняка подумал, то ли отсутствие у меня должной толики женского любопытства. Я, в свою очередь, не стала объяснять ему, что воспитана была слишком хорошо для того, чтобы в первый же день знакомства задавать Селине столь личные вопросы. О, да, мне было безумно интересно послушать про её кавалера, и я, действительно, собиралась спросить её об этом, когда она вернётся.
Вот только она уже не вернётся.
От этих мыслей у меня защипало в глазах. О-о, нет, Жозефина, не смей! Только не при нём, только не на глазах у полицейских! Я вновь совладала с собой, и, втянув носом воздух, бросила на Витгена вопросительный взгляд.
– Это всё, о чём вы хотели спросить? – Беглый взгляд на часы. – Я опаздываю на завтрак.
– Нет, ещё не всё. Позвольте ещё один вопрос? – Витген усмехнулся, и, склонив голову вбок, вновь пристально посмотрел на меня. И по его взгляду я уже поняла, что это будет за вопрос, и заранее подготовилась к худшему, так что комиссар меня не удивил. – Это вы убили вашего мужа?
Я коротко рассмеялась в ответ на этот поразительный по своей дерзости вопрос. А затем, не убирая улыбки с лица, точно так же склонила голову на плечо, и ответила:
– Что ж, по крайней мере, мотивов для его убийства у меня было куда больше, чем для убийства бедной Селины! – Я усмехнулась. – И, тем не менее, нет, господин комиссар. Вынуждена вас разочаровать, но – в обоих случаях: нет. Увы. Теперь, наконец, я могу идти?
Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, и между нами проскальзывали искры сильнейшего нервного напряжения. Не сомневаюсь, в мыслях он пожелал мне провалиться сквозь землю ровно столько же раз, сколько и я ему.
– Да, вы можете идти, мадам Бланшар.
– Лавиолетт, если вас не затруднит, – я очаровательно улыбнулась ему. – За семь лет брака я так и не привыкла к фамилии мужа!
– Как вам будет угодно, мадам Лавиолетт. Но, учтите, я буду присматривать за вами. Мне неприятно вам это говорить, но, к сожалению, из-за этой истории со шляпкой и из-за вашего тёмного прошлого, вы у нас одна из главных подозреваемых!
А ты, милый Бертольд Витген, теперь у меня в чёрном списке из-за своих отвратительных манер и страстного желания вывести меня на чистую воду. Наивный! Неужели ты думаешь, будто у тебя что-то получится?
Увы. Уровень, к счастью, не тот, чтобы тягаться с Жозефиной. Я в очередной раз улыбнулась ему, и решила поставить жирную точку в наших отношениях, чтобы окончательно всё прояснить.
– Что ж, в таком случае, прошу вас принять во внимание, что я – французская подданная, и со швейцарскими властями общаюсь исключительно по доброте душевной. Ну и в виду моей к вам безграничной симпатии, безусловно! – Тут я улыбнулась так ядовито, что у комиссара не осталось ни малейших сомнений относительно моей к нему «симпатии». – В следующий раз, если не хотите международного скандала, вам придётся придумать какой-нибудь иной способ добиться моей аудиенции. Потому что больше я с вами дружеских бесед вести не намерена!
Я хотела уйти с видом победительницы, но, похоже, слегка недооценила моего оппонента. Как и в прошлый раз, своё последнее слово он изрёк уже когда я подошла к дверям.
– А это сколько угодно, мадам Лавиолетт! – Таким послушным и мягким был его голос, что я неминуемо предвидела очередную гадость в свой адрес. И Витген не заставил себя долго ждать: – Как вы посмотрите на беседу с французскими властями? И уже не дружескую, а вполне себе официальную, с протоколом? Думаю, вы не будете возражать, не так ли? Учитывая то, что отказ от дачи свидетельских показаний в ту же секунду сделает вас соучастницей. Так что советую придумать более-менее сносную ложь, мадам Лавиолетт, потому что парижская полиция уже на пути сюда. И, знаете, что? Я вам очень не завидую!
О, да, тут он прав.
Я и сама себе не завидовала.
X
– Что вы слышали о человеке по фамилии Февраль?
В столовом салоне №3 в связи с утренними событиями царило такое оживление, что моего опоздания никто не заметил. Франсуазы и вовсе не было – понятия не имею, где она прохлаждалась, так как в номере, куда я заглянула первым делом, я её так же не обнаружила. Должно быть, Грандек развлекал её, пока комиссар был занят мной. Так же не было неприятного доктора Эрикссона, любителя собак Гарденберга и русского парня Тео. Зато Виттория Фальконе, мадам Соколица, этим утром была в ударе.
– Бог мой, ну только не опять! – Простонала старшая Вермаллен, протестующее отодвигая от себя тарелку с едой. – Милочка, право, у меня от этих разговоров портится аппетит!
Ах, если бы её ещё кто-то послушал! Я кивком головы поблагодарила Гранье за любезно поданный стул, и уселась на своё место, с удовлетворением заметив, что на моё опоздание, действительно, никто не обратил внимания. Разве что, эти двое – Габриель и Арсен, сидящий напротив. Русский журналист поприветствовал меня улыбкой, а Гранье заботливо спросил:
– Как вы?
И опять, еле слышно, чтобы не перебивать истории мадам Фальконе, склонившись к моему уху, почти касаясь его губами… Я сдержанно кивнула ему в ответ, решив пока ничего не объяснять. Наверное, он понял, что я была у Витгена, и спрашивал именно о том, как прошёл наш разговор, но я не настроена была откровенничать. Или, уж точно не здесь, не сейчас, не при всех!
А послушать мадам Соколицу было интересно. У неё был талант рассказчицы, эта женщина обычные сплетни умела пересказать так, что публика слушала с замиранием сердца, ахая и охая в тех местах, когда было нужно. Вот и сейчас!
– Эта история перевернула с ног на голову весь Париж! Астрид, милая, разве вы не слышали? О-о, я сейчас вам с удовольствием расскажу!
– Началось, – обречённо произнесла графиня Вермаллен, ничуть не заботясь о том, что мадам Соколица может услышать её и обидеться. Та, в общем-то, не обратила на её бестактность ни малейшего внимания, и принялась рассказывать:
– Всё началось полгода назад, в одном из пригородов Парижа…
– Год назад, если точнее, – справедливости ради, поправила я. На меня тотчас же обратились взгляды всех присутствующих, в том числе и слегка удивлённый взгляд Габриеля, которого буквально шокировала моя осведомлённость. Я невольно рассмеялась. – Что? Право слово, чему вы так удивляетесь? Я же француженка, в конце концов! И прекрасно знаю все столичные новости. Простите, мадам Фальконе, я вас перебила, мне очень неловко!
Все как по команде повернулись обратно к Соколице, все, но не Габриель. Он так странно на меня посмотрел, словно, как и Витген, тоже начал подозревать меня в очередной грязи. Я лишь улыбнулась ему, и принялась наслаждаться чудесным клубничным пудингом. Боже, какой шикарный у них здесь готовят пудинг!
– Мадам Лавиолетт имела в виду первое убийство, произошедшее в мае прошлого года, – пояснила тем временем Виттория Фальконе, – его тоже приписывали господину Февралю, но я, признаться, не уверена… Зачем же, в таком случае, нужно было делать такой большой перерыв? Но, с другой стороны, кто же их поймёт, этих душегубцев? Так вот, «Ревю паризьен» пишет, что убивает он только девушек, исключительно молодых, не старше тридцати, и исключительно брюнеток… – Многозначительный взгляд был послан сначала в мою сторону, затем в сторону Габриэллы, беспечно жевавшей овсянку с фруктами. – Среди его жертв числится мадемуазель де Вино, дочка посла, только представьте себе эту неслыханную дерзость!
– А, по-моему, выбор жертвы не имеет значения, – сказала Нана задумчиво, – что простая горничная, что дочка посла – господи, какая разница? Это всё равно преступление, и преступление по своей сути чудовищное!
И вот только тогда, когда Нана употребила слово «горничная», глупую Жозефину точно слепого котёнка ткнули носом в непреложную истину. Горничная! Она говорила о бедной Селине! Ведь недаром же Витген сказал, что в её руке обнаружили цветок лаванды… Я только сейчас поняла, что это означает. И внутри меня всё заледенело. Я позабыла про чудесный пудинг, и мелодичного голоса мадам Фальконе уже как будто не слышала.
– …он убивает их, и, непременно, оставляет рядом с телом какой-нибудь цветок, каждый раз разный! Должно быть, это какой-то ритуал… я читала труды одного австрийского учёного, господина Фрейда, и…
– С вами всё в порядке? – Габриель, как всегда заботливый, коснулся моего плеча. Я невольно вздрогнула, затем прокляла себя за слабость, затем как ни в чём не бывало улыбнулась ему.
– О, да, я в порядке, в полном! – По-моему, обмануть его мне не удалось, но Гранье был тактичным, и оставил меня в покое. Фальконе, тем временем, продолжала:
– Предпоследней жертвой господина Февраля стала знаменитая графиня Симонс, жена нефтяного магната. Бедняжка так мучилась перед смертью…
Я усмехнулась, вспомнив Иветту, и поспешила опустить взгляд в свою тарелку прежде, чем кто-то из присутствующих заметит моё злорадство. Благо, все слушали Фальконе, и на меня не обращали ни малейшего внимания – разве что, Габриель? Да и Арсен с другого конца стола тоже, вроде бы, поглядывал время от времени.
– Последней стала Мария Лоран, дочка полицейского! Тогда полиции почти удалось его поймать! Представьте, была погоня, и они сели убийце на хвост… и уже почти настигли его у самого Восточного вокзала! Но, увы, этот роковой день пришёлся на четырнадцатое июля, и все надежды полиции пошли прахом.
– А что такого особенного в этом дне? – заинтересованно спросила Астрид, жена доктора Эрикссона, для которой и предназначалась вся эта история. Её, как мы вчера выяснили, не интересовало в целом мире ничего, кроме собственного супруга и собственного гербария. Так что некоторые пробелы в её образовании, все приняли как должное.
– Это день взятия Бастилии, – пояснил Габриель со снисходительной улыбкой. – У нас этот праздник почитается как никакой другой. Толпы разодетых людей на улицах, шумные пиршества и гулянки.
– Считается, что именно этот день положил начало великой французской революции, – добавила я, когда Астрид улыбнулась и кивнула в знак благодарности за пояснение. – Это было в конце девятнадцатого века.
– Простите мне моё невежество, – смущённо произнесла она.
– О-о, не переживайте на этот счёт! Смело можете уложить меня на лопатки национальными праздниками Швеции! – Габриель непринуждённо рассмеялся, и добавил: – Я, например, не знаю ни одного! – Он вопросительно посмотрел на меня, призывая подыграть, чтобы не ставить Астрид в неловкое положение, и я тут же развела руками и поджала губы в знак сожаления.
– Увы. И я не знаю!
– Да-да, но мы, кажется, говорили о мсье Феврале? – Вмешалась в наш разговор мадам Фальконе. Как я поняла, история про парижского маньяка была самой её любимой. – Так вот, полиция потеряла его в толпе во время праздника, а он-то, хитрец, сел на поезд до Берна и благополучно сбежал, оставив французов с носом!
И столько радости было в её голосе, словно этот сумасшедший психопат сбежал куда-нибудь далеко на Северный Полюс, а вовсе не сюда, не в Швейцарию! Видимо, мадам Фальконе невысоко ценила власти Парижа, раз её так вдохновлял их фатальный промах. Мы с Габриелем переглянулись, и он отрицательно покачал головой. О, да, я тоже сожалела, что всё сложилось именно так! Учитывая то, что я была как раз брюнеткой, и совсем ещё не старой, несмотря на убеждния Франсуазы.
– Почему поезд не остановили? – Подал голос Томас Хэдин, и я заинтересованно прислушалась. Вопрос был резонный и правильный, а других он и не задал бы. Мудрейший был человек!
Фальконе не нашлась с ответом. Думается мне, она хотела высказаться в адрес непроходимой тупости парижских властей, но постеснялась из-за нас с Габриелем. За неё, как ни странно, ответил русский журналист, Арсен:
– Поезд, разумеется, остановили на первой же станции, и проверили все вагоны до единого. Но никого не нашли. Я писал об этом статью для «Ревю паризьен», мне известны некоторые детали расследования. – Перехватив мой заинтересованный взгляд, он улыбнулся. – Я склонен предполагать, что убийца спрыгнул с состава где-то на перегоне, и затерялся в трущобах. Думаю, это было несложно для него. Поэтому я не принимал на веру эти домыслы о том, что он якобы уехал прямиком в Берн. Как бы он это сделал, помилуйте? Каким образом пересёк бы границу? В багажном вагоне? Полнейшая ерунда! Полиция прочесала каждый сантиметр этого злополучного экспресса, не гнушаясь заглянуть в чемоданы – те, что побольше. Ну а вдруг он прятался там? Но, увы, никого не нашли. Отсюда вывод: до Берна мсье Февраль так и не доехал. Я был убеждён, что это не более чем глупые домыслы, но вот теперь это убийство… Я, признаться, совершенно обескуражен! Не знаю, что и сказать.
– А что тут скажешь? – Пожал плечами Габриель. – Плохо искали, выходит.
– По-твоему, они настолько слепы? – Усомнился Арсений. – Или глупы? Пассажир без багажа и без билета, запыхавшийся после погони, не привлёк бы, по-твоему, их внимания?
– Они не знали его в лицо, – ответила я. – Ни в одной газете, насколько я помню, не печатали его фотографий, и внятного описания тоже не было. Где-то писали, что он брюнет, где-то – что блондин, какие-то газеты расписывали его как плотного и низкорослого, в то время как в полицейских сводках чёрным по белому было указано, что он высокий и худой. По-моему, они сами не знали, кого ищут!
– И с чего они вообще взяли, что это мужчина? – Блеснул своей гениальностью Габриель. – Может, мсье Февраль на самом деле женщина?
О-о, браво, мой друг! Ступай, скажи о своих догадках Витгену! То-то он порадуется! Я усмехнулась недобро, и опустила взгляд в свою тарелку. Завтрак, всё же, нужно было доесть, иначе от недоедания цвет лица окончательно испортится.
– Здесь тоже сомнительно, – не стал спорить Арсен, – вроде как они вышли на него после третьей жертвы, Эвелины Реньян. Тогда версия о маньяке-убийце ещё не прижилась, они хватались за любую зацепку. У Эвелины Реньян был люб… возлюбленный, – вовремя поправился русский журналист, – и этот самый возлюбленный бесследно исчез из города, и его до сих пор не могут найти. На квартире у покойной Реньян обнаружили документы человека по имени Поль Февраль. Отсюда и пошла версия, что убийцу зовут именно так.
– Этого человека, вероятно, уже никогда не найдут, – сказал Томас Хэдин, – настоящий убийца мог избавиться и от него тоже, дабы отвести подозрения и сделать мсье Февраля виновником всех бед. Вы так не считаете?
– Разумно, – подтвердил Габриель, а русский журналист кивнул.
– Но я всё равно не понимаю, какой в этом смысл, господи! Убивать молодых девушек, это же чудовищно! – Простонала Нана, взявшись за виски. Она так переживала из-за случившегося, и я догадывалась о причинах. Они ведь с Томасом жили в отеле дольше моего, и добродушная и общительная Нана наверняка успела подружиться с милой девчушкой Селиной Фишер. Неудивительно, что теперь она сидела такая бледная и взволнованная, и никак не могла прийти в себя.
Я и сама-то недалеко от неё ушла, хотя была знакома с бедняжкой не более пары часов…
– А может, и был смысл? – Задумчиво произнёс кровожадный мальчик Гринберг. – Может, они заслуживали, чтобы их убили?
Брависсимо! Ступай, и ты расскажи об этом Витгену!
Хотя, знаете что? Иветта Симонс уж точно заслуживала. Я, конечно, не господь бог, чтобы решать такие вещи, но – я клянусь вам – ни единая живая душа во всём Париже не всплакнула по поводу её гибели. Скорее, вздохнула с облегчением. Другая же часть, более бездушная и бессердечная, посмеялась и обронила пару фраз о высшей справедливости. И я в их числе.
– Мсье Гринберг, ну что вы такое говорите! – Возмутилась Нана Хэдин. – Селина была столь невинным созданием! И никогда не делала никому ничего дурного!
Гринберг покраснел, и принялся заверять мадам Хэдин, что он вовсе не о Селине говорил, и у него в мыслях не было оскорбить память бедной девушки. Не о Селине, а о ком тогда? Уж не о моей ли дражайшей Иветте Симонс? Выяснить не получилось, так как мадам Фальконе вновь завладела всеобщим вниманием и принялась убеждать нас, что дело тут вовсе не в личной мести, а исключительно в психическом расстройстве мсье Февраля. Доктор Фрейд не мог ошибиться!
– Странная какая-то история, – поделился со мной своими мыслями Габриель. – Право слово, из Парижа – сюда? Зачем, для чего? И, если даже так, почему бы не залечь на дно? Зачем вновь привлекать к себе внимание? Он же должен понимать, что его ищут! Все столичные газеты только об этом и говорят.
– Наши тоже, – я кивнула ему. – Но, боюсь, нам с вами не понять, истинных мотивов убийцы. Мы с вами мыслим по-другому.
Да? А вот Гранье смотрел на меня так, словно я мыслила ну точь-в-точь как мсье Февраль! Меня это, признаться, вывело из себя на какое-то время. Он что, тоже смел подозревать меня?!
Бо-оже, я становлюсь мнительной, совсем как моя Франсуаза! Разумеется, нет. Габриель был слишком хорошо воспитан для такого. Даже если бы он и впрямь подозревал меня в возможной причастности к этим убийствам – его тактичность ни за что не позволила бы даже намекнуть мне на это!
Просто беседа с комиссаром выбила меня из колеи. Здорово выбила, надо признаться. И я теперь видела потенциального врага в каждом, из собравшихся здесь, даже в добродушной Нане, даже в её молчаливом супруге Томасе… даже в обаятельном красавце Габриеле.
После некоторой паузы, я продолжила:
– Я ведь тоже читала труды Фрейда, к слову сказать. У него есть несколько довольно интересных работ в области психоанализа. И я склонна согласиться с мнением мадам Фальконе: вероятнее всего, у мсье Февраля сильнейшее психическое расстройство. Глупо искать здесь какие-то скрытые мотивы. Насколько я знаю, жертв он выбирал хаотично, их ничего не связывало друг с другом. А одним из первых, как раз в мае прошлого года, и вовсе был мужчина! И цветок, найденный рядом с трупом – нарцисс. Надо думать, этот парень был самовлюблённым эгоистом.
– Считаете, эти цветы что-то означают? Он подбирает их по характеру жертвы?
– Наверняка судить не берусь, но не просто же так он оставляет их рядом с телами? С другой стороны, опять же, нам с вами не понять логику убийцы… Но кое-где она, и впрямь, забавная. Та же графиня Симонс, например. Знаете, какой цветок Февраль оставил рядом с её телом?
– Боюсь, что не припомню.
– Чертополох, – улыбнулась я. – На удивление точно подмечено! Иветта была той ещё колючкой.
– Так вы были знакомы? – Удивился Гранье.
– Представьте себе, да.
– Как любопытно! – Габриель, похоже, всерьёз заинтересовался. – А других жертв вы, случайно, не знали?
К чему эти вопросы опять?! Я старательно отвергала самое очевидное объяснение, заключающееся в простом человеческом любопытстве, и до сих пор искала подвох. Неужели Габриель и впрямь считает меня причастной к этим преступлениям? Но почему? Уже из-за одного того, что я француженка?! Да посмотрел бы на себя! Я-то, между прочим, даже не из Парижа, а вот сам он как раз коренной парижанин, и лучше других подходит на роль злополучного Февраля. Тем более, в отеле он относительно недавно, так что…
Пришёл мой черёд с подозрением смотреть на него.
– А вы? – Спросила я вместо ответа. Гранье перемену в моём настроении не уловил и даже не понял, о чём я его спросила.
– Я – что?
– Вы не были знакомы ни с кем из жертв?
Наверное, я напрасно завела этот разговор. Но, с другой стороны, раз Габриель считал себя в праве задавать подобные вопросы мне – что мешало мне ответить тем же? В том-то и дело, что ничего. В итоге я получила замечательную возможность созерцать картину: «опороченная невинность» во всей её красе. Какие обиженные глаза у него сделались, господи боже! Мне стало не по себе, я поспешила пойти на попятную:
– Простите, я вовсе не имела в виду…
Я-то, положим, это одно, а вот мадам Фальконе тактичностью не отличалась никогда. Вспомним так же, что она едва ли не трепетала перед неуловимым Февралем, и готова был говорить о нём денно и нощно. Она же первая высказала предположение, что мсье Февраль вполне может скрываться под маской одного из постояльцев отеля «Коффин», и, быть может, сидит сейчас вместе с нами вот за этим столом…
Помнится, я уже говорила про слепого котёнка, который ничего не соображает до тех пор, пока его не ткнут носом куда нужно? Вынуждена повториться. Как только Соколица выдвинула эту гипотезу, я вспомнила одну из фраз Селины, оброненную вскользь: «Наверняка я его очарую, да? Я всё волновалась, что он не обратит внимания на такую, как я, но теперь, когда я буду так красива…»
На такую, как я, сказала эта бедная девушка. Мой мозг начал лихорадочно соображать, цепляться за обрывки слов, воспоминаний. Какую – такую? Она была молода и хороша собой, значит, не во внешности дело. А в чём? Кроме разницы в социальном положении на ум не шло ничего. На «такую, как я», простую горничную! Стало быть, он состоятелен, богат. Возможно, даже с титулом. Кто-то из постояльцев отеля?
Я обвела быстрым взглядом всех тех, кто сидел за столом, слева направо, и пришла к неутешительным выводам. Каждый первый, господи боже, каждый первый!
Ватрушкин? Вполне. Он был полноват, как я уже говорила, но эта полнота его совершенно не портила, а то и некоего шарма добавляла!
Арсен? Куда более вероятно. Он без титула, и не уверена, на счёт сказочного богатства, но он известный журналист и персона публичная. Вполне.
Гринберг? Ещё более вероятно, вероятнее даже, чем оба русских вместе взятые. Про Гринберга неизвестно ничего (я и имени-то его до сих пор не знала), ничего, кроме того, что он из очень богатой еврейской семьи.
Габриель Гранье? Тут и говорить нечего: да, да, и ещё раз да! При условии, конечно, что ему мало одной Габриэллы.
Томас Хэдин? Вот, пожалуй, единственное: «нет». Но и то, по слишком глупой и сентиментальной причине – я никогда бы не поверила, что Томас окажется способным изменить своей жене. Слишком уж он её любил, на мой взгляд. А если отбросить сантименты в сторону – то, увы, да, и он тоже. Томас был состоятелен, Томас был симпатичен, Томас был обходителен и умён. Мог ли между ними с Селиной завязаться роман? О, да.
Я посмотрела на пустовавшие стулья, и задумалась о тех, кто не почтил нас сегодня своим присутствием по тем или иным причинам. Эрик Гарденберг? Сомнительно. Ему около шестидесяти, но ведь кое-кто из девушек предпочитает мужчин постарше, не так ли? К тому же, вчера я сама легкомысленно говорила, что практически готова поддаться на его чары… Он был, действительно, очень милым и галантным и знал, как подобрать ключик к женскому сердцу. Ещё бы, с таким-то опытом за плечами!
Доктор Эрикссон? Тоже сомнительно. Вчера он зарекомендовал себя как отвратительнейшего типа, с полнейшим отсутствием манер. Влюбиться в такого человека? О, нет, вряд ли. С трудом представлялось, что он вообще способен на какие-то чувства, кроме язвительной надменности! И уж тем более – на чувства добрые. Но я, знаете ли, слишком много детективов прочитала в своей жизни, чтобы раньше времени списывать вредного шведа со счетов. В конечном итоге виноватым оказывается тот, на кого подумал бы в последнюю очередь!
Вот, как Лассард, например. Это уж точно – твёрдое, категорическое «нет»! Селина вчера отзывалась о нём не самым лестным образом и хихикала в кулачок, когда я высказала своё удивление по поводу его любвеобильности. Да, она говорила, что похотливый венгр пытался и к ней приставать, но Селину его ухаживания ничуть не польстили, судя по её тону. Нет, явно не его она имела в виду.
С другой стороны, а с чего я взяла, что возлюбленный Селины и есть убийца?! Я совсем как наша французская полиция – отыскала паспорт любовника мадемуазель Реньян, и решила свалить все грехи на бедного Поля Февраля! Который, может статься, и не был ни в чём виноват. Подумаешь, исчез? Мало, что ли, мужчин бесследно исчезают поутру? И, разумеется, они никогда его не найдут – тут Томас прав. И даже не потому, что парня хладнокровно убили, нет, не обязательно. Просто, если у него есть хоть толика здравого смысла, хоть сотая его часть – он никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах и близко не подойдёт к месту, где убили его подругу. Почему? Я вам охотно объясню, если вы не знаете, как работает полиция.
Им всё равно, понимаете? Они не станут слушать. Для них всё очевидно, мир поделен на чёрное и белое. Правда, в их случае, помимо чёрного и белого существует ещё Святая Библия, под названием статистика раскрываемых преступлений. А заветы эти надо соблюдать, и соблюдать ревностно, иначе можно получить нагоняй от начальства и остаться без должности, а это нехорошо.
Их тоже можно понять, все мы люди. Каждый выполняет свою работу: кто-то печёт хлеб, кто-то метёт улицу, а кто-то – чуть менее благородно – сажает за решётку людей. Виновных или нет, какая разница? Всех, без разбору. Им тоже нужно зарабатывать на жизнь, чему способствует успешное раскрытие преступлений и поимка преступников. Обратите внимание «преступников», а не «виноватых», это не моя оговорка. В преступники можно записать любого, а виновников – попробуй-ка, поищи! Если я вас не убедила, вспомните комиссара Витгена и то, как он разговаривал со мной. Шляпка на месте преступления с моими инициалами?! Разумеется, всё очевидно! Ответ на поверхности – это я убила Селину Фишер! Конечно я, а кто же ещё? При этом тот факт, что познакомились мы с ней только вчера, не имел ни малейшего значения! Какая разница, если я подхожу на роль убийцы лучше других?
Думаю, они не арестовали меня исключительно потому, что не имели на это полномочий.
Они просто ждали приезда французских властей.
А значит, со дня на день моя свобода будет поставлена под вопрос. Эти мысли вгоняли меня в меланхолию. Разумеется, я ни на секунду не допускала счастливой возможности, что парижская полиция, присланная по следам Февраля, окажется в разы компетентнее бернской. О, нет, она будет ещё хуже. И живо повесит на меня все одиннадцать жертв господина Февраля, а заодно и двенадцатую – моего мужа Рене Бланшара. Пару месяцев назад, помнится, они из кожи вон лезли, чтобы обвинить меня в его убийстве, как только не исхитрялись, чего только не придумывали!
А всё равно у них ничего не вышло, к счастью для меня. Уровень не тот.
XI
– Мне конец, – объявила я Франсуазе, переступив порог её номера. Между прочим, роскошные апартаменты моей подруги были оформлены в стиле позднего рококо, с преобладанием светлых и светло-зелёных тонов, и сама Франсуаза со своим зеленоватым цветом лица на удивление органично вписывалась в интерьер. Зелёное платье тоже пришлось к месту, да-да. Господи, и как у меня ещё хватает сил на шутки в такой момент?!
Рухнув на козетку, белую, в зелёный горошек, я взялась за голову и вкратце пересказала моей подруге наш разговор с Витгеном. Некоторые его слова я повторила дважды, чтобы Франсуаза лучше поняла моё беспросветное отчаяние. Но, наверное, она и так всё прекрасно понимала.
Тяжело вздохнув, она присела со мной рядом и обняла меня за плечи.
– Ну-ну, милая, будет, – с несвойственной ей заботой произнесла Франсуаза, поглаживая меня по спине. Не то, чтобы я собиралась плакать или истерить, но её утешениям была всё же несказанно рада.
– Понимаешь, это была ещё одна причина, по которой я сбежала из Лиона, – сдавленным голосом произнесла я, уткнувшись в её плечо. – Все эти пересуды, завуалированные и прямые обвинения в убийстве Рене, косые взгляды… они мне ещё во Франции надоели! Я так надеялась спрятаться ото всего этого хотя бы здесь… пожить пару недель нормальной, человеческой жизнью, подальше от лионского хаоса! И что в итоге? Из огня да в полымя, чёрт возьми! Получается, что дома-то было безопаснее? Доказательств моей причастности к смерти Рене они никогда бы не собрали, им попросту нечего было мне предъявить, и дальше устных обвинений дело в жизни бы не пошло, а здесь?! Моя шляпка на месте преступления! Шляпка! Это ведь улика, Фрасуаза, да ещё какая! По-хорошему, этот Витген должен был арестовать меня. Он не сделал этого вовсе не потому, что поверил моим словам о щедром подарке для горничной, о нет! У него просто нет полномочий для моего ареста. С минуты на минуту здесь будет наша полиция, и тогда… Господи, это катастрофа! – Взявшись за виски, я принялась сосредоточенно массировать их. – Газеты раздуют настоящую сенсацию из моего ареста… а эти парижские ублюдки только счастливы будут отомстить мне за смерть Рене! Мне конец, Фрасуаза. Теперь мне точно конец!
Моя подруга тяжело вздохнула, провела рукой по моим волосам. Я помнила этот жест, так она гладила маленькую Манон, сидя у её постели, когда бедняжка мучилась в лихорадке. Это означало, что Франсуаза была в высшей степени обеспокоена и не знала, чем помочь.
– Господи, – произнесла она, – пройти через такой ад, преодолеть столько трудностей, и в конечном итоге попасться на сущей ерунде! Ну кто просил тебя дарить ей эту шляпку, Жозефина?
Я невесело улыбнулась и покачала головой. Знаю. Сама виновата. За свою же собственную доброту поплатилась!
– Убийца сбежал из Парижа в Берн пару дней назад. Даты совпадают с нашим приездом, это нетрудно проверить по оставшимся билетам и в журналах на кассе. Селина с моей шляпкой это ещё полбеды, понимаешь? Страшно представить, что будет, когда они узнают о моей вражде с Иветтой Симонс! Боюсь, что они в одночасье забудут, что их главный подозреваемый – мужчина по имени Поль Февраль. Никто никогда не видел его в лицо, так что это может быть и женщина. Это могу быть и я, понимаешь? Всё совпадает, Франсуаза, всё до мелочей! Господи, я пропала.
Я спрятала лицо в ладонях, но я не плакала, упаси боже! Просто сидела в такой позе, уткнувшись локтями в колени, и думала – успею ли я сказать хоть слово в своё оправдание прежде, чем французская полиция за волосы оттащит меня на гильотину?
– Если уж разбираться, то скорее у этой стервы Иветты были все основания желать тебе смерти, но уж никак не наоборот! – Хмыкнула Франсуаза. Бедная моя Франсуаза, она всё ещё искала способы утешить меня! Я кое-как улыбнулась ей, подняв голову, и вздохнула.
– Никто не станет ни в чём разбираться. У наших властей давно на меня зуб. Их грызёт острое чувство неудовлетворённости из-за того, что не удалось упечь меня за решётку после смерти Рене. Они схватятся за малейшую возможность это исправить, понимаешь, Франсуаза? И, кажется, представить меня маньяком-убийцей будет даже поинтереснее, нежели обвинить в убийстве собственного мужа. Масштабнее, уж точно! «Ревю паризьен» захлебнётся от восторга, когда будет смаковать эту сенсацию в очередном своём выпуске. А уж как Арсен наварится на этом – подумать только, лично был знаком с убийцей, сидел с нею за одним столом! Боже мой, как всё это мерзко… – И я вновь принялась массировать виски, не зная, куда себя деть от этих переживаний.
А я ведь думала, что всё закончилось! С этим самым спасительным ударом молоточка, когда судья вынес оправдательный приговор и меня признали невиновной – в тот момент я наивно полагала, что все мои беды остались позади. Но нет.
История только начиналась.
– Знаешь, что сказал мне этот чернявый комиссар? – Голос Франсуазы донёсся до меня словно сквозь какую-то пелену. Я, кажется, балансировала на грани бессознательности, требовалось срочно прилечь. Или, к примеру, сесть так, чтобы голова моя покоилась на её пухлых коленях, мягких и удобных.
– И что же? – Спросила я, закрывая глаза, чтобы комната перестала кружиться передо мной. Франсуаза вновь принялась перебирать мои волосы, ласково касаясь своими короткими толстыми пальчиками моей макушки – от этого головная боль постепенно начала проходить, я стала потихоньку успокаиваться.
– Он сказал так: и не совестно ли вам, мадам Морель, как ни в чём не бывало общаться с этой женщиной после всего того, что она сделала?! – Подражая голосу Витгена и его забавному акценту, произнесла Франсуаза. Я невольно рассмеялась, особенно над акцентом – очень точно у неё получилось это изобразить.
– А ты что?
– Я спросила: с какой женщиной? – Она расхохоталась. – Ты же знаешь, я умею прикинуться дурочкой, когда нужно!
– А он? – Посмеиваясь, спросила я.
– Он уточнил: с мадам Бланшар, разумеется, с кем же ещё! Вы путешествуете в её компании, будто так и надо, и делаете вид, словно не знаете, что она убила вашего родного брата!
– Так и сказал? – Почему-то я спросила это с улыбкой. Наверное, всё ещё не могла забыть, как забавно передала Франсуаза акцент комиссара Витгена.
– Угу. А я, знаешь, что ему ответила?
– Что же?
– Я сказала так: ах, вы об этом, мсье Витген! Так вот, довожу до вашего сведения, что мой брат был такой сволочью, что я с трудом понимаю, отчего сама не убила его раньше!
– Бо-оже мой, Франсуаза! – Я рассмеялась в голос, и, открыв глаза, посмотрела на неё снизу вверх. Обзору чуть мешала её фантастических размеров грудь, но подруга моя склонилась ко мне и подмигнула озорно, совсем как девчонка. – Ты нажила себе опасного врага, моя милая! – Сказала я ей.
– Пусть катится к чёрту! – Отмахнулась Франсуаза. – Никому не позволю обижать мою Жозефину!
– Я уже говорила, что люблю тебя? – Задумчиво спросила я, поймав её пухленькую ручку, и затем, поднеся её к губам, поцеловала, а затем прижала к своей щеке. – Наверное, не говорила. Почему-то я всегда говорю тебе только гадости.
– О том, что я старая и толстая? Так это чистейшая правда! Но и ты, Жозефина, тоже не слишком-то молода! – Всё ещё пытаясь отшутиться, ответила Франсуаза, но на этот раз я была настроена серьёзно.
– Ты прости меня, пожалуйста. Наверняка ты знаешь, что я меньше всего на свете хотела бы тебя обидеть! У меня нет на свете ближе человека, чем ты. А я никогда не говорю тебе добрых слов, и кроме упрёков и осуждений ты от меня уже давненько ничего не слышала… Я… мне так жаль, Франсуаза, право.
– Жози! – Воскликнула она, и я удивилась – редко когда моя подруга называла меня этим именем. – А ну-ка прекрати! Прекрати немедленно, слышишь?! Не смей говорить со мной так, словно прощаешься! Мы ещё повоюем, старушка! Что-нибудь да придумаем! Ну, хочешь, я увезу тебя отсюда? Давай сбежим? Заляжем на дно, спрячемся – да так, чтобы никто нас никогда не нашёл!
– И долго мы протянем? Это я могу и не возвращаться, а у тебя ведь двое детей, – напомнила я с грустной улыбкой. – Ах, Франсуаза, всё пустое! Бежать? Скрываться? Зачем, право, я же не убивала Селину Фишер! Если я уеду, это вызовет ещё больше подозрений, тогда её убийство наверняка припишут мне.
– Уже приписали, – огорчила меня моя подруга.
– Да, но… наивно предполагать, что у меня есть ещё мизерные шансы на спасение, да? Я хочу сказать, ведь кто-то же её убил? Почему бы не найти настоящего убийцу? Тогда они, возможно, снимут с меня подозрения… – Вдохновлённая этой идеей, я поднялась, и села рядом с Франсуазой, стараясь выстроить собственные мысли в ряд. – Но делать это нужно как можно скорее, до приезда парижских властей, которые спят и видят, как бы отправить Жозефину Бланшар на гильотину. С Витгеном, быть может, ещё есть шанс договориться? Он ведь не от одной меня слышал о том, что Селина встречалась в этом домике со своим кавалером… Если он захочет обработать эту версию, то, возможно… Господи, запонка! Какая же я дура, почему я сразу о ней не вспомнила! Нужно как можно скорее показать ему запонку, быть может, он проведёт обыск и сумеет найти того, кому она принадлежала!
– Какая запонка, Жозефина, о чём ты? – Ахнула ничего не понимающая Франсуаза. Про мою вчерашнюю находку я совсем забыла ей рассказать, но сейчас это было не главное. Я отмахнулась, и, на ходу собирая волосы, быстрым шагом направилась к себе в комнату. Голова всё ещё кружилась, но моя решимость придавала мне сил. Я зашла в свой номер, что был напротив номера Франсуазы, и, подойдя к шкафу, достала оттуда своё вчерашнее чёрное платье. Запонка была на месте, и я с облегчением вздохнула. Мне она казалась спасительной соломинкой в моей нынешней ситуации, и я ничуть не удивилась бы, если бы она волшебным образом исчезла, оставив меня в кромешной тьме безнадёжности.
Но нет, она по-прежнему лежала в кармане моего платья, и я достала её на свет божий, и, первым делом, внимательно рассмотрела. Что ж, я ошиблась, когда вчера назвала её «позолоченной». Она была золотая. Да-да, из чистого золота высшей пробы, с причудливым рисунком, какой нечасто встретишь на подобных украшениях. Что это? Фамильный герб? Или такое интересное клеймо ювелирного дома? Если и так, то мне оно было незнакомо.
Помимо страстной любви к искусству Жозефина так же обожала золотые украшения и антиквариат, и неплохо разбиралась и в том, и в другом. Причём «неплохо» – это ещё очень мягко сказано. Думаю, назвать меня экспертом было бы куда правильнее. А ещё у меня была хорошая привычка привозить с собой из путешествий различные сувениры, вроде небольших предметов старины – например, антикварные пресс-папье, или какие-нибудь часы, времён Людовика XIV… Я это к чему: на случай подобных покупок я всегда возила с собой лорнет, с десятикратным увеличением. Чтобы не ошибиться в выборе, и не перепутать старинную вещь с новоделом, и чтобы удобнее было рассматривать оттиски на каких-нибудь маленьких деталях, вроде этой запонки.
Занятие на ближайшие несколько минут я себе выбрала достойное. И, вертя запонку в руках, так и эдак, мне удалось выяснить вот что: причудливый рисунок на лицевой стороне изображал виноградную гроздь, это было вовсе не клеймо ювелирного дома, как я подумала вначале – само клеймо обнаружилось с обратной стороны. Фредерик Бушерон [14], как и следовало ожидать. Причём клеймо было старое, я поняла это по характерным завиткам, идущим снизу вверх. На современных изделиях эти же самые завитушки расположены немного иначе, сверху вниз, а левая часть ещё и закругляется, как змеиный хвост, упираясь острым концом в букву «Б», выведенную готическим шрифтом. И ведь этот шрифт при таком увеличении был хорошо виден – господи, да сколько же может стоить такая работа?
Вновь в памяти всплыли слова Селины: «Я всё волновалась, что он не обратит внимания на такую, как я…» О, да, определённо, её избранник был не из простых. Даже я при всём своём сказочном состоянии, доставшемся в наследство от покойного мужа, и то не была уверена, что смогла бы себе позволить такую дорогую вещь.
А кто мог? Убрав запонку в карман, я отложила лорнет и отправилась на поиски Витгена.
Кто мог, чёрт возьми?! Да кто угодно – оглянись и посмотри, где ты находишься, Жозефина! Я едва не застонала от отчаяния. О да, один из самых элитных курортных отелей в Швейцарии, который далеко не каждый в состоянии оплатить. И, более того, не так-то просто сюда попасть, даже будучи сказочно богатым! Резервы разлетаются за два месяца вперёд, как горячие пирожки, а Грандек ещё и лично проверяет списки возможных гостей, отсеивая тех, кого считал недостаточно состоятельными.
И что мы имеем в результате? Неутешительную картину: каждый первый постоялец отеля «Коффин» мог являться счастливым обладателем этой запонки! Круг подозреваемых расширялся до невероятных размеров, и теперь он уже не ограничивался одним лишь нашим третьим этажом. С чего я вообще решила, что возлюбленный Селины – кто-то из наших? Да, это было бы наиболее вероятно: Селина и Эллен были закреплены за третьим этажом, а на других же за порядком следили другие слуги. Но, позвольте, что мешало ей поменяться с кем-то из подруг наверху или внизу? Или, к примеру, выйти в свой выходной, девочкам на подмогу – как это произошло вчера? Ничего.
Но, признаться, версия мадам Фальконе о том, что убийца – кто-то из своих не давала мне покоя. И я принялась размышлять, поднимаясь по лестнице наверх: туда, где в одном из кабинетом расположился Витген.
Запонка не могла принадлежать ни Габриелю, ни Арсению, и это меня сказочно радовало. Не то, чтобы я подозревала кого-то из них, но оба они, определённо, были самыми достойными кандидатами на нежное сердце Селины. Вот только, увы, не самыми богатыми. Гранье не имел ни титула, не денег, а в отеле, как я поняла, держался только благодаря Габриэлле, которая наверняка пообещала хозяину прекратить пошив штор и скатертей с вензелями «Коффина» в случае отказа. Арсений… тоже вряд ли. Журналист – да, известная персона – да, но я сомневаюсь, чтобы он был сказочно богат. Скорее – не беден. И в «Коффине» тоже наверняка по воле самого хозяина, мсье Шустера, а в качестве платы за номер – хвалебная статься в «Ревю паризьен». Это называется publicité [15], многие успешные дельцы используют такой ход, чтобы зарекомендовать себя в определённых кругах.
Нет, не Арсений. К тому же, он не показался мне настолько сентиментальным. Он скорее прагматик – окажись в его руках такая ценная вещь, он без раздумий заложил бы её в ближайшем ломбарде, а на вырученные деньги купил бы саму «Ревю паризьен» вместе с издателями и критиками!
Далее по списку: доктор Эрикссон. Почему нет? Из вчерашних разговоров мадам Фальконе за ужином, я узнала, что неприятный швед держит частную практику, и к нему обращается исключительно элитная публика, и даже кто-то из королевской семьи. Стало быть, финансы у него водятся. Или, например, он мог получить эту запонку в подарок от какого-нибудь денежного мешка! Но доктор Эрикссон упрямо не желал ассоциироваться у меня в качестве возлюбленного Селины. К тому же, ему было за сорок – не староват ли для неё?
Гарденберг. Тоже не молод, согласна, но мы кажется уже давно убедились в безграничной силе его обаяния? И богат. Фальконе обмолвилась вчера, что у него есть свой собственный замок неподалёку от Люцерна. Замок! Думаю, запонка всё же дешевле, не так ли? Подходит? Подходит!
Лассард. Уф, про него даже думать не хочется! Рядом с Селиной он мне решительно не представлялся, но, тем не менее, он был богат – это факт. Вращался в банковской сфере, только, почему-то, в нашей, французской. Это я услышала уже от мадам Вермаллен, вчера за обедом. Впрочем, пускай ему! Этот лысоватый круглый мужчинка казался мне до того отвратительным, что я старалась не вспоминать его лишний раз.
Ватрушкин. Сын золотодобытчика из Сибири. И ещё раз, для тех, кто не понял с первого раза: зо-ло-то-добытчика. Золото, золото, золотая запонка… С клеймом парижского ювелирного дома, факт. Но мьсе Бушерон в прошлом вполне мог быть компаньоном Ватрушкина-отца, и ничто не мешало ему сделать украшение на заказ, со знаком собственного ювелирного дома. Подходит? Подходит!
Тео. Непонятный русский паренёк, о котором мало что известно, кроме того, что он дружит с Ватрушкиным и Арсеном. Соотечественники, как-никак! Тео тоже был молод и довольно красив с лица, но о его финансовом положении я, увы, не знала. Он мог быть как и очередным сыном миллионера, так и нищим, безродным, но очень хорошим товарищем Ватрушкина, сына миллионера. А для товарища, как известно, широкой русской душе ничего не жалко: ну, подумаешь, такие мелочи, как номер-люкс в одном из самых известных отелей в Европе? Или эксклюзивная запонка в подарок. Хм.
Гринберг. Ох, а вот этот парень подходил, кажется, по всем параметрам. Молоденький, сказочно богатый, вполне мог воспылать юношеской страстью к Селине, и запонку эту вполне мог забыть в домике у реки. Тут даже думать не о чем, Гринберг в роли горе-влюблённого смотрелся лучше остальных.
А вот Томас… Томас, по совести говоря, представлялся мне исключительно в качестве любящего заботливого супруга для своей Наны, и больше никак. Я в сотый раз отказывалась смотреть на голые факты, из-за этой дурацкой сентиментальности – ах, ну не мог он изменить своей Нане, он же так её любит! Глупости. Мог. Уж мне ли не знать, до чего низменна и отвратна мужская природа! Я усмехнулась. Что ж, если отбросить в сторону мои добрые чувства к Томасу Хэдину – о, да, это, безусловно, мог быть и он тоже. Нана вчера на прогулке сказала мне, что они с супругом на пару владеют акциями крупного железнодорожного товарищества в Лозанне. Стало быть, не бедствуют, и на золотые запонки не скупятся.
Остановившись перед дверью в кабинет, где пару часов назад мы беседовали с комиссаром, я на секунду замерла, собираясь с духом. Отбрось свой глупый страх, Жозефина, отбрось предрассудки! Конечно, всем давно известно, что в полиции служат исключительно идиоты, но против таких весомых улик Витген точно не пойдёт!
«Какая непростительная наивность! – отозвался мой внутренний голос. – Витген скажет, что ты нарочно всё это выдумала, чтобы отвести от себя подозрения! Не станет он тебя слушать, не станет… посмотри на себя со стороны: каждый твой поступок выглядит ещё подозрительнее, чем предыдущий! Ох, Жозефина, что же ты делаешь, сама же прыгаешь в эту трясину!»
Да я и так уже по самые уши в ней. И, видимо, уже не выберусь. А Селине, глядишь, ещё сумею помочь. Она была хорошей девушкой, и справедливым было бы отыскать и призвать к ответу её убийцу!
Погубит тебя твоё благородство, Жозефина!
Не слушая голос здравого смысла, я всё же постучала три раза, громко и уверенно. Но ответом мне, как ни странно, была тишина. Я с непониманием нахмурилась, и, приоткрыв дверь, осторожно заглянула внутрь. Я ожидала увидеть если не самого Витгена, то хотя бы кого-то из его помощников, но кабинет был пуст.
Они уехали. В самом деле, уехали! Допросили свидетелей – тех, кого сочли нужным – и, помахав Грандеку ручкой на прощанье, укатили обратно в свой Берн. Чёрт возьми, я опоздала! В сердцах топнув ногой, я развернулась и зашагала обратно. Признаться, какая-то часть меня была немножечко рада такому повороту событий – я не хотела встречаться с комиссаром снова, это факт. И я, действительно, боялась услышать от него язвительное: «Мадам Лавиолетт, вы выдумали всё это исключительно с одной целью – очернить доброе имя невиновного! Вы убийца, мадам Лавиолетт! Вы убийца!»
Но, с другой стороны, меня грызло чувство вины. Перед Селиной было как-то неудобно… я, выходит, скрыла важную улику – которая, быть может, сыграла бы решающую роль в расследовании… При условии, конечно, что расследование вообще стали бы проводить. Я-то была уже практически на все сто уверена, что с приездом парижской полиции меня волоком оттащат в участок, а оттуда депортируют в Лион, где и казнят без суда и следствия на главной городской площади.
Наверное, я преувеличивала. Ладно, что уж там – я, действительно, преувеличивала. Но вы бы простили мне мои оскорбительные мысли в их адрес, если б знали, через какой кошмар мне довелось пройти после смерти Рене. Я, действительно, ждала удара со всех сторон, и я была убеждена, что этим людям жизненно необходимо отправить меня на гильотину, хотя по сути-то, думаю, мало кому из них было до меня дело. Не считая кое-кого из моих лионских «любимчиков», которые, действительно, пытались обвинить меня в убийстве Рене и даже завели дело. Но это скорее исключение, чем правило.
А тот же Витген… ну, что ещё он мог подумать, право? Моя шляпка на месте преступления, чем не улика? И то, что я путешествовала под другой фамилией – разве не подозрительно? Ах, да, ведь моя фамилия была Бланшар – та самая Жозефина Бланшар, которую пытались осудить за убийство собственного мужа месяц назад! Нашумевшее было дело, о, да, слышали, знаем… И вот эта женщина, чудом избежавшая правосудия, оказывается в Берне, рядом с местом очередного преступления, где находят её шляпку… Да, наверное, у комиссара Витгена и впрямь были все основания подозревать меня. Это если судить объективно.
Но тогда я ещё не могла быть объективной – слишком неясными были перспективы моего дальнейшего будущего, и слишком тоскливо было на душе от осознания того, что кто-то безжалостно задушил весёлую беззаботную девчушку-горничную, милую Селину. Которую я же, за пару часов до этого, собирала на свидание как заботливая мать или любящая старшая сестра. Ох, боже, у меня опять разболелась голова от этих мыслей…!
И лестница вдруг пошатнулась, и ушла из под моих ног – я осознала, что падаю. Ещё немного, и «Коффин» заполучил бы второй труп, на этот раз без малейших признаков криминала. Я так и видела заголовки газетных статей, нечто вроде: «Справедливость восторжествовала! Божья кара настигла убийцу!» Ну, или что-то в этом духе.
Однако русский журналист упустил громкую сенсацию. Собственными руками разрушил свою же будущую статью, весьма удачно поймав меня возле лестничного пролёта между четвёртым и третьим этажом. А я даже не заметила его поначалу, вот до чего довела себя этими мыслями!
– Мадам Лавиолетт, Жозефина! – Его взволнованный голос донёсся до меня откуда-то сверху, а потом я почувствовала, как сильные руки легко отняли меня от пола. – Не волнуйтесь, я отнесу вас в вашу комнату.
– У меня закружилась голова, – попробовала, было, оправдаться я, но слова мои прозвучали до того жалко, что я сочла нужным поскорее замолчать. Арсен, благо, и не собирался упрекать меня в немощности, это вам не мой драгоценный супруг! Он лишь ласково улыбнулся, и ещё раз попросил ни о чём не волноваться.
И вот, мы уже в моей комнате, он опустил меня на кровать, затем поправил подушки, чтобы мне было удобнее. Прямо как заботливая матушка, право слово! Я вяло улыбнулась ему – ну, это я надеялась, что получилось улыбнуться именно ему, потому что я толком и не видела, где именно он стоял, комната всё ещё плыла перед глазами.
– У вас-то, я надеюсь, нет национальных предубеждённостей? Не будете против визита доктора Хартброука? – Смеясь, спросил он откуда-то справа от меня. По звукам льющейся воды я поняла, что Арсен наполняет для меня один из стаканов, что стояли на серебряном подносе вместе с хрустальным графином. – Вот, выпейте. Должно полегчать.
Голова моя не желала меня слушаться, и подниматься упрямо не хотела, вопреки моим стараниям. Тогда Арсен осторожно подсунул руку под мою шею, и от этого прикосновения я невольно вздрогнула. Он, впрочем, тоже не оставил этот интимный момент без внимания, и как-то странно, томно вздохнул. Затем, чуть приподняв мою голову, он заставил меня сделать несколько глотков освежающей прохладной воды. Пара капель всё равно пролилась на моё сиреневое платье, но это были сущие пустяки.
– Простите за беспокойство, я… я не хотела доставлять вам неудобств, – пробормотала я, вытирая влажные губы тыльной стороной ладони.
Клянусь вам, я не собиралась его соблазнять! Более того, я хотела, чтобы он ушёл как можно скорее – я терпеть не могла, когда меня видели в таком беспомощном состоянии! Вот только уходить мсье Планшетов не собирался, а всё смотрел как-то странно на мои губы, будто хотел поцеловать их. Затем, опомнившись, усмехнулся и сказал:
– Жозефина, вам совсем не обязательно всё время быть сильной. В слабости нет ничего дурного, поверьте. В конце концов, на то вы и женщина, чтобы быть слабой и беззащитной!
А этот парень, похоже, понял обо мне гораздо больше, чем я хотела показать. Я пристально посмотрела на него, не соглашаясь, но и не опровергая его слов. А вы, я погляжу, не так-то просты, господин русский журналист! Похоже, я и вас недооценивала и недооценивала здорово.
– Прошу, позовите доктора Хартброука, – сказала я ровным, спокойным голосом, когда наше молчание стало казаться неприлично долгим. – И, в ответ на ваш предыдущий вопрос: о нет, мсье Планшетов, мне чужды национальные предубеждения! Для меня совсем неважно, француз или англичанин, или… русский. Главное, что представляет собой человек, а остальное не имеет значения!
Даже будучи на смертном одре, Жозефина всё равно не упустит возможности пофлиртовать с симпатичным мужчиной! Это не мои слова, Франсуазы. Но, по-моему, очень точные, вы не находите?
Арсен улыбнулся так очаровательно, что, будь я юной семнадцатилетней девчонкой, влюбилась бы без памяти уже в одну эту улыбку! А ещё он погладил меня по руке на прощанье, вроде как, пожелав этим жестом скорейшего выздоровления, и только тогда отправился за доктором.
Правда, в дверях он всё равно остановился, и, обернувшись через плечо, спросил задумчиво:
– Ваши духи… этот запах кажется мне знакомым! Пармская фиалка, я угадал?
В ответ я тихонько рассмеялась.
– Так и есть. Но ведь моя фамилия Лавиолетт [16], уже одно это к чему-то обязывает! – Я не сдержала улыбки. – Я обожаю запах фиалок. Они напоминают мне о детстве.
XII
Доктор Хартброук оказался премилым старичком с пухлыми румяными щеками и добрым нравом. Нечасто мне доводилось встречать англичан, но отчего-то я была уверена – далеко не все они такие общительные и любезные. Скорее, ещё одно исключение из правил, как моя бедная Селина…
О ней мсье Хартброук, а для меня после двух минут знакомства просто Ричард, говорил с нескрываемой тоской и то и дело страдальчески вздыхал. При отеле он состоял давно, и успел хорошо узнать эту озорную говорливую девчушку – и его, безусловно, подкосила новость о его гибели.
– Она была мне как дочь! Как дочь, господи боже… кто бы мог подумать, что меня заставят проводить первичный осмотр её… тела. Господи, у этих людей нет сердца! Витген, старый вояка, знаком мне ещё по моей столичной жизни, приходилось пересекаться, было дело. Жёсткий он человек, вот что я вам скажу. Неудивительно, что беседа с ним вас так подкосила.
Беседа? А не хотите ли, милый Ричард, прямое обвинение в убийстве? Одной «беседой», как вы выразились, дело не ограничилось – в целом комиссар был не такой уж и страшный. Резковатый, грубоватый, но не настолько же, чтобы мне терять сознание средь бела дня от одного только его вида? Но о подозрениях комиссара в мой адрес я благоразумно умолчала. Мне не хотелось, чтобы радушие и забота на лице Ричарда Хартброука сменились подозрением и презрением. Селину он любил, а убийце её от всей души желал сгореть в аду – я была уверена, что он не обрадуется, если я признаюсь, что именно меня Витген и подозревает в убийстве бедной девушки.
Разговорчивый англичанин прописал мне полный покой, заставил проглотить горькую микстурку (пустырник, судя по привкусу), и посоветовал подремать до самого вечера. И уж точно никуда из своей комнаты не выходить, да-да! Эту фразу он произнёс со значением, смешно тараща глаза из-под круглых стёкол очков. Я улыбнулась, хотя то, на что он намекал, к улыбкам не располагало вовсе.
– Вы думаете, это и вправду Февраль? – Спросила я его, когда доктор уже сложил свои лекарства в компактный несессер, и собрался меня покинуть. Ответ меня не обрадовал ничуть:
– Ну а кто же ещё, милая Жози?!
Ой, кажется, нужно признаться кое в чём. Ласковое «Жози» и безо всяких «мадам» было моим ответом на его «называйте меня просто Ричард»! И не нужно укоризненно качать головой в мой адрес – вспомните слова Фраснуазы: Жозефина не перестанет флиртовать даже когда окажется на смертном одре…
Так или иначе, из беседы с доктором удалось почерпнуть кое-что интересное. Например, по большому секрету он поведал мне о первоначальных результатах медицинской экспертизы, и выяснилось кое-что любопытное.
Неспроста Витген спрашивал, где я была с половины первого до половины третьего! Вскрытие показало, что смерть, вероятнее всего, наступила где-то в это время. Круг подозреваемых стремительно сужался до – вуаля! – одного человека. И на этот раз им была даже не я.
Посмотрите программку отеля, что лежит на туалетном столике в каждом номере. В ней указаны общие правила, затем постановление самого Шустера о запрете курения в номерах (в целях профилактики возникновения пожаров) и, самое главное, время работы ресторана.
Столовый салон №3, обслуживающий постояльцев с третьего этажа, на завтрак открывается ровно в девять утра, затем – в полдень, на обед. Моё безоговорочное алиби могли бы подтвердить двенадцать постояльцев с третьего этажа, ровно как и я могла подтвердить их присутствие в ресторане с полудня и как раз до половины третьего. Обед затянулся из-за нашего знакомства, трапезу как таковую начали на полчаса позже, потому что мы потеряли много времени за представлениями и любезностями.
Совершенно точно могу сказать вам так же и то, что ни один из присутствующих не вышел из-за стола раньше указанного срока – все остались до конца, даже противный Эрикссон, которого, вроде как, с души воротило от нашего общества, и даже старшая Вермаллен, которой и подавно весь свет был не мил. Стало быть, ни один из присутствующих в ресторане в указанное время не мог наскоро сбегать на тот берег реки, задушить Селину Фишер и вернуться обратно незамеченным. Алиби неопровержимое, стало быть, подойдём к вопросу с другой стороны – у кого этого алиби нет?
Кто не присутствовал на обеде?
О-о, это просто, в этот раз память у Жозефины работала блестяще! Вот, например, итальянка Виттория Фальконе, мадам Соколица, но только идиоты из бернской полиции способны всерьёз полагать, что Поль Февраль – женщина!
А из мужчин… русский журналист, Арсений Планшетов. Я беспокойно зашевелилась на постели, вспоминая то, как он коснулся моей шеи, и как сказал с задумчивой улыбкой, что узнал запах фиалок… А что, если убийца – он? И он был со мной всё это время, и мог в любой момент задушить и меня, так же как и бедняжку Селину… Я поёжилась, непроизвольно дотронувшись до своей шеи в том месте, где ещё совсем недавно лежала его тёплая ладонь. Ох, а что, если и впрямь? И мотив подходящий: совсем не обязательно ему быть психопатом, а вот расчётливым мерзавцем – очень даже. Допустим, «Ревю паризьен» сказала, что не нуждается в его услугах, и, чтобы не потерять должность, Планшетов приносит им свеженький репортаж о маньяке-убийце, терроризирующем парижских девушек! Газета платит, деньги заканчиваются, затем новое убийство, Арсен пишет очередную статью, газета снова платит, круг замыкается. Почему нет, чёрт возьми? Только потому, что этот парень обаятелен, красив и ухитрился меня очаровать? Видимо, да. Только поэтому Жозефина отказывалась верить в его вину.
И вообще-то, когда я сказала, что подозреваемый остаётся один, я имела в виду вовсе не русского журналиста, а Гринберга. Да-да, классика, во всём всегда виноваты евреи! Но на самом деле истинная причина крылась вовсе не в его национальной принадлежности – будь он хоть китайцем, дела это не меняло. Во-первых, он был богат. И подходил Селине по возрасту, лучше других, это во-вторых. И третье: Гринберг, в отличие от Арсена, вполне мог быть счастливым обладателем золотой запонки с гербом Бушерона.
Раз-два-три, дело закрыто! Несложные логические умозаключения привели Жозефину к разгадке, быть может, преступления века!
«И почему я уверена в том, что всё далеко не так просто, как кажется?», скептически спросила я себя, закрывая глаза. Лекарство потихоньку начало действовать, и меня неминуемо клонило в сон.
XIII
На обеде я не появилась, потому что бессовестно его проспала. Франсуаза заходила за мной, и, весьма удивлённая тем, что я нежусь в кроватке в разгар дня, ушла ни с чем, тихонько прикрыв за собой дверь. Хотя от неё-то я как раз ожидала, что она разбудит меня с криками и упрёками: как это я смею спать в такой чудесный день?! В последний, может статься, день моей свободы…
Но милая Франсуаза понимала всё гораздо лучше меня самой. Видела она, как мне плохо, и безо всяких докторов прекрасно знала о причинах моего недомогания. Вот почему она не стала меня тревожить.
А у меня возникло преотвратное чувство этой дурацкой слабости, о которой, как мне теперь казалось, знали все вокруг! Русский журналист, с этим его снисходительным: «Вовсе не обязательно всегда быть сильной, Жозефина!», Франсуаза, осторожно прикрывающая дверь вместо того, чтобы хлопнуть ей посильнее и разбудить меня… Зачем она так поступила? Чтобы теперь все внизу знали, что мне стало плохо после беседы с комиссаром? Отлично, браво, брависсимо! Бегите же, скорее, расскажите об этом Витгену! Грандек расскажет, я не сомневалась. И тогда комиссар самодовольно улыбнётся, скажет нечто избитое, вроде: «Ну вот птичка и попалась», или же «На воре шапка горит», или, к примеру: «Я так и знал!»… Боже, ну зачем, ну почему Франсуаза не разбудила меня?
Переживания мои, естественно, оказались напрасными. Ровно как и на счёт всемирного заговора полиции против Жозефины Лавиолетт – в столовом салоне №3 никому попросту не было до меня дела. Ну, или почти никому. Заботливая Габриэлла, например, поинтересовалась, где же мадам Жозефина и почему она до сих пор не спустилась? Вредный швед Эрикссон отпустил свою коронную фразу об опаздывающих и пренебрегающих приличиями людях, а Гранье живо вступился за меня и поставил доктора на место.
– Ещё бы ему не вступиться! – добавила Франсуаза, с недвусмысленной улыбкой подмигнув мне. Обо всём этом она рассказывала мне два часа спустя, сидя на моей постели и держа меня за руку. Создавалось впечатление, что я пала жертвой какой-то неизлечимой лихорадки, а не обычной меланхолии – но Франсуаза так трогательно заботилась обо мне, что я не решилась её одёргивать, и сарказм свой приберегла для более подходящего случая.
– А ещё, – продолжала она, – ты не поверишь, кто тобою интересовался больше остальных!
– Твой обожаемый Гарденберг? – Предположила я, пряча улыбку. – Вот уж точно не поверю ни за что в жизни! Он глаз с тебя не сводил во время завтрака, причём смотрел исключительно в твоё декольте! Я вот тут задумалась, а в его возрасте – не поздновато ли?
– Пятьдесят девять лет? – Франсуаза фыркнула пренебрежительно – так, словно речь шла о цифре вдвое меньшей. – Как мало ты знаешь о мужчинах, старушка! Ничуть не поздновато, а, между прочим, очень даже! Был у меня как-то один… м-м… шестьдесят пять ему было, кажется? Огонь, а не мужчина! Фору давал моему Пьеру! Двойную, между прочим! Э-э… да. – Тут она вспыхнула до самых ушей, сообразив, что наговорила лишнего. А я-то, конечно, не могла этим не воспользоваться.
– Двойную? А это, прости, как?
– Ах, Жозефина, перестань! Я всего лишь неточно выразилась!
– Нет, право, мне интересно, развей тему дальше, просвети меня! Я же так мало знаю о мужчинах! – И я расхохоталась, не скрывая, что наглым образом издеваюсь над ней. Франсуаза отмахнулась, и, вспомнив, о чём говорила ранее, продолжила:
– Твоё отсутствие весьма и весьма заинтересовало мсье Лассарда. Этого нашего раненого лебедя с подбитым крылышком! Можешь себе такое представить? Он завалил меня вопросами да так, что мне стало неловко, благо твой очаровательный Габриель нашёл способ и его заткнуть.
Лассард? Интересовался мной? С какой стати? За всё то время, что мы общались, дальше элементарных фраз приветствия наша беседа не заходила никогда. Да и никаких особенных взглядов, не считая парочки плотоядных, в свой адрес я с его стороны не замечала. Что ещё за диво? Любопытно.
– Но в основном, как ты наверняка догадалась, все слушали Фальконе, – рассказывала моя Франсуаза. – У неё прямо-таки нездоровая мания, она будто одержима этим Февралем! Лучше бы оперу пела, право слово, чем травила эти байки! У итальянцев такая чудесная опера!
Мечтательно сложив руки на груди, Франсуаза возвела очи к расписному потолку моей спальни, и попыталась воспроизвести по памяти что-то из Риголетто [17]. Причём, насколько я поняла, это была партия графа Монтероне, то есть мужская. У Франсуазы с её низким грудным голосом и уморительным французским акцентом сия постановка вышла так чудесно, что я смеялась до слёз.
– Ты ничего не понимаешь в искусстве! – Безапелляционно заявила моя подруга, и обиделась, что я посмела не оценить её талантов. Но уже через мгновение весело смеялась вместе со мной.
И когда эта весёлая передышка окончилась, Франсуаза заговорила уже совсем другим голосом, тихим и серьёзным. Тон её мне сразу не понравился, ровно как и её слова.
– Фальконе сказала, комиссар вызвал на подмогу одного очень известного человека из Франции. Большой начальник в парижской полиции, по словам Виттории, «самый большой специалист по Февралю»!
– Больший, чем она сама? – С шутливым недоверием спросила я. Франсуаза вяло улыбнулась и развела руками.
– Кто знает. О нём хорошо отзываются, его уважают, почитают. Арсен сказал, у нас в столице он на хорошем счету, едва ли не первый в городе человек после папы и сенатора! Что, что ты на меня так смотришь? Я всего лишь пересказываю тебе слова этого русского! Преувеличивает, наверняка, но всё же… я к чему это, Жозефина… может, ещё не всё потеряно? Как ты думаешь?
– Сказать тебе, как я думаю? Ты, действительно, хочешь знать? Франсуаза, я не питаю иллюзий на счёт полиции, и особенно на счёт французской полиции! Вспомни, как они слетелись после смерти Рене – как стервятники, чёрт подери! Они разорвали бы меня на части, если бы не Дэвид. Боже мой, я даже вспоминать об этом не хочу… – Так как я действительно не хотела возвращаться к этой теме, я приложила ладонь ко лбу, изобразив приступ жесточайшей мигрени. Я очень надеялась, что намекну таким образом Франсуазе о своём полнейшем нежелании продолжать этот разговор.
Но в некоторых вопросах она и впрямь была непростительно недальновидна. Особенно, когда отстаивала свою точку зрения.
– Если этот их парижский комиссар хоть вполовину так хорош, как о нём говорят, то он тебя для начала выслушает! И поймёт, что ты непричастна к убийству этой девушки, горничной!
– Пускай катится к чёрту, – неблагодарно ответила я, не отнимая руки от лица, – вместе со своей полицией, и с мерзким Витгеном, и с этой Фальконе, которая всё никак не угомонится! В следующий раз ей нужно будет непременно заклеить рот. Её болтовня меня утомляет, несмотря даже на то, что на обеде я не присутствовала!
– Мне не нравится твой настрой, – сурово сказала Франсуаза. – Если ты не переменишь его к сегодняшнему вечеру, мне придётся принять меры!
Уж не знаю, какие меры она собралась принимать, но строить из себя заботливую кумушку у неё получалось превосходно. Я постаралась не улыбнуться и сделать вид, что всерьёз восприняла её страшную угрозу. Это немного успокоило мою подругу, и она, пожелав мне хорошего дня, удалилась, громко хлопнув дверью. Сей красивый уход означал её безграничное возмущение и недовольство. Ну ещё бы! Франсуаза привыкла, что это я вожусь с нею, как курица с яйцом, и меняться ролями ей не с руки. Ладно, ладно, придётся постараться, если не ради себя – то ради неё.
И поэтому я поднялась с постели, завязывая тесёмки шёлкового пеньюара прямо на ходу, и для начала решила умыться. А после, может, заставлю себя прогуляться по саду. Мне не помешала бы хорошая компания – вот, Томаса Хэдина и его супруги, например. У них можно было узнать последние новости, без глупых фантазий мадам Соколицы, а только факты, сухие факты, коих мне так не хватало. А ещё было бы здорово найти Витгена всё же, и отдать ему запонку, сопровождая эту ценную находку собственными умозаключениями. Вот только, боюсь, он не поверит мне.
А наша полиция не поверит тем более. Каким бы гениальным сыщиком не был этот их – кстати, как его там? – парижский комиссар, он ну просто никак не мог не слышать о скандальном деле Жозефины Бланшар, чудом избежавшей гильотины за убийство собственного мужа.
Господи, такая улика пропадала из-за их идиотского ослиного упрямства…
Я умылась ледяной водой, посокрушалась немного над ужасным цветом моего лица, стоя перед зеркалом в золотистой оправе, и уже собралась звать Эллен, чтобы та помогла мне одеться, когда в дверь постучали.
Пребывая в святой уверенности, что это Франсуаза пришла извиняться (а иначе она не стала бы стучать), я рывком открыла дверь, надеясь застать её врасплох. А получилось, что я застала врасплох Габриеля. Или, точнее, это он застал врасплох меня, потому что из нас двоих это всё-таки я была неодета.
– Господи боже, это вы! – Вырвалось у меня, недоумённое. Гранье, как настоящий джентльмен, поспешил отвернуться. Но перед этим, как настоящий француз, уже успел увидеть всё то, что никак не предназначалось для его взора.
– Простите, я не вовремя… – Пробормотал он растерянно.
Да? А может, очень даже вовремя? Шёлковый пеньюар был небрежно накинут на плечи, оголяя стройную тонкую шею, коей я всегда гордилась, а так же небольшую, но красивую грудь под полупрозрачной сорочкой. А тесёмки широкого пояса облегали мою стройную талию, от природы тонкую и изящную. Не забудем так же, что длина у пеньюара была весьма символическая, так что у Гранье был шанс по достоинству оценить мои длинные, красивые ноги, что он, несомненно, и сделал. Как в мужчине в нём я ни на секунды не сомневалась, это факт.
Я прикрыла дверь, а сама встала у стены, прижавшись к ней спиной. И отчего вдруг сердце подскочило в моей груди? Отчего меня вдруг бросило в жар… вы не знаете? И улыбка эта глупая – ну откуда взялась улыбка на моём лице? Как я могла улыбаться столь беспечно, когда вокруг творилось такое?
Гранье, как я и ожидала, никуда не ушёл, и, встав по ту сторону стены, тоже прижался к ней спиной. Готова была спорить, что он улыбается. Теперь нас разделали только несколько дюймов деревянной перегородки, да дверь, которую я оставила приоткрытой, чтобы можно было говорить без помех.
– Я волновался о вас, – сказал Габриель тихо. – Вы не вышли к обеду, и я подумал, что что-то случилось.
– Я просто почувствовала себя нехорошо. – Даже сейчас мне было неловко в этом признаваться, я всё ещё видела что-то постыдное в своей слабости.
– Это из-за случившегося с Селиной, да? – Что ж, Гранье был очень заботлив. – Или из-за утреннего разговора с комиссаром?
Заботлив, и проницателен. А ещё бесконечно мил. Настолько, что я решила обо всём ему рассказать.
– Они подозревают меня, Габриель, – со вздохом сказала я. – Они считают, что это я убила Селину Фишер.
– Вы?!
За его тихим возгласом, преисполненным неподдельного возмущения, последовала тишина. Глухая, угнетающая тишина. На какой-то момент мне показалось вдруг, что Гранье и вовсе ушёл, оставив меня в одиночестве. Но я не слышала звука шагов…
А потом он спросил – тихо, неуверенно, вкрадчиво:
– Это из-за той истории с вашим мужем…?
Он знает. Он обо всём знает! Я закусила губу, пришла моя очередь загадочно молчать. На самом деле я думала, что ему сказать, что ответить? Мне было стыдно за мою ложь, которую он, наверняка, как и Витген, сочтёт лишним подтверждением моей вины. Раз я скрываю свою настоящую фамилию, стало быть, неспроста? Стало быть, не так уж я и невиновна?
Мне всегда становилось горько, когда я думала об этом, но сейчас боль стала и вовсе нестерпимой. Отчего-то мне невыносимой казалась сама мысль о том, что Габриель и впрямь может считать меня убийцей. Я тяжело вздохнула, и, закрыв глаза, стала молча ждать, когда он уйдёт.
Вот только он никуда не ушёл.
– Жозефина, я не верю в эту клевету, – с чувством произнёс он. Да так проникновенно, что у меня отлегло от сердца, и я не сдержала облегчённого вздоха. – И Арсен тоже не верит. По правде говоря, это он рассказал мне, кто вы на самом деле.
Ах, ну разумеется! Они же друзья, а Планшетова профессия обязывала знать всё на свете и обо всех. Вероятно, он и сам был одним из тех журналистов, что в красках описывали подробности скандальной гибели Рене Бланшара. И особенно пикантным пресса сочла тот факт, что замешана в этом оказалась его жена, Жозефина Бланшар, в девичестве Лавиолетт. Нет ничего не удивительного в том, что Арсен вспомнил моё имя. Куда более странно, что он ничем не выдал себя в разговоре со мной – похоже, притворяться он умел не хуже, чем я сама.
Неожиданно я поняла, что молчание моё слишком затянулось. Габриель может решить, что я не слушаю его, или, что я ушла, сбежав от неприятной темы, и заперлась у себя в будуаре.
Чтобы развеять это заблуждение, я не придумала ничего лучше, чем открыть дверь и предстать перед ним во всей своей неодетой красе. Плевать мне на моё неглиже, в тот момент мне жизненно важно было посмотреть в его глаза и убедиться, что он не солгал.
Нет, не солгал. Правда, с каждой секундой смотреть в его глаза становилось всё труднее: взгляд Габриеля, будто бы против его воли, то и дело опускался вниз, к моей груди, обтянутой тонкой сорочкой… Он изо всех сил боролся с собой, и в другой ситуации я нашла бы это очень забавным, но не сейчас.
– Вы единственный на моей памяти человек, от кого я услышала такие слова, – сказала ему я. – Остальные не стеснялись в открытую называть меня убийцей. Тот же Витген, к примеру.
– Жозефина, я… – Что-то он собирался сказать, но на полуслове вдруг замолчал, сбился. Подозреваю, что нечасто он впадал в такую растерянность при общении с женщинами. Хотелось думать, что я какая-то особенная, и значу для него чуть больше, чем остальные. Совладав с собой, Габриель вновь поднял взгляд, встретился с моими глазами и сказал: – Я не верю, чтобы вы оказались способной на такое.
В самом деле? Милашка Габриель! Расцеловала бы тебя, да, боюсь, мой порыв возымеет некое любопытное продолжение, учитывая мой двусмысленный внешний вид! Поэтому я лишь улыбнулась ему, стараясь вложить в эту короткую улыбку всю ту благодарность, что переполняла моё сердце.
Так как я по-прежнему молчала, Гранье решил продолжить, старательно притворяясь, что не обращает внимания на мой соблазнительный наряд:
– Вообще-то я зашёл к вам справиться о вашем благополучии, и пригласить вас на прогулку. Никому из нас не помешает развеяться сейчас. Обещаю, к домику у реки мы больше ни на шаг не приблизимся! – с грустной улыбкой добавил он. – А потом мы могли бы… я подумал… ведь моё предложение написать ваш потрет всё ещё в силе, и…
Ах, да, портрет! У меня совсем вылетело из головы! Я ведь уже дала своё согласие позировать ему, нехорошо теперь было брать свои слова назад.
– Я понимаю, – продолжил Габриель, ибо я по-прежнему молчала, – понимаю, что сейчас, наверное, не самое подходящее время, но всё лучше, чем сидеть затворницей в своей комнате и в одиночку переживать эту боль…
Не самое подходящее время? Может, и нет. Вот только другого у нас может и не быть! Я не стала удручать его своими мрачными прогнозами о своём возможном аресте и лишь улыбнулась в ответ. И решилась, наконец, подать голос, дабы не стоять истуканом, глядя на него.
– Отчего же неподходящее? По-моему, лучше и придумать нельзя! – Я сказала это искренне, без малейшего намёка на сарказм. – Дружеское общение сейчас это, наверное, как раз то, чего мне так не хватает. Спасибо вам за понимание, Габриель, я… я это, действительно, ценю.
У меня получилось произнести это с обескураживающей искренностью, с чувством. Казалось, я целую душу вложила в эти самые слова, и Габриель всё это понял. Его взгляд, по крайней мере, был прикован на этот раз к моим глазам, и никуда больше. Вот так мы и стояли несколько секунд, в полнейшей тишине, глядя в глаза друг другу, а я чувствовала, что с каждым мгновением сердце моё бьётся всё медленнее.
А потом он нежно взял мою руку, и поднёс её к губам, как и вчерашним вечером. И, как в прошлый раз, кровь моя забурлила в жилах от этого невинного, но нежного поцелуя. Он улыбнулся, будто догадавшись о том, как подействовала на меня его ласка, и сказал тихо и проникновенно:
– В таком случае, жду вас во дворе через полчаса, – спрятав очередную улыбку, он добавил. – Только, пожалуйста, оденьтесь! Мне чертовски сложно держать себя в руках, когда вы в таком виде!
С этой фразой он и откланялся, оставив меня одну, беззвучно смеяться над его прощальными словами и моим собственным бесстыдством. И, знаете что? Давненько я так не веселилась!
XIV
Прежде никогда мне не доводилось позировать художникам. Даже как-то удивительно, при всей моей любви к живописи, но нет, увы, не доводилось. И на деле занятие это оказалось до невозможного утомительным. Сидеть нужно было без движений, в той позе, в какую меня усадили изначально, и, самое главное, держать правильный наклон головы. Минут через десять этого мучения у меня начала ныть шея, и я не имела ни малейшего представления, как продержаться до конца этой маленькой пытки.
Меня спас Тео. Его появление стало неожиданным, но приятным – я получила небольшую возможность отвлечься, и обернулась к нему с улыбкой на лице.
– Жозефина, бог мой, ну что за наказание! – тут же простонал Габриель, состроив страдальческую гримасу. – С вами совершенно невозможно иметь дело! Тео, ну что тебе стоило заглянуть часом позже?
Тео рассмеялся и попросил извинения, заверив, что вовсе не хотел нам мешать. Он всего лишь искал своего друга, мсье Ватрушкина, и надеялся найти его в одной из гостевых комнат, вот только поиски успехом не увенчались. Габриель с демонстративным негодованием покачал головой, но я-то видела, что глаза его улыбались. Вздохнув с видом мученицы, я постаралась принять прежнюю позу, но Гранье мои попытки не вдохновили.
– Выше, выше подбородок! – Отчитал меня он. Затем потряс головой, комментируя таким образом мою полнейшую безнадёжность. – О, господи боже, нет, не так!
Затем он подошёл вплотную, наклонился ко мне, и, взяв меня за подбородок, осторожно развернул влево – так, чтобы свет из окна падал на моё лицо. Знаете, что? Не думаю, чтобы в этом была действительно такая большая необходимость – я и так сидела на свету, и эта пара миллиметров ничего не решала. Но – либо у Гранье, как у художника, был свой собственный взгляд на вещи, либо – что куда более вероятно – он просто хотел ещё раз ко мне прикоснуться. Я перехватила его взгляд, и заметила привычные озорные искорки в светло-зелёных глазах. Он улыбнулся и сказал назидательно:
– Сидите смирно, прошу вас!
И я поклялась себе, что не разочарую его, как бы тяжко мне ни было. В конце концов, мне приходилось терпеть вещи и пострашнее, чем пару часов полнейшей неподвижности.
К своему удивлению, минуты через полторы я обнаружила, что Тео никуда не ушёл. Он встал возле мольберта, что стоял в дальнем углу гостиной, и я с некоторым запозданием поняла, что это его мольберт и был.
– Вы, что, тоже рисуете?! – Ахнула я, приятно удивлённая этим открытием.
Русский паренёк улыбнулся, вытаскивая мольберт ближе к окну, а Гранье с обречённым видом простонал:
– Жозефина, не двигайтесь!
– Вы позволите, ведь правда? – С такой обезоруживающей простотой спросил Тео, что у меня, разумеется, не хватило духу отказать ему. – Правда, я не твою шедевры, как Габриель, мне больше по душе горные пейзажи, но… в вашем случае я счастлив буду сделать исключение. Вы… у вас… у вас очень интересное лицо. Хм.
– Боже, Тео, ты совершенно не умеешь делать девушкам комплементы! – Не глядя на русского, прокомментировал Гранье. – Хочешь, дам пару уроков? Например, так: «Жозефина – вы прекраснейшая из женщин!»
– Безусловно, именно это я и имел в виду, – немного смущённо ответил Тео.
– Жозефина, вы… вы самое удивительное и самое чудесное, что случалось со мною когда-либо!
– О!
– Жозефина, мне ещё никогда не доводилось встречать женщины, подобной вам, – тут Гранье понял, что увлёкся со своей игрой, и, подняв взгляд от своего мольберта, встретился с моими глазами, и сказал совершенно серьёзно: – Я очарован вами, и не знаю, что мне с этим делать!
По-моему, эта фраза предназначалась непосредственно мне, и к урокам для Тео отношения не имела никакого. Я загадочно улыбнулась Габриелю, а русский художник, так ни о чём и не догадавшись, поаплодировал Гранье и попросил не судить строго.
– Габриель урождённый француз, в нём от природы это заложено! – Смеясь, пояснил он. – А что я? Обычный сибирский парень из простой семьи. Я и девушек-то таких красивых отродясь не видел, так что простите мне моё невежество. Я иногда и впрямь теряюсь, и не знаю, что сказать.
В искренности своей он был просто очарователен! Но я обратила внимание не только на это, а, например, на вот эту его фразу: из простой семьи… Тео, милый Тео, «обычные парни из простой семьи» не отдыхают в таких местах, как отель «Коффин»! Какая-то здесь была тайна, но какая?
Одно известно точно: явно не Тео был возлюбленным Селины. И, скорее всего, к её смерти он отношения не имеет, ровно как и ко всем предыдущим убийствам. Это немного успокаивало, по правде говоря. Если бы этот скромняга оказался хладнокровным убийцей, разочарованию моему не было бы предела!
Убедив себя в том, что на счёт Тео волноваться не стоит, я стала бессовестно разглядывать Габриеля, пользуясь удачно представившимся случаем. В гостиной было жарко, несмотря на распахнутые окна, и он снял пиджак, оставшись в клетчатом тёмном жилете и белой рубашке. И до того ладно облегала она его мускулистые руки, широкие плечи и красивую грудь, что мне безудержно захотелось снять с него всё это прямо здесь и прямо сейчас. И кто знает, может, я и сделала бы это, не окажись рядом Тео? Не думаю, чтобы Гранье стал сопротивляться. По-моему, он уже и так держался с огромным трудом, находясь в моём обществе. Особенно после того, как увидел меня полуобнажённой, и, видимо, остался страшно доволен увиденным.
Я наблюдала за его уверенным движениями с полуулыбкой, которую всё никак не могла побороть, как ни старалась. Он нравился мне, и нравился не только как мужчина. Я не знаю, как лучше это описать. Он был… необычным. Помимо внешней красоты, было в нём что-то ещё, что-то загадочное, таинственное, что-то, словно магнитом притягивающее, заставляя всякий раз оборачиваться ему вслед. Вкупе с его навыками обольстителя, нетрудно представить, сколько женских сердец он уже разбил. Как раз когда я подумала об этом, Габриель почувствовал на себе мой пристальный взгляд, и, подняв голову, посмотрел на меня – так же пристально, внимательно, как тогда, на лестнице, в день нашей первой встречи. И я поняла, что стремительно теряю голову… Чего делать было ни в коем случае нельзя!
Жозефина, что с тобой? Ты же обещала себе никогда ни в кого не влюбляться! И ведь получалось, продержалась столько лет без малейшего намёка на нежные чувства, и тут – нате пожалуйста – эта крепкая оборона, годами воздвигаемая и доведённая до совершенства, готова была рухнуть от одного лишь только взгляда этого зеленоглазого красавца.
Нельзя, нельзя, Жозефина! Право, ты рехнулась, глупая девчонка! Совсем забыла, чем обычно заканчиваются такие истории! Что, в самом деле, забыла? Так это очень легко вспомнить, достаточно только посмотреть на уродливые шрамы на твоих запястьях! Я невольно коснулась своей руки, и сразу же ощутила бесконечный холод на сердце. Оно, такое горячее, и ещё пару секунд назад отчаянно бьющееся от избытка чувств, постепенно начало покрываться слоем льда. Толстым, непробиваемым слоем льда, растопить который не под силам никому, даже Габриелю.
«Никогда, – сказала я себе, чувствуя, как возвращается былая уверенность и рассудительность, – никогда и никому больше, ни за что на свете не открываться, не доверять, не влюбляться, не влюбляться, не влюбляться…»
Гранье, видимо, почувствовал перемену в моём настроении и слегка нахмурился. Но, так как сидела я по-прежнему без движений, говорить он ничего не стал, и продолжил свою работу с этой самой озадаченной морщинкой между бровей.
А я опять стала думать о нём, но на этот раз с присущим мне хладнокровием и рассудительностью. Он был, действительно, чудесным! И очень чутким, что меня несказанно удивило, ибо мне такие мужчины прежде не встречались. Чего стоила эта его затея вытащить меня на прогулку – он ведь и впрямь понимал, что я имею все шансы сойти с ума от волнений и безысходности, если останусь одна! Он не оставил меня с моим горем, а заботливо предложил своё общество, и делал всё, чтобы я не грустила, пока мы гуляли в парке.
Он сорвал для меня фиалку, что росли на одной из клумб мьсе Шустера, и преподнёс в качестве небольшого подарка, и, с милейшей улыбкой сам же закрепил этот маленький цветок в моих волосах. Он до сих пор оставался там, и я надеялась увидеть его и на портрете тоже.
А ещё он нежно держал мою руку, в течение всей нашей прогулки, и я забывала обо всём на свете, когда была с ним. Мы много разговаривали о живописи, пожалуй, слишком много, но, увы, я просто не знала, о чём ещё говорить. Габриель рассказывал о себе, о своём детстве, о своём старшем брате, о том, как впервые взялся за кисть – и слушать его было невероятно интересно, но, увы, я-то ему о своём прошлом рассказать не могла. Но, без сомнения, история о том, как я хладнокровно застрелила собственного мужа получилась бы весьма занимательной! И, наверное, Гранье не отказался бы услышать парочку леденящих душу подробностей. Но, право слово, не рассказывать же ему обо всём?! А он, благо, был слишком тактичен и слишком хорошо воспитан, чтобы спрашивать. Хотя, не сомневаюсь, ему было очень и очень любопытно, что же на самом деле произошло, и какую тайну хранит эта женщина-загадка, Жозефина Лавиолетт?
Наверное, это добавляло мне ещё большего шарма. Молодая вдова с тёмным прошлым, сокрытым под покровом таинственности – боже, да такой человек, как Гранье, не имел ни малейшего шанса остаться равнодушным к столь интересной персоне! Думаю, как и многие другие. Тот же Лассард – если и впрямь знал моего покойного мужа, о-о, не сомневаюсь, мне было чем его заинтересовать. Всех их.
Всех, кроме старого Гарденберга, которого мы встретили на прогулке. Этот был очарован Франсуазой, и не думал скрывать своей заинтересованности. Как обычно, он выгуливал своего тощего длинноногого пса, борзую с весьма подходящим именем Трой [18], который весьма заинтересовался Габриелем. Я обеспокоено сделала шаг назад, потому что всегда настороженно относилась к собакам, но Гранье ничуть не испугался. И, сев на корточки, принялся забавляться с ней, поглаживая это чудовище по загривку. Я с ужасом ждала, когда сей несуразный монстр откусит ему руку, или, быть может, даже голову, но ничего такого не произошло, а через пару секунд, Трой беззастенчиво повалил Габриеля в траву и принялся облизывать, под задорный смех самого Гранье и Гарденберга. И, пользуясь тем, что Габриель пока, вроде как, занят и не обращает на нас внимания, мсье Эрик спросил меня о Франсуазе – где же она, почему не гуляет с нами? Он был бы так рад её повидать! Я искренне ответила, что мы слегка повздорили, но по такому случаю я обязательно с нею помирюсь, и сразу после ужина уведу на прогулку… скажем… к озеру? Что думает мсье Гарденберг на счёт озера? О-о, озеро, чудесное место! Старый швейцарец намёк мой понял без лишних слов, и обещал быть там ровно в девять ноль-ноль. Ах, спасибо, дорогая мадам Лавиолетт! Ах, всегда пожалуйста, право слово, мне не сложно!
Вот только сомневалась я, что из этого что-то выйдет. Гарденберг, может, и сказочно богат, но жениться на бедной Франсуазе с двумя детьми явно не станет. А на роль любовника, я не сомневалась, у неё у самой имеются кандидаты куда моложе и перспективнее. Впрочем, что там она говорила про «двойную фору»? Может, ей сейчас как раз именно это и нужно, а?
Я ударилась в свои пошлые размышления, а мсье Гарденберг с улыбкой восхищался умением Габриеля Гранье к каждому отыскать подход. Вообще-то, говорил старый швейцарец, Трой плохо ладит с посторонними, особенно сейчас, когда он приболел, но вас, Габриель, он полюбил всем сердцем! Удивительный вы человек, в самом деле!
О, да, это очень верно подмечено. Сейчас, сидя на невысоком пуфике, напротив сразу двух мольбертов, я смотрела на Габриеля и вспоминала слова старого швейцарца. И думала с невыразимой тоской, что если бы я однажды осмелилась влюбиться, то выбрала бы именно такого человека, как Габриель Гранье.
XV
За ужином мадам Фальконе вновь была в ударе. Я бы сказала, что она превзошла саму себя, ошарашив всех нас очередным эпатажным заявлением о том, что знает, кто убийца.
– О господи, ну только не опять! – Простонал Габриель с видом мученика. Он, как и мы с Франсуазой, уже устал от этих бессмысленных разговоров, ровно как и от раболепного восхщения мадам Соколицы психопатом Февралем, которое та уже и не думала скрывать.
Блестя глазами, она воскликнула, широким жестом обведя всех собравшихся:
– И, между прочим, это действительно один из постояльцев отеля!
– Началось, – мрачно произнёс Арсен, и, укоризнно покачав головой, увлечённо занялся своим ужином. Мадам Фальконе, всё ещё сердитая на русского журналиста за то, что он не написал статью по её просьбе, демонстративно проигнорировала его слова, и продолжила:
– Более того, это не просто один из постояльцев «Коффина»… – Она понизила голос с претензией на загадочность, и, перегнувшись через стол, зловеще зашептала: – Он среди нас, здесь, сейчас, вот в эту самую минуту!
– В самом деле? – Лассард заинтересованно повернулся к ней. – И кто же это, по-вашему?
– А вы ещё не догадались? – Фальконе, похоже, доставляло невероятное удовольствие ломать эту дурную комедию. А я испытала ни с чем не сравнимое желание встать и уйти. Я даже салфетку отложила, будто и впрямь полагая, что мадам Соколица вот-вот назовёт моё имя. Благо, от поспешных действий меня удержал Габриель, вцепившись в моё запястье так, что я поморщилась от боли. Он, впрочем, тут же ослабил хватку, и бегло улыбнулся мне, а затем повернулся к мадам Фальконе.
– С вашей стороны весьма опрометчиво делать подобные заявления, если это действительно так, Виттория, – сказал он. – В таком случае, боюсь, вы станете следующей жертвой. Если, разумеется, прямо сейчас не назовёте его имя, чтобы полиция со спокойной душой могла арестовать его и предать правосудию!
Я, действительно, боялась, что Фальконе каким-то образом стало известно о моей связи с Иветтой Симонс и о шляпке с моими инициалами на месте, где была убита Селина Фишер. И если она сейчас укажет на меня, я вообще не представляю, что делать дальше. Поэтому я волновалась, и готова была убить Габриеля за то, что он потакал этим дурацким разговорам!
Но, скорее всего, Гранье нужно было поблагодарить. За то, что не дал мне уйти, за то, что силой удержал меня за столом – ведь, в самом деле, моё бегство выглядело бы подозрительным, и привлекло бы всеобщее внимание куда больше, чем глупая болтовня Соколицы.
– Я не буду называть его имя, – загадочно улыбаясь, итальянка покачала головой. – О, нет, вовсе нет, ведь тогда не будет никакой интриги!
– Разумеется, она ведь не знает его, и затеяла этот фарс исключительно ради того, чтобы привлечь к себе внимание… – Пробормотал доктор Эрикссон, но, как мне показалось, он выглядел разочарованным. Видимо, мадам Фальконе всё же удалось возбудить всеобщее любопытство, чего она и добивалась этими разговорами.
– Простите, Виттория, но с чего вы вообще взяли, что убийца среди нас? – Спросил её Томас Хэдин. О-о, я преклонялась перед этим человеком! Он был бесконечно умён, эрудирован, и вопросы всегда задавал такие точные… и говорил исключительно по делу, вот как сейчас.
– У меня есть доказательства! – Блестя влажными чёрными глазами, ответила мадам Соколица, покосившись при этом на Арсена. Русский журналист делал вид, что занят своим ужином, но сам в то же время внимательно слушал. – Да-да, доказательства!
– Виттория, чёрт возьми, если у вас действительно есть доказательства, вы обязаны были в первую очередь предоставить их полиции, комиссару Витгену! – Этот эмоциональный возглас зазвучал на весь салон, эхом звеня в незанавешенных оконных стёклах. Как думаете, кто автор?
Я сама удивилась до глубины души, узнав голос Франсуазы. За предыдущие два дня она преимущественно отмалчивалась, скромно опустив взгляд в свою тарелку, и ничего, кроме «здравствуйте» и «благодарю» не говорила вообще. А тут – столько ярости, столько страсти, да ещё и сквернословие! Неудивительно, что все взгляды в одночасье обратились к ней. Я ждала, что Франсуаза, верная своей привычке, покраснеет до корней волос, смутится и, попросив извинения, сбежит от всеобщего внимания, хлопнув дверью на прощанье.
Но моя подруга удивила всех, включая меня.
Без малейшего стеснения, глядя на мадам Фальконе как на насекомое, она продолжила с гневом:
– Они чуть было не арестовали невиновного, в то время как вы умышленно скрывали доказательства!
Фальконе смутилась, и, видимо, уже пожалела, что начала этот глупый разговор и выставила себя не с самой лучшей стороны. Тем более, Франсуазу горячо поддержали Томас Хэдин и Габриель Гранье. И Лассард, от которого вообще никто не ожидал такой пылкости.
– Мадам Морель права, – первым начал Томас Хэдин, – вы разве не знаете законов, Виттория? Сокрытие улик от полиции – это такое же преступление, и оно приравнивается к укрывательству преступника! Вас вполне могут привлечь за соучастие.
– Меня? – Возмутилась итальянка. – Меня-то за что? Не я же убила Селину Фишер!
– Вы должны немедленно рассказать о своих подозрениях комиссару, – сказал Габриель Гранье, пристально глядя на Соколицу. Видимо, он защищал меня, как и моя Франсуаза. – Нам, так и быть, можете ничего не рассказывать, но скажите хотя бы Витгену! Неужели вы не понимаете, что ваши показания могут спасти невиновного?
– А разве у них уже есть кто-то на подозрении? – Недоумённо спросила Соколица.
– Есть, и, поверьте, уж точно не тот, о ком думаете вы, – серьёзно ответил Габриель. Ах, милый Гранье, спасибо тебе! И тебе, Франсуаза, спаисбо! Но чего вы добиваетесь от этой женщины? Ничего она не знает, просто интересничает! Лассард, очевидно, умел читать мысли, потому что в следующую секунду сказал то же самое вслух:
– Ничего мадам Фальконе не известно, и никаких доказательств у неё нет! Она уже просто не знает, чем ещё привлечь к себе внимание!
Прозвучало грубовато, как раз в духе невоспитанного венгра, но Фальконе на него не обиделась.
– Думайте что хотите, Лассард, – отмахнулась она, – но здесь настолько всё очевидно, что, право, я не понимаю, почему никто кроме меня не догадался об этом раньше?!
Очевидно, она сказала?
Раз очевидно – стало быть, это Габриель Гранье! Едва ли не единственный француз во всём «Коффине», и уж точно единственный коренной парижанин, приехавший в отель аккурат в то же самое время, когда Февраль сбежал из Франции в Швейцарию!
Или, Арсен, раз уж мы заговорили об очевидном. Он не француз, но он работает на «Ревю паризьен», печатая свои статьи под чудесным псевдонимом Поль де Плюи. Что интересно, знаменитого на весь Париж Февраля тоже зовут (или звали) – Поль. И в столице нашей русский журналист по долгу службы бывал гораздо чаще, чем кто бы то ни было из собравшихся. И, между прочим, всегда оказывался в центре событий, когда полиция обнаруживала очередную жертву Февраля! Журналист, сами понимаете, и ни у кого это не вызвало подозрений, ни у единой живой души… Я перевела взгляд на Планшетова, и заметила, что он уже некоторое время ничего не ест, а просто хмуро смотрит в свою тарелку. Его поведение показалось мне каким-то странным.
Правда, в следующую секунду все мои версии разлетелись на осколки, когда мадам Соколица сказала:
– У меня есть доказательства связи Селины Фишер с одним из вас!
Я уже собралась, было, встать на защиту покойной Селины, но замерла, поражённая, когда в следующую секунду из-за стола рывком поднялся Ватрушкин. И, с негодованием посмотрев на Фальконе, сказал:
– Простите, у меня от ваших разговоров пропал аппетит! – И, с грохотом задвинув за собой стул, вышел из салона, хлопнув дверью так, что задрожали стёкла. Мы все дружно посмотрели ему вслед, а затем я перевела полный недоумения взгляд на Габриеля.
– Что, неужели он? – Тихонько спросил меня Гранье, а я еле заметно пожала плечами, вспоминая свои рассуждения на счёт обладателя запонки. Ватрушкин мог быть им вполне, но…
«Очевидно», сказала Фальконе? На этого увальня я подумала бы в последнюю очередь, если бы меня прямо сейчас попросили указать на потенциального маньяка-убийцу! Господи, эта говорливая итальянка меня совсем запутала!
Я вдруг вспомнила о том, что собралась заступиться за Селину, но моим оправдательным речам помешал молодой Гринберг:
– А с чего вы взяли, что убийца Селины Фишер и её кавалер – один и тот же человек? – Спросил он у Фальконе.
– А разве это не очевидно? – Снова повторила она это глупое слово.
Очевидно, очевидно! Да не бывает так в жизни, она, что, не читала Конана Дойля? Ах, да, она же у нас предпочитает научные труды Фрейда!
– Не очевидно, – сказала я с усмешкой. – Полиция даже не уверена, что убийца – мужчина, а вы сразу кинулись обвинять возлюбленного Селины Фишер во всех смертных грехах!
– Что?! Февраль – женщина?! – Фальконе расхохоталась, причём совершенно искренне, а затем, резко оборвав свой смех, сказала мне: – Милочка, это вздор!
Скажи это Витгену, «милочка»! А потом вместе с тобой посмеёмся над его реакцией.
– Насколько я поняла, они пока ещё ни в чём не уверены, – поддержала меня Нана Хэдин. – И мне они задавали наводящие вопросы, у меня в один момент сложилось мнение, что комиссар и меня в чём-то подозревает…
– И, собственно, раз уж на то пошло, мадам Фальконе, а где вы сами были в промежутке с половины первого до половины третьего? – С насмешкой спросил Габриель Гранье. Видимо, ему не терпелось отомстить Соколице за то, что я страдала по её вине.
– Я… что? – Ахнула Фальконе, прижав руку к груди.
– Мне вот, например, тоже интересно! – Лассард энергично закивал облысевшей головой. – Этот тип, комиссар Витген, сказал, что убийство произошло с половины первого до половины третьего, а все мы в это время были на обеде. Все, кроме господина жунралиста, господина Гринберга, и… вас.
Я едва ли не рассмеялась, потому что Лассард точно так же доверительно понизил голос и вытаращил глаза, подражая манерам самой Фальконе. Получилось очень похоже! Ему бы ещё парик из чёрных кудрей на голову – и я бы с трудом отличила, где настоящая Соколица, а где её подражатель!
– Со мной всё просто, – поспешно ответил Арсен, хотя спрашивали не его, и, видимо, кроме меня никому вообще не пришло в голову его подозревать. – Я ездил в Берн, на телеграф, мне нужно было связаться с издателями в «Ревю паризьен», чтобы отослать им пару статей.
Никто и не думал в нём усомниться, право. Похоже, и впрямь одна я считала странным то, что русский журналист имел поистине пугающую осведомлённость о Феврале и его жертвах и бывал в Париже в то же время, что и знаменитый маньяк. И в Берне оказался – подумать только! – ровно тогда, когда была убита Селина Фишер!
Но, как бы там ни было, ему не единого вопроса больше не задали. Разве что, Габриель посмотрел на него как-то странно, и Арсен этот взгляд его прекрасно видел, но предпочёл не заметить, демонстративно отвернувшись.
– А где вы были, дружище? – Спросил он у Гринберга.
Еврейчик вздрогнул, напрягся, и окинул всех нас затравленным взглядом.
– Господа, вы, что же это, подозреваете меня? – Он нервно провёл рукой по прилизанной чёрной шевелюре, и остановил свой взгляд почему-то на Габриеле. Я поняла, что это был немой крик о помощи, и Гранье на него, конечно, отозвался.
– Ни в коем случае, Марк! – вот как, оказывается, его зовут! – Никто тебя не подозревает, разумеется, нет! И вообще, это глупый и бессмысленный разговор, мадам Фальконе, право, неужели нельзя говорить о чём-то другом?
– О живописи, например, – с улыбкой произнёс Тео. Я улыбнулась ему и кивнула, выражая своё согласие.
– Я был в своей комнате, если вам так интересно, – пробормотал Гринберг, съёжившись и опустив взгляд.
– Марк, вы не обязаны отчитываться, и уж тем более перед нами, мы не полиция, в конце концов! – Сказала ему Нана, и, в знак утешения, погладила его по плечу. Еврейчик посмотрел на неё с благодарностью, а затем оба они повернулись к Соколице, сидевшей напротив. Мадам Фальконе осталась последней, кто никак не оправдал своего отсутствия за обедом, и в салоне повисла напряжённая тишина.
Нарушил её, разумеется, Гранье.
– Ну? – Даже не спросил, а потребовал он, повернувшись к Фальконе.
– Что? – Она сделала вид, что не поняла.
– А вы где были, мадам Фальконе?
– Вы, должно быть, шутите, Габриель? – С подозрением спросила она.
– Нет. Мне, действительно, интересно, где вы были в момент убийства Селины Фишер! И, я думаю, я не единственный из присутствующих здесь, кто хотел бы это знать.
Всё, разумеется, повернулись к ней, будто требуя немедленного ответа. Даже Томас, изначально не одобряющий всех этих разговоров – и тот пытливо изогнул бровь, глядя на итальянку, застигнутую врасплох.
– Господа, это наглость! – Резюмировала она. И, сложив салфетку, встала из-за стола. – У вас хватило совести высказывать мне свои подозрения? А вам, Гранье, вообще должно быть стыдно! Вы и вовсе единственный француз среди здесь присутствующих! Не считая Франсуазы и мадам Лавиолетт, но ведь никому в голову не пришло бы подозревать этих милейших женщин? – Тут она бросила на меня такой пронзительный взгляд, что у меня появилось даже не впечатление, а самая что ни на есть твёрдая уверенность, что весь этот спектакль изначально затевался ради одной меня. Боже, неужели она знала?
– Вы так и не сказали, где вы были, Виттория, – напомнил ей Габриель, проигнорировав неприкрытое обвинение в свой адрес.
– И не скажу, чёрт возьми! Это моё личное дело! – Упрямо подняв подбородок, она обернулась на Планшетова, послала ему какой-то странный взгляд, и, приподняв юбки, едва ли не бегом бросилась прочь из салона. В спешке она обронила свой оранжевый шарфик, но даже не заметила этого, и возвращаться по такому ничтожному поводу явно не собиралась. Ей нужно было уйти красиво, чтобы закончить своё представление именно на такой, чуть трагичной ноте. Мсье Эрик Гарденберг, сидевший ближе всех к выходу, поднял упавший шарфик, и повесил на свой стул, а затем укоризненно покачал головой, комментируя никуда не годное поведение итальянки.
– С возрастом все женщины становятся такими, как она, – философски произнёс знаток женской натуры, доктор Эрикссон. – Из кожи вон лезут, чтобы привлечь к себе мужское внимание, вот и выдумывают всяческие небылицы!
Небылицы ли? Почему тогда Ватрушкин ушёл? Он-то, с его страстью к хорошей еде, ни за что не оставил бы трапезу без серьёзной на то причины! И в то, что у парня, действительно, «пропал аппетит» из-за рассказов Фальконе верилось с трудом. Не такой уж и сентиментальный он был! Неужто и впрямь он?
– Если хотите знать моё мнение, – продолжил тем временем Эрикссон, – то самый подходящий кандидат на роль убийцы – это… (опять эта пауза, как в дешёвой и дрянной театральной постановке) Это вы, Лассард!
– Что?! – Несчастный венгр аж поперхнулся, и Тео пришлось похлопать его по спине, чтобы он не умер прямо за столом.
– А что, плохая кандидатура, да? – Сделав вид, что сомневается, спросил доктор, будто и не обращая внимания на то, как его жена громким шёпотом умоляет его не продолжать этих возмутительных речей.
– Я?! – Откашлявшись, Лассард возмущённо поднял голову и повернулся к доктору. – Эрикссон, да вы в своём уме?!
– Вы были в Париже во время всех убийств. Станете отрицать?
– Не стану! Был! Ровно как и ещё с полмиллиона человек вместе со мной!
– Да, но весь Париж не переехал сюда, следом за вами, и не гостил в «Коффине» в тот момент, пока на другом берегу реки убивали Селину Фишер!
Справедливо, подумала я. И посмотрела на Лассарда, будто бы ожидая его объяснений. А он только демонстрировал возмущение, и больше ничего. Пыхтел, краснел, сжимал кулаки, но упрямо не знал, что сказать в своё оправдание. Затем придумал:
– У меня не было никаких отношений с горничной! – Он выдал это с таким победным видом, что добрая половина публики облегчённо перевела дух. Особенно женская половина, видимо, всерьёз испугавшаяся, что Лассард и впрямь может оказаться убийцей. Но это они рано радовались.
– Гринберг, кажется, уже говорил, что не обязательно возлюбленный Селины Фишер и есть её убийца, – заметил Тео. – Вероятно, она встречалась с любимым в той старой хижине, а когда возвращалась назад, убийца подстерёг её на пути к отелю!
– Её тело нашли с другой стороны реки, – сказала я еле слышно. Не думаю, что собиралась делиться своими догадками с остальными, это получилось как-то само собой. Благо, услышал только Габриель, сидевший рядом. Он повернулся ко мне, чуть нахмурившись, а я продолжила всё так же тихо: – Её нашли у моста, с той стороны, не с этой. Она не возвращалась к отелю! Она, наоборот, шла в другую сторону, в лес! Господи, зачем?
Перед этим оставив шляпку в домике, стало быть, она всё же заходила внутрь, и встретилась там со своим возлюбленным. Запонка свидетельствует о том, что Селина была там не одна! Но зачем она ушла, и, главное – куда она направлялась? Да ещё позабыв про шляпку… вот что подозрительно! Витген был совершенно прав, когда язвил по этому поводу: я уверяю вас, редкая женщина не заметит, что вышла на улицу с непокрытой головой! Это просто смешно, выйти без шляпки – это то же самое, что выйти без туфель или без юбки! Стало быть, у неё была серьёзная причина, чтобы поспешно покинуть домик у реки, обо всём на свете позабыв. Она торопилась куда-то, но куда, бог ты мой? Изначально я подумала, что мы спугнули двоих влюблённых своим появлением, и они поспешили сбежать, пока мы их не застукали – поэтому Селина и оставила свою шляпку, позабыв о ней впопыхах. Но эта догадка была неверна: к тому времени, как Томас привёл нас к домику у реки, Селина была уже мертва несколько часов.
Стало быть, причина не в этом. Но куда же, в таком случае, она так спешила? Надо будет непременно узнать, что находится с той стороны реки! Деревня? Чей-то дом? Или, быть может, ещё один вход в парк, где она увидела кого-то из знакомых, кто мог доложить о ней Грандеку? Господи, это же может быть важным! Нужно непременно выяснить… но как? Идти туда самой? Боюсь, что если люди Витгена заметят меня, слоняющуюся неподалёку от места преступления, мне не поздоровится. Решено – спрошу Томаса! Вот у кого наверняка есть ответы на все вопросы! Перехвачу его после ужина, подгадаю момент, когда нас никто не будет слышать, и непременно спрошу, и тогда…
Я так глубоко погрузилась в свои размышления, что позабыла, где нахожусь, и опомнилась лишь когда услышала взрыв оглушительного хохота. За то время, что я размышляла, Лассард успел перекинуть подозрения с себя на Тео, а тот ответил с улыбкой, что вынужден покаяться – о, да, он и есть Февраль! Разве по его произношению (отвратительному, надо сказать) не видно, что он – чистокровный француз? Над этим-то все и посмеялись, а громче всех смеялся сам Тео.
– Раз уж вы вывели меня на чистую воду, спешу наградить вас за сообразительность ценной информацией! Следующей моей жертвой будет мадам Фальконе!
– Бог ты мой, давно пора уже… – Не удержался от сарказма Эрикссон, а Лассард от всей души принялся аплодировать.
– Ведь если бы не она, – продолжил Тео, – никто никогда бы не догадался…! – Тут и он выпучил глаза, и принялся подражать интонациям мадам Соколицы. Публика весело рассмеялась, все, кроме Арсения и Гарденберга. У первого с Фальконе были какие-то свои счёты, а старый швейцарец был, видимо, слишком хорошо воспитан для таких грубых шуток.
Он и спросил у Тео:
– А вы вообще-то хоть раз бывали в Париже?
– Нет, – смеясь, ответил Тео. – Никогда не бывал!
– Стало быть, вы не Февраль, – резюмировал Лассард. – А жаль! Я бы не расстроился, если бы кто-нибудь угомонил эту болтливую итальянку!
– Лассард, не стыдно ли вам? – Укорил его Гарденберг, а Тео спросил:
– А с чего вы взяли, что я не солгал вам?
Вопрос его прозвучал до того зловеще, что все разом позабыли про смех. Арсен хмуро посмотрел на своего товарища, и даже всегда весёлый Габриель теперь глядел на Тео с недоверием.
– Прошу вас, перестаньте, вы пугаете нас, – от имени всех собравшихся сказала Нана. У неё был до того взволнованный голос, что Томас поспешил накрыть её руку своей, в жесте поддержки, заботы и любви. Можно было не сомневаться – кто бы ни был убийцей, Томас Хэдин не даст причинить вред своей Нане. Хоть за неё-то я была спокойна!
– Тео, в самом деле, перестань, – устало попросил Арсен.
Тео не перестал. Он поднялся из-за стола, оглядев всех нас хищным взглядом, а затем сфокусировался на мне, будто бросал мне личный вызов.
– А после мадам Фальконе я всерьёз занялся бы мадам Лавиолетт, – сказал он, и, знаете, это было уже не смешно.
– Боюсь, об эту женщину вы обломаете зубы, господин художник, – с усмешкой сказал ему Лассард. И эта фраза ещё раз подчёркивала, что он знал о моём прошлом, иначе не говорил бы с такой уверенностью.
– О, да, Тео, на твоём месте и я бы не рисковал связываться с мадам Жозефиной, потому что для начала тебе пришлось бы иметь дело со мной! – Благородно сказал Арсен, и я не сдержала улыбки.
– И со мной, – добавил Гранье, не стесняясь ни в коей мере присутствия Габриэллы и её матери.
– Благодарю за тёплые слова, господа, но, уверяю вас, я и сама смогу за себя постоять, – ответила я, глядя, однако, исключительно на Тео, прямо в его глаза. А он весело улыбнулся мне в ответ, так же легко и непринуждённо, как сегодня, в гостиной, когда рисовал мой портрет.
– И всё же, я бы рискнул! – Сказал он, а затем, похлопав Арсена по плечу, вышел из салона, оставив нас в смятении.
– Отвратительнейшая попытка флирта, просто ужасная! – Прокомментировал Габриель, глядя ему вслед. Затем, повернувшись ко мне, улыбнулся уголками губ. – И ничего-то он для себя не уяснил из моих сегодняшних уроков! Боже, он конченый человек. И, разумеется, он не убийца, не переживайте на его счёт. А даже если и так, мы с Арсеном не дадим вас в обиду.
Я-то, конечно, не стала говорить, что как раз их с Арсеном я боялась куда больше, нежели милашку Тео! Арсен имел все шансы оказаться убийцей, а Габриель действовал на меня так, что я, признаться, и впрямь начинала бояться. Саму себя бояться, собственных чувств, и того, что однажды не совладаю с ними.
Вот тогда-то и случится катастрофа, и она будет гораздо страшнее, чем встреча с маньяком-убийцей. Отчего-то я в этом не сомневалась.
XVI
Встретиться с Томасом у меня не получилось. Как на грех, именно этим вечером он не вышел на прогулку, оставшись в номере вместе с женой. У Наны испортилось настроение после наших «чудесных» разговров за ужином, и он решил не оставлять её одну.
Зато я встретилась с Грандеком, и это была удача. Вернее, нет, не так: это Франсуаза встретилась с Грандеком, а я скромно стояла в сторонке, как обычно, когда эти двое разговаривали в моём присутствии. На этот раз Франсуаза была тактичной и не вела долгих бесед, а может, дело было и не в тактичности вовсе, а в том, что встреча эта произошла в фойе, на выходе из ресторана. То есть – точно напротив стойки, где по-прежнему стоял Фриц (или Ганс?) Фессельбаум, и с неодобрением глядел в нашу сторону. Франсуаза решила, что чересчур любезничать с управляющим на глазах у своего дорогого Ганса (или Фрица?) не стоит, за что ей большое спасибо – таким образом, я улучила момент и спросила Грандека о комиссаре. Он, действительно, уехал ещё с утра, закончив с допросом, а когда вернётся не сказал.
– Вряд ли сегодня, – с сожалением изрёк Грандек, не иначе решив, что я просто изнываю от желания поскорее увидеть милейшего Витгена вновь. – На ночь глядя – для чего бы? Они увезли тело несчастной Селины в город, и приедут не раньше завтрашнего дня. Уже не одни, а в компании с комиссаром из Парижа.
«Чтоб им провалиться, обоим», подумала я с ненавистью, и, поблагодарив Грандека, отправилась наверх, уводя Франсуазу за собой. На ступенях я заметила, что подруга моя всё же обернулась и послала улыбку Гансу Фессельбауму, и тот ответил ей благодарственным кивком.
М-м, интересненько!
– Мы сегодня непременно должны прогуляться у озера, – сказала ей я. – Глядишь, второго такого шанса уже не будет! Ну, у меня-то уж точно, хм.
– Опять ты за старое?! – С подозрением спросила Франсуаза, но я поспешила убедить её в моём исключительно оптимистичном настрое.
– Вовсе нет! Прости, я по привычке… Ну так что? Пройдёмся? Как ты на это смотришь? Или так и будешь сидеть в четырёх стенах своей комнаты?
– Я нашла такую интересную книгу в библиотеке… Ты хотя бы видела, какая чудесная коллекция книг у Шустера?
– У него всё здесь чудесное, чёрт возьми! Мне хватило одних картин, и этой дивной мебели… Будь я хуже воспитана – непременно захватила что-нибудь с собой! А что? Сунула бы в багаж антикварное пресс-папье, и поминай как звали! – Я расхохоталась, но живо оборвала собственный смех, подумав о том, что увезти дорогое пресс-папье я смогу, разве что, в парижскую тюрьму, но уж никак не дальше. Эта мысль повергла меня в уныние, и продолжила я уже совсем другим голосом: – Но, я прошу тебя, оставь книги на завтра, Франсуаза! Не сиди в номере! Давай гулять, веселиться, развлекаться! Не за этим ли мы сюда приехали? Особенно ты.
– Особенно я, – вяло повторила она.
– Да! Тебе нужно больше времени проводить на воздухе! Вот что я придумала: если тебе так понравилась книга, возьми её с собой! Не сейчас, конечно, потому что сейчас уже слишком темно для чтения – но завтра! Сиди и читай себе, сколько влезет, на скамейке в парке!
– Но там же люди, Жозефина, там столько людей… – Простонала моя подруга, а я, обняв её, рассмеялась и сказала назидательно:
– Зато это прекрасный способ завести новые знакомства, или укрепить старые!
– О чём это ты?
Я поняла, что едва ли не проговорилась, и поспешила заверить Франсуазу, что не имела в виду никого конкретного. И, велев ей ждать меня у озера, ушла к себе в номер под предлогом сменить платье на прогулочное и взять накидку.
Я-то, разумеется, ни на какое озеро идти не собиралась. К чему мне? Портить веселье Гарденбергу и Франсуазе? Она, между прочим, обожала собак, в отличие от меня! И я не сомневалась, что они со старым швейцарцем неплохо поладят!
Поэтому, войдя к себе в номер, я прикрыла дверь, и, встав у зеркала, стала вынимать тяжёлые рубиновые серьги из ушей. Глядя на своё отражение, я думала о том, что, в сущности, ещё не так стара, как говорит без конца Франсуаза, и достаточно красива для того, чтобы попробовать начать новую жизнь. Наверное.
То-то и нужно для этого, что переступить через какую-то часть себя, избавиться от этого страха быть в очередной раз преданной и всеми брошенной. И перестать ненавидеть весь мир, это как минимум! Я невесело улыбнулась, и, щёлкнув английским замком, вынула вторую серьгу, и положила её на стол.
Перестать ненавидеть отца? Рене? Иветту? И… его, в первую очередь? Того, кто сломал мою жизнь, превратив меня из семнадцатилетней девушки в дряхлую старуху? Перестать ненавидеть их? Боже, да никогда! Я жила этой ненавистью, я упивалась ею, она давала мне сил!
И вряд ли когда-нибудь это изменится. Слишком плохая я для того, чтобы что-то в себе менять, чтобы стремиться к совершенству. Ради чего? Ради кого? Ради Габриеля, сумевшего расшевелить что-то в моём сердце? Или, быть может, ради ребёнка, которого у меня никогда не будет? Я вновь усмехнулась.
Нет.
Никакого «начать сначала», никакого второго замужества. Первого мне хватило с лихвой, я ещё долго буду помнить тот кошмар, через который мне довелось пройти по воле моего отца и Рене.
Отныне ничего, кроме лёгкого флирта и ни к чему не обязывающих связей. Раньше, будучи семнадцатилетней наивной дурочкой, я считала, что это грязно и постыдно. Мечтала о большой любви, чистой и светлой, и о собственном доме, полным детского смеха и счастья… А со временем поняла, что это всё сказки. Мало кому повезёт достичь этой идиллии. Большинство живут по-другому, и по-другому, оказывается, тоже можно! И ничего ужасного в этом нет. Попробуйте – и убедитесь сами.
Наверное, за это нас, французов, считают развратными. Очень зря. Мы просто куда более открытые и не делаем тайны из своих пристрастий, в то время как весь мир, погрязший в том же разврате, изо всех сил лицемерно скрывает свою истинную сущность. Поэтому они хорошие, благородные, а мы – распутные и развязные. Как бы не так!
Пока я пускалась в философские размышления о морали, в дверь мою негромко постучали. Кто это, в такой час? Закончив вытаскивать шпильки из волос, я тряхнула освобождёнными локонами, и пошла открывать.
Габриэлла, вот это сюрприз!
– Мадемуазель Вермаллен? – Я, признаться, всё ещё не верила своим глазам, но на всякий случай отошла, чтобы дать ей пройти.
– Мы можем поговорить, мадам Лавиолетт? – Спросила она тихонько.
Я заметила, что она нервничает, и нервничает сильно. С чего бы это? Закрыв за ней дверь, я жестом пригласила мою гостью присаживаться на одно из чиппендейловских кресел, обтянутых белой кожей, а сама села на пуфик возле трельяжа, спиной к зеркалу.
– Что-то случилось? – Как можно заботливее поинтересовалась я, стараясь не пугать её ещё больше. Пускай девочка видит, что я ничуть не сержусь на неё за поздний визит, и вовсе не собираюсь её съесть. Нет, в самом деле, из-за чего так переживать?!
– Я смею просить вас оставить в покое моего Габриеля.
А-а, теперь понятно из-за чего! Я подняла бровь, надеясь этим жестом выразить некоторое недоумение, непонимание, но Габриэлла испугалась этого ещё больше. Стянув перчатку с руки, она принялась нервно мять и комкать её, будто черпая силы из этого бессмысленного занятия.
– Я понимаю, это звучит невежливо, но, мадам Лавиолетт, прошу вас, войдите в моё положение, я… я люблю его!
– Это же прекрасно! – Совершенно искренне сказала я. Любовь, это, действительно, прекрасно, и не ищите иронии в моих словах! В кои-то веки вы её не отыщите. – Но, простите, причём здесь я?
– Ах, перестаньте, вы же всё понимаете! – Простонала мадемаузель Вермаллен, взмахнув рукой. – Он увлечён вами! Вы не могли этого не заметить! Даже я заметила, хотя я иногда бываю так слепа… Но то, как он смотрит на вас… он дышит вами! Он пылинки готов сдувать с вашего платья, и ему за счастье каждая секунда в вашем обществе! Он бы с радостью стал вашим рабом, если бы вы его об этом попросили!
Серьёзно? Хм.
– А эта затея с портретом? Господи, сколько Фальконе гонялась за ним, с просьбой написать её портрет, как умоляла, как упрашивала! На что он неизменно отвечал, что он рисует скорее пейзажи, а не портреты, и согласился только когда та предложила ему баснословную сумму! А я? Мне-то он и вовсе отказал! Не стал, упёрся, и ни в какую! А вас, как мне сказали, он сам попросил позировать? Боже, неужели вы не понимаете, что это означает?!
– Вы сгущаете краски, мадемуазель Вермаллен, – ровным голосом сказала я. – Это не означает ровным счётом ничего. Господин Теодор, художник из России, так же рисовал мой портрет, если вас это успокоит. И это ни в коем случае не подразумевает никакой тайной страсти между нами.
– Значит, и он тоже? – с обречённым видом спросила Габриэлла, как будто и не услышав окончания моей фразы. – Господи, неудивительно, при вашей-то внешности!
– Моей внешности? – Я рассмеялась предельно искренне. – Габриэлла, милая моя, давно ли вы смотрелись в зеркало? Вы само совершенство, говорю вам от всей души, без прикрас. Я мало встречала девушек, кто мог бы поспорить с вами в этой красоте. А ещё вы юны и очаровательны. И, я уверяю вас, я вам не соперница!
– Господи, господи… – Застонала она, взявшись за голову. – Ну почему вы такая милая? Ах, что вам стоило быть такой же, как эта противная Фальконе? Мне было бы гораздо легче говорить вам эти слова! А вы… слушаете эти мои ревнивые речи, успокаиваете меня… Ах, прошу, накричите на меня и прогоните прочь! Сделайте хоть что-нибудь, чтобы я смогла вас ненавидеть!
Приехали. Я удручённо вздохнула, и, встав со своего места, пересела к ней, опустившись на подлокотник её кресла. И, взяв её за плечи, развернула к себе.
– Послушайте, милая Габриэлла, я совсем не желаю с вами ссориться. Нам ни к чему быть врагами, и ваши претензии ко мне… слегка необоснованны, вот что, – с трудом мне удалось придумать нужные фразы, чтобы попытаться утешить её.
Утешить. Боже, какая ирония! О, да, мадемуазель Вермаллен, я с радостью вернула бы вам ваши же слова – ну почему вы такая милая? Зачем эта вежливость, к чему эти искренние мольбы, крики души, просьбы понять и войти в положение?
Если бы ты была такой же стервой, как Иветта Симонс, мне было бы гораздо проще! О-о, намного проще! И совсем по иному сценарию пошёл бы наш разговор. Я сама бы развязала войну за Габриеля, и выиграла бы её, без сомнения, если бы только ты начала по-другому, если бы только ты принялась угрожать мне, хамить или пытаться меня шантажировать! Не так уж и нужен мне был сам Гранье, но, клянусь, я бы соблазнила его из одного лишь принципа, назло тебе! Если бы только ты была такой же, как Иветта…
Но ты, милая Габриэлла, с этими слезами отчаяния в глазах, оказалась такой несчастной, что у меня язык не повернулся ответить тебе резкостью. С кем я собиралась сражаться? С ребёнком? С вот этим очаровательным невинным созданием, которое боялось меня до оторопи и даже не умело этого скрыть?
Боже, каким ничтожеством я почувствовала себя в тот момент!
Пришлось живо исправить ситуацию:
– Прошу, поверьте мне, дорогая, я не собираюсь мешать вашему счастью с господином Гранье! Я не увожу чужих мужчин, это низко. По себе знаю, каково это – чувствовать себя преданной, проигравшей коварной сопернице. Хорошего мало, и ваши страхи мне понятны. Тем более, если вы так его любите, а вы наверняка любите его очень сильно, раз не побоялись прийти ко мне.
– Да! – Всхлипнула она. – Очень люблю, мадам Лавиолетт! Моя матушка сказала, чтобы я выкинула из головы возможные разговоры с вами, она сказала, что такая как вы, не станет меня и слушать, и просто выставит за дверь, но я… я решила рискнуть! Он очень, очень мне дорог!
Такая, как я, да? Спасибо, мадам Вермаллен! Если что, я тоже не слишком-то высокого о вас мнения, так что наша неприязнь полностью взаимна!
– Я боюсь его потерять, понимаете? – Дрожащим голосом продолжила Габриэлла. – За день до вашего приезда он хотел о чём-то со мной поговорить. Я была уверена, что он собирался сделать мне предложение. А потом появились вы, и… Его словно подменили! Я спросила его, о чём он хотел поговорить в прошлый раз, а он сказал – ни о чём, так, пустяки… Он передумал, боже мой! Из-за вас, передумал! Мадам Лавиолетт, я так несчастна, что же мне делать?
Дурацкая какая-то ситуация, подумала я с усмешкой. Давай-давай, Жозефина, ну что же ты? Устроила свадьбу Франсуазе, так что же тебе мешает устроить будущее этой милой девочке? Подумаешь – именно с тем единственным человеком, которому удалось тебя пронять – да какая разница? Глядишь, так оно и лучше будет. Пускай он достанется ей. Пускай он достанется ей прежде, чем ты сама в него влюбишься!
– Я не претендую на его любовь, Габриэлла, – тихо сказала я. – Как мне вас в этом убедить?
Ответ, как выяснилось, у неё был готов заранее.
– Есть только один способ! Вам нужно уехать! Уехать из отеля, и тогда всё станет как раньше!
Определённо, у этой девочки всё было проще простого! Неужели и я была такой наивной в её годы?
– Габриэлла, я не могу уехать, – искренне сказала ей я. – Если вы забыли, вчера неподалёку от отеля произошло убийство, и комиссар Витген строго-настрого запретил мне покидать «Коффин» без его на то дозволения.
Это было преувеличение, ничего мне Витген не запрещал и запретить не мог в принципе, но я решила не объяснять Габриэлле всех нюансов своего непростого положения. Разумеется, я не могла уехать, чёрт возьми! Но меня и так скоро увезут отсюда в наручниках, так что эта малышка могла не волноваться.
– Но… как же… – Она поджала губы, и, спрятав лицо в ладонях, наконец-то разрыдалась. Всё к этому и шло, так что я была готова заранее. Обняв её, я тихо сказала:
– Хотите, чтобы я поговорила с ним? – Я невольно усмехнулась. – Представляю, как глупо это будет выглядеть, учитывая то, что он мне в любви не признавался и ни малейших намёков не делал! Но ради вас я готова, если вам так будет спокойнее. Я скажу ему, что между нами невозможно ничего, кроме дружбы. Или вас и это не устраивает? Хорошо. Ничего, кроме… соседства за обеденным столом! Габриэлла, умоляю, давайте хотя бы так, я очень не хочу пересаживаться – оставшееся свободное место находится рядом с мсье Лассардом, а он мне антипатичен, я бы не хотела сидеть с ним рядом.
Девушка рассмеялась сквозь слёзы, и обняла меня, уткнувшись в моё плечо. И вновь продолжила плакать, на этот раз от радости.
– Ах, мадам Лавиолетт, какая же вы хорошая и добрая! Всё то, что говорила о вас моя мать… это неправда! Я знала, что это неправда! Вы… вы оказались такой чуткой, способной на столь благородный поступок! Боже, я буду вам так благодарна, если вы… Ах, мадам Лавиолетт, прошу вас, простите меня, простите! Я такая глупая, и этот мой визит, он ведь невежлив, и… но я ведь люблю Габриеля! Я так сильно его люблю!
Если бы у меня было сердце, несомненно, оно разрывалось бы от боли в этот момент.
Но, спасибо Рене, сделавшему меня бессердечной. Я не почувствовала практически ничего, кроме лёгкого разочарования – на моём платье остались влажные пятна от её слёз.
– Извините меня ещё раз, – всхлипнув, сказала Габриэлла. Я улыбнулась ей так добродушно, как только могла, и услужливо протянула свой платок. Девушка с благодарностью приняла его, вытерла слёзы, и счастливо улыбнулась в ответ. – Вы просто чудо, мадам Лавиолетт, знали бы вы, как я вам благодарна!
Чудо. Я! Бо-оже, сколько людей с тобой бы поспорили, дорогая! Проводив Габриэллу, я закрыла за ней дверь, и, вернувшись к трельяжу, устало опустилась на мягкий пуфик. Я просидела без движения довольно долгое время – Габриель, намучившийся со мной сегодня, удивился бы до глубины души, если бы узнал, что я могу не шевелиться так долго.
Габриель…
«Боже, ну как меня угораздило?!», с раздражением на саму себя подумала я, и, повернувшись к зеркалу, стала порывистыми движениями причёсывать волосы. Иногда я делала себе больно, но не обращала на эту боль ни малейшего внимания, а всё продолжала и продолжала, до тех пор, пока не добилась желаемого результата. И вот, с распущенными гладкими волосами, я поднялась со своего места, и вышла на балкон. Мне нужен был свежий воздух, определённо. У меня вновь начала кружиться голова из-за всего этого.
Я встала у перил, и посмотрела вниз – прежде мне никогда не доводилось здесь бывать. Эта часть отеля выходила не на сад, как из кабинета Витгена, а как раз на горы и озеро, и вид был поистине очарователен. Заснеженные альпийские шпили тянулись ввысь, разрезая облака – белые, густые, похожие на вату. Кое-где они меняли цвет на светло-серый, а где-то и вовсе наливались лиловым. Похоже, завтра будет гроза.
Меня, впрочем, не должно это волновать – завтра приедет французская полиция, и в моей тюремной камере всегда будет сухо, какая бы погода не была снаружи. Боже, как тяжко, как тоскливо на душе! Я опустила взор от альпийских вершин вниз, к озеру, и заметила парочку, гуляющую на берегу. Разумеется, Гарденберг и Франсуаза! И его верный Трой, а как же без него? Моя подруга то и дело останавливалась, приседала и гладила это чудовище, а оно, похоже, отвечало на её ласки – во всяком случае, хвост его весело болтался туда-сюда, что на собачьем языке означает выражение полнейшего счастья и довольства жизнью, если я ничего не путаю.
– Жозефина? – Тихий, волнительный голос слева от меня заставил меня вздрогнуть.
Габриель?! Как он здесь оказался? Я с удивлением повернулась вправо, и поняла, что балкон в «Коффине» был проходной, огибая отель с четырёх сторон. Получается, отсюда можно было попасть в любую комнату, не выходя в коридор. Удобно, если хочешь поболтать с кем-нибудь с глазу на глаз. Романтично, если хочешь в тайне ото всех проникнуть в спальню к девушке. И, главное, практично – горничным гораздо удобнее попадать из одной комнаты в другую! В очередной раз я подумала, что у Шустера в отеле предусмотрена каждая мелочь! И это была моя последняя разумная мысль, потому что в следующую секунду Габриель поцеловал меня.
Понятия не имею, с чего он взял, что может вот так запросто это сделать! Однако всё моё праведное возмущение развеялось как дым, когда его губы прикоснулись к моим губам, а его рука легла на мою шею, блокируя малейшие попытки к сопротивлению.
И всё-таки я нашла в себе сил отстраниться. До того, как окончательно потеряю голову.
– Гранье, чёрт бы вас побрал, что вы себе позволяете? – Спросила я строго, не забыв сделать шаг назад. Ещё одна мера предосторожности, чтобы не наброситься на него самой, поддавшись зову плоти. – Что на вас нашло?
– Прости меня, – сказал он покаянно. И, встав у перил, вцепился в поручни, видимо, пытаясь удержать самого себя от дальнейших посягательств на мою честь. – Прости, я не имел намерения тебя оскорбить! Я просто не смог сдержаться, только и всего.
– Я совсем забыла, когда это мы перешли на «ты»? – Нахмурив брови, спросила я.
– Ах, Жозефина, перестань! – Простонал он, а затем развернулся, и, взяв меня за плечи, прижал к стене – так, чтобы я не смогла отвернуться. И посмотрел мне в глаза, тем самым взглядом, от которого у меня мурашки побежали по всему телу.
Я хотела его, боже мой, как я его хотела! А потом он сказал:
– Я люблю тебя, Жозефина!
– Господи, Габриель, перестаньте! Мы знакомы с вами всего два дня, какая любовь, о чём вы? И отпустите меня, ради всего святого, нас могут увидеть! – Я попыталась высвободиться, но он держал меня крепко. Синяки останутся, наверное. Кожа-то у меня была нежная!
– Не делай вид, что я тебе безразличен, – произнёс он, вновь изводя меня этим своим магнетическим взглядом, – я же всё прекрасно вижу и понимаю! Почему ты не хочешь сделать ответное признание, Жозефина?
– Гранье, вы сошли с ума, – резюмировала я, стараясь, чтобы голос не дрожал.
– И было от чего! Ты меня словно околдовала… и эти твои глаза… Боже, я ни у кого никогда не видел таких глаз… я словно потонул в них, и пропал… Жозефина, прошу, не мучай меня!
– Отпустите меня, Габриель, – я не могла больше смотреть на него, ибо самообладание моё начало давать сбой. Хороший такой сбой. Ещё секунда, и будет поздно. Поэтому я отвернулась, изо всех сил борясь с наваждением, и прикусила губу – думаю, этот соблазнительный жест был понят им неправильно. Он тихонько застонал, и спросил:
– Зачем ты так со мной? Тебе нравится надо мной издеваться?
– Габриель, я меньше всего на свете хотела бы издеваться над вами! – Искренне ответила я. – Прошу вас, отпустите меня и забудем об этом!
– Вот так, значит? – С подозрением спросил он. Я подумала, что смертельно обидела его, но Гранье сбегать в расстроенных чувствах не спешил, и выпускать меня из своих объятий тоже не торопился.
Определённо, передо мной был образец настоящего мужчины, готового идти до конца, невзирая на трудности.
Редчайший образец.
И я с удовольствием забрала бы его себе, и наслаждалась бы всеми преимуществами этой драгоценной находки, если бы минутами раньше не пообещала Габриэлле отступиться. Как только я вспомнила её полные слёз глаза, мне сразу же стало легче. Намного, намного легче.
И кровь больше не стучала в висках, странное тепло не разливалось более внизу живота, и сладострастное возбуждение вмиг прошло, развеялось как дым, будто его и не было вовсе.
– Я прошу прощенья, если дала вам какую-то надежду! – Уже куда более твёрдым голосом произнесла я. Затем усмехнулась. – И уж тем более мне жаль, если я показалась вам легко доступной. Впрочем, чего ещё ожидать от такой женщины, как я?
– Доступной?! Жозефина, о чём ты? – Он, похоже, и впрямь не понимал. Потом понял, мгновением позже. Сообразительный был парень, однако! – Ты, что, думаешь, у меня это невсерьёз, да?! – Тут он, кажется, взорвался. Никогда прежде мне не доводилось видеть его таким разгневанным. Я думала, он и не умеет сердиться, а однако! – Думаешь, я ради одной ночи с тобой всё это затеял? В таком случае, ты себя недооцениваешь, Жозефина! Одной ночи с тобой мне было бы мало. И двух, и десяти, и ста! Мне и целой жизни было бы мало.
Бог ты мой, как красиво он говорил! Никогда раньше я не слышала таких слов…
А, хотя нет, слышала. В самый первый раз. От человека, который потом жестоко меня предал. Помнится, он тоже говорил, что жизни без меня не смыслит, и так далее и так далее… Но у Гранье это получалось до того искренне, что глупая Жозефина всей душой хотела бы ему верить. Глядишь, и поверила бы, если бы не обещание, данное Габриэлле Вермаллен.
– С другой стороны, неудивительно, что ты так плохо обо мне подумала, – с усмешкой сказал Габриель. – Пришёл к тебе без спроса, нарушил твоё уединение, принялся целовать… О, да, распутный и бессовестный француз, что с него взять? Тем более, как ты верно заметила, мы знакомы всего два дня… Но мне этих двух дней достаточно, Жозефина! Я люблю тебя, и хочу, чтобы ты была моей, навсегда. Ты согласна выйти за меня замуж?
Я уже говорила вам, как бесконечно благодарна покойному Рене Бланшару? Тогда вынуждена повториться, и вновь поблагодарить его за то, что он раз и навсегда отучил меня чувствовать что-либо. Эмоции – зло.
Если бы не Рене, если бы не всё то, чему я научилась за долгие годы жизни с ним, я разрыдалась бы как последняя истеричка, когда Габриель Гранье сделал мне предложение.
Предложение, которое я всё равно не смогла бы принять.
Я бы поддалась – уж после такого-то, совершенно точно! – поддалась бы его чарам, поверила бы его сладким словам, обняла бы его и увлекла в свою спальню, бросила бы на постель и любила бы его до самого утра, позабыв обо всём на свете. И, вероятно, стала бы чуточку счастливее.
Но благодаря моему деспотичному супругу, почти все добрые чувства в моей душе сгорели дотла, умерли, исчезли, иссякли. Поэтому я вовсе не испытала никакого счастливого трепета, как любая девушка, получившая предложение руки и сердца от человека, к которому неравнодушна. И не перевернулась моя душа от чёрного отчаяния и тоски из-за обещания, данного Габриэлле Вермаллен.
Я, кажется, вообще никак не отреагировала.
Внешне – уж точно. Поэтому Гранье несказанно удивился, он ожидал, что я хоть что-нибудь да скажу.
– Жозефина? – Он легонько встряхнул меня, вновь заставив посмотреть на него. – Ты вообще-то слышала, что я сказал?
– Слышала, – отозвалась я. И сама удивилась, отчего вдруг так приглушённо прозвучал мой голос? Я тут изо всех сил старалась убедить в первую очередь саму себя, что меня ни в коей мере не тронули его слова, а тут, оказывается… Голос-то и не слушался! Ну и дела!
– И? – Продолжил Гранье, пытливо вглядываясь в моё лицо.
– Что?
– Это я тебя спрашиваю – что, чёрт подери? Почему ты молчишь?
– Отпусти меня, – еле слышно попросила я, наконец-то сказав ему «ты». И до того отчаянным, до того проникновенным был этот мой шёпот, что Габриель сдался. Руки его разжались как-то сами собой, и он растерянно посмотрел на меня, явно не ожидая такой реакции. Он даже спросил:
– Что с тобой?
– Ничего, – потирая плечи, нывшие после его железной хватки, я покачала головой. – Со мной всё хорошо. А ты иди к себе, пожалуйста. И не приходи ко мне больше.
– Что?! – Гранье с непониманием уставился на меня. – Жозефина, я тебя, право, не понимаю!
– А что здесь непонятного? Я отвечаю тебе отказом. Так яснее? – Я боролась с подступающим неприятным чувством отчаяния – в этот раз оно было каким-то болезненным. А ещё я нахмурилась, старательно изображая недовольство. Которого, по сути, и не было. Чему тут расстраиваться, когда мужчина, который тебе небезразличен, делает тебе предложение?
«Небезразличен», я сказала? Уже, кажется, во второй раз…
Ох, глупая Жозефина, какая глупая!
– Это я уже понял, – мрачно ответил Габриель. – Позволь узнать – почему?
– Потому что, чёрт возьми! – Воскликнула я. И поняла, что через пару секунд сорвусь, и буду уже не в состоянии внятно отвечать на его вопросы. Нужно было срочно отступать, срочно покидать поле боя!
– Это из-за того, что я беден? – Продолжил допытываться Гранье. На его взгляд, это была самая главная причина, но меня она лишь позабавила.
– Боже мой, что? Да какое это имеет значение! Скажем так: я не желаю объяснять тебе свои причины. Нет, и всё тут. Просто потому, что я так сказала.
– Ну, разумеется, дело в том, что я недостаточно для тебя богат! Я предвидел такую возможность. Жаль, что ты оказалась настолько мелочной.
– Я?! – Меня до того возмутило это предположение, что я позабыла о своём отчаянии на секунду. Поздно я поняла, что он говорил это нарочно, исключительно ради того, чтобы позлить меня – знал, негодяй, чем меня пронять!
– Что ж, неудивительно, – продолжил он. – Большинство женщин такие. Просто ты… ты показалась мне не такой, как все. Другой. Совсем другой. Видимо, я в тебе ошибся.
А, собственно, с чего это я вдруг его переубеждаю? Какая мне вообще разница, что он обо мне подумает?! Более того, это был отличный способ раз и навсегда прекратить с ним дальнейшие отношения.
Поэтому я кивнула ему.
– Выходит, ошибся! Мне жаль. Не хотела тебя разочаровывать! Прости, пожалуйста, Габриель! Видимо, тебе придётся поискать себе другую невесту – ту, которой наплевать на твоё социальное положение. И что-то мне подсказывает, что такая у тебя уже есть!
– Ах, вот как? – Недобро прищурившись, спросил он, пристально глядя на меня. А я ответила:
– Всего хорошего! – И, резко развернувшись, ушла к себе, наглухо закрыв за собой дверь, да ещё и занавесив её тяжёлыми бархатными шторами.
Я не могла больше его видеть.
Слишком велик был соблазн.
XVII
За завтраком Франсуаза со мной не разговаривала. Более того, она демонстративно игнорировала моё присутствие, делая вид, что не замечает меня и не слышит, когда я заботливо предлагаю ей клубничный джем для маковой булочки или побольше сливок в кофе. Это был её ответ на то, что вчера я так и не явилась к озеру, бессовестным образом сведя её с Гарденбергом. Теперь она надулась как мыльный пузырь и игнорировала мои попытки к ней подлизаться.
Но когда Габриель Гранье и Габриэлла Вермаллен объявили о своей помолвке, Франсуаза разом позабыла про свою обиду, и повернулась ко мне, изумлённо распахнув глаза. Не ожидала, видимо, такого поворота событий, хотя сама же говорила, что у старушки Жозефины нет ни малейших шансов перед юной красотой Габриэллы Вермаллен.
Зато меня это не удивило ничуть. И если Гранье думал таким образом меня задеть, то ничего, кроме моей снисходительной улыбки он не добился. Как мальчишка, право слово! Двадцать восемь лет за плечами, а ведёт себя как сущий ребёнок! Ну и кому он сделал хуже этим, господи боже?
Я укоризненно покачала головой, когда Франсуаза поглядела на меня, а вслух одна из первых поспешила выразить свои поздравления. Они прозвучали вполне искренне, уж я постаралась! Я не спала почти всю ночь, отрабатывая до мелочей своё поведение, и добилась безупречности во всём, не считая тёмных кругов под глазами. Но издержки бессонницы легко скрыла пудра, поэтому этим утром Жозефина была безупречна.
Судя по разочарованному виду Габриеля, он принял на веру мою игру, и впрямь подумав, что мне наплевать на него. Не такой реакции он от меня ждал, это точно. Но я умела удивлять!
И старшую Вермаллен, судя по всему, я тоже несказанно удивила. Она наверняка ждала, что я расстроюсь этой новости, а уж если бы я выбежала из салона в слезах – было бы совсем хорошо! Но никто же всерьёз не думал, что я окажусь настолько слабой, не так ли?
Поэтому я улыбалась, вела себя непринуждённо, и время от времени ловила на себе полные благодарности взгляды Габриэллы. Девушка не знала, куда деваться от всеобъемлящего счастья, свалившегося на неё так внезапно – и, видимо, уж точно не ожидала она, что наш с ней вчерашний разговор принесёт такие плоды! Она наверняка считала моей заслугой то, что Габриель наконец-то сделал ей предложение, но, с другой стороны, а так ли она ошибалась?
А что касается меня… я бы предпочла об этом не говорить и не думать. И старательно не обращала внимания на то, как переворачивается всё у меня внутри, когда я невольно смотрела на Габриеля…
Ничего. Переживу. В жизни моей случались вещи и похуже.
– Господи, я только сейчас заметил! А где же мадам Фальконе? – Голос Гринберга вернул меня к реальности, и мигом отрезвил. Я, признаться, за своими переживаниями тоже не обратила внимания на пустующее место мадам Соколицы, и не обратила бы, если бы Гринберг не указал нам на её отсутствие.
– О, нет, – простонала старшая Вермаллен.
– И Тео, между прочим, тоже нет! – Сказал Лассард, озадаченно покосившись на пустой стул.
Вспомнились вчерашние зловещие угрозы в адрес Фальконе, а так же вопрос Тео, заданный, вроде как невзначай: «А с чего вы взяли, что я не солгал вам?» После этих его слов всё пошло наперекосяк. Настроение за столом живо поменялось, кто-то начал затравленно оглядываться по сторонам, подозревая кого угодно, вплоть до своего ближайшего соседа, и самого Тео в том числе.
Я ожидала, что Габриель как-то прокомментирует эту ситуацию, но потом вспомнила, что он, вроде как, не разговаривал со мной больше. И поэтому повернулась к Франсуазе. Она сказала озадаченно:
– Ох, и не надо ему было всего этого говорить! Теперь, если Витторию найдут где-нибудь в овраге с перерезанным горлом и цветком в руке, обязательно сыщется умник, который доложит комиссару, как Тео грозился вчера убить её!
– Ты знаешь, если Фальконе и впрямь найдут в овраге, я в первую очередь подумаю на Лассарда, – шепнула я ей. – По-моему, он её на дух не выносил!
– И швед тоже, – подтвердила Франсуаза.
– Швед, по-моему, не выносит на дух всех, включая нас с тобой!
– Значит, пора начинать бояться! – Провозгласила моя подруга, и, изобразив испуг на своём лице, прижала к губам чайную ложечку. Меня позабавил её шутливый настрой, но неприятное ощущение, возникшее после исчезновения Соколицы, увы, не пропадало. И не в Габриеле было дело, и не в нашем вчерашнем разговоре – я, похоже, и впрямь сумела на время об этом забыть.
Куда больше меня тревожило то, что за столом, помимо Тео, отсутствовал так же Ватрушкин (вроде как, возлюбленный Селины) и Эрик Гарденберг. Гарденберг, чёрт возьми! Тот самый Гарденберг, к которому я вчера собственными руками толкнула Франсуазу! А что, если это он?!
Но подозрения мои оказались беспочвенными – Фальконе обнаружилась живая и невредимая, явившаяся к самому концу завтрака. Чему весьма и весьма расстроился мсье Лассард, даже и не думавший скрывать своего огорчения. А шведский доктор и вовсе сказал:
– Мы думали, вас уже убили!
Прозвучало, скорее, как: «Мы надеялись, что вас уже убили!»
– В самом деле? – Мадам Соколица рассмеялась, прижав руку к полной груди. – О-о, я представляю, как вы волновались за меня, доктор Эрикссон!
Все посмеялись её шутке, а я подумала, что этим утром Виттория Фальконе выглядит как-то иначе. На удивление счастливой и возбуждённой, что ли?
– А я-то, так и вовсе представил вас, лежащую бездыханной у озера, с цветком незабудки на груди! – Ядовито заметил Лассард. Нана попросила его быть повежливее, а Габриель вдруг сказал:
– Куда больше подошла бы маргаритка.
И, как и после вчерашних слов Тео, в салоне повисла напряжённая тишина.
– Маргаритка? – Удивилась Фальконе, заинтересованно обернувшись к Габриелю. – Но почему?
– Вы часто надеваете оранжевые платья, – ответил за Габриеля русский журналист. – Однако я бы всё же склонился к чайной розе, если уж сравнивать даму с цветком. Как думаешь, Габриель?
– Нет, – категорично ответил Гранье. – Маргаритка.
Ни больше, ни меньше! Ишь, какой упрямый! А Фальконе, ещё не знавшая об их помолвке с Габриэллой, прямо взглядом его пожирала, безмолвно умоляя сделать ей хотя бы такой извращённый комплемент. Чайная роза красива, изысканна, благородна, а маргаритка? Что маргаритка? Какой-то глупый, ненужный цветок, тем и привлекающий, что своим ярким цветом…
Ровно как и сама Фальконе. Вроде красивая, а пустышка внутри. На удивление точно подмечено! Я бы с интересом посмотрела на Габриеля, если бы не наша вчерашняя размолвка, и наверное даже сказала бы ему, что и мне казалось прежде, что цветы рядом с телом жертв Февраль подбирает не случайно.
Каждый цветок как будто символизирует характер той или иной девушки. Иветта была колючкой. Красивой, но с острыми иголками, к такой запросто не подойдёшь, нужны рукавицы! У Дэвида Симонса, её супруга, эти рукавицы имелись, поэтому он сумел покорить её и сделать своей женой. Иначе – вряд ли бы у него что-то вышло.
Селина… лаванда. Интересный выбор. Но я бы сравнила её скорее с ландышем: чистый, невинный, приятный и прекрасный… Мой взгляд как-то сам собой поднялся на Габриэллу. Вот кто ландыш! Самый настоящий ландыш, хрупкий и ранимый нежный цветок…
А лаванда… что ж, и этому наверняка есть объяснения. Необычный, непохожий на остальных, прекрасный горный цветок, с редким, но очень сильным запахом. Мимо не пройдёшь, определённо. И, в любом случае, поддашься очарованию – сорвёшь хотя бы один, разотрёшь его между пальцами, и с задумчивой улыбкой пойдёшь дальше… А потом забудешь.
Господи, а я-то, кажется, начала понимать логику убийцы! Это меня изумило до такой степени, что продолжать завтрак я не могла. Кусок в горло не лез, особенно когда я осознала, до какой степени точно и чётко были выбраны эти цветы.
О, боже. Да он же… он, действительно, опасен! Нет, само собой, он опасен – убил одиннадцать человек и ни разу не попался! – но он невероятно умён, и, похоже, на удивление тонко умеет чувствовать человеческую натуру. Я вскинула голову и посмотрела на Планшетова, чья проницательность меня ещё вчера удивила, и русский журналист это моё резкое движение заметил, и вопросительно поднял бровь. Дескать: вы хотели что-то спросить, мадам Лавиолетт?
Хотела. А не вы ли убийца, мсье журналист? Даже если и так, мы этого никогда не узнаем. Отчего-то я была в этом убеждена.
Понимаете, когда я слышала слово «психопат», то отчего-то сразу представляла себе несдержанного дёрганого типа, вроде Эрикссона или Лассарда, ненавидящего всех вокруг и едва сдерживающегося, чтобы не начать бросаться на людей. Но сумасшедшие бывают разные, и обожаемый мадам Фальконе доктор Фрейд много об этом писал. С виду это может быть вполне нормальный человек, но со своими демонами внутри – например, как Гринберг, как Габриель, или… или как я сама.
Вот уж чьи демоны дадут фору демонам Поля Февраля! Как там вчера сказал Лассард? «Об эту женщину вы обломаете себе зубы»? Верно подмечено. А может, я просто льстила себе тем, что окажусь не по зубам маньяку-убийце?
Как знать.
Завтрак заканчивался на весьма оптимистичной ноте: Фальконе наконец-то перестала поднимать тему своего любимого маньяка-убийцы, и стала приставать к русскому журналисту со всё той же старой просьбой написать в «Ревю паризьен» статью о её фамильном замке в Турине. Арсен отшучивался как мог, а когда силы его иссякли, он призвал на помощь своего друга Габриеля, но Гранье всё утро был сам не свой, и ответил лишь лёгкой улыбкой в ответ на просьбу русского журналиста.
Мне стало жаль его. Я догадывалась о причинах его невесёлого настроения, и была близка к тому, чтобы начать утешать его прямо там, в столовой. Или, уж по крайней мере бросить пару едких фраз о том, что счастливые женихи не ведут себя так, как он, и не сидят с такими удручёнными лицами! Да ради Габриэллы он мог хотя бы притвориться, что всё хорошо? Или здесь одна я умею притворяться?
– Девять этажей, вы представляете! – Не унималась Соколица, прижав руки к груди. – Это самый большой замок в окрестностях Турина!
По-моему, разговоры о Феврале были куда интереснее. Или я просто придираюсь к ней, из-за моей антипатии? Чёртова ведьма, могла спасти меня от подозрений Витгена, и промолчала!
– Возле парадного входа декоративное озеро с фонтаном! С алебастровыми скульптурами Бартолини [19]! Можете себе представить? Они стоили целое состояние!
Дурацкая болтовня. Пора с этим заканчивать. Вон и Томас с Наной заскучали, им наверняка надоело слушать одну и ту же историю в сотый раз.
– А с заднего двора открывается такой чудесный вид! Целое поле фиалок! Когда они расцветают все разом, это такое незабываемое зрелище! Будто кто-то расстелил на лугу огромный сиреневый покров…
Фальконе сладко зажмурилась, а затем посмотрела на Арсена, который послал ей полный неодобрения взгляд. Да что там между ними происходит, боже ты мой?! Мне уже становится интересно, что означает эта загадочная игра в гляделки!
– Ты, должно быть, выбросила ту фиалку, что я подарил тебе вчера? – Голос Габриеля заставил меня вздрогнуть. Я посмотрела на него, будто застигнутая врасплох за чем-то постыдным, и не нашлась, что ответить. Выбросила?! Вовсе нет! Я поставила её в воду, использовав вместо вазы стакан – один из тех, что стояли рядом с графином на подносе. А надо было выбросить! Глупая, сентиментальная Жозефина!
Не дождавшись ответа, Гранье с грустью покачал головой, и поднялся из-за стола.
– Прошу меня извинить!
И ушёл.
И плевать он хотел на Габриэллу, глядевшую с открытым ртом ему вслед.
Господи, ну зачем он так? Ещё обиженного из себя строит, будто я перед ним в чём-то виновата!
– Иди за ним, – тихо сказала мне Франсуаза. Тихо, но твёрдо.
Никуда я не пойду! Ещё чего не хватало! Только успокоилась, еле-еле успокоилась за целую ночь, и вот, пожалуйста, опять! Нет уж! Пусть уходит, пусть катится ко всем чертям, и не пристаёт ко мне с дурацкими вопросами! Всё кончено! Всё кончилось, не успев начаться, и слава богу, что так! Я была почти счастлива, что не успела влюбиться в него по-настоящему.
– А я терпеть не могу фиалки, – сказал Эрикссон, жаждущий уколоть Фальконе побольнее.
– А я просто обожаю! – Воскликнул Лассард, да с такой пылкостью, что я слегка удивилась.
– В таком случае, я приглашаю вас погостить в моём замке в Турине! – Рассмеялась мадам Соколица, а Лассард весело закивал, будто и впрямь хотел поехать. – Да что уж там, приезжайте все! Огромный каменный исполин в девять этажей, места хватит!
– Сохрани господь, – пробормотал доктор Эрикссон, вроде бы, себе под нос, но его, тем не менее, услышали все. Фальконе не обиделась, и, сверкнув глазами, принялась доказывать нам, как чудесно живётся в туринском предместье.
Я попросила извинения и поднялась из-за стола, за мной последовали Томас и Нана, и русский журналист. Уходя, он опять странно посмотрел на Соколицу, но Фальконе вроде как не заметила его взгляда, или сделала вид, что не заметила.
Оказаться рядом с четой Хэдинов, да ещё и вдали от посторонних глаз, для меня было большой удачей. Об этом я мечтала со вчерашнего вечера, в чём и призналась Томасу, перехватив его у лестницы.
– Я тут вот что подумала, – сказала я, заметив его живейшую заинтересованность, – вчера за разговором упомянули, что Селина возвращалась в отель, когда на неё напал убийца, но отель ведь в другой стороне! Мистер Хэдин, вы лучше других знаете окрестные места, скажите – что там, по ту сторону реки?
Куда, чёрт возьми, она могла так спешить, что позабыла про шляпку и про всё на свете?!
– Посёлок, церковь, сельская ярмарка, – принялся перечислять Томас, озадачившись вместе со мной. – Железнодорожная станция, но до неё довольно долго идти пешком. Дорога… дорога к городу! Сельский люд часто добирается туда на попутках, это экономит время.
– Подожди-подожди, ты кое-что упустил, – голос русского журналиста меня не на шутку встревожил – я видела, что он выходил вместе с нами, но понятия не имела, что он бессовестно слушал всё то, о чём мы говорили. Что им двигало: профессиональное любопытство или нечто другое? – В лесу, по дороге к посёлку, ещё до спуска на проезжую часть, стоит большой двухэтажный дом.
– Ах, да, – спохватился Томас, и порадовал нас своими исключительным знаниями местной истории: – Раньше там жил местный лесничий, старый немец по фамилии Фессельбаум!
Так вот куда так торопилась Селина!
Оставалось выяснить: зачем? Но прежде, раз и навсегда уяснить для себя, чёрт возьми, Фриц он всё-таки или Ганс?
XVIII
– Она была моей родной племянницей, мистер Хэдин, – без малейших колебаний сказал метрдотель, когда Томас спросил его о Селине. – Дочерью моей покойной сестры и единственной моей родной душенькой на всём белом свете!
Не врёт. Я вглядывалась в его лицо (симпатичное, между прочим, лицо, особенно для тех, кто с ума сходит от типично немецких скул и квадратного подбородка!) – вглядывалась, и не находила ни единых признаков фальши. Скорбь его была искренней и неподдельной. Ганс Фессельбаум Селину точно не убивал. Что, наверное, нетрудно проверить – если бы он отлучился со своего места в разгар дня, кто-то, непременно, заметил бы это.
– И жила она вместе с вами, в этом самом доме? – Продолжал Томас.
– Со мной, и с четой Шуц, это кухарка при отеле и лакей в салоне номер один, они снимают у меня половину дома. Для нас с Селиной он был слишком велик, а для меня одного теперь и подавно…
– Вы знаете, зачем она так спешила? – Вступила в беседу я.
– Спешила? – Уцепился за мою фразу Арсен. – С чего вы взяли, что она куда-то спешила?
Да не перебивай ты меня, неугомонный русский! Неужели мама не учила тебя, что невежливо влезать в разговор других людей?!
– Она оставила шляпку в домике у реки, – ответила я, с трудом сдерживая гнев. И, повернувшись к Фессельбауму, пояснила: – Я подарила ей шляпку, собирая её на свидание. Она ни за что не бросила бы её без серьёзной на то причины! Она куда-то торопилась. Видимо, домой, раз шляпка осталась в хижине, а сама Селина очутилась за мостом с другой стороны. Она шла домой. Как вы думаете, зачем?
– Ах, если бы я знал, фрау Лавиолетт! Если бы я только знал!
Ух ты, он помнил мою фамилию! А я, бессовестная, всё никак не могла выучить его простое имя…
– Это могло быть как-то связано с её возлюбленным? – Спросил Томас.
– Я не знаю, не знаю! Полиция уже раз двадцать спросила меня об этом, но Селина никогда со мной не откровенничала о своих кавалерах! Женщинам привычно делиться с женщиной, а не с бывалым мужиком, вроде меня! Ох, моя бедная Селина… – Фессельбаум вздохнул, и, грустно взглянув на меня, сказал: – Выходит, даже вы, мадам Лавиолетт, знали о ней больше, чем я!
– Выходит, – уныло согласилась я, и перевела взгляд на Томаса. Зацепка казалась такой важной, но, как только мы потянули за ниточку, она оборвалась. Прямо в наших руках! Сказать, что я была разочарована по этому поводу – не сказать ничего!
– Хоть что-то она о нём говорила? – Не сдавалась Нана. – Хорошо, она не называла имени, но как-то она описывала его? Брюнет, блондин… – Мадам Хэдин опасливо покосилась на Арсена, но тот и бровью не повёл. – Высокий, низкорослый? Толстый, худой?
– Нет, право слово, ничего такого! Правда, кое-что привлекло моё внимание однажды… вы знаете, моя Селина очень любила петь! И как-то раз, когда она заправляла кровать поутру, у себя наверху, я услышал, как она поёт… глупая какая-то песенка, про то как муза влюбилась в скульптора и утратила своё бессмертие. Это с неделю назад было, гостил у нас как раз тут один скульптор, помогал реставрировать треснувшую статую во дворе. Я подумал, что про него она и пела. Но ведь этот парень недолго здесь жил, да и уехал задолго до того, как мою Селину нашли… у реки…
Пока он искренне переживал утрату любимой племянницы, Жозефина сосредоточенно шевелила извилинами и вспоминала все известные ей французские «глупые песенки», шансоньетки, романсы, и даже бардовские творения из непризнанных. Ни в одной из них не было ни слова про скульптора, но затем Жозефина сообразила, что фамилия Селины была Фишер – немецкая, стало быть. А значит, французские песенки ей любить не с чего, это факт.
И я принялась лихорадочно вспоминать все те музыкальные произведения на немецком, что когда-либо слышала. И, представьте себе, вспомнила! Результаты, правда, меня не порадовали, чего и следовало ожидать.
Песенка была вовсе не про скульптора, а скорее про мастера-гения. И слово bildhauer [20] в ней упоминалось не так часто, как слово künstler [21]. Увлечённая своими размышлениями, я, не обращая внимания ни на кого из присутствующих, принялась тихонько напевать, помогая самой себе воссоздать в памяти ту старую песенку целиком:
– Мастер помнит, мастер знает, Как душа моя страдает, Совершенство моих форм Изваяет в камне он, Цвет волос, как блеск агатов, Отразит в лучах заката, Лёгкой рябью на воде Он напишет мой потрет…Пение моё оборвалось в тот момент, когда я поняла, что на меня все смотрят. И не только мои друзья и ошарашенный метрдотель, но и те редкие постояльцы отеля, что проходили мимо в момент моего практически оперного дебюта. О, боже! Как хорошо, что я разучилась стесняться!
За некоторой паузой последовали аплодисменты Наны, и её же удивлённый возглас:
– Жозефина, у вас прекрасный голос!
Затем, Фессельбаум:
– Да это же та самая песенка!
И, наконец, Томас с Арсеном, в один голос:
– Какой ещё портрет?!
Вот-вот. Мне это тоже не понравилось!
– Скажите-ка, мсье журналист, где ваш товарищ, Тео? – С подозрением спросила я.
– Откуда же я могу зн…
– Немедленно отведите меня к нему! – Требовательно произнесла я, для верности схватив Арсена за запястье, чтоб не убежал. Он оскорбился за соотечественника, и едва ли не с вызовом спросил:
– А почему это сразу он?! Он, что, единственный художник в отеле?!
А-а, камень в мой огород? И эта издёвка в голосе, явный намёк на Гранье, к которому у меня симпатия? Ну-ну. Низко, мсье журналист, очень низко! С другой стороны, и мне обидеться за соотечественника ничто не мешало.
– Габриеля оставим на потом, а вот ваш друг, между прочим, вчера вёл себя очень подозрительно, и я хотела бы с ним побеседовать! – С этими словами я, быстро извинившись перед Томасом, Наной и Гансом (или Фрицем?) увлекла Планшетова к лестнице.
– Побеседовать? Дорогая моя, разве вы комиссар? У вас есть полномочия?
– Арсен, не ломайте комедию, – устало произнесла я, отбросив в сторону притворство. – Вы прекрасно знаете кто я, и должны понимать, что я на подозрении у Витгена едва ли не одна из первых. До приезда полиции из Парижа остались считанные минуты, а эта идиотская песенка – быть может, единственная наша зацепка! Я хватаюсь за любые шансы, пускай даже самые нелепые, лишь бы только меня не обвинили в этом убийстве! А они обвинят, чёрт возьми! Это будет первое, что они сделают, когда приедут! Неужели не понимаете?
Мы остановились. Сама не знаю, как это вышло, я вдруг обнаружила себя стоящей на лестничном пролёте и пристально глядящей в глаза русского журналиста. Благо, ему не было чуждо сочувствие и он вошёл в моё положение практически сразу.
– Хорошо, пойдёмте к нему, но я сомневаюсь, что мы застанем его в номере. Его же не было за завтраком – должно быть, он уехал. Я клянусь вам, что не знаю куда, не надо так пытливо на меня смотреть! Увы, нет, я не всё на свете знаю, несмотря на мою профессию. Вы же именно этим хотели меня упрекнуть?
Ещё один умелец читать мысли, подумала я с усмешкой. И последовала за ним, на ходу взвешивая все шансы Тео оказаться маньяком-убийцей.
– Почему не Гранье? – Спросил меня Арсен спустя некоторое время.
– Что? Да вы шутите, должно быть?
– Отнюдь, я предельно серьёзен. Скажите пожалуйста: только потому, что он обаятелен, красив и – француз?
– Поль Февраль тоже француз, если верить полиции, – мрачно ответила я. Против истины не пойдёшь, как не старайся.
– Вот поэтому я и спрашиваю: почему не Гранье? – Кивнул Арсен. – Почему Тео? Из-за одной его вчерашней шутки, что убийца – это он? Идиотской шутки, между прочим! Вы заметили, как все испугались, когда до них дошло, наконец, что Фальконе могла и не ошибаться в своих предположениях?
– А она не ошиблась? – Спросила я тихо.
– Меня спрашиваете? – Он усмехнулся.
– Вас, чёрт возьми, кого же ещё?! Мы здесь одни, как вы можете видеть.
– Ха!
– Это не ответ.
– Жозефина, я не знаю. С чего вы взяли, что я могу вам ответить?
– Вы же журналист! Везде суёте свой нос. Профессия обязывает. – Я поняла, что была бестактна с ним, но назад своих слов не вернёшь. – К тому же, вы много писали о Феврале в «Ревю паризьен», и выучили его повадки. И, как же по-вашему, неужели он и впрямь один из нас?
– Всё может быть.
– Увы, и это не ответ.
– А вы бы предпочли, чтобы я указал вам на конкретного человека?
– Я бы предпочла, чтобы вы указали на конкретного человека комиссару Витгену, – с усмешкой ответила я. – Тогда он снял бы с меня эти нелепые обвинения, и я вздохнула бы спокойно!
Мы остановились перед одной из дверей в противоположном от моей комнаты конце коридора, и Арсен негромко постучал. Ответа не было. Тогда он, подтверждая мои теории о журналистской наглости и беспринципности, заглянул внутрь. Номер оказался пуст.
– Я предупреждал, что его, вероятно, нет.
– Отлично! Пойдёмте спросим у другого вашего друга, мсье Ватрушкина!
– А вам не откажешь в настойчивости, Жозефина! – Это прозвучало как комплемент, но в то же время как и упрёк.
– Вы бы ещё не так вертелись, окажись в моём незавидном положении! – Проворчала я, сделав вид, что обиделась. Арсен в ответ на это лишь рассмеялся негромко, и постучал в соседнюю дверь.
Разумеется, тишина.
– Ватрушкин, ты на месте? – Позвал Арсен, потом, чертыхнувшись, перешёл на свой язык и повторил вопрос. Затем сказал ещё что-то. И ещё. Но ситуацию это не поменяло, с той стороны двери по-прежнему молчали.
– Может, гуляет где-то? – Предположила я.
– Гуляет? Он?! – Арсен искренне возмутился. – Вы его видели? Ему бы поваляться в кровати да поесть побольше! Подвижное времяпровождение не для него. Здесь что-то не так.
– А они ведь дружны с Тео? Он мог поехать следом за ним, к примеру. Они ни о чём таком вам не говорили?
– А вы-то, милая Жозефина, свято верите в то, что все русские – братья и обязаны делиться друг с другом своими секретами? – Спросил он иронично. – Увы, здесь нам далеко до вас, французов!
– На что это вы намекаете? – С подозрением поинтересовалась я.
– Разумеется, на вашу дружбу с Габриелем, – этот негодяй и не думал отрицать своих невоспитанных намёков! – Исключительно на почве общей национальности, не иначе!
– Вам не стыдно говорить мне такое?
– А должно быть? Я, вероятно, просто ревную, не обращайте вним… чёрт возьми, это ещё что?!
С той стороны двери послышался какой-то грохот, и Арсен, так и не закончив свою фразу, резко дёрнул дверную ручку. Заперто! Но напористого журналиста это не остановило, и он изо всех сил налёг на дверь, и в конечном итоге выбил её плечом.
Я, несколько удивлённая происходящим, замешкалась в коридоре, уже собираясь высказаться о вандализме, свойственном русской нации (ну, каюсь, сердита я на них была ещё за поражение Наполеона!), но когда я переступила порог комнаты Ватрушкина, все слова разом замерли у меня на языке. И желание острить пропало в мгновенье, когда я увидела Ватрушкина, болтающегося на верёвке под потолком.
Табуретка валялась у него под ногами, должно быть, она и стала причиной того грохота, что мы слышали. А ещё люстра, к которой была привязана верёвка – господи, как противно она скрипела! Мне в тот момент показалось, что этот звук, похожий на детский плач, будет преследовать меня всю жизнь.
Зато Арсен молодец, не растерялся. Что я там говорила о русских? Беру свои слова назад, даже если ничего и не говорила, а только думала. Этот человек обладал блестящей реакцией и не терялся в трудных ситуациях – мгновение, и он уже подхватил болтающегося увальня Ватрушкина под колени, и тот захрипел, пытаясь обеими руками ослабить верёвку. При этом Арсен говорил какие-то порывистые, но очень горячие слова, следует полагать, нецензурные.
Потом он сказал что-то мне, но я, естественно, его не поняла, и он, чертыхнувшись, повторил уже на французском:
– Нож! Принесите нож! Или ножницы, что угодно, чтоб перерезать верёвку!
Где же я тебе найду нож, милый Арсен?! В столовую спуститься, одолжить? Я подбежала к трельяжу, что стоял у стены, и пошарила по ящикам, отыскав бритву в маленькой коричневой коробке.
– Это подойдёт? – С надеждой спросила я, и Планшетов кивнул. Через секунду дело было сделано, и неудачливый самоубийца рухнул на пол, ибо Арсен при всём желании не удержал бы этого толстячка на руках.
Встав на четвереньки, Ватрушкин принялся ловить ртом воздух, позабыв от растерянности про верёвку, что всё ещё сдавливала его шею. Да где же он верёвку-то исхитрился отыскать? Я поглядела на обвисшую занавеску, и нашла ответ на свой вопрос. И сокрушённо покачала головой – ну Ватрушкин, ну молодец! Твою бы находчивость – да в благое русло!
– Что ты удумал, чёрт возьми?! – Принялся отчитывать его Арсений. Судя по его лицу, он был готов дать пинка этому мальчишке, вот только остерегался пинать сына известного сибирского золотопромышленника. – Вешаться! В двадцать лет! Бо-оже мой, какие люди идиоты! Нет предела человеческой глупости, вот уж воистину! Ну и что за причина у тебя была, скажи на милость? Какая-нибудь поэтически серьёзная? «Я люблю её и не могу без неё жить»? Всё лучше, чем: «Я проиграл все папины денежки в карты!»
Полностью согласна. Любовная история с таким концом выглядела бы трагичной, но романтичной, тем не менее. А вот покончить с собой из страха перед нищетой? Глупо. Деньги всегда можно заработать снова.
Хотя, покойный Рене поспорил бы со мной, несомненно.
– И что ты молчишь?! – Всё больше распалялся Арсен. – Говори, чёрт бы тебя побрал, как всё это понимать?!
– Арсен, я вас умоляю, сжальтесь, – произнесла я, и, сев на колени рядом с Ватрушкиным, стала снимать верёвку с его шеи. – Он же едва дышит, а тут вы со своими упрёками! Дайте ему прийти в себя.
– Мадам Лавиолетт, вы так добры, – прохрипел Ватрушкин, поднимая на меня полный собачьей преданности взор. Он, видимо, не знал про игру в хорошего и плохого полицейского, и манёвра моего не разгадал, бедный мальчик! – Я, право, не заслуживаю вашей доброты…
– Ничего, мой дорогой, всё уже позади! – Принялась успокаивать его я. – Поднимитесь, право, сядьте в кресло, не пачкайте брюки! Сядьте, успокойтесь, отдышитесь. Вот так, хорошо. Ох, боже, не волнуйтесь вы так, мы ничего никому не скажем, правда ведь, Арсен?
Планшетов моего доброго настроя не разделял, и, скрестив руки на груди, протестующее нахмурился. И навис над бедным Ватрушкиным, как комиссар на допросе, и всё началось сначала:
– Какого чёрта, я спрашиваю?! Будешь прятаться за юбкой мадам Жозефины, или найдёшь в себе храбрости объяснить проихсодящее?!
– Арсений, я умоляю тебя, не кричи! – Зашептал Ватрушкин, но голос его сорвался на хрип, и он закашлялся, растирая свою шею.
– Ах, ну конечно, теперь мы боимся привлечь к себе внимание! А что весь отель сбежится поглазеть на твоё болтающееся под потолком тело – ты, конечно, не предусмотрел? Ах, ну да, ведь в случае успеха тебя бы это уже не волновало!
– Арсен, боже мой, замолчите, прошу вас! – Простонала я, заметив, как испуганный паренёк начал бледнеть прямо на глазах. – Лучше позовите доктора!
– Нет! – Вскричал Ватрушкин, да ещё и за руку меня схватил. Правда, быстро отпустил, заметив, с каким изумлением я на него посмотрела. И повторил уже тише: – Нет, прошу вас, не надо доктора! Я в порядке. И, умоляю, не говорите ничего никому… господи, если кто-то узнает… пойдут слухи… расскажут комиссару… Ох, боже, он же решит, что это я во всём виноват!
А это мысль! Парня, конечно, жалко до слёз, но уж лучше он, чем я.
Боже, я ведь не всерьёз это? Покачав головой по поводу собственной безнадёжности, я обняла Ватрушкина за плечи и поудобнее устроила его в кресле. И, по-матерински заботливо поправив его светлые кудри, сказала ему:
– Расскажите, пожалуйста, что у вас произошло. Что толкнуло вас на этот поступок? Это ведь из-за Селины, да?
Только так я могла объяснить происходящее. Правдоподобно, если вспомнить, как он вчера сбежал посреди ужина.
Парень поглядел на Арсена, но тот сохранял полнейшую невозмутимость и поддерживать его не собирался. Тогда Ватрушкин снова повернулся ко мне и кивнул.
– Бог ты мой, – произнесла я. Мне стало жаль его ещё больше. Неужели он настолько любил эту девушку, что решил уйти следом за ней, не смысля без неё жизни?
– Я её не убивал! – Пылко произнёс Ватрушкин, широко распахнув глаза. – Я знаю, что вы подумали, но я не убивал её, клянусь вам!
Вот уж об этом-то, можешь не сомневаться, никто из нас точно не думал. Я поглядела на Арсена на всякий случай, но убедилась – нет. Он думал о Ватрушкине что угодно, по большей части нецензурное, но убийцей его точно не считал.
Кого, его? Помилуйте, этого глуповатого толстячка? Фи!
– Я любил её, действительно, всем сердцем любил! – Принялся убеждать нас несчастный юноша. – Я хотел на ней жениться, понимаете? Я никогда не причинил бы ей вред, никогда! О, боже, моя милая Селина, моя бедная девочка, цветочек мой…!
Ну зачем, чёрт подери, зачем было говорить про цветы?! Мы с Арсеном переглянулись, и журналист ещё сильнее нахмурился.
Как там сказал Тео? «А с чего вы взяли, что я не солгал вам?» Вот-вот, с чего мы взяли, что Ватрушкин не солгал нам? А вдруг это маскировка? Вдруг за глуповатым выражением лица и за этими вполне искренними слезами отчаяния скрывается душа убийцы? Хладнокровного, безжалостного убийцы, блестящего актёра, а так же непревзойдённого стратега и аналитика. А что, если он заранее подстроил этот спектакль, чтобы отвести от себя подозрения? Так ли крепко была привязана верёвка? Как бы это проверить?
Впрочем, я решила проверить это другим способом, куда более лёгким и вероятным. И, склонившись к Ватрушкину, взяла его за руку и развернула ладонью к себе. Этот мой странный жест не укрылся от Арсена, ровно как и моё чуть разочарованное выражение лица.
Пуговица! Он носил рубашки на пуговицах!
Выходит, запонку обронил не он?
– Так это ты был таинственным возлюбленным Селины? – Спросил Арсен, так и не дождавшись от меня никаких комментариев.
– Нет, – мой голос прозвучал одновременно с голосом Ватрушкина, затем я замолчала и отошла в сторону, а он продолжил: – В том-то и дело, что нет! Она ошиблась! Она во всём с самого начала ошиблась, она всё не так поняла!
– Кто?!
– Соколица! Фальконе, эта чёртова ведьма! Вчера она сказала, что у неё есть доказательства связи Селины и одного из нас! – Ватрушкин поморщился. – Связи! Какое грязное, грубое слово! Это была нежная любовь, искренняя и чистая, платоническая, чёрт возьми! Какая связь?! Это ж надо было так всё опошлить!
– Погоди-погоди, Ватрушка, давай по порядку, – осадил его журналист. – Соколица знала о твоих отношениях с Селиной?
– Отношениях! – Застонал паренёк в отчаянии, и, откинувшись на спинку кресла, принялся ритмично биться об неё головой. – От-но-ше-ни-ях! Проклятье, Арсений, ты думаешь, были они, эти отношения?! Ничего у меня с ней не было никогда в жизни и не было бы, по крайней мере до свадьбы! Я был безнадёжно влюблён в неё, только и всего! А эта склонная к преувеличениям итальянка раздула из моей симпатии такую историю! Якобы это я встречался с Селиной в домике у реки, якобы это я убил её! Боже… отец меня убьёт, когда узнает, во что меня угораздило ввязаться! А ведь самое страшное, знаешь что? То, что я действительно любил мою Селину!
Я отчего-то вспомнила Томаса Хэдина в тот момент, человека, который говорил мало и по существу. И решила взять с него пример.
– Какого рода доказательства у неё были? Очередные глупые догадки?
– Нет, – он потряс головой, – стал бы я вешаться из-за домыслов какой-то старой курицы?! Ох, простите, простите, я невежливо сказал о даме, я… я не хотел! Просто я так растерян, я не знаю, что делать! Если мой отец узнает… боже… что же будет… лучше смерть! – С этим горячим возгласом он метнулся вперёд, вот уж не знаю, с какой целью. То ли хотел связать верёвку заново, то ли использовать бритву – тут уж на что фантазии хватит. Но Арсен его, разумеется, остановил, и, довольно грубовато вернув назад в кресло, сказал:
– Ещё одно неверное движение, и я сам сверну тебе шею!
А я положу рядом цветок одуванчика! Подходит как нельзя лучше!
– У неё были письмо, – запоздало ответил Ватрушкин, глядя на меня с тоской. – Моё письмо к Селине. Я сочинял его в саду. Мадам Фальконе подошла незаметно сзади… я так увлёкся, что и не слышал шагов! Я испугался, что она станет смеяться, а она не стала. Я тогда подумал, что она поняла меня. Сказала, что молодость и влюблённость – это так прекрасно! А потом я понял, что она меня провела! Когда обнаружил, что одного листа не хватает! Она забрала его, понимаете? Забрала, чтобы в тайне потешаться надо мной!
– И вы не потребовали его назад?
– Разумеется, потребовал! Я пришёл к ней, но она сказала, что знать не знает ни о каком письме и прогнала меня, возмущённая, что я посмел обвинить её в воровстве! Она сказала, что письмо, должно быть, унесло ветром. Ветром, чёрт подери! А, по-моему, соколица просто утащила его в своём клюве! Мерзкая женщина! Ох, я опять дурно высказался…
И чем дольше он сокрушался, чем дольше размазывал слёзы по красным щекам, тем сильнее крепла моя уверенность, что вчера за ужином Фальконе говорила вовсе не о нём. Черновик письма, которое писал мсье Ватрушкин, похоже, и впрямь затерялся по вполне естественным причинам, а у Виттории Фальконе имелись другие доказательства. И доказательства эти были против совсем другого человека.
Я наконец-то вспомнила, зачем мы изначально пришли в западное крыло, и спросила Ватрушкина о его русском товарище, на что получила совершенно замечательный ответ.
– Тео уехал из отеля насовсем. Он узнал о приезде парижской полиции и сказал, что не хочет лишний раз попадаться им на глаза!
Каково?
XIX
– Возвращаясь к вашему вопросу – почему не Гранье? – я отвечу вот что: Гранье, по крайней мере, остался, не сбежал! – Это я говорила Планшетову, когда мы с ним вместе спускались по лестнице, оставив уже унявшегося Ватрушкина одного, но прежде взяв с него обещание не повторять самоубийственеых глупостей впредь.
– Признаться, теперь мне и самому всё это кажется странным, – сказал Арсен. – Какие у Тео могут быть проблемы с полицией, да ещё и именно с парижской?! Это же полнейшая чушь, он никогда не бывал во Франции!
– А с чего вы взяли, что он не солгал нам? – Немного перефразировав ту самую фразу Тео, спросила я.
– Помилуйте, Жозефина! – Арсен отмахнулся. – Начнём с того, что я держал в руках его паспорт. Там нет ни единой пограничной отметки о въезде или выезде из страны. Швейцария – это первая и единственная заграница, где он побывал! И то, стараниями этого идиота Ватрушкина, который его сюда вывез.
– Паспорт! Фи! Тоже мне доказательство! Вы что, не знаете, что нет ничего проще, чем выправить себе поддельные документы?
– По-вашему, это и впрямь так просто? – Он рассмеялся, подмигнув мне. – А вы в этом неплохо разбираетесь, как я погляжу?
– Оставьте свои шуточки, – устало попросила я. – Лавиолетт – моя девичья фамилия, а вовсе не вымышленная. И документы у меня самые что ни на есть настоящие, а вот на счёт вашего Тео я бы так уверенно не говорила!
– Вы готовы подозревать его из-за какой-то глупой немецкой песенки, которую пела горничная? И из-за того, что он имел неосторожность зловеще пошутить вчера за ужином? – С насмешкой спросил меня Арсен. – Жозефина, он просто рисовался! Как Фальконе, понимаете? Ни больше, ни меньше. Это была обычная мальчишеская бравада, он просто привлекал к себе внимание таким образом, вот и всё. Хотел произвести впечатление. На вас, надо думать, ибо до Габриэллы Вермаллен ему дела нет.
– Скажите мне, положа руку на сердце, вы сами верите в то, что говорите? – Серьёзно спросила я, остановившись напротив Арсена. Тот внимательно посмотрел на меня, понял, что я спрашиваю уже без шуток, и задумчиво покачал головой.
– Признаться честно, я затрудняюсь вам ответить. Ещё вчера я с уверенностью сказал бы вам, что Тео – последний, кого я стал бы подозревать, но сегодня… Не хочет иметь дел с комиссаром из Парижа, подумать только! Господи, что за тайны у этого человека, такого открытого и простодушного на первый взгляд? У меня в голове не укладывается!
Мы спустились вниз, в широкое фойе, где за стойкой на своём привычном месте всё так же стоял унылый Фессельбаум, а суетливый управляющий мсье Грандек спрашивал его о чём-то, возбуждённо взмахивая руками. Но я смотрела не на них, я смотрела за окно, где по парковой аллее прогуливались рука об руку будущие новобрачные, Габриель и Габриэлла. Она о чём-то увлечённо рассказывала ему, а он её не слушал, задумчиво глядя в сторону и думая о чём-то своём.
Или о ком-то.
– Напрасно они затеяли эту прогулку, ведь скоро начнётся гроза! – Сказал Арсен, проследив за моим взглядом, и, возможно, даже услышав тяжкий вздох, вырвавшийся из моей груди. В голосе его я уловила искреннее сочувствие, а вовсе не злорадство, как ожидалось. Это побудило меня чуть улыбнуться русскому журналисту, вроде как, неплохому парню, при условии, конечно, что он не убийца.
Я уж собралась, было, порассуждать на тему: «А что, если глупая песенка горничной на самом деле всего лишь и есть глупая песенка горничной?» – то есть, вовсе не обязательно, что возлюбленной Селины был художником (да даже если и был, опять же, это ещё не говорит о том, что именно он задушил её у моста) – но моим мыслям помешал Грандек. Суетливый и вечно спешащий куда-то управляющий едва ли не бегом бросился к нам, на ходу взмахивая руками. При других обстоятельствах я бы пошутила, дескать: «Наконец-то он заметил мою персону, наконец-то обратил на меня внимание!», но мне стало не до иронии, когда Грандек сказал:
– Мадам Лавиолетт, наконец-то я вас отыскал! Прибыла долгожданная полиция из Парижа, и вы одна из первых, с кем они хотели бы поговорить. Вас уже ждут, и если вы позволите, я немедленно провожу вас!
Внутри у меня всё сжалось, перевернулось, и завязалось в один большой, тугой узел. Я, как будто бы пыталась избежать неизбежного, и непроизвольно коснулась руки Арсена, словно он мог чем-то помочь мне. За окном громыхнуло, и, по-моему, это ещё больше усугубило ситуацию, добавив некоторую долю мрачности.
Планшетова, однако, надо поблагодарить! Тонкий знаток человеческой натуры, он прекрасно понял моё смятение, и сжал мою ладонь в знак поддержки.
– А вы ещё сомневались, да? – Безнадёжно спросила его я. Русский журналист лишь вздохнул в ответ, видимо, испытывая самое что ни на есть искренне сочувствие к моей тяжкой участи.
Да и Грандек порадовал! Он то ли от природы был дружелюбным и заботливым, то ли всё ещё беспокоился, что я могу устроить скандал из-за этого допроса и поставить под вопрос репутацию отеля, как бы там ни было, он произнёс бодро и почти весело:
– Да не вы не волнуйтесь, и не принимайте на свой счёт! Комиссар де Бриньон сказал, что желает видеть не только вас, так же, в первую очередь, его интересовал мсье Гранье и мадам Фальконе, – будто совсем не заметив, как побледнела я при этих словах, Грандек продолжил как ни в чём не бывало: – Вот только ни мсье Гранье, ни мадам Виттории нет в отеле, а пока их отыщут, я, позвольте, провожу вас к мсье де Бриньону…
У меня натуральным образом подкосились ноги, и я поняла, что теперь уж совершенно точно никуда не пойду. По одной простой причине: я не смогу и шагу ступить! Я, кажется, даже пошатнулась, и, опираясь на плечо Грандека, спросила побледневшими губами:
– Как, вы сказали, его зовут…?!
Часть вторая. Эрнест I
Он практически не изменился за те восемь лет, что мы не виделись. Возмужал, безусловно, сменил причёску, отрастил усы, но я всё равно видела в нём всё того же голубоглазого мальчишку, которого любила когда-то.
Меня едва ли не трясло, когда я переступила порог того же самого кабинета, где вчера проводил допрос Витген. Кто бы знал, как благодарна я была своему мужу за то, что развил во мне эту блестящую выдержку, это железное самообладание! Внешне я держалась безупречно, как Мария-Антуанетта, когда с высоко поднятой головой шла на эшафот.
А внутри всё переворачивалось от одного только взгляда на этого человека. Всё кипело от лютой, дикой ненависти, вкупе с яростью, отчаянием и тупым бессилием от осознания того, что я ничего, абсолютно ничего не могу сделать.
Более того, я была в его власти, а это раздражало меня ещё больше.
– Добрый день, – как ни в чём не бывало, сказала я. Поздоровалась первой, потому что эти французские ублюдки пялились на меня с разинутыми ртами, начисто позабыв о вежливости. И он тоже не стал исключением, разве что, рта не открывал, а просто смотрел – прямо взглядом пожирал, будто стараясь отыскать, что во мне изменилось, а что осталось прежним.
Смотри-смотри, мерзавец, вот она я! Девушка, чью жизнь ты сгубил ещё раньше, чем это сделал Рене Бланшар! Что, удивлён? Думаю, да. Наверняка удивлён, что я вообще как-то смогла через всё это пройти, и жить счастливо после того, как ты меня бросил.
Ублюдок! Ненавижу тебя!
Думаю, мой взгляд краше всяких слов сказал ему об этом. И, так как ответом мне была тишина, я повторила:
– Добрый день!
Ответил мне, почему-то, Витген. И его поспешное: «Bon jour», с чудовищным акцентом, позабавило меня и немного разрядило обстановку. По крайней мере, мне расхотелось убивать де Бриньона прямо сейчас.
– Добрый день, мадам Бланшар, – спохватился, наконец, он сам. И его ребята, общим числом трое, нестройно повторили эти слова следом за ним. Я, всё тем же нейтральным тоном, попросила:
– Лавиолетт, если вас не затруднит, – посмотрев на Витгена, который был теперь уже не так отвратителен мне, как остальные, я пояснила: – После смерти супруга я взяла себе девичью фамилию, мне так привычнее.
– Да, мадам Лавиолетт, разумеется, – пробормотал де Бриньон, и посмотрев на того же Витгена, кивнул ему в сторону двери. – Вы можете идти, комиссар. Думаю, мы справимся сами.
Вчетвером-то? Со мной одной? Ну, не знаю, не знаю… Я повнимательнее присмотрелась к ребятам Бриньона, и подумала с усмешкой, что вот этот усатый розовощёкий здоровяк, наверное, и в одиночку совладал со мной, надумай я сопротивляться. Бо-ог ты мой, какой он высокий! Почему-то я была уверена, что его зовут Жан. Шло ему это имя, в самом деле!
Господи, Жозефина опять острит! Её вот-вот в цепях увезут на гильотину – теперь-то уж точно! – а она находит в себе силы шутить, ну что за дивная женщина! Поборов улыбку, я проводила взглядом Витгена, который и не думал перечить, и, когда за ним закрылась дверь, с неохотой перевела взгляд на де Бриньона.
– Присаживайтесь, – сказал он мне.
– Спасибо, я постою, – отозвалась я, не испытывая ни малейшего желания следовать воле этого человека. Достаточно я его наслушалась, будет. Приподняв брови, я продолжила с усмешкой: – К тому же, я сомневаюсь, что наша с вами беседа затянется. У вас наверняка уже готовы документы для моего ареста, не так ли?
Странно было говорить ему «вы» после всего того, что между нами было.
Странно, и как-то… волнительно. Я смотрела на него, вглядывалась в знакомые черты лица – лица, которого я вот уже столько лет старалась забыть – смотрела, и всякий раз приходила к одному и тому же неутешительному выводу: мне конец.
Этот-то меня так просто не отпустит, можно не сомневаться. Кто угодно, но только не он.
Вот и де Бриньон, подтверждая мои самые страшные догадки, сказал тихо:
– Для начала я, всё же, хотел бы задать вам несколько вопросов.
Для начала. А потом, стало быть, меня под конвоем проводят в тюрьму?
Что ж, хорошо. Выбора у меня всё равно не оставалось. Поэтому, подойдя к тому самому столу в стиле чиппендейл, я присела на стул. Де Бриньон сел напротив, тяжёлым, пристальным взглядом изучая моё лицо.
Что, чёрт возьми?! Чего пялишься?! Не постарела, не волнуйся. И не подурнела уж точно, можешь не радоваться! И вполне себе жила счастливо эти восемь лет без тебя, и…
Боже, ну кого я обманываю? Не была я счастлива ни секунды! Но, впрочем, это тоже не потому, что изнывала от несчастной любви к тебе – не-ет, ну что ты! Это из-за Рене. Из-за этого монстра, который сумел превратить в настоящий ад все семь лет нашего брака.
Счастливой я стала, пожалуй, только пару месяцев назад, когда похоронила его.
– Жан, ты готов записывать показания мадам Лавиолетт? – Спросил он у усатого верзилы, и я не сдержала истерического смешка. Впрочем, тут же прикрыв рот ладонью, я сказала тихонько:
– Извините.
Жан, в самом деле, Жан! Бог ты мой, какая прелесть!
Похоже, это было то единственное, чему я ещё могла радоваться в такой момент. Я же говорила, что я оптимистка! Умела находить что-то хорошее в мелочах. Так значит, Жан…?
Жан вооружился карандашом, и, отчего-то улыбнувшись мне, приготовился писать. Вот только я не видела в этом ни малейшего смысла, и, предвидя возможные вопросы, сказала сразу же:
– В промежуток с половины первого до половины третьего я была в ресторане вместе с остальными, и тому есть масса свидетелей. Нет, я не убивала Селину Фишер, и понятия не имею, кто это сделал. Да, это моя шляпка была найдена неподалёку от места преступления, я никогда не отрицала это и не подумала бы отрицать. Как она там оказалась? Я не знаю, вероятно, её оставила там Селина. Как она оказалась у неё? Это просто: я подарила её ей, сама, от чистого сердца, – тут я невольно усмехнулась, догадываясь о том, что полиция из Парижа вряд ли поверит, что «чистое сердце» может быть у такой женщины, как я. Откинувшись на спинку стула, я лениво посмотрела на де Бриньона, и сказала: – Если у вас остались ко мне другие вопросы, более оригинальные, прошу вас, задавайте! Глядишь, удивите меня чем-нибудь, чем мсье Витген не удивил. Ах, да! Чуть не забыла о самом интересном! Мужа моего убила тоже не я. Это я так, хм, на всякий случай, вдруг вас и это заинтересует!
Готова спорить, что де Бриньон изо всех сил сражался с улыбкой. О, да, он хотел улыбнуться, явно позабавленный моим поведением, вот только чего он не хотел, так это улыбаться мне. Ясное дело! Я бы на его месте тоже не хотела!
Я бы на его месте никогда в жизни вплоть до конца дней не осмелилась бы посмотреть мне в глаза после всего того, что он сделал. А вот он смотрел. Не то, чтобы «как ни в чём не бывало» – нет, вряд ли это далось ему легко, но он смотрел, тем не менее.
Как-то жадно смотрел. Мне такой взгляд не нравился.
Мне вообще ничего в нём не нравилось.
Особенно – его голубые глаза. Всё такие же голубые и такие же лживые, несомненно.
– Предположим, я всё же проявлю оригинальность, – сказал де Бриньон с усмешкой, и, действительно, проявил: – Вам знакомо имя Мария Лоран?
Первым моим порывом было ответить категорическое нет, потому что поначалу я и впрямь подумала, что слышу это имя впервые. Вторым моим порывом было уйти в себя, и постараться понять, зачем он спрашивает меня об этом? Потом я поняла, вспомнив, наконец, кто такая Мария Лоран, так что третьим моим порывом было и вовсе не отвечать, и ни слова ему не говорить вообще, пускай хоть клещами из меня тянет!
Взгляд его не понравился мне ещё больше. Как будто наблюдал за моей реакцией, пристально наблюдал, пытаясь застать меня врасплох… Ну, застал, допустим. Но только совсем не по тем причинам, о каких он думал. Я просто посмотрела вновь в эти бездонные голубые глаза и забылась на какое-то время.
Чёрт бы меня побрал!
– Да, кажется, знакомо, – отозвалась я с запозданием. Мне показалось, что лучше ответить и продолжить беседу, чем сидеть в тишине и слушать, как колотится в груди моё бедное сердце. – Одна из жертв Февраля? Из последних, кажется? Мы обсуждали это за обедом не так давно. Дочка полицейского, верно?
– Совершенно верно, – подтвердил мои догадки чернявый симпатяга Жан.
– И по совместительству любовница некоего Рене Бланшара, – жёстко усмехнувшись, ответил Бриньон. – Слыхали о таком?
Вот это поворот!
Я неуютно поёрзала на своём месте, и с недоумением посмотрела на де Бриньона. Рехнулся он, что ли?
– Рене Бланшара? – Уточнила я. – Судя по вашему ехидному тону, того самого Рене Бланшара, что был моим мужем целых семь лет?
– Жозефина, не ломайте комедию, – устало попросил де Бриньон, сложив руки на столе.
Что-о?! Да с каких это пор я тебе Жозефина?! Даже симпатяга Жан, добродушный румяный здоровяк, и тот посмотрел на босса с осуждением – право слово, к чему фамильярничать с этой милой женщиной?
– Я, правда, не знала об этом, – искренне сказала я, глядя на де Бриньона самыми честными в мире глазами. Мне было плевать, верит он мне или нет, но я и впрямь впервые слышала об этом. Мария Лоран, говорите? Ну, давайте так: у моего мужа была целая куча любовниц, и в Лионе, и в Париже, и с некоторыми из них я была даже знакома. Но про Марию Лоран не знала. Честно-честно! Ну, хоть вы-то мне верите? Этот-то, ясное дело, не верит, иначе не смотрел бы этим своим ястребиным взглядом…
М-м, что же делать?
– И потом, – продолжила я осторожно, – мой муж скончался два месяца назад!
– При весьма странных обстоятельствах, – тотчас же вставил своё слово де Бриньон.
– Как бы там ни было, я бы попросила не поливать грязью его, хм, доброе имя, – закончила свою фразу я, чуть споткнувшись на слове «доброе». Ха-ха-ха, слышала бы меня Франсуаза сейчас! Впрочем, хорошо, что не слышала. С ней был случился инфаркт из-за моей непросительной дерзости!
Да не могла я по-другому! Не могла я нормально разговаривать с человеком, разрушившим мою жизнь! И плевать я хотела, чем это было чревато, вот так-то!
– Хорошо, – легко сдался де Бриньон, слишком легко, чтобы пойти на попятную, разумеется, – допустим, про Марию Лоран вы и впрямь не знали. Тогда, следующий вопрос: знакома ли вам была некая Иветта Симонс?
– Очень смешно, мсье де Бриньон, – холодно ответила я, и Жан пристально посмотрел на меня, заинтересованный. Это потому, что этот невоспитанный сукин сын не соизволил представиться, а я тут, видите ли, невесть откуда знала его имя… Молодчина, Жан! Огромный тебе плюс за внимательность!
– Да или нет? – Продолжил издеваться де Бриньон.
– Разумеется, да! Мы с нею жили по соседству, и вращались в одних и тех же кругах, и было бы весьма странно, если бы мы не были знакомы, неправда ли? – Подумав, что ответ мой прозвучал недостаточно дерзко, а слова были недостаточно ядовиты, я продолжила: – К тому же, я тут неожиданно вспомнила вот что: когда-то давно, ещё до замужества, мы были близкими подругами. Нас всегда было трое: я, Иветта, и ещё одна девочка, милая Луиза, ах, простите, запамятовала её фамилию!
Де Бриньон была её фамилия.
Родная сестра этого мерзавца. Та самая, которая погибла потом, утонув в реке. Впрочем, с её смертью тоже всё было не так просто, но не об этом сейчас речь. Де Бриньон, разумеется, не оставил без внимания мой неприкрытый намёк, и дёрнулся, словно его ударили.
А я знала, куда бить. Я прекрасно помнила, как он любил сестру, и понимала, до какой степени ему тяжело малейшее упоминание о ней. Если я хотела сделать ему больно, я своего добилась. С него теперь был ответный ход.
Который, разумеется, не заставил себя долго ждать:
– Стало быть, вы с мадам Симонс были подругами детства?
– Мы с ней были подругами до моего замужества, которое она так и не смогла мне простить, – поправила его я. – Потом мы встречались, и довольно часто, но былых отношений уже не сохранили. Присутствовала даже некая холодность, если угодно. Но это вовсе не значит, что я задушила её подушкой, или чем там её задушили?
– Вы знали о её отношениях с вашим мужем?
Ладно-ладно, здесь уже не так удивительно. Разве что удивительно, откуда об этом узнал де Бриньон?
– Да, знала.
– И…
– И смотрела на это сквозь пальцы, – перебила его я, прежде чем он выскажет какое-нибудь идиотское предположение о том, что я убила Иветту из мести. – У моего мужа было много любовниц, господин комиссар. Если бы я начала убивать каждую из них, Франция и близлежащие страны захлебнулись бы в крови. – Заметив вполне искреннюю улыбку Жана, я пояснила ему: – Мой муж часто путешествовал за границу, да.
Он снова улыбнулся, видимо, ни на секунду не полагая меня виновной, а де Бриньон хмуро посмотрел на нас, будто осуждая эти любезности. Жан тотчас же подтянулся, приосанился, и нахмурился, сделав вид, что увлечён своими записями.
– Офелия де Вино вам знакома? – Продолжил де Бриньон, когда я повернулась к нему снова.
– Нет, но мне знакома эта фамилия. Себастьян де Вино, господин посол, случайно, не её родственник?
– Это её отец.
А-а, ну да, посольская дочка, ещё одна жертва Февраля! Как же, как же.
– О, боже, – уныло произнесла я. – Что, и её тоже изловчился совратить мой беспутный муж?
– Представьте себе! – С деланным сожалением сказал де Бриньон. На самом деле, я уверена, ему было ничуть не жаль. Наверняка радовался ещё, что этот подонок Рене изменял мне налево и направо, наверняка испытывал извращённое удовольствие от того, что я-то, в отличие от него самого, никогда не была счастлива в браке, ни единого чёртового дня!
Я усмехнулась, и, скрестив руки на груди, сказала:
– Ваши обвинения заведомо не имеют смысла, комиссар. Мой муж скончался два месяца назад, а с Селиной Фишер я познакомилась только позавчера утром.
Что, съел? Нечего сказать?
С победным видом я вновь откинулась на спинку кресла, и позволила себе немного расслабиться, наблюдая за реакцией де Бриньона. Никогда тебе меня не расколоть, мерзавец! Уровень не тот.
Вы все не дотягиваете до Жозефины, сукины дети! – думала я, а оказалось, что де Бриньон просто выдерживает эффектную паузу. Я чертовски его недооценивала…
– Вы не поверите, чьей дочерью была Селина Фишер, – сказал он с елейной улыбкой, и тогда-то я оказалась близка к тому, чтобы схватиться за сердце и громогласно воскликнуть: «О, нет!» Как и любой злодей, которого неожиданным образом вывели на чистую воду.
Совсем как в дешёвом бульварном детективе.
Твою мать, это ж как мне не повезло!
– Очевидно, дочерью очередной любовницы моего мужа? – Упавшим голосом предположила я.
А что, это мотив! Сейчас выяснится, что все одиннадцать жертв были любовницами Рене, и тогда мне конец. То есть, мне и так уже конец, в любом случае, но когда я шла сюда, я и не предполагала, что дела мои окажутся настолько плохи!
Невезение моё было фатальным.
– Сандра Фишер была парижской проституткой, – пояснил специально для меня черноволосый здоровячок Жан. – Вполне вероятно, что она и Рене Бланшар в прошлом… э-э… пересекались.
Он никогда в жизни не ходил в бордели, уж поверьте мне на слово! Ни разу! Да, он изменял мне, и изменял безбожно, но бордели считал низостью и рассадником всяческой заразы. На что я отвечала, что его Иветта – вот настоящий рассадник заразы, потому что, выражаясь словами Франсуазы, «в этом саду поработал не один садовник»! И даже не два, хм. А ещё Рене говорил, что услугами проституток пользуются только ничтожные мужчины, не способные собственными стараниями добиться женской благосклонности. А он был способен. И ещё как! Это я без иронии, женщины, действительно, очень любили его и готовы были отдаваться ему бесплатно хоть каждый день. Ему просто не нужны были шлюхи.
Ну, или так: он пользовался такими шлюхами, как Иветта, но уж точно не такими, как эта Сандра Фишер, так что здесь вы крупно просчитались, ребята. Ставлю всё, что у меня есть – мой муж никогда и не был знаком с этой мадам Фишер! Определённо, нет.
С усмешкой я посмотрела на де Бриньона, наконец-то осознав, что их версия не такая уж и ладная. Они просто построили её на совпадениях, как в случае с тем паспортом на имя Февраля, и просто нашли более-менее подходящего кандидата на роль убийцы.
Меня.
Закинув ногу на ногу, я приняла расслабленную позу, чтобы показать им, что я ничуть не напугана, и спросила с улыбкой:
– А Этьен де Лакруа, самая первая жертва, что, простите, тоже был любовником моего мужа?
Это я про того парня с нарциссом, убитого в мае прошлого года.
Жан хихикнул в ответ на моё предположение, и очаровательно покраснел, посмотрев на меня лукаво, а я улыбнулась ему, и, накручивая на палец чёрный локон, продолжила, пожав плечами:
– Нет, ну а что? Мой муж всегда любил… м-м… эксперименты! Я бы не удивилась.
– Довольно! – Громовым голосом произнёс де Бриньон, и строго посмотрел сначала на Жана, а затем на меня. – Вы же понимаете, мадам Лавиолетт, что этих улик вполне достаточно, чтобы арестовать вас прямо сейчас?
А-а, ну наконец-то! А то я всё ждала, когда же ты уже, наконец, начнёшь демонстрировать своё превосходство надо мной! Ублюдок. Гори в аду!
Я усмехнулась ему, и вытянула руки ладонями вперёд.
– Так арестовывайте, чего вы ждёте?
В кабинете воцарилась гробовая тишина, которую нарушали лишь дождевые капли, робко постукивающие в окно. А затем к ним примешались звуки торопливых шагов по коридору, становящиеся с каждой секундой всё отчётливее. Когда они стихли, дверь распахнулась, явив нам вымокшего до нитки Грандека, который, всплеснув руками произнёс:
– Комиссар! Ещё одно убийство! Мы опоздали буквально на пару минут, она ещё тёплая была, когда мы нашли её у озера!
Я обернулась, во все глаза глядя на него, и не понимая даже, что вот сейчас, в эту самую секунду, этот несуразный маленький и суетливый человечек спасает мою жизнь, мою свободу.
– Кто, господи? – Одними губами прошептала я, впрочем, заранее зная ответ.
– Мадам Фальконе, итальянка, – задыхаясь, он провёл руками по мокрому от дождя лицу, и растерянно посмотрел на нас. – Я искал её, чтобы привести сюда, на допрос, а её нигде не было, я весь отель обошёл. Фессельбаум сказал, что видел её у озера, мы пошли туда, а она там… ещё тёплая… а рядом цветок… маргаритка.
II
– Полагаю, я могу быть свободна? – И не думая скрывать своё облегчение, спросила я у де Бриньона. – Я же была с вами последние полчаса, или вы станете оспаривать моё алиби?
Боже, с какой ненавистью он на меня посмотрел! Мне на секунду стало страшно, но лишь на секунду, потому что по-настоящему бояться я разучилась тогда же, когда и любить.
А де Бриньон, похоже, был всерьёз огорчён, что упускает возможность покончить со мной раз и навсегда. И, судя по его ледяным глазам, он всё ещё считал, что это какая-то уловка, и что Фальконе убила тоже я, каким-то образом сумев обмануть его.
– Пока да, – холодно сказал он мне, поднимаясь из-за стола. Он спешил следом за Грандеком к месту преступления, и я, разумеется, не имела ни малейшего намерения его задерживать.
– Мадам Лавиолетт, мы были бы вам очень признательны, если бы вы не стали пока предавать это огласке, – вкрадчиво сказал мне Жан.
– Разумеется, я всё понимаю, – с этим очаровашкой мне хотелось быть послушной и милой, и я улыбнулась ему. – Я ничего никому не скажу, можете не беспокоиться.
– Благодарю вас! – Сказал он.
– Робер, кончай любезничать, ты нужен мне на месте преступления, – оборвал нашу милую беседу де Бриньон. – И Арно прихвати с собой, помощь эксперта не помешает. Что касается вас, мадам Лавиолетт…
– «Считайте, что вам крупно повезло»! – Продолжила я за него, поднимаясь со своего места. – Вероятно, это так, но я бы предпочла, чтобы ценой моего везения не становилась чья-то жизнь. Фальконе была неплохой женщиной, разве что, немного шумной.
– Я не это хотел сказать, – возразил де Бриньон. – Думаю, не стоит напоминать вам, что вы ограничены в передвижениях начиная с этой минуты?
– В вежливой интерпретации это звучало бы как: «мадам де Лавиолетт, я попросил бы вас не покидать Швейцарию в ближайшее время?», – ехидно спросила я. Моё наказание отменялось благодаря очередному подвигу Февраля, и теперь у меня словно крылья выросли, и открылось второе дыхание. – Не волнуйтесь, мсье де Бриньон, я не собираюсь от вас бежать.
Прозвучало чертовски двусмысленно, и он это заметил. Наверное, мне не стоило говорить «от вас», нужно было сказать просто, что я не собираюсь сбегать… Ах, пустое! Не до тонкостей теперь.
– Надеюсь на ваше благоразумие, – бросил мне он, и исчез за дверью в коридор. За ним следом засобирался Жан Робер, а один из оставшихся пареньков услужливо предложил проводить меня до моего номера.
Я заподозрила, было, в нём конвоира, но, похоже, говорил он предельно искренне, от всего сердца. И с каких это пор полиция Парижа любезничает со мной?! Что за диво? Я отказалась, только ради того, чтобы проверить – и, действительно, была удивлена, когда парень не последовал за мной, а остался в кабинете.
Он не собирался за мной следить? Как же так?
Я остановилась у лестницы и ещё раз обернулась – нет, в самом деле, не собирался! Это что же получается, они меня отпустили? Вот так запросто взяли и отпустили?! Я была готова петь и танцевать от счастья, и, несомненно, сделала бы это, если бы вовремя не вспомнила о причинах моего фатального теперь уже везения.
Виттория Фальконе, мадам Соколица.
Господи, и она тоже…
Особо неприятным казался теперь тот факт, что за нашим столом её все дружно ненавидели, а некоторые бесстыдно высказывали ей это в лицо. Эрикссон, например. Или Лассард. Каково им будет узнать, что её не стало? Ещё сегодня они шутили, смеялись над ней, и вот… её труп остывает у озера, а рядом мокнет под дождём маленькая маргаритка.
Стоп. Маргаритка. У озера. Вспомнилось сегодняшнее утро, и слова Лассарда: «А я-то, так и вовсе представил вас, лежащую бездыханной у озера, с цветком незабудки на груди!» И как Габриель сказал ему, что вовсе не незабудка это будет, а маргаритка, ибо большего Фальконе явно не заслуживает.
Озеро! Маргаритка! Господи, откуда они могли знать?!
Или нет, скорее не так. Они и не знали. Как раз наоборот. Это убийца был там и всё слышал, слышал этот разговор! Фальконе не ошиблась! Убийца, действительно, был одним из нас!
Вот только мои чудесные предположения сразу же разбивались о жестокие несоответствия: Тео, главного подозреваемого, не было за завтраком! Не было и Гарденберга, стало быть, и его можно списывать со счетов.
Но… но я ведь уже почти поверила в то, что Поль Февраль – это русский художник, у которого откуда ни возьмись появились проблемы с французскими властями! А, выходит, на самом деле не он? Или я опять что-то путаю?
Я добрела до своей комнаты, когда прозвенел первый звонок к обеду. Господи, это ж сколько времени мы беседовали с Эрнестом! Господи, почему я назвала его Эрнестом? Он был для меня Эрнестом давным-давно, тогда и я была для него Жозефиной, и даже Жози… Теперь он никакой не Эрнест, а мсье де Бриньон, и не стоит об этом забывать!
Я хотела зайти к Франсуазе, чтобы поделиться с ней последними новостями (не про Фальконе, не подумайте, тут я слово своё намерена была сдержать и никому ничего о её гибели не говорить!) – и может, даже рассказать ей о своих подозрениях на счёт Тео, вот только Франсуаза сама пришла ко мне. Правильней будет сказать – ворвалась, точно вихрь, едва заслышав мои шаги.
И, стоя в дверях моей комнаты, она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Я думаю, она хотела предупредить меня, кто именно из парижской полиции к нам пожаловал, но по моему лицу поняла, что я и так уже об этом знаю. Тогда она, на ходу перестраивая свою фразу, выдохнула с отчаянием:
– Бог ты мой, Жозефина! У него и впрямь голубые глаза! Всё, как ты и говорила!
III
Второй звонок прозвенел, когда мы были уже в коридоре, и на этот раз наше опоздание было засвидетельствовано вредным доктором из Швеции.
– Какая поразительная непунктуальность, мадам! – Сказал он, демонстративно глядя на карманные часы. – Вижу я, сегодня приз за звание самой непунктуальной нации переходит к французам?
Я с удивлением обнаружила, что и Габриеля, действительно, до сих пор нет.
– А где мсье Гранье? – Спросила я у Арсена, который встал, чтобы подать мне стул.
Русский журналист вздохнул со всё тем же состраданием, и кивком головы указал на пустующее место Габриэллы Вермаллен. Я же не сдержала возмущённого: «Ох!», и очень надеюсь, что кроме Арсена никто его не услышал.
Вот, значит, как?! Мерзавец! Ещё один мерзавец, такой же, как все эти… Ах, грязное мужское племя, как я вас всех ненавижу! Говорите одно, а делаете другое! Что же выходит, милый Габриель, твоя страстная любовь ко мне не помешала тебе ныне хорошо проводить время с Габриэллой?!
Боже. А я ведь едва не влюбилась в тебя!
– А где мадам Фальконе? – Полюбопытствовал Лассард. То, что он всё время о ней спрашивал уже начало казаться подозрительным. Но когда я посмотрела на него, я поняла, что подозрительно вовсе не это, а то, что у него были мокрые волосы! Он, что, гулял под дождём? Уж не рядом ли с озером, где задушили мадам Соколицу? И, помнится, про озеро вчера упомянул именно он!
– Вы были снаружи? – Спросила я вместо ответа. Сама не знаю зачем, не удержалась. – В такую погоду?
– Я… э-э… хм. Да. – Затем Лассард пробубнил что-то невнятное, и закончил свой монолог, повторив предыдущий вопрос: – Так где же мадам Фальконе?
– У себя в номере, следует полагать, – отозвался доктор Эрикссон. – Видимо, не придумала, чем развлекать нас за обедом, и решила не являться вовсе. Меня куда больше интересует, где мсье Теодор?
– И мьсе Гарденберга до сих пор нет, – отметила обеспокоенная этим фактом Франсуаза, обращаясь персонально ко мне.
– Его с самого утра нет, – сказала ей я. – Ничего об этом не знаешь?
– Он говорил, что его собаке нездоровится, – тихонько поведала мне Франсуаза, и я вынуждена была с ней согласиться – когда мы с Габриелем встретили его в парке, старый швейцарец, действительно, упоминал, что его пёс болен. – Он сказал, что, возможно, повезёт его в город, к специальному врачу, который лечит зверей.
– Такой врач называется ветеринар, – пояснила я Франсуазе, но на этот раз вполне мило и дружелюбно, вовсе не собираясь умничать и называть её деревенщиной. Франсуаза даже подождала, когда я скажу нечто подобное, и удивилась, не дождавшись. Затем тихонько поблагодарила меня за пояснение, и опять подождала, но я опять промолчала, пряча улыбку. На этом наша беседа с ней завершилась.
– Ещё кто-нибудь будет, или уже можно начинать? – Вяло поинтересовался любящий покушать Ватрушкин. Я была рада, что он пришёл, и что у него нормализовался аппетит. Ворот рубашки он задрал до самого подбородка, чтобы никто не видел на его шее следов от верёвки, но я что-то сомневаюсь, чтобы на него особенно смотрели. Этот парень никогда не привлекал к себе лишнего внимания, факт.
По-моему, первый признак манькая-убийцы: эдакий тихоня, вечно стоящий в тени. И не заметишь, что он рядом, пока об него не споткнёшься! Я пристально посмотрела на Ватрушкина, а тот ответил мне такой ласковой и благодарной улыбкой, что я устыдилась своих подозрений. Нет, это не он! Хотя мотив для убийства Фальконе у него точно был. Та, в конце концов, могла сдать его полиции в любой момент – и неважно, брала она то письмо, или его и впрямь унёс ветер. Достаточно было того, что мадам Соколица знала о его существовании. Чем не мотив?
– Видимо, придётся начинать урезанным составом, – ответила за всех старшая Вермаллен, при этом укоризненно взглянув на то место, где должна была сидеть её дочь. И чего она ждала? Что стул засмущается и уползёт прочь? Что салфетка, перекинутая через спинку, начнёт перед ней извиняться? Если так, то графиню Вермаллен постигло разочарование.
Хотя я тоже не отказалась бы укоризненно взглянуть на Габриэллу при встрече. До свадьбы подождала бы, что ли, а то как-то нехорошо получается! Хотя… кто бы говорил?
Воспоминания об Эрнесте и нашей с ним первой ночи в ромашковом поле начисто отбили у меня аппетит. Я смотрела в свою тарелку с супом и понимала, что мне нужно поесть, потому что я и без голодовки рисковала исхудать из-за одних только нервов! Но, увы, я ничего не могла с собой поделать.
Мне всё вспоминались его глаза, голубые-голубые, как весеннее небо. Я когда-то целую жизнь готова была отдать за эти самые глаза, которые смотрели на меня с такой любовью… Мне тогда так казалось. А на самом деле благородный граф просто искал девушку посговорчивее. Видите ли, дамы его круга требуют к себе должного уважения, дескать – сначала женись, а уж потом всё остальное! Другое дело дочка адвоката, без раздумий согласившаяся отдать ему свою невинность в обмен на одни лишь обещания.
Даже и не знаю, что здесь кажется более удивительным – то, как я могла быть настолько глупа или то, как же он мог, всё-таки, так по-скотски со мной поступить? Но я опять отвлеклась, а суп, тем временем, не станет ждать, пока кончится моя ностальгия. Суп тоже требует к себе уважения, в отличие от семнадцатилетней Жозефины!
Я вооружилась ложкой, и стала вполуха слушать беседу, которую завела Нана Хэдин с Лассардом и женой доктора Эрикссона. Что-то о пароходах, кажется, или о кораблестроении? Астрид, чьего голоса я практически никогда не слышала, стала с воодушевлением рассказывать о том, что помимо травничества она любит путешествия морем, а я почему-то в тот момент подумала, что если Февраль на самом деле женщина, то было бы очень смешно, если бы это оказалась она.
Ещё одна тихоня, не привлекающая к себе излишнего внимания! Если я сейчас отвернусь, и вы спросите меня – как она выглядит? – я вам не отвечу. Её внешность ничем, абсолютно ничем не запоминалась! Типичная серая мышь. Но – хорошая, если честно. Добрая, вон какие глаза лучистые! Даже как-то и не верится, чтобы она смогла задушить Селину. Или справиться с Фальконе, по габаритам превышающей её вдвое, если не втрое!
Женщина… Нана Хэдин? А если она? Габариты у неё хорошие, близкие к самой Фальконе, разве что, ростом ниже? А что, почему нет: приревновала своего супруга к какой-нибудь роковой красавице-брюнетке однажды, и пошла убивать всех, кто более-менее на неё походил… Томас говорил, что в Париже они были во время смерти одной из жертв. Или, не одной?
Томас… Ха! Да если Нана Хэдин – убийца, то я готова поспорить, что Томас об этом узнал бы. Такого, как он – не проведёшь. Умный, очень умный и проницательный человек! И любит её без памяти. Стало быть, если за всем этим стоит Нана, то её муж её покрывает. А то, и убивает вместе с ней. А что? Супружеская чета психопатов-убийц! Спелись на почве общих интересов! Что по этому поводу сказал бы доктор Фрейд?
Вспомнив о Фрейде, я невольно вспомнила и о Фальконе, которая так его любила. Мне стало грустно, и до невозможного жаль глупую взбалмошную итальянку. Пускай её своевременное убийство спасло меня от ареста, но всё же я не желала ей смерти! Господи, выходит, она и впрямь вышла на его след… Какие у неё были улики против Февраля? И кого она имела в виду, когда говорила, что это очевидно?
Теперь уже не узнаешь, а её не спросишь. Её тело погрузят на повозку, и накроют брезентом, как однажды накрыли мою лучшую подругу Луизу де Бриньон, как накрыли несчастную Селину Фишер…
Господи, ну почему всё так?
Из уныния я не выходила вплоть до окончания трапезы, и лишь когда наша компания начала расходиться, я опомнилась, что весь обед просидела с кислым лицом. Чем, наверное, выдала себя с головой – уж проницательный Арсен точно понял, что что-то неладно, и одним из первых спросил: «Вы не знаете, с мадам Фальконе ничего не случилось?» Но это, разумеется, после того, как был задан заботливый вопрос о том, как прошла моя беседа с де Бриньоном.
Я сказала, что понятия не имею, где Виттория и что с ней, но выразила робкую надежду, что у неё всё хорошо. Арсен решил ко мне не приставать, прекрасно видя, что я и без его навязчивости еле держусь, и благоразумно оставил меня в покое.
В дверях ко мне подошёл Томас, и спросил, как прошли поиски Тео, а я даже не знала, как ему ответить. Поиски Тео привели к тому, что мы по счастливой случайности спасли жизнь мсье Ватрушкину, надумавшему совершить суицид. Так же мы узнали, что мсье Ватрушкин не был возлюбленным Селины, а только хотел им стать. А ещё, что у Тео проблемы с парижской полицией. Но как сказать об этом Томасу?!
Увы, я ещё не настолько убедилась в вине русского художника, чтобы публично клеветать на него. А что, если он невиновен? По себе знаю каково это, когда тебя обвиняют в том, что ты не совершал! Ну, или «почти» не совершал? Впрочем, неважно, это неприятно в любом случае! И подставлять Тео под удар я бы ни за что не стала, не имея на то веских доказательств. А что у меня в качестве улик? Песенка, которую горничная напевала себе под нос, заправляя свою постель ранним утром? Или фраза Ватрушкина о проблемах Тео с властями? Которую он, между прочим, сказал нам по чистой случайности только из-за того, что во время нервного срыва не мог себя контролировать. Дважды он это точно не повторит, и в присутствии полиции тем более. Особенно в присутствии той полиции, с которой проблемы у его друга Тео.
Поэтому мне пришлось немного слукавить, и сказать Томасу, что, к сожалению, ничего нового узнать не удалось, а мсье художник отбыл в Берн ещё с вечера, а когда вернётся не сказал.
Мало ли, какие у него были причины для отъезда?! К девочкам поехал, чёрт возьми! И хорошо, что тактичный Томас не стал спрашивать, лишь сочувственно кивнул, и спросил, почему де Бриньон искал для беседы именно нас троих.
И тут-то я, наконец, додумалась удивиться. Томас подумал, что меня удивила его осведомлённость, и поспешно пояснил, что ему об этом сказал управляющий, мсье Грандек, когда спрашивал, не видел ли он мадам Лавиолетт, мадам Фальконе и мсье Гранье?
Но удивилась я вовсе не этому, разумеется. Скорее, странной комбинации: я, Фальконе и Габриель? У де Бриньона, видимо, не все дома?! Более нелепого выбора и придумать нельзя!
Если Поль Февраль мужчина, во что свято верит парижская пресса, то с какой стати он вызвал нас с Соколицей в первую очередь? Ладно, со мной всё ясно, таинственная вдова, убийца своего мужа, одержимая жаждой мести его любовницам… Но Фальконе! Он что, и её подозревал?! Ах, да, её же не было за обедом в тот день, когда убили Селину. И ведь она так и не сказала, где она была!
Если предположить, что это она убивала всех тех девушек, то картина складывалась преинтересная! Во-первых, это сразу же объяснило бы её нездоровое увлечение Февралем и её вполне нормальное на первый взгляд увлечение книгами по психоанализу. Во-вторых, её смерть перестаёт выглядеть подозрительно, учитывая то, что мы узнали от Ватрушкина сегодня. Сначала несчастный влюблённый хотел повеситься, но затем, когда мы вытащили его из петли, он вдруг передумал и решил убить Фальконе прежде, чем та расскажет полиции о его якобы отношениях с покойной Селиной Фишер. Ватрушкин вспоминает, как слышал за завтраком об озере и маргаритке, и придумывает отличный план – он убивает убийцу, копируя почерк самого убийцы, и вот – вуаля! – волшебным образом убийца превращается в жертву.
Если так, то полиция никогда в жизни ничего не докажет.
А это плохо, потому что подозрение опять ляжет на меня.
Я всерьёз озадачилась, и совсем забыла, что должна была ответить Томасу ещё с полминуты назад. А он ведь всё ещё ждал ответа!
– С вами всё в порядке, Жозефина? – Заботливо спросил он, отметив моё странное состояние.
– Да, простите, я просто немного не в себе после разговора с мсье де Бриньоном, – сказала я чистую правду. – Я не знаю на счёт мадам Соколицы, и на счёт Габриеля Гранье тоже не знаю, ума не приложу, зачем они могли ему понадобиться! А что касается меня… слышали вы или нет, но я подарила Селине ту самую шляпку, что нашли рядом с местом преступления. Мсье де Бриньон хотел, чтобы я объяснила лично ему, каким образом моя вещь оказалась у убитой горничной.
Да-да, и только это! И вовсе не собирался любезнейший де Бриньон обвинять меня в убийстве любовниц моего покойного мужа, ну что вы, как вы могли такое подумать! Томас, видимо, и не думал, потому что улыбнулся вполне располагающе, и предположил:
– А наш Габриель, должно быть, попал под подозрение как единственный француз, приехавший из Парижа в Берн одновременно с Февралем. Тогда я должен разубедить комиссара как можно скорее, у Габриеля железное алиби: он приехал в «Коффин» на день раньше. Тринадцатого июля, а не четырнадцатого и не пятнадцатого. Я помню день его приезда потому, что он совпал с днём рождения моей Наны. Эта бесстыдница сказала тогда, что не желала лучшего подарка, чем соседство с таким обаятельным мужчиной! – И тут Томас наградил меня обезоруживающей улыбкой, а я нахмурилась.
– Зачем вы мне это говорите? – Опять я видела во всём подвох, да? И почему я не подумала, что Томас просто давным-давно догадался о моей симпатии к Габриелю, и хотел как лучше?
– Я просто не хотел, чтобы вы думали о нём плохо, – ответил он. – В конце концов, мсье Арсен был прав, когда говорил, что Тео – далеко не единственный художник в «Коффине». Но, я вас уверяю, это был и не Габриель!
Что, серьёзно? Нет, ну надо же, какая проницательность! Я выдавила из себя улыбку, и, поблагодарив Томаса, попрощалась с ним и заспешила к себе, на ходу кляня себя за то, что у меня не вышло сохранить в тайне свои чувства к Габриелю от этого человека. Спасибо, конечно, Томас, и за сочувствие тоже спасибо, но я и без твоих добрых слов знала, что это не Габриель!
Почему? Потому что, чёрт возьми! Что, сразу троих, да? Красавицу Габриэллу, богатую наследницу, загадочную темноглазую вдову Жозефину Лавиолетт, и невинную простушку горничную – ну почему бы не очаровать? Как бы я не ненавидела мужчин, как бы я не была убеждена в низменности их натуры, одно я знала точно – Габриель не стал бы так поступать.
Просто не стал бы, или я ничего не понимаю в людях!
Если вы сейчас сочтёте меня романтичной влюблённой дурой, я скажу так: о, да, Габриель Гранье вполне мог бы задушить Селину Фишер голубым шарфиком в горошек, но Габриель Гранье уж точно не был тем человеком, с кем она встречалась в домике у реки! Это не он затуманил ей голову сладкими речами, и не он влюбил её в себя. И запонка принадлежала не ему, а кому-то ещё.
Так-то.
IV
Побыть одной и разобраться в своих мыслях у меня не получилось. Помешала Франсуаза, как наседка вьющаяся вокруг меня с того самого момента, как я вернулась с допроса. Всё-то ей было интересно, всё-то хотелось разузнать, по большей части всякие глупости: как он посмотрел на меня после долгой разлуки? Каким тоном со мной говорил? Пожалел ли, что бросил меня восемь лет назад? Раскаялся ли, что женился на другой? Причём в её интерпретации это звучало так: «Я надеюсь, он пожалел?», «Я надеюсь, он раскаялся?»
Думаю, если бы я сказала, что Эрнест упал передо мной на колени и попросил прощенья за то, что сломал мою жизнь, Франсуаза поверила бы без малейших сомнений. Боже, я что, опять назвала его Эрнестом?
Нужно привыкать к подчёркнуто вежливому «мсье де Бриньон», ну или, на худой конец, «господин комиссар», ибо я всё ещё не разучилась вздрагивать, слыша это, казалось бы, давно забытое имя.
– Франсуаза, ты утомляешь меня своей пустой болтовнёй, – сказала я ей вместо ответа на сорок седьмой вопрос о том, как же, всё-таки, прошла наша встреча? На предыдущие сорок шесть я отвечала молчанием.
– Почему ты не хочешь об этом поговорить? – Обиженно поджав губы, спросила она.
– Потому что я уже вдоволь наговорилась об этом с Рене, – ответила я сурово, прекрасно зная, что как только я упомяну её брата, Франсуаза сразу умолкнет. И верно, она насупилась, скрестила руки на груди, и с куда меньшей уверенностью произнесла:
– Он, признаться честно, поразил меня… неудивительно, что ты его полюбила. Такой видный мужчина! Я видела его мельком, с лестницы. Он очень хорош собой.
– Ты не могла бы заткнуться? – Поинтересовалась я, недовольно глядя на неё из-под сдвинутых бровей.
– Я подумала, что ты захочешь поговорить об этом! – Обиженно воскликнула Франсуаза. А если Франсуаза повышала голос, значит, она и впрямь была взволнована. – Мы же подруги, в конце концов!
– Если тебе жизненно необходимо обсудить моих любовников, то давай начнём с Дэвида. О нём ты, помнится, так же истово хотела послушать в прошлый раз. Я могу рассказать тебе, как нежен он был, и как стонал от наслаждения, когда я доводила его до исступления своими бесстыдными ласками. Что ещё ты хочешь знать о нём? Сколько раз за ночь он мог делать это? Четыре. И, о да, Франсуаза, как ты и предполагала, обрезание в данном случае практически не играет роли! Разве что, он томил меня дольше, чем остальные?
Слушала она, разумеется, во все уши, да ещё и обе руки к груди прижала, как завороженная, словно я рассказывала ей не какую-то грязь, а очень интересную детскую сказку с неожиданным финалом.
А потом, чёртова неблагодарная негодяйка, в ответ на мои откровения заявила:
– Мне больше не интересно про Дэвида! Я хочу послушать про де Бриньона!
Нет, ну как вам это? Я поискала взглядом, чем бы таким тяжёленьким в неё запустить, но кроме антикварной вазы, расписанной под раннего Боттичелли, не нашла ровным счётом ничего подходящего. А вазу было жаль, красивая, изысканная. Я уже говорила, что у хозяина отеля был недурной вкус? Кажется, да.
– Поди прочь, Франсуаза, – устало произнесла я. Она пошла, только не прочь, а прямо ко мне, и, обняв меня за плечи, спросила очень тихо:
– Жозефина, скажи мне, ты в порядке?
– Франсуаза, чёрт возьми, меня лишь чудом не арестовали и не увезли в тюрьму, а ты спрашиваешь, в порядке ли я?! Разумеется, нет, что за идиотский вопрос!
– Я не об этом, и ты прекрасно меня поняла.
– Я не желаю обсуждать с тобой Эрнеста де Бриньона. Ни с тобой, ни с кем бы то ни было ещё. Я неясно изъясняюсь?
– Жозефина, девочка моя, я ведь за тебя волнуюсь! – С какой-то ну просто фантастической лаской и заботой произнесла она. Ещё бы назвала меня «Жози», как в тот раз, и я расплакалась бы от переизбытка чувств, несомненно.
– За меня не надо волноваться, – всё ещё недовольно ответила я. – И, Франсуаза, если ты спрашивала об этом, то – да, я в порядке. В полнейшем.
– Я надеюсь, – сказала она со вздохом. – Потому что по тебе ведь никогда невозможно ничего понять! Ты будешь улыбаться, а сама медленно умирать от боли, и уж скорее умрёшь, чем попросишь о помощи!
– А если ты знаешь об этом, то зачем тогда спрашиваешь? – Спросила я, невесело улыбнувшись ей. – Я ведь всё равно не отвечу, даже если что-то и не так.
– Я хочу, чтобы ты знала: если ты передумаешь, у тебя всегда есть жилетка, в которую ты можешь выплакаться! – Сказала она с чувством.
– Выплакаться! – Я улыбнулась теперь уже совсем по-другому, искренне. – Франсуаза, да ты хоть раз за всё то время, что знаешь меня, видела, чтобы я плакала когда-либо?
– Никогда, – не стала спорить она. – Это-то меня и пугает, Жозефина!
Как там говорил наш проницательный журналист? «Не обязательно всё время быть сильной?» А может, он был прав?
И вот в тот самый момент, когда я уж собралась, было, обнять мою любимую подругу и рассказать ей, как мне на самом деле плохо, и что, по правде говоря, держусь-то я из последних сил – как раз в этот самый момент в дверь мою негромко постучали.
Вовремя, надо думать. Я бы потом до конца дней ненавидела себя, если бы, действительно, позволила себе в минуту слабости разрыдаться у Франсуазы на груди.
– Жозефина, открой, это я! – потребовал негромкий голос, когда никто из нас не отозвался на стук.
Габриель?! Я удивлённо подняла брови, никак не ожидая его визита, а Франсуаза подмигнула мне и спросила тихонько:
– Так значит, вы уже и на «ты» перешли?
И, качая головой, вроде бы укоризненно (но я-то знала, что одобрительно), Франсуаза проплыла в сторону двери, и открыла её для Габриеля вместо меня. И сказала ему вежливое:
– Я как раз собиралась уходить, мсье Гранье! – После чего удалилась, по-моему, даже похлопав его по плечу на прощанье. Что это она? Давала ему добро на разврат в моей комнате? Совсем, что ли, тронулась умом? Да уж, краснеть и скромничать Франсуаза предпочитала только в тех случаях, когда это было угодно ей!
– Мне казалось, мы всё обсудили, – сказала я, когда Габриель вошёл, так и не дождавшись приглашения. Он всё равно не получил бы его, я не собиралась с ним разговаривать вообще, ни уж тем более я не собиралась разговаривать с ним в собственной спальне.
– Нет, не всё, – сказал он, делая ещё один шаг ко мне. Он был взбудоражен, и выглядел так, словно за ним гнались. Я обратила внимание на его волосы – слава богу, сухие! Значит, с прогулки он успел вернуться до дождя, и не выходил из отеля, когда началась гроза. Стало быть, мадам Фальконе он не душил, что меня весьма и весьма обрадовало.
Нет, а я всерьёз подозревала его? Ну-ну.
– Габриель, прошу тебя, давай хотя бы не здесь, – примирительно начала я, взывая к голосу его здравого смысла, – если тебе так приспичило поговорить, давай поговорим в гостиной, в зале, в коридоре в конце концов, но только не в мой спальне! Неужели ты не понимаешь, что компрометируешь меня? У меня и так репутация ни к чёрту!
– Жозефина, я не могу так, – простонал он, – это невыносимо! Сколько ещё ты будешь меня мучить, скажи на милость?
– Я… что?! Опомнись, Гранье! Это я тебя мучаю?! Да я, похоже, единственная здесь, кто ведёт себя безупречно и старается соблюсти приличия или видимость таковых! Я уже сказала тебе, что у наших отношений нет и не может быть никакого будущего, и… Боже, не смотри на меня так! – Последнюю фразу я произнесла на выдохе, и прозвучала она хрипло, томно, маняще. Он, разумеется, не сдержался и сделал ещё один шаг ко мне. – Габриель, пожалуйста… уходи! Уходи, и не возвращайся, никогда не возвращайся! Это ты меня мучаешь, а не я тебя! Ты обручился с наследницей Вермалленов, вот и иди к ней, не сомневаюсь, она будет с тобой куда более нежной, чем я, и…
– Жозефина, я передумал, – сказал он, чем, признаться, шокировал меня до глубины души.
– Ты… что?
– Я понял, что не смогу так, – ответил он, остановившись в двух шагах от меня. – Это ведь низко, грязно… торговать собой, ради чего? Ради денег? Принести свою душу на заклание, ради того, чтобы Вермаллены спонсировали моё творчество? Как это низко! Мне и раньше казалось, что хуже и быть не может, ещё до того, как я встретил тебя… но я думал, это поможет мне достичь чего-то в жизни, обрести известность, стать популярным… Господи, каким глупцом я был! Многие известные художники начинали с нуля, и у них получалось разбогатеть, настоящий талант всегда найдёт себе дорогу! Значит, и у меня получится, если я чего-то стою. А если нет… то и пусть катится к чёрту эта живопись! Она мне, собственно, и так уже не нужна, мне ничего не нужно, кроме тебя, Жозефина!
Так вот почему их не было за обедом? Мы-то с Арсеном, грешным делом, подумали дурное, а у них, оказывается, имел место серьёзный разговор?
– В своём ли ты уме, Габриель? – Спросила я, прижав руки к груди, чтобы унять разволновавшееся сердце. – Что ты такое говоришь? Не ты ли убеждал меня, что искусство стало смыслом твоей жизни ещё с раннего детства?
– Да, но я, видимо, ошибался. Когда я увидел тебя, всё изменилось, Жозефина! Твоё появление перевернуло всё в моей жизни с ног на голову. Боже, я ведь сделал ей предложение только ради того, чтобы тебя задеть! А тебе, получается, всё равно? Тебя это ничуть не трогает, неужели? А, по-моему, ты просто притворяешься, Жозефина!
– Не подходи ко мне, Гранье, – прошептала я, но прозвучало это скорее как: «Возьми меня, Гранье! Возьми меня прямо сейчас, прямо здесь, на полу!» И он, разумеется, понял мою фразу именно так, как нужно. И сделал ещё один уверенный шаг в мою сторону. Мы оказались так близко друг к другу, что у меня снова закружилась голова, а когда он протянул руку и коснулся моей щеки, ощущение это только усилилось.
– Зачем ты притворяешься? Ты боишься? Боишься, что я окажусь таким же, как твой муж? Пусть тебя это не удивляет, я много слышал о знаменитом Рене Бланшаре! Лично его я не знал, но его слава шла на два шага впереди. Так вот, я не такой, Жозефина! Я совсем другой. Откройся мне, и увидишь, я клянусь тебе, я не разочарую тебя!
– Габриель, – вырвалось у меня его имя, а голос звучал так слабо, так беспомощно.
О-о, я пропадаю! Ещё немного, и пропаду окончательно.
Надо вспомнить глаза Габриэллы, полные слёз, и её по-детски добрые и искренние просьбы оставить её любимого в покое.
Но, помилуйте, что же я могу сделать, если он не любит её?! Будто читая мои мысли, Гранье сказал:
– Я разорвал помолвку. Я сказал ей, что хотел жениться на ней только ради денег, но вовремя осознал свою ошибку и понял, что не смогу быть таким подлецом. Я всё ей рассказал, Жозефина.
– Господи, зачем? – Простонала я. Теперь она, должно быть, затаила на меня смертельную обиду. Боже мой, он же сердце ей разбил! Ах, Габриель, что же теперь делать?
– Зачем? И ты ещё спрашиваешь? Потому что я не люблю её, Жозефина! Я люблю тебя, и кроме тебя мне никто не нужен! Я на всё готов ради тебя. Хочешь, я увезу тебя отсюда? Давай сбежим, пока наша полиция не арестовала тебя по подозрению в убийстве! Они ведь в первую очередь подумают на тебя!
Уже не подумают, Фальконе-то мертва. Но Габриель пока об этом не знал. Да и сбегать никуда в любом случае не стоило, де Бриньон меня всё равно отыщет, из под земли достанет, это факт.
– Габриель, пожалуйста, не горячись, – попросила я, и, поймав его руку, отвела её от своего лица. – Я… я не думаю, что ты должен был так поступать с Габриэллой! Она же совсем юная, ты можешь себе представить, как тяжело ей было принять твоё пугающее непостоянство? Утром ты хочешь её, вечером – уже не хочешь! Да так же нельзя, чёрт возьми, тебе двадцать восемь лет, а не семнадцать!
– Знаю, – покаянно произнёс он. – Знаю, что нельзя! Но что ты предлагаешь? Я не люблю её, когда ты это, наконец, поймёшь? Я смотрю на неё, и представляю тебя. Думаешь, это мелочи? Лучше было бы жениться на ней и сделать её несчастной?
Нет.
Определёно, нет.
Такие ошибки лучше и вовсе не совершать, нежели потом пытаться их исправить. А несчастливый брак – это ужасно, уж поверьте моему семилетнему опыту.
– Пожалуйста, Жозефина, не прогоняй меня, – взмолился Габриель. Его голос звучал так проникновенно, а глаза были полны такой невыразимой тоски, что я едва ли не сдалась. – Не прогоняй меня, ну только не опять! Я же вижу, что небезразличен тебе! Жозефина, я прошу тебя, дай мне шанс! Всего один шанс, вот увидишь, я докажу тебе, что я совсем не такой, как твой муж… Я сделаю тебя счастливой, если только ты этого захочешь!
Так близко к полнейшему провалу я не была ещё никогда. Ещё секунда, и я сказала бы, что люблю его, и, вероятно, тоже потом проклинала бы себя за слабость до конца своих дней.
А может, и нет. Вдруг он правда сделал бы меня счастливой?
Ведь мог бы. Наверное.
Но поддаться его чарам мне было не суждено, как и в предыдущем случае, вмешалась рука судьбы. Правда, на этот раз в дверь не стучали – она открылась сама, рывком, едва ли не слетев с петель. И Эрнест де Бриньон быстрыми шагами, по-хозяйски, вошёл в мою комнату – так, будто имел на это полное право.
V
– Какого чёрта?! – Вне себя от возмущения, собралась, было, воскликнуть я. Но не рассчитала сил, и, опять же, томно выдохнула. Гранье резко развернулся на сто восемьдесят градусов, нервно провёл рукой по волосам, и сказал:
– Правила приличия, похоже, не распространяются на полицейских!
– И в особенности на французов, – не остался в долгу де Бриньон. – Что вы здесь делаете в такое время?
– Это совершенно не твоё дело, – сквозь зубы произнесла я. Габриель повернулся теперь уже ко мне, сказочно удивлённый тем, что я на «ты» с комиссаром парижской полиции. – Убирайтесь вон из моего номера, оба!
Сказать, что я была в ярости, не сказать ничего.
– Вы слышали, Гранье? – Лениво полюбопытствовал де Бриньон.
– Я сказала – оба! – Воскликнула я, повысив голос. Нервы мои были на пределе.
– О-о, нет, я, всё же, останусь! – Нахально сказал де Бриньон. – Мы с вами не договорили, мадам Жозефина. А вот вам, Гранье, действительно, лучше уйти. Сразу двое мужчин в спальне одной женщины – это слишком даже для мадам Лавиолетт!
Ах он мерзавец! Ещё острить смел!
– Проваливай к чёртовой матери вместе с ним, де Бриньон, мне не о чем с тобой разговаривать! – Сквозь зубы процедила я, но его мой настрой, конечно же, не впечатлил.
– Гранье, силой прикажете вас уводить? – Как ни в чём не бывало, поинтересовался он. А Габриель вдруг вскинул голову, и посмотрел на де Бриньона с такой ненавистью, что я невольно испугалась. Габриель всегда представлялся мне таким спокойным и сдержанным, а, выходит, и он тоже умел ненавидеть?
Постойте-ка, а чему я удивляюсь? Я и сама ненавидела де Бриньона куда больше, чем кто бы то ни было!
– По-моему, – тихо, но с вызовом, произнёс Габриель, – вы превышаете свои полномочия, комиссар!
– По-моему, – ответил де Бриньон равнодушно, – вашего мнения никто не спрашивал, Гранье! Вы, что же, забыли, что являетесь главным подозреваемым? После мадам Лавиолетт, разумеется.
– Господи боже, – простонала я. По-моему, Габриелю крупно не повезло. Теперь к нему будут придираться как минимум потому, что он посмел встать на мою защиту. Не нужно было ему вообще со мной связываться, от меня же одни неприятности!
Ох, боже, что же делать?
Нервно облизнув губы, я посмотрела на Габриеля с мольбой, и попросила:
– Габриель, пожалуйста, оставь нас.
– Что?! Ты же не собираешься оставаться с ним наедине, здесь?! – С таким возмущённым видом спросил Гранье, будто не он сам уединился со мной здесь же минутами ранее. То есть, в этом он ничего предосудительного не видел, а с господином комиссаром оставаться наедине в своей спальне мне было ни в коем случае нельзя!
Восемь лет назад – может быть.
Но не теперь.
– Габриель, – собрав всю свою волю в кулак, я как можно мягче произнесла: – Пожалуйста, прошу тебя, уходи. Господин комиссар наверняка желает обсудить со мной некоторые формальности.
– У тебя в спальне?!
– Габриель, я умоляю тебя! – Застонала я, едва ли не притопнув ногой от отчаяния. Боже, ну почему он такой упрямый? Неужели не понимает, что сам же наживает себе неприятностей в эту самую минуту? Если не понимал, то де Бриньон решил объяснить ему простые истины:
– Даю вам пять секунд на то, чтобы уйти по-хорошему, – сказал он Габриелю, – в противном случае я уведу вас отсюда под конвоем и посажу под арест по подозрению в убийстве Селины Фишер и Виттории Фальконе.
– Фальконе?! – Габриель изумлённо взглянул на де Бриньона, позабыв о нашей непростой ситуации в одночасье. – Виттория мертва?! Но она же… ещё этим утром…
– Четыре секунды, – безжалостно продолжил де Бриньон. – Три, две…
– Бог ты мой, Габриель! – Воскликнула я, и, поняв, что дело с мёртвой точки не сдвинется, взяла его за плечи и едва ли не силой подтолкнула к выходу.
– Жозефина, я не оставлю тебя с ним наедине! Это неприлично! – Не унимался Гранье, глядя поверх моей головы на де Бриньона с неприкрытой ненавистью. – Врывается к тебе без стука, хамит! Да разве так ведут себя полицейские? Нет, Жозефина, и не проси, я не уйду, я…
– Габриель, он мой старый… знакомый, – пересилив себя, я всё же вынуждена была признать это. Не сомневаюсь, де Бриньон усмехнулся, услышав, как я охарактеризовала наши с ним прошлые отношения. – Он ничего мне не сделает, клянусь тебе. Мы просто поговорим, вот и всё. Пожалуйста, уходи, не наживай себе врагов, они и так подозревают тебя! Я прошу тебя, – я понизила голос, искренне надеясь, что у де Бриньона хватит такта не подслушивать, но, не сомневаюсь, именно в этот момент слух-то он напряг, – Габриель, сделай это ради меня. Считай это моей личной просьбой. Пожалуйста! Просто оставь нас.
Подействовало, вы не поверите! На ум пришли поэтичные слова Габриэллы Вермаллен, начитавшейся женских романов о любви. «Он будет счастлив стать вашим рабом», так она сказала? Получается, восемнадцатилетняя девочка оказалась проницательнее меня – Гранье, действительно, ушёл. Не забыв подарить мне ну очень недовольный взгляд на прощанье, и точно такой же, но с нотками ненависти – де Бриньону.
Я закрыла за Габриелем дверь, и, прижавшись к ней спиной, на несколько секунд прикрыла глаза. Уф, хоть от одного удалось избавиться! Посмотрим, как обстоят дела со вторым…
Ясное дело, что хуже. Неизменно хуже.
Но чтоб настолько… Я, кажется, только теперь начала понимать, почему Габриель не хотел оставлять нас вдвоём. Когда я заметила, каким взглядом на меня смотрит этот мерзавец, мне сделалось поистине жутко.
Похоть, господи! Животная страсть, самая настоящая похоть, и плохо скрываемое вожделение! Совсем как тогда, восемь лет назад. Я с некоторой растерянностью посмотрела на Эрнеста, и спросила:
– Доволен?
Он усмехнулся в ответ, и, встав напротив, облокотился о подоконник, и вновь принялся меня рассматривать. Сказать, что под его взглядом мне стало не по себе – не сказать ничего. Мне захотелось обнять себя за плечи и поёжиться, но я не сделала этого, вовремя вспомнив, что мой муж научил меня блестящему самообладанию.
– Мы не с того начали, Жозефина, – сказал де Бриньон, устав молчать. – Для начала – здравствуй.
– Что ж, и тебе не хворать! – Я решила не оставаться в долгу, раз этот ублюдок хотел играть со мной – пускай играет по правилам! – Как жена? Как дочка? Я слышала, подаёт большие успехи в музыке! На твоём месте я наняла бы ей хорошего учителя-итальянца. Эти ребята знают в музыке толк, если верить моей Франсуазе.
Он слушал мои язвительные речи с той же самой усмешкой, что и вначале, и не переставал меня разглядывать. А потом сказал зачем-то:
– Я настоял, чтобы её назвали Луизой. В честь моей сестры.
– Это… трогательно. – Отозвалась я, не понимая, с какой стати он обсуждает со мной всё это спустя восемь лет. Ситуация, согласитесь, не располагала к задушевным беседам о семье. Или это я снова вредничаю?
– Жозефина, ты не хочешь поговорить начистоту? – Спросил он меня вдруг. Без малейшего перехода, и до того неожиданно это прозвучало, что я растерялась на пару секунд. Но лишь на пару. Думаю, он этого и не заметил.
Начистоту, да? А это смотря что он имел в виду.
Я так и сказала:
– Смотря что ты имеешь в виду.
– Для начала, все эти убийства, – сказал де Бриньон, кивнув мне. – Пятеро из десяти, или, теперь уже из двенадцати жертв были прямо или косвенно связаны с твоим мужем. А покойный Этьен де Лакруа вовсе не был его любовником, как ты предположила. То есть, я, конечно, не могу утверждать наверняка, но одно известно точно – он был его деловым партнёром.
– Что, серьёзно?
– Жозефина, не ломай комедию, чёрт возьми! – Зло произнёс он. – Ты не могла этого не знать!
– Я, по-твоему, знаю по именам всех его компаньонов?! Да у него их были сотни! Шутка ли: известный во всей Франции банкир! Ты сказал, пятеро из десяти? Поищи получше, Эрнест, с такими связями, как у моего мужа, не сомневаюсь, он и остальных жертв знал, через одного-двух человек!
– Хорошо, давай я спрошу по-другому, напрямую, раз ты упрямо делаешь вид, что не понимаешь…
– Да я, действительно, не понимаю! – Воскликнула я, и тотчас же замолчала, потому что он спросил:
– Это ты убила их всех?!
Чёртов сукин сын.
Я едва сдержалась, чтобы не всхлипнуть, но это было бы совсем уж из рук вон. Потому, тяжело вздохнув, я набрала в грудь побольше воздуха, но вместо ругательств спросила лишь короткое:
– Что?
– А что ещё я должен думать?! – Будто в своё оправдание, спросил он яростно. – Четверо, на тот момент, жертв были так или иначе связаны с твоим мужем! А потом я приезжаю сюда, и возле трупа Селины Фишер нахожу твою шляпку! Не слишком ли много совпадений, Жозефина? Четверо жертв, чёрт возьми, четверо, включая Иветту, а уж после её смерти, согласись, я первым делом должен был вспомнить о тебе!
– Это так мило, Эрнест, что для того, чтобы ты обо мне вспомнил, кому-то пришлось умереть! Как трогательно, боже мой! – Прижав руки к груди, произнесла я, с нескрываемым презрением. Господи, как я его ненавидела!
– Она помогала Рене Бланшару оформлять ваш развод, ведь так? Чтобы он потом беспрепятственно мог жениться на Марии Лоран. И не делай вид, что ты этого не знала.
Знала, разумеется. Я просто понятия не имела, как звали ту «счастливицу», на которую пал выбор моего мужа. И то, что бедняжка Мария стала жертвой Февраля не больше, чем совпадение. Интересное такое совпадение…
– А потом Иветта неожиданно умирает! – Продолжил де Бриньон с усмешкой. – И ваш развод, после которого ты должна была остаться без гроша в кармане, сам собой повисает в воздухе. И пока Рене ищет новых специалистов, ненавидящих тебя так же сильно, как Иветта, пока он цепляется за малейшие попытки выставить тебя на улицу…
– …он теряет драгоценное время, и не замечает, как разоряется сам, – договорила я за него, с точно такой же лёгкой усмешкой на лице. – Как опрометчиво с его стороны! Бедняга понимает, что разорён, но слишком поздно. Не придумав ничего лучше, он пускает себе пулю в висок, не желая мириться с нищетой. Предсмертная записка прилагается.
– Как ты всё это провернула? – Тихо спросил де Бриньон. Что это там, кроется за твоим любопытством? Уж не искреннее ли восхищение моим коварством? Я опять усмехнулась.
– Провернула что? Записка, действительно, была. Он сам написал её.
– Значит, ты его не убивала?
– А ты не читаешь газет? Разве ты не знаешь, что суд оправдал меня, признав невиновной?
– Жозефина, это ты убила его или нет?
Ну вот, так всегда. Сначала: «Ах, Жозефина, какое приятное знакомство!», а потом – «Это ты убила своего мужа, Жозефина?» До чего же вы все предсказуемы!
– Это имеет отношение к делу Февраля? – Лениво поведя бровью, поинтересовалась я.
– Непосредственное.
– Если ты всерьёз думаешь, что я, озлобившись на своего мужа, стала убивать всех его любовниц, прячась за именем манька-убийцы, то ты глупее, чем я думала, Эрнест, – недрогнувшим голосом ответила я.
Вот только он был совсем не глуп.
– В том-то и дело, Жозефина! – Воскликнул де Бриньон, подняв указательный палец. – Не всех, в том и дело, что не всех! Некоторых. Ибо Поль Февраль действительно существует, и убивает своих жертв независимо от тебя.
– Это утешает, – с сарказмом сказала я. Бриньон невесело улыбнулся мне, и продолжил:
– Возьмём, к примеру, Марию Лоран, на которой Рене Бланшар хотел жениться после развода с тобой. Я ведь едва не поймал убийцу в ту ночь, прямо на месте преступления! Знаешь, что поразило меня тогда? Запах фиалок! Запах чёртовых пармских фиалок был там повсюду! Твой запах, Жозефина. Я бы его никогда не забыл.
И что мне предложите? Выругаться по поводу того, как меня в очередной раз удачно подставили? Или умилиться тому, что этот ублюдок помнил, как пахла Жозефина Лавиолетт в его объятиях когда-то много лет назад?
– И тогда-то ты окончательно убедился, что это я? – Спросила я с насмешкой, никак не отреагировав на его слова. Он ждал, что меня тронет это его признание, но просчитался. Мне было наплевать.
– Я не хотел верить в твою вину до последнего. Но вот, я приезжаю сюда, и Витген говорит мне, что на данный момент главная его главная подозреваемая – это ты. Твоя шляпка была найдена на месте преступления.
– Эрнест, – с самой что ни на есть искренней улыбкой произнесла я, – посмотри на меня и скажи, я, по-твоему, настолько глупа? Я, провернувшая эту блестящую аферу с Рене Бланшаром, свергнувшая его с золотого трона, я – и попалась бы на такой дурацкой мелочи? Неужели ты думаешь, что я не просчитала бы эту возможность, если бы, действительно, убила Селину Фишер?
– Ты удивишься, но вот именно это и заставляет меня верить в твою невиновность, – с усмешкой ответил де Бриньон. Мне стало приятно, что он признаёт мои заслуги, и я благосклонно улыбнулась ему в ответ. Но всё равно – с ноткой презрения, и собственного превосходства. Тогда он продолжил: – Признаться, я и в этом нахожу некий умысел. Ты могла сделать это нарочно. Дескать, всё настолько очевидно, что было бы слишком глупо, если бы это оказалась я.
– А ты не переигрываешь? – Изогнув бровь, поинтересовалась я.
– А ты не переигрываешь, Жозефина?
– Я – нет, – ответила я искренне. – Если бы я хотела убить Селину Фишер, уж поверь мне, я бы сделала это так, что никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не смог бы выйти на меня. Как в случае с Иветтой, – тут я снова улыбнулась, и протестующее взмахнула рукой, предвидя возможный вопрос, – но сразу спешу заметить – я её не убивала. Это сделал её муж. С моей подачи, разумеется, если тебе так уж хочется знать. Но, надо ли говорить, что ты никогда этого не докажешь?
– Чёрт возьми, так я и думал, что ты рано или поздно до неё доберёшься, – произнёс де Бриньон, качая головой. – Жозефина, ну зачем? Не нужно было! Хотя, признаться, я вздохнул с облегчением, когда узнал о её смерти. Я до сих пор не могу простить ей гибель моей сестры…
– Дело было не только в твоей сестре, Эрнест, – ответила я невозмутимо. – Ты совершенно правильно сказал, эта шлюха помогала Рене оформлять бракоразводный процесс, используя свои связи в адвокатских кругах. Она сделала так, чтобы уволили моего отца, ты в курсе? Он хотел помешать им оставить меня на улице без гроша в кармане. Теперь сидит у себя в поместье, в полнейшей нищете, став жертвой своих же собственных интриг, и распродаёт мебель потихоньку, чтобы было, на что купить еду! Бедный папочка! Слышал бы ты, как убедительно когда-то он говорил, что Рене Бланшар лучший кандидат в мужья! – Тут я невольно позлорадствовала, представив, как плохо, должно быть, ему теперь, и как он сожалеет о содеянном. – Что касается Иветты, с ней в любом случае нужно было что-то решать, и неважно, разведусь я с Рене или нет. Эта шлюха спала с моим мужем, и не стеснялась говорить мне об этом в лицо. Нет, а почему только мне? Разве Дэвид не заслуживал правды? А вот тут, ты прав, Эрнест, я переиграла. Слегка. Я не думала, что он её убьёт, клянусь тебе. Я не учла тот факт, что Дэвид Симонс на самом деле Давид Симон-ад-Фархади, иранец, хозяин крупной компании по добыче нефти в Керманшахе. У мусульман не в почёте измены. Тем более, такие грязные.
– О, господи, – только и сказал Эрнест.
– Я, правда, думала, что он просто урезонит её, и всё. Побьёт, может быть, или посадит под домашний арест? Когда я шла к нему, я не подозревала, во что это выльется, а если бы и подозревала… что ж, да. Всё равно бы пошла. Если учесть то, что я-то, в конце концов, единственная осталась в выигрыше.
– И вы решили свалить всё на Февраля?
– Кто это «мы»? – Я покачала головой. – Как бы ты не хотел считать меня виновной, но я не причастна к смерти Иветты. Разве что, косвенно? Ведь если бы я не открыла Дэвиду глаза на истинную сущность его жены, так бы он и жил иллюзиями и по сей день, бедняжка!
– А Марию Лоран за что было убивать? Жозефина, ей было восемнадцать лет, и я держал на руках её остывающее тело! Она была совсем ещё девочка.
О, да, Рене любил таких. И я когда-то была такой же, и привлекла его внимание. На свою голову. Или, правильнее будет сказать, это он увлёкся мной на свою голову, если вспомнить о том, что он гниёт на кладбище Пер-Лашез, а я сделалась наследницей всего его состояния. Так что, кому с кем не повезло – это ещё вопрос!
Однако одной истины это не меняло:
– Я не убивала Марию Лоран, Эрнест. Я и не знала, что его новую избранницу звали именно так.
– А фиалки – это, конечно, совпадение?
– Не такой уж редкий аромат, – я, как ни в чём не бывало, пожала плечами.
– Не ври мне, Жозефина! – То ли с угрозой, то ли с предупреждением в голосе произнёс де Бриньон.
– К чему мне врать? – Я безразлично пожала плечами. – Я и так рассказала тебе, кажется, больше, чем должна была. Если бы я убила Марию Лоран, я бы не стала этого скрывать, потому что у тебя в любом случае не нашлось бы доказательств. А какой-то там фиалковый аромат… тебе самому-то не смешно? Не говоря уж о том, что я уж наверняка не стала бы выливать на себя флакон духов, прежде чем идти душить свою потенциальную соперницу. Которая, по сути-то, давно уже и не соперница мне, ведь Рене умер два месяца назад, а Мария Лоран – четырнадцатого июля.
– Есть один способ проверить твои слова, – ответил Эрнест, глядя на меня с таким видом, будто заранее уже знал о моей безусловной виновности. – Сними рубашку.
– Что?! – Я рассмеялась в голос. – Бриньон, в своём ли ты уме?
– Я ранил убийцу, когда гнался за ним. Сними рубашку, Жозефина, дай взглянуть на твоё плечо, и докажи мне, что это была не ты. Тогда я успокоюсь.
Ах, вот оно что!
– То есть, моего честного слова тебе недостаточно? – С вызовом спросила я, прикидывая в уме – что лучше, раздеться сейчас здесь, перед ним одним, или завтра – перед всей честной компанией его помощников и Витгеном заодно?
– Разумеется, нет. Я должен убедиться воочию.
– Стало быть, считаешь меня способной на эти чудовищные преступления? Думаешь, я могла задушить юную, невинную девушку? – Пока я искала пути к отступлению, Эрнест сдвинулся со своего места и неспешно подошёл ко мне.
– А это зависит от того, кто убил твоего мужа. Знаешь, говорят, это затягивает. Убьёшь одного, а потом не можешь остановиться.
– Это ты у доктора Фрейда вычитал? – Спросила я, глядя на него снизу вверх, когда он остановился совсем рядом со мной, такой высокий, такой сильный, такой… красивый.
– Что? – Он улыбнулся. – Нет. Это я наслушался от людей, подобных вам с Февралем, когда перед казнью спрашивал их, зачем они убивали невинных?
– Подобных нам с Февралем, – повторила я, искренне надеясь, что он не заметил моей обиды. – Вот как? Стало быть, ты приравниваешь меня к нему? К маньяку-убийце? Считаешь, что я такая же?
Он устал от моих вопросов, и тихо, но твёрдо повторил:
– Жозефина, покажи мне своё плечо.
А больше тебе ничего не показать?!
Ублюдок! Какой же ты ублюдок, Эрнест де Бриньон! Да как ты смеешь так думать обо мне…! Ты, которого я любила! Ты, которому я отдала своё сердце, свою душу! Ты, который предал меня! И почему-то грязным ничтожеством в итоге оказываюсь я, такая же как психопат Февраль, а ты – чистенький и благородный, действуешь на стороне закона!
Да что ты знал о Рене Бланшаре, моём муже? Что ты вообще знал о семи годах ежедневного ночного кошмара, в который превратился мой брак? Думаешь, он не заслуживал смерти? Думаешь, эта его шлюха Иветта не заслуживала смерти? Заслуживали, и ещё как! Я осознала это впервые, когда лежала в гостиной на первом этаже, а Франсуаза прикладывала холодный компресс к моей разбитой голове, после того, как этот ублюдок толкнул меня с лестницы. И пока я мучилась с сотрясением мозга, эти двое – Рене и Иветта – забавлялись на втором этаже, мы с Франсуазой слышали их стоны внизу, слышали, как скрипела кровать от их монотонных усилий.
А потом он решил, что я ему больше не нужна. Он встретил другую, моложе. И я очень сомневаюсь, по правде говоря, это эта девушка согласилась на брак с ним добровольно. Очень вряд ли. Куда охотнее я поверила бы в то, что её, юную восемнадцатилетнюю барышню, просто продали Бланшару для его утех, как и меня саму когда-то. И Иветта ему в этом помогала, она всегда и во всём ему помогала, она любила его. А меня ненавидела. И на эту девочку, как её там? – Марию Лоран – Иветте было наплевать. Она, возможно, и хотела, чтобы Рене женился на ней. Почему? Потому, что эта Мария Лоран была юна, и не столь опасна, как я. А меня нужно было как можно скорее устранить, оставить без средств к существованию, а если не получится – то и убить. Думаю, эта парочка ни перед чем не остановилась бы, в случае крайней нужды.
Вот только я их опередила. Мы с Дэвидом их опередили. А Рене так и не понял, с кем его угораздило связаться однажды. Он видел во мне всё ту же потерянную деревенскую девчонку, с заплаканными глазами и разбитым сердцем – бедный мой Рене, он по беспечности упустил тот момент, когда юное пугливое создание превратилось из ребёнка в настоящую дьяволицу.
За что и поплатился.
А теперь скажи мне, Эрнест де Бриньон, сукин ты сын, неужели эти двое не заслуживали своего наказания?! Чёрт с ним, с Рене – неужели Иветта не заслуживала смерти? После того как она сама, фактически своими руками столкнула твою родную сестру с обрыва в ледяную реку? Думаешь, такой поступок можно легко простить и забыть? Смириться и жить дальше? И ждать, пока Иветта и Рене, обезумев от своей безнаказанности, рано или поздно придут за мной?
О, нет. Рене научил меня бороться. Вот я и боролась. И перегрызла ему горло в конечном итоге. А для начала – ей. А ты ещё смеешь упрекать меня, жалкий ублюдок, в том, что я – такая же как Февраль?! Неужели у тебя ни на секунду не возникло мысли, что я не ради собственного удовольствия это делала? Неужели ты так и не понял, что я просто защищалась?!
Всё это краше всяких слов говорили ему мои горящие ненавистью глаза. И, я думаю, он меня понимал. Он всегда меня понимал. Раньше. Ещё до того, как бросил, вдоволь наигравшись мною.
– Жозефина, – хрипло произнёс он, но, почему-то, больше ничего не сказал. Я боялась поднять взгляд, я до дрожи в коленях боялась увидеть ту животную страсть и похоть в его голубых глазах. Я, действительно, этого боялась.
И поэтому отвернулась, чтобы не видеть его лица, не чувствовать на себе его тяжёлый, невыносимый взгляд. Отвернулась, но не ушла. Не бегать же мне от него, в самом деле!
– Жозефина, сними эту чёртову рубашку, пока я не сделал этого сам! – Произнёс Эрнест надломленным голосом. Боже, я оказалась права. Он хотел меня. Он, действительно, меня хотел! В другой ситуации это заставило бы меня рассмеяться в голос, но не теперь.
Теперь я лишь закусила губу – больно, едва ли не до крови, да так и осталась стоять, неподвижная, глядя в сторону. Не собиралась я перед ним раздеваться! Хватит, нараздевалась уже!
– Жозефина, не вынуждай меня, – в последний раз попросил де Бриньон. Я опять усмехнулась, и опять не отреагировала на его угрозы – никак. Вообще никак. Я просто стояла, смотрела в сторону, и считала удары собственного сердца, которое быстро-быстро колотилось где-то у самого горла. Вот-вот наружу высочит, право слово!
Ещё пару секунд мы стояли в молчании, а потом он, наконец, сделал это. Подошёл ко мне вплотную, и рывком сорвал с меня тонкую атласную рубашку. Затрещала ткань, пуговицы рассыпались по полу, а я прикрыла глаза на секунду, и поёжилась. То ли от холода, охватившего меня, когда я осталась без верхней одежды, то ли от того, что этот грубый жест напомнил мне Рене. Он всегда набрасывался на меня с такой же несдержанностью, разрывая на мне дорогие платья. Боже, как же это было ужасно, и как хорошо, что не повторится впредь!
Де Бриньон, тем временем, резко взял меня за правую руку, развернул к себе и взглянул на моё плечо. Затем застонал, и, выпустив меня, отошёл на два шага назад, и взялся за голову.
А я по-прежнему стояла, глядя в сторону, и чувствовала себя униженной, раздавленной и бессильной. Я ненавидела эти ощущения. Нечасто они появлялись, но всякий раз их вызывал именно вот этот человек. Который, с тоской посмотрев на меня, сказал мне со всей возможной искренностью:
– Ты не представляешь, как я счастлив, что это не ты!
Плечо моё было чистым, гладким, почти идеальным. Пара тёмных родинок, совсем маленьких, общую картину не портило. Я надеюсь. Как бы там ни было, никаких чудовищных следов от пулевого ранения на мне не имелось, ни на плече, ни где-то ещё, и у де Бриньона была отменная возможность в этом убедиться, так как я всё ещё стояла перед ним, обнажённая по пояс. Мой чёрный бюстгальтер открывал гораздо больше, чем скрывал, так что сомневаться Эрнесту не пришлось – это не я задушила Марию Лоран в ночь на четырнадцатое июля. Не я, несмотря на запах фиалок в её комнате.
А, знаете, наверное это было странно, что он мне поверил! Я бы не удивилась, если б он взял мой лорнет и принялся разглядывать эту нежнейшую белую кожу под десятикратным увеличением, недоумевая, как же это мне удалось бесследно спрятать столь уродливый шрам?!
Но Эрнест этого не сделал. Понял, наверное, наконец-то, что я и Поль Февраль – всё же не одно лицо, а два совершенно разных человека. Неужели?! И года не прошло! Браво, мсье де Бриньон, преклоняюсь перед вашей сообразительностью…
Правда, найдя в себе смелости поднять взгляд, я слегка разочаровалась. Ничего он не понял, а просто смотрел на моё полуобнажённое тело, и отчаянно пытался совладать с собой. Заведомо проигрышное занятие, скажу я вам, если в дело вступает чёрное версальское кружево! Хорошее бельё у любого здорового мужчины способно вызвать приступ нестерпимого сексуального желания, а плохого белья я никогда не носила.
– Жозефина, – простонал де Бриньон, и, сглотнув, поднял взгляд от моей груди к моим глазам. К моим горящим всё той же ненавистью глазам. Но его это не остановило ни на секунду. Мой огненный взгляд всухую проиграл силе версальского кружева! Какой позор. – О, господи, Жозефина! – Прошептал Эрнест, и, сделав два шага в мою сторону, притянул меня к себе, и принялся целовать так горячо и страстно, что у меня закружилась голова. Совсем как тогда, когда мне было семнадцать.
VI
Признаться, я была несколько обескуражена. Разумеется, я не ответила ни на один из его поцелуев, пребывая в этом странном ступоре, и чувствовала себя при этом так, словно об меня вытерли ноги.
Не было никакого сладостного трепета, не было никаких воспоминаний о наших жарких ночах, о нашей давней любви, чистой и нежной. Ничего не было, кроме сухой, холодной пустоты на сердце и обволакивающего чувства унижения и бессилия. Снова он мной пользовался, а я не могла даже воспротивиться! Это было глупо, учитывая то, что он железной хваткой держал меня за плечи, мешая вырваться, не давая отстраниться. И первые несколько секунд я с отвращением ждала, когда же всё это закончится, вот только ничего не заканчивалось, а Эрнест даже не думал прекращать! Как раз наоборот, он чуть ослабил хватку и одной рукой провёл сначала по моему обнажённому плечу, потом опустился ниже, к груди.
Чёртов улюбок!
Этого, благо, хватило, чтобы я высвободила правую руку, и, что было сил, залепила ему пощёчину. Его это, слава богу, отрезвило, а то я уже начала бояться, что он и вовсе не остановится, пока силой не возьмёт меня прямо здесь, на полу.
Он отошёл на шаг назад, потирая горящую щёку, и посмотрел на меня так, словно сожалел об этом своём порыве. И, может, не только о нём – в его голубых глазах мелькнула такая смертная тоска, что у меня, несомненно, сжалось бы сердце, если бы я могла сострадать этому человеку.
– Вон из моей комнаты, – сквозь зубы произнесла я, и не узнала свой голос.
Сломался, треснул, сорвался в самый ответственный момент. Но повелительные интонации никуда не исчезли, и их оказалось достаточно для того, чтобы де Бриньон ушёл. Не просто так, разумеется, это было бы слишком хорошо! Для начала он ещё раз посмотрел на меня, как Габриель обычно смотрел, точно в самую душу заглядывал. И, растерянно проведя рукой по своим светлым волосам, сказал проникновенно:
– Прости меня, Жозефина. Я не хотел быть грубым.
Сказал человек, разорвавший на мне рубашку, и набросившийся с животной страстью со своими поцелуями! Он не хотел быть грубым, подумать только!
– Вон из моей комнаты, – куда твёрже и увереннее повторила я, не глядя в его сторону, и де Бриньон, наконец-то, вышел. И хорошо, что не стал ждать, пока я попрошу его в третий раз: дождался бы моей неминуемой слабости, это несомненно! Потому, что как только за ним закрылась дверь, колени мои вдруг подкосились, и я упала на пол. Пушистый персидский ковёр пришёлся весьма кстати, он смягчил удар, и мне было не так больно, хотя вряд ли я способна была чувствовать боль в тот момент.
По сравнению с той невыносимой болью, что горела у меня на душе, всё остальное казалось несущественным. Именно поэтому я, наверное, спрятала лицо в ладонях и зарыдала. Горько и отчаянно, но почти беззвучно зарыдала – господи, я не плакала с тех самых пор, как этот ублюдок бросил меня! Я даже на похоронах Луизы не плакала! И за семь лет ада, под названием «брак с Рене Бланшаром» я не плакала ни единого дня, а сейчас ревела как девчонка! Как будто мне снова было семнадцать – по крайней мере, эта боль была так же сильна и остра. А я-то думала, что мне удалось побороть её, пересилить. Выходит, не удалось?
Как бы там ни было, не стоит преждевременно упрекать Жозефину в слабости! Плакала я недолго. Всего-то несколько минут, честное слово! Затем, поднявшись на ноги, и потирая ушибленное колено, я подошла к шкафу, распахнув створки, наспех достала оттуда первую попавшуюся блузку, стянув с себя остатки старой.
Я торопилась. Я будто боялась передумать, торопилась настолько, что не стала даже заправлять её под юбку – представьте себе, какая неаккуратность для француженки, привыкшей всегда быть безупречной! Ограничившись застёгнутыми пуговицами, я вышла из своего номера, на ходу подворачивая манжеты на рукавах, и отправилась прямо по коридору, в противоположный его конец. По дороге мне встретился Лассард, которого я едва не сбила с ног, но даже этого не заметила! Пробормотав короткие извинения, я обошла его стороной, и продолжила путь, не желая слушать ни слова о том, что он мог бы сказать вслед моей неосторожности.
Но Лассард ничего и не сказал. Мне он и вовсе показался каким-то напуганным, и чересчур взволнованным, и даже бледным, насколько я могла судить в полумраке плохо освещённого коридора. Я решила, что, должно быть, слишком сильно толкнула его, задела ещё не зажившую рану и сделала ему больно, но возвращаться и извиняться ещё раз не стала. Тем более, Лассард поспешил спуститься по лестнице вниз, как будто не хотел, чтобы его видели лишний раз в этой части отеля. Правда, и странно – что он здесь делал? Его-то комната, насколько я знаю, совсем в другой стороне!
Ах, к чёрту Лассарда! И так голова трещит от мыслей, не хватало ещё начать рассуждать о причинах, побудивших его заглянуть в северное крыло! Остановившись в конце коридора, я, без малейших промедлений, три раза постучала в одну из дверей, самую последнюю.
Это был номер Габриеля Гранье. И я знала об этом, он порой жаловался, что его поселили в самую дальнюю часть коридора не иначе потому, что он француз. Что интересно, и нас с Франсуазой точно так же поселили в самых дальних номерах – вероятно, французов хозяин отеля, мсье Шустер, и впрямь не любил.
К чёрту Шустера! К чёрту французов! К чёрту всё! Я с облегчением выдохнула, когда усталый голос Габриеля объявил из-за двери, что у него не заперто. Наверное, подумал, что это горничная. Или Грандек. Иди полиция. Но уж точно не я.
Меня он в такое время у себя в номере явно не ждал, о чём свидетельствовал его изумлённый взгляд, когда я переступила порог и закрыла за собой дверь. На ключ. Так, на всякий случай.
– Жозефина? Ты… что ты здесь де… – Он спохватился, что не о том спрашивает, и быстро поправил самого себя: – Этот мерзавец тебя не обидел?! Как прошла ваша беседа, как…
Я не стала отвечать, не видела смысла. Вместо глупых разговоров я быстро подошла к Гранье, который стоял у окна и видимо до моего присутствия занимался тем, что грустил, глядя на дождь, нещадно колотящий в стёкла. Габриель, скорее по инерции, подался назад, когда я приблизилась к нему вплотную, и тогда я вцепилась в его плечи, и, с силой прижав к этой самой стене, поцеловала его в губы. Он, разумеется, ничего подобного не ожидал, и поначалу не знал, как на такое реагировать, бедняжка! Но потом, разумеется, быстро вошёл во вкус – француз, как-никак, сама природа обязала не быть медлительным в таких вопросах! Он ответил на мой поцелуй с должной страстью, положив руки мне на талию, но через минуту мне стало этого мало.
Я была уже сама не своя, напряжённая до предела, и предпочитала не думать о том, что творю и какие у этого моего поступка будут последствия. Мне нужно было забыться. Мне жизненно необходимо было забыться! А ещё я неожиданно поняла, что хочу быть с ним. И, возможно, не только этой ночью. Это… это было лучше, чем дать проснуться моим старым чувствам к Эрнесту де Бриньону. В одном Габриель был прав – вероятно, он и впрямь мог бы сделать меня счастливой, если бы только я согласилась попробовать и открыть ему своё сердце… Де Бриньон – однозначно нет.
Так что, из двух зол я вполне справедливо решила выбрать меньшее. Если уж отдавать кому-то своё сердце, то только ему, Габриелю, ласковому и чуткому Габриелю! Но сначала я хотела отдать ему своё тело.
Мне это было необходимо, поймите. Я словно обезумела, сама не знаю, что на меня нашло в тот момент. Не прекращая целовать его, я стала расстёгивать пуговицы сначала на его жилете, затем на рубашке. В последний момент Габриель перехватил мои руки у запястий, видимо, пытаясь воззвать к моему здравому смыслу, и убедить меня, что мне вовсе не обязательно с ним спать, чтобы доказывать свою любовь.
Наивный Габриель думал, что может остановить меня таким образом! О-о, определённо, он плохо меня знал! Я поймала его взгляд, усмехнулась, и, предвидя очередные нежные слова о его чистых намерениях (мне совершенно ненужные), я заткнула его самым простым и действенным способом – опустила свою руку чуть ниже с ремня на его брюках, который уже почти расстегнула.
Вот уж не знаю, что он там собирался говорить в такой момент, но, безусловно, сразу же замолчал, позабыв обо всем на свете. Я снова усмехнулась, и, стянув с Габриеля брюки, опустилась на колени перед ним. Он застонал, откинув голову назад, когда я коснулась его губами. И, запустив руки в мои распущенные волосы, закрыл глаза и наслаждался моими ласками ещё несколько минут. А затем, будучи уже на грани, слегка отстранил меня от себя, и, заставив подняться с колен, страстно припал к моим губам в очередном поцелуе. Пришёл его черёд проявлять инициативу, и теперь уже он резко развернул меня, и с силой прижал к стене, возле которой только что стоял сам.
Я счастливо улыбнулась, и, закрыв глаза, полностью вверила себя в его власть. Отчего-то я уже и не сомневалась, что получу незабываемое удовольствие вместе с ним! И я не ошиблась, Габриель знал, что делать с женщиной, как довести её до сладостного исступления с помощью одних лишь только рук – о, боже, он был настоящим волшебником! А потом, когда я уже не могла держать равновесие, стоя у стены на ослабленных ногах, он приподнял меня над полом и усадил на подоконник, прижав спиной к ледяному оконному стеклу. Но мне не было холодно. Мне, скорее, было жарко. Я, наверное, в тот момент смогла бы растопить весь альпийский снег своим горячим телом!
Особенно, когда он, подняв мою юбку, придвинулся ближе и, наконец, овладел мною. Я застонала, кусая губы от наслаждения и до боли впиваясь ногтями в его плечи. Господи, он был великолепен, великолепен! Я сгорала от страсти, медленно умирая с каждым новым движением, и с каждым новым движением воскресая снова. Запрокинув голову назад, я обнимала его, прижималась своей грудью к его обнажённой груди, и наслаждалась каждым мгновением в его жарких объятиях.
Это было бесподобно. Вряд ли найдутся подходящие слова, чтобы описать, что испытывала я в те незабываемые минуты. В какой-то момент за моей спиной сверкнула молния, освещая его прекрасное лицо с растрёпанными тёмными волосами, падающими на лоб. Я невольно коснулась этих мягких, волнистых прядей, и улыбнулась счастливо, когда поняла, что хочу быть с ним. Действительно, хочу.
Оглушающий громовой раскат прокатился над «Коффином», а затем свет в номере погас. И, судя по темноте, окутавшей парк за моей спиной, погас он во всём отеле. Свет из окон на первом этаже больше не озарял цветник во дворе, не падал неровными бликами на статую – ту самую статую, которую приезжал реставрировать скульптор.
«Коффин» погрузился в кромешную тьму, и всё равно в этой беспросветной тьме я чувствовала Габриеля, я видела сияние его счастливых глаз, я согревалась его горячими прикосновениями, теплом его тела. Нам не нужно было электричество.
Мы наслаждались друг другом, и нам не было дела до остального мира.
VII
По правилам хозяина отеля, мсье Шустера, в номерах было категорически запрещено курить. Но меня это не остановило, на правила в эту ночь мне было наплевать. Лёжа на белых шёлковых простынях, в объятиях Габриеля, я счастливо вздохнула, видя улыбку на его лице, и с наслаждением затянулась папиросой. Вообще-то я нечасто курила в обычной жизни, в основном, вот после таких пламенных занятий любовью, Рене приучил. Это некоторым образом тоже помогало расслабиться.
А Габриель лежал рядом, смотрел на меня влюблёнными глазами, и перебирал мои разметавшиеся по подушке волосы. Я зажгла свечу от той же спички, от какой прикурила папиросу, и комната наполнилась её неверным слабым светом. Неровные блики падали на лицо моего возлюбленного, такое красивое, такое спокойное, умиротворённое. Он улыбался.
– Я люблю тебя, Жозефина, – сказал Габриель, когда я в очередной раз посмотрела на него. – Ты же знаешь это, правда?
Я улыбнулась. И, перевернувшись на спину, стала рассредоточенным взглядом изучать потолок, прислушиваясь к шуму дождя за окном. Я знала, что последует за этой его фразой. Я была готова к его словам.
– Неужели я так и не получу от тебя ответного признания? – Спросил он с лёгкой грустью, по-прежнему играя моими распущенными волосами. – Неужели это… всё это… ничего не значило для тебя?
Я молчала. Просто молча курила, глядя в потолок, и не говорила ничего.
– Я так боюсь этого, – продолжал Габриель, – боюсь, что наутро ты исчезнешь. А потом, за завтраком, как ни в чём не бывало, скажешь: «Подайте мне сахарницу, мсье Гранье!»
– Я пью чай без сахара, – спрятав улыбку, сказала я.
– Я знаю, – он вздохнул. – Я образно говорил. Ты снова будешь делать вид, что ничего не происходит, притворяться, что не замечаешь меня… Ведь так, Жозефина? Получается, ты меня просто использовала?
– Не говори глупостей.
– Тогда скажи мне! – Не унимался этот сентиментальный упрямец. – Скажи мне то, что я так жажду от тебя услышать!
И я сказала. Правда, сказала я скорее то, что жаждал от меня услышать де Бриньон. Почему-то в тот момент мне показалось это важным, и я хотела, чтобы Габриель об этом знал.
– Я не убивала своего мужа.
Мои слова прозвучали глухо, но твёрдо, уверенно. Невдалеке словно громыхнуло, будто в подтверждение того, что я говорю правду.
– Что? – Гранье оставил в покое мои волосы, и, приподнявшись на локтях, внимательно посмотрел на меня.
– Я не убивала Рене Бланшара, – повторила я. – Я дала ему револьвер, из которого он выстрелил себе в голову. Но не я спустила курок. Он сделал это сам. Это на самом деле было самоубийство.
Габриель ничего больше не говорил, и не задавал вопросов. Он будто боялся спугнуть меня, в кои-то веки решившуюся на откровения. А ещё он понимал, что мне необходимо выговориться, и был готов выслушать любую правду, какой бы страшной она ни была.
Собственно, не такой уж и страшной. По крайней мере, моё признание де Бриньону на счёт Иветты Симонс было куда страшнее чем то, что на самом деле произошло с Рене.
– Он хотел со мной развестись, – стала рассказывать я, сделав ещё одну затяжку, и выдыхая горьковатый дым. – Развестись и жениться на другой, какой-то молоденькой девочке из бедной семьи. Согласно условиям брачного договора, я оставалась на улице без гроша в кармане. А я ведь тоже небогата, Габриель. Мой отец – простой адвокат из предместья Лиона. Наша семья никогда не отличалась большим достатком.
Папироса едва не обожгла мне пальцы, и я, сделав последнюю затяжку, затушила её в бокале с водой. И, с усмешкой продолжила:
– Не подумай, это вовсе не из-за денег. Вернее, не только из-за денег. Рене Бланшар был чудовищем. Редким ублюдком, каких свет не видывал! Ты не представляешь, что он вытворял со мной за эти семь лет брака… А мне некому было пожаловаться. Некуда было идти, понимаешь? Он известный на всю Францию банкир и миллионер, а я? Кто я? Никто, в общем-то. Мой отец не желал меня слушать, его волновали исключительно собственные выгоды, которые он получал, обзаведясь таким богатым зятем. Его не волновало то, что этот ублюдок бил меня, его не волновали мои слёзы – ничего, кроме денег! И пока Рене платил ему, он молчал.
Отец мой был на втором месте в списке людей, которых я люто ненавидела. Второй после Эрнеста де Бриньона. Третьей была Иветта, упокой господь её душу. Я усмехнулась.
– Мне не у кого было просить защиты, пока не появился Дэвид. До тех пор, пока я не встретила его, я была убеждена, что управу на Рене Бланшара сыскать невозможно. Но всё изменилось, когда я познакомилась с ним. – Перехватив грустный взгляд Габриеля, я поспешила развеять его возможные сомнения: – Я не была влюблена в него, нет. У нас с ним были… хм… скорее деловые отношения. Он вёл дела с одним из банков Рене, они часто общались, мы ездили друг другу в гости и нередко выезжали вместе с семьями на приёмы или званые ужины. И, разумеется, Дэвид видел, как я страдаю, но поначалу считал себя не в праве вмешиваться.
Габриель понимал, что мне тяжело рассказывать об этом, и накрыл мою руку своей, желая показать, что он здесь, он рядом. Я тепло улыбнулась ему, и, склонив голову на его плечо, продолжила:
– Когда Рене подал на развод, я поняла, что нужно что-то делать. Я пришла за помощью к Дэвиду, не слишком-то надеясь, что он ради малознакомой Жозефины Бланшар согласится пойти против знаменитого парижского банкира, своего компаньона. Но он согласился.
Ещё бы ему было не согласиться, после того, как умерла Иветта! Я ведь прекрасно знала, что это он её убил, и могла его этим шантажировать до конца его дней! Могла, но не стала бы никогда в жизни. Думаю, Дэвид об этом знал. Думаю, он тогда действительно помогал мне искренне.
Но не то, чтобы безвозмездно.
– Он попросил меня в плату за помощь провести с ним ночь, – с усмешкой сказала я, пытаясь угадать, как Габриель отнесётся к этой новости. – Он не просил меня стать его постоянной любовницей, нет. Всего лишь ночь. Одну ночь. – Помолчав немного, я продолжила: – Я согласилась.
Тишина была мне ответом. Дождь всё так же шелестел за окном, а ещё я слышала дыхание Габриеля. Но он ничего не говорил. И я не знала, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо. По крайней мере, он не отбросил прочь мою руку и не вытолкал меня из своего номера в пустынный коридор с криками: «Ах ты продажная дрянь!»
– Я рисковала, – продолжила я, так и не дождавшись его реакции, – но в тот момент я предпочитала рискнуть, сделать хоть что-нибудь, попытаться отомстить этому ублюдку Рене, пока ещё могла! Неделей позже я бы вернулась назад, в свой сельский домик, под крыло к отцу-адвокату, а оттуда я бы в жизни не дотянулась до Рене Бланшара, и он спокойно женился бы на другой. Я знала, что Дэвид мог обмануть меня, воспользовавшись мною как шлюхой, а наутро выставить за дверь. Я отдавала себе отчёт в том, что я делаю, и всё равно предпочла рискнуть. Я пошла ва-банк. И ставка сыграла. Дэвид сдержал своё слово.
Ещё бы он его не сдержал! Я бы тогда живо напомнила, кто на самом деле задушил его жену, прелестную Иветту! Собственно, зря я грешу на Дэвида. Он не стал бы меня предавать в любом случае, это и впрямь был человек чести. Вероятно, потому, что ярый мусльманин, верующий. Не спрашивайте меня, как это его вера позволила ему преспокойно прелюбодейничать с католичкой Жозефиной, замужней дамой, в конце концов! Не знаю. Но, как бы там ни было, Дэвид Симонс был человеком слова.
За всю мою жизнь это был единственный мужчина, который меня не предал.
Выходит, бывают среди их племни исключения? Так, что ли?
Я посмотрела на Габриеля, ещё одно исключение, и заметила, что он внимательно слушает меня. Надо было продолжать, не умолкать же на самом интересном?
– Он разорил его подчистую, – сказала я тогда. – Дэвиду совсем несложно оказалось это сделать. Рене был занят разводом, одержим идеей жениться вновь, и занимался в те дни чем угодно, но не своими банками. Он отказывался от выгодных сделок, не ездил на переговоры, потому что спешил к ней, к своей новой возлюбленной, девочке из Парижа. Он и в Лионе-то появлялся раз в неделю, а то и реже! Какие там банки, о чём речь? Результатом подобной беспечности стало его банкротство. А ещё ему не повезло неудачно сыграть на бирже как раз в один из тех дней. В конечном итоге он лишился больше десяти миллионов, и четыре его банка объявили о банкротстве в один день. Дэвид выкупил их все. Для меня. Позже. Когда Рене, поняв, что остался без средств к существованию, пустил себе пулю в висок.
Этот момент был моим самым любимым, право! Я не думала и скрывать своего злорадства, хотя, наверное, надо было, чтобы Габриель не счёл меня чудовищем. Но я, действительно, радовалась как ребёнок, когда это чудовище убило себя! Боже, я вздохнула с облегчением, когда его тело упало к моим ногам, заливая кровью дорогой плетёный ковёр в его кабинете…
– Когда я сказала, что подала ему револьвер, это была не метафора, – произнесла я с усмешкой. – Тем вечером он заперся у себя в кабинете и пил. Он был в отчаянии! Таким я не видела его ещё никогда. Нет, напивался он довольно часто, но всё же не до такого состояния… Предвидя твой возможный вопрос – нет, я не боялась, что он убьёт вначале меня. Он был на это не способен. Уже не способен. Он сидел за столом, уронив голову на руки, и рыдал как младенец.
А мне даже не было его жаль.
Я ликовала, едва сдерживаясь, чтобы не закружиться в танце по его кабинету! Это был момент моего триумфа. Это был момент, которого я ждала долгих семь лет.
– Он спросил: что же нам делать, Жозефина? Я думаю, «нам» – это ему и его девочке, вряд ли ему и мне. Но, тем не менее, я сказала: мы можем вернуться к моему отцу, у него свой дом на берегу Роны! Это был сарказм, да. Я прекрасно знала, что Рене никогда в жизни не станет терпеть эту нищету. Но это не помешало мне со скромной улыбкой предложить ему должность помощника при моём отце-адвокате. Особо ироничным мне казалось то, что у Рене было юридическое образование, и он, действительно, мог бы работать с моим отцом, если бы захотел. Но он не захотел. И я знала, что не захочет. Это был не такой человек. Он не стал бы начинать всё с нуля. Он мог беспечно проматывать то, что получил в наследство от своих родителей, мог бы пытаться как-то сохранить своё богатство или приумножить, но начинать сначала – нет. У него не было деловой хватки. А если бы была, Дэвиду ни за что не удалось бы с такой лёгкостью его разорить.
Я снова улыбнулась, вспоминая тот вечер. Я ничего не могла с собой поделать! Улыбка моя получилась наверняка жуткой до оторопи, и окажись здесь де Бриньон, он, неизменно сказал бы свою коронную фразу о том, что я «такая же, как Февраль»! После того, разумеется, как обозвал бы меня шлюхой.
– Когда Рене с усмешкой отверг мои вполне разумные предложения, я будто невзначай открыла ящик его стола. Это был предлог достать салфетку, чтобы вытереть со стола разлитый бренди, но достала я револьвер. Тогда он сказал: Жозефина, а ведь это выход! А я принялась не слишком-то убедительно его отговаривать. Знаешь, я умею так. Хорошо умею. Вроде бы говоришь: «О, нет, не делай этого, Рене!», но звучит этот скорее как: «Ну же, Рене, давай, сделай это!»
Гранье усмехнулся. Вспомнил, наверное, как я просила его уйти и оставить меня в покое, но так, чтобы звучало это отчаянной мольбой остаться подольше.
– Тогда я убедила его написать записку. Прощальное письмо для своей возлюбленной. Причины мои казались в высшей степени романтичными и благородными: чтобы юная прелестница, оплакивая его, знала, что он до последней секунды своей жизни думал о ней и не переставал её любить. На самом же деле, как ты понимаешь, мне просто нужно было доказательство, лишнее доказательство того, что это не я его убила, а он сам, – тут я в очередной раз улыбнулась, закатив глаза. – Бо-оже, сколько они потом теребили эту записку в суде! Едва ли не под микроскопом её изучали, пригласили экспертов из Парижа, из Тулузы, специалистов, занимающихся изучением почерка… И все как один пришли к неутешительному для полиции выводу: записку, действительно, написал Рене Бланшар, она настоящая. Это стало главной причиной, почему меня оправдали на суде. Не считая денег Дэвида и его адвокатов, разумеется.
А вот эти воспоминания были уже неприятными, я не любила их. Поморщившись, я откинула волосы назад, и завершила свою долгую, невесёлую историю:
– Суд прошёл так быстро по настоянию того же Дэвида, он не хотел, чтобы я мучилась в неведении долгое время. Меня оправдали. Но газетчики всё равно постарались раз и навсегда испортить мне репутацию, ославив едва ли не на всю Францию. Кое-кто из них откровенно заявлял, что убийце удалось уйти от правосудия. Думаю, им платили друзья Рене. Те же самые друзья, которые настояли на расследовании – у него было много сторонников, но Дэвид заткнул рты практически каждому из них. Потом он вернул мне банки моего мужа. Назывались они уже по-другому, и теперь их было три, а не четыре – четвёртый, к сожалению, разорился подчистую, спасти его оказалось невозможно. Но это была малая плата за то, что мне удалось, наконец, освободиться. По совести говоря, я и не заметила этой потери. Дэвид посадил в каждый из этих банков своих управляющих, которые и по сей день пристально следят за тем, чтобы дела мадам Бланшар шли в гору, и чтобы она ни в чём не нуждалась. А Рене похоронили на кладбище Пер-Лашез, в Париже, рядом с его родителями. Вот как всё было на самом деле.
И снова Габриель ничего не сказал. Его молчание потихоньку начинало меня нервировать, ибо я абсолютно не представляла, как он отреагирует на мои шокирующие признания. Потом он вздохнул, поняв по моему взгляду, что я жду от него хоть каких-то слов, и, протянув ко мне руки, нежно обнял и прижал к себе.
– Сколько же всего выпало на твою долю, любовь моя… – Прошептал он мне в волосы, с самым настоящим сочувствием. Я не сдержала вздоха облегчения, и, уткнувшись ему в шею, закрыла глаза. Почему-то мне показалось, что я сейчас заплачу, и я испугалась этого ощущения. И, не выдержав и двух секунд, резко села на постели, и отвернулась, пытаясь не дать горячим слезинкам сорваться с ресниц, пытаясь сделать так, чтобы Габриель не заметил моей слабости.
– Это лишь малая часть того, что я рассказала, – тихо произнесла я, почувствовав его прикосновения к своей обнажённой спине.
По правде говоря, семь лет ада с Рене Бланшаром уступали по части отчаяния тем секундам, когда я узнала, что Эрнест де Бриньон женится на другой. Я никогда не забуду, какой ужас испытала тогда. А если вдруг забуду, уродливые шрамы на моих запястьях всегда напомнят мне о том, как я искренне желала покончить с собой после его предательства.
Глупая Луиза, зачем ты спасла меня? Ведь всё было бы по-другому, если бы я осталась умирать, истекая кровью в ванной. Это было довольно болезненно, но всё же не так, как осознание того, что тебя предали.
Но вот об этом Габриелю точно не обязательно знать.
Ровно как и о том, что я до сих пор не забыла этого голубоглазого ублюдка.
Об этом я и сама предпочла бы не знать никогда в жизни.
– Жозефина… – Тихий оклик Габриеля заставил меня обернуться, и улыбка сама собой появилась на моём лице. Я протянула к нему руки, и он, обняв меня, уронил на подушки, и, склонившись надо мной, сказал нежно: – Я никогда не обижу тебя, моя девочка. Я всегда буду любить тебя! Я всегда буду рядом.
Я улыбнулась ему, и закрыла глаза, крепче прижимая его к себе. Я вновь начинала медленно сходить с ума из-за его близости, и, под тяжестью его тела, кусала губы, стонала и сминала простыни, задыхаясь от страсти.
Я впервые была так счастлива с мужчиной, впервые после Эрнеста.
И это странное, давно забытое ощущение, не давало мне покоя. Я боялась, что оно пройдёт, исчезнет, растает лёгкой дымкой поутру. Но Габриель по-прежнему был рядом, и целовал меня всё так же горячо и трепетно, и тогда я снова забывала обо всём.
VIII
За завтраком я совершенно не представляла себе, как смотреть в глаза Габриэлле после всего того, что произошло этой ночью. Я понимала, что не сдержала своего обещания, что обманула её надежды, но была ли в этом моя вина?! Что же я могла поделать, если Габриель не любил её? Заставить его полюбить? Я и это пыталась сделать! Я изо всех сил старалась не вмешиваться в их отношения, но не могла же я приказать Габриелю любить её, а не меня? Да и не хотела, чёрт возьми!
Неужели я, пройдя через все муки ада, не заслужила, наконец, хотя бы крупицу этого счастья? Почему я должна была и это отдавать?!
Может, я и впрямь была не так уж и виновата перед Габриэллой, но поделать с собой ничего не могла – на душе скребли кошки, и униматься не хотели, как бы я не уговаривала их перестать. Пуще прежнего они взялись за дело, когда я поймала на себе полный ненависти взгляд старшей Вермаллен. Дочка наверняка рассказала ей о том, что Габриель взял свои слова назад, и уж точно не смогла промолчать, кто послужил тому причиной. Желчная графиня обжигала меня взглядом, а я почему-то впервые за долгое время не смогла сделать вид, что ничего не происходит.
Это Габриель так влиял на меня. Рядом с ним у меня всё хуже получалось притворяться. А это плохо. Оборону нужно было держать. Я поприветствовала опоздавшую Франсуазу, мельком глядя на дверь за её спиной – ну? Где же остальные? Где Габриэлла? Поскорее бы уже она пришла, что ли – всё лучше, чем сидеть так, в ожидании.
– Я разговаривала с комиссаром! – Поведала моя подруга, когда Эрикссон вознамерился, было, придраться к ней по поводу опоздания. Из её уст эта фраза прозвучала так раболепно, словно она разговаривала не с жалким полицейским, а с королём Франции Людовиком Четырнадцатым! Меня это покоробило.
– И что же он хотел от вас, право? – Осведомился доктор с подозрением. – Неужели ему пришло в голову и вас подозревать?
– У него сейчас все французы на подозрении, – ответил Габриель. – В первую очередь я. Следом за мной, увы, Арсен, идут русские. Сначала ты, потом Тео и мсье Бэгёль [22]…
– Моя фамилия Ватрушкин! – С негодованием поправил уже жующий что-то русский толстячок.
– Ах, да, – Габриель очаровательно улыбнулся, – совсем запамятовал!
Сначала Арсен, а уж только потом Тео с Ватрушкиным? Отчего такая странная последовательность?! На мой взгляд, Тео самый подозрительный из этой троицы, что лишний раз подтверждает его побег! Ватрушкин никоим образом не вписывается в этот круг, а вот мсье журналист…
Я украдкой взглянула на него, вспоминая их подозрительный обмен взглядами с покойной Фальконе, которая ещё вчера не была покойной, а, наоборот, блистала жизнерадостностью, и направо и налево разглагольствовала о том, что знает, кто убийца. Неужели Арсен?! Неужели правда он?
– Ещё кто-нибудь явится, или можно начинать? – Поинтересовался Эрикссон, покосившись на невоспитанного Ватрушкина, который, собственно, уже начал, не дожидаясь остальных. Тот, впрочем, жевал до того увлечённо, что взгляда доктора не заметил. – Мадам Вермаллен, ваша дочь спустится?
Да-да, мне тоже хотелось бы это знать! Я поёрзала на своём месте, и мельком взглянула на Габриеля – а тому хоть бы что, вот это выдержка, однако! Более того, поймав на себе мой взгляд, он улыбнулся мне с нежностью, как ни в чём не бывало, и сказал:
– Мадам Лавиолетт, не будете ли вы так любезны передать мне сахар?
Я, подавив улыбку, исполнила его просьбу, и сделала вид, что не слышу язвительной реплики графини Вермаллен, рассказывающей о том, что у Габриэллы разболелась голова и она вряд ли выйдет к завтраку.
– А где же мадам Фальконе? – Опять проявил любопытство Лассард. Как я поняла, он неровно дышал к итальянке, просто изо всех сил старался скрыть это. Жаль. Надо было признаться ей, пока была такая возможность, глядишь, что-то и получилось бы из этого. А теперь уже поздно.
– А вы не знаете? – Спросил русский журналист мрачно.
– Чего… не знаю? – Испуганно ахнул Лассард, и затряс лысой головой из стороны в сторону. – О, нет, нет, мсье Планшетов, прошу вас, не говорите, что и её тоже…
– Вчера вечером, – ответил Арсен, с сочувствием кивнув. Похоже, и он понял, что Лассард имел тайную страсть к мадам Соколице, и теперь ему было жаль бедного венгра.
– Боже мой! – Воскликнул тот, резко встав из-за стола. Стул опрокинулся и упал, а после наступила удручающая тишина. Старшая Вермаллен прижала руку к груди, тараща глаза на Арсения, а доктор Эрикссон болезненно поморщился. Что, стыдно стало за свои дуракцие шутки в адрес Соколицы? То-то!
– Причём, её тело нашли именно у озера, – негромко добавил Арсен. – Как вы и предсказывали, мсье Лассард.
– Что?!
– А рядом лежала маргаритка, – добавил русский журналист, пристально глядя на Габриеля. – Как и предсказывал ты, Габриель.
Гранье нахмурился, выдерживая его взгляд, и спросил холодно:
– И на что же это ты намекаешь, мой дорогой друг?
– Мне гораздо интереснее, откуда вы об этом узнали, – я решила заступиться за Габриеля и приняла огонь на себя. – Полиция не намеревалась предавать дело огласке, и о смерти мадам Фальконе знал только ограниченный круг лиц. И вы в их число не входили.
– Мадам Лавиолетт, вы подозреваете меня? Право слово, это смешно. Я же почти всё время был с вами, или вы уже забыли об этом? Я скажу вам, откуда я узнал, вспомните, вы ведь сами говорили, что люди моей профессии отличаются бесцеремонностью и вечно всюду суют свой нос!
Да?!
Дружище, я слишком хорошо знаю де Бриньона – такой человек как он не позволил бы тебе и близко подойти к телу Фальконе! И уж точно не дозволил бы тереться рядом с местом преступления и что-то вынюхивать! Его помощник, Жан Робер, тоже производил впечатление парня дельного. Кто ещё мог проболтаться?! Грандек?! Как правая рука хозяина отеля он первый заинтересован в неразглашении. И кто тогда? Витген? Вы, право, шутите?
– Откуда вы узнали? – Не сдерживая волнения, спросила я.
– У меня свои источники, милая Жозефина, и было бы непрофессионально выдавать их, – с улыбкой ответил Арсен. Он, похоже, ничуть не волновался и ломал эту дурацкую комедию, словно не догадываясь, до чего подозрительной кажется его осведомлённость со стороны.
– Хартброук ему сказал, – ответил мне Габриель, вмиг приоткрыв завесу напускной таинственности. – Ричард Хартброук, доктор, англичанин. Они с Арсеном успели подружиться за то время, что он гостит в отеле. Так ведь?
– И ничего-то от тебя не скроешь, Габриель! – Русский журналист обезоруживающе улыбнулся и развёл руками. – Я вынужден попросить у тебя прощения, когда я говорил об этой проклятой маргаритке, я вовсе не имел намерения тебя оскорбить. Я лишь хотел обратить ваше внимание на этот момент. Озеро, маргаритка… Кто-то ведь слышал, как мы об этом говорили. И воплотил в жизнь ваши слова. Кто-то, кто вчера сидел вместе с нами за этим самым столом.
– Выходит, Фальконе говорила правду? – Заинтересованно спросил вредный швед Эрикссон. – Убийца среди нас?
– Боже мой, я больше так не могу! – Застонал Лассард, наконец-то выйдя из своего ступора. – Виттория! Как же так?! Да у кого же рука поднялась… Виттория! О, моя Виттория!
С криком отчаяния он выбежал из столовой, придерживая пиджак, накинутый поверх перевязанного плеча.
…плеча…
«Я ранил убийцу, когда гнался за ним», зазвучал в моей голове такой знакомый голос.
– О, боже мой! – Вырвалось у меня. Я заметно побледнела, и это не на шутку перепугало Габриэля и Франсуазу, разом повернувшихся ко мне.
– Что с тобой, Жозефина? – Озадаченно спросила моя подруга, а Гранье заботливо коснулся моей руки. Но я лишь отрицательно покачала головой, и поспешно встала из-за стола.
– Мне срочно нужно к де Бриньону! – Никогда бы не подумала, что когда-нибудь скажу эту фразу, да вот, поди ж ты, свершилось!
– Что?! – Габриель с таким подозрением посмотрел на меня, что я замерла на несколько секунд. Он ревновал меня?! В самом деле, ревновал? Какая глупость, право!
– Я скоро вернусь, – пообещала я, коснувшись его плеча. Кажется, этот жест привлёк внимание лишней пары глаз, но мне в такой момент было не до тонкостей. – Мне просто нужно кое-что сказать ему, вот и всё. Не волнуйтесь. – И, обращаясь теперь уже ко всем, а в частности к любителю приличий Эрикссону, я добавила: – Прошу прощенья!
Графиня Вермаллен сказала что-то о моей невоспитанности, и в подтверждение оной я очень захотела послать её к чёрту, но сдержалась. И, придерживая полы своей длинной юбки, выбежала из ресторана в коридор. Слева стойка бара, напротив – фойе, где приветливый, но чуточку грустный Фессельбаум кивает входящим и выходящим гостям? Справа – лестница, а на лестнице, о чудо, Грандек! Я готова была расцеловать его в ту секунду.
– Мсье Грандек! Густав! Как хорошо, что вы здесь!
– Мадам Лавиолетт? Что-то случилось? – Суетливо, как всегда, спросил он.
– Мне нужен парижский комиссар, мсье де Бриньон. Он здесь? Я прошу вас, это срочно!
– С утра он был в кабинете наверху, но не так давно они с Витгеном отправились к месту преступления, осмотреть его ещё раз при свете дня. – Грандек взял меня за руку в порыве живейшего волнения. – Мадам Жозефина, я прошу вас, не пугайте меня, что случилось на этот раз?
– Ничего, нет-нет, не волнуйтесь! Мне просто нужно с ним поговорить, вот и всё. Я вспомнила кое-какие детали, это может быть важно, – вкратце пояснила я.
– Думаю, вы найдёте его у озера, – услужливо произнёс управляющий. – Хотите, я провожу вас?
– Нет, спасибо, я найду дорогу, – ответила я с вежливой улыбкой. – Прежде мне нужно зайти в мой номер… за накидкой! На улице холодно после вчерашнего дождя.
Грандек согласно кивнул, а сам наверняка подумал, что я беспросветно глупа. Какая накидка, если моя «важная» информация, может спасти кому-нибудь жизнь вот в эту самую минуту?!
Ну, вы-то не думайте обо мне так плохо! Разумеется, дело было не в накидке, а в чёртовой запонке в кармане моего платья! Даже лучше, что Эрнест ушёл в компании комиссара Витгена, в его присутствии он, по крайней мере, не осмелится ко мне приставать. От самого Витгена мне, конечно, здорово влетит за сокрытие улик, но я что-нибудь придумаю.
Путаясь в длинной юбке, я, перепрыгивая через одну ступень, кое-как добралась до третьего этажа, едва не упав несколько раз по дороге. Сердце моё колотилось у самого горла, а ладони предательски вспотели.
Лассард! Почему я сразу не догадалась?! Ещё вчера, когда Эрнест сказал мне, что ранил убийцу в плечо… Лассард был в Париже во время тех девяти убийств, Лассард был в «Коффине» во время последующих двух. Лассард вращался в банковских сферах и был богат, он вполне мог быть обладателем золотой запонки! Может, встречалась Селина и не с ним, может, он пришёл в домик у реки уже после того, как её возлюбленный ушёл? Может, они и впрямь боролись, и он обронил эту запонку, и не заметил… Она же, убегая от него, бросилась к мосту, а уж там-то он догнал её, и задушил голубым шёлковым шарфиком!
Боже, ну почему я сразу об этом не подумала?! Быть может, это спасло бы жизнь мадам Соколице, окажись я чуть сообразительнее! Я свернула налево, в наше южное крыло, и, стуча каблучками по паркету, едва ли не бегом бросилась к своей комнате. Сама не знаю, куда я так торопилась! Теперь-то Лассард от нас никуда не сбежит, найти бы Эрнеста до того, как этот психопат убьёт ещё кого-нибудь…
Меня, например.
Остановившись перед дверью в свою комнату, я обнаружила, что она приоткрыта, и мне вдруг сделалось до того жутко, что волоски на шее встали дыбом. Господи, какая же я идиотка! Он ведь ушёл на минуту раньше меня – а что, если он сейчас где-нибудь здесь?! Я резко обернулась, но никого не увидела. Убийца не прятался в тёмном углу коридора, и за маленькой декоративной пальмой тоже не стоял. Позади меня была всего лишь дверь в номер Франсуазы, тоже приоткрытая. Оттуда я услышала негромкий мелодичный напев – это Эллен занималась уборкой. Должно быть, она и у меня в комнате прибирала, просто по недосмотру забыла закрыть дверь.
У меня отлегло от сердца. Трусиха! Какая же я трусиха! Улыбнувшись самой себе, я укоризненно покачала головой, коря саму себя за эти глупые страхи и, положив руку на дверную ручку, уверенно потянула её на себя и вошла.
Скорее, к шкафу, где моё сиреневое платье, где эта чёртова запонка?! Вот только до шкафа я даже не дошла, замерев возле трельяжа. В зеркале мелькнуло отражение мужчины, который, встав за моей спиной, подошёл к входной двери и закрыл её за замок, лишая меня последней надежды на побег.
Я резко обернулась, испуганно прижавшись спиной к трельяжу.
Это был Тео.
Русский художник Тео, который, вроде как, уехал из отеля ещё позавчера вечером, дабы не встречаться с полицией лишний раз. И вот теперь он стоял в дверях моего номера, скрестив руки на груди, и смотрел на меня хмуро.
И означать это могло только одно.
IX
– Вы?! – На одном дыхании произнесла я, дрожащими руками нащупывая хоть что-нибудь на трельяже у себя за спиной, хоть что-то, что сгодилось бы за оружие, когда этот безумец решится напасть на меня.
– Жозефина, – вздохнув, произнёс русский художник, прижавшись спиной к закрытой двери, – мне, право, очень жаль.
– Не подходите ко мне, – дрогнувшим голосом произнёсла я, хотя Тео ни шагу не сделал в мою сторону. Пока ещё. – Я закричу! – Предупредила я, вспомнив об Эллен в соседнем номере. Горничная услышит мой крик о помощи, и немедленно прибежит. У неё есть запасные ключи, она откроет дверь! Это меня несколько успокоило. При условии, конечно, что Эллен не заодно с этим чокнутым.
– Я прошу вас, не нужно кричать, – взмолился русский художник, видя, что я именно это и собираюсь сделать. Он выставил руку вперёд ладонью, а я отшатнулась назад, словно он мог каким-то образом дотянуться до меня за эти десять шагов, что нас разделяли. – Жозефина, вы не так всё поняли!
– Что?! – Воскликнула я хрипло. – Вы… вы не в своём уме! Вы чокнутый, психопат! Вы вломились ко мне в спальню, и…
– Жозефина, я не убийца, – мягко произнёс он.
Э-э… в самом деле? Думаю, именно эту фразу и сказал бы настоящий Поль Февраль, чтобы успокоить меня, ввести в заблуждение, а потом придушить. Например, вот этим чудесным поясом от моего шёлкового пеньюара. Я внимательно посмотрела на Тео, пытаясь понять, где он спрятал заготовленную фиалку для меня. Но в петлице у него была гвоздика, а вовсе не фиалка. Гвоздика! Я, что, похожа на этот цветок, по его мнению?!
Впрочем, на фиалку я тоже не сильно похожа – та слишком нежная, не то, что каменная Жозефина. А гвоздика – яркая и необычная, вполне подойдёт.
– Ни шагу больше, Тео! – Простонала я, заметив, что он отошёл от двери, и вознамерился сократить разделяющее нас расстояние.
– Жозефина, господи, неужели вы ещё не догадались? – С нескрываемой досадой спросил этот негодяй. И сделал ещё шаг в мою сторону.
Я попятилась и снова упёрлась спиной в трельяж, и поняла, что отступать мне некуда, разве что… балкон! Если прямо сейчас резко взять влево, попытаться проскочить под его рукой, когда он надумает схватить меня, то у меня получится выбежать на балкон! Если я не запутаюсь в занавесях, и не потеряю драгоценные секунды, то буду спасена! Я уже как раз собралась использовать свой последний шанс к спасению, а заодно и набрала побольше воздуха в лёгкие, чтобы позвать на помощь, когда Тео сказал:
– Моя фамилия Никитин.
И у меня начисто отпало желание кричать, звать на помощь, и убегать куда-либо. Я замерла, широко раскрытыми глазами глядя на него, и шумно выдохнула. А затем, нахмурившись в полнейшем недоумении, тряхнула головой:
– Но этого же просто не может быть…
– Я думал, вы сразу всё поймёте, – сказал он с улыбкой. – Ещё тогда, когда я сказал, что увлекаюсь живописью.
– Да, но… – Я растерянно заморгала, пытаясь осознать услышанное, переварить, попытаться понять. И поняла, собственно. Более того, я поняла даже, зачем он пришёл ко мне сейчас. И почему он от полиции прятался мне сразу стало ясно – не от полиции вовсе, а от Эрнеста де Бриньона, от вполне конкретного человека.
– Я любил Луизу всем сердцем, мадам Лавиолетт, – сказал мне Тео. – Мне не нужно было ничего, кроме неё. Вы даже представить себе не можете, как я её любил!
Эту пламенную страсть к живописи привила мне однажды моя подруга Луиза. Она отдавала почтение импрессионистам, и объездила все самые известные выставки во Франции, но и этим дело не закончилось. Их семья всегда была состоятельной, и не жалела средств ни на сына, ни на дочь, и однажды отец Луизы отвёз её на одну из модных выставок в Россию, в Петербург, где та и познакомилась с молодым художником по имени Фёдор Никитин.
– Тео, боже мой, – простонала я, прижав ладонь к губам. – Но как вы оказались здесь?! Таких совпадений просто не бывает! Это… это невероятно!
– Я подумал о том же самом, – с усмешкой сказал Тео. – И ладно ещё мы с вами, встретились нежданно-негаданно на горном курорте, но Эрнест! Этого-то каким ветром сюда занесло, почему именно его?! Он же граф, чёрт возьми, дворянин! Каким образом он оказался в полиции?! Боже, как только я услышал фамилию этого комиссара, ожидающегося со дня на день, я понял – мне нужно бежать, и бежать как можно скорее и как можно дальше! Нам не стоит с ним встречаться, я ведь прав?
– Думаю, нет. Не стоит.
– Вот и я так подумал, – хмыкнул Тео. – Восемь лет назад, помнится, он обещал убить меня, живьём содрать с меня шкуру за то, что я совратил его сестру. Но, Жозефина, поверьте, я искренне хотел на ней жениться! У меня не было дурных намерений, я… я, правда, хотел, чтобы она стала моей женой.
А де Бриньон-то, оказывается, тот ещё лицемер! Поглядите-ка на него, горой стоял за сестру и её добродетель, а сам? Не считал зазорным совратить дочку простого адвоката? Сукин сын. Ему, значит, можно, а Тео нельзя?!
– Позавчера вечером я собрал вещи и намеревался вернуться назад в Россию. Я сказал Ватрушкину, что у меня проблемы с полицией, на что он ответил мне, что я не одинок в своей беде, есть ещё некая Жозефина Лавиолетт, она же Жозефина Бланшар, и если кому-то и стоит опасаться приезда комиссара де Бриньона, то только ей, – Тео покачал головой. – А я ведь искал вас всё это время, Жозефина! Я понятия не имел, что ваша девичья фамилия – Лавиолетт. Когда я наводил о вас справки, мне сказали, что вы вышли замуж за Рене де Бланшара, и я не осмелился писать вам. Это могло бы скомпрометировать вас перед вашим мужем, я не хотел доставлять неудобств. А когда Ватрушкин назвал мне вашу настоящую фамилию тем вечером, я понял, что не смогу никуда уехать, прежде не поговорив с вами.
Теперь всё встало на свои места.
Он не убийца, вовсе нет.
И если Тео сейчас всё же потянется к шёлковому поясу моего халата, перекинутого через стул, я буду крайне возмущена!
– Скажите мне, – дрогнувшим голосом попросил он, – скажите, что произошло на самом деле с моей Луизой? Почему она так и не приехала тогда? Мы ведь договорились бежать с ней, она должна была приехать ко мне, я ждал её на вокзале целый день… А потом следующий… И ещё целую неделю изо дня в день приходил встречать поезда… Я писал ей, но ответа не было. Она передумала, Жозефина?
– Нет, – облизав пересохшие губы, ответила я. И покачала головой для верности. – Она не передумала, Тео. Она умерла.
– Она… что?! – Тео заметно побледнел, и потянулся к вороту рубашки, чтобы ослабить пуговицы. А затем опустился в бессилии прямо на мою постель, ибо ноги его уже не держали.
– Она покончила с собой, – продолжила я, набравшись смелости, и подойдя к нему. Не знаю, как выглядят маньяки, собирающиеся задушить свою жертву, но, наверное, не так. Я села рядом и осторожно коснулась его плеча. – Она любила вас до последнего, Тео. Поверьте мне. Я знаю. Я ведь была её лучшей подругой, она всегда делилась со мной всеми своими переживаниями.
– Я знаю, она ведь рассказывала мне о вас… – Тео повернулся ко мне, и в глазах его я увидела слёзы, самые настоящие, неподдельные слёзы. Чтобы мужчина – и плакал? Что за диво! Я даже растерялась немного, право. И поняла, что не случится ничего страшного, если я обниму его и постараюсь утешить хоть чем-то. В конце концов, передо мной сейчас сидел человек, которого до последней секунды жизни любила моя бедная Луиза. Человек, с чьим именем на устах она прыгнула в ледяную воду Роны.
– У нас была ещё одна подруга, Иветтта, – тихо сказала я, поглаживая его сотрясающиеся плечи. – Тоже дворянка, графиня из поместья по соседству. Луиза и ей рассказала о том, что планирует сбежать в Россию, к вам, и остаться там навсегда. Иветта переубеждала её. Я, впрочем, тоже переубеждала поначалу, ведь это тяжело: оставить родителей, брата, которого она так любила… уехать в чужую страну, бросить всё, боже, я не представляю, как она собиралась с этим справляться! К тому же, вы ведь знаете, она была нездорова. Она… она умирала, Тео.
– Я знаю. Но, Жозефина, поверьте, я бы сделал всё, чтобы скрасить её последние дни! Меня не останавливала ни её болезнь, ни предубеждения, я любил её! Глядишь, моя любовь смогла бы её исцелить? А что, бывали же случаи? Боже, я непростительно наивен. Но я ведь правда любил её, господи, как я её любил!
– И она любила вас не меньше, – ответила я, чувствуя, что сердце моё сжимается от глухой, тупой боли. Луиза, милая моя Луиза! – Когда я поняла это, я отстала от неё со своими уговорами. Они были заведомо бессмысленными. Луиза собиралась уехать в чужую холодную страну и умереть там, но она умерла бы счастливой. Я отступилась. А Иветта – нет. И в ночь планируемого отъезда, она рассказала обо всём её родителям.
Лживая, подлая тварь!
«Она же хотела как лучше!», скажете вы, укоряя меня за чрезмерную жестокость. А я скажу вам, что она безбожно завидовала Луизе, и только. Иветте плевать было на её здоровье, на её будущее и на её достаток – Иветте было завидно, что Луизу позвали замуж, а её саму нет! Вот и вся правда. Она только поэтому её предала. И не нужно видеть в этом поступке никаких благородных мотивов! Иветта не была способна на благородство.
– Вот как? – Вконец раздавленный, Тео спрятал лицо в ладонях и громко, прерывисто вздохнул. – И она… после этого…
– Её заперли в особняке, и она опоздала на поезд. Как я понимаю, до Петербурга? А вы из Тюмени, это вообще на другом конце страны! Где бы она стала вас искать? Как? Она не говорила по-русски. И денег у неё было не так много – лишь те скромные сбережения, что мы с нею откладывали для покупки отрезов на платье. Залезть в сейф к отцу и стащить оттуда парочку его миллионов она не решилась, вы же знаете, наша Луиза была воспитана совсем не так!
– Но как же мои письма? Я ведь писал ей! Предлагал перенести время встречи на другой день!
– Вероятно, письма перехватывала её мать. Ни одно из них до неё не дошло, я бы знала. А вскоре состояние Луизы значительно ухудшилось. Как раз в это время женился её старший брат, а Луиза была против этой свадьбы и переживала не меньше, чем свои собственные беды. В конце концов, она поняла, что ей в любом случае осталось недолго, и вас ей перед смертью увидеть не дадут. Доведённая до крайней степени отчаяния, она бросилась с обрыва в реку.
– Господи! Луиза… моя бедная Луиза! – Тео сжал кулаки и в сердцах ударил по мягкой перине, на которой мы сидели. Затем повернулся ко мне, и еле слышно спросил: – Она не просила ничего мне передать?
– Она не говорила мне о том, что собирается сделать, – ответила я категорично. – В таком случае, не сомневайтесь, я придумала бы тысячи поводов, чтобы отговорить её от этого шага! Единственное, что она не уставала повторять без конца – что она любит вас. И, я думаю, она любила вас до последнего вздоха.
– Ох, Жозефина… я… спасибо, спасибо вам… – Смахнув слёзы, которые заметил только теперь, Тео посмотрел на меня с безграничной благодарностью, и, взяв мою руку, сжал её в своих ладонях. – Вы… мне ведь стало легче теперь, когда я узнал правду. Я догадывался, что её уже нет в живых. Она не дожила бы и до двадцати лет со своей болезнью… но мне важно было знать… я ведь все эти годы думал, что она передумала, понимаете?
Я поджала губы и кивнула, глядя в его полные слёз глаза.
– Я был беден, а она – богатая дворянка, что я мог ей предложить? Ничего, чёрт возьми, кроме сибирских холодов и своей любви! Я думал… я боялся… а она… на самом деле…
– Она не передумала, можете не сомневаться, – тихо сказала я. – Ей просто помешали в самый последний момент.
– Иветта, – произнёс Тео ненавистное имя. Затем, недобро нахмурившись, посмотрел на меня и спросил зачем-то: – Не знаете, где её найти сейчас? Хочу посмотреть в глаза этой подлой женщине, отравившей последние дни нашей Луизе!
– Отчего же не знаю? – Я улыбнулась. – На кладбище Пер-Лашез, неподалёку от могилы моего супруга.
– То есть, она… она умерла?
– Нет. Она не умерла. Это я её убила.
Раз уж де Бриньон считал меня виноватой в смерти этой женщины несмотря на то, что задушил её Дэвид, я не стану отрицать. Моя вина в этом тоже была. Дэвид никогда не стал бы этого делать, если бы я не пришла к нему тогда и не сдала Иветту со всеми потрохами. Так что – да.
Это я её убила.
Способствовала её мучительной смерти, так сказать.
И, что бы вы думали, сказал Тео? Отшатнулся, закричал в ужасе: «Убийца, убийца!» – и сбежал?
Он, нет. Он поднёс к губам мою руку, и сказал тихо:
– Спасибо.
Не за что, милый Тео! Обращайся, если что. Жозефина всегда рядом, если нужно кого-нибудь виртуозно убить. Прямо как Поль Февраль! Выходит, не зря де Бриньон нас сравнивал?
Хм.
X
– Мне нужно с вами поговорить, мьсе комиссар, – решительно произнесла я, глядя куда угодно, но только не в голубые глаза этого мерзавеца.
– Что-то случилось? – Почти заботливо спросил он, тоже, впрочем, не испытывая желания смотреть мне в глаза после вчерашнего.
– Мадам Лавиолетт, доброе утро! – Бодрый голос Жана Робера, помощника Эрнеста, донёсся до меня от берега.
Я вынуждена была повернуться в ту сторону, хотя туда-то мне как раз смотреть хотелось ещё меньше, чем на проклятого де Бриньона! Милашка Робер приветливо помахал мне, но мой взгляд против воли скользнул к злополучному озеру. Трава была примята у самой воды в том месте, где нашли Соколицу. Рядом всё было оцеплено, полицейские – и бернские и наши – бродили по периметру, выискивая возможные следы убийцы. А помощник Витгена, невысокий тощий паренёк, вежливо просил прогуливающихся постояльцев отеля выбрать другой маршрут и не топтать здесь, возле берега. Те возмущались, ругались, но парень отвечал им с неизменной твёрдостью, а ещё где-то на западе громыхала гроза – и вот под такую очаровательную мелодию мне пришлось разговаривать с этим мерзавцем снова. После того, как я помахала рукой в ответ очаровательному Роберу, разумеется!
– Я нашла кое-что в домике у реки в тот день, когда было совершено убийство, – ответила я, по-прежнему не глядя на де Бриньона, и протянула ему эту злополучную запонку. Когда наши пальцы соприкоснулись, он еле заметно вздрогнул, но я сделала вид, что не заметила этого. А сама стала смотреть как здоровяк Жан неуклюже склоняется к примятой траве. Мне стало дурно, когда я представила, как Поль Февраль душил здесь, вот на этом самом месте, свою преданную поклонницу, мадам Фальконе. Я поёжилась, обняв себя за плечи, и причиной была вовсе не послегрозовая прохлада, а мой животный ужас. Вернулось то противное чувство страха, которое я испытала сегодня в коридоре, когда увидела приоткрытую дверь.
Господи, убийца среди нас… Это может быть кто угодно!
– Мадам Лавиолетт, так какого же чёрта вы молчали?! – Взревел Витген, стоявший здесь же, по правую руку от Эрнеста.
– А вы бы мне поверили? Неужто? – Всё так же не глядя на них, спросила я. – Вы сказали бы, что я ищу лишние поводы оправдать себя. И были бы абсолютно правы, потому что именно так всё это и выглядит со стороны.
– Вы скрыли важную улику от полиции, чёрт бы вас побрал! – Комиссар Витген едва ли ногами не топал от ярости, в общем-то, был в своём репертуаре. А вот де Бриньон удивил.
– Вы не могли бы повежливее, Бертольд? В конце концов, вы разговариваете с дамой! Не стоит об этом забывать.
Сказал человек, который вчера бесцеремонным образом разорвал на этой самой даме рубашку, а затем целовал её с полминуты против её воли! Какие мы вежливые, ну надо же! Что, думаешь, я поблагодарю тебя, за то, что заступился? Да пошёл ты к чёрту!
– Вы были так увлечены обвинениями в мой адрес, что я, право, забыла обо всём, кроме собственных оправданий, мсье Витген, – ответила я с усмешкой. – Потом, когда я вспомнила, я стала искать вас, но мсье Грандек, управляющий, сказал, что вы уже уехали. А вчера вечером я… – Тут я подняла взгляд на Эрнеста, и слова замерли у меня на языке. Преодолев эту нежелательную паузу, я сказала: – Вчера мне, впрочем, тоже было не до этого, да.
– Где вы это взяли? – Спросил Витген, уже спокойнее. Снизошёл до меня, видите ли!
Я рассказала.
– Чёрт возьми, мадам Лавиолетт, вы в первую очередь должны были сказать нам об этом! – Воскликнул комиссар. – Это же улика, явная улика! Вспомни вы о ней раньше, глядишь, ещё и можно было спасти мадам Фальконе!
– Вот как? И что бы вы сделали? Устроили обыск в отеле? У вас есть такие полномочия, да неужели? Насколько я знаю, вы даже допросить всех постояльцев не рискнули! Только некоторых, кто не смог за себя постоять, вроде меня или мсье Гранье, или русского журналиста. Почему же вы не пошли к мсье Гарндебергу за его свидетельскими показаниями, а, комиссар?! Вы ведь его даже не допрашивали! Потому что он крупный промышленник и бизнесмен, и одного его слова будет достаточно, чтобы вас попросили с должности! И не смейте, чёрт бы вас побрал, упрекать меня в смерти мадам Фальконе! В ней виноват только Февраль и никто больше! Ни вы, ни я не могли её спасти.
Витген после такого отпора поумерил свой пыл, а Бриньон опять стал смотреть как-то странно, неотрывно. Я снова поёжилась, на этот раз от его взгляда, а сама сказала, обращаясь исключительно к противному швейцарцу:
– Скорее всего, это Лассард. Всё указывает на него.
– Вилле?! – Комиссар, похоже, искренне удивился, а я удивилась, с чего это вдруг известный банкир и деловой человек мсье Лассард для него просто «Вилле»?
– Ты сказал вчера, что ранил убийцу в ночь его бегства из Парижа, – сказала я Эрнесту – пускай Витген тоже теперь думает, с какой стати я обращаюсь к знаменитому де Бриньону на «ты»? – Единственный раненый в отеле, которого я видела, это Вильгельм Лассард, постоялец с третьего этажа. Он обедает в нашем салоне, и слышал истории мадам Фальконе за обедом, особенно ту, в которой она утверждала, что раскрыла убийцу и имеет доказательства против него. Более того, мсье Лассард упомянул, что Витторию Фальконе найдут на озере, убитой – так и произошло, несколько часов спустя. К тому же мсье Лассард достаточно богат, чтобы позволить себе такую дорогу вещь, как золотая запонка с фирменным клеймом Бушерона. И ещё: вчера за ужином я обратила внимание, что у него были мокрые волосы. Стало быть, он был на улице, когда начался дождь.
Или всего лишь решил принять душ перед трапезой, что маловероятно. Как я уже говорила, Лассард был пугающе неаккуратен, и мылся, наверное, не чаще одного раза в неделю.
Спрашивается, ну что этот чёртов де Бриньон всё на меня смотрит?! Я не выдержала, подняла взгляд, и постаралась справиться с чарами его холодных голубых глаз. Я была сама невозмутимость этим утром! Он сдался первым, улыбнулся мне, отвёл глаза, и сказал:
– Меня восхищает ход твоих мыслей, Жозефина.
– Да уж, вам бы в полиции работать, – пробормотал Витген, вроде как, с одобрением. И, жестом попросив запонку у Эрнеста, стал рассматривать её, прищурив один глаз.
– Тем не менее, это не он, – огорчил меня де Бриньон.
– То есть – как это «не он»?! – Возмутилась я, вновь подняв на него взгляд, чего делать явно не стоило, потому что сердце моё вновь сбилось с привычного ритма. Из-за одних только этих проклятых глаз, подумать только!
– Я стрелял в правое плечо, Жозефина, – ответил Эрнест, – а у Лассарда повреждено левое. Мы первым делом проверили его, не считай нас такими уж идиотами, пожалуйста!
Что, серьёзно? Похоже, пришла пора взглянуть на него другими глазами, и признать несомненный острый ум, находчивость и оперативность. Но всё равно я нахмурилась, как обычно, чем-то недовольная. Видимо тем, что мне не нравилось в этом человеке абсолютно всё, включая его безграничный интеллект и обаяние.
– К тому же, – добавил Витген, – у него алиби на момент первого убийства. Он был вместе со всеми в столовой, разве не так, мадам Лавиолетт?
– Судебный доктор мог ошибиться, – ответила я, пожав плечами.
– Мог, – не стал спорить комиссар. – Но я уверен, что он не ошибся. Взгляните-ка на это!
Думаю, это он не мне, а Эрнесту сказал. Поэтому не стала поворачиваться, продолжая бессмысленно созерцать высоченную фигуру Жана, бродящего вокруг примятой травы.
– Клеймо дома Бушерон, – произнесла я, всё так же обнимая себя за плечи. – Изделие довольно старое, если судить по оттиску. Завитки идут снизу вверх, левая часть загнута к середине. Такие изготовляли для магазина в Пале Рояль. Позже, когда торговый дом переехал на Вандомскую площадь, вензеля стали чертить сверху вниз. Это было в начале девяностых, стало быть, человек, который нам нужен, наверняка старше тридцати пяти, или даже сорока.
На очередной взгляд Эрнеста, преисполненный восхищения и удивления, я не обратила внимания. Ровно до того момента, когда он не снял с себя свой мундир, и не накинул его на мои плечи. Видимо, он устал наблюдать за тем, как я дрожу, и решил принять меры, экое благородство! Меня до такой степени возмутил этот жест, что я и не нашлась, какую гадость сказать в ответ. Просто резко повернулась в его сторону, во все глаза глядя на него, а он, как ни в чём не бывало, подошёл к Витгену. Тактичный швейцарец сделал вид, что не заметил этой трогательной сценки, и, ткнув пальцем в запонку, сказал:
– Вы совершенно правы, мадам! Ему около сорока пяти сейчас, если быть точнее.
– Что?! – Я обернулась к Витгену, вынужденная придержать тяжёлый мундир на своих плечах, чтобы он не свалился в мокрую траву. Он пах Эрнестом. Такой родной, пьянящий запах, он кружил мне голову, пробуждая в памяти то, что я изо всех сил старалась забыть. – Так вы знаете, кто это?!
Сорок пять лет…? Неужели Эрикссон?
– Виноградная гроздь на рисунке, видите? – Комиссар, обрадованный своей догадкой, подошёл ко мне, будто уже и позабыв, что это меня он считал убийцей каких-то пару дней назад. – Вот, вот здесь, на лицевой стороне.
Вижу. Я её сразу заметила, ещё тогда, в домике. И что дальше? Это тоже клеймо какого-то ювелирного дома, мне неизвестного?
– Это герб мсье де Вино, французского посла в Швейцарии, – пояснил Витген, самодовольно улыбаясь под нашими с Эрнестом заинтересованными взглядами. – Я работал у него некоторое время в службе безопасности, до тех пор, пока не перевёлся в бернскую полицию.
– А разве мсье де Вино числится среди отдыхающих в «Коффине»? – Всё ещё не понимая радости комиссара, спросила я. С Себастьяном де Вино я была шапочно знакома, и наверняка узнала бы его, окажись он среди постояльцев. – Разве мы с Гранье не единственные французы в отеле, попавшие сюда в порядке исключения?
– Мсье де Вино, к сожалению, умер не так давно, – сказал мне комиссар. – Не смог пережить преждевременную гибель своей дочери, мадемуазель Офелии.
Так-так, знакомое имя, шекспировское. Я вскинула голову, поглядела на Эрнеста, а тот коротко кивнул – то ли мне, то ли самому Витгену.
– Офелия де Вино, вторая жертва Февраля, – сказал он.
– Это он, – с усмешкой произнёс Витген, и покачал головой. – Это точно он, чёртов ублюдок Февраль! Мадам Лавиолетт, вы нам так помогли! Теперь мы знаем, откуда ждать удара, и наверняка его поймаем!
– Не хотелось бы омрачать вашего радостного настроения, мсье Витген, но – каким образом? – С усмешкой спросила я, невольно кутаясь в мундир де Бриньона – с озера подул прохладный ветер, и мне стало зябко. – Вы будете проводить обыск? В отеле? Я вас умоляю! Ни Шустер, ни Грандек никогда не дадут вам на это разрешения! Вы на корню срубите доброе имя «Коффина», вам этого ни за что не простят.
– Будем действовать аккуратно, – сказал Эрнест, в последнее время взявший за правило прислушиваться к моим словам. – Начнём с горничных и лакеев. Покажите им эту запонку и попросите по возможности вспомнить, у кого они могли видеть нечто похожее.
– Сделаем, – с довольной улыбкой кивнул Витген. – Прижмём этого мерзавца со всех сторон! Теперь-то он от нас точно никуда не денется, спасибо мадам Лавиолетт!
И Витген, спрятав запонку в карман, ещё разок улыбнулся мне, не иначе как в знак нашего перемирия. Я перестала быть главной подозреваемой, и, похоже, не без помощи де Бриньона, который говорил со мной так уважительно и покровительственно, что швейцарец не осмелился спорить.
Когда он ушёл, я вдруг обнаружила, что и мне-то, по сути, нечего здесь больше делать, на этом холодном берегу горного озера. Я хотела снять мундир и вернуть его де Бриньону, но рука моя наткнулась на что-то во внутреннем кармане, и я помедлила. Эрнест встал рядом со мной, по-прежнему не сводя с меня этого странного взгляда, и с грустной улыбкой наблюдал за тем, как я достала из внутреннего кармана фотографию.
Не знаю, зачем я вообще туда полезла! Ясно же, что ничего хорошего для себя я на этой карточке не обнаружила бы, но истина оказалась слишком жестокой, тяжёлой для меня. Первые несколько секунд я прямым, немигающим взглядом смотрела на забавную озорную девчушку лет шести, с кучерявыми светлыми волосами – просто смотрела, и ничего больше. Затем моя рука, сжимающая фотографию, дрогнула, и де Бриньон это наверняка заметил. Да и чёрт с ним.
Я же понимала, что мне нужно как можно скорее поумерить свою бестактность, и убрать фото назад, пока не стало слишком поздно, но ничего не могла с собой поделать – всё смотрела и смотрела на неё, такую чудесную, такую смешную, такую красивую! Она была точной копией отца, она улыбалась в объектив камеры, а на щеках её виднелись такие же премилые ямочки, как и у него самого. Я непроизвольно коснулась кончиками пальцев её милого личика, и попыталась улыбнуться, но у меня ничего не вышло, чёрт возьми. Кроме бесконечного страдания и боли мне не удалось изобразить больше ничего, несмотря на все попытки. И это он тоже наверняка видел. И понял наверняка неправильно, будто бы меня задевает то, что у него есть ребёнок от другой женщины.
А ни черта это не так! Вовсе не это меня задевало.
А то, что с тем же успехом и наша дочь могла улыбаться нам с фотографии. Знаете, нет ничего печальнее, чем чувства женщины, у которой так и не получилось стать матерью, несмотря на все её попытки и старания. Клянусь вам, нет ничего печальнее. Врагу не пожелаешь этой безграничной чёрной тоски!
– Это Луиза, – сказал Эрнест, хотя я и без его ненужных объяснений и так прекрасно это поняла, сообразительностью господь не обделил!
А потом вдруг стало поздно. Я же говорила, что ещё чуть-чуть, и я не выдержу этого! Говорила… Знала, что не смогу долго терпеть эту муку! Не нужно было вообще доставать это фото, смотреть на него.
– Она очень похожа на тебя, – сказала я, убирая карточку назад, во внутренний карман. И, вернув свой мрачный взгляд спящему озеру, продолжила: – У меня тоже мог быть ребёнок сейчас.
Чего это я с ним разоткровенничалась? – удивитесь вы. И будете совершенно правы, на первый взгляд. Но, с другой стороны, вы ведь достаточно хорошо успели узнать меня, чтобы понять: Жозефина никогда ничего не делает и не говорит просто так.
Жозефина готовилась нанести удар.
Ещё один.
В самое сердце. Если оно у этого ублюдка вообще было.
Убедившись, что он внимательно слушает меня, я усмехнулась, и, склонив голову на плечо, призналась:
– Я была беременна, когда Рене повёл меня к алтарю. Не от него, надо думать, он-то не прикасался ко мне до первой брачной ночи, берёг мою честь, наивный идиот.
Если бы Эрнест сейчас спросил: «А от кого?» это был бы превосходный способ залепить ему ещё одну пощёчину, а потом толкнуть в озеро. Плавать он никогда не умел, я это хорошо помнила. Я даже подождала пару секунд, давая ему такую возможность, но он ничего не спросил. Он побледнел, и побледнел заметно, и по-прежнему не сводил с меня взгляда. Тогда я снова усмехнулась, жёсткой, недоброй усмешкой, и добила его окончательно:
– Мой муж был просто в ярости, когда узнал обо всём. Обмануть его не получилось, и не то, чтобы я пыталась. Я была на пятом месяце, чёрт возьми, и доктор легко определил срок. Никакая ложь не спасла бы меня от расплаты. А однажды я проснулась на больничной койке после того, как этот ублюдок подсыпал снотворное мне в чай. Проснулась, и поняла, что этой маленькой жизни во мне больше нет, – я машинально прикоснулась к своим изрезанным запястьям, и прошептала глухо: – Ужасное это было чувство. Просто кошмарное. Как будто всё конечно, знаешь… С тех пор я не могу иметь детей. Рене отомстил мне за мою неверность таким вот зверским образом.
Смотреть на де Бриньона было жалко. Эдакий образец живейшего раскаяния и сожаления – где ты был семь лет назад, ублюдок?! Где ты был, когда был так нужен мне? А сейчас… на что мне твоё сожаление сейчас? Мне от него ни жарко, ни холодно. И сказала я тебе это вовсе не для того, чтобы ты меня пожалел, а чтобы мучился вместе со мной.
Хотя, быть может, я слишком хорошо о тебе думала, и ты вовсе не будешь мучиться, а забудешь о моих словах через минуту или две? Я улыбнулась ему снисходительной улыбкой, и, стянув с себя мундир, вручила ему, всё такому же растерянному и опустошённому.
– Это была девочка, Эрнест, – сказала я. – И, представь себе, я тоже хотела назвать её Луизой.
А он всё смотрел на меня и не мог подобрать нужных слов. Но какие слова подошли бы к этой ситуации? По-моему, никакие. Уж его лицемерные сожаления точно были бы ни к месту. Так что это даже хорошо, что он молчал.
Я развернулась, и зашагала назад к отелю – неспешно, но уверенно. Пусть не думает, что я от него бегу. Мне вообще на него наплевать.
На него да, но не на это чувство, в ледяных тисках сжавшее моё бедное сердце, которое возникло в тот момент, когда я увидела его дочь – и до сих пор не желало проходить. Я не могла, не могла, не могла спокойно об этом думать! Это была запретная тема! Я ещё в тот страшный день поклялась себе, что никогда больше не стану вспоминать, иначе… Я опустила взгляд на свои запястья, скрытые под длинными рукавами блузки. Я боялась, что я сделаю это в третий раз.
И тогда рядом не окажется ни Луизы, ни Рене – никого, кто вытащит меня из переполненной ванной, в которой кровь смешалась в водой. Третий раз и станет решающим.
Чтобы не возникало таких желаний, то и требовалось, что не думать, не вспоминать то утро, когда я очнулась не в своей комнате, а в больнице, с этой страшной пустотой внутри…
Когда я подходила к ступеням «Коффина», небеса вновь разверзлись, и с неба хлынули ледяные капли. Надеюсь, это именно они текли по моим щекам.
Но почему тогда они были солёными?
XI
– Я не понимаю, почему никто не подозревает Гарденберга! – Вот такую замечательную фразу я услышала, как только переступила порог отеля, за эти несколько шагов успевшая вымокнуть до нитки.
– Жозефина, где ты была?! – Воскликнула Франсуаза возмущённо. – Мы волновались за тебя!
Вся честная компания собралась за одним из столов неподалёку от бара, напротив фойе, и дружно повернули головы в сторону мокрой Жозефины, стряхивающей дождевые капли со своего жакета прямо на пол. Услужливый метрдотель Фессельбаум вышел из-за стойки и протянул мне небольшое махровое полотенце, чтобы я смогла вытереть дождевые капли, и я поблагодарила его за сей любезный жест. Потом, заметив вензель ткацкой фабрики Вермалленов, я расстроилась, вспомнив о насущном, и уже пожалела, что вообще взяла это полотенце в руки.
Лассард, поняв, что объяснений от меня никто не дождётся, продолжил жаловаться Томасу:
– Понимаете, он у них изначально вне подозрений, потому что он какая-то важная шишка! Ну и что, спрашиваю я вас? Мы здесь все важные шишки! – Он бросил полупрезрительный взгляд на Арсена, и поправился: – Ну, или почти все.
Габриель тем временем подошёл ко мне и заботливо спросил, в порядке ли я. Мне стоило больших трудов изобразить непринуждённость, а затем я стала слушать, о чём говорят за столом.
– Я слышал, они даже допрашивать его не стали. – Сообщил нам Ватрушкин. Ему не хватило места рядом с остальными, и он стоял чуть поодаль вместе с доктором Эрикссоном, и, на пару с ним же, уминал толстые сочные виноградины, смачно похрустывая при этом.
– Они и меня не стали допрашивать, – удивил нас Томас. – Я сам вызвался побеседовать с комиссаром, из чистого любопытства, и мне не посмели отказать.
Вот так-то. Некоторых Витген едва ли не силой тащил к себе, а кто-то, как Томас, напрашивался на разговор сам, умоляя: «Ну допросите же и меня, ну допросите!» Как чертовски несправедливо всё это!
– Это Гарденберг убийца, я вам точно говорю! – Воскликнул Лассард пылко. До сих пор был не в себе, никак не мог оправиться от шока, узнав о смерти своей горячо любимой и ненавистной одновременно Фальконе.
– Мсье Лассард, с вашей стороны это некрасиво, по меньшей мере! – Заступилась за своего поклонника Франсуаза.
– Некрасиво?! А как прикажете понимать его неожиданное исчезновение?! – Не унимался венгр, ритмично растирая своё ноющее по случаю дождя плечо.
– Он же сказал, кажется, что повёз свою собаку в город, к ветеринару?
– Это он вам сказал. А как там говорил наш русский художник, тоже, между прочим, бесследно исчезнувший? «А что, если я солгал?» А что, если ваш Гарденберг солгал вам, мадам Морель?
– И вовсе он не мой! – Вспыхнула Франсуаза.
– Да неважно чей! – Раздражённо отмахнулся Лассард. – Он мог убить мадам Фальконе и сбежать, чтобы скрыться от правосудия!
– По-моему, с его связями от правосудия скрыться куда проще в стенах собственного особняка, – не согласился Арсен. – У него же вся Швейцария куплена! О, нет, он не стал сбегать.
– Между прочим, в посёлке за рекой живёт один очень хороший и перспективный ветеринар, – зачем-то сказал Эрикссон. Все повернулись к нему, а он, как ни в чём не бывало, продолжил: – Я это к тому, что вовсе не обязательно было ехать отсюда в сам Берн, и тратить столько времени на дорогу, когда хороший врач под боком, только позови. Это и быстрее, и надёжнее, чем трясти бедного старого пса по ухабам до самой столицы. Что-то здесь не так, господа. Что-то не так с этим Гарденбергом, мсье Лассард совершенно прав.
– Вот! – Получив поддержку от своего вечного оппонента в спорах, лысый венгр просиял и взмахнул здоровой рукой. – Я говорил вам! Говорил!
– И в Париже он бывал, да ещё чаще, чем у себя в Люцерне! – Вещал Лассард, разошедшийся не на шутку. – Я сам его видел на похоронах дочери Себастьяна де Вино!
С Гарденбергом мне более или менее понятно, но сам-то ты что делал на похоронах посольской дочери? – так и хотелось спросить мне. А ещё хотелось вернуться к Эрнесту и спросить, насколько он уверен в том, что плечо было именно правым, а не левым? Не мог ли он перепутать в темноте? Не мог ли Февраль ввести его в заблуждение, нарочно схватившись за здоровое плечо, а не за раненое?
Потому что такому человеку, как Лассард, делать на похоронах Офелии де Вино было совершенно нечего. Они вращались в разных кругах. Разве что, Лассард водил дружбу с её отцом? Возможно такое?
Может, и да, но то, как он изо всех сил стремился очернить Гарденберга выглядело подозрительным. Настолько подозрительным, что я как-то и не подумала подразумевать самого Гарденберга. Ровно до того, пока они не продолжили свою беседу:
– Вы зря клевещите на хорошего человека, мсье Лассард, – сказала Нана Хэдин, защитница обделённых и поборница справедливости. – Мсье Гарденберг гостит в отеле уже больше месяца, и если кто-то и сбегал из Парижа в Берн, то точно не он!
– Я вас умоляю, фрау Хэдин! – Отмахнулся венгр. – Гарденберг частенько отлучается и на день и на два, а поезда у нас до Парижа ходят довольно часто! Ничто не мешало ему съездить во Францию, убить пару-тройку девушек и вернуться назад, как ни в чём не бывало!
Странно, что эта очевидная мысль пришла в голову туповатого Лассарда, а не нам с Томасом, к примеру. Мы с ним переглянулись, как по волшебству, словно прочитав мысли друг друга.
– Слава богу! – Выдохнул Арсен с демонстративной весёлостью. – Это отводит подозрения от меня самого! Мсье Лассард, будете так любезны, намекните об этом полиции невзначай? Я уже устал повторять, что поезда ходят каждый день, чёрт возьми, а они всё равно подозревают меня, потому что я-то уехал из Парижа как раз тем же полночным экспрессом, что и Февраль!
С каждой их фразой, с каждой новой репликой, мне становилось всё хуже и хуже. Сначала я была убеждена, что убийца Лассард, затем, когда он упомянул про поезда, мои подозрения обрушились на Гарденберга, но когда Арсен сказал, что сам приехал тем же поездом… Да ещё ведь во всеуслышание заявил, никого не стесняясь! Я вспомнила их обмен взглядами с Фальконе, и, обняв себя за плечи, сказала Габриелю:
– Пожалуйста, уведи меня отсюда.
Дважды просить его не пришлось. И мы, извинившись перед остальными, пошли наверх, а графиня Вермаллен, матушка Габриэллы, колючим взглядом глядела нам вслед. И, как раз в тот момент, когда мы поднимались по ступеням наверх, в тот момент, когда я окончательно убедилась, что ни слова больше не хочу слышать, Арсен продолжил свои рассуждения:
– Но это же ни о чём не говорит, правда? Со мной довольно много кто ехал на том же самом поезде! Вот, Гринберг, например!
Чтоб тебя, подумала я, прикусив губу.
XII
– Жозефина, нам нужно уехать, – сказал мне Габриель, едва мы остались одни.
– Что? – В этот раз я решила быть благоразумнее, чем вчера вечером, и закрыла дверь на ключ, на случай ещё одного незапланированного визита Эрнеста.
– Я должен тебя отсюда увезти, – ответил Гранье, и, подойдя ко мне, взял мои руки в свои, и посмотрел на меня сверху вниз – ласково, нежно. – Неужели ты не понимаешь, что означают все эти убийства?! Это, действительно, Февраль! И он здесь, в Берне, в «Коффине», чёрт возьми!
– И он один из нас, – мрачно добавила я. – Один из тех, кто сидел вчера за столом и слышал россказни Соколицы.
– Тем более, – Габриель кивнул, и привлёк меня к себе, после чего, прижавшись лбом к моему лбу, прошептал: – Милая моя, я не могу тобой рисковать! Он убивает брюнеток, чёрт бы его побрал! Ты можешь стать следующей жертвой! Я… я не могу так, мне невыносима сама мысль об этом! Жозефина, прошу тебя, давай уедем!
– Куда мы уедем, Габриель? Мы с тобой, ты и я, первые на подозрении у полиции, ты же слышал, что сказал де Бриньон! Нас тут же схватят, мы не успеем даже до Берна доехать!
– К чёрту Берн! Мы спрячемся понадёжнее! – Никак не желал успокаиваться этот упрямец. – Попросим Арсена сделать нам поддельные документы и нас никогда никто не найдёт!
– Что? Почему Арсена? – Я невольно уцепилась за эту фразу.
– Он говорил, у него есть знакомые… господи, Жозефина, ты меня вообще слушаешь?
А мне он говорил, что поддельные документы сделать не так-то просто! Ах он лицемер! О, господи… Опять я начинаю подозревать всех подряд! Но, давайте посмотрим правде в глаза, изворотливый и хитрый русский журналист подходил на роль Февраля лучше остальных.
Умный, проницательный, хваткий… Такому вполне по силам оставить полицию с носом!
– Жозефина? – Недовольный голос Габриеля вернул меня к реальности, я встрепенулась и тут же обняла его за шею и прильнула к нему всем телом. Это вместо ответа. Он вздохнул измученно, и поцеловал меня в макушку. – Глупенькая, неужели ты не понимаешь, я ведь не переживу, если с тобой что-нибудь случится! Я так боюсь тебя потерять…
Я подняла на него взгляд, такой девчоночий, бестолковый, счастливый взгляд, и улыбнулась.
– Поцелуй меня, Габриель…
Дважды его просить не пришлось, он склонился ко мне, нежно взял моё лицо в ладони и прижался губами к моим губам. Я обняла его за шею, и наслаждалась этими минутами волшебства. Мы забылись на какое-то время, и я не сразу услышала, что в дверь стучат.
Точнее, «стучат» – это мягко сказано. Колотят, будто намереваясь вынести её с петель, если понадобится!
Эрнест.
Больше некому.
Хорошо, в таком случае, что я закрылась!
– Жозефина, открой, иначе я выломаю дверь!
…или, не хорошо?
– Нет, это никуда не годится! – Хрипло произнёс Габриель, и, отстранившись от меня, направился к двери, повернул ключ, и распахнул её резко. И так же резко спросил: – Какого чёрта вам здесь надо, комиссар?
Де Бриньон такого поворота явно не ожидал. Уже второй раз он врывался ко мне в спальню, и уже второй раз я оказывалась в компании Гранье! Думаю, Эрнест был достаточно проницателен для того, чтобы понять, что это означает. Видимо, как раз этот укоризненный взгляд, посланный мне, и подразумевал, что он не одобряет моего поведения.
– Гранье! – Переведя взгляд на Габриеля, он прищурился и улыбнулся наигранно. – И вы здесь, какая удача! Вы мне тоже были нужны. Но прежде я хотел бы поговорить с мадам Лавиолетт.
– Вчера, стало быть, не наговорились? – С ехидцей спросил Габриель, скрестив руки на груди. И сотворил немыслимое – встал у де Бриньона на пути, не имея ни малейшего намерения впускать этого мерзавца в мою комнату.
– Не наговорились, – не стал спорить Эрнест, по достоинству оценив благородный порыв Габриеля. – А вам, милейший Гранье, я порекомендовал бы тщательнее выбирать врагов. Не советую со мной ссориться. Я очень легко могу отправить вас за решётку в любой момент.
– Эрнест, перестань, – упавшим голосом попросила я.
Габриель резко повернулся ко мне, видимо, удивляясь, когда это комиссар из Парижа стал для меня просто «Эрнестом»? Уж не вчера ли, за душевными беседами в этой самой спальне? Но эта ревность была необоснованна и я не стала ничего объяснять.
– Пусть он уйдёт. – Сказал де Бриньон невозмутимо. – Пока я прошу по-хорошему, а не приказываю.
– Думаете, можете мне приказывать? – Сузив глаза, поинтересовался Габриель.
– Думаю, я даже могу сделать так, чтобы вас отправили на гильотину не позднее завтрашнего утра, – сказал этот мерзавец, упиваясь своим превосходством, своей властью над нами. Это было выше моих сил.
– Хорошо. Раз так, – я подошла к двери и встала рядом с Габриелем, плечом к плечу, чтобы показать что я с ним, что я ни за что не брошу его. И с ненавистью посмотрела на Эрнеста: – Вызывайте меня на допрос официальной повесткой, господин комиссар! В ином случае я отказываюсь с вами разговаривать.
Я ждала, когда он скажет, что уж меня-то на гильотину отправить буде ещё проще, чем Габриеля! Но он этого не сказал. Не обращая теперь уже ни малейшего внимания на Гранье, он смотрел на меня так пристально и жадно, что, думаю, Габриель понял всё о наших прошлых отношениях по одному только этому взгляду.
– Жозефина, я прошу тебя, нам нужно поговорить, – тихо сказал де Бриньон, пытаясь достучаться до меня, но всё это было заведомо бесполезно.
– Нам не о чем с вами разговаривать, господин комиссар. Всё, что я знала об убийствах, я рассказала вчера. Добавить к этому мне нечего. И, прошу заметить, для вас я не Жозефина, а мадам Лавиолетт!
Это уж точно было лишним, но больно мне хотелось его уязвить! Да и Габриель оценил по достоинству, не думая скрывать победной улыбки.
А вот де Бриньон разозлился не на шутку.
– Ах, так? – Прищурившись, спросил он. – Не хочешь, по-хорошему? Отлично! В таком случае, мсье Гранье, вы арестованы!
Повисла пауза. Долгая такая пауза, и весьма неприятная.
Потом я взорвалась:
– Что?! Да что ты себе позволяешь, чёрт возьми?!
– Тебе опасно находиться рядом с этим человеком, Жозефина, – не думая скрывать своего довольства, сказал Эрнест. – Он единственный француз в отеле, не считая нас с ребятами, и он единственный, кто приехал из Парижа! Более того, он подходит как никто другой – и по возрасту и по описанию.
Стало быть, у них и описание его есть?
Этого я не знала.
– Это низко, – прошипела я, тяжело дыша от переполняющей меня ярости. – Ты назло мне это делаешь?! Считаешь, я мало натерпелась от тебя?!
– Вовсе нет, Жозефина, – предельно серьёзно сказал де Бриньон. – Я беспокоюсь исключительно о твоей безопасности. А что, если Февраль – это он?
– Да что за бред, чёрт возьми! – Наконец-то и Габриель не сдержался, видимо, его подхлестнули слова о том, что де Бриньон в прошлом успел сделать мне немало зла. – Знаете, комиссар, единственный человек, от кого её нужно защищать – это вы сами!
– Да?! – Де Бриньон посмотрел на него теперь уже почти с ненавистью, и я поняла, что Габриель пропал. Не надо было ему с ним ссориться. Не надо, не надо, не надо, чёрт возьми! Полиции же всё равно, кого арестовывать! Им вполне достаточно будет того, что он француз, что он из Парижа, как и Февраль – достаточно для того, чтобы отправить на гильотину.
Господи, я потеряю его.
Я потеряю его навсегда.
Я не могла этого допустить!
– Немедленно прекрати этот фарс, – сказала я с презрением, встав между Габриелем и Эрнестом, так близко к последнему, что моя грудь практически касалась его груди. Что несколько обескуражило де Бриньона, который даже теперь, восемь лет спустя, не мог на меня спокойно реагировать.
– Скажите, вам не знакома некая Офелия де Вино, мсье Гранье? – Не унимался де Бриньон, старательно переводя взгляд с меня на Габриеля. И всякий раз у него ничего не получалось, всякий раз он возвращался к моим горящим яростью глазам.
– Очень смешно, мсье комиссар, – проворчал Габриель.
– Мария Лоран? Иветта Симонс?
– Чего ты добиваешься, Эрнест, чёрт возьми?! – Уже не в силах себя контролировать, я схватила его за отвороты мундира и заглянула в его небесно-голубые глаза, в надежде найти там хоть малейший намёк на совесть.
Бесполезно.
Совести у этого человека не было никогда. Иначе он не бросил бы меня восемь лет назад, не так ли?
– Ты сама этого хотела, – бесстрастно ответил он.
Ещё один чёртов мальчишка! Не придумал другого способа мне отомстить?! Я ослабила хватку, выпустила его, и, отойдя в сторону, взялась за голову в приступе отчаяния. Я не знала, как помешать этому безобразию. Я не хотела, чтобы Габриель пострадал из-за меня, господи, как я этого не хотела!
– Ты не можешь арестовать его, – прошептала я. – Не можешь, чёрт возьми! Он невиновен!
– Так пускай докажет, – с усмешкой произнёс де Бриньон. – Покажите мне ваше правое предплечье, мсье Гранье, будьте любезны!
– Господи, да как же ты смеешь? – Застонала я в отчаянии. Он снова пытался меня унизить, чёртов ублюдок! Неужели он получает от этого какое-то своё, особое удовольствие? – Все вы, что ли, такие в этой вашей полиции? Нападаете исключительно на тех, кто не может дать сдачи? Почему ты Гарденберга не попросишь раздеться?! Томаса Хэдина? Почему одних вы старательно обходите стороной, а других всё никак не можете оставить в покое?
– Я и Гарденберга раздену, и Хэдина, самого Фишера, если понадобится, – сказал де Бриньон, будто бы в своё оправдание. Намекая, очевидно, что он-то, в отличие от Витгена, швейцарскую знать не боится ничуть. А сам сделал знак Габриелю – дескать, давай-давай, не стесняйся!
Гранье, в свою очередь, наградив его хищным взглядом, стал расстёгивать пуговицы на жилетке. У него не было выбора, и он, и я прекрасно это понимали. Но лучше нас понимал это сам де Бриньон, и, скрестив руки на груди, с усмешкой наблюдал за Габриелем. И, видимо, его извращённой натуре этого показалось мало – решив, что недостаточно меня унизил, он сказал, когда Габриель замешкался с последней пуговицей, застрявшей в петле:
– Жозефина, не стой столбом, поспособствуй, что ли? Думаю, тебе не впервой помогать ему раздеваться!
А вот этого Габриель стерпеть уже не мог. И я его прекрасно понимала – сама страсть как хотела наброситься на этого ухмыляющегося мерзавца с кулаками! Но так же я понимала и то, что Эрнест его провоцировал. Нарочно провоцировал на драку, чтоб было за что арестовать Габриеля, когда никакой раны на его плече не окажется.
Мне ни за что не удалось бы их разнять, если бы они сцепились, и тогда случилась бы неминуемая катастрофа. Габриеля арестовали бы за нападение на представителя власти, на радость де Бриньону, и осудили если не за убийства – так за это!
Но гораздо раньше приключилась катастрофа куда более страшная. И она не дала случиться кровопролитию, не дала Эрнесту де Бриньону восторжествовать. Дверь моего номера без предупреждения распахнулась, вот уже в который раз, и жалобно скрипнула, ударившись о стену – на пороге стояла разъярённая мадам Вермаллен, с красным лицом и заплаканными глазами.
Я подумала, что она явилась ко мне, чтобы высказать всё то, что она думает о моём лёгком нраве, вкупе с парочкой фраз о том, что я сломала жизнь её дочери. На фоне таких перспектив присутствие в моей спальне самого Габриеля выглядело просто чудовищным: можно было начинать бояться, что в порыве ярости Верамаллен убьёт нас обоих, она же была явно не в себе!
Но всё оказалось гораздо хуже.
В десятки тысяч раз.
– Убийца! – Закричала она, бросаясь на меня. – Это ты убила её! Ты убила мою дочь!
Эрнест не дал ей сделать и шагу в мою сторону, молниеносно среагировав и перехватив графиню прямо там, на пороге. Понятия не имею, как ему удалось удержать её на месте – она же была шире его раза в три! Но, тем не менее, в комнату мадам Вермаллен так и не прорвалась, но ничто не мешало ей вещать громовым голосом:
– Это ты убила её! Ты не могла простить ей этого чёртового француза!
Этот чёртов француз стоял напротив меня, широко раскрытыми глазами глядя на мадам Вермаллен, и не верил собственным ушам.
– Я ненавижу тебя! – Визжала графиня, извиваясь в железных объятиях де Бриньона, и сотрясая кулаками в воздухе. – Я сгною тебя за решёткой! Дешёвка! Продажная лионская шлюха!
Ой, а это же всё про меня!
Впрочем, не до иронии теперь. Габриэлла убита! Я посмотрела на Габриеля, но он выглядел таким растерянным, что не нашёл никаких слов, чтобы утешить меня в тот момент.
Зато де Бриньон быстро взял ситуацию под свой контроль.
– Мадам Вермаллен, немедленно успокойтесь! Проводите меня в комнату вашей дочери, я прошу вас. Я должен немедленно осмотреть место преступления.
О, да, отличный способ увести отсюда эту фурию, пока она не свернула мне шею! А что, она могла – вон какие ручищи!
– Как же вы не понимаете?! – Причитала графиня, заливаясь слезами отчаяния. – Это она убила мою дочь! Арестуйте её, господин комиссар! Немедленно арестуйте её, я приказываю!
На шум в коридор выглянула перепуганная Франсуаза, но мне было совершенно не до неё. Я перевела взгляд на Эрнеста, который смотрел на меня едва ли не так же растерянно, как и Габриель.
Ну а потом прозвучал финальный аккорд. На случай, если кто-то ещё сомневался, что я пропала окончательно и бесповоротно.
– Вот! – Визгливо выкрикнула графиня Вермаллен. – Я нашла это в кармане платья моей мёртвой дочери!
И с этими многообещающими словами она протянула Эрнесту белый платок, который сжимала в кулаке. Увидев его, я застонала в голос, и, схватившись за голову, отвернулась к окну. Это был мой платок! Тот самый, который я дала Габриэлле, чтобы вытереть слёзы, когда она приходила ко мне с просьбой оставить в покое её любимого.
На платке были мои инициалы.
XIII
– История повторяется, вы не находите, мадам Лавиолетт? – Спрашивал меня Витген двумя часами позже.
Надо сказать, на те два часа, что полиция осматривала место преступления и допрашивала свидетелей, меня всё же поместили под арест. Это означало, что я не имела права выходить из вот этого самого кабинета никуда, даже по нужде, и обязывало меня созерцать физиономию одного из парней Эрнеста и одного из парней Витгена. Я бы предпочла общество Жана Робера, но своего милашку-помощника де Бриньон забрал с собой.
За время моего заточения ко мне, разумеется, пытался прорваться Габриель, но полиция, разумеется, его не впустила. Кто бы знал, каких трудов мне стоило убедить его уйти в свою комнату и не нервировать полицейских почём зря, пока они не арестовали его самого! Он ушёл, но, я думаю, вовсе не к себе в комнату, а – на поиски де Бриньона. Чтобы поговорить с ним по-мужски. И это пугало меня безмерно.
Франсуаза тоже приходила, но они и её прогнали, а вот Томаса Хэдина не посмели. Я же говорю, полиция наша могла грубить и командовать лишь теми, кто не мог дать сдачи! Томас Хэдин, железнодорожный магнат, сам мог командовать полицией сколько угодно – уж бернской точно. Думаю, прикажи он помощнику Витгена раздеться догола и сплясать какой-нибудь национальный танец – тот без промедления кинулся бы расстёгивать мундир. Но Томас ничего такого не приказывал, а жаль, это хоть как-то разнообразило бы мой двухчасовой досуг!
Томас для начала спросил, как это меня угораздило, а я сказала искренне, что это всего лишь нелепая случайность и никакую Габриэллу я, разумеется, не убивала. Он мне сразу же поверил – думаю, он и не пришёл бы, если бы сомневался. Потом замешкался на несколько секунд, неодобрительно глядя на полицейских, но те сочли, что оставлять нас наедине ни в коем случае не стоит. Достаточно того, что они разрешили ему войти и поговорить со мной.
Тогда Томас сделал нечто совершенно неожиданное – со словами: «Ах, Жозефина, прошу вас, успокойтесь и не волнуйтесь ни о чём!» он обнял меня и стал ласково гладить по волосам. Я оторопела от такой нежности, несколько неуместной ещё и потому, что я вообще-то была предельно спокойна и никаких признаков волнения не демонстрировала, и в истерике не билась. Потом я поняла, к чему было это всё. Когда он ушёл, я обнаружила у себя в кармане ключик, небольшой ключик с запиской. Пользуясь тем, что мои конвоиры глядят куда угодно, но не на меня, я развернула записку. «На случай, если они вам не поверят», было написано в ней, а ниже прилагался адрес в Лозанне.
Ах, Томас, милый Томас! Я была тронута этой заботой от постороннего в сущности человека, так что оставшееся время моего заточения показалось мне не таким томительным. А ещё я думала, как теперь выбираться из всего этого дерьма, в котором меня угораздило увязнуть по самые уши.
Вариант у меня был один: Дэвид. Если мне удастся связаться с ним до того, как меня казнят. Бесплатно он сотрудничать явно не станет, попросит ещё одну ночь взамен, потому что та первая и последняя ему безумно понравилась. И что я буду делать тогда?
А, с другой стороны, был ли у меня выбор? Или так, или гильотина. Но после Габриеля я упрямо не желала представлять себя рядом с другим мужчиной, даже если на кону моя свобода. И к тому времени, как вернулись Витген с де Бриньоном, я пришла к окончательному выводу: я не стану спать с Дэвидом даже ради спасения собственной жизни. Не в этот раз.
Благородно, конечно, но меня всё равно не вдохновляла перспектива грядущей смертной казни. С возвращением обоих комиссаров настроение у меня испортилось ещё сильнее, особенно когда Витген сел за тот самый чиппендейловский стол напротив меня, готовясь начинать допрос. Эрнест встал у окна, спиной ко мне, и рассредоточено смотрел на постояльцев отеля, вышедших прогуляться на улицу, как только закончился дождь. Он ничего не говорил. И молчание его меня пугало.
– Это, действительно, мой платок, – не стала отрицать я, глядя на Витгена с тоской. – Я сама дала его Габриэлле.
– Ну да. Подарили. Когда собирали на свидание. Решив, очевидно, что он подойдёт под цвет её шляпки? – Ирония у Витгена получилась какой-то неохотной, и я на неё почти не обиделась.
– Разумеется, нет. Но какой смысл мне говорить вам что-либо, если вы всё равно мне не поверите?
– А вы попробуйте, мадам Лавиолетт. Мне, в самом деле, уже интересно, что вы придумаете на этот раз!
– Перестаньте говорить с ней в таком тоне, Бертольд, – осадил его де Бриньон. – Платок – это только косвенное доказательство.
– А вам мало доказательств? – Витген пожал плечами. – Шляпка с инициалами, платок с инициалами, и оба на месте преступления! Мадам Лавиолетт, вы либо очень глупая, либо очень невезучая.
Либо и то и другое разом, подумала я обречённо, а Эрнест вновь решил за меня заступиться.
– Витген! Вы забываетесь.
– Прошу прощенья, – пробормотал бернский комиссар. – Ну так что же, мадам Лавиолетт? Будете признаваться или посидим здесь ещё немного?
– Посидим. Прикажите подать чай, мне холодно, я хочу согреться! – С невероятной наглостью сказала я. И, закинув ногу на ногу, добавила: – Потому что признаваться я ни в чём не собираюсь! Габриэллу Вермаллен убила не я.
– В её комнате обнаружили платок с вашими инициалами.
– Я сама одолжила его ей накануне. У неё не было своего.
– Что же это, мадемуазель Вермаллен плакала у вас на плече? Позвольте поитересоваться о причинах?
– Не позволю. Они к делу не относятся.
– Думаю, причиной ваших разногласий – мсье Гранье? – Хмыкнул проницательный Витген, чёртов сукин сын. Я дёрнула щекой, и больше никак не выдала своего желания убить его в ту секунду.
– У нас не было никаких разногласий с Габриэллой.
– Её мать считает по-другому.
– Её мать – бестолковая старая курица! – Не сдержалась от грубости я. – Разумеется, она винит меня во всех смертных грехах! Она ещё с утра, когда Габриэлла была жива, смотрела на меня волком, искренне презирая за то, что Гранье выбрал меня, а не её дочь.
– Тут ты немного ошиблась, Жозефина, – наконец-то подал голос Эрнест. – Габриэлла была уже мертва к этому времени. Её убили вчера ночью. Ближе к одиннадцати часам.
– Ночью?! – Я удивлённо посмотрела на него, но де Бриньон снова отвернулся к окну, и больше никаких комментариев давать не стал.
Ночью? Но я отчего-то решила, что убили её именно сегодня утром. Её мать говорила, что Габриэлла не спустится из-за мигрени, и я была уверена, что она заходила к ней перед завтраком, говорила с ней. Выходит, в последний раз графиня Вермаллен видела свою дочь только вчера вечером. И преспокойно завтракала в нашей компании, пока Габриэлла… лежала там… совсем одна…
Я резко, слишком резко прижала руку к губам, боясь, что вот-вот закричу от отчаяния и горя. Витген, привыкшей видеть меня сдержанной и строгой, несказанно удивился этому моему порыву и даже вздрогнул испуганно. Нервы у него были ни к чёрту. Как и у всех нас теперь.
– Простите, – прошептала я сдавленно. И отвела взгляд.
Ох, пожалуйста, ну только не сейчас, не здесь! Когда меня бросят в камеру, у меня появится время, чтобы вспоминать о том, какой милой, невинной и доброй была бедная Габриэлла! Но не сейчас. Не при них. Этим людям ни в коем случае нельзя демонстрировать свою слабость.
– Хотите знать, как я вижу случившееся? – Полюбопытствовал Витген. – Мадемуазель Вермаллен взъелась на вас за то, что вы увели у неё жениха. Между прочим, бессовестно с вашей стороны, мадам Лавиолетт. Они ведь пожениться хотели!
Ах ты сукин сын! Ещё смеешь попрекать меня?! Я метнула на Витгена взгляд-молнию, но он этого словно бы и не заметил. И продолжил:
– Мадемуазель Вермаллен любила его всей душой и не захотела отдавать его так просто. Она пришла к вам, и стала умолять отступиться, не мешать её счастью, пригрозив крупными неприятностями, в случае, если не удастся найти компромисс.
Кстати, да. Ещё один повод восхититься этой девочкой, ныне покойной. Она бы ведь могла сразу начать с угроз – в тот вечер, когда пришла ко мне! А она разрыдалась, и вежливо попросила уступить ей. Боже, какая же она была чистая! Боже, какое же я ничтожество, как подло я поступила с ней!
И поделом мне.
– Вам, разумеется, не улыбалось ни возможное разорение, ни обнародование ваших грязных тайн, поэтому вы убили мадемуазель Вермаллен, чтобы обезопасить себя, – подытожил Витген, сложив руки на столе. Де Бриньон обернулся, видимо, собираясь вновь заступиться, но в этот раз я сама могла за себя постоять.
– Разорение? Помилуйте, вы всерьёз думаете, что Вермаллены смогли бы меня разорить? Сомневаюсь. А касательно моих грязных тайн, мсье Витген, тут уж я не знаю, что нужно было придумать, чтобы обо мне стали говорить ещё хуже, чем говорят сейчас. Не настолько у неё была богатая фантазия, как мне кажется.
– При ней не нашли цветка, мадам Лавиолетт, – устало вздохнув, сказал Витген. – Как вы это объясните?
– Что…? – Ахнула я, вновь прижав руки к губам. Эрнест, не оборачиваясь, усмехнулся, но на этот раз без былого триумфа. Подумал о том же, о чём и я – но почему не стал радоваться, ликовать?
– Кто бы ни убил Габриэллу Вермаллен, это был не Февраль, – произнёс бернский комиссар, скрестив руки на столе. – Вот поэтому я и спрашиваю вас, мадам Лавиолетт, как прикажете всё это понимать?
Ну, раз не Февраль и не я – оставался только один человек, которому могла быть выгодна смерть Габриэллы Вермаллен. Но он никак не мог убить её, он же был со мной всю ночь! Разве что – до этого? Я обняла себя за плечи, и вновь посмотрела на де Бриньона, сама не знаю зачем. Поддержки я, что ли, от него ждала? Глупо. Вряд ли он скажет: ох, бедная Жозефина, легла в постель к убийце, мне так жаль тебя!
Боже, что за чушь, к какому убийце? Я всерьёз думаю, что Габриель мог убить её? Но Витген больно ладно всё обрисовал, если представить виноватым не меня, а Габриеля. Он ведь говорил с ней накануне, и его словами она явно осталась недовольна.
Господи, ему конец теперь! Неважно, убивал он её или нет, ему в любом случае так это не оставят. Или мне. Одному из нас. Я пристально смотрела на Эрнеста, словно ждала его строгого суждения, но он по-прежнему ничего не говорил.
Нет, Габриель не убивал её. Когда бы?! Он был со мной весь вечер и всю ночь. Те полчаса, что мы разговаривали с де Бриньоном… мог ли Габриель за это время дойти с противоположного конца коридора до комнаты Габриэллы, убить её, вернуться к себе и присесть у окна, как ни в чём не бывало? Успел бы он? Если бы я не была ограничена в передвижениях, я бы, несомненно, сходила туда, чтобы проверить, взяв с собой часы. Я высчитала и сказала бы наверняка, но я и так знала – ему не хватило бы времени! Это как же нужно было всё рассчитать…? И подгадать, чтобы Габриэлла была у себя в комнате – а она частенько сидит у постели матери по вечерам и читает ей вслух… читала. В тот вечер её могло попросту не оказаться там! Нет, слишком много «но». Это не Габриель.
Боже, как я вообще могла подумать о том, что он способен на такое?!
Но теперь, получается, если я начну оправдываться и доказывать свою невиновность, и не дай бог её докажу, то подозрение неминуемо падёт на Габриеля. Он единственный, кому выгодна смерть Габриэллы, кроме меня. Выходит, или я или он?
Как жестоко.
Де Бриньон поэтому казался таким подавленным? Надо же. Я думала, он будет просто счастлив, после такой-то пламенной сцены с выяснением отношений в моей спальне!
Как утопающий за соломинку, я схватилась в отчаянии за последний свой шанс выпутаться так, чтобы не навредить при этом Габриелю:
– Эрнест, – облизнув пересохшие губы, позвала я. Де Бриньон тотчас же обернулся, готовый выслушать. – Я была той ночью в северном крыле.
Де Бриньон, похоже, очень хотел сказать, что даже если и так, куда разумнее с моей стороны было умолчать об этом. Витген, например, довольно крякнул, и записал это в протокол. Ладно, мне терять уже нечего!
– Я видела там Лассарда, – сказала я, не сводя взгляда с де Бриньона. – Лассарда, которому совершенно нечего там делать, его номер в другой части коридора! Он спешил уйти, очень торопился, когда мы столкнулись. Он был взволнован, и будто не хотел, чтобы его видели там…
Это может показаться странным, но де Бриньон, похоже, поверил мне. Он внимательно слушал, ловя каждое слово, будто цепляясь за малейшую возможность, чтобы вытащить меня из этой пучины, в которой я тонула.
Но это было заведомо бесполезно, кажется. Обвинить меня было куда проще, чем знаменитого банкира и дельца, подданного Австро-венгерской империи.
– Мадам Лавиолетт, вам не надоело играть в эти игры?! – Воскликнул Витген, ударив кулаком по столу так, что подпрыгнули карандаши, и едва не опрокинулась чернильница. Я не дрогнула, продолжая смотреть на де Бриньона, в надежде, что он скажет хоть что-то, ну хоть что-нибудь!
Но он промолчал, разумеется! А с моей стороны было бы наивным ждать, что он кинется мне на выручку, в память о былой дружбе. Я усмехнулась ему, и, развернувшись теперь уже к Витгену, сказала твёрдым, уверенным голосом:
– Хорошо, мсье комиссар. Да, это я убила Габриэллу Вермаллен!
Пусть уж я утону одна, чем утяну за собой Габриеля. Или, ещё хуже, если меня оправдают, а его отправят в тюрьму! Им нужен был виноватый? Пожалуйста, вот она я! И пусть делают со мной, что хотят.
Де Бриньон тем временем застонал, схватившись за голову:
– Жозефина, чёрт возьми, ну зачем?!
Он явно имел в виду это моё признание, но я решила истолковать его вопрос буквально, и ответила:
– Из ревности. Или из мести? Всё было именно так, как сказал мсье Витген. Она угрожала мне, и я решила, что будет проще её убить.
– Жозефина, напрасно ты его выгораживаешь, – сказал де Бриньон, провести которого оказалось вовсе не так просто. – Он этого не заслуживает, чёрт возьми!
– Я никого не выгораживаю, – нейтральным тоном ответила я. – Я, действительно, убила Габриэллу Вермаллен вчера ночью.
– На подоконнике в её номере стояла огромная ваза, полная цветов. Хочешь сказать, тебе было сложно взять оттуда один и бросить рядом с её телом, чтобы свалить вину на Февраля? – С усмешкой спросил он, намекая, очевидно, на то, что сваливать свои преступления на этого маньяка-убийцу у меня получается очень даже хорошо.
– Я… не догадалась, – с некоторым запозданием ответила я.
– Не смеши меня, – категорично произнёс Эрнест, качая головой.
– Я, право, не понимаю, что вам ещё нужно от меня, господа! – Воскликнула я, поднявшись со своего места, донельзя раздражённая. Ребята Витгена, стоящие у дверей, беспокойно шевельнулись, будто боясь, что я могу сбежать, но я, разумеется, бежать не собиралась. Перегнувшись через стол к бернскому комиссару, я взглянула на него сверху вниз и спросила: – Моего чистосердечного признания вам недостаточно?!
– Я могу записать его в протокол? – Бесстрастно спросил меня Витген.
– Бертольд, это не она, – попробовал остановить меня Эрнест, но я лишь усмехнулась в ответ на его попытку.
– Записывайте.
– Жозефина, не делай этого, чёрт возьми! Вермаллен добьётся для тебя смертной казни за убийство дочери!
– А может, я этого заслужила? – С вызовом спросила я, вскинув голову. – Не ты ли говорил, что я такая же, как и Февраль? Или, быть может, ты не считаешь меня убийцей? Не обманывай себя, Эрнест. Ты же думаешь обо мне ещё хуже, чем я есть на самом деле. Пишите, Витген! Пишите, и не обращайте на нас внимания, у нас с мсье де Бриньоном старые счёты.
– Бертольд, подождите! Она не ведает, что творит, и играет в чёртово благородство!
Оказалось, что в благородство этим вечером решила поиграть не одна я. И, собственно, даже не мы с де Бриньоном, отчаянно пытавшимся меня спасти. Снаружи послышалась какая-то возня, а затем дверь распахнулась, и в кабинет быстрыми шагами зашёл Габриель. За ним бежали двое полицейских, с намерением выпроводить его обратно, предварительно поколотив, но он весьма ловко от них уворачивался.
– Где комиссар?! – Хищно оглядев кабинет, Гранье нашёл взглядом Эрнеста, и победно улыбнулся. – Ага! Вот и вы! Я хочу сделать признание! Это я убил Габриэллу Вермаллен! Арестовывайте меня, ну что же вы?!
Боже, я этого не вынесу, подумала я в отчаянии.
А потом комната поплыла у меня перед глазами, и я повалилась на пол вместе со стулом, на котором сидела. И всё вокруг погрузилось во мрак.
XIV
Когда я открыла глаза, то ещё некоторое время не могла понять, где нахожусь. Яркий свет слепил меня, казался невыносимым, и я болезненно поморщилась, вновь опуская веки. Свет… откуда столько света? Ведь за окном были тучи… Белые стены, белые простыни, светлый расписной потолок, такой знакомый… я, что, в своём номере?
Я поспешила открыть глаза снова, не обращая внимания на резь в глазах, и обнаружила любопытнейшую картину! О, да, я и впрямь была в своей комнате, солнечный свет нещадно бил в незанавешенное окно, но интереснее всего оказалось не это. Возле распахнутой двери на балкон стоял доктор Хартброук и любовался пейзажами, а подле моей кровати, с левой и справой стороны у изголовья сидели Франсуаза и Эрнест. Оба с крайне обеспокоенными лицами, особенно последний.
– Как ты, Жозефина? – Спросил он не своим от волнения голосом. Англичанин обернулся, заметив, что я очнулась, и, подойдя ко мне, зачем-то потрогал мой лоб. И сказал с ноткой довольства:
– Что ж, по крайней мере, жар спал. Вам лучше, мадам Лавиолетт?
Какой ещё жар?! – хотела возмутиться я, но от слабости ни слова не могла произнести, поэтому только кивнула. Я понятия не имела, лучше мне или нет, но я безумно хотела одного – чтобы все эти люди оставили меня в покое и ушли, не видя меня в таком жалком состоянии.
Но тактичным оказался только доктор. А уж он-то как раз мог бы остаться, перед ним мне было не так стыдно за свой обморок, как перед этой парочкой!
– Ты, должно быть, простудилась, когда ходила к озеру этим утром, – предположила Франсуаза, и в голосе её тоже звучала забота. – А потом ещё попала под дождь! Бедняжка, у тебя поднялась температура!
Да? А я-то была уверена, что всё это от нервов! Впрочем, ещё неизвестно, что хуже. Болеть я ненавидела, и слабость эту дурацкую, когда не можешь и пальцем пошевелить, я тоже ненавидела. Она напоминала мне о прошлом, в котором ещё не было стойкой Жозефины, а была глупая семнадцатилетняя девчонка, полная надежд.
– Вам надо отдыхать, – сказал Хартброук поучительно, и улыбнулся мне располагающей улыбкой нежно любящего дедушки. Мне понравилось. У меня не было дедушки, оба они умерли задолго до моего рождения. – Отдыхать, набираться сил и не думать ни о чём плохом. Вам противопоказаны малейшие переживания, это я вам как доктор говорю! Ясно вам, господин полицейский?! – А тут он ещё и брови свои густые нахмурил, да так забавно это вышло, что я не сдержала улыбки.
Господин полицейский тоже улыбнулся, и сказал, что уж он-то постарается, чтобы мадам Лавиолетт никто не тревожил по пустякам.
– В конце концов, в обморок она упала не из-за простуды! – Проворчал Хартброук себе под нос, сетуя на то, что эти грубые полицейские мужланы довели до нервного срыва хрупкую и слабую женщину! Милый Хартброук! Расцеловала бы тебя, если б только могла пошевелиться!
Указав на лекарства, оставленные на столе, пожилой англичанин сказал, что принимать их нужно после еды, и откланялся, пожелав мне скорейшего выздоровления. И с явным намёком посмотрел на Франсуазу и Эрнеста, искренне надеясь, что они уйдут следом за ним и оставят меня одну, не будут мешать моему отдыху.
Куда уж там. Эти двое положительно не понимали намёков, когда это шло в разрез с их интересами. Французы!
– Жозефина, милая, ты так нас всех напугала! – Пожаловалась Франсуаза, моя бедняжка Франсуаза, и только тут я заметила, что она всё это время держала в своих пухленьких ручках мою ладонь. Жест, безусловно, очень трогательный – я опять представила себя умирающей от редкой тропической лихорадки, а не страдающей лёгким недомоганием – но до того нехорошее подозрение появилось у меня в ту секунду, что я даже не улыбнулась по этому поводу.
Медленно, очень медленно я повернулась в сторону Эрнеста, и, к своему величайшему негодованию обнаружила, что и он тоже держит мою руку в своих руках. Меня это возмутило, взбесило и унизило одновременно, и я, уж не знаю откуда силы взялись, резко высвободилась, и спрятала руку под одеяло. Выражение лица при этом у меня было такое, что де Бриньон искренне расстроился, и я даже понадеялась, что он уйдёт, но это я напрасно. Он остался сидеть на маленьком пуфике, пододвинутом к изголовью – сидеть, и смотреть на меня.
– Я бы хотела побыть одна, если вы не против, – как можно вежливее сказала я, потому что моё гневное: «Выметайтесь к чёртовой матери отсюда!» обидело бы Франсуазу, а она такого явно не заслужила. Пришлось переступить через себя, чтобы не расстраивать мою чуткую подругу.
Она с неодобрением покачала головой, вздохнула, погладила меня по руке, и, поднявшись, направилась к дверям. У порога она остановилась, послала мне какую-то странную улыбку, а затем вышла, оставив нас с де Бриньоном вдвоём. Думаю, именно с этим и была связана её улыбка – Эрнест-то не уходил, и, похоже, уходить не собирался. А жаль. Если уж на то пошло, Хартброук с Франсуазой могли бы остаться, их присутствие раздражало меня не так сильно, как присутствие де Бриньона. В следующий раз надо будет конкретизировать.
– Жозефина… – Он хотел, было, что-то сказать, но я его перебила.
– Где Габриель?! – Вот что я спросила первым делом. Вот какой вопрос не давал мне покоя с того самого момента, когда я открыла глаза. Не считая, разумеется, вопроса: с какой стати этот чёртов ублюдок Эрнест позволил себе взять меня за руку?!
Де Бриньон снова изобразил обиду и недовольство, услышав неподдельное беспокойство в моём голосе, но всё же ответил:
– Под арестом. Где же ему ещё быть?
– Что…? – А чего я хотела, собственно? Чего ещё ожидать от этого мерзавца де Бриньона? – Господи, Эрнест, как ты мог?! Он же никого не убивал! У него неопровержимое алиби на все три убийства! Когда задушили Селину, он был в столовой вместе с нами, когда умерла Фальконе, он был с Габриеллой, мы с Арсеном видели их в парке, а это совершенно в другой стороне. А когда умерла сама Габриэлла, он был со мной. – Подумав немного, я добавила: – Всю ночь.
Де Бриньон болезненно поморщился, как будто этим признанием я причинила ему невероятную боль, нанесла глубочайшее личное оскорбление. Чёртов ублюдок! Почему же все мужчины такие собственники, никто мне не скажет?
– Ты же понимаешь, что он никого не убивал? – Я всё никак не желала успокаиваться, не очень, однако, надеясь на снисхождение, или на то, что Эрнест передумает и отпустит его. – Он сказал это нарочно, чтобы спасти меня.
– В таком случае, он своего добился, – бесстрастно ответил де Бриньон, да ещё и отвернулся, чтобы не видеть жгучей ненависти в моих глазах. – С тебя сняли все подозрения и выпустили из-под стражи, как ты можешь видеть. Скажи спасибо Гранье. С его стороны это было, действительно, благородно!
– И что теперь с ним будет? – Упавшим голосом спросила я, игнорируя его жестокие слова. – Вермаллен ведь не оставит это просто так? Гильотина? Виселица?
– Вероятно.
– Но Эрнест! – Мой слабый голос, срывающийся голос, был преисполнен такого смертельного отчаяния, что я даже увидела некое сочувствие в голубых глазах этого мерзавца де Бриньона. – Так же нельзя! Он невиновен, невиновен, чёрт возьми! Чего стоит это его признание?! Я сама минутами раньше сделала точно такое же! Не-ет, господи, вы не можете так поступить с ним, это… это… так подло, боже мой…
Чем больше я говорила, тем тише становился мой голос. Всё тише и тише, всё отчаяннее и отчаяннее… Чтобы не расплакаться от страха и бессилия на глазах у де Бриньона, я замолчала и, прикусив губу, отвернулась в сторону.
И тогда он снова взял меня за руку. Я поначалу этого и не заметила, погружённая в свои мысли, и лишь когда по телу пробежалась волна обжигающего тепла, когда знакомые электрические разряды вспыхнули под кончиками пальцев – лишь тогда я поняла, что произошло.
– Не трогай меня, – с негодованием произнесла я, и попыталась высвободиться, но на этот раз он держал меня крепко. А ещё эта слабость во всём теле… дурацкая, глупая слабость! Боже, а ведь меня оставили с ним наедине! Да он же что угодно со мной может сделать, пока я в таком состоянии, а я даже на помощь не позову, потому что голос давно уже отказался слушаться!
От этой мысли меня бросило в холод. Всё внутри сковал противный ледяной страх, бороться с которым не было ни единой возможности. Господи, я пропала. Теперь я точно пропала! Я стоически пыталась не паниковать, но всякий раз я вспоминала его похотливые взгляды, и то, с какой животной страстью он набросился на меня вчера ночью, в этой самой комнате. И сердце моё перестало биться на секунду.
Потом он сказал, вполне рассудительно, пока ещё, видимо, не собираясь меня насиловать:
– Жозефина, пожалуйста, давай поговорим!
Ну и что это за мольба в твоём тихом голосе? Что это за выражение лица побитой собаки, не получившей свою долю хозяйской заботы и ласки? Попытка выставить меня виноватой, чёрт возьми, заставить устыдиться? Меня?! Это я, что ли, бросила тебя восемь лет назад, предпочтя тебе другого?! Сукин сын. Как я тебя ненавижу!
– Эрнест, пожалуйста, оставь меня одну, – в последний раз я попробовала по-хорошему, решив, что не стоит пока грубить человеку, в чьих руках находится жизнь моего Габриеля.
– Я никуда не уйду отсюда до самого утра, – сказал де Бриньон. Чем, разумеется, ничуть не обрадовал меня. Хотела бы я знать, где вы собираетесь спать, мсье комиссар! Постель в номере одна. Диванов у меня здесь нет, кушеток тоже. Зато шикарная двуспальная кровать полностью в вашем распоряжении, ровно как и Жозефина, которая слишком слаба, чтобы сопротивляться! Боже, ну он же не всерьёз? Он ведь этого не сделает?
Ха, ну да. Тем, кто ещё свято верил в благородство мсье комиссара, предлагаю вспомнить, как вчера он разорвал на мне рубашку, и как набросился на меня…
О, боже мой.
– Ты собрался ночевать в моей спальне? – Уточнила я, уже и не пытаясь показать ему всё то презрение, что я к нему испытывала. Я просто покачала головой. – Тебе, конечно, наплевать, как всё это будет выглядеть со стороны?
– Наплевать, – кивнул де Бриньон. – С нами под одной крышей живёт серийный убийца, Жозефина. И если выбирать между твоей репутацией и твоей жизнью, извини, но я выберу второе. Я не позволю никому причинить тебе вред.
Бог ты мой, сколько благородства! Раньше-то ты где был, мой герой? Да столько вреда, сколько причинил мне ты сам – не способны были причинить ни Рене, ни Февраль вместе взятые! Так что если от кого и следовало обезопасить меня, то только от тебя самого, прав был Габриель! И не надо делать вид, что ты этого не понимаешь!
– Эрнест, – я вдохнула полной грудью, старательно перебарывая в себе желание задушить его прямо сейчас, и попробовала в последний раз: – Эрнест, пожалуйста, оставь меня в покое, уйди! С твоей стороны просто низко пользоваться моим состоянием и тем, что я не могу уйти сама.
Низко, как и всё, что ты когда-либо делал, мерзавец!
Но, видимо, он-то как раз мою слабость воспринимал как подарок судьбы. Теперь-то, разумеется, я никуда от него не сбегу, и можно будет вдоволь меня помучить! Потешить своё самолюбие за мой счёт – всё, как он любил. И я вновь почувствовала себя униженной, растоптанной… Я, кажется, была готова расплакаться от одной только обиды!
Благо, сдержалась.
– Жозефина, как мне до тебя достучаться? – Тихо и проникновенно спросил он, нежно взяв мою руку, и прижав её к своим губам. Я постаралась представить, что это вовсе не моя рука, а чья-то ещё. Пускай делает с ней что хочет, мне всё равно! Кое-что у меня получилось, мне почти удалось не обращать на это внимания. Оставалось понять, что делать с этими электрическими разрядами по всему телу. Хм. – Я прошу тебя, выслушай меня. Хотя бы выслушай, Жозефина! Я… я не знал про твоего ребёнка.
Про моего ребёнка?!
– Про нашего ребёнка, – быстро поправился Эрнест, заметив, каким взглядом я его наградила. – Я… я клянусь тебе, я не знал! Луиза ничего мне не говорила.
А Луиза знала, можно подумать! Я сама узнала за день до того, как её бездыханное тело выловили из реки!
– Я не хотел, чтобы всё так получилось, – продолжил де Бриньон, пристально глядя на меня, в мои глаза, которые я пока ещё не отводила. – Ты же знаешь, моя сестра была серьёзно больна. Огюст Монблан был известным в Европе врачом. Он обещал спасти Луизу, определить её в одну из лучших швейцарских клиник, и провести дорогостоящую операцию. При условии, что я женюсь на его дочери.
Ах, вот как? Значит, ты, такой хороший и благородный, всего лишь спасал сестру?
Господи, как же я тебя ненавижу!
Думаю, по моему лицу всё было ясно без лишних слов в тот момент, и я решила ничего не говорить.
– Ты не веришь мне? Ты думаешь, я женился на ней от большой любви? Ты… да как же ты могла поверить в это, Жозефина? Ты ведь знала меня, как никто другой, знала, что мне кроме тебя никогда не была не нужна никакая другая женщина!
Боже мой, какая прелесть! Сейчас расплачусь.
Я продолжала с ненавистью смотреть на де Бриньона, и когда он понял, что его слова меня не впечатлили, он пришёл в отчаяние. Нервно проведя рукой по волосам, он опустил глаза, не в силах больше терпеть моего горящего ненавистью взгляда, и сказал:
– Прости меня.
Нет, в самом деле, он просто чудо!
Вот это вот милейшее: «Прости меня!» в знак раскаяния за восемь лет настоящего ада без него, в знак раскаяния за две моих неудавшихся попытки самоубийства, в знак безграничного сожаления из-за того, что он разбил моё сердце и сломал мою жизнь!
Всего лишь «прости меня»? Да никогда, чёрт возьми!!!
– Ты думаешь, я хоть на секунду был счастлив? – Продолжил он, с усмешкой глядя куда-то в сторону, но по-прежнему не выпуская моей руки. – Счастлив? С ней? Вовсе нет. Ни единого дня не прошло, чтобы я не вспоминал тебя.
О-о, да, и в постели называл её моим именем. Классика.
Господи, лучше бы ты молчал, Эрнест, право слово! Лучше бы ты молчал, чем пытался оправдаться теперь, строя из себя благородного рыцаря, и глубоко несчастного человека! Я не желала слушать этих оправданий. Я вообще не желала его слушать.
– Собственно, если бы у нас с Аделиной было всё так гладко, ты думаешь, я стал бы разводиться с ней на втором году совместной жизни?
Я, похоже, была увлечена его признаниями гораздо больше, чем хотела показать. Потому что я заинтересованно спросила:
– А вы в разводе? Я этого не знала.
– Мы развелись ещё в девятьсот шестом, когда нашей дочери было полгода. Это я настоял на том, чтобы брак аннулировали. Не мог больше всё это терпеть. К тому же, со смертью моей сестры эта сделка перестала иметь всяческий смысл.
– Мсье Монблан, наверное, был сказочно недоволен? – Предположила я, невольно усмехнувшись. Монблан славился на весь Лион своим крутым нравом. То, что у Эрнеста хватило смелости пойти против такого человека, определённо, делало ему честь. Хоть что-то делало ему честь!
– Он был в ярости, – с невесёлой улыбкой кивнул де Бриньон. – Но мне было наплевать. Я хотел избавиться от этих невыносимых оков, которые повесила на меня Аделина, и я сделал это. Тогда её знаменитый отец пообещал, что я горько пожалею об этом решении. И через своих влиятельных пациентов принялся с большим успехом портить мне жизнь. Мне отказывали в должностях во всех приличных организациях Франции. Я хотел стать адвокатом, как ты, наверное, помнишь, но среди адвокатов у Монблана было аж шестеро благодарных пациентов, оказавшихся способными поставить на моей карьере жирный крест.
– А среди полицейских у него пациентов, стало быть, не было? – Почти с улыбкой спросила я. И чего это я улыбаюсь, интересно? Радуюсь его достижениям, радуюсь, что ему удалось переиграть противного Монблана? Какой позор.
Эрнест тоже улыбнулся и покачал головой.
– Не было. Но тут свою роль сыграл другой немаловажный фактор: мой отец терпеть не мог полицию и считал эту службу постыдной и грязной, как, собственно, и большинство людей нашего круга. И его при этом совершено не волновало, что мы разоримся лет через пять, если будем бездумно тратить накопленные деньги и ничего при этом не зарабатывать. Репутация для него оказалась важнее, поэтому в день моего поступления на службу он заявил, что у него больше нет сына, и отказал мне от дома. Таким образом, я вынужден был перебраться из Лиона в Париж. И вот, теперь я здесь.
Занятная история. А мы-то с Тео всё гадали, как это де Бриньона из благородного графа угораздило переквалифицироваться в полицейского! Вот оно, выходит, как. Всему виной его развод! До чего любопытно.
Я поймала себя на мысли, что и впрямь слушаю с интересом. Так, словно это была беседа двух старых друзей, которым, после долгих лет разлуки, безусловно, было что обсудить за чашечкой горячего чая. Так, а где наш чай?
– Они не запретили тебе видеться с дочерью? – Спросила я озадаченно, и удивилась теперь уже тому, с чего это вдруг меня это интересует?! Чуткая, чувствительная Жозефина, слишком доброе у тебя сердце, всё-таки! Нужно быть жёстче! Хотя, куда уж жёстче?
– Запретили, разумеется, – усмехнулся Эрнест. – Но быстро переменили своё мнение. Во-первых, Аделине в неполные двадцать лет маленький ребёнок был совершенно не нужен, её интересовали исключительно светские развлечения и ничего больше.
Ну и дура! Бестолковая легкомысленная дура! Господи, ну почему настоящее счастье всегда достаётся тем, кто его совершенно не ценит?! Ребёнок – это же самая большая драгоценность, какой только может обладать женщина! Какие могут быть развлечения, господи?! О-о, если до этих пор я тихо презирала жену Эрнеста де Бриньона, то после этих слов и вовсе возненавидела лютой ненавистью.
– Во-вторых, – продолжил он, – я за пару лет в полиции тоже добился некоторых высот, и обзавёлся нужными знакомствами, так что без труда сумел забрать Луизу себе, лишив свою бывшую жену прав материнства.
Ого! Я удивлённо подняла брови. Надо же, как резко! Впрочем, как раз в духе такого жестокого человека, как он. Заметив моё удивление, Эрнест виновато улыбнулся, и сказал:
– Она была ужасной матерью, честное слово.
Мне пришлось улыбнуться ему в ответ.
– Но как же у тебя получается её воспитывать? – Спросила я. – Тебя ведь наверняка часто не бывает дома по долгу службы? Как тебе удаётся совмещать должность комиссара с ролью заботливого отца?
– Это непросто, – признался де Бриньон. – Без старой Жюли я вообще не знаю, что делал бы!
– Господи, она ещё жива?! – Я невольно рассмеялась, прижав к груди свободную руку.
– О, да. Помилуй, Жозефина, я всегда говорил, что эта старуха переживёт всех нас, а вы всё хоронили её раньше времени! – Он тоже засмеялся вместе со мной, продолжая ласково гладить мою ладонь, а я, как будто бы, не обращала на это внимания.
Я вспоминала наше детство, как мы вместе ходили на пикник к тому самому обрыву, с которого потом прыгнула Луиза. Нас было пятеро: старуха Жюли, её подопечная Луиза де Бриньон, Иветта, Эрнест и я. Мы брали с собой стёганое лоскутное одеяло и еду: Луиза приносила бутерброды с наивкуснейшим лионским сыром, Иветта втайне от родителей таскала с кухни пирожки с черникой, а я, как самая бедная, брала с собой яблоки, сорванные в заброшенном саду по соседству с нашим домом. Жили мы с отцом довольно скромно, и мне особо нечего было принести, но тогда эти яблоки казались самыми вкусными в мире. Мы были детьми, веселились и дурачились как могли, не думая о том, что совсем скоро детство наше закончится. Мы наслаждались теми быстротечными мгновениями, и не знали горя.
Я помню старую Жюли. Именно она, самая первая, сказала мне о том, что, похоже, её бывший воспитанник, граф Эрнест, до безумия в меня влюблён. Я расхохоталась тогда в ответ на это её предположение, и сказала, что в таком случае он либо глуп, либо слеп: ведь рядом всё это время была красавица Иветта! Я говорила уже, что она была удивительно красива? Гораздо красивее меня, факт.
Но у Эрнеста на этот счёт было своё мнение. Он всегда садился рядом со мной, во время наших посиделок, и украдкой брал за руку, вот как сейчас! И улыбался задумчиво, думая всё время о чём-то своём. Старая нянька Жюли смотрела на нас порой и либо вздыхала мечтательно, вспоминая себя в наши годы, либо укоризненно качала головой. Она-то знала жизнь лучше меня, и прекрасно понимала, что дочка простого сельского адвоката не самая лучшая пара благородному графу. Но ничего не говорила, не разрушала моих иллюзий.
Там же, у этого самого обрыва, он впервые поцеловал меня. На нашем излюбленном месте, за ромашковым полем. Я помню, как порхали бабочки в моём животе, когда встретились наши губы – до этого никто никогда меня не целовал! Я и не думала, что это бывает так чудесно! И потом, уже в самом ромашковом поле, тоже было чудесно. Правда, в первый раз мне было больно, но всякая боль отступала перед чувством лучистого, бьющего через край моей души, бесконечного счастья. Я видела его влюблённые голубые глаза, и ничего больше мне не было нужно. Ради этого я могла стерпеть любую боль. Господи, а была ли я хоть раз такой же счастливой, как в те годы?
Я поняла вдруг, что улыбаюсь. Улыбаюсь уже давно, и до того глупо и мечтательно, что я тотчас же себя возненавидела.
Романтика? Любовь? Наши жаркие ночи в ромашковом поле? Сентиментальная Жозефина забыла, должно быть, чего ей это стоило? Так есть хороший способ вспомнить! Я посмотрела на уродливый шрам на своей левой руке, тянущийся вверх от самого запястья, и усмехнулась.
Наваждение как рукой сняло. Схлынуло, оставив за собой уже знакомое глухое чувство пустоты и чёрного, беспросветного отчаяния. Как выжженная земля, оставшаяся от некогда прекрасной лужайки, где цвели дивные цветы и порхали бабочки. Вот именно так и выглядела моя измученная душа – одна сплошная чернота на месте чего-то, некогда прекрасного, но ныне давно уже забытого.
Сдвинув брови, я посмотрела на Эрнеста, которого, судя по всему, озадачила эта, казалось бы, беспричинная перемена в моём настроении. То я улыбалась беспечно, радуя его своей улыбкой, то снова была неприступной и излучала ненависть.
И тогда он сказал:
– Жозефина, я люблю тебя.
А вот этого уж точно не следовало говорить, если он не хотел, чтобы я окончательно его возненавидела. С другой стороны, что значит «окончательно»? Я и так ненавидела его всеми фибрами души, но до этого я, по крайней мере, находила в себе сил разговаривать с ним. А после этих слов он стал мне поистине отвратителен.
Словно не понимая этого, Эрнест продолжал:
– Я люблю тебя, и любил всё это время, ни на секунду не прекращал тебя любить. Я ненавижу себя за то, что заставил тебя страдать, за то, что сломал тебе жизнь, сделал тебя несчастной… Я никогда себе этого не прощу. Но, Жозефина, пожалуйста, если бы я только мог что-то исправить… Если б только ты дала мне шанс!
Если бы… что?
А-а, простите, у меня, что же, недостаточного ненависти во взгляде? Недостаточно для того, чтобы он осознал полнейшую бессмысленность своих собственных слов? Если так, я легко могу исправить это. По части презрительного выражения лица равных мне не было. И когда я усмехнулась, глядя прямо в его голубые глаза, он, видимо, понял, что ни за что на свете не преодолеет эту пропасть, что разверзлась между нами.
– Ты даже не хочешь об этом думать, – понял он с тоской. – Ты… ты разлюбила меня? Смогла? У тебя получилось?
Браво, мсье де Бриньон! Плюсик вам за догадливость.
Нет, в самом деле, неужели до вас наконец-то дошло?
– У меня вот не получилось, – пожаловался Эрнест, с растерянным видом. – Каждый час, каждую минуту, изо дня в день, из года в год – восемь лет подряд, чёрт возьми, я думал о тебе и не мог забыть. Я понятия не имею, что с этим делать, Жозефина. Я не знаю, как с этим бороться.
А я не знала, что бы сказать ему такого обидного, чтобы он проваливал, наконец, и не мучил меня больше.
– Ты… ты никогда меня не простишь? – Тихо спросил он, сдавленным, хриплым голосом, с трудом подбирая слова.
Зато мне моё единственное слово далось на удивление легко и твёрдо:
– Никогда.
Эрнест застонал в отчаянии, и, кусая губы, стал смотреть в пол.
– Жозефина, пожалуйста… я знаю, я виноват перед тобой, господи, как я виноват! Но что же мне делать, как всё исправить? Я ведь люблю тебя. Почему ты не веришь мне? Скажи, ну почему ты мне не веришь?
Верить?! Тебе?!
В своём ли ты уме, Эрнест? Я, по-твоему, такая дура? Настолько меня ничему не учит жизнь, что я счастлива буду наступить на те же грабли во второй раз?
Хм, странно. Я думала, ты считал меня гораздо умнее.
– Оставь меня одну, – устало попросила я. И не было в моём голосе обиды, не дрожал он от подступающих рыданий, и я вовсе не хотела плакать от счастья, услышав его признания. И уж точно не боролась с гордостью, мешавшей мне кинуться ему на шею и сказать, что я ждала только его все эти годы.
Нет.
Увы, ничего, кроме сухой чёрной пустоты на душе у меня не было. Меня вообще никак не тронули его слова. Абсолютно. Знаете, это как стрелять из рогатки по высокой кирпичной стене. Камешки попадают, оставляют на ней зазубрины, но неизменно из раза в раз отскакивают в сторону.
Такую стену нужно тараном пробивать. Да и то, не всяким пробьёшь. Мою-то уж точно не пробьёшь, можно не пытаться. Слишком она была твёрдая и стойкая. Правда, можно было, как Габриель, попытаться пойти в обход, и отыскать дверцу. Подобрать к ней ключик и открыть, а не брать нахрапом. Но такой подход был слишком тонким, деликатным. А Эрнест де Бриньон привык пускать в ход грубую силу, и получать всё и сразу.
Вот почему я всё ещё боялась находиться в его обществе. Любовь любовью, но ничто не мешало ему получить своё, невзирая на мой отказ. Мне по-прежнему не нравилось то, как он на меня смотрел.
– Я уже сказал тебе, что не уйду, – произнёс Эрнест, запоздало отозвавшись на мою просьбу. – Я не оставлю тебя одну.
– Меня совсем не привлекает перспектива провести с тобой ночь. Ты опоздал на восемь лет с этим предложением.
– Тогда я просто посижу рядом с тобой, если ты не против, – кисло улыбнувшись моей шутке, сказал де Бриньон.
– Разумеется, я против! Что за глупая навязчивость?! Как ещё мне сказать тебе, Эрнест: я не люблю тебя, и ты мне не нужен. Более того: ты мне отвратителен до такой степени, что я ещё с полчаса буду отмывать руку, которую ты столько времени держишь в своих ладонях. Ты мне отвратителен, и жалок. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя даже сильнее, чем ненавидела Иветту. Ты даже представить себе не можешь, как я тебя ненавижу!
Хорошо, что он не стал спрашивать, с чего это вдруг? Он кивнул, принимая к сведению мои слова, и сказал:
– Что ж, я это заслужил.
Ну, давай же, будь послушным мальчиком! После этой чудесной фразы встань, и уйди, чёрт бы тебя побрал, оставь меня, наконец, в покое! Я замерла, в надежде, что сейчас он, действительно, уйдёт, но он не сдвинулся с места.
Я вздохнула, расстроенная, и отвернулась, не испытывая ни малейшего желания созерцать его раскаявшуюся личность. И я понятия не имею, сколько времени мы ещё провели бы в этой удручающей тишине, я на постели, он у изголовья, по-прежнему сжимая мою руку – если бы не неожиданный стук в дверь.
Я приготовилась к очередной атаке Вермаллен, в глубине души уже даже будучи не против, чтобы графиня свернула мне шею, раз я всё равно не могу сопротивляться. Всё лучше, чем общество Эрнеста! Но это оказалась вовсе не убитая горем мать, а Жан Робер, полюбившийся мне черноволосый здоровяк, помощник де Бриньона.
– Комиссар? – Громким шёпотом позвал он с порога. Уж не знаю, что случилось, но паренёк был, похоже, абсолютно счастлив. – Я не помешал?
Да нет, что вы! Проходите, располагайтесь! И позовите остальных! Давайте всех мужчин из отеля соберём у постели безотказной Жозефины! А то и в самой постели. В самом деле, а почему нет?!
– Что ещё случилось, чёрт возьми? – Устало спросил Эрнест, уже собираясь подняться и выйти в коридор, чтобы поговорить с Жаном там, и не компрометировать меня этим визитом.
Но Жан был так счастлив, что не мог сдержать своих эмоций, своего восторга. И, не дождавшись беседы тет-а-тет, прямо с порога объявил:
– Это всё-таки Февраль! Это он убил Габриэллу Вермаллен! Я нашёл цветок, когда детально осматривал постель, где её задушили! Он случайно провалился в пододеяльник, поэтому мы его не сразу нашли! Такой маленький, хрупкий ландыш…
XV
Ландыш.
У меня мурашки по коже побежали после этих слов. Первой моей мыслью было то, что Эрнест не ошибся, когда сравнивал меня с Февралем. Мы с ним явно на одной волне, и это пугало меня до жути.
Второй моей мыслью стала старая поговорка о том, что молчание – золото. Господи, как же хорошо, что у меня хватило ума не говорить о том, что Габриэлле Вермаллен подошёл бы ландыш! Как же здорово, что я-то, в отличие от Лассарда с Габриелем, оставила свои мысли при себе!
Третья моя мысль, ровно как и все последующие, была о самом Габриеле.
Господи, он пропал! Теперь уж точно. Он признался в убийстве Габриэллы, но неожиданно выяснилось, что Габриэллу задушил всё-таки Февраль, стало быть, Габриель Гранье и есть знаменитый маньяк-убийца! Его казнят. Парижские власти, гонявшиеся за Февралем целый год, так просто ему это не оставят.
Но он же не убивал никого, не убивал! Господи, как доказать это?! И, в первую очередь, кому это доказать? Де Бриньону? Не сомневаюсь, он и так об этом знает, без моих призывов к благоразумию, слёзных уговоров одуматься и оставить Габриеля в покое. Он прекрасно знает, что Габриель всего лишь прикрывал меня, благородно взяв на себя убийство Габриэллы, которое никак не мог совершить, потому что был со мной всё это время!
Но вряд ли Эрнест станет что-то предпринимать, учитывая всё то, о чём он тут распинался предыдущие полчаса. Спасать моего любовника?! Зачем ему это, право? Поэтичные и благородные порывы, как в книгах, нечто вроде: «Я люблю тебя, Жозефина, и отпускаю – раз ты не можешь быть счастлива со мной, то будь счастлива с ним, ведь для меня достаточно того, чтобы у тебя всё было в порядке!» здесь не сработали бы. Не с Эрнестом. С кем угодно, но только не с ним.
Боюсь, что этот-то станет за меня бороться до последнего!
И не отступится, пока не получит своего.
И поэтому, когда за Робером закрылась дверь, я сказала без лишних вступлений:
– Я согласна стать твоей любовницей, если ты отпустишь Габриеля.
В номере моём повисла оглушающая тишина. Я начала задыхаться, сама не знаю, из-за чего. Простуда, о которой говорила Франсуаза, вероятно, являлась лишь одной из причин. А ещё мне не понравился взгляд Эрнеста, совсем не понравился. Нет, не в том смысле, что он опять смотрел похотливо, и собирался сказать: «О, здорово, так давай же начнём прямо сейчас, Жозефина!»
Как раз наоборот.
– О, боже мой, – только и сказал де Бриньон, качая головой.
Я упрямо не понимала его смятения и недовольства, и продолжила, вспоминая нашу вполне сносную и честную сделку с Дэвидом:
– Что ты хочешь? Ночь? Две, три? Год? До бесконечности, пока не надоем тебе? Я согласна на что угодно, Эрнест, только отпусти его! Он же не виноват ни в чём, господи, он делал это ради меня!
В другой ситуации я бы сказочно обрадовалась, что де Бриньона удалось пронять. Но не в этой. Сейчас я даже как-то расстроилась, когда он резко поднялся на ноги, едва не опрокинув мой пуфик при этом. Я поняла, что сделка наша не состоится.
Что же это, я – недостаточно хороша для него? Напрасно он так думал. За семь лет брака с Рене я научилась многим премудростям, и, несомненно, могла бы доставить этому ублюдку такое удовольствие, о котором он и не мечтал.
Зря он отказался.
– Ты так ничего и не поняла, – сказал мне де Бриньон на прощанье, и вышел, громко хлопнув дверью.
Понятия не имею, что я там должна была понять! Поджав губы, я скрестила руки на груди, и стала растерянно смотреть в стену.
Ладно, хорошо. Я солгала. Я прекрасно поняла, что означали его последние слова. Я просто не хотела в них верить. И не поверила бы ни за что на свете, не такой же я была идиоткой?
Романтичное: «Жозефина, я вижу в тебе спутницу жизни, а не любовницу на одну ночь!», было бы в духе скорее уж чуткого Габриеля Гранье, чем этого мерзавца. И пускай не строит из себя обиженного! И эти трюки с красивым уходом, с хлопнувшей дверью напоследок – пускай побережёт для тех, кто оценит их по достоинству!
Я не оценила.
И, вытянувшись на своей постели, стала думать о том, что же мне теперь делать и как спасти Габриеля? В голову приходили самые разные мысли, в том числе и чудовищные, но это исключительно из-за того, что у меня снова поднялась температура и меня начало лихорадить.
В нормальном состоянии я вряд ли додумалась бы до того, что Габриеля, находящегося под арестом сейчас, спасти может только ещё одно убийство. Февраль этого делать, ясное дело, не станет – не такой же он идиот, чтобы упустить шанс свалить свою вину на Гранье и затаиться? О, нет, он не станет безобразничать под носом у своей любимой парижской полиции! Он заляжет на дно.
Стало быть, если не он, то… нет, я всерьёз это сейчас? Господи, как голова кружится… Это всё жар. Это не я. Я не могу рассуждать таким образом, разумеется, нет!
Да и подходящих кандидатур не осталось. Эллен, принёсшая мне горячий бульон? Нет, она блондинка. Нана Хэдин? Рыжая. Астрид? Господи, как выглядит эта чёртова Астрид, может мне кто-нибудь сказать?! Не помню. Я опять забыла! Но, в любом случае, она точно не брюнетка. Графиня Вермаллен? Вероятно, была брюнеткой в прошлом, сейчас у неё серо-белые волосы, неопределённого цвета. К тому же, под категорию «молодой красавицы» она однозначно не подходит.
Оставалась Франсуаза. По крайней мере, темноволосая. Ха-ха, боже мой! Тогда уж лучше я сама. Вот только задушить саму себя у меня, к сожалению, не получится. Раздобыть фиалку и положить её рядом на подушке – это дело пяти минут, но задушиться… да ещё так, чтобы никто не заподозрил самоубийство? Дохлый номер. Господи, ну что стоило этому Февралю не душить своих жертв, а резать?! Тогда было бы значительно проще.
Нет, я, в самом деле, не всерьёз! Я просто больна. А ещё нервы ни к чёрту из-за событий последних дней, и особенно из-за того, что Габриель сейчас находится под арестом. По моей, между прочим, милости! Февраля я в расчёт не беру – этот хладнокровный ублюдок сам по себе, но ведь если бы не я, Гранье ни за что не признался бы в убийстве Габриэллы!
Я виновата перед ним. Мне и расхлёбывать эту кашу. Но начну я, пожалуй, с этого чудесного бульона, что принесла Эллен. Мне нужно набираться сил, нужно вставать на ноги после очередного падения, нужно снова продолжать эту заведомо бессмысленную борьбу…
Боже, неужели я никогда не буду счастливой?
Видимо, никогда. Ещё раз я убедилась в этом после того, как вернулся Эрнест. Хмурый, недовольный, осунувшийся, он переступил порог моего номера, и сказал Эллен, что она может быть свободной. А когда горничная ушла, спросил, не глядя на меня:
– Ты выпила лекарство?
А я-то надеялась, что он и вовсе не будет со мной разговаривать! А тут, поглядите-ка, какая трогательная забота!
Нет, не выпила, чёрт возьми! Спасибо, что напомнил. Я потянулась к прикроватному столику, не ответив на его вопрос, но едва ли не рухнула с кровати вниз. Господи, я вообще не могла нормально двигаться, до чего же я ослабла!
– Это никуда не годится, – озвучил мои мысли Эрнест, и, вновь сев на полюбившийся ему пуфик у изголовья, любезно протянул мне микстуру. Я решила его не благодарить, страшно сердитая на то, что он наблюдал мою полнейшую немощность, да ещё и смел меня в ней обвинять.
Но это ровно до тех пор, пока не выяснилось, что я стакан с водой не могу удержать в руках, чтобы запить это проклятое лекарство! Боже, ну почему именно он оказался рядом, почему не доктор или хотя бы не Франсуаза?!
Чего мне уж точно не нужно было сейчас, так это его прикосновений. Но де Бриньон особо и не спрашивал, и, как Арсен в прошлый раз, осторожно приподнял мне голову, и поднёс бокал к моим губам. Я поспешила сделать эти несколько глотков как можно скорее, чтобы свести к минимуму наши возможные телесные контакты. И когда он оставил меня в покое, я едва ли не вздохнула с облегчением.
– Зачем ты вернулся? – Спросила я чуть погодя.
– Я уже сказал тебе, что не уйду никуда, пока по отелю разгуливает убийца.
– В самом деле? А разве убийца уже не арестован? – Ехидно осведомилась я. – Ты даже не пытаешься отрицать, что не веришь в его вину! Господи, какое же ты ничтожество, Эрнест!
Можно было попытаться сказать ещё какую-нибудь гадость, и вывести его из себя. Но я боялась, что на этот раз он не уйдёт, а, в отместку, воспользуется моей беспомощностью. Я, в самом деле, думала, что он окажется способен на такое.
При этом я начисто забыла о том, что моя неспособность оказать сопротивление окажется, так же, на руку Февралю. Хладнокровный психопат, разгуливающий по отелю и убивающий женщин, волновал меня куда меньше, чем сдержанный и с виду вроде бы вполне нормальный Эрнест де Бриньон, сидевший у изголовья моей постели. Что за диво!
Если кто-то надумал обвинить меня в чрезмерной предвзятости, то спешу убедить вас в вашей неправоте – в следующую секунду Эрнест принялся раздеваться. Медленно, лениво расстёгивать пуговицы на своём полицейском мундире, сохраняя всё то же невозмутимое выражение лица, с нотками лёгкой грусти.
Я в порыве животного ужаса отползла как можно дальше, насколько это позволяла кровать и моё ослабленное тело. И спросила одними губами:
– Что ты делаешь?
Он встрепенулся, поднял голову от своих пуговиц, затем посмотрел на меня с усмешкой и сказал почти с презрением:
– Не волнуйся, Жозефина, я не притронусь к тебе, пока ты сама этого не захочешь!
Да? А вчера-то я, стало быть, хотела? Изнемогала от желания, сгорала от страсти, да всё стеснялась попросить?! Ублюдок. Какой же он ублюдок!
Я, ни на секунду не успокоившись после его слов, продолжала наблюдать за его действиями. Он снял свой мундир, повесив его на спинку кресла, а сам, оставшись в одной рубашке, принялся уверенными движениями отстёгивать кобуру. А я всё смотрела и смотрела на него, дивясь про себя, когда это успел превратиться в мужчину тот голубоглазый мальчик, которого я когда-то любила.
У него были такие красивые широкие плечи! Я помню, как любила прижиматься к ним, помню, как обнимала их, в минуты нашей близости. И помню это ощущение, которого у меня прежде не было ни с кем – какое-то странное, тёплое чувство защищённости. Знаете, когда я была в его объятиях, я чувствовала себя в полнейшей безопасности. Никто не мог меня обидеть, никто не мог сделать мне больно, пока я была с ним, под его защитой!
И сейчас, совершенно неожиданно, это старое чувство вернулось. Он не обнимал меня, упаси боже, но почему-то, когда он вновь вернулся на маленький пуфик у изголовья моей постели, я почувствовала, что мне не страшен Февраль.
Мне ничто не страшно, пока рядом со мной этот человек. Он, похоже, действительно был настроен не давать меня в обиду. И уж точно не из-за безумной любви, не смейте его жалеть и сочувствовать ему! Вероятнее всего, ему просто было безгранично стыдно за мою разрушенную судьбу. И, наверное, если бы меня убили, он бы не обрадовался. Да убил не кто-то там, а тот самый Февраль, который у него за год поисков уже наверняка как кость в горле!
О, да. Это не ради меня он остался. Ради себя самого. Чтобы Февраль не унизил его очередной своей выходкой, убив последнюю брюнетку в отеле.
Успокоив себя этой мыслью, я со спокойной душой принялась ненавидеть Эрнеста дальше. А он, тем временем устало прижавшись к спинке моей кровати, закрыл глаза и сделал вид, что спит.
Я, подумав немного, решила последовать его примеру. Но не сразу. Не хочется признаваться, но не сразу. Для начала я посмотрела ещё немного на его лицо, пользуясь тем, что он об этом никогда не узнает.
А что, не имела права?! В конце концов, я любила этого человека когда-то! Неужели нельзя бросить в его сторону парочку ни к чему не обязывающих взглядов? У него были светлые жёсткие кудри, которые он коротко стриг, и непослушная чёлка, то и дело падающая на высокий, открытый лоб. Говорят, такой лоб – черта людей исключительно высокоинтеллектуальных. Не помню, где я это вычитала, у того же Фрейда, вероятно. Что ж, Эрнест де Бриньон был человеком исключительного ума, это факт.
А ещё у него были красивые широкие скулы, которые я так любила целовать раньше. Тёмные брови, тёмные ресницы, такие длинные, они почти касались щёк, сейчас, когда глаза были закрыты. Да и сами глаза у него, вообще-то, были очень красивые – исключительной, редкой красоты! Что ещё рассказать вам о его внешности? Пожалуй, ничего. Прямой нос, пепельно-русые усы, жёсткие складки у тонких губ, и квадратный подбородок, почти как у немцев, которых так любит моя Франсуаза.
Он был красив. Он был… очень красив.
Ну, а вы сомневались? Жозефина Лавиолетт знала, кому отдавала свою девственность!
С невесёлой усмешкой я отвернулась, и, обняв одну из подушек, закрыла глаза и попыталась забыться. Мне следовало бы хорошо выспаться, чтобы завтра с утра, набравшись сил, найти способ спасти Габриеля.
XVI
Я бы сказала вам, что поутру почувствовала себя значительно лучше, если бы не проснулась рядом с Эрнестом на рассвете. Прошли те времена, когда я была счастлива просыпаться в его объятиях! Ныне это вызвало у меня сначала приступ паники, а потом неумолимого отчаяния. Я застонала в голос, скидывая с себя его руку, которой он обнимал меня во сне, а он беспокойно пошевелился, а затем открыл глаза, с недоумением оглядываясь по сторонам.
Он проспал всю ночь на этом чёртовом пуфике, прислонившись к спинке моей кровати, и обнимая… меня. Какая мерзость, боже мой! И, видимо, это он накрыл меня мягким одеялом, когда стало холодно поутру. Я, помнится, засыпала, укрывшись одной лишь только простынёй – у меня была температура, и я изнывала от жары. И сейчас, от этой его заботы мне сделалось по-настоящему тошно. Он, что, никогда не оставит меня в покое, да?
Так и будет меня мучить?
Я как раз собиралась начать это утро с какой-нибудь презрительной и обидной фразы, но мне помешал комиссар Витген, после короткого стука заглянувший в мой номер. Он искал Эрнеста, и хотела бы я знать, какой умник надоумил его искать здесь! Господи, моя репутация безнадёжно испорчена. Собственно, она и до этого не была кристально чистой…
Но мне сделалось так обидно в тот момент, когда Витген увидел нас, что я едва не расплакалась!
– Комиссар, вы мне срочно нужны, – произнёс он, как ни в чём не бывало. Будто его совсем и не тронуло то, что де Бриньон ночевал в моей спальне! С каких пор этот швейцарский сукин сын стал таким тактичным?! – Это важно. – Добавил Витген, заметив, что Эрнест не особенно торопится.
– Надеюсь, никого больше не убили за эту ночь? – Устало спросил де Бриньон, поднимаясь.
А я надеялась на обратное, представьте себе! Нехорошо, конечно, так говорить, но ещё одно убийство сняло бы подозрения с Габриеля, всю ночь проведшего под стражей взаперти. Но Витген меня не обрадовал.
– Нет, миловал господь, ничего такого, – пробормотал он, и вышел в коридор, кивнув мне то ли в знак приветствия, то ли ещё бог весть зачем. Я села на кровати, наблюдая за тем, как Эрнест надевает мундир. Перехватив мой взгляд, он сказал:
– Я ненадолго.
А я-то, можно подумать, боялась, что он уйдёт! Я нахмурилась, дабы развеять его малейшие сомнения, а сама в глубине души обрадовалась тому, что тело моё вновь меня слушается. Как только Эрнест вышел, я подскочила со своей кровати, лёгкая, как пушинка, и беззвучно подошла к двери, и прижалась к ней, обратившись в слух.
– Одна из горничных, Эллен Рейхарт, нашла вторую запонку сегодня во время утренней уборки номеров, – услышала я приглушённый голос Витгена с той стороны. – Это Гринберг.
XVII
После такого заявленьица я, как вы сами понимаете, усидеть на месте не смогла. Сразу стало ясно, что Эрнест в ближайшее время не вернётся – он так и ушёл с Витгеном, спеша перехватить юного еврейчика до того, как тот спустится к завтраку. Арестовывать парня на глазах у всего отеля не хотелось ни нашей полиции, ни бернской. Шустер им потом за такое голову скрутит, и плевать он хотел на маньяка!
Я бросилась к шкафу, в надежде поскорее отыскать что-нибудь из одежды, но всё равно потратила драгоценные минуты на то, чтобы натянуть длинную чёрную юбку поверх сорочки и атласную серую рубашку с рюшами. Глядя на себя в зеркало, я застёгивала дрожащими пальцами стройный ряд мелких пуговиц и приходила в тихий ужас от этих отвратительных кругов под глазами. Ну, спала же целую ночь! Ну откуда?! Ах, да, моя болезнь… Хартброук с Франсуазой оказались правы, я чувствовала лёгкую боль в горле, и голова снова была какая-то тяжёлая, будто каменная. Но не до этого теперь! В кои-то веки мне было плевать, как я выгляжу – ну, или почти плевать?! Я, можно сказать, на бегу успела-таки пройтись пуховичком по бледным щекам, и, подцепив кончиком пальца алую помаду, размазать её по губам… И выбежала из своей комнаты, на ходу отмечая сразу две вещи: во-первых, Эрнест второпях забыл свою кобуру у меня на столе, а во-вторых, я, кажется, здорово переоценила своё состояние. Не успела я дойти до лестницы, как у меня закружилась голова, и я едва не свалилась прямо там, на ступенях! Боже, ну что за невезение?!
Я остановилась, перевела дух, и продолжила путь наверх уже спокойнее, стараясь не бежать, чтобы не сбивалось дыхание. Десяток ступеней, поворот направо, и ещё пара десятков шагов по сумеречному коридору. На этом этаже, похоже, электричество так и не починили.
На моё счастье, конвоя в коридоре не было – все собрались внутри, ребятам интересно было послушать, что же скажет взятый с поличным убийца. Так что никто не встал у меня на пути, когда я толкнула дверь и вошла. Более того, никто и не заметил поначалу моего присутствия.
Успела я к самому интересному.
– Да, я признаю, что эта запонка принадлежит мне, – говорил мсье Гринберг, нервно заламывая руки. – Я понятия не имел, что потерял её именно там, какая ирония! Если бы знал, то, можете не сомневаться, вторую немедля выбросил бы в озеро! И вы никогда не доказали бы моей причастности к этому убийству!
Я как можно тише закрыла за собой дверь, чтобы шум не привлёк к себе внимание полицейских, которых в кабинете собралась целая маленькая армия! Так же здесь был доктор Хартброук, и Томас Хэдин, вот уж неизвестно зачем! Томас, кстати, был единственным, кто заметил, что я вошла, но виду не подал, не стал выдавать меня.
Какого чёрта он-то здесь забыл?! Почему он всегда всюду суёт свой нос?! Вот что не давало мне покоя. Доктор ещё ладно, в конце концов, он помогал полиции осматривать тела убитых, но Томас… лицо частное, постороннее! Что за чудеса?
– Будете делать чистосердечное признание? – С надеждой спросил комиссар Витген. Ну, это напрасно, сразу вам скажу! Не все так отчаянно стремились за решётку, как мы с Габриелем, а по Гринбергу было видно – признаваться не станет.
– Да пошли вы к чёрту! – Взвизгнул он.
– Может, хотя бы скажете, за что вы убили всех этих девушек? – Вступил в беседу Жан Робер. А я вдруг вспомнила ту жестокую фразу, оброненную Гринбергом за столом: «Может, они заслуживали, чтобы их убили?»
Ох, господи… и эти люди живут среди нас! Ходят, улыбаются, шутят за завтраком, а сами, на досуге, душат ни в чём не повинных девушек, со святым убеждением, что те заслужили подобной участи! Я взялась за свою шею, то ли от того, что горло не на шутку разболелось, то ли от того, что представила, как он и меня душит вот этими своими тоненькими длинными пальчиками…
– Ничего я вам не скажу! – Выплюнул Гринберг с ненавистью. И откуда только взялось-то её столько в этом щуплом юном тельце? – Вы никогда ничего не докажете!
– Ваша личная вещь на месте преступления – это, по-вашему, не доказательство? – Полюбопытствовал Витген. А я чуть было не сказала ему: ну да, премилая вещичка, забытая рядом с моей шляпкой! Руководствуясь этой логикой, меня ещё позавчера должны были казнить за убийство Селины. Никакое это не доказательство, чёрт возьми!
О, боже, они, что, отпустят его?!
– Я не убивал Селину Фишер, – уже спокойнее сказал Гринберг, переводя дух. Потом посмотрел на Эрнеста, видимо, как на самого адекватного в этой честной компании, и добавил: – И Габриэллу Вермаллен я тем более не убивал!
А Соколицу? – хотела, было, спросить я. А потом посмотрела на Гринберга ещё раз и обозвала себя идиоткой. Мне захотелось привлечь к себе всеобщее внимание, и, взмахнув руками, спросить – вы не видите?! Неужели вы не видите?!
Гринберг невысок ростом, да он ниже чем я! И настолько щуплый, что я искренне сомневаюсь, что он и Селину смог бы задушить, не то, что высокую и пышную Фальконе! Ну, предположим, если Фальконе встала бы перед ним на колени, то тогда он достал бы до её шеи, но вряд ли обхватил её своими тоненькими ручками.
– Послушайте, Гринберг, отпираться бесполезно! Мы вычислили вас, и вам лучше всего будет сознаться в ваших преступлениях! – Сказал Витген свою коронную фразу, но на молодого еврейчика она не подействовала, и к совести его не воззвала. Ничуть.
– Я не убивал всех этих девушек, комиссар, – сказал он почему-то, опять же, обращаясь именно к Эрнесту, хотя тот ему пока ещё ни одного вопроса не задал. – Меня вообще не было в Париже на момент первых шести убийств! Я клянусь вам, я вовсе не тот, кого вы ищете!
– У вас нет алиби на время убийства Селины Фишер, – будто не слушая его, продолжал Витген. – Вас не было за обедом. Вы утверждаете, что были в своём номере, но, представьте себе, метрдотель Фессельбаум утверждает, что видел вас, выходящего из отеля как раз около полудня. Вернулись вы не ранее трёх. Где же вы были, Гринберг?
Да-да, милый, где ты был? Уж очень интересно знать!
– Я был в домике у реки, – упавшим голосом сказал Гринберг.
– Вот! – С победным видом воскликнул Витген. – И там же вы убили Селину Фишер?!
– Да не убивал я Селину, чёрт бы вас побрал!
Мне показалось, или он назвал её по имени так, будто они были очень близко знакомы…?
– Что вы забыли в этом месте в самый разгар обеда? – Полюбопытствовал Жан Робер.
– Я встречался там с ней, разумеется, – ядовито ответил еврейчик. – С Селиной. Я думал, вы это уже поняли!
– А потом вы убили её? – С надеждой спросил Витген.
– Да пошли вы к чёрту, Витген!!! – Взревел Гринберг, резко повернувшись к нему. – Я никого не убивал, ясно вам?!
– Откуда у вас запонки с гербом семьи де Вино? – Спросил Жан Робер. Судя по тому, что от имени французских властей говорил исключительно он, и, судя по тому, что он всякий раз бросал вопросительные взгляды на де Бриньона, я сделала вывод, что это у него нечто вроде экзамена. Эрнест, похоже, готовил себе подходящую замену, и получалось у него отменно. Жан Робер говорил коротко, вежливо, и по делу. С таким полицейским и пооткровенничать не грех!
Будь я Февралем – призналась бы ему во всём только из-за того, что он очарователен, симпатичен и румян! А ещё потому, что он милашка. Он тоже заметил меня, вслед за Томасом, но не поспешил выставлять вон, и сделал вид, что увлечён отчётом. Правда, улыбнуться мне в знак приветствия не забыл. Чудо, а не паренёк!
– Офелия подарила, – недовольно отвечал Гринберг тем временем. – В честь помолвки.
– В честь… помолвки? – С непониманием спросил Витген.
– Офелия де Вино? – Уточнил Жан. – Одна из предыдущих жертв?
И, будто невзначай достал из небольшой серой папки фотографическую карточку, и продемонстрировал её Гринбергу. Если это был очередной полицейский приём, чтобы заставить подозреваемого закричать в ужасе и сознаться, то попытка с треском провалилась. В ужасе едва ли не закричала я сама, увидев широко раскрытые глаза покойницы, неживые, остекленевшие глаза… Девушка показалась мне знакомой, что неудивительно – она была точной копией отца, Себастьяна де Вино, господина посла, который ужинал у нас раз или два. Так же мой взгляд отметил родинку на её шее, как раз над уродливым тёмным пятном от удавки – а вот Гринберг, кажется, и вовсе этого не замечал.
– Не моих жертв, прошу принять во внимание! – Подняв указательный палец, уточнил он, старательно избегая смотреть на эту жуткую фотографию. – Да, мы были помолвлены, и что с того?! Это ещё не говорит о том, что я убийца!
О, ну вот это он зря сказал. Убийца он или нет, но ему ни в коем случае не стоило признаваться в том, что он был близко знаком с одной из жертв. По своему опыту знаю, что полиция тотчас же схватится за эту версию!
И верно.
– Мотив превосходный, – резюмировал Жан Робер. – Офелия де Вино безбожно изменяла вам с Рене Бланшаром, вы узнали об этом и решили убить её из ревности!
– Я знал, что она изменяла мне с каким-то французом, но я понятия не имел, как его зва… Постойте-ка! Бланшар? Знакомая фамилия! Он, случайно, не муж той очаровательной глазастой француженки, мадам Жозефины?
О-о, это про меня! Как мило! Я тронута, что вы оценили мои глаза, мсье Гринберг!
Правда потом тот же мсье Гринберг, не меняя тона, сказал:
– Так это же очевидно! Она их всех убила! И мужа своего, и Офелию. Чтоб неповадно было изменять! И, знаете что? Правильно сделала!
Ах, теперь я всё поняла. Или почти всё? Неясно, откуда Гринберг узнал мою настоящую фамилию – Арсений, что ли, ему рассказал? Или Ватрушкин? Но это мелочи: зато я поняла, кого имел в виду Гринберг, когда сказал, что убитые девушки, вероятно, заслуживали своей участи! Офелия де Вино, его невеста, не сохранившая себя до свадьбы – это как минимум. От себя добавлю, что и покойная Иветта тоже заслуживала. И пусть её убил не Февраль, но это будет наш с вами маленький секрет, ведь в полицейских отчётах она числилась как одна из жертв.
– Долго вы будете отпираться? – Поинтересовался недовольный Витген. А Эрнест только теперь обернулся на дверь, и встретился с моим взглядом. Он нахмурился, видимо, намекая на то, что мне здесь делать нечего, но прогонять меня, однако, не стал.
– Да не убивал я никого, чёрт возьми!
– Простите, я правильно понял – пока ваша невеста изменяла вам с Бланшаром, вы решили не оставаться в долгу и отомстили ей с Селиной Фишер? – Уточнил Жан Робер, делая какие-то пометки в своих бумагах.
– Никому я не мстил! – Бедный Гринберг аж позеленел, и приподнялся со своего места, будто всерьёз надумал идти на Робера в рукопашную. Посмотрела бы я на это! Думаю, Жану с его габаритами достаточно было только дунуть, и от худосочного Гринберга и места мокрого не осталось бы! Ха. – Я любил её! По-настоящему любил! Что вы, чёрт возьми, в этом понимаете?!
Тут за дело взялся де Бриньон. Дескать, уж он-то понимает, как никто другой!
– Расскажите, как всё было, Гринберг, и мы вас отпустим, – устало произнёс он, покосившись на недовольного Витгена.
– Отпустим?! У нас улики против него, чёрт возьми! В своём ли вы уме, Эрнест?!
– Он не убивал ни свою невесту, ни Габриэллу Вермаллен, ни уж точно Витторию Фальконе, – сказал де Бриньон уверенно. И добавил, чтобы Гринберг не обольщался: – На счёт Селины Фишер не уверен, поэтому хочу послушать вашу версию того, что же произошло в тот день.
Гринберг был в ярости, что его, богатого наследника известной семьи, посмели подозревать в убийстве, но выгоды своего положения быстро оценил. Де Бриньона он, судя по всему, уважал, и раз тот пообещал ему свободу в обмен на откровения – Гринберг готов был стать послушным.
И он рассказал, почему отсутствовал на обеде.
– Я не из мести встречался с Селиной, как вы предположили, – сказал он Роберу, – к тому моменту, как мы познакомились, Офелия была уже мертва. Впервые мы встретились два месяца назад, в Люцерне. Селина гостила там у подруги, а я ездил туда по настоянию отца, обучаться живописи. Это моё хобби. Я, видите ли, тоже рисую, да…
Вот тебе и глупая песенка горничной! Не Тео имела в виду Селина, и не Габриеля! Это с самого начала был Гринберг, она пела о нём! Пока я рассуждала, он продолжал свой рассказ:
– Я влюбился в неё с первого взгляда, так иногда бывает. Я не побоялся подойти и познакомиться, хотя обычно с девушками у меня как-то не клеилось…
Отрежь к чертям свои пейсы, сделай нормальную причёску и всё у тебя получится! – хотела сказать ему я. Хороший же парень, право слово, ведь красивый же! А глаза какие чёрные – да это целых два океана, а не глаза! И губы очень чувственные, и кожа смуглая – ему бы в белое наряжаться, чтобы контраст был! Мальчик мой, будь я твоей матерью, я бы за неделю превратила бы тебя в заправского обольстителя! Но для начала откормила бы, а то больно худ.
– Она сказала, что работает горничной при отеле «Коффин», её туда дядюшка устроил, а она боялась не оправдать его надежд. Она ведь совсем недавно работала, понимаете? Около года, да и то, большую часть, когда сезон уже закончился, и постояльцев было мало. А сейчас самый разгар! Она так боялась всего, бедняжка! Особенно, как она выражалась, «этих заносчивых аристократов»! А они здесь везде! То есть, мы. Это же отель класса люкс! Я пообещал ей помочь. Например, приехать в отель под видом обычного туриста, и нахваливать её хозяевам каждый день! Это был предлог, понимаете? Только предлог, чтобы ещё раз её увидеть, чтобы снова с ней встретиться… Грубовато, может? Или, очевидно? Она-то, я думаю, сразу поняла, зачем я всё это затеял! Но, поймите же вы, мне восемнадцать лет! Я понятия не имею, что с ними делать, с этими женщинами, и как за ними ухаживать!
После этих искренних слов, никто уже и не думал скрывать своих умилённых улыбок. Даже Витген, вроде бы ещё недовольный тем, что убийце в очередной раз удалось улизнуть, и тот улыбался в усы. А уж мы-то с Томасом и вовсе растрогались до глубины души, глядя на этого милого мальчика.
– Вырваться в Швейцарию во второй раз мне удалось не сразу, – продолжал Гринберг, опустив взгляд, чтобы не видеть этих улыбок, которые его наверняка смущали, – и я боялся, что она даже не вспомнит меня! Потом мы увиделись… она шла мимо, по коридору, несла ворох простыней… Подняла взгляд… и сразу их выронила. Прямо на пол! За что, конечно, получила нагоняй от Грандека, который отирался поблизости. Я хотел как лучше, а получилось вон что, её ещё и наказали из-за меня! Боже, почему я такой неудачник? Потом я перехватил её на балконе, когда она возвращалась из прачечной, и сказал, что не могу без неё жить.
А-а, ну да, этот проходной балкон – такое романтичное место! Побуждает на признания в любви, это я тоже по себе знаю. Точнее, по Габриелю, который впервые поцеловал меня именно там. Я невольно улыбнулась.
– Она ответила взаимностью, – сказал Гринберг, качая головой, а в голосе его появилась искренняя печаль. – Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете! Я… мы встречались потом… часто встречались. Я искал любой повод, чтобы пересечься с ней, пусть на секунду, пусть даже в коридоре… Я настоял, чтобы меня переселили с четвёртого этажа на третий, за которым Селина была закреплена. Чтобы видеть её, когда она приходила убирать комнаты. Понимаете, я любил её! Я ценил каждое мгновение с ней!
Я подумала, что де Бриньону вовсе не обязательно смотреть на меня так, будто он подписывается под каждым словом этого мальчика, но уже в мой адрес. Эти его дурацкие намёки меня не трогали, увы. А вот Гринберга послушать было интересно:
– У меня здесь знакомые остановились, в номере на втором этаже. Они могли заподозрить о моих чувствах к Селине, и рассказать об этом моему отцу, а уж тот наверняка не пришёл бы в восторг, узнав, что его единственный наследник собрался жениться на горничной! Поэтому мне пришлось изображать пылкую страсть к Габриелле Вермаллен, что я проделывал с большим успехом две недели кряду. С Селиной же мы встречались в домике у реки. Там было тихо, и не так опасно как в отеле, там нас не могли увидеть. Я не столько боялся за себя, сколько тревожился за неё, за её репутацию!
Какой умница! Восемнадцать лет парню, а уже понимает! А де Бриньону и в тридцать два было наплевать, заходил в мою спальню как к себе домой, и не думал скрывать, что проводил там ночь! Поучился бы у Гринберга, в самом деле! Вот именно так нужно относиться к девушке, которую ты действительно любишь!
– В день, когда её убили, я сделал ей предложение, – окончательно расстроил всех собравшихся наш Ромео. Жан Робер слушал его едва ли не с раскрытым ртом, видимо, любил романтические истории, и завздыхал с тоской, когда Гринберг сказал эти самые слова.
– Теперь всё понятно, – сказал Томас, переглянувшись с де Бриньоном. Эрнест кивнул ему, но жестом попросил Гринберга закончить, всё-таки, свою историю.
– Я хотел увезти её отсюда. С собой, в Тулузу. Я сам оттуда родом, это на юге Франции.
Что, серьёзно? Бо-оже, это мальчик был до невозможного мил! И так непринуждённо объяснял четверым коренным французам, где находится Тулуза! Все заулыбались в очередной раз, из-за этой его непосредственности, а я вдруг задумалась.
Что-то не понравилось мне в его словах, но что?
Представители его нации у нас во Франции не такая уж редкость, как и в любой другой стране, так издавна повелось. С этим понятно, но… Тулуза, Тулуза… чёрт возьми! Как раз там выращивают эти злополучные фиалки, на юге Франции, в Тулузе и Парме!
Фиалки.
О, нет.
– Она боялась, что её дядя будет против, как и мои родители, – продолжал тем временем Гринберг. – И мы решили обвенчаться тайно. Сбежать, понимаете?
– Вот куда она так торопилась, – сказал мне Томас, потому что меня, помнится, этот вопрос очень волновал. Все сразу подняли головы, чтобы понять, к кому это он обращается, а Витген хмуро сказал:
– Мадам Лавиолетт, а вы здесь что делаете? Вам нельзя здесь находиться!
– Она торопилась домой, собрать чемоданчик, и сбежать вместе со мной, – продолжил Гринберг, ничуть не задетый моим неожиданным присутствием. – Я должен был ждать её у дороги, в условленном месте. Но не дождался. Я подумал, что она передумала, и в расстроенных чувствах вернулся назад, в номер, чувствуя себя раздавленным. Позже выяснилось, что до дома она так и не дошла, её убили по дороге. Но от этого мне, разумеется, не стало легче.
– Мадам Лавиолетт! – Это уже Хартброук, изо всех сил пытающийся выглядеть грозным. – Я прописал вам постельный режим! Вы меня совершенно не слушаетесь, несносная вы девчонка! Немедленно вернитесь к себе! Я провожу вас.
Я не сдержала короткого смешка: меня позабавило, как сердито пучил глаза этот смешной старичок, а ещё меня позабавило, что он назвал меня «несносной девчонкой»! Не каждый день услышишь такое от благовоспитанного англичанина.
Он взял меня под руку и едва ли не силой вывел в коридор, под одобрительным взглядом комиссара Витгена, который тоже считал, что мне нечего делать на официальном допросе. За нами следом вышел Томас Хэдин, решивший, что ничего интересного он больше не услышит. Эрнест остался вместе с остальными, к моей величайшей радости.
Как только мы очутились в коридоре, Хартброук принялся меня отчитывать:
– Мадам Жозефина, ну что это такое?! Вы как маленькая, право слово! Неужели не понимаете, что рискуете простудиться и подхватить пневмонию! Вы что, не чуете, какой здесь сквозняк?! Вам в вашем состоянии нужно лежать в покое, в тёплой постели, и приходить в себя!
И так далее в том же духе. Я нарочно замедлила ход, надеясь, что Томас Хэдин нас догонит. Так и вышло.
– Есть какие-то новости? – Спросила его я, игнорируя пламенные возгласы доктора. Который, похоже, обиделся на меня за это, ну да ладно.
– Многие вчера были обеспокоены вашим отсутствием и арестом Габриеля, – ответил Томас. – Предложения высказывались самые нелепые, но большинство не верит ни в вашу вину, ни в его. А мсье Лассард уехал этим утром.
– Уехал? – Настороженно переспросила я. Томас кивнул.
– Он сказал, что не желает больше находиться в отеле, где средь бела дня убивают достопочтенных гостей. Поклялся нажаловаться на Шустера властям, чем едва не довёл Грандека до сердечного приступа.
– Да, а мне этого Грандека потом пришлось до четырёх утра отпаивать валериановыми каплями! – Проворчал доктор Хартброук.
– Вам не кажется это подозрительным? – Спросила я Томаса. Он снова кивнул.
– С другой стороны, я бы не удивлялся тому, что постояльцы потихоньку начинают разъезжаться. Мы и сами подумываем вернуться в Лозанну. Но Лассард… вы в курсе, что у него большие финансовые затруднения? Он соблазнил жену своего начальника, а тот в отместку разорил его подчистую, и едва не пристрелил. К чему я это говорю: номер в «Коффине» был оплачен аж до сентября месяца, и он мог бы спокойно жить здесь, без лишних затрат. Ему не с руки сейчас оплачивать съёмную квартиру или другую гостиницу, а предоплату за проживание в «Коффине» ему, разумеется, не вернули.
– В результате, он потерял и деньги и жильё? – Я покачала головой. – Тогда его отъезд выглядит ещё более подозрительным!
Ровно как и то, что в ночь убийства Габриэллы я видела его в северном крыле. А ещё у него были мокрые волосы, за ужином, сразу после убийства мадам Фальконе. И про озеро говорил тоже он.
– Я вот и думаю, – в третий раз кивнул мне Томас, – а что, если на самом деле Лассард никуда не уехал?
И снова как-то зловеще прозвучал его вопрос. Я-то, например, как раз об этом не думала, мне казалось очевидным, что убийца стремился быть как можно дальше от места преступления! Тем более, после ареста Габриеля, когда на него скинут всю вину, Лассарду больше не было нужды оставаться в «Коффине». На его месте я залегла бы на дно, дождалась бы казни потенциального Поля Февраля, а потом спокойно продолжила бы убивать дальше, раз уж так неймётся. Только, подальше от Франции и Швейцарии. На всякий случай.
Я бы в соседнюю Германию перебралась, вот что! Вот где раздолье! Правда, брюнеток там ещё поискать – немки-то, по большей части, светловолосые… Так что я не знаю, что хуже: моя версия, или версия Томаса.
– Думаете, он ещё вернётся? – Спросила я с сомнением.
– Надеюсь, что нет, – хмыкнул Томас. – Но мне боязно за вас, Жозефина. Я прошу вас вспомнить о моём вчерашнем подарке и дважды подумать о своих дальнейших действиях.
Это он к тому, что полиция меня просто так не отпустит, потому что я у них всё ещё на подозрении, особенно, когда Гринберг оказался непричастен. И, чтобы мне не рисковать своей жизнью под боком у маньяка, Томас предлагал мне бежать. С одной стороны это было разумно, но с другой… с другой – я слишком хорошо знала Эрнеста.
Он меня всё равно найдёт.
И когда это случится, я горько пожалею о том, что Февраль не нашёл меня раньше.
Нет, бежать нельзя. Но Томасу, конечно, спасибо за участие. Я улыбнулась ему и кивнула, пообещав, что подумаю над его советом. Это его немного успокоило, и он, когда мы остановились у лестницы, попрощался с нами и пошёл вниз, на завтрак.
– Я бы тоже хотела спуститься к остальным, – несмело произнесла я, глядя на Хартброука.
– Вы издеваетесь надо мной, Жозефина? – С сомнением спросил меня доктор.
– Ах, милый Ричард, я прошу вас, будьте снисходительным! – Я сделала самые невинные в мире глаза и по-детски поджала губы, от всей души забавляясь.
Он, что, всерьёз намеревался устоять перед чарами настоящей француженки? Нет, правда, он думал сохранить свои стойкие убеждения под нежно-ласковым взглядом моих тёмных глаз?
Я, наверное, не говорила вам, что своего добиваться умела не только хитростью и расчётливостью? Представьте себе, я умела просить по-хорошему, как сейчас, например! Но делала я это лишь в тех случаях, когда знала, что мне не откажут.
Хартброук не отказал.
– Шерстяная кофта у вас есть? – Всё ещё строя из себя сурового лекаря, спросил Хартброук с недоверием. – А юбка тёплая? И шарф на шею повяжите, Жозефина, будьте благоразумны, берегите горло! И, вот, возьмите, таблетки. Я ещё вчера с вечера хотел вам их дать, да позабыл с этим припадочным Грандеком… И никаких прогулок на сквозняке, слышите, Жозефина? Посмотрите, что творится на улице! Я запрещаю вам выходить, вот так-то!
Я слушала его с улыбкой, почти счастливой. Давненько обо мне так никто не заботился!
– Я, может, и не полиция, чтобы посадить вас под арест, но тоже кое-что могу! – Продолжал ворчать доктор, отчего его смешные седые усы ходили ходуном. – А она всё улыбается, поглядите-ка на неё! Девчонка! Легкомысленная девчонка! Все, что ли, француженки такие беспечные?!
Не удержавшись, я расхохоталась, и, склонившись к низкорослому доктору, чмокнула его в щёку. Он тут же покраснел, но улыбку скрывать уже не мог, хотя всё ещё пытался показать, что сердится на меня.
– Вы просто прелесть, Ричард! – Сказала ему я, и, заливаясь смехом, заспешила к себе, чтобы надеть тёплую кофту и юбку, и непременно повязать шарфик, прежде чем спуститься к завтраку.
XVIII
– Это никак не может быть Лассард, мсье Арсен! – Возмущался доктор Эрикссон, когда я зашла в столовую. – У вас недоверие к этой нации из-за сложных политических отношений с вашей собственной страной, только и всего! Вы поэтому его и не любите!
– А с чего мне его любить?! – Недоумевал Арсений, который сегодня был в ударе. – Да он был самым подозрительным среди нас! Вот увидите, с его отъездом всё успокоится, и убийства прекратятся.
– Конечно, прекратятся! – Воскликнул швед. – Ведь Гранье уже взяли под стражу!
Ах, да, Эрикссон же недолюбливал Габриеля, вот теперь и злорадствовал как мог. А я посмотрела на пустующее место слева, и такая меня охватила тоска… Франсуаза взяла меня за руку, спросила тихонько о моём самочувствии, и извинилась, что не зашла. И сказала, мерзавка:
– Я боялась вам помешать!
Будто мы с Эрнестом всю ночь делали что-то непристойное! Господи, ну теперь весь отель ещё и об этом будет судачить! Уж Витген-то молчать не станет. Обязательно пустит в ход версию о том, что коварная убийца соблазнила честного комиссара из Парижа, чтобы уйти от расплаты. А тот взамен отпустил её. Разве не так это и выглядит со стороны?
Я обвела хмурым взглядом собравшуюся компанию, но никакого чрезмерного презрения к своей персоне не заметила. А Нана с Томасом и вовсе глядели в мою сторону с нескрываемым сочувствием.
Заметив, как сильно поредели наши ряды, я вздохнула. Не было больше обеих Вермаллен: графиня готовилась к отъезду со вчерашнего вечера, как сказала Франсуаза, и сейчас наверняка уже отбыла, увезя с собой тело дочери. Не было голосистой Фальконе, главной заводилы и хохотушки, не было русского художника Тео, парня с грустными глазами, загадочной улыбкой и родинкой на щеке. Не было юного Гринберга, которого до сих пор допрашивали наверху, не было Габриеля, который томился в заточении в одной из комнат отеля. Не было Лассарда, вечно ёрзающего и потирающего своё больное плечо, и старины Гарденберга тоже не было.
– Где твой мсье Эрик? – Обеспокоенно спросила я Франсуазу.
Говорила я тихо, и, понятия не имею, каким образом эту мою фразу услышал доктор. Тем более странно, что он не накинулся на меня с упрёками, а, наоборот, поддержал:
– Вот! Очень правильный вопрос, мадам Лавиолетт!
– Да уж, – не стал спорить Арсен. – Мне бы тоже хотелось знать, где нелёгкая носит этого человека, вот уже какой день!
– Я видел его вчера неподалёку от «Коффина», – удивил нас Ватрушкин. Я сначала его не поняла, потому что он, как обычно, что-то жевал, и говорил с набитым ртом. Поэтому я не удивилась, но когда Арсен попросил его повторить, и Ватрушкин снова сказал, что видел мсье Эрика, я озадаченно нахмурилась. Мы снова переглянулись с Томасом, и тот осторожно спросил:
– Видели его рядом с отелем? Когда?
– Около десяти вечера, когда выходил покурить на балкон. У этого Шустера запрет на курение в номерах, поэтому вечно приходиться выходить наружу.
Где-то в это время и была убита Габриэлла Вермаллен.
Франсуаза обеспокоенно заёрзала на своём месте, а я, пользуясь тем, что никто на нас не смотрит, накрыла её руку своей. Чтобы знала, что я тут, рядом, и не брошу её, в случае чего. И в обиду точно не дам.
– Но почему он не пришёл на завтрак, если вернулся ещё вчера? – Удивилась Нана.
– А он и не возвращался, – ответил доктор категорично. – Наши номера по соседству, и я всегда слышу, когда он заходит. А этот его длинноногий монстр тявкает так, что невозможно спать! Говорю вам, его не было вчера в номере.
– Этого не может быть, – сказал Ватрушкин. – Я видел именно его! Правда, без собаки. Он шёл от озера к отелю, но не по главной дороге, а по тропинке, что ведёт к лесу.
– Какого чёрта он там забыл?! – Немного грубовато спросил Арсен. Таких некультурных слов я ждала скорее от Эрикссона, нежели от него – прежде русский журналист демонстрировал блестящее воспитание. Но ныне, видимо, был здорово удивлён.
– Меня куда больше пугает то, что тропинка о которой вы говорите, ведёт к чёрному ходу, – сказал Томас Хэдин негромко. – Там есть лестница, соединяющая все четыре этажа северного крыла, где жила Габриэлла Вермаллен.
И снова Томас посмотрел на меня, как будто призывая собирать вещи и бежать из отеля прямо сейчас. Убийца на свободе, я могу стать следующей!
– А ведь верно, – задумчиво произнёс Арсен. И поглядел на своего соотечественника. – Ватрушка, ты уверен, что видел именно его?
– Да что ты всё заладил, Арсений! Да, уверен! Шёл себе, как ни в чём не бывало, слегка прихрамывал на левую ногу. Палочка у него была эта фирменная, с набалдашником, такой ни у кого больше нет! Он это был, говорю вам!
Ох, до чего мне всё это не нравилось!
И не понравилось ещё больше, когда заговорила Астрид.
Та самая Астрид, жена доктора Эрикссона, женщина, чьё описание я даже сейчас не смогла бы вам дать.
– А я разговаривала с ветеринаром, мсье Штольцом, этим утром, – ни с того ни с сего сказала она. Казалось бы, совершенно ни к месту, но мы с Томасом и Арсеном живо заинтересовались, и повернулись к ней. Она смутилась такому вниманию к своей персоне, и опустила взгляд, а её грубиян-муж ещё и сказал сурово:
– Астрид, ну неужели ты думаешь, что это кому-то интересно?!
– Нет-нет, подождите, – перебила его я, пытливо глядя на мадам Эрикссон. – Что вы хотели сказать, Астрид? Не молчите, умоляю, рассказывайте! Вдруг это важно?
– Мсье Штольц, это врач, который лечит животных, – стала рассказывать Астрид, очень обрадованная тем, что её историей тоже кто-то заинтересовался. – Мы с ним познакомились у озера, где я собирала интересные образцы трав для моего гербария. Случайно разговорились, у него была премилая собачонка с собой, я таких никогда не видела прежде. Слово за слово, ну и подружились. Он хороший человек, очень набожный. – Поняв, что отдалилась от темы, Астрид встрепенулась, и продолжила: – Мы часто встречались, когда выходили на прогулку с Мартином, я их и познакомила. И мсье Гарденберга заодно. Он ведь тоже любит собак! И когда вчера вы сказали, что мсье Гарденберг повёз своего пса в город, я очень удивилась. Зачем, если под боком был чудесный специалист, которого он знал и уважал? Когда я встретила мсье Штольца этим утром во время прогулки, я спросила его, не поругались ли они с мсье Гарнденбергом? Почему, иначе, он не отвёл своего пса к нему? На что мсье Штольц рассмеялся и спросил, как в голову мне пришла подобная глупость? Он ведь, действительно, приходил накануне!
Рассказчица из неё была та ещё, но одно я уяснила точно – ни в какой город Гарденберг не ездил, а если и ездил, то точно не ради ветеринара.
– Более того, – продолжила Астрид, – мсье Гарденберг попросил мсье Штольца оставить Троя у себя на некоторое время, поскольку нужно было срочно ехать в город по неотложным делам, которые займут его на всю неделю.
А сам, тем временем, вернулся в отель через чёрный ход в ночь убийства Габриэллы?!
– Мсье Штольц согласился оставить собаку у себя, он ведь очень добрый и безотказный человек! – Продолжала Астрид с растерянной улыбкой. – И когда я утром встретила его, он как раз выгуливал и свою Мими, и Троя. Он был очень бодр, Трой, я имею в виду. Я этому обрадовалась, я ведь волновалась за него, мсье Гарденберг сказал, что он заболел, и я подумала, он ведь очень стар, а вдруг, это что-то серьёзное? Трой, я имела в виду, очень стар, а не мсье Гарденберг! Хотя и он тоже не молод, но я вовсе не хотела показаться бестактной, я лишь…
Дальше слушать стало уже не интересно, и я, отвернувшись, посмотрела на Томаса, в надежде, что он хоть что-нибудь мне объяснит. Тот выглядел недовольным, да и мне-то, признаться, эти новости не понравились! Что уж говорить о Франсуазе, которая сидела ни жива ни мертва! Подумать только, ей, вероятно, оказывал знаки внимания серийный убийца! Ох, бедная моя Франсуаза!
Томас ответил на мой взгляд лёгким кивком, как будто собирался что-то сказать, но передумал, прислушиваясь к словам Астрид, которая рассказывала о том, что у бедной собачки мсье Эрикссона случилось банальное несварение. И, знаете что? Надо было и мне прислушаться, последовав примеру Томаса! Потому что Астрид, которую уже никто не слушал, говорила прелюбопытнейшие вещи!
– А почему несварение, кто бы мог подумать! Объелся ивовых почек! Ну что за глупые создания эти собаки, вечно тащат в рот всё, что найдут! Совсем не разбираются в том, что едят! Они иногда даже едят свои… ой, простите! – Астрид покраснела до корней волос, и продолжила, уже не поднимая взгляда: – Я это, собственно, к чему начала говорить… эти почки, которых он переел… Мсье Штольц сказал, то была карликовая ива. Вроде бы ничего необычного, но, поверьте мне, как ботанику с двадцатилетним стажем, этот вид растений растёт только в одном месте поблизости!
Я похолодела, когда мадам Эрикссон произнесла эти самые слова. Я уже догадывалась, что она скажет дальше. Правда, так как она замолчала, договаривать за неё пришлось Томасу.
– У реки, рядом с мостом? – Предположил он, озвучивая мои самые страшные предположения.
– Не совсем, – покачала головой Астрид. – За рекой, мистер Хэдин. За мостом. Как раз там, где была найдена эта девушка, Селина Фишер.
XIX
– Ну и как прикажешь это понимать?! – Требовательно спросил меня Эрнест, перехватив в коридоре, когда мы с Франсуазой поднимались наверх после завтрака.
– Боже мой, что? – Растерянно пробормотала я, с неодобрением глядя на его руку, сжимающую моё запястье с такой силой, будто он всерьёз намеревался его переломить. – Опять кого-то убили, и рядом нашли мой паспорт?!
Де Бриньон такими глазами смотрел на меня, что я на секунду испугалась, что попала в точку со своим нелепым предположением. Но, слава богу, он сказал другое:
– Гранье сбежал.
«Слава богу»? Ой ли?
– Гранье… что?
– Твоих рук дело? – Хмуро спросил Эрнест. Но, видимо, злился уже не так, видя мою искреннюю растерянность.
– Ты что, издеваешься надо мной?! – Не на шутку рассердившись, спросила я. – Ты был со мной всю ночь, чёрт подери! Как бы я, по-твоему, могла помочь ему сбежать? Да я даже не знаю, где вы его держали!
Франусаза громко ахнула, когда услышала эти слова – так, словно уж она-то, невинная душа, точно не догадывалась, что де Бриньон ночевал в моей спальне. Лицемерка!
– Тем не менее, ему помогли, – продолжил Эрнест, испытующе глаза на меня. – Кто-то отвлёк полицейских, опрокинув полку с книгами в коридоре. Те спустились на шум, а когда вернулись, дверь была открыта. Ключ остался в замке, с наружной стороны. И кто бы это мог быть, Жозефина? Не знаешь?
Понятия не имею.
У Граньне не было близких друзей в отеле, не считая Габриэллы. Но от этой мысли мне сделалось только хуже. А что, если он сбежал не сам? Что, если это графиня Вермаллен подговорила кого-нибудь выкрасть Габриеля из-под носа французской полиции, чтобы отомстить ему самой, не дожидаясь правосудия? Я прикусила губу, и подняла на де Бриньона полный отчаяния взгляд.
– Я не имею к этому отношения, – искренне ответила я.
– Хотелось бы верить, – так же искренне сказал мне Эрнест. И мне показалось, что он хотел сказать что-то ещё, но в последний момент выпустил мою руку, и заспешил вниз, чтобы поскорее найти Витгена и собрать отряд на поиски Гранье.
– Эрнест, подожди! – Окликнула я, и тогда он обернулся ко мне. – Что теперь будет? – Спросила я убито. – Что теперь будет с ним?
– Вот уж не знаю! – Безжалостно ответил этот мерзавец. – Одно могу сказать точно: у твоего Гранье крупные неприятности, Жозефина. Он сам вырыл себе яму, и сам же в неё прыгнул. С разбегу.
– Господи, а что ему ещё оставалось?! – Застонала я, взявшись за голову в приступе отчаяния. – Вы зажали его со всех сторон! Разумеется, он сбежал! Иначе ты бы уж точно постарался, чтобы его отправили на гильотину!
– И был бы неправ? – С насмешкой спросил де Бриньон. Я наградила его холодным взглядом в ответ.
– Весьма оригинальный способ избавиться от потенциального соперника. – Сказала я. Он усмехнулся и развёл руками.
– Делаю, что могу, Жозефина. Как видишь. Извини, мне нужно найти Витгена! – Кивнув на прощанье опешившей Франсуазе, он направился вниз, лёгкой, непринуждённой походкой. А я пребывала в таком кошмарном отчаянии, что даже забыла рассказать ему про Гарденберга и его проклятого пса!
Моя подруга тяжело вздохнула, и обняла меня за плечо, надеясь утешить. А я упавшим голосом сказала ей:
– Вот видишь, Франсуаза! Он совершенно невыносим!
Я не помню, как я дошла до своей комнаты. Вероятно, и не дошла бы вовсе, если бы не Франсуаза. Она довела меня до дверей, приговаривая что-то ласковое и утешительное на ходу, но на меня её тихий голос должного успокаивающего влияния не оказывал. Я думала только об одном: Габриель совершил большую ошибку! Я понимаю, его загнали в угол, ему не оставили выбора, вот он и сбежал – если, он, конечно, сбежал сам, а не пал жертвой мести обезумевшей графини Вермаллен.
Но, чёрт возьми, что ему стоило подождать пару часов?! Мы бы рассказали де Бриньону про Гарденберга, и если бы Эрнест не поверил мне, то наверняка прислушался бы к Томасу, которого уважала любая полиция, как швейцарская, так и наша. И тогда Габриеля выпустили бы, сняв все обвинения! Господи, ну что ему стоило подождать ещё немного, и не совершать опрометчивых поступков? Ведь этим побегом он только укрепил подозрения полиции на свой счёт: раз сбежал – значит виновен!
Про Гарденберга они теперь и слушать не станут! Конечно, он известный в Швейцарии человек, голыми руками его не возьмёшь – зачем полиции связываться с ним, когда есть сбежавший от правосудия Габриель, накануне признавшийся в убийстве юной Вермаллен?
Господи, ну зачем он это сделал, зачем, зачем?! А я ведь вчера думала, что дела наши хуже некуда! Как же я заблуждалась! Простившись с Франсуазой, я зашла к себе в комнату, и, подойдя к своей постели, упала поверх одеял и крепко зажмурилась. Я не плакала, нет. Я пыталась думать, что делать дальше, и как найти Габриеля прежде, чем это сделает полиция.
Отчего-то у меня не было сомнений, что как только это случится, они увезут его из отеля без промедлений, а Эрнест сделает всё возможное, чтобы нам даже не дали поговорить напоследок.
Господи, ну и где его искать? У нас с ним не было никакого «нашего места», где он мог бы меня дожидаться, и я совершенно не представляла себе, что делать дальше. Попросить помощи у того, кто помог ему сбежать? Но кто это был?! На ум приходил только Томас Хэдин, вчера вечером точно так же помогший мне самой.
А потом я вдруг подумала, что всё это могло быть каким-то хитроумным планом мсье Хэдина, и мне стало дурно. А что, если и впрямь? Мне Томас отдаёт ключ от квартиры в Лозанне, подбивая тем самым на побег. Полиция отправляется по моему следу, не думая подозревать его самого. Со мной такой фокус не прошёл, я никуда не побежала, и тогда мсье Хэдин решает избрать другого подходящего кандидата – Габриеля Гранье. Который находится куда в более отчаянном положении, чем я, и легко соглашается на такое дружеское «одолжение»! Господи. А что, если и впрямь?!
В таком случае мне нужно срочно найти Томаса! Мне будет безгранично стыдно, если выяснится, что Жозефина, как обычно, ждала подвоха от хорошего человека, искренне желающего помочь. Но пускай мне лучше будет стыдно, чем я потеряю Габриеля из-за этого! Я не могла так рисковать!
Я поднялась с постели, подошла к зеркалу, чтобы убедиться, что выгляжу не как оживший труп, и как раз в этот момент в дверь постучали. Я хотела открыть, но не сразу поняла, что стучат с другой стороны – не во входную дверь, а в балконную! Обернувшись, я увидела Габриеля, стоящего за окном, и сердце моё забилось чаще.
– Господи, да ты с ума сошёл! – Застонала я, немедля бросившись открывать. – Ты… тебя ведь могли увидеть в любой момент!
– Плевать! – Беспечно отмахнулся он, прямо с порога заключая меня в нежные объятия. – Жозефина, я так хотел снова тебя увидеть!
Он целовал меня, прижимая к себе, целовал мои губы, щёки, глаза, волосы… Он всё никак не мог мною насытиться. А я обнимала его, и думала о том, что ко мне, верный своей привычке, в любую минуту может зайти де Бриньон. За своим забытым револьвером, это как минимум! Господи, я ведь не закрыла дверь! Какая же я идиотка!
– Габриель, – начала, было, я, но он меня перебил:
– Жозефина, нам нужно бежать! – Взяв меня за руки, сказал он. И, глядя на меня сверху вниз, спросил с надеждой: – Сбежим вместе, Жозефина? Любимая моя, милая, пожалуйста, поедем со мной! Я увезу тебя туда, где нас никто не найдёт! И мы будем счастливы, я буду заботиться о тебе, и никто и никогда не посмеет нас разлучить!
Обжигающие слёзы притаились в уголках глаз. Я смотрела на Габриеля в тот момент, и понимала, что уже знаю, что отвечу ему. Он мог бы не продолжать убеждать меня, но он всё равно продолжил:
– Если ты откажешься, я прямо сейчас спрыгну с балкона вниз головой. Мне незачем жить, Жозефина, если в моей жизни не будет тебя! Я клянусь тебе, я это сделаю! Не веришь?
Габриель смотрел на меня тяжело дыша, и ждал моего ответа. Я же, в свою очередь, не стала испытывать его терпение и играть на его раскалённых до предела нервах. Бросившись к нему на шею, я поцеловала его в губы, и зашептала сбивчиво, порывисто:
– Да, да, да, Габриель! Я согласна!
Вот так.
Глупая Жозефина! Глупая влюблённая Жозефина! А что я могла поделать, если уже не представляла себе своей жизни без этого человека?! Пусть так. Попробуем сбежать от Эрнеста де Бриньона вместе. Ключ от квартиры в Лозанне всё ещё был у меня в кармане. Если Томас не обманул, его влияния хватит на то, чтобы нас с Габриелем не искали по этому адресу.
Возможно, у нас ещё был шанс.
А теперь можете смело укорять меня в глупости и опрометчивости. Жозефина просчитала практически всё, когда дала это согласие. Побег, уютное местечко, где можно скрыться, покровительство мистера Хэдина – Жозефина учла всё, кроме одного.
Того, что Поль Февраль всё ещё был на свободе.
Как-то так повелось с самого начала, что бесстрашная Жозефина не боялась этого человека ни капельки, и как будто и не подозревала, что уж она-то как никто другой подходит на роль следующей его жертвы! И опрометчивая Жозефина и в мыслях не держала, что этот человек может ей помешать! Жозефина была непростительно наивна.
– Господи, любимая моя, ты сделала меня самым счастливым на свете! – Воскликнул Габриель, прижимая меня к себе. – Нам нельзя терять ни минуты! Поезд со станции отходит в три пополудни, мы успеем, если поторопимся! Сходи в мой номер, там, в чемодане, за подкладкой, у меня припасены кое-какие сбережения. Возьми всё, что есть. И больше ничего не бери, поедем налегке. Я буду ждать тебя в домике у реки. Ты придёшь? Обещаешь, что придёшь, Жозефина?
И он снова принялся целовать меня, а я шептала, что обязательно приду, я ведь уже не смогу иначе. Габриель улыбнулся мне, и до того печальной вышла эта его улыбка, что у меня появилось неминуемое ощущение, что мы прощаемся навсегда.
Горькое, томительное ощущение.
– Я буду ждать тебя, Жозефина, – сказал он, отступая к балконной двери. – Ты только приди, пожалуйста, приди!
– Я приду, – прошептала я. И, ещё раз, когда дверь за ним уже закрылась: – Приду…
Габриель был прав: времени у нас оставалось не так много. Я взглянула на часы, и, подойдя к трельяжу, выдвинула один из ящиков. Мне нужны деньги. Все те деньги, что у меня были! Их должно хватить на первое время. Взгляд мой невольно упал на револьвер Эрнеста, по-прежнему лежавший на том же месте, где он оставил его вчера.
И даже тогда Жозефина не вспомнила о Феврале. Нет, Жозефина, конечно, достала револьвер из кобуры, и заткнула его за пояс, прикрыв сверху блузкой. Жозефина взяла револьвер с собой, на случай, если ей надумает помешать полиция. Ни больше, ни меньше.
После этого я вышла из своей комнаты, и постучалась в дверь соседней. Я должна была попрощаться с Франсуазой. Какой бы ужасной подругой я не была, но я не могла бросить её, не сказав ни слова о своих намерениях. Я в любом случае не имела права оставлять её одну, но она должна меня понять!
Я не сомневалась, что поймёт.
Вот только по ту сторону двери мне никто не ответил. И это было странным, согласитесь, потому что минут с десять назад Франсуаза ушла к себе в номер, я видела это собственными глазами! Вышла на прогулку, подумаете вы? Непохоже. Франсуаза боялась лишний раз появляться на людях, тем более без меня, уж сколько мы с ней из-за этого ругались!
Господи, ну куда она исчезла, почему именно в этот момент, когда я зашла попрощаться?!
– Франсуаза, ты там? – Осторожно позвала я, приоткрыв дверь.
– Жозефина… – Её тихий, слабый голос звучал так жалобно, что я не на шутку перепугалась, и, распахнув дверь, ворвалась в комнату ураганом. Молодая или нет, но Франсуаза была брюнеткой, чёрт возьми, и попадала в группу риска, как и я!
Видимо, мсье Февраль думал точно так же.
Когда я вбежала в номер Франсуазы, я увидела, что она стоит, испугано прижавшись к стене, а напротив неё мсье Эрик Гарденберг, задумчиво вертит в руках узкий шёлковый пояс от её платья…
XX
– Немедленно отойдите от неё, не то я за себя не ручаюсь! – До того пылко произнесла я прямо с порога, что Гарденберг, действительно, отошёл. Да не просто отошёл, а, отложил в сторону шёлковый пояс, так осторожно, будто тот был самым опасным в мире оружием и мог выстрелить в любой момент. И, демонстрируя мне свои пустые ладони, сказал тихо:
– Мадам Лавиолетт, вы всё неправильно поняли!
– Я сейчас позову полицию, и пускай она разбирается! – Я кивнула Франсуазе на дверь за моей спиной. – Франсуаза, пойдём со мной.
– Жозефина… – Слабо пискнула она, выражая, не иначе, протест. Рехнулась? От страха потеряла способность соображать? Или у неё отшибло память, и она забыла всё то, о чём мы говорили за столом?
– Мадам Лавиолетт, прошу вас, не нужно никакой полиции, – тихо, но проникновенно произнёс старый швейцарец. – Я вам сейчас всё объясню!
– Да не желаю я слушать ваших объяснений! Перед Витгеном будете объясняться, чёрт бы вас побрал! Франсуаза, что ты стоишь?! Немедленно иди сюда!
– Жозефина, это не он! – Сказала мне Франсуаза, не сдвинувшись с места. – Он не убийца!
– Что? – Думается, именно эту истину и хотел донести до меня старый швейцарец, а я упрямо не желала его слушать. С подозрением посмотрев в его сторону, я заметила, как Гарденберг энергично кивает головой.
– У меня были причины вести себя так странно! – Сказал он в ответ на мой вопросительный взгляд. – Мне неловко в этом признаваться, но я сбежал из отеля только потому, что сюда приехала моя жена!
– Ваша… жена? – Для изысканной лжи от хладнокровного убийцы Февраля такая фраза была слабоватой. Совсем уж никуда не годилась, если честно. Наверное потому, что звучала глупо, удивительно, и неправдоподобно.
– Моя жена, Скарлетт. Чёртова ведьма, нигде мне нет от неё спасения! Решила устроить мне сюрприз! А я… право, мне так стыдно… Я ведь сказал мадам Франсуазе, что состою в разводе…
– Зачем вы возвращались в отель в ночь убийства Габриэллы Вермаллен?
– Я понятия не имел, что кого-то убили! – Воскликнул Гарденберг. – Я пришёл, чтобы отыскать мадам Франсуазу и… в общем, уже неважно. Но Скарлетт перехватила меня на первом этаже, у чёрного хода. Эта ведьма меня в могилу сведёт однажды – ну откуда она знала, что я буду там?
– Наверняка курила на балконе и увидела, как вы шли по дороге от посёлка, – ответила я, уже и не зная, как реагировать на то, что Гарденберг всё-таки не убийца. Радоваться? Чему же? Тому, что настоящий Февраль до сих пор на свободе? Или огорчаться, потому что версия с виной старого швейцарца была уж больно ладная?
– Может быть, – вздохнув, сказал Гарденберг. – Как бы там ни было, она так и не дала мне поговорить с мадам Франсуазой. Я едва убедил её, что мне нужно назад в Люцерн! Пришлось тем же вечером купить билеты, и показать их ей, чтобы эта ведьма убедилась в моём запланированном отъезде!
– И вы, улучив свободную минутку, снова пришли сюда? В отель? Зачем?! – Я посмотрела на шёлковый пояс, который теперь лежал, перекинутым через спинку кресла, и всё поняла. Это был пояс от платья Франсуазы. От того самого платья, что было сейчас на ней.
Гарденберг вовсе не собирался её душить.
– Франсуаза?! – Сквозь зубы процедила я, резко повернувшись в сторону моей распутной подруги.
– Э-э… я… мы… – Замямлила она, опуская взгляд, и краснея до самых ушей.
Ах она мерзавка! Да как она смела?!
Нет, в весёлом времяпровождении с Гарденбергом не было бы ничего плохого, если бы не одно «но» – его жена, вышеупомянутая Скарлетт! Франсуаза прекрасно знала, как я отношусь к интрижкам с женатыми мужчинами, и поэтому, подлая негодяйка, не рассказывала мне ничего!
Знала, что я не одобрю. Знала, что я буду категорически против!
А как я могла поощрять это непотребство?! Я неизменно ставила себя на место жены, которая в один прекрасный день узнаёт об измене – знаете, сколько в моей жизни было таких дней? И, несмотря на то, что Рене я никогда не любила, а очень даже наоборот, ощущения эти всё равно были не из приятных. Как будто в душу плюнули.
А она… добровольно… с ним… уже после того, как он сказал ей, что женат…
Чёрт возьми, ну и мерзость!
Посмотрев на Гарденберга как на полнейшее ничтожество, я покачала головой, а он стыдливо опустил глаза. Мой фирменный взгляд в этот раз удался мне как нельзя лучше, я даже на Эрнеста с таким презрением не смотрела! Неудивительно, что старый швейцарец устыдился своей распущенности. А я, посмотрев на Франсуазу, сказала ядовито:
– Тебе не будет оправдания, даже в случае трёхкратной форы! И даже в случае четырёхкратной – тоже нет!
С этими словами я развернулась на каблуках, и быстрыми шагами вышла из комнаты, оставив страстных любовников одних. Не знаю, станут ли они продолжать прерванное занятие после моих пылких фраз – не знаю, и знать не хочу! Я была разгневана, я была расстроена и я совсем забыла, что изначально шла попрощаться.
XXI
Как и следовало ожидать, возле комнаты Габриеля дежурил патруль. Оба наши, французы. Одного из них Эрнест в прошлый раз называл Арно, а вторым оказался его помощник, Жан Робер. С этим парнем мы уже поладили, поэтому я ничуть не испугалась наличие у входа охраны.
Куда больше я испугалась того, что голова моя вновь начала кружиться, а слабость в очередной раз охватила всё тело, мешая сосредоточиться. Не знаю, насколько близка к обмороку я была на этот раз, но такой жестокой выходки от судьбы я бы просто не пережила.
Потерять сознание и не явиться на встречу с Габриелем – боже, это было бы слишком!
– Могу я войти? – Спросила я у Робера, который сделал вид, что удивился, заметив меня. Или и впрямь удивился?
– Мадам Лавиолетт! Но… – Он посмотрел за моё плечо, проверяя коридор на наличие Эрнеста де Бриньона, но, не обнаружив такового, несколько расслабился.
– Что? Это запрещено? Я думала, вы стоите здесь в ожидании мсье Гранье, и ни за чем больше! О, боже, Жан, не делайте такое виноватое лицо! Можете рассказать вашему начальнику об этом моём визите, если хотите. Что угодно, только дайте мне пройти!
– Зачем вам, право? – Не без любопытства спросил Жан.
– Я оставила там свои вещи! Хочу забрать, – хмуро ответила я.
– В комнате мсье Гранье? Какие вещи, мадам Жозефина? – Удивился простодушный паренёк.
– Бельё, чёрт подери, Робер! – Воскликнула я, сделав вид, что сетую на его недогадливость. – Мою кружевную комбинацию. Трусики и чёрный бюстгальтер! Нет, мне обязательно нужно было говорить всё это вслух?!
Робер покраснел так очаровательно, что я едва ли не потрепала его по румяным щёчкам, приговаривая: «Ути-пути, ты ж мой сладенький карапуз!» Ему, видимо, было стыдно, что он поставил меня в столь неловкое положение, и он поспешно отошёл от двери.
– Проходите, пожалуйста.
– Благодарю!
– Мадам Лавиолетт? – Несмело окликнул он меня, когда я встала на пороге.
– Ну что ещё?!
– Э-э… извините! – Скромно произнёс он. – Я не хотел вас смутить, я…
Смутить? Меня? Ха-ха, ну да. Сам, бедняжка, смутился в десятки тысяч раз сильнее! И стоял красный, как рак, не зная, куда себя деть, и чувствуя себя непроходимым болваном и тупицей. Арно, рядом с ним, посмеивался, забавляясь от души над позором своего товарища.
И, видимо, моим позором тоже, потому что это я была пострадавшей стороной! Но коварная Жозефина знала, что делала. Теперь-то ни Арно, ни Жан Робер уж точно не пойдут за ней следом, и не будут смотреть, что делает она в комнате Габриеля Гранье! Думаю, скромняга Робер сгорел бы со стыда, если бы увидел, как я и впрямь достаю из-под подушки свои трусики…
Боже, до чего они смешные, эти мужчины!
Закрыв за собой дверь, я оставила обоих полицейских в коридоре, а сама стала оглядываться по сторонам в поисках дорожного чемодана Габриеля. Где он может быть? В шкафу? Шкаф совсем маленький! Даже странно, отчего так. Впрочем, что это я? Мужчинам вовсе не нужны такие огромные шкафы, как нам, женщинам! Им не нужно место под шляпные коробки и туфли, не нужен отдельный ящик под пояса и бесконечное количество нижнего белья и сорочек – у них всё гораздо проще! Господи, как же скучно они живут!
Чемодана в шкафу не обнаружилось, зато я нашла толстую сумку с рисунками. Ругайте Жозефину сколько хотите, но слишком она любила живопись, слишком, для того, чтобы не задержаться и не пролистать хотя бы один альбом…
В том, что Габриель Гранье имел редкий талант художника, мне удалось убедиться сразу же после первой увиденной работы. Господи, как они были прекрасны! Как и сам он, наверное. Я подумала, что влюбилась бы в него гораздо раньше, если бы увидела эти потрясающие картины.
Он, действительно, был пейзажист, рисовал акварелью. И у него было потрясающее видение цвета, я никогда прежде не встречала ничего подобного ни у одного из известных мне мастеров! Меня всю охватил какой-то странный трепет, когда я перелистывала страницы альбома одну за другой. Это словно какая-то магия! Право, даже странно, что он до сих пор не прославился на весь мир! С такими-то волшебными работами…
Поверьте, это не пустые слова влюблённой женщины, мнящей предмет своих мечтаний идеалом. Это объективное суждение эксперта, человека, который видел десятки тысяч картин, и превосходно разбирался в искусстве!
Габриель имел редкий дар. И мне невероятно жаль было оставлять эти рисунки здесь! Но с собой такую огромную сумку не унесёшь, это факт. С грустной улыбкой я пролистывала ещё один альбом, то и дело качая головой, и думая о том, насколько же сильно любит он меня, если без раздумий согласился бросить вот так запросто труды всей своей жизни!
Последний его альбом меня позабавил. Манера написания показалась мне уж больно знакомой! Подражал какому-то известному художнику, не иначе. Но даже в этом подражании была какая-то своя изюминка, поразительная уникальность, сразу бросающаяся в глаза! Ах, мой милый Габриель! Вернув альбом в сумку, я убрала её обратно в шкаф, и, поддавшись порыву, провела рукой по пиджакам, развешенным в ровный ряд. И жилеткам. Он всегда носил жилетки. Это было так мило! Улыбнувшись снова, я прижала к себе одну из них, вдыхая её запах – такой родной, такой знакомый. Сентиментальная Жозефина! Тратила драгоценное время на всякие глупости вместо того, чтобы заниматься делом!
Отругав себя за ненужное промедление, я снова огляделась в поисках чемодана. Он обнаружился под кроватью, куда я догадалась заглянуть в последнюю очередь. А время всё шло, шло и шло, я прямо чувствовала, как оно утекает сквозь пальцы! Благо, когда я нашла чемодан, всё пошло как по маслу – за подкладкой отыскался увесистый свёрток, и когда я развернула его, я здорово удивилась внушительной пачке купюр. Похоже, Фальконе и впрямь заплатила Габриелю баснословные деньги за свой портрет! Жаль, что мне так и не довелось его увидеть!
Едва я успела спрятать свёрток под блузку, как в комнату после короткого стука заглянул Арно. До этого я слышала, как они перешёптывались с Робером, видимо, решали, кому из них первому меня потревожить.
– Вы в порядке, мадам? – Спросил он меня, тоже чуть смущаясь.
– Нигде не могу найти свои трусики! – С деланной жалостью отозвалась я, делая ударение на последнем слове, чтобы бедняга ещё больше покраснел, и не думал лезть с вопросами, отчего я так долго копаюсь? – Да ну и чёрт с ними! Не единственные же они у меня! Пойду, надену другие! Благодарю вас за помощь, господа!
И я, пряча улыбку, оставила двух ребят со стыдливыми лицами гадать о том, правда ли мадам Лавиолетт прогуливалась без белья, или же это была одна из её бесстыдных шуток? Я подошла к лестнице и спустилась вниз, чувствуя, как усиливается моё головокружение с каждым новым шагом. Нет, нет, только не сейчас!
На первом этаже, рядом со стойкой Фессельбаума, я приметила Эрнеста и Витгена, которые о чём-то беседовали на пониженных тонах. Я думаю, они просили Ганса (или Фрица?) без промедления сообщать им, если Габриель Гранье вдруг появится. Чтобы они не заметили меня, пришлось быстро свернуть в нишу под лестницей. И, стоя там, я вдруг поняла, что мне вовсе не обязательно ждать, пока они уйдут и освободят проход, чтобы я смогла беспрепятственно выйти из отеля.
Томас упомянул за завтраком, что со стороны северного крыла имеется дверь чёрного хода, а от неё по узкой тропинке, вдали от посторонних глаз, без малейших затруднений можно добраться до леса. А там недалеко и до домика у реки.
Так будет намного лучше, подумала я, выглядывая из своего убежища. Так меня не увидит Фессельбаум, а его же первого спросят, когда станет ясно о моём внезапном исчезновении! И я, приняв решение, шагнула в тёмный коридор западного крыла, очень надеясь, что найду нужную дверь без проблем, и смогу выйти из отеля незамеченной.
У меня получилось с третьей попытки. Первая облюбованная мною дверь вела в прачечную, где я лишь чудом не наткнулась на Эллен, складывающую чистые простыни! – вторая дверь оказалась дверью в кладовку, где, слава богу, никого не было, ну а третья вела во внутренний двор.
Именно сюда тем страшным вечером на телеге, укрытой брезентом, доставили тело Селины Фишер. Я поёжилась от неприятных воспоминаний, а затем поёжилась ещё раз, из-за удивительного холода, охватившего всю меня с головы до пят.
Конец июля, чёрт возьми! Самый разгар лета! А я трясусь, как осиновый лист. Что же мне так не везёт? Вскоре я поняла, что дело вовсе не в погоде. На улице было не жарко, особенно после затяжных дождей, но и не до такой степени свежо, чтобы стучать зубами от холода.
У меня снова начался жар. Я вспоминала свои предыдущие обмороки, случавшиеся неожиданно и всегда в самый неподходящий момент, и искренне боялась, что не дотяну до того момента, когда из-за леса появится знакомая полянка и мост через реку. Я чувствовала, что могу свалиться в любую секунду, прямо в мокрую траву, пахнущую сыростью и влагой. И хорошо ещё, если в траву – упади я на мощёную мелким камешком дорожку, обязательно поцарапаю себе руки, или, не дай бог, лицо! Вон какие они острые, эти камешки…
Нет, так не годится! Уже оказавшись в лесу, уже свернув с парковой аллеи на узкую лестную тропинку, я поняла, что и шагу не смогу сделать больше. Перед глазами всё плыло, кружилось, деревья с тяжёлыми ветвями, поникшими из-за дождевых капель, пускались в пляс вокруг меня, а серое небо грозилось обрушиться на голову в любую секунду.
Единственное, что выручало меня, был свежий запах хвои. Он прогонял головную боль, и кровь не так шумела в висках. Я остановилась, растирая их кончиками пальцев, в надежде, что хоть так мне полегчает. Действительно, полегчало. Сойдя с тропинки, я прижалась спиной к длинной, тонкой сосне, и вдохнула запах смолянистой коры. Ещё легче. Чуточку. Но не настолько, чтобы идти дальше!
Господи, только бы не потерять сознание сейчас! Ну только не теперь, когда до счастья рукой подать! Он ведь ждёт меня там… он же надеется, что я приду, что не брошу его…
Я едва не разрыдалась от досады и отчаяния, а потом вдруг вспомнила про таблетки, что дал мне Хартброук. Они ведь до сих пор у меня! Я быстро опустила руку в карман юбки, и, к своему величайшему облегчению, вытащила ту самую пачку. Ричард, милый Ричард, я люблю тебя!
Не думаю, что это сильно поможет, но всё же лучше, чем ничего! Пожалуй, выпью две. Для верности. И запить-то нечем, как назло! В пору было хлебать воду из лужи, как герои детских сказок. Проглотив две таблетки, я попыталась убрать пачку назад, но, кажется, положила их мимо кармана, и они упали куда-то в траву. Я не стала их поднимать, потому что всерьёз боялась, что если нагнусь сейчас, то голова закружится так сильно, что обратно я уже не поднимусь.
Прижимая правую руку к ноющему виску, левой я придержала юбку, чтобы не запутаться, и решительно зашагала дальше. Вперёд, навстречу к моему счастью, которое ждало меня в домике у реки.
Или, навстречу к собственной гибели.
В этом я отчётливо убедилась, когда на тропинку, прямо передо мной, вышел русский журналист, Арсен Планшетов. Почему-то, взглянув на него, опасливо озирающегося по сторонам, я поняла – это конец.
XXII
– Вы…? – Произнесла я на выдохе, и не узнала собственного голоса. От болезни ли, или же от страха, он меня больше не слушался. Я невольно остановилась, боясь сделать лишний шаг навстречу этому человеку, этому… убийце? И поняла с ужасом, что сбежать у меня не получится. Я едва держалась на ногах, и не была уверена, что убьёт меня раньше: моя болезнь или этот психопат?
Отчего-то именно сейчас в моём воспалённом мозгу промелькнула одна старая мысль, выуженная мною из самых дальних закутков памяти: необычная для француза фамилия Февраль – само это слово, в русском языке является названием одного из зимних месяцев. Аналог нашему fevrier, если я не ошибаюсь.
Он придумал себе это имя в качестве псевдонима. И те друзья, о которых он говорил Габриелю, сделали ему поддельный паспорт на фамилию Февраль. Имя менять не пришлось, он и так был Поль, и как Поль де Плюи издавал свои статьи в парижской газете, к этому имени он привык, оно не было ему чуждым.
Далее: поезд, полночный экспресс из Парижа в Берн, на котором он сбежал от Эрнеста. Русский журналист даже не думал отрицать этого факта, да и глупо было отрицать – полиция наверняка уже давно проверила все списки пассажиров на наличие знакомых фамилий.
Далее: мадам Фальконе, и их загадочный обмен взглядами тогда, за столом. Я поначалу пыталась придумать этому оправдания – быть может, мадам Соколица, злая на Арсена, не желающего писать статью о её замке, нарочно пыталась разозлить его, дескать – я-то знаю, кто Февраль, а тебе не скажу! И ты упустишь такую сенсацию, жалкий репортёришка! Или, например, они могли быть любовниками, вот и переглядывались с видом заговорщиков, имея один общий секрет.
О, да, секрет у них, действительно, был. И состоял он в том, что Арсений Планшетов был серийным убийцей, а Соколица знала об этом.
Откуда? Очень просто. В день убийства Селины Фишер он не присутствовал на обеде. Он якобы ездил в город, но эту информацию не мог подтвердить никто, кроме него самого. Мадам Фальконе, по его словам, ездила вместе с ним, и являлась гарантом его алиби – возможно, на самом деле всё было чуточку по-другому. Возможно Фальконе встретила его уже в городе. То, что обратно они вернулись вместе – неоспоримый факт, я видела это собственными глазами – а что, если в сам город они ехали поодиночке? Что, если Фальконе уехала раньше, и встретила Арсена уже после того, как тот задушил Селину? На этом она могла сыграть, и этим могла руководствоваться, когда говорила, что знает, кто убийца.
«Это так очевидно», говорила она, «так очевидно, что даже странно, что никто об этом не догадался!»
Что ж, теперь я понимала, что она имела в виду.
Очевиднее некуда. Арсен Планшетов был одним из немногих, у кого не было алиби на момент первого убийства. Арсен Планшетов всегда оказывался там же, где и Февраль, мотивируя это тем, что пишет статьи о его криминальных «подвигах». Арсен Планшетов издавался под псевдонимом Поль де Плюи, а Февраля звали именно Поль, и никак иначе. И ещё: Эрнест сказал тогда, что у них было описание убийцы, под которое идеально подходил Габриель. Стало быть, высокий, хорошо сложенный брюнет? Помните, в самом начале, когда я взглянула на русского журналиста, меня удивило – как это у него такие тёмные глаза и чёрные ресницы при таких-то почти неестественно белокурых волосах! Краска, чёрт подери! Он наверняка пользовался краской, чтобы сменить свою внешность, и из брюнета, которого искали по всему Парижу, переквалифицировался в блондина!
О боже. Этот человек – убийца! Он убил двенадцать человек, одиннадцать из которых были женщинами! Беззащитными, молодыми женщинами…
И теперь он стоял напротив, в глухом, безлюдном лесу, и оглядывался по сторонам с опаской, не иначе, боясь, что его могут заметить, когда он набросится на меня. Мог бы не переживать, в эту часть парка мало кто заходил, разве что редкие визитёры одинокого речного домика? Но после случившегося убийства хижина у реки приобрёла зловещую репутацию, и влюблённые придут туда ещё не скоро, это пока ещё утихнет молва… Но не в ближайшее время, это точно. Напрасно Планшетов переживал.
Теперь уже ничто не мешало ему задушить меня, как и остальных, и положить цветок фиалки рядом с моим телом.
А я даже на помощь не позову: горло сдавил спазм, опять же, не знаю, что стало причиной – моя болезнь или мой животный ужас, поднимающийся из глубин души. Но всё это время я думала не о своей неизбежной гибели – куда больше я боялась за Габриеля. Боялась подвести его, не оправдать его надежд. Ведь когда я не приду, павшая жертвой хладнокровного убийцы, Габриель решит, что я передумала… Часом раньше, у меня в комнате, он грозился прыгнуть с балкона, ныне же ничто не мешало ему повторить судьбу бедной Матильды Хальскен и броситься в реку с моста. А какой у него ещё выход? Без денег сбежать не получится, дорога в отель для него закрыта, по окрестностям рыскает полиция, и наверняка на всех постах его уже успели объявить в розыск. Господи, он же пропадёт без меня!
И, так получилось, что страх за его жизнь, а не за свою собственную, отрезвил меня в одночасье. Жозефина перестала быть трусливой идиоткой, мелко дрожащей от страха и холода, Жозефина вдруг вспомнила о том, что всегда умела рассуждать трезво и непредвзято, несмотря на обстоятельства. Жозефина вспомнила про револьвер де Бриньона, который захватила с собой «на всякий случай». Видимо, мой час пробил.
Без малейших раздумий я достала револьвер из-за пояса, и навела его на здорово удивившегося Арсена.
– Ни шагу больше, или я выстрелю, – сказала я весьма убедительно.
Блефовала, разумеется! Не то, что я никогда не смогла бы выстрелить в человека из христианских соображений – о, нет! Я просто никогда прежде не держала в руках оружия, никогда не стреляла и понятия не имела, как это делается. То есть, я имела образное представление об этих убийственных механизмах, и догадывалась, что нужно спустить курок, вот только он отчаянно не желал спускаться, несмотря на все мои попытки. А их я предприняла немалое количество, потому что русский журналист, невзирая на моё предупреждение, осторожными шагами направился ко мне.
– Не подходите, чёрт возьми! – Воскликнула я, делая шаг назад.
– Жозефина, Жозефина, успокойтесь! – Мягко и вкратчиво заговорил он. – Что вы делаете, чёрт возьми? И откуда у вас оружие?!
– Не подходите ко мне, – простонала я, убедившись, что револьвер категорически отказывается стрелять – должно быть, сломался! – Не подходите, я убью вас!
– Вы не сняли с предохранителя, – почти с улыбкой сказал мне русский журналист. – Хотите покажу, как это делается? Только пообещайте для начала не делать глупостей!
С предохранителя? Ах, это, должно быть, вот этот маленький рычажок сбоку? Я нажала на него, и, скорее почувствовав, чем услышав короткий щелчок, вновь взвела курок, целясь в грудь мсье Планшетова, с пугающим хладнокровием.
– Так лучше? – Спросила я, сдув с лица выбившийся чёрный локон.
Что ж, это его, по крайней мере, остановило. Арсен выставил руки вперёд ладонями, демонстрируя свои добрые намерения, и сказал примирительно:
– Опустите оружие, и давайте поговорим спокойно.
– Мне куда спокойнее так, когда я могу быть уверена, что вы не задушите меня в следующую секунду, – призналась я. От чистого сердца призналась, ни секунды не лукавя.
– Жозефина, да как у вас совести хватило подумать, что я – это Февраль?! – Обиженно спросил он, качая головой, будто укоряя меня в этой несусветной глупости. – Я думал, я вам хоть сколько-то симпатичен, надеялся, что сумел произвести на вас впечатление! А вы!
Ещё бы рукой махнул в мою сторону, и разрыдался, право слово! Нет, серьёзно, ну что за спектакль он тут устроил?! Какие ещё обиды, какая ещё симпатия?!
Но, с другой стороны, а как ещё он должен себя вести, когда я держу его на мушке? Похоже, ему только и остаётся, что заговаривать мне зубы. Чем он и занимался, и, надо сказать, с большим успехом, потому что я всё ещё его слушала, вместо того, чтобы пристрелить без раздумий и бежать к Габриелю, пока сознание не покинуло меня.
– Жозефина, я не убийца, – сказал мне русский журналист. – Вас смутило то, что у меня нет алиби? Я клянусь вам, я был в городе часов с одиннадцати. В одиннадцать тридцать я отправлял телеграмму в Париж, полиция уже сделала запрос, и на почте этот факт подтвердили. Виттория всё это время была со мной – да, я знаю, сейчас она моё алиби уже не подтвердит, но вы же сами видели, как мы вместе с нею вернулись в отель около трёх часов дня! Я не убивал ту девушку, клянусь вам! Остальных, собственно, тоже. Я вообще за свои двадцать семь лет ни разу никого не убивал, даже дичь на охоте. Не по мне это.
Какие мы нежные! Интересно, а что бы говорил Февраль, окажись он под прицелом, в глухом лесу, без малейших шансов на спасение? Уверена, то же самое!
– Почему вы так странно смотрели на неё тогда, за столом? – Спросила его я. Зачем спрашивала? Неужели начала верить ему…?
– Потому что не мог простить ей её несусветной глупости! Это я сказал ей, что Февраль, вероятно, среди нас. Когда я узнал, кого именно убили, я сопоставил факты. Убийца сбежал из Парижа в Берн, а та бедная девушка была жгучей брюнеткой, молодой и симпатичной. И цветок, найденный при ней… Всё указывало на Февраля. Когда Виттория в очередной раз пришла ко мне с требованием написать для неё статью, я сказал, что у меня есть занятие поинтереснее, в связи с недавними событиями. Я надеялся, она отвяжется от меня, а получилось вон что! Она сделала из этого сенсацию, и не боялась хвастаться своими – моими – догадками за обеденным столом! Положа руку на сердце, я уже тогда догадывался, что убийца один из нас. Знаете, почему? Потому что Селина Фишер редко появлялась на других этажах, она была закреплена за нашим, и практически никогда оттуда не уходила. Я понимаю, это ещё ни о чём не говорит, но почему-то именно этот факт заставил меня задуматься – а что, если…? И я был просто в ярости от этой неприкрытой глупости, когда Виттория вовсеуслышанье заявила, что знает, кто убийца! Что она знала? Что она могла знать? Видела любовные письма нашего глупого Ватрушкина, и решила, что раз он добивался благосклонности Селины, то он и есть тот самый человек, задушивший её на мосту?! Господи, какой же она была глупой! Разумеется, я осуждал её. Я понимал, что её бравада смертельно опасна. Ведь если бы убийца и впрямь был среди нас, он принял бы эти подозрения на свой счёт. Поэтому я и злился на неё. Но это вовсе не значит, что убил её тоже я. Я всего лишь надеялся, что она задумается над моими словами, испугается, быть может. И скажет, что на самом деле никаких доказательств у неё нет. Вот чего я добивался. И, разумеется, я был в бешенстве и смотрел на неё так гневно, а она-то, наивная дурочка, думала, что мстит мне таким образом – дескать, обвела вокруг пальца проныру Арсена, который обычно всегда и обо всём узнаёт первым, какая она молодец!
Его слова звучали разумно. Но я всё равно никак не могла решиться, довериться ему, и опустить оружие. Я понимала, что если он и есть Февраль, то он сделает что угодно, дабы заставить меня потерять бдительность. Я не собиралась давать ему этого шанса.
Сама не зная зачем, я спросила:
– Вы… это ваш настоящий цвет волос?
– Простие, что? – Планшетов невольно рассмеялся, проведя рукой по этим самым белокурым прядям.
– У вас светлые волосы, – произнесла я, прекрасно понимая, до чего глупо звучат мои слова в этот момент.
– Да, я знаю, – не скрывая улыбки, отозвался русский журналист. – Бывает, смотрюсь в зеркало иногда, представьте себе.
– Вы сейчас явно не в том положении, чтобы язвить! Это ваш настоящий цвет или нет?
– Да, Жозефина, боже мой! А что вас смущает? Представители нашей нации, как правило, светловолосые, или русоволосые. Не вижу в этом ничего удивительного!
– У вас слишком чёрные глаза, – ответила я, вроде как, поясняя свои причины любопытничать.
– Ну, хорошо, я не на все сто процентов русский. Моя пра-пра-прабабушка была черкешенкой, а пра-пра-прадедед выкрал её из аула, женился на ней и увёз к себе. Это такая особенная народность, они живут, как правило, в горах, и отличаются чёрным цветом волос и смуглой ко…
– Я прекрасно знаю, кто такие черкесы, Планшетов, чёрт бы вас побрал! – Возмущённо воскликнула я, обидевшись, что он считает меня до такой степени необразованной. – К тому же, сейчас не самое подходящее время для уроков истории и географии, вы не находите?
– Ох, Жозефина, но я, право, и не знаю, что сказать вам больше, как ещё вас убедить! – Посетовал он, задумчиво покусывая губу. – Хорошо, хотите поделюсь кое-какими предположениями? Может, хоть так удастся переманить вас на свою сторону… Так вот, за завтраком мы все дружно грешили на Гарденберга, в то время как это явно не он! Я поговорил с метрдотелем, Фессельбаумом, это такой милый бородатый немец в ливрее, который обычно стоит за стойкой и регистрирует вновь прибывших. Дядя Селины Фишер, помните? Я спросил, не видел ли он мсье Эрика вчера, на что старина Ганс ответил, что Гарденберга в отеле не было, зато приехала его жена! Жена, понимаете? Он, скорее всего, поспешил уехать, чтобы та не застукала его в обществе мадам Франсуазы. Или, наоборот. Если я всё правильно понял, у Гарденберга недвусмысленный интерес к вашей подруге, и советы собственной жены в таких вопросах ему явно ни к чему. Вот он и сбежал. А собака, объевшаяся этих почек… право слово, никто не запрещал ей гулять именно у реки и именно в тот день! К тому же, я помню, что когда возвращался из города, Гарденберг как раз бродил по саду в поисках своего Троя. Он сбежал, когда мсье Эрик выпустил поводок по неосторожности, и некоторое время носился по парку, пока слуги пытались его поймать. Потом исчез. Куда? Никто не знает. Вероятно, захотел пить, побежал к реке, собаки эти вещи чувствуют. И там, у моста, объелся этой злополучной ивы. А потом преспокойно вернулся назад. Мы с Ватрушкиным сами его поймали, и привели мсье Эрику. Я даже пару сотен франков получил за спасение жизни этой длинноносой скотины. А Ватрушкину деньги ни к чему, у него своих хватает, поэтому Гарденберг подарил ему сигары. Дорогущие сигары, которые этот болван и курил позавчера вечером на балконе, когда застукал мсье Эрика, крадущегося к отелю. Он, вероятно, к вашей подруге шёл? Простите, если я ошибаюсь, и клевещу на добропорядочную женщину, я вовсе не имел намерения очернить её репутацию. Не обязательно, в конце концов, что она потакала его ухаживаниям. А если и потакала – откуда она могла знать, что он женат?!
Револьвер я всё же опустила. Мне понравились размышления Планшетова, точь-в-точь совпавшие с моими собственными – это, во-первых. Раз он на досуге размышлял о возможной причастности или непричастности Гарденберга, значит, он и впрямь был всерьёз озадачен поисками убийцы. Второе: я почувствовала приближающий приступ очередного недомогания, и окончательно растерялась, запутавшись в своих мыслях, страхах, пространстве и времени. И третье: у меня попросту устала рука. Эта металличаская штука была чертовски тяжёлой.
– Если хотите знать моё мнение, Поль Февраль – это Томас Хэдин. – Сказал Арсен, с облегчением взглянув на опустившийся револьвер.
– Томас?! – Изумилась я. На этот возглас сил у меня хватило, но на большее я оказалась неспособна. Но Арсену и не пришлось объяснять истинных причин моего недоумения, он сам всё прекрасно понимал, и согласно кивнул:
– Знаю, он слишком хороший. И вот именно поэтому я его подозреваю! Невозможно быть таким правильным, идеальным, рассудительным, умным и спокойным. Не существует идеальных людей, а у этого парня, похоже, и вовсе нет недостатков! Что-то тут не так.
Да, но… Ключ-то от квартиры в Лозанне по-прежнему лежал в моём кармане! Выходит, это ловушка, а та моя догадка была верна? Не по доброте душевной он это сделал, а исключительно ради того, чтобы отвести от себя подозрения? К тому же, Томас и Габриелю помог сбежать…
…или не Томас?
– Что вы здесь делаете в такое время? – Спросила я Планшетова, быстро перепрыгнув с одной темы на другую. – Совсем скоро обед, а вы, я гляжу, никуда не торопитесь?
– Хотел бы я и вас спросить о том же самом, но, боюсь, прозвучит лицемерно. Учитывая то, что я знаю ответ заранее. – Тут он улыбнулся мне растерянно, и я поняла, окончательно поняла – он не убийца.
– Это вы отвлекли полицейских и выпустили Габриеля?
– А кто же ещё, Жозефина? – Арсен изобразил короткий, невесёлый смешок, и покачал головой. – Неужели вы грешили на доктора Эрикссона, ну просто обожающего французов? Разумеется, я. Странно, что де Бриньон не подумал на меня в первую очередь. Впрочем, вероятно, он и подумал – это у меня хватило ума не попадаться ему на глаза и убраться подальше от «Коффина», когда там стало жарко.
А вот теперь я не только верила ему, но и устыдилась, что пару минут назад была готова в него выстрелить. И выстрелила бы, опрометчивая Жозефина! Вспомнив о своих отчаянных попытках спустить курок, я похолодела. Господи, я ведь могла его убить! Невиновного человека, друга! Единственного, кто не побоялся помочь Габриелю, помочь… нам! Да как бы я жила потом с этим?! Боже, как же хорошо, что на револьверах изобрели предохранители, а ещё лучше, что их создатели не сочли нужным оповещать о наличии этого механизма всяких там хладнокровных дилетанток вроде меня! Боже правый, я ведь едва ли не убила человека только что…
Руки мои задрожали, и Арсен, наконец-то, заметил, что со мною не всё в порядке. Переборов свою тактичность и хорошее воспитание, он сказал:
– Жозефина, вы неважно выглядите. С вами всё хорошо?
– Я простудилась, – жалобно ответила я, уже не собираясь поднимать своё оружие, когда он подошёл ко мне поближе и заботливо взял меня за плечи.
– Послушайте, – склонившись ко мне, негромко произнёс он: – вам нужно торопиться! Я вижу, вам совсем плохо… но, вы уж постарайтесь, Жозефина, хорошо? Он ведь ждёт вас! Я был в домике у реки, я как раз возвращался оттуда, когда мы встретились. А он всё ещё там. Поезд из города отходит в три часа, я раздобыл для вас поддельные паспорта, и уже отдал их Габриелю. Вам остаётся только успеть, Жозефина! Если вы сядете на этот чёртов поезд и уедете, считайте – вы спасены. Так идите же! Идите, не теряйте времени! А я вернусь в отель и попытаюсь создать панику, привлечь к себе как можно больше внимания, чтобы у них не возникло и мысли искать вас раньше времени.
– О, боже, – произнесла я. Других слов у меня не было.
До чего же это было непривычно, скажу я вам, получать от людей такое бескорыстное и искреннее добро! Я, за семь лет брака с Рене, привыкла только к подлости, боли, предательствам и изменам – тоже бескорыстным, между прочим, но меня это слабо утешало.
Освободившись от кошмарных оков своего брака, я узнала совершенно иную жизнь. Узнала, что может быть по-другому. Что девочка-горничная может безостановочно щебетать, с весёлой улыбкой на лице, спрашивая свою хозяйку, подойдёт ли ей синее платье для свидания, и сочетается ли с ним голубой шарфик в горошек? Узнала, что посторонний человек, Томас Хэдин, может оказаться способен на вполне искреннее сострадание (хотелось бы верить), и, разыграв сценку перед полицейскими, вложить ключ от квартиры в мой карман. Узнала, что мужчина может любить женщину нежно, пламенно и беззаветно, как любил меня Габриель, любить отчаянно, любить сильно, не жалея ради будущего с ней своих рисунков, трудов всей своей жизни… Узнала, что его друг, русский журналист Арсен, может вот так запросто взять и устроить побег для арестованного, ни на секунду не веря в его вину, раздобыть для него поддельные паспорта, и взять на себя трудности с полицей до тех пор, пока в три часа пополудни не тронется со станции последний поезд…
Я бы заплакала, если могла. Но кроме тяжкого, хриплого из-за болезни вздоха, у меня не получилось ничего. Прикрыв глаза, я уткнулась в плечо Арсена, и обняла его, пытаясь вложить в этот жест всю ту благодарность, которую испытывала. Он улыбнулся в ответ, погладил меня по волосам, и спросил:
– Скажите, Жозефина, только честно, прошу вас… Если бы не Габриель… как по-вашему, у меня были бы шансы завоевать вашу благосклонность?
Несмотря на подступающие рыдания, несмотря на усилившееся головокружение, я нашла в себе силы на ответную улыбку. И такой она была искренней, что Арсен не удержался и расхохотался в голос.
– По правде говоря, блондины мне всегда нравились больше, – созналась бессовестная Жозефина, которая даже будучи на грани жизни и смерти всё равно не упустит случая пофлиртовать с красивым мужчиной!
А потом этот красивый мужчина вдруг потянулся к шарфику, намотанному вокруг моего горла.
Непринуждённость мою как рукой сняло, я живо представила, как он душит меня этим самым шарфиком, и вдруг начала задыхаться. Горло сдавил спазм, и я закашлялась, а Арсен всего лишь поправил ворот моей накидки, подтокнув шарф под неё. Дело в том, что покая я бежала, один его конец размотался и волочился за мной по траве, а я этого не заметила. Спасибо русскому журналисту за заботу и внимание! Вероятно, мы и впрямь поладили бы с ним, не окажись рядом Габриеля – я об этом подумала ещё в самый первый день, когда увидела его за барной стойкой. И его смелый, почти наглый взгляд, посланный мне тогда, скорее понравился мне, чем наоборот. О да, я думаю, да, мы бы поладили, определённо.
Но теперь у меня был Габриель. Габриель, который ждал меня.
Габриель, к которому я должна была успеть.
Просто обязана.
XXIII
Но я опоздала.
К тому моменту, когда я приползла из последних сил, с трудом передвигая ноги, к домику у реки, внутри уже никого не было.
– Габриель? – Устало переводя дух, позвала я. – Габриель!
Мне нечем было дышать. Появилось ощущение, что я пробежала марафон под палящим солнцем, а не прошла ускоренным шагом пару сотен шагов. Меня бросало то в жар, то в холод, неумолимо кружилась голова, а сердце отчаянно колотилось где-то у самого горла, но оно замерло, когда я поняла, что Габриеля здесь нет.
Господи, напрасно, всё напрасно! Я изо всех сил пыталась удержаться в сознании, я так спешила, так торопилась к нему, и всё равно не успела! Бесконечное отчаяние охватило меня, и я, глупо посмотрев на револьвер, который всё ещё держала в руках, беспечно бросила его на столик. У меня и мысли не возникло в тот момент, что Габриель, быть может, ушёл не по своей воле… И про жаждущую мести Вермаллен я тоже как-то позабыла. А уж Февраль, до которого мне с самого начала не было дела, и вовсе вылетел у меня из головы!
Как глупа, как легкомысленна я была! Что ж, Жозефине, как обычно, не хочется признаваться в своих ошибках и просчётах, мне проще думать, что всему виною моя ноющая голова, моё нездоровье. Я и впрямь не могла нормально соображать. И если бы не таблетки Хартброука, глядишь, я и вовсе не дошла бы до этого домика, а повалилась бы без чувств где-нибудь посреди леса.
Откашлявшись, я вытерла пот со лба, и, поправив в очередной раз шарфик на шее, беспомощно огляделась по сторонам. Я словно надеялась, что он ещё мог быть где-то здесь, что я по каким-то причинам не увидела его раньше, но это тоже было наивно. Кровать в дальнем углу комнаты, тумбочка рядом с ней, широкий стол у окна, подоконник, выкрашенный белой краской… И всё. Больше ничего. Никаких признаков моего любимого мужчины. Я жалобно всхлипнула, и, теперь уже в сто первый раз поправила свой шарф. Мне показалось, что он душит меня. Сам душит, без усилий Февраля. Боже, как плохо мне было в тот момент! И плохо не только физически – душа моя рвалась на части, я не знала, где Габриель, я не знала, что с ним. Как нарочно, взгляд мой на незанавешенное оконце, выходящее на стремительную горную реку. Господи, нет! Он не мог прыгнуть вниз, не мог, не мог! Боже, почему он меня не дождался?! Я быстрыми шагами направилась к выходу, с твёрдым намерением добраться до моста. Может, он ещё там? Может, есть шанс успеть? А если нет, я уже не сомневалась – я прыгну следом. Что я буду делать без него?! Возвращаться назад? Бесполезно, меня наверняка уже хватились, и за попытку побега посадят под арест и депортируют назад во Францию, где и казнят. Бежать одной…? Куда я побегу?! Да, ключ от квартиры в Лозанне всё ещё при мне, но если Февраль – это Томас Хэдин, что я буду делать тогда? Тем более, и Арсен так считал, а у него, как у журналиста, чутьё было развито наверняка лучше, чем у меня.
Нет. Лучше уж самой. Легко и просто, и практически безболезненно – я разобьюсь в считанные секунды, это куда приемлемее, чем корчиться в муках удушья, когда вот этот самый шарфик сдавит мою шею… Я в сто второй раз поправила его, и ускорила шаг, но в следующую секунду резко остановилась, так и не дойдя до двери.
Какое-то мгновение я просто стояла там, широко раскрытыми глазами глядя на старую, покосившуюся дверцу прямо перед собой. В ней не было ничего особенного, просто я увидела кое-что боковым зрением, и теперь жутко боялась поворачиваться. Я не хотела смотреть на это. Не хотела видеть. Не хотела думать, не хотела приходить к ещё одним чудовищным истинам. Теперь уже я просто хотела прыгнуть с моста, независимо от того, сделал это до меня Габриель или нет.
Картина всё так же висела на стене, как и в день нашего первого визита. Девушка в белой простыне, помните, я говорила? В прошлый раз я, глядя на неё, заинтересовалась игрой света и тени на её обнажённой коже и в её тёмных волосах.
Или, простите, в её чёрных волосах. Теперь, думаю, это уточнение важно.
Ныне же меня заинтересовало совсем другое. Я медленно-медленно повернулась, проклиная себя за излишнее любопытство, но всё же повернулась. Иногда так бывает – не хочешь делать чего-то, знаешь, что хорошего из этого не выйдет, а всё равно делаешь, будто назло самому себе.
Мне нужно было взглянуть. Я должна была убедиться.
Какая, впрочем, разница? Я всё равно прыгну с этого чёртового моста! Теперь уж точно.
Когда я взглянула на картину во второй раз, я поняла, что эта девушка мне знакома. Это была Офелия де Вино, дочка нашего посла. Это именно она сидела полуобнажённой на белых простынях, стыдливо пряча лицо в ладонях. Я видела её сияющую улыбку между пальцами, я видела её блестящие глаза. И маленькую родинку на шее, которую я заметила ещё сегодня утром, когда Жан Робер показывал её фотокарточку… Это и впрямь была Офелия де Вино, но самым страшным оказалось не это.
С натуры её рисовал вовсе не Стефан Трауб, подающий большие надежды швейцарский пейзажист. И вовсе не Стефан Трауб так знакомо передал эти солнечные блики в её волосах.
Эту картину написал Габриель.
В ту секунду, когда я пришла к этому кошмарному по своей сути выводу, дверь за моей спиной скрипнула, и он зашёл в комнату своей обычной походкой, лёгкой и уверенной. Я резко обернулась в его сторону, до того резко, что волосы, высвободившиеся из причёски, больно ударили меня по лицу, а тяжёлые длинные серьги заколыхались в ушах.
– Жозефина! – С неподдельным облегчением воскликнул Габриель. Правда потом, заметив, какими глазами я смотрю на него, живо изменил выражение лица на более подходящее к случаю. Подозрительное.
Такого, какого я не видела у него прежде.
– Это ты, – дрожащими губами прошептала я. – Это был ты… Ты убил их всех…
Хуже всего было то, что Габриель, единственный, кому за прошедшие дни выдвигали эти чудовищные обвинения, не стал ничего отрицать. И придумывать себе оправдания он тоже не стал, хотя я так ждала от него этого! Господи, вы не представляете, как ждала я, что он развеет мои подозрения одной своей улыбкой! И если бы он сказал в тот момент: «Да как тебе в голову такое пришло?!» я ты тотчас же отбросила прочь дурные мысли, и, упав в его объятия, разрыдалась бы от облегчения.
Но он этого не сказал.
Он лишь спросил с усмешкой:
– И чем же я себя выдал?
Значит, всё-таки, правда? Господи, нет! Не может быть, не может быть, Господи! Это не мог быть он, это какая-то ошибка, это…
Боже мой.
Мне не могло, просто не могло так фатально не везти с мужчинами!
– Рисунок, – ответила я сдавленно, кивнув в сторону картины на стене. – Это ведь Офелия де Вино? Одна из твоих жертв?
– Легкомысленная девчонка, – прокомментировал Габриель. – Незабудка! Она обожала голубой цвет. И жизнь её оказалась такой же скоротечной.
Я зажала рот ладонью, и сделала шаг назад. Поздновато для отступления, вы не находите? Но, увы, слишком поздно я поняла, что за чудовище этот человек. Человек, который стоял сейчас передо мной и улыбался, как ни в чём не бывало.
– Как ты поняла, что картину написал я? – Спросил Габриель с лёгкой ноткой недоумения. – Я же сам сказал тебе в тот день, что это работа Трауба, чтобы не возникло лишних подозрений.
– И ты думал меня обмануть?! Меня?! – Я невесело усмехнулась. – Я достаточно хорошо разбираюсь в искусстве, чтобы узнать мастера по работе! В твоём случае это оказалось проще простого. Тебя выдала твоя чёртова неповторимость, Габриель, твой невероятный талант и твой удивительный стиль! Я видела альбомы у тебя в комнате. Я видела картины, похожие на эту, исполненные в той же цветовой гамме.
Я тогда решила, что он подражал какому-то известному художнику, а на самом деле это было не так! Я понимала, что уже видела похожие работы, но всё никак не могла вспомнить где. В домике у реки! Когда я увидела её в первый раз, я ещё не знала, как выглядит Офелия де Вино, и не могла сопоставить одно к другому. Господи, какой дурой я была!
А Габриель, наоборот, сказал:
– А ты оказалась ещё умнее, чем я думал, Жозефина!
Да уж, умнее. Умудрилась влюбиться в серийного убийцу, умудрилась лечь к нему в постель, и хотела бежать с ним…! Единственный вопрос, который волновал меня теперь – как далеко я бы убежала? Когда он планировал убить меня? Или он не планировал? Или он, действительно, был нормальным человеком в какие-то моменты своей жизни, а в полнолуние, например, становился одержимым, как в страшных сказках Эдгара По? Как… как вообще мыслит этот человек? Когда-то мне казалось, что я могу понять логику убийцы, и поэтому я спросила:
– Зачем…? Зачем всё это было, Габриель? Зачем ты убил их всех?
А может, у него, как и у меня, был какой-то свой мотив? Может, прав был Гринберг, когда говорил, что некоторые из них заслуживали смерти? Может, никакой он не психопат, а просто отчаянный, потерянный и несчастный человек, такой же, как я?
Я до последнего не верила в худшее.
Я всё ещё надеялась спасти свою любовь, которую недавно обрела.
Боже, я всё ещё на что-то надеялась!
Ровно до того момента, как он сказал:
– Они были красивые, Жозефина. Только и всего.
О, нет, я, видимо, всё же недостаточно умна для того, чтобы понять ход мыслей этого человека! И я, действительно, в полнейшем недоумении уставилась на него, делая ещё один незаметный шаг назад. Куда я пятилась? Куда собиралась бежать? Выход из домика у реки был один, и его загораживал Габриель, прижавшийся спиной к двери и скрестивший руки на груди. Наблюдая за моим страхом, он улыбнулся и покачал головой.
– …но не такие красивые, как ты, Жозефина!
Это, конечно, здорово, что вы признаёте мою привлекательность, мсье Февраль, но в данный момент меня это ничуть не утешает! Я продолжала смотреть на него со всё тем же выражением бесконечного разочарования и боли, и отходила назад до тех пор, пока не упёрлась в широкий дубовый стол. Дальше бежать было некуда.
– Мне так жаль, любимая… – Произнёс он, судя по всему, вполне искренне. По крайней мере, в голосе его я уловила искреннюю печаль. Или я и в этом ошиблась? – Жаль, что всё так получилось… Ты не должна была узнать. Господи, ну почему ты у меня такая любознательная? Будь ты чуточку глупее, всё вышло бы как раз так, как я и хотел.
– А как ты хотел? – Еле слышно спросила я, вжимаясь в этот чёртов стол, будто надеясь, что он исчезнет куда-нибудь, и я вместе с ним.
– Я хотел сбежать с тобою, Жозефина. И быть с тобой до конца дней. Ты была бы моей музой.
– А периодические убийства женщин были бы твоим милым хобби?! – Воскликнула я звенящим от отчаяния голосом. Он дрожал, как и моя душа, бьющаяся в агонии, точно птица, пойманная в силок. Я не знала, что мне делать. Я не знала, как мне жить дальше. Я не знала, чего боялась больше: самого Габриеля, или очередной ошибки, которую меня угораздило совершить.
– Мои милые хобби ни в коей мере не касаются! – Чуть грубовато ответил он, и нахмурил брови.
Я поднесла к губам теперь уже обе руки, изо всех сил стараясь не закричать. А мне хотелось, боже правый, как мне хотелось! Упав на колени, визжать в голос, схватившись за голову. О, нет, господи, нет! Он же был таким… чутким, нежным, заботливым! Он всегда так внимательно смотрел на меня, он ловил каждый мой взгляд, он сдувал с меня пылинки, он любил меня! Неужели всё это было притворством?
Подняв глаза, я попыталась, собрав в кулак остатки воли и сознания, попыталась заглянуть в его лицо, попыталась понять… И, собственно, поняла.
Это не было притворством, вовсе нет. Он соблазнил меня вовсе не для того, чтобы красиво убить в конце, поставив тем самым точку в нашей с ним истории.
О, нет. Всё было по-настоящему.
Просто глупую Жозефину угораздило влюбиться в убийцу!
И – о, да! – Габриель Гранье вовсе не был нормальным. Сейчас я это отчётливо это поняла. Эти его плавные движения, эта странная манера при разговоре чуть отклонять голову назад, и этот взгляд его… то, как он посмотрел в мои глаза при первой встрече… По-хорошему, уже по одному этому взгляду следовало бы всё понять. Он ведь и впрямь будто в душу заглядывал, и, кто знает, о чём он думал в тот момент? Представлял меня мёртвой, с фиалкой на груди? Или мыслил как обычный парень, а вовсе никак убийца, и думал, что он бесконечно меня любит?
– Ну и что теперь, Жозефина? – Спросил Габриель, устав от этого молчания и моих пронизывающих взглядов. – Что прикажешь с тобою делать?
Сердце моё, с каждой секундой бьющееся всё медленнее, в тот момент, кажется, и вовсе остановилось. Я смотрела в эти светло-зелёные глаза, глаза убийцы, такие родные, такие загадочные – загадочные ещё больше после того, что я узнала о нём. Смотрела, и понимала, что пропадаю. Неужели он давал мне право выбора? Он… испытывал меня? От этого голова моя закружилась ещё сильнее. То есть, он… не собирается меня убивать?
Вспомнились его ласковые, нежные слова, когда он говорил, что никогда не обидит меня, никогда не посмеет причинить мне вреда… И сердце моё разрывалось на части, обливалось кровью, и категорически отказывалось биться дальше.
Особенно, в тот момент, когда я поняла, что у нас всё ещё есть шанс.
При условии, конечно, что я добровольно соглашусь связать свою жизнь с убийцей и жить в страхе когда-нибудь стать одной его из следующих жертв. Его фиалкой.
Но, в то же время, моя глупая любовь никак не желала умирать. Я смотрела на него, и вспоминала, с каким упоением Габриель рассуждал о живописи, с каким трепетом говорил, что любит меня и готов ради меня отказаться от своей карьеры художника, вспоминала, как он целовал меня этими нежными губами, вспоминала, каким он был страстным…
И понимала, что я не могу без него.
За те короткие дни, что мы были знакомы, между нами успела установиться какая-то особая, невероятная связь. Взять хотя бы эту мою догадку с ландышем для Габриэллы – я ведь не говорила ему ни слова об этом, только подумала. Мы мыслили одинаково! Я была точно такая же, как он.
Вспоминая того же Эдгара По с его фантастическими историями, Жозефина в тот момент оказалась перед выбором – продать свою душу дьяволу, или… или остаться совсем одной на стороне добра, несчастной до конца своей жизни и бесконечно одинокой. И, знаете что? В тот момент тёмная сторона Жозефины ни единой секунды не сражалась со светлой.
Не было ни малейших сомнений. Вообще никаких. Решение пришло само собой, легко и быстро. И сердце моё, кажется, стало биться чуть сильнее, а дыхание нормализовалось на несколько секунд. Их хватило на то, чтобы сказать хрипло:
– Это ничего не изменит между нами, Габриель. Я… я люблю тебя таким, какой ты есть.
Какими глазами он на меня смотрел! Это невозможно передать, невозможно объяснить. В них было всё, начиная с безграничного изумления, заканчивая безграничным, бьющим через край счастьем, вперемешку с облегчением. Он боялся быть непонятым, боялся, что я назову его чудовищем и сбегу, он ни на секунду не допускал мысли, что я смогу понять его! А я, осознав в один момент, что попросту не смогу никуда сбежать, просто стояла напротив, всё ещё опираясь о стол, чтобы не упасть. И чувствовала, как по щекам моим бегут слёзы.
Жозефина плакала. Господи, это становится дурной тенденцией – уже второй раз за прошедшую неделю! Но сейчас она не стеснялась своей слабости, не боялась показать этого – ей было всё равно. Жозефина признала своё поражение. Для Жозефины больше не было пути назад. Жозефина потеряла себя в ту секунду, когда приняла самое жуткое в своей жизни решение.
А Габриель всё так же продолжал смотреть на меня широко раскрытыми глазами, и всё никак не мог поверить в мои слова. Я сказала, что люблю его. Я, наконец-то, произнесла эти заветные слова! Думаю, это удивило не меньше, чем тот факт, что я признала его… хм… недостатки. Но я и на этом не стала останавливаться, не прекратила удивлять его.
– Это я убила Иветту Симонс, – сказала я, уже давно убедив саму себя, что именно так всё и было. Иветта умерла из-за меня, по моей вине, это факт.
– Что…?
– Иветта Симонс, одна из жертв, которую приписали тебе. – Подумав, что на его языке до него дойдёт лучше, я пояснила: – Чертополох.
– Ах, та блондинка? Но… ты?
– Вот именно, блондинка. А полиция даже не обратила внимания на то, что до смерти Иветты Февраль убивал исключительно брюнеток! Цветка на теле оказалось достаточно для меня, чтобы прикрыться твоим именем. Я не хотела забирать у тебя славу. Прости.
– Но… зачем? – С невероятным удивлением спросил меня серийный убийца и психопат. Действительно, зачем, Жозефина, ты убила ни в чём не повинную женщину? Я ответила ему его же словами:
– Она была красивая.
Вот и думай теперь, кто из нас ненормальный! И Габриель, видимо, всерьёз озадачился этим вопросом.
– К тому же, она была любовницей моего мужа, – ответила я, решив не пугать его своим хладнокровием. Хотя, не думаю, чтобы что-то могло напугать такого человека, как он. Просто я не знала, как он отнесётся к этому. Он мог как с восторгом упасть передо мной на колени и начать молиться на мой лик, так и задушить меня в следующую же секунду, сочтя недостойной жизни.
– И ты решила… избавиться от неё, а вину скинуть на меня? Чтобы на тебя не пало подозрение?
– А что, плохой был план? – Я недоверчиво пожала плечами. – Никто так ни о чём и не догадался.
Ну, практически никто. Эрнест догадался, но мы же не будем вспоминать о нём в такой момент?
– Господи, Жозефина…! – Только и сумел произнести Габриель. И, качая головой, продолжил смотреть на меня так же странно. Я понятия не имела, что означал этот его взгляд, я не могла разгадать. Голова у меня кружилась так, что я вообще ничего не соображала.
Рад он этому, или что? Или, быть может, обиделся, что я посмела прикрыться его именем?
А потом он выдохнул томно:
– Моя Жозефина! – И, сорвавшись со своего места, подбежал ко мне, и, прижимая меня к столу, стал целовать мои губы. И ныне у этих поцелуев был вкус безнадёжности. Не было больше никакой нежной любви, она схлынула, оставив после себя всё ту же беспроглядную чёрную тьму. – Я люблю тебя, как же я тебя люблю! Ты… ты необыкновенная! Ты моя муза! Любимая моя, единственная! С первого взгляда я понял, что ты не такая, как все… женщина-загадка… женщина-мечта… Я люблю тебя, моя Жозефина! Я люблю тебя! – Страстно приговаривал он в перерывах между поцелуями.
Я прикрыла глаза, откидывая голову назад, и облокотилась левой рукой о стол, давая ему время насытиться мною. Я всё ждала, когда же его руки сомкнутся на моей шее, или натуго затянут шарф, но этого не произошло. Он целовал меня, целовал, не прекращая. И когда он потянулся к моему шарфу, я замерла в ужасе, превратившись в один большой оголённый нерв. Я трепетала. Я чего угодно ждала от него, но Габриель лишь усмехнулся, и, размотав шарф, отбросил его в сторону, и уже ничто не мешало ему покрывать нежными поцелуями мою шею. И, знаете, что?
В этом чувстве неминуемой опасности, в этом леденящем душу страхе было что-то… что-то, невероятно возбуждающее. Наверное, это крайняя стадия извращения, если я в ту секунду ещё сумела получить удовольствие от его поцелуев, в последний раз.
А потом я взяла в правую руку лежащий на столе револьвер, приставила его к груди Габриеля и хладнокровно спустила курок.
XXIV
Когда я говорила, что не сомневалась ни секунды, между светом и тьмой, я с самого начала выбрала свет. Но никакого света у меня не будет без Габриеля, и я это прекрасно знала.
И этот выстрел, оглушительно прогремевший в тишине заброшенного домика, оборвал не только его жизнь, но и мою тоже. Я понимала, что недолго продержусь после того, что сделала только что. И, тем не менее, пошла на это осознанно. Всё равно пошла на это. Всё равно убила его.
Искренне надеюсь, что никто из вас никогда не узнает, каково стрелять в сердце человека, которого любишь, и который любит тебя. Не то, чтобы я целилась прямо в сердце, я до последнего так и не разобралась, как работает эта металлическая штука, но получилось у меня хорошо. В этот раз холодный курок револьвера поддался без малейших усилий, а вот в следующий, когда я приставила холодное дуло к своему виску, вообще ничего не получилось. Револьвер отказывался стрелять. Вместо громкого выстрела, обязанного покончить с моей жизнью раз и навсегда, прозвучал лишь сухой щелчок, и ничего больше. И о причинах можно было только догадываться – неужели в барабане был всего один патрон? Или, быть может, порох отсырел? Или ещё что-то? Я, на всякий случай, попробовала ещё раз, и ещё, но выстрелов, по-прежнему, не последовало.
Клянусь вам, я не боялась в тот момент, и не медлила ни секунды. В первый раз, восемь лет назад, решиться на самоубийство было страшно. Во второй раз – уже не так. А в третий это и вовсе напоминало какое-то насущное дело, которое давно следовало сделать, да всё руки не доходили. Последнюю стадию отчаяния я уже прошла, так что перспективы скорой гибели меня не пугали ничуть.
Страшно стало, когда револьвер не выстрелил. И когда Габриель, схватившись за грудь, рухнул к моим ногам, вот в ту самую минуту меня охватил парализующий, ледяной, животный ужас. Потому, что когда я стреляла в него, я думала, что я всего этого не увижу – не увижу, как он будет умирать.
Но чёртов револьвер де Бриньона отказался стрелять дважды! И я, измученная и еле живая от ужаса, отчаяния и боли, опустилась на пол рядом с Габриелем. Я не знала, что мне делать теперь. Я потерялась. Я была напугана, а ещё мне было очень больно. Так больно, что и словами не передать.
Особенно невыносимой эта боль показалась мне в тот момент, когда Габриель, поморщившись, поднял на меня взгляд. Вполне ещё осознанный взгляд. Последний взгляд.
– Жозефина! – Моё имя стоило ему небывалых усилий, но Габриель всё равно произнёс его. И улыбнулся. И до того жуткой казалась мне эта предсмертная улыбка, что я не выдержала, зажмурилась. А он, дотянувшись до моей руки, сжал её в своих окровавленных ладонях, и прошептал: – Я знал… знал, что ты погубишь меня… Моя Жозефина…
Короткое «Je t'aime» сорвалось с его губ, и это были его последние слова. Потом он затих, а его ладони всё так же продолжали сжимать мою руку. И я не смела отнять её, не смела отстраниться ровно до тех пор, пока не поняла, что он больше не дышит. Слёзы застилали мои глаза, я не видела ничего вокруг, и уже практически ничего не понимала. Перед глазами стояло лицо Габриеля, уже неживое лицо, искажённое предсмертной гримасой боли, но всё равно такое родное и прекрасное… И даже когда я крепко зажмурилась, в отчаянии схватившись за голову, этот образ никуда не исчез. Он никогда не исчезнет. Он будет преследовать меня вечно. Равно как и осознание того, что я сделала, какой поступок совершила, предав его, предав саму себя, предав нашу любовь.
Вероятно, я была не права. Но, клянусь вам, я не смогла бы жить рядом с убийцей! Может, я недостаточно любила его, чтобы простить эти «милые» хобби? Может, и так.
Но почему-то, где-то в глубине души, светлая часть меня говорила, что я поступила правильно. Убийца должен быть наказан. Этого требовал тоненький весёлый голосок Селины в моей голове, этого требовала простодушная и милая улыбка Габриэллы Вермаллен…
Теперь я тоже убийца. И меня тоже ожидает расплата. Я убила человека только что. Человека, которого успела всем сердцем полюбить. Человека, с которым хотела быть рядом до конца своих дней. И этот человек, умирая на моих руках, сказал, что любит меня. Всё равно любит, несмотря на то, что я сделала.
Получить его прощение перед смертью – это немного успокаивало. Всё лучше, чем раздосадованное: «Как же ты могла, Жозефина?» Но, в любом случае, через минуту это уже не будет иметь смысла.
Сдаваться властям я не собиралась.
Поэтому, сев на колени перед Габриелем, я склонилась к нему, вглядываясь в черты его лица. Затем, всё так же заботливо, как и прежде, поправила его разметавшиеся волосы, упавшие на лоб. Затем коснулась его губ в прощальном поцелуе, тех самых губ, что целовали меня так страстно ещё минуту назад. Они были всё ещё тёплые.
– Я тоже люблю тебя, Габриель, – сказала я ему тихо. Я не знала, слышит он меня или нет, но надеялась, что слышит. А ещё я жалела, бесконечно жалела, что не сказала этих заветных слов раньше. Он ведь так ждал моего признания в ту нашу ночь, так надеялся на взаимность… он бы стал в десятки раз счастливее, если бы я перестала изображать из себя бесчувственную ледяную твердыню! Господи, ну что мне стоило не молчать?!
Если бы я планировала жить дальше, в ту секунду я поклялась бы себе, что отныне и впредь никогда больше не буду скрывать свои чувства! Не буду стесняться выражать их, подбирая нужный момент, потому что этого момента может и не представиться! Ну почему, почему для того, чтобы я осознала это, ему пришлось умереть?! Почему я была такой глупой раньше?
Тяжело вздохнув, я поднялась на ноги, и, вытерев слёзы, из-за которых уже ни черта не видела, поспешно направилась к выходу. Уже у самой двери я поняла, что не уйду далеко – во-первых, самочувствие моё и до этого момента оставляло желать лучшего, а, во-вторых, близилась истерика. А истерик со мной не случалось с тех самых пор, когда Луиза вытащила меня из ванной, еле живую и уже практически обескровленную. Я кричала, что не хочу больше жить, и всё равно убью себя, несмотря на её попытки меня спасти, а моя любимая подруга обнимала меня, и шептала тихим голосом, что всё будет хорошо.
Ни черта не будет хорошо. У меня уж точно. Фатальное невезение – мой конёк. И как могла я забыть об этом?
Превозмогая собственную слабость, я вышла-таки на улицу, и, как могла быстро, заспешила к тому самому мосту над горной рекой. Уж если револьвер отказался стрелять, то бегущие внизу ледяные воды наверняка не откажутся принять меня в свои объятия, как приняли другую такую же отчаявшуюся девушку много лет назад. Но, по правде говоря, я думала, что острая боль на сердце убьёт меня раньше.
Можно ли умереть из-за одного лишь нервного потрясения? Доктор Фрейд писал что-то об этом? Не помню. А голова моя уже ничего не соображала. Я снова начала задыхаться, но это не помешало мне, остановившись на мосту, подойти к перилам и глянуть вниз. Боже, какое облегчение я испытала, увидев эти шумящие воды и острые камни внизу! Вы себе не представляете, как легко сделалось мне в тот момент. Оставалась парочка простых движений, а уж на них-то, я надеялась, сил у меня хватит. Я даже улыбнулась, не сдержав собственной радости.
Да, да, сейчас всё наконец-то закончится! И я вновь приду к тебе, милый Габриель, я найду тебя там, и тогда мы снова будем вместе! Приподняв юбку, я перекинула через перила сначала одну ногу, а затем другую, и встала с той стороны. И снова я ни секунды не колебалась, прежде чем сделать этот последний шаг в пустоту. Такое пренебрежительное отношение к собственной жизни могло бы показаться удивительным, но я клянусь вам, я не хотела жить без Габриеля! И уж точно не смогла бы, после того, что совершила.
Поэтому я, сделав последний вдох, с чувством невероятного облегчения и свободы, разжала ладони, лежащие на холодных перилах, влажных от воды. Я закрыла глаза, потому что из-за слёз красота пейзажей внизу и так сливалась в единую серую массу, я закрыла глаза и приготовилась к чудесному ощущению полёта, когда уже ничто не держит тебя здесь – ни тебя, ни твою душу…
А в следующую секунду в мою мечтательную и лихорадочную реальность грубо вмешались. Чьи-то сильные руки обхватили меня за талию, не давая упасть, и по такому знакомому запаху дорогого одеколона я узнала Эрнеста. Этот чёртов ублюдок снова хотел всё испортить! Я была уже на грани обморока, но безумная ярость дала мне сил, и я попыталась оказать сопротивление. Я надеялась, что он не удержит меня по ту сторону перил, и я всё-таки сорвусь вниз, но хватка его была на удивление крепкой. Учтивая наше неравенство в силе, он не оставил мне шансов, и, в следующую секунду я уже была на мосту, в его железных объятиях. Чёртов мерзавец, да кто дал ему право вмешиваться в мою жизнь?! Или, постойте, он спешил сделать это наверняка ради того, чтобы потом обвинить меня в очередном убийстве – для этого же он меня спас?!
А я-то думала, что хуже уже не будет…
– Жозефина, – простонал он, прижимая меня к себе. – Жозефина, чёрт бы тебя побрал, что же ты делаешь?! Глупая, глупая девчонка! Зачем?!
Зачем? Он ещё спрашивал?! Затем, что я не хотела больше жить! Без Габриеля это всё равно будет не жизнь, не говоря уж о том, что я вряд ли смирюсь когда-нибудь с тем, что сделала вот этими самыми руками, ныне перепачканными в крови. Но я не собиралась ничего объяснять де Бриньону. Я лишь хотела попросить его отпустить меня, но, увы, уже и этого не могла сделать. Я пошатнулась, и упала бы, если бы он в очередной раз меня не удержал.
И вновь всё кружилось вокруг в лихорадочном танце – деревянный мостик, горы, водопад, и маленький домик у реки, где остывало тело моего любимого… И Жан Робер, бледный и перепуганный до полусмерти здоровячок Жан, с чьего лица то ли от ужаса, то ли от искреннего волнения схлынул привычный румянец. Я ещё слышала, как он спрашивал:
– Мсье комиссар, что случилось?! Мы нашли Гранье в хижине, он… он…
Ну давай же, сукин сын, скажи это! Скажи, как всё было на самом деле. Ты же видел его кровь на моих руках, и прекрасно понял, что всё это означает! Скажи, не молчи, ты ведь только поэтому не дал мне прыгнуть! Чтобы было кого обвинить во всех этих убийствах, чтобы получить похвалу от начальства и обеспечить себе дальнейшее продвижение по карьерной лестнице, ценой моей жизни. Скажи, чёрт подери, почему ты молчишь так долго?
И он сказал.
– Это я убил его, Жан.
А потом я потеряла сознание.
XXV
По правде говоря, не думала я, что мне суждено будет очнуться хоть когда-либо. Да я этого и не хотела! Длительное, тягучее беспамятство, в котором не было места боли, казалось гораздо предпочтительнее реальности, куда меня всё-таки вынудили вернуться.
Вот только случилось это спустя лишь пять дней.
Пять долгих дней полнейшего забытья. Думаю, они пошли мне на пользу. Если не моей израненной душе, то моему телу точно. Так сказали доктора. Да-да, именно доктора, во множественном числе: Ричард Хартброук и вредный швед Эрикссон сражались за меня из последних сил, с боем отвоёвывая мою жизнь у коварной пневмонии. А Арно, тот самый молодой парень из парижской полиции, им изо всех сил помогал. Он состоял экспертом в команде Эрнеста, и имел неплохое медицинское образование. Ричард сказал потом, что его помощь так же сыграла свою роль в том, что болезнь прошла так быстро, и практически без последствий.
Быстро? Без последствий?! Пять дней – это быстро, по его мнению? И то, что я всё ещё не могла пошевелиться, разве не было последствиями? Когда я попыталась возмутиться, Эрикссон осадил меня, заверив, что обычно бывает гораздо хуже. И, в своей извечной грубоватой манере, перечислил несколько случаев из своей практики, когда от воспаления лёгких люди умирали на третий, а то и на второй день.
Да, он говорил грубо, но всё же не слишком. Или, правильней будет сказать – не так грубо, как обычно. Создалось впечатление, что он за меня искренне переживал – удивит вас, если я скажу такое? Не знаю, меня вот удивило, я категорически не желала воспринимать этого мизантропа в качестве заботливого дядюшки, но Франсуаза сказала потом, что если бы он не пожалел для меня своих элитных лекарств, припасённых для особ королевской крови, то Хартброук с Арно ни за что меня бы не вытащили. Я на это ответила, что, наверное, Эрикссону нужно за них заплатить, но вредный швед такими глазами посмотрел на меня, что стало ясно – я его смертельно обидела. «По-вашему, я не давал клятвы Гиппократа, мадам?», ехидно спросил он. «По-вашему, я не спас бы вас, будь вы не в состоянии отблагодарить меня?!», и, далее, уже Хартброуку: «Чёртовы французы! Ричард, я уже говорил тебе, как ненавижу французов?! Хуже могут быть, пожалуй, только русские, но те хотя бы лягушек не едят!»
На этой фразе я невольно рассмеялась, хоть мне и было не до смеха в ту секунду. А Эрикссон, всё ещё качая головой и строя из себя обиженного, развернулся и вышел. Я бы кинулась вдогонку, клянусь вам, если б только могла встать! Мне показалось, что я смертельно его обидела, и я хотела сделать что угодно, лишь бы искупить свою вину. По одному его слову я упала бы на колени – на глазах у всего «Коффина», если бы он попросил!
Но, как выяснилось, обиделся доктор всё же не смертельно – на следующее же утро он вернулся, и вполне дружелюбно поинтересовался о моём самочувствии. Эрикссон вёл себя непринуждённо, будто не я оскорбила его своими подачками вчера вечером, и будто не он сам рассуждал вчера о нестерпимой ненависти к нашей нации – так, словно ничего не случилось! И только тогда до меня дошло, что, похоже, человек-то он, по сути, неплохой и уж точно не злой, просто у него отвратительный характер, вот и всё. Поймав его за рукав, я привлекла его внимание, и, улыбнувшись так благодарно, как только могла в тот момент, сказала большое спасибо. И тогда произошло невероятное – вредный швед тоже улыбнулся. За всё то время, что мы были с ним знакомы, я ни разу не видела, чтобы он улыбался. «Пожалуйста, мадам Жозефина», – сказал он, впервые обратившись ко мне по имени, – «но только чур в следующий раз, когда Хартброук пропишет вам постельный режим, давайте договоримся, что вы не будете гулять под дождём! Хорошо?»
Хорошо. Не слишком я поняла, причём здесь какие-то прогулки, тем более, ни под каким дождём я отродясь не гуляла, но выяснилось это позже. Когда стало понятно, что абсолютно никто из постояльцев «Коффина» не знает о моей причастности к убийству Габриеля Гранье.
Эрнест взял всё на себя, позаботившись о том, чтобы моё имя в этой истории не упоминалось. И я, признаться, не поверила в это, когда узнала. С какой стати ему меня покрывать?! Неужели он не видит своих очевидных выгод? Если предположить, что я – это Февраль (а доказательств этому, при желании, насобирать можно предостаточно), то яснее картины не придумаешь. Я решила сбежать, осознав, что меня вот-вот раскроют, и заручилась помощью своего любовника, несчастного Габриеля Гранье. Который раскрыл меня и сказал, что не намерен больше содействовать, и тогда я, из страха, что он сдаст меня властям, убиваю его в домике у реки. А уж этого доказывать никому и не пришлось бы – его кровь на моих руках, и револьвер, оставленный на месте преступления говорили сами за себя.
Эрнест, похоже, был очень глуп, если не додумался до такого чудесного решения всех своих проблем! Ведь никто из его начальников не усомнился бы, услышав уже знакомое имя Жозефины Бланшар, этой порочной женщины, этой прирождённой убийцы! И тогда де Бриньона ждала бы слава, едва ли не мировая слава, за то, что он собственноручно задержал серийного убийцу, державшего в страхе всю Францию и Швейцарию!
Почему он этого не сделал? Я не понимала.
Ну, или, хорошо, не хотела понимать.
И даже то, что он все эти пять дней провёл у моей постели, не натолкнуло меня ни на какие мысли. Его-то я и увидела первым, в тот момент, когда открыла глаза. Его усталое лицо, измученное, осунувшееся, небритое, и какое-то несчастное. Скажите на милость, и чего он так переживал?
«Он боялся, что ты не выкарабкаешься!», поучительно сказала Франсуаза, а я даже спорить не стала. Разумеется, боялся! Мёртвая я представляла для парижских властей не такую ценность, как живая. И с мёртвой Жозефиной Бланшар у него не получилось бы прославиться так, как с живой! Поэтому поначалу я не понимала намёков Франсуазы, а потом уже начала делать вид, что не понимаю.
Это произошло после того, как мы с Эрнестом остались одни. Эрикссон ушёл, обиженный моим предложением денег, Хартброука увела Франсуаза под предлогом какого-то очень важного разговора, а Арно попросил уйти сам Эрнест. И я сразу почувствовала себя в безнадёжном положении, когда за парнем закрылась дверь. Я ждала, что де Бриньон вкратце обрисует мне мои дальнейшие перспективы, начинающиеся в здании суда и заканчивающиеся на гильотине, но он сказал лишь:
– Господи, Жозефина, как же я боялся за тебя…!
Ещё бы тебе не бояться, подумала я с усмешкой. И поморщилась, когда он вновь взял мою руку, и прижал её к своей небритой щеке. Странная неаккуратность для такого холёного красавца, как он, но Франсуаза потом сказала мне, что он ни на секунду не отходил от моей постели все эти пять дней и обо всём на свете позабыл. Он боялся, что я приду в себя, и, оказавшись без надзора, вновь попробую себя убить. Чтобы этого не произошло, он караулил меня денно и нощно, и даже на завтраки не спускался, договорившись с Эллен, что та будет приносить еду сюда, в комнату. Франсуаза резюмировала этот рассказ весьма странной фразой: «Какая же ты дура, Жозефина!», после чего укоризненно покачала головой, глядя на мою вполне искреннюю обиду столь резким и незаслуженным словом.
– Если бы ты прыгнула, – сказал Эрнест тихо, – то я прыгнул бы следом за тобой.
Ах, ну что за мальчишество, право слово! Я хотела спрыгнуть, потому что собственными руками убила человека, которого люблю, и понимала, что не смогу жить с этим. Я хотела спрыгнуть, потому что мне некуда было возвращаться! Я хотела спрыгнуть, потому что не представляла дальнейшей своей жизни – я и сейчас не представляю, что буду делать дальше. Вероятно, дождусь, когда меня оставят в покое, и, закрывшись в ванной, воспользуюсь старым проверенным способом и перережу себе вены в третий раз.
А ты?! Ты, похоже, совсем не думаешь головой, Эрнест! Прыгнул бы за мной, да? Молодец. Только зачем? И, самое главное, на кого бы ты оставил свою дочь, малышку Луизу? Какой ты отец после этого?!
И если этой замечательной и романтичной фразой ты надеялся меня расстроить, то ты ровным счётом ничего не доби…
Боже, что со мной? Зачем я на него смотрю? Зачем прислушиваюсь к его словам?
Что… что такое, почему?! Почему я больше не могу это контролировать? Господи, куда делась сдержанная и холодная Жозефина, хозяйка собственным чувствам и мыслям? Неужели она погибла вместе с Габриелем в тот день?
– Я бы не смог без тебя жить, – продолжал де Бриньон. – Ещё восемь лет без тебя я бы не выдержал. Господи, ну какая же ты глупая… Пообещай, что никогда больше не станешь предпринимать таких попыток, Жозефина! Пожалуйста, пообещай!
Да шёл бы ты к чёрту! Я ответила полным презрения взглядом, слава богу, это я ещё не разучилась. А потом Эрнест, всё ещё прижимающий к своему лицу мою руку, вдруг заметил страшные шрамы на запястье. Восьмилетней давности шрамы, уже зарубцевавшиеся, но от этого не менее кошмарные. И он понял, откуда они у меня, и застонал в голос.
– Оставь меня в покое, Эрнест, – тихо попросила я, пытаясь высвободить свою руку, пока ещё были силы на то, чтобы пошевелиться.
– Разумеется, не оставлю! – Сказал этот упрямый мерзавец. – Чтобы ты опять сделала какую-нибудь глупость? Я никогда бы себе этого не простил. Нет, Жозефина! Увы, я и шагу от тебя не сделаю, пока не смогу тебе доверять.
– В таком случае, можешь оставаться здесь вечно, – пробормотала я недовольно. – Комната большая, места хватит! К тому же, тебе не привыкать проводить здесь ночи.
– Жозефина, я люблю тебя, – совершенно ни к месту произнёс он, прижимая мою ладонь к своим губам. – Я так испугался за тебя тогда, на мосту. Я думал, что не успею. И в тот момент понял, до чего бессмысленна, в сущности, моя жизнь без тебя. Я бы прыгнул следом. Ты мне не веришь? Я бы прыгнул.
Катись ты к чёртовой матери со своими признаниями, де Бриньон! Мне и без тебя тошно сейчас, невыносимо… Я закрывала глаза, и видела Габриеля. Я открывала их, и снова видела Габриеля. Он был повсюду: в той самой фиалке, уже засохшей, что стояла в бокале с водой все эти дни, в моём портрете на стене, что он нарисовал, в моём сердце, в моей душе, в моих мыслях… Он как будто всё ещё был со мной, сейчас, здесь. И он явно не был бы счастлив от того, что Эрнест де Бриньон сидит у изголовья моей постели и признаётся мне в любви.
– Пожалуйста, Жозефина, – простонал он, целуя мою руку, – пожалуйста, я прошу тебя, прости меня! Дай мне шанс снова завоевать твоё доверие, умоляю! Я… я ведь не смогу без тебя.
Знаете, что я думаю? Что эти слова давались ему нелегко. Де Бриньон сам по себе был человеком жёстким и сдержанным, ещё жёстче и сдержаннее, чем я сама. А тут – такие тёплые признания, такие жалобные мольбы… ему, между прочим, совершенно несвойственные! В ту секунду я впервые задумалась над его возможной искренностью, и попыталась представить как, должно быть, он страдает, если всё и впрямь так, как он говорит.
Глядя в его голубые глаза, я находила там лишнее подтверждение тому, как ему плохо, и как он боится потерять меня ещё раз, теперь уже навсегда.
И я искренне этим наслаждалась. Нет-нет, романтичная Жозефина наслаждалась вовсе не тем, что её любил такой видный мужчина, писаный красавец и уважаемый в Париже человек – разумеется, не этим!
Жестокая Жозефина наслаждалась его неподдельными страданиями, его невыразимой болью, его мучениями, его слабостью. Жозефина смотрела на всё это, и радовалась. Радовалась, что ему плохо. Каково?
Видимо то, что я выбрала светлую сторону, ещё не означало, что я согласна навсегда изгнать тьму из своей души. Я не разучилась ненавидеть. И не научилась прощать.
А следовало бы научиться.
Но у меня не получалось. Или не столько не получалось, сколько не хотелось. Я, действительно, собиралась до конца своих дней жить с этой ненавистью, лютой, горячей ненавистью к человеку, который меня всё это время любил. И будет любить ещё столько же. А я так и буду его ненавидеть, и любить только свою ненависть к нему – ненависть, которая помогала мне жить все эти годы.
Вот такая плохая ваша Жозефина! И думайте о ней что хотите.
– Ты никогда меня не простишь? – Со вздохом спросил Эрнест, поняв всё уже по одному лишь выражению моего лица. И тогда бессердечная Жозефина, равнодушно улыбнувшись, покачала головой и сказала:
– Никогда, Эрнест. Можешь не стараться.
XXVI
На третий день мне разрешили принимать гостей, причём, не поверите, добро дал всё тот же вредный Эрикссон. Англичанин Хартброук настаивал на полнейшем покое – была бы его воля, он и Эрнеста бы из моей комнаты прогнал! – но Мартин (к тому времени для меня уже просто Мартин, да-да) сказал, что парочка дружеских визитов мне не повредит. И, вопреки наставлениям Харброука, сам же привёл ко мне первых посетителей.
Разумеется, это оказалась чета Хэдинов. Заботливые и милые люди, господи, ну почему я раньше никогда не встречала таких?! В чём-то Жозефина и впрямь изменилась тем пасмурным июльским днём: она перестала видеть в окружающих только плохое, и потихоньку начинала открываться им. Не всем, безусловно, а лишь тем, кого считала достойными, как этих милых швейцарцев, например.
В чрезмерном любопытстве Томаса Хэдина я подозревала зря. Оказалось, что в прошлом он был начальником полиции в Лозанне – до того, как стать железнодорожным магнатом. И, добившись в этой жизни всего, о чём только можно было мечтать, он позволял себе время от времени ностальгию по прошлому, и часто принимал участие в расследованиях как неофициальное лицо, вот почему у него всюду был доступ, вот почему его так уважали комиссар Витген и руководство «Коффина».
Теперь стало совершенно очевидно, что Томас дал мне ключ от одной из своих квартир с исключительно добрыми намерениями, в силу своего сострадания и широты души. И никаких чёрных целей он не преследовал, и собственных выгод у него тоже не было. Он просто был хороший человек, вот и всё. Как и Арсений Планшетов, вошедший следом. Эрикссон, ненавистник русских и французов, поначалу не хотел его впускать, но журналистская наглость сыграла свою роль, и Арсен прошмыгнул в мою комнату прямо под его рукой, и сел на колени подле моей постели, как несчастный влюблённый.
– Жозефина, ну и напугали же вы нас! – Воскликнул он, глядя на меня с безграничной тоской в своих красивых тёмных глазах. – Как же вы могли быть такой легкомысленной! И дёрнула вас нелёгкая прогуляться под дождём!
А вот Арсен-то лучше других знал, что ни под каким дождём я не гуляла. И, вопреки тому, что из этой истории могла выйти чудесная сенсация, он молчал и берёг мой секрет. Я подумала сначала (всё ещё видя в людях только плохое), что Эрнест запретил ему распространяться на эту тему, но потом выяснилось, что Эрнест о роли Арсения в нашем побеге вообще не знал! Выходит, русский журналист прикрывал меня по собственной инициативе, из уважения, из сострадания, из… дружбы, что ли? Не знаю, как ещё назвать это странное чувство – у меня так давно уже не было друзей… Франсуаза не в счёт, Франсуаза была для меня чем-то средним между тёткой, сестрой и матерью. А прочные нити, связавшие нас с Арсеном, и с тем же Томасом, иначе как дружбой назвать было нельзя.
Надо же, как бывает. Я, право, и не думала! За семь лет в браке у меня никогда не было друзей – Рене делал всё возможное для этого, и он же отбил у меня всяческую способность доверять людям. Ныне же всё изменилось, всё стало совсем по-другому.
Эрикссон по-прежнему бесновался в дверях, ссылаясь на то, что он разрешил только один короткий визит, и это вовсе не означало, что из моей комнаты нужно делать проходной двор! – и тогда Нана, поцеловав меня в лоб, сказала с улыбкой, что разберётся с этим несносным шведом по-свойски. И увела его в коридор. Думаю, это было не более чем поводом оставить нас с Томасом и Арсеном наедине. Чуткая Нана понимала, что нам есть, о чём поговорить без посторонних ушей. Как же я была благодарна ей за это!
Как только за ней закрылась дверь, я спросила еле слышно:
– Что стало с Габриелем?
Этот вопрос волновал меня с того самого дня, как я очнулась, но спрашивать у Эрнеста я не смела. И не потому, что щадила его чувства, ведь в ответ на его трогательное: «Я люблю тебя, Жозефина!» было бы весьма обидно услышать: «Меня интересует только Габриель и ничего больше!» Скорее, я боялась, что он не ответит из вредности, или ответит что-то такое, от чего я снова впаду в беспамятство. Я боялась этой правды. И если она была жестокая, то это был как раз такой случай, когда я готова была умолять, чтобы мне преподнесли её сглаженной, осторожно, без леденящих душу подробностей.
Но всё оказалось куда как проще.
– Его похоронили здесь, неподалёку, в Берне, – ответил Арсен.
– Мы позаботились об этом, – добавил Томас тихо. – Всё было честь по чести, не беспокойтесь, Жозефина.
То есть, его тело не лежит до сих пор в полицейском морге, ожидая вывоза в Париж? Где его, наверняка, похоронили бы как собаку, и хорошо ещё, если бы публично над ним не надругались! Не знаю: облили кислотой, закидали тухлыми овощами… Французы – довольно жестокий народ, скорый на расправу. Или, это я снова фантазирую, да? Мы же всё-таки в цивилизованном мире живём! Наверное, ничего такого бы не было, его бы просто похоронили за кладбищенской оградой, не соблюдя обычаев. Зачем? Серийный убийца не заслуживает почестей!
Боже, Томас, спасибо, спасибо тебе! И тебе, Арсен! Ясно же, что мсье Хэдин не один приложил к этому руку. Я почувствовала обжигающие слёзы благодарности, но уже не намерена была их скрывать, и ничуть этого не стыдилась. Арсен сказал как-то, что всегда быть сильной вовсе не обязательно. Он был прав. Он был чертовски прав!
– Спасибо вам огромное, – прошептала я тихо, переводя взгляд с одного на другого.
– Вообще-то, это мсье де Бриньону спасибо, – справедливости ради сказал Арсен.
Что-что? Кому?!
– По всем правилам тело Габриеля Гранье должны были отправить на родину, в Париж, – сказал Томас. – В конце концов, Франция должна сама разбираться со своими сыновьями, это общепринятый закон. Вообще-то, так не делают, но мсье де Бриньон щедро разрешил нам забрать тело и похоронить его со всеми почестями.
Такого широкого жеста я от Эрнеста не ожидала.
– Ну, не то, чтобы «разрешил»… – Блестя тёмными глазами, добавил русский журналист. – Официально он не имел права давать нам такого разрешения. Он просто вручил мне ключ от комнаты, куда перенесли тело, и назвал время, когда у дверей не будет полиции. Дело оставалось за малым, и мы с Томасом справились без труда.
Я не видела ни единой причины для де Бриньона вступить в сговор с этими ребятами, не считая одной – он делал это ради меня. Он понимал, что для меня это важно. И, получается, из-за этого упустил очередной момент своего триумфа, возвращение домой с телом знаменитого маньяка-убийцы. Здесь было над чем подумать. Наверное.
Но я не стала. Куда проще мне было ненавидеть Эрнеста, чем начать испытывать эту неподдельную благодарность ещё и к нему, помимо Томаса с Арсеном. Жозефина ещё не научилась быть благодарной. Пока ещё нет.
– Никто, по сути, и не был против этой нашей… самодеятельности, – продолжил Томас. – Парижским властям важно было сделать так, чтобы убийца не представлял опасности, а уж что там дальше никого из них не тревожило. Разве что мсье де Бриньона? На его счёт я волновался больше остальных, потому что бедняга столько времени гонялся за Февралем, что для него это стало делом чести! Но он оказался поразительно великодушен. Что касается остальных: родственников у Габриеля не было, и некому было настаивать на том, чтобы его похоронили на родине.
– Ну, не то, чтобы «не было», – снова вставил своё слово Арсен. Он уже вторую фразу начинал с этих слов, и снова глаза его загадочно блеснули. – Помните Этьена де Лакруа, самую первую жертву? Парень с нарциссом, убитый в мае прошлого года?
– Помню, – тихо ответила я.
– Это был его брат, – с печалью в голосе сказал Арсен. – Старший брат, сводный.
А вот эту историю я знала. На прогулке, перед тем, как написать мой портрет, Габриель рассказывал о своём нелёгком детстве и о старшем брате. Их родила одна и та же женщина, но от разных мужчин. Первый был известным предпринимателем, но матушку Габриеля угораздило влюбиться в своего друга детства, когда на руках у неё уже был четырёхлетний сын, получается, тот самый Этьен. Габриель не говорил, как его зовут, но сейчас, когда Арсений упомянул о брате, я догадалась, что речь шла именно о нём.
Муж-предприниматель выгнал неверную жену на улицу, а ребёнка оставил себе. В результате чего Этьен де Лакруа рос в достатке, а Габриель Гранье, родившийся ещё год спустя, перебивался с хлеба на воду вместе со своими родителями. Матушка торговала цветами, которые выращивала во дворе их маленького домика, а отец работал мелким чиновником на почте, и денег едва ли хватало на то, чтобы прокормить семью.
Потом они умерли, и Габриель остался один, ровно до тех пор, пока старший брат сам не нашёл его. Вот такую трогательную историю Габриель мне рассказал. И, разумеется, предпочёл умолчать о том, что послужило причиной размолвки, и о том, что финальным актом стало хладнокровное убийство Этьена и нарцисс на его груди.
– Думаю, они поругались из-за галереи, – предположил Арсен, почувствовав на себе заинтересованный взгляд Томаса. Будучи далёким от парижских новостей, таких подробностей он не знал, в отличие от русского журналиста, у которого везде были связи. И ему, как и мне, было очень интересно послушать. – Этьен де Лакруа открыл собственную художественную галерею в прошлом году, вот только работ Габриеля там почему-то не было. Ни одной. На месте Габриеля я бы тоже не смог ему этого простить, тем более, у Этьена наверняка имелись средства, чтобы спонсировать своего брата. Он просто не стал этого делать. Судя по тому пренебрежительному нарциссу, Этьен был самовлюблённым и заносчивым эгоистом, и не думал ни о ком, кроме самого себя. Целая галерея в Париже, неужели в ней не нашлось места хотя бы для парочки картин родного брата? И, тем не менее, не нашлось! Это я совсем недавно узнал, не поленился съездить в город и телеграфировать кое-кому из моих парижских друзей, – добавил Планшетов, чуточку самодовольно. Томас грустно улыбнулся ему, похвалив за находчивость, а я лишь кивнула.
– Что касается остальных, – сказал он, повернувшись ко мне, – мне понятно всё, не считая Иветты Симонс. Предыдущие жертвы были так или иначе связаны с искусством, не считая Эвелины Реньян, которая являлась хозяйкой доходного дома и наверняка сдавала Габриелю комнату внаём.
– И Марии Лоран, – подхватил русский журналист. – Эта девчушка была обычной торговкой цветов. Красивая черноволосая девушка, цветы… Всё, как он любил. Она продавала их на привокзальной площади, там он, вероятно, с ней и познакомился.
Как и мой муж. А я-то всё гадала, где ухитрился Рене пересечься с дочерью простого полицейского? На площади рядом с вокзалом, где мой покойный супруг оказался первым делом, по приезду в столицу.
– Остальные девушки либо покровительствовали молодым художникам, либо просто любили живопись: вот Офелия де Вино, к примеру, часто посещала выставки, и просто не могла без них жить! – Добавил Томас. – Это я от Лассарда узнал ещё до его отъезда, он был дружен с Себастьяном де Вино, и часто гостил в их доме, когда приезжал в Париж.
Потерянные частички мозаики постепенно находились и вставали на место в руках Арсена и Томаса. Ещё немного, и головоломка будет собрана, никаких пробелов не останется. А я-то ведь тогда ломала голову, что забыл Лассард на похоронах Офелии де Вино! Выходит, он и впрямь был дружен с её отцом. Как всё оказалось просто!
– Неясно одно, – продолжил Томас вкрадчиво, – каким образом в эту компанию затесалась Иветта Симонс?
– Вас смущает её титул? – Арсен пожал плечами. – Думаете, одинокий бедный художник ни при каких обстоятельствах не мог бы познакомиться с женой нефтяного магната, графиней? Да, будет вам! Дочку посла он же где-то подцепил?
– Как-то всё это… странно, – не унимался Томас. – Не вписывается в общую картину. Она единственная из жертв была светловолосой! И этот чертополох… как-то грубо, в самом деле! Во всех предыдущих случаях он подбирал более изящные цветы, чем какая-то сорная колючка!
Да что ж ты такой проницательный-то, в самом деле? И ничего-то от тебя не утаишь! Планшетов вон, и тот не сомневался, лишь беспечно пожимал плечами, а ты?! Ох, недаром я ещё в первый день подумала, что Томас Хэдин – человек величайшего ума!
Чтобы увести разговор от нехорошей темы, я спросила:
– А как же Селина? Ведь доктор определил время смерти, а с двенадцати до половины третьего Габриель был в столовой вместе со всеми нами! – Это, признаться, никак не укладывалось у меня в голове, но Томас поспешил объяснить:
– Хартброук ошибся на полчаса. Он уже не молод, как вы могли заметить, да и вскрытиями не занимался порядком. Как мы все помним, он практикующий врач при отеле, а в «Коффине», не сомневаюсь, подобные операции делают не каждый день! К тому же, Селина Фишер была его знакомой, племянницей хорошего друга, метрдотеля Фессельбаума. Витген сказал, у доктора тряслись руки, когда он закончил работу. Думаю, он не в том состоянии был, чтобы делать объективные выводы. Но Витген торопился, поэтому настоял, у него не было особого выбора, он спешил поймать убийцу как можно скорее.
Меня, надо думать. Я была у него на подозрении из-за этой дурацкой шляпки, а потому ему важно было знать приблизительное время смерти несчастной Селины. Если бы на тот момент у меня не оказалось алиби, меня арестовали бы, не дожидаясь приезда де Бриньона.
– Это было всего лишь предварительное заключение, – пояснил Арсен. – Тот француз, из помощников комиссара, мсье Арно, осмотрел тело ещё раз. Он-то и предположил, что Хартброук мог ошибиться, и диагностировать неверное время смерти. Минут на двадцать-тридцать, как он сказал. Этого вполне бы хватило, чтобы успеть к полудню на обед.
Я кивнула в знак своего согласия, а сама подумала, что это даже хорошо, что Хартброук ошибся. В противном случае у меня не было бы алиби, и кто знает, во что бы всё это вылилось?
– А вот с Габриэллой всё оказалось ещё проще, – продолжил русский журналист с усмешкой. – Самая большая ошибка полиции заключалась в том, что они не решались лезть с допросами к самым уважаемым и состоятельным из гостей. Боялись их потревожить. А мсье Бриньон не побоялся, честь ему и хвала! Причём он делал это с такой наглостью и уверенностью, будто имел на то полное право. И у мсье Гарденберга, перепуганного до смерти, и мысли не возникло спросить: с какой стати его вообще допрашивает полицейский из Парижа?! Видели бы вы его лицо, когда он выходил из кабинета!
Видимо, это случилось как раз в тот момент, когда Арсен помогал устроить побег для Габриеля. Потому что после этого дня Эрнест уже не мог никого допрашивать, так как всё своё время сидел подле моей постели.
– Когда Гарденберга наконец-то додумались допросить, он сказал, что видел Габриеля в ночь убийства мадемуазель Вермаллен, выходящего из её спальни! – Продолжил Томас. – Как вы помните, до этого Габриель и Габриэлла объявили о помолвке, и Гарденберг не нашёл в этом ночном визите ничего странного. Да и с какой стати ему подозревать его, если он и не знал о смерти Габриэллы?
– Его не было в отеле, он жил у одного своего товарища в посёлке, прячась от жены, – пояснил всёзнающий Арсений. – В самом деле, откуда бы ему было знать местные сплетни?
И всё равно я не понимала. Я была с Габриелем в ту ночь!
Всю ночь, до самого утра.
Когда, чёрт возьми, он успел убить Габриэллу, если ни на секунду не отходил от меня, нежась в моих объятиях?! Беспокойно пошевелившись на своём месте, я осторожно спросила:
– В какое время это произошло?
– Около десяти часов, или в половине одиннадцатого, как считает мсье Арно, – ответил Арсений, убеждённый, что это уже не имеет значения. А для меня имело. Десять – это вряд ли, а вот половина одиннадцатого… Значит, когда Эрнест выставил его из моей спальни, Габриель прямиком направился в комнату Габриэллы, и…
Я ужаснулась его хладнокровию и безграничной невозмутимости. Он убил её, а через минуту или две вёл себя как ни в чём не бывало, и ещё умудрялся заниматься со мной любовью! У него, что, совсем не было души? Морали? Совести?
Но не те вопросы я себе задавала. Куда как интереснее было другое: каким образом он успел провернуть это за столь короткий срок и не попасться на глаза никому, кроме Гарденберга? У них в северном крыле было довольно оживлённо: там жила троица русских, Эрикссон, в конце концов! А ещё в то же самое время там прохлаждался Лассард, тоже неизвестно за какой надобностью. И как же так получилось, что Габриеля никто не видел? Никто, кроме старого швейцарца, ютящегося по тёмным коридорам, прячась от вездесущей жены.
И только потом я догадалась вспомнить про балкон! Про чёртов проходной балкон, по которому можно было беспрепятственно попасть в любую комнату отеля! Если Габриель, выйдя из моего номера, не пошёл через весь коридор на другой конец здания, а воспользовался этим проклятым балконом, чтобы срезать путь, то, вероятно, у него появились бы лишние минуты в запасе. Да, там тоже был шанс нарваться на кого-нибудь из своих, но балкон был довольно широким, а стены отеля украшали густые заросли дикого винограда, за которым легко можно было спрятаться.
С этим всё прояснилось.
– А что мсье Лассард делал там в то же самое время? – Спросила я, вспомнив о том, как мы с венгром столкнулись неподалёку от комнаты Габриеля. Реакция Томаса и Арсена несколько удивила меня – они многозначительно переглянулись, и русский журналист вздохнул.
– Он возвращался от мадам Фальконе.
– Но разве мадам Фальконе не была убита накануне? – С ещё большим недоумением спросила я.
– В том-то и дело, – согласился со мной Томас. – Когда Витген сказал мне, что вы видели Лассарда той ночью, я почему-то сразу подумал о том, что это связано с Витторией. Не вините Витгена, мадам Жозефина, он ведь тогда поверил вашим словам, и спросил Лассарда о цели его ночного визита в западное крыло в ночь убийства Габриэллы Вермаллен. И Лассард признался, что ходил в номер мадам Фальконе.
– Этот болван был тайно влюблён в неё, – сказал Арсен, сочувственно качая головой. – И всего лишь хотел взять из её комнаты что-то из вещей, на память. Фирменное воровство, если хотите знать моё мнение, но до чего романтично!
Вот почему он так боялся, что его увидят! Поэтому и вёл себя так странно, поэтому испугался, увидев меня! Я улыбнулась в очередной раз, тому, как всё оказалось просто.
– Хорошо, – облизнув пересохшие губы, я кивнула. – А что с убийством самой Фальконе? Вспомните, Арсен, мы ведь с вами вместе видели Габриеля и Габриэллу, гуляющих по парку как раз в тот момент, когда убивали мадам Соколицу! Я видела его и потом, и обратила внимание на его волосы, у Габриеля они были сухими, стало быть, он вернулся до того, как начался дождь! А у Лассарда волосы были как раз мокрыми! И он категорически не желал говорить, где это он вымок!
– Он видел, что Виттория ушла из отеля, и подумал, что она в парке, поэтому пошёл за ней, – пересказал Томас то, что удалось узнать от Витгена. – По его словам, он искал её, чтобы объясниться в своих чувствах. Но искал не там, ибо мадам Соколица гуляла в противоположной стороне, у озера. Поэтому Лассард опоздал со своим признанием.
Это было печально, но, в то же время, довольно правдоподобно объясняло, отчего венгр не стал ничего рассказывать нам за ужином.
– А Габриель? – Тихим, дрогнувшим голосом спросила я. Произносить это имя мне было больно, и Томас, будто почувствовав это, коснулся моей руки, сделав вид, что поправляет одеяло.
– Вот тут, признаться, я и сам не понимаю, – сказал он. – Ведь если Габриель был с мадемуазель Вермаллен всё это время, и если они вернулись до дождя… получается, она видела, как он убивал Витторию Фальконе?
– Вряд ли она стала бы о таком молчать, – покачал головой Арсен. – Вы разве не знали нашу Габриэллу? Она не смогла бы спокойно мириться с таким!
Да даже я не смогла, что уж говорить о невинной, хрупкой девочке, малышке Габриэлле?
– Он мог оставить её на некоторое время, – пожал плечами Томас. – Габриэлла возвращалась с букетом цветов, вы заметили? Если они гуляли неподалёку от озера, он мог отойти на пару минут под предлогом принести ей цветы, а сам тем временем задушить Витторию без лишних свидетелей. Кстати, среди этих цветов были и маргаритки, а именно маргаритку он оставил рядом с телом Соколицы.
Тот самый букет цветов, который Габриэлла поставила потом на подоконник в своей спальне – Эрнест ещё сказал, что я наверняка бы взяла цветок оттуда, если бы задумала убить её, и снова свалилить вину на Февраля. А я прямо так и видела, как Габриэлла, прижимая к себе эту вазу с цветами, мечтательно улыбается. А затем наклоняет голову, чтобы понюхать их, такая счастливая и такая беззаботная, юная и невинная, и счастливая. Она даже не догадывается, что жить ей остаётся всего несколько часов.
И, видимо, тоже по моей милости. Поэтому такая спешка, не так ли? Два убийства в один день, с разницей в считанные часы! К чему было так рисковать? Ответ очевиден: Габриэлла мешала ему. Он ведь и впрямь говорил с ней, разорвал помолвку и сказал, что любит меня. Каким бы чистым и добрым ангелом не была Габриэлла Вермаллен, терпение её наверняка было не безгранично. Преисполненная обидой она наверняка говорит Габриелю, что сделает всё, чтобы помешать нам – и она, действительно, могла, будучи одной из самых богатых девушек во всей Швейцарии! Чтобы не наживать себе опасного врага, Габриель решает избавиться от неё. И тогда уже ничто не будет препятствовать его счастью со мной.
Выходит, опять я во всём виновата? Ещё одна загубленная жизнь на моей совести? Я поморщилась и тяжело вздохнула по этому поводу, а Арсен, будто прочитав мои мысли, сказал:
– Если бы не убийство Фальконе, вероятно, Габриэлла осталась бы жива. Но она стала опасна для него, потому что в любой момент могла лишить его алиби, упомянув, что Габриель отлучался на несколько минут, когда они гуляли у озера. Поэтому он её и убил. Чтобы она его не выдала.
Не знаю, всерьёз ли он так думал, или же, как всегда проницательный, просто желал меня утешить? В любом случае, спасибо ему на добром слове. Не знаю, стало ли мне легче от этого, но дружеская забота была, безусловно, приятной.
А уж как оно было на самом деле – мы теперь никогда не узнаем.
– Выходит, всё оказалось так просто? – Еле слышно спросила я, качая головой и глядя в пространство.
– Так просто, что даже удивительно, как это никто не догадался… – Повторил Томас слова мадам Соколицы, и тоже покачал головой, видимо, виня себя за недальновидность. – Единственный француз в отеле, чёрт подери! Единственный, кто приехал из Парижа!
– Но вы же говорили, он приехал на день раньше? – Вспомнила я.
– А Лассард совершенно правильно сказал, что поезда в Париж ходят каждый день, – с усмешкой сказал Томас. – Тут не так уж и долго ехать, Жозефина! А я был до такой степени глуп, что счёл ранний приезд Гранье за неопровержимое алиби. Я отчего-то и не подумал, что ничто не мешало ему вернуться назад!
– Он заранее готовил пути к отступлению, – добавил Арсен. – Он в любом случае собирался покинуть Францию после убийства Марии Лоран, и вовсе не полицейская облава толкнула его на то, чтобы в спешке прыгнуть на поезд до Берна! Помните, меня ещё удивило, как безбилетного пассажира могли не заметить на одном-единственном поезде во время досмотра?! Да всё потому, что у него был билет, чёрт возьми! У него заранее был билет обратно в Берн!
– А раненое плечо он, в конце концов, мог и перевязать, – сказал Томас, кивая русскому журналисту. О ранении, должно быть, стало известно от того же Витгена, который не гнушался посвящать в тайны следствия всех, кому не лень. И ещё наверняка за деньги, продажный швейцарский мерзавец!
– Я попросил кое-кого из моих друзей-железнодорожников и здесь навести справки, – с усмешкой добавил Арсен. – Удалось выяснить вот что: к моменту прибытия нашего поезда в Берн, один пассажир не досчитался своего багажа. А теперь вспомните – спасаясь от погони, Габриель наверняка прыгнул на подножку самого последнего вагона, иначе де Бриньон его бы не упустил, прыгнул бы следом. Последний вагон чаще всего багажный, так? Так. Габриель порылся в чемоданах, нашёл для себя подходящие вещи, перевязал своё плечо, переоделся в чистую одежду, а окровавленную рубашку просто выбросил. Потом он взял этот самый чемодан и преспокойно направился в своё купе. Когда состав остановили на первой же станции, полиция устроила обыск. Они искали пассажира без билета и багажа, в окровавленной одежде с раненным плечом. На пассажира в чистой одежде с большим дорожным чемоданом, да ещё и с билетом в купе второго класса никто из них не обратил внимания.
А нюхать его они, разумеется, не стали, с усмешкой подумала я. Эрнест, похоже, вообще никому не сказал, что Февраль пах фиалками! Вкупе с моей фамилией, такая информация могла сыграть со мной злую шутку и вызвать лишние подозрения, которых мне и так хватало с лихвой. Спасибо ему за молчание.
Что касается ранения в плечо, о котором я вспомнила только сейчас, здесь тоже нет ничего странного. Почему я его не заметила, спросите вы? Охотно отвечу: в тот день в моей комнате Габриель так и не успел раздеться, потому что ему помешала разъярённая Вермаллен, на весь отель кричавшая о том, что я убила её дочь. А дальше всем нам стало уже не до этого: мы были шокированы новостью о смерти Габриэллы, так что Габриелю с этим крупно повезло.
И, опять же, я вспоминала ту полнейшую невозмутимость, с которой он расстёгивал пуговицы на жилетке – ни единый мускул не дрогнул на его лице в тот момент! Господи, вот это выдержка! Его, что, ни в коей мере не беспокоило то, что он в следующую секунду будет разоблачён? Он никак не мог знать, что графиня Вермаллен заглянет к нам так удачно! Выходит, он был готов сознаться? Но почему, чёрт возьми, он был так спокоен?!
Видимо, я ничего не смыслю в психопатах. Наверное, они всё же бывают разные. Кто-то кидается на людей при первой удобной возможности (как Вермаллен), а кто-то до последнего сохраняет поразительную выдержку и не реагирует на внешние раздражители.
У него, определённо, было чему поучиться. Это до какой же степени нужно владеть собой…? Мне казалось, что в этом искусстве я сама достигла небывалых высот, но до Габриеля мне было бесконечно далеко. И мне никогда этому не научиться, факт.
А по поводу предыдущей ночи, которую мы провели вместе – я ведь так и не видела его раздетым! Сейчас я вспоминала, как он перехватил мои запястья, когда я расстёгивала на нём рубашку – он будто призывал меня остановиться. Я тогда расценила этот жест по-своему, а на самом деле он просто боялся, что я увижу царапину на его правом предплечье. И я ведь так и не раздела его тогда, просто расстегнула пуговицы, а потом он перенял у меня инициативу, и мне стало уже не до чего. В конце концов, и он меня тоже не раздевал, ограничившись тем, что просто опустил вырез платья на моей груди, а юбку, наоборот, поднял. От одежды мы избавились гораздо позже, как раз, когда погас свет – ещё одна чёртова случайность, избавившая Габриеля от подозрений! А потом, когда я зажгла свечу, Габриель лежал у стены, повернувшись к ней как раз правым плечом, которое я никак не могла увидеть в полумраке. А когда мы снова начали заниматься любовью, мне в очередной раз стало не до этого. И, наверное, не такой уж и страшной была эта рана, раз она не мешала ему в быту – скорее всего, просто царапина, потому я и не обратила на неё внимания в моменты нашей близости.
А Эрнест… он ведь обо всём знал! Он был слишком хорошим полицейским для того, чтобы не проверить все возможные версии. Но в ночь перед побегом Габриеля он был со мной, а ушёл только наутро, и вот тогда-то, наверняка, он зашёл к нему и посмотрел-таки на его плечо. А потом – тогда, на лестнице – он хотел сказать мне об этом, я ведь видела, что он хотел сообщить мне что-то важное, и… не смог. Не решился. Понял, наверное, что я не поверю в такую возмутительную правду, и решу, что он нарочно всё это придумал, чтобы поссорить нас.
И он промолчал. Промолчал, опять же, защищая меня от неприятных открытий, оттягивая неприятный момент на потом… чтобы, вероятно, заставить его сознаться при мне, уже когда они его поймают. Но они его так и не поймали.
Как же всё оказалось просто, чёрт возьми! До такой степени просто… Слова покойной Виттории Фальконе зазвучали у меня в голове, и я подняла растерянный взгляд на Арсения.
– Соколица… так она всё-таки знала? Выходит, она знала о нём?
– Я тоже озадачился, – русский журналист задумчиво потёр подбородок. – Мы тогда подумали, что она считала за доказательство письмо Ватрушкина, или просто сочиняла, чтобы привлечь к себе внимание… Но, выходит, что ей и впрямь было известно нечто большее?
Томас спросил, о каких письмах речь, и Арсен рассказал ему. Больше не было смысла утаивать это.
Факт остаётся фактом: на счёт мадам Соколицы мы так и не могли судить наверняка, довольствуясь лишь своими догадками. И лишь на следующий день Жан Робер открыл мне истину: Фальконе, действительно, знала о Габриеле. Все те слова, что она говорила за обедом, Соколица адресовала персонально ему. Он понимал и бесился, чувствуя себя во власти этой женщины. И наверняка именно это являлось причиной его удручённого состояния, а вовсе не помолвка с Габриэллой, как мне казалось тогда!
Фальконе знала о нём, и откровенно издевалась, а в плату за молчание потребовала ещё один портрет. Смелая она была или глупая? Скорее, и то, и другое. А ещё её невероятно будоражило это чувство опасности – пресытившаяся жизнью итальянка решила поиграть в смертельную игру, за что и поплатилась. Никакого портрета Габриель ей не написал, он просто убил её.
И так она никому и не сказала, что в день убийства Селины видела его, идущего в сторону парка. Сама она стояла у ворот в ожидании экипажа, чтобы ехать с Арсеном в город, стояла в тени акации, скрываясь от солнца, потому Габриель и не заметил её. А она увидела, как тот сворачивает на лесную тропку, ведущую к реке, и тогда не предала этому значения. А потом, когда об убийстве Селины стало известно, сопоставила одно к другому, и сделала выводы. Вот только выводы были совершенно не те! Вместо того чтобы сразу рассказать обо всём Витгену, спасти от подозрения меня и спасти жизнь Габриэллы и свою собственную, Соколица решила шантажировать убийцу. Понятия не имею, чем она думала в тот момент, и как вообще ей пришла в голову такая замечательная идея! Но она решила поиграть, начитавшись трудов Фрейда, возомнила себя знатоком человеческого разума, и ей было безумно интересно, чем всё это закончится. Что ж, всё закончилось довольно быстро, единственным возможным способом.
И мы бы никогда не узнали об этом, если бы не её привычка вести дневник. Именно его Лассард и забрал на память, когда заходил той ночью в номер Соколицы. И представьте себе удивление комиссара Витгена, когда он вежливо просит вернуть взятую вещь на место, и несчастный венгр отдаёт тетрадь в кожаном переплёте. Записи были сделаны преимущественно на итальянском, так что понадобилось некоторое время, чтобы их перевести, поскольку ни сам Витген, ни де Бриньон с честной компанией итальянского не знали. А уж когда нашли переводчика, тот расшифровал им последние несколько страниц, и полиция дружно пришла в ужас от беспросветной глупости мадам Фальконе, которая, фактически, сама же, собственными руками, себя и погубила.
Вот такая история.
О моей же роли в этом не знал никто, кроме Эрнеста, Жана и Арсения. Де Бриньон бросился на поиски, как только узнал, что я наведывалась в комнату к Габриелю – в отличие от Робера и Арно, он сразу понял, что означал мой визит. К тому же, он слишком хорошо знал меня: я не стала бы ставить под вопрос свою репутацию ради каких-то трусиков! Иногда я и вовсе не носила белья, и об этом Эрнест тоже знал.
Представьте себе его отчаяние, когда в моём номере не обнаружилось ни меня, ни его револьвера, лишь пустая кобура. Он понятия не имел, где меня искать, но сидеть на месте не стал, этот человек привык действовать. И верный Жан Робер, чувствующий вину за свою оплошность, последовал за ним.
Начали они с парка, но парк был огромен, и если бы не та пачка таблеток, оброненная мною на лесной тропинке, они в жизни бы не отыскали меня. Эрнест нашёл её первым, и сообразил, что в той стороне находится только одно место, куда я могла бы пойти – домик у реки. А за мостом ещё одна дорога до города, но куда ближе – железнодорожная станция. Потом де Бриньон услышал выстрел, и получил живейшее подтверждение своих догадок, а что было дальше вы знаете. Жан Робер выстрел тоже слышал, но прибежал десятью минутами позже, так что самое интересное пропустил.
Поэтому о том, кто на самом деле застрелил Габриеля Гранье, знали только мы двое – де Бриньон и я. Планшетов ни словом не обмолвился, что я тоже была там, потому что тогда ему пришлось бы признаться, что он хотел помочь нам бежать. А это могло выйти ему боком, ведь он, фактически, покрывал убийцу, и даже выправил поддельные документы для него и его любовницы! Которые, надо сказать, волшебным образом исчезли куда-то, и наверняка не без помощи Эрнеста. Так что никто не узнал, что в тот злополучный день в домике у реки Габриель был не один. Для всех Жозефина Лавиолетт гуляла по парку, а потом попала под дождь и подхватила воспаление лёгких – в это поверили все, включая проницательного Томаса.
Правда, под конец нашей беседы он всё же сказал:
– И всё равно здесь что-то не так!
Я уже не боялась этого человека, убедившись в том, что он желает мне только добра, но проницательность его меня, порой, иногда пугала.
– Что ещё не даёт вам покоя, Томас? – С живейшей готовностью объяснить, полюбопытствовал Арсен. – Вроде бы уже всё разложили по полочкам, а вы всё никак не успокоитесь!
– Не понимаю, почему он отошёл от своих привычек, и убил ту женщину, Иветту Симонс! – Признался Томас, но при этом вовсе не смотрел на меня вопросительно, и не пытался делать никаких намёков. Он, похоже, и не думал в этом направлении, несмотря на то, что я упоминала как-то, что была знакома с Иветтой.
– Боюсь, этого мы никогда не узнаем, – ответил русский журналист, безразлично пожимая плечами. Его такие мелочи не волновали – ну, право слово, кто их поймёт, этих сумасшедших?
– Блондинка, чертополох… – Продолжал недоумевать Томас, хмуря тёмные брови. – Как-то всё это… неизысканно, что ли? Я читал, что её единственную задушили голыми руками, а не верёвкой, не поясом. К тому же, до отъезда в Швейцарию, эта Симонс была единственной его жертвой, убитой не в Париже, а в Лионе!
Учитывая то, что родом из Лиона была ваша покорная слуга, мадам Жозефина, беседа начинала принимать опасный оборот. Не сомневаюсь, что ещё чуть-чуть, и Томас догадался бы связать одно с другим. Не устану повторять, что человек это был на удивление умный, проницательный и сообразительный!
Но, уж признайте, пожалуйста, под конец моего рассказа, что и сама Жозефина была далеко не промах!
Опустив ресницы, она изобразила неподдельную скорбь на лице, и сказала тихим голосом:
– Я ведь уже говорила, я немного знала графиню Симонс. Почему-то только теперь, после ваших слов, я вспомнила: незадолго до смерти она наняла какого-то неизвестного художника из Парижа, чтобы он написал её портрет. Наши, лионские мастера не хотели с нею связываться из-за взбалмошного характера и завышенных требований, а тот легко согласился, потому что не был с нею знаком. И потому, что сумму за этот портрет Иветта назвала баснословную, как тут откажешься? Думаю, если вы спросите её мужа, Дэвида Симонса, как звали того художника, он назовёт вам имя Габриеля Гранье.
А уж Жозефина постарается, чтобы он именно так и сделал.
Эпилог
Ровно год спустя, в шикарном двухэтажном особняке на улице Риволи давали домашний концерт. Маленькая светловолосая девочка играла на фортепиано, старательно перебирая лёгкими пальчиками по клавишам. Это была старая, забытая мелодия, невероятно сложная в исполнении – я уже достаточно хорошо разбиралась в музыке, чтобы это понимать. Музыка стала моей второй страстью после живописи.
Мадам Росселини, пожилая итальянка, сидела без малейших движений, прижав руки к груди, и, обратившись в слух, пыталась найти нюансы, неточности и ошибки в удивительно красивой мелодии, льющейся из-под пальцев семилетней мастерицы. Напрасно старалась. Я, например, уже с первой секунды поняла, что не будет никаких ошибок – эта малютка привыкла во всём достигать совершенства, она была такой же упрямой и старательной, как и её отец. Эти мысли заставляли меня улыбаться, особенно, когда я вспоминала ту феноменальную настойчивость, с которой он снова и снова добивался меня. И как это ему только не надоедало, право? Мне не было от него ни малейшего спасения, а он как будто не замечал моей демонстративной холодности, и продолжал свой усиленный штурм, изо дня в день, с ещё большим упорством, вплоть до того знаменательного дня, когда крепость под названием Жозефина Лавиолетт пала, не выдержав долгой обороны. Я снова улыбнулась, вспомнив его счастливые глаза, когда пропасть между нами начала стремительно сокращаться… И то, с какой надеждой он смотрел на меня тогда, заставило меня улыбнуться в третий раз. А что вы хотите? Я теперь часто улыбалась! Гораздо чаще, чем раньше.
Благодаря Эрнесту я изменилась, стала намного лучше, это даже Франсуаза заметила, а уж вы-то знаете, как редко говорит она что-то хорошее в мой адрес! А ещё Эрнест научил меня прощать. Именно поэтому рядом со мной сидел сейчас пожилой, худой мужчина, Гектор Лавиолетт, мой отец. Он уже давно жил с нами, в нашем огромном особняке на одной из самых известных улиц Парижа. Он больше не перебивался с хлеба на воду в своём разорённом лионском домике, он готовился встретить почётную старость в роскоши, и был мне за это бесконечно благодарен. А ещё он хорошо играл на фортепиано, и сумел научить нашу малютку некоторым фокусам, ещё до того, как я наняла для неё мадам Росселини, превосходную пианистку и просто хорошую женщину. Поэтому сейчас папа прислушивался, чуть склонив голову на плечо, и всё пытался понять – не фальшивит ли?
Зря стараетесь, думала я с триумфальной улыбкой. Моя девочка будет безупречна, я знала это, я в неё верила! Верила и Франсуаза, так же присутствующая на этом вечере, да не одна, а с хорошей компанией. Моя любимая Манон, её дочка, заинтересованно слушала игру – они с Луизой подружились, и Манон теперь хотела научиться играть так же хорошо, как она. Сынишка Франсуазы, семилетний Пьер, был ещё слишком мал для того, чтобы разбираться в музыке, куда больше его интересовал огромный живот собственной матушки, к которому он время от времени робко прикасался с живейшим интересом. Я вовсе не хочу обозвать Франсуазу толстой, как раньше – вовсе нет, я уже больше не такая язвительная, и давно забыла о том, что такое ехидный сарказм! Франсуаза была на восьмом месяце беременности. И это в сорок шесть лет, вот так-то! Я была за неё сказочно рада, а уж как был рад её муж, Ганс Фессельбаум! Теперь я наконец-то выучила, его звали Ганс, а не Фриц. Перехватив мой взгляд, он улыбнулся мне с благодарностью. О, да, они все смотрели на меня с благодарностью – и мой папа, и Ганс, и сама Франсуаза! Они все считали, что обязаны мне своим счастьем, а я не спешила их в этом разубеждать. Должна же была Жозефина оставить себе хоть капельку тщеславия? Иначе она стала бы слишком хорошей и правильной, а таких людей попросту не бывает, как сказал однажды один мой знакомый журналист из России…
– Мадам де Бриньон! Мадам де Бриньон!
Ох, это, кажется, меня! Всё никак не привыкну к своему новому имени! А мадам Росселини тем временем продолжала тянуть меня за рукав и приговаривать:
– Она это сделала! Вы слышали? Слышали, как чисто сыграла? У неё прежде никогда не получался этот момент, а теперь…
– Белла, ну тише же! – Проворчал мой папа, хмуря седые брови. – Вы мешаете мне слушать!
Вы тоже отметили это дружеское «Белла»? На самом деле её звали Изабеллой, но по имени у нас в доме её никто никогда не называл, предпочитая вежливое «мадам Росселини». Думается мне, у этих двоих вскоре что-то получится, недаром папа бросает на неё такие заинтересованные взгляды, когда думает, что этого никто не замечает. Но Жозефину ему не провести, Жозефина всегда была внимательна к деталям!
И вот, наконец, музыка стихла. Наша гостиная, оборудованная под зрительный зал, взорвалась аплодисментами, и мы с Эрнестом хлопали громче всех. Поймав на себе его тёплый взгляд, я поднялась со своего места, и направилась к Луизе, чтобы одной из первых выразить восторг её мастерской игрой. По пути я с лёгкой грустью посмотрела на одну из картин, что висела на стене. На ней была изображена молодая женщина с чёрными волосами, огромными тёмными глазами, и острыми скулами. Это была Жозефина, но это была вовсе не та Жозефина, какую вы видите сейчас. Той Жозефины больше не было, она умерла вместе с Габриелем в домике у реки.
Нынешняя Жозефина больше никого не ненавидела, нынешняя Жозефина обуздала своих демонов и научилась любить, а характер свой показывала лишь в отдельных случаях, и чаще всего они касались воспитания малышки Луизы. Эрнест считал, что я её слишком балую, а я упрямо доказывала, что девочке нужна материнская любовь, а иначе из неё вырастает то же, что выросло в своё время из меня! Как бы там ни было, ограничивать себя в этих вопросах я ему не позволяла – Эрнест всегда безбожно проигрывал в этих спорах, особенно, когда к нам подключалась сама Луиза. У этой крошки был отцовский характер, и если Эрнест худо-бедно мог справиться с каждой из нас по отдельности, то обеих сразу ему было не одолеть.
Рядом с моим портретом вдоль по стене висело ещё несколько картин, преимущественно пейзажи: горы, зелёные швейцарские луга, и тающий в реке розовый закат… Всё это были работы Габриеля. Я развесила их везде, куда только можно было, из последних сил стараясь избежать ощущения нагромождённости. И я гордилась ими! Шутка ли – иметь у себя в гостиной картину одного из самых известных в Париже художников! Да не одну, а с десяток…!
Я прославила его после его смерти. Я выкупила ту самую галерею Этьена де Лакруа, о которой Габриель так мечтал, и поместила в неё только его работы и никакие больше. Поначалу это казалось проигрышным делом, и Франсуаза не раз говорила мне об этом, ведь к неизвестным талантам всегда относятся с подозрением. Но один мой знакомый русский журналист из «Ревю паризьен» написал парочку хвалебных статей о галерее, и уже через месяц она приносила такой же доход, как и один из моих банков. А что вы хотели? Искусство всегда будет в цене, главное грамотно подойти к этому вопросу!
Ни одну из его картин я так и не продала. Предложений была масса, и даже сам Дэвид Симонс приходил ко мне с просьбой об очередной сделке. На этот раз чисто деловой, не подумайте дурного – он хотел приобрести картину для своей новой жены, с которой недавно заключил брак. Девушка попалась хорошая, во второй раз ему повезло куда больше, чем в первый. И, чтобы он не подумал, что я сердита на него, я, действительно, продала ему одну из картин, но не кисти Габриеля, а другую, очень на неё похожую.
В своей жизни Дэвид любил две вещи: загадочных женщин и хорошие сделки. Я внесла нотку загадочности, и поставила условия: он должен будет выбрать только одну картину из тех трёх, что я ему предоставлю. Ни одна из них не принадлежала Габриелю, но выбор Дэвида меня удивил – он купил портрет некой черноволосой и темноглазой француженки… Истиным автором был никому неизвестный русский художник, Фёдор Никитин, он же Тео. К счастью для меня, Дэвид был так же далёк от искусства, как и я от нефтяного бизнеса, поэтому он и не подумал сомневаться, что перед ним работа Габриеля Гранье. Я спросила с улыбкой, как отнесётся его жена к такому странному подарку, на что Дэвид сказал, что беспокоиться на этот счёт не стоит. Вряд ли мы когда-нибудь пересечёмся – он уезжает обратно в Иран, и жену свою забирает с собой, чтобы она родила ему наследника там, и воспитывала его по традициям и обычаям их народа. Я была искренне рада за Дэвида, и пожелала ему удачи. Мы с ним расстались друзьями, а когда он целовал мою руку на прощанье, он ещё раз поблагодарил меня за портрет, и сказал, что будет счастлив там, у себя на родине, иметь хоть какое-то напоминание о загадочной Жозефине Лавиолетт и о той чудесной ночи, что мы провели вместе.
Сейчас мне кажется, что всё это случилось не со мной. Где-то там, в другой жизни, с женщиной, которую я старалась не вспоминать, слишком уж это было тяжело.
Жозефина ведь была оптимисткой, помните? Поэтому она, со счастливой улыбкой на лице, подошла к своей любимой малышке, которая уже вышла из-за фортепиано и со всех ног бежала к ней. Я опустилась на колени, и тогда маленькая Луиза заключила меня в объятия, и радостно воскликнула:
– У меня получилось, получилось! А мадам Росселини говорила, что это слишком сложно, что у меня слишком мало опыта! – Задыхаясь от восторга, Луиза поцеловала меня в щёку, не зная, как ещё выразить свою безграничную радость. – У меня получилось, мама, ты слышала? У меня получилось!
А я уже не скрывала слёз радости, которые двумя горячими ручейками бежали по моим щекам.
Это был первый раз, когда она назвала меня мамой, и теперь в целом мире не было человека счастливее, чем я.
[1] Coffin – «гроб» (англ.)
(обратно)[2] – Я не говорю по-немецки (нем.)
(обратно)[3] Ф. Бонвен (1817-1877) и М-Д. Вильер (1774-1821) – французские художники XIX века
(обратно)[4] В отличие от православных, католики и протестанты чаще всего носят обручальные кольца на безымянном пальце левой руки, вдовствующие – на правой
(обратно)[5] Жак Дусе (1853-1929) – известный французский модельер
(обратно)[6] Так же называют «модерн», один из стилей в искусстве, в том числе и мебельном, особенно популярный в конце XIX – начале XX века
(обратно)[7] Игра слов, «tarte» с французского переводится как «пирог», «пирожок»
(обратно)[8] Ватрушка (фр.)
(обратно)[9] Chignon – булочка (фр.)
(обратно)[10] Диде, Франсуа (1802-1877) и Калам, Александер (1810-1864) – швейцарские художники-пейзажисты XIX века
(обратно)[11] «Falco» с итальянского – сокол
(обратно)[12] Река на юго-востоке Франции, на которой расположен город Лион
(обратно)[13] Стиль мебельного искусства XIX века, названный в честь Т. Чиппендейла, английского мастера-краснодеревщика
(обратно)[14] Один из самых известных французских ювелиров конца XIX века
(обратно)[15] реклама, (фр.)
(обратно)[16] Слово «violet» на французском языке означает «фиалка»
(обратно)[17] Одна из известных опер итальянского композитора Д.Верди
(обратно)[18] «Treu», Трой, в переводе с немецкого означает «верный»
(обратно)[19] Итальянский скульптор XIX века
(обратно)[20] скульптор (нем.)
(обратно)[21] художник (нем.)
(обратно)[22] Bagel – бублик (фр.)
(обратно)


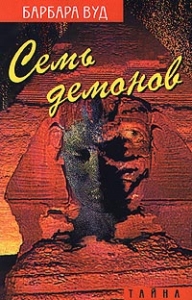
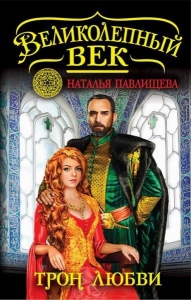
Комментарии к книге «Февраль», Ирина Николаевна Сахарова
Всего 0 комментариев