Предисловие
Авантюрный дух и романтический колорит раннего Возрождения — эпохи, центром которой была Италия, оставил свой след и на таврийских берегах, куда привнесли его генуэзские и венецианские купцы-мореплаватели. Именно там, в Таврике, т. е. Крыму, в ХIV веке и происходит основное действие романа (пролог — в III веке). Средневековый Крым — это земля, где смешалось множество культур, наций, языков и религий. Когда войны и другие исторические потрясения привели к утрате старых торговых путей, в международной торговле возросла роль черноморских портовых городов, а среди них главнейшим была Кафа (Феодосия), которую в те времена называли королевой Черного моря.
В этом шумном многонациональном городе живет героиня романа — славянская девушка Марина. Сюда же, в Кафу, приезжает из далекой Италии молодой римлянин Донато — человек, испытавший немало превратностей судьбы, побывавший и корсаром, и наемным воином, и купцом. Он уехал из Италии, скрываясь от врагов, которые с помощью шантажа и обмана женили его на нелюбимой женщине. А еще он надеялся найти в таврийских горах сокровище, о котором прочел в древней рукописи, но пути к которому не знал. Совершенно случайно ключ к этой тайне подсказала ему, сама того не подозревая, Марина. И теперь Донато становится защитником девушки, рискуя ради нее жизнью. Но, если поначалу Марина нужна была ему лишь для того, чтобы указать путь к таинственному месту, то постепенно, узнав ее ближе, он совсем по-другому стал относиться к юной славянке.
Молодые люди невольно оказались втянуты в политические и религиозные распри, сотрясавшие Таврику, где Кафа, управляемая генуэзским консулом, была центром латинского влияния, Солхат — мусульманской столицей, а горное княжество Феодоро — оплотом православия, наследником духовных ценностей слабеющей Византии. В борьбу включились и русские княжества, постепенно освобождавшиеся от татаро-монгольского ига. Волей обстоятельств римлянину даже довелось побывать в этих княжествах и узнать о последствиях Куликовской битвы.
Казалось бы, все разделяло Марину и Донато, все было против них: семейные и религиозные устои, войны, расстояния, распри алчных правителей, а еще вражда, ревность и месть, дотянувшиеся к ним издалека…
Хватит ли у молодых людей силы духа, чтобы пройти через все испытания? Найдет ли Донато в Таврике свою вторую родину, любовь и судьбу?..
Совершив путешествие в минувшее время, читатель откроет в нем те же стихии, страсти, предрассудки и заблуждения, которые под другими именами и в других формах волнуют нас и ныне, — ведь душа человеческая не меняется с течением веков. И каждый духовный человек хранит глубоко в сердце идеал, который, как Святая Чаша, оставившая свой след в таинственных местах Таврики, способен развеять тьму светом надежды, веры и любви.
Пролог
250 год
Cвет постепенно, проблесками, возвращался, и Аврелия не могла понять, сколько минут или часов она пребывала во тьме. Ей не хотелось выходить из забытья, потому что пробуждение могло оказаться слишком ужасным. Все еще витая на грани двух миров, она старалась восстановить в памяти события последних дней, закончившиеся бурным крушением у темных берегов чужой земли.
А ведь еще вчера измученным морской дорогой беглецам казалось, что их корабль, два месяца назад отплывший из Остии[1], уже через сутки приблизится к спасительным гаваням Вифинии и Понта[2]…
Но ветер, переменчивый, как судьба, внезапно задул со страшной силой, море взволновалось, вскипело, свинцовые облака закрыли солнце, и вокруг наступил мрак. Свирепый порыв бури разорвал и унес парус, а волны, вздымаясь, стали похожи на водяные горы. И небо своей яростью не уступало морю: стрелы молний прорезали тьму, гром сотрясал воздух чудовищными раскатами, ливень хлестал непрерывным потоком. И между двумя безжалостными стихиями — морской и небесной — металась, как беспомощная щепка, римская трирема, прошедшая долгий путь и уже, казалось, достигшая своей цели.
На корабле терпели бедствие римские христиане, бежавшие от жестоких гонений императора Деция. Они наняли судно, чтобы оно доставило их в Синоп, где у епископа Климента — отца Аврелии — были надежные друзья, связанные с давними общинами Малой Азии, находившимися, благодаря удаленности от Рима, в относительной безопасности.
Аврелия слышала, как кормчий сказал ее отцу, что буря относит корабль совсем в другую сторону — к берегам Таврики. Эта земля представлялась римлянам диким и страшным обиталищем звероподобных тавров и людоедов-листригонов. Остаток дня и ночь, пока потерявший управление корабль носило по бурным волнам Понта Эвксинского, христиане молились своему единственному Богу, а корабельщики и гребцы, бывшие по большей части язычниками, взывали к Юпитеру-Зевсу и Нептуну-Посейдону.
Ближе к утру, когда немного рассеялась тьма, кто-то из моряков заметил полоску земли, к которой буря гнала корабль. Этот мелькнувший на горизонте мыс показался кормчему опасным, ибо на пути к нему могли встретиться отмели и подводные камни. Климент тоже с мрачными предчувствиями всматривался вдаль. Он сам когда-то был мореходом и хорошо знал, чем грозит кораблю такое столкновение.
Аврелия дрожала и едва не падала в обморок от страха — не столько за себя, сколько за ту маленькую жизнь, которая зародилась у нее под сердцем несколько месяцев назад. Этот ребенок должен был родиться истинным христианином — христианином в третьем поколении, ибо Аврелия и ее муж Светоний были крещены при рождении, а их родители приняли христианство в молодые годы. Члены общины смотрели на дочь епископа почти как на будущую Богородицу, и Аврелия чувствовала гордость и трепет при мысли о предстоящем материнстве.
Юная женщина старалась сохранять мужество и не показывать своего отчаяния, но силы оставляли ее с каждой минутой. Отец и муж перед самым крушением корабля привязали Аврелию веревками к прочному деревянному ящику, в котором, как она знала, находились земные сокровища христиан и священные реликвии, превосходившие своей ценностью все мирские блага.
Последнее, что запомнилось Аврелии, был удар корабля о подводную скалу, сопровождаемый страшным треском и криками ужаса обреченных на гибель людей. Дальше все для нее покрылось мраком беспамятства, в котором душа блуждала, не зная, где очнется: в мире живых или мертвых.
И вот теперь, осторожно приподняв веки, Аврелия услышала голос отца:
— Благодарю тебя, Господи! Она жива!
Измученное, осунувшееся лицо Климента склонилось над дочерью. Его запавшие глаза лихорадочно блестели, спутанные мокрые волосы прилипли ко лбу. Епископу было чуть больше сорока, но сейчас, после пережитых бедствий, он выглядел почти стариком.
Знатный римлянин, происходивший из всаднической семьи, Климент Наталис крестился еще в юности, под влиянием своей возлюбленной невесты Летиции. Потом они с Летицией обвенчались по христианскому обряду, и через год родилась Аврелия. А спустя еще три года Летиция умерла, так и не произведя на свет второго ребенка. После смерти жены Климент ревностно ушел в новую религию, доверив общине и свое имущество, и воспитание своей единственной дочери. Вскоре он стал влиятельным членом клира, а потом и епископом.
Новая вера все шире распространялась в империи, и многие знатные и состоятельные люди становились христианами. Но, беспокоясь о силе и богатстве христианских общин, Климент с тревогой замечал среди них ростки себялюбия и фанатизма. Епископы, пресвитеры, диаконы все больше возвышались над рядовыми членами общин, стали носить белые одежды и заявлять, что только они имеют право проводить молитвенные собрания и совершать служение Христу. Раньше диаконисами могли быть и женщины, — и Климент готовил свою дочь к этой роли, — теперь же знатные клирики находили множество аргументов, чтобы обосновать непригодность женщин для духовного поприща.
Понимая, что дочь не станет диаконисой, но желая видеть ее безупречной христианкой, благочестивой женой и матерью, Климент выдал Аврелию за Светония — одного из самых преданных молодых проповедников своей общины.
Но пришло страшное время. Если раньше лишь отдельные христиане могли пострадать от доносов, самосудов или клеветы языческих жрецов, то теперь железный кулак Рима обрушился на всю новую веру. Император Деций говорил, что предпочел бы терпеть в Риме второго императора, чем христианских епископов. Укрепляя пошатнувшуюся власть империи, Деций при поддержке сената потребовал поголовной присяги всех подданных, объявил обязательным культ почитания гения императора. Проповедь же иной веры приравнивалась к государственному преступлению. Истинные христиане отказывались воскурить фимиам и принести жертву перед статуей императора. И тогда начались тюрьмы, пытки и казни, сопровождавшиеся конфискацией имущества общин.
Климент не мог допустить, чтобы в руки властей попала его беременная дочь и та священная чаша, которую с недавних пор ему доверено было хранить. И тогда он принял решение бежать из Рима. Община, возглавляемая Климентом, была богата, и все ее имущество, переведенное в золото и драгоценности, тоже отправилось в путь, чтобы на новом месте беглецы могли прочно обосноваться и начать новую жизнь. Но рок распорядился иначе…
Аврелия смотрела на отца своими огромными черными глазами, и этот взгляд казался таким отрешенным, нездешним, что Климент испугался за рассудок дочери.
— Аврелия, дитя мое, ты меня узнаешь?.. — спросил он дрогнувшим голосом.
— Отец… — прошептала она одними губами. — Мы с тобой живы?.. А как другие? Они тоже спаслись?
— Увы, больше никто из общины не спасся, — тяжело вздохнул Климент. — Корабль раскололся на куски. Может, остались живы только несколько гребцов; я видел, как они уцепились за доску, но их отнесло далеко от меня и, наверное, прибило к берегу по другую сторону мыса.
— А все наши погибли?.. И Светоний?.. — сдавленным голосом спросила Аврелия.
— Бедная моя, мужайся. Бог оставил жизнь только нам с тобой… Вначале мы со Светонием держались рядом, уцепившись за ящик, к которому ты была привязана. Но потом ударила сильная волна и Светония отбросило в сторону. Он бы мог, наверное, спастись, если бы умел плавать. Но, на свое и наше горе, бедняга панически боялся воды и сразу же захлебнулся, пошел ко дну. И я не успел ему помочь. Да и нельзя мне было удаляться от ящика, оставлять тебя одну. Крепись, дочка. Горе твое велико, но Бог посылает нам испытания, может быть, для высших целей.
Аврелия не плакала. У нее не было слез. Она не раз видела, как рыдали и голосили жены по умершим мужьям, и сейчас в душе корила себя за то, что не плачет по Светонию. Она жалела его, как и других погибших, — но это была жалость человеколюбивой христианки, не похожая на неистовое горе женщины, потерявшей любимого человека. С детства воспитанная в строгом благочестии, выданная замуж по воле отца, Аврелия не любила мужа той любовью, которая бывает между мужчиной и женщиной и о которой она могла лишь смутно догадываться. Светоний был суровым, аскетичным юношей, и Аврелия слегка робела перед ним, воспринимая супружеские отношения как долг, освящаемый церковным обрядом ради продления человеческого рода.
Но, каковы бы ни были ее чувства к Светонию, в эту минуту любые чувства для Аврелии перекрывались страхом — страхом попасть в темную, мрачную неизвестность, где опасности со всех сторон угрожают ей, ее отцу и еще не рожденному ребенку.
Слегка приподняв голову, она взглянула в сторону моря и увидела, что разгул стихии постепенно идет на убыль. Гроза утихла, и первые рассветные лучи пробились сквозь поредевшие облака, освещая морскую равнину, по которой катились пенистые гребни мощных, но уже не огромных волн.
— Мы в Таврике?.. — Аврелия испуганно и вопросительно взглянула на отца. — Что же нам делать?.. Одни, без друзей, без имущества…
— С нами наша вера в Спасителя, а это главное, — твердо заявил Климент.
Аврелии вдруг вспомнилось, что ее отец был хранителем Чаши, о которой никто в общине до конца не знал всей правды, догадываясь лишь о том, что таинственную и бесценную святыню епископ хочет отвезти на Святую землю.
— Отец, а как же Чаша?.. — дрогнувшим голосом выдохнула Аврелия. — Она теперь на дне морском?..
— Нет, дитя мое, она спаслась вместе с нами, — сказал епископ, отодвинув с лица дочери мокрую прядь ее длинных темных волос. — Ящик с нашими сокровищами на берегу. Но он в чужих руках.
Климент помог Аврелии подняться с земли и кивком головы указал на что-то за ее спиной. Она оглянулась и увидела шагах в десяти от себя человека, сидевшего на том самом ящике, в котором сосредоточилось все имущество погибшей общины. Оборванная мокрая одежда незнакомца свидетельствовала о том, что он тоже совсем недавно боролся с морскими волнами. Большая лодка рядом с ним казалась выброшенной на берег ночным штормом.
— Кто это?.. Дикарь, тавр?.. — испуганно спросила Аврелия.
— Пока не знаю. Но этот дикарь на своей лодке помог нам спастись, и мы должны быть ему благодарны. И, кажется, он не злобный. Я попросил его отойти в сторону, пока буду приводить тебя в чувство, и он не стал возражать.
Аврелия еще раз осторожно оглянулась на жителя Таврики и заметила, что он смотрит в ее сторону с нескрываемым любопытством. В его облике и выражении лица не просматривалось ничего угрожающего, и это немного успокоило юную женщину. Она тихо сказала отцу:
— Может быть, это простой рыбак, и он не сделает нам ничего плохого. Будем надеяться, что он даже не догадывается, на каких сокровищах сейчас сидит. Вот только как нам с ним объясниться? Ведь он, наверное, не понимает ни латыни, ни греческого, а мы не знаем здешних языков.
— Я рад, что ты не утратила способности здраво рассуждать. — Климент постарался улыбнуться, чтобы приободрить дочь. — Ты должна быть сильной — как христианка и будущая мать. А этот рыбак, кажется, знает греческий. Возможно, он грек, хотя и не похож.
— Так попроси его нам помочь. Пусть даст нам временное пристанище, а потом найдем корабль, чтобы выбраться из Таврики. Мы ведь можем заплатить за услуги?
— Да. Но при этом мы беспомощны, одиноки и бесправны, — вздохнул Климент. — В любую минуту он или кто-то другой может отобрать наши сокровища, а нас с тобою продать в рабство.
— Так что же нам делать?.. — вздрогнула Аврелия, подумав о насилии и позоре.
— Верить и бороться. Ведь Господь нас оставил в живых недаром — значит, бережет для какой-то миссии, — заявил Климент и, обратившись к незнакомцу, громко сказал по-гречески: — Спасибо тебе, рыбак! Ты спас меня и мою дочь.
Незнакомец встал и неторопливо подошел к спасенным римлянам. При ближайшем рассмотрении он оказался молодым парнем крепкого сложения с мужественным загорелым лицом, на котором выразительно блестели большие серо-голубые глаза. Белокурые волосы парня выгорели на солнце и составляли контраст с его темными бровями и ресницами. Аврелии вдруг подумалось, что так мог выглядеть могучий герой Троянской войны Ахилл, который, по преданиям, был родом из Таврики. Она слыхала, что в этих местах жили племена киммерийцев и скифов, а теперь еще с севера сюда пришли сильные и жестокие готы, которые уже стали угрожать самой Римской империи. Светловолосый юноша мог принадлежать к одному из этих неведомых ей и опасных племен. Аврелия невольно поежилась, когда его пристальный взгляд пробежал по всему ее телу, облепленному мокрой одеждой. Живот будущей матери уже заметно округлился, и незнакомец, кивнув на Аврелию, обратился к Клименту на чистом греческом языке:
— Твоя дочь беременна? А где ее муж?
От удивления Аврелия и Климент на мгновение потеряли дар речи. Потом епископ обрадованно воскликнул:
— Так я не ошибся, ты действительно понимаешь греческий! Какая удача, что ты не тавр и не скиф. Ты из боспорских греков?
— Нет, я не грек, но живу здесь с малолетства и знаю греческий.
— Ты похож на северного уроженца, — заметил Климент. — Может быть, ты из племени готов?
— Нет. — Лицо парня исказилось недоброй гримасой. — Готы напали на наше селение, многих перебили, а иных взяли в плен и повезли в Таврику, чтобы продать в рабство. Мне было тогда десять лет, и я сбежал от них. Меня приютил старый грек Памфил, который заменил мне отца.
— Так кто же ты родом? — уточнил Климент.
— Греки зовут нас венедами и антами, а мы сами себя называем славянами.
— А! Я слыхал о таком народе! — воскликнул епископ. — По преданию, апостол Андрей Первозванный ходил просвещать венедов. Но вы так и не приняли истинную веру?
Однако молодого славянина, видимо, не очень занимали вопросы вероисповедания, потому что он посмотрел на Аврелию и вновь поинтересовался:
— Так где же твой муж?
Она отвела взгляд от его простодушно-любопытных светлых глаз и тихо ответила:
— Он утонул вместе с остальными нашими друзьями.
— Утонул? Значит, ты теперь вдова? — казалось, молодой варвар был даже обрадован. — Тогда ты и твой отец можете поселиться в нашей хижине. Мы с Памфилом живем небогато, однако же и не голодаем. Я хотел бы иметь жену, но поблизости нет красивых девушек. А уйти далеко я не могу, мне нельзя бросить Памфила одного, он совсем больной. А ты красивая, молодая, и мужа у тебя больше нет. Если ты станешь моей женой, я буду тебя защищать, заботиться о тебе. Как твое имя?
Растерявшись, Аврелия хотела возразить напористому и неотесанному варвару, но, взглянув на Климента, встретила в его глазах предостережение. «Помолчи, я сам с ним объяснюсь», — сказал ей отец на латыни, а потом обратился к славянину на греческом:
— Ее зовут Аврелия, а меня — Климент. Но у нас не принято, чтобы женщина выходила замуж сразу, как только овдовеет. По обычаю ей надлежит несколько месяцев оплакивать покойного мужа. Однако спасибо тебе за помощь, которую ты предлагаешь. Мы с дочерью охотно поселимся в твоем доме и будем лечить твоего воспитателя Памфила, а также помогать тебе по хозяйству. Люди нашей веры не чуждаются никаких работ. Только помоги нам донести до твоего дома этот ящик.
Аврелия удивленно взглянула на отца, но он сжал ей руку и прошептал: «Пока у нас нет другого выхода, а там посмотрим».
Ящик все еще был обвязан веревками, и Климент хотел нести его вдвоем с рыбаком, но юноша, усмехнувшись, сказал:
— Не надо, ящик легкий, я и сам донесу. Только в руках такой держать неудобно, помоги поставить его мне на голову. А что у вас в этом ящике? Может, золотые монеты?
— У нас здесь реликвия, которая нам дороже золота, — уклончиво ответил епископ.
Скоро все трое двинулись прочь от берега, в сторону пологого горного склона, где между деревьями пряталась одинокая рыбацкая хижина. Молодой варвар шагал впереди, придерживая руками ящик у себя на голове, а следом на некотором расстоянии шли, поддерживая друг друга, Климент и Аврелия. Оглянувшись на нее, рыбак вдруг спросил:
— А как звали твоего мужа?
— Его звали Светоний, — ответила она печально.
— Светоний? — воскликнул он почти радостно. — Так у нас с ним даже имена похожи! Он Светоний, а я — Световид! Тебя сама судьба мне послала!
Аврелию невольно покоробили слова варвара, который, ничтоже сумняшеся, сравнивал себя со Светонием — потомком одной из ветвей знатного римского рода, среди предков которого был даже знаменитый историк Светоний Транквилл. Глядя в широкую спину бодро шагавшего рыбака, она испуганно прошептала:
— Отец, этот варвар уверен, что я стану его женой. А вдруг он будет действовать силой?
— Надейся на лучшее, дочка, — так же тихо откликнулся Климент. — Похоже, что этот Световид не лишен доброты и мы сможем на него повлиять. Благодарение Богу, с нами не случилось самого страшного. Ведь мы могли попасть в руки береговых пиратов или кровожадных тавров. А этот юноша воспитан греком, и, стало быть, он не такой уж варвар, хоть и язычник.
Бедная рыбацкая хижина прилепилась к скале, рядом с пещерой, которая как бы служила ее продолжением. Но убогость этого жилья не смутила христиан, привыкших проводить молитвенные собрания в лесах и катакомбах. Гораздо больше Аврелию смущали откровенные пристальные взгляды молодого рыбака, вблизи которого ей предстояло прожить некоторое время.
Внутри хижины на тюфяке возле стены лежал старый грек Памфил, чье изможденное землистое лицо явно свидетельствовало о снедавшей его болезни. Но на этом лице живо и осмысленно блестели глаза, окруженные черными тенями. Увидев вошедших, он слегка приподнялся и спросил:
— Это, наверное, после вчерашнего шторма?
— Да, их корабль разбился у мыса, — пояснил Световид и, сняв с головы ящик, поставил его в угол. — Девушка была привязана к ящику, а ее отец держался рядом. Их зовут Климент и Аврелия. Остальные все утонули.
Памфил слабым голосом заметил:
— Вот уж поистине, прав был мудрец Анахарсис, когда на вопрос, кого на свете больше — мертвых или живых, — тоже ответил вопросом: «А куда отнести тех, кто плывет по морю?» Да, корабельщики всегда находятся на толщину доски от смерти… — Грек перевел дыхание и обратился к пришельцам: — Судя по именам, вы римляне. Как же здесь оказались?
— Мы плыли из Рима в Синоп, но во время бури корабль отнесло совсем к другим берегам, — ответил епископ.
— Да, Таврика не лучшее место для благородных римлян, — хрипло усмехнулся грек. — Вы, наверное, христиане?
Климент и Аврелия переглянулись, удивленные его проницательностью.
— Как ты догадался? — спросил епископ. — В Таврике уже знают о христианах и о гонениях?
— Таврика — не такой уж край света, — с философским видом заметил грек. — Однако я думаю, что сейчас вам надо не рассуждать о вашей вере, а согреться после морского купания и что-нибудь поесть. Вы сейчас слабы, измучены и можете заболеть, а со мной вместе это будет уже трое больных, слишком много на одного Световида. К тому же твоя дочь еще и беременна.
— Спасибо тебе за заботу, Памфил, — с поклоном отвечал ему Климент. — Ты и твой сын хоть и язычники, но добротой похожи на христиан.
— Может, мы не так уж добры, а просто видим в вашем спасении свою пользу, — со скрытой усмешкой пробормотал грек, но Климент сделал вид, что его не услышал или не понял.
Скоро епископ с дочерью сидели возле очага, разожженного Световидом, и сушили свою просоленную морем и все еще влажную одежду, завернувшись в куски полотна, которые рыбак вытащил из сундука в углу хижины.
Пока гости грелись у огня, хозяева приготовили нехитрый ужин, состоявший из рыбной похлебки и лепешек с сыром.
Согревшись и насытившись, Аврелия почувствовала, что ее необоримо клонит в сон. Сквозь слипающиеся веки она увидела, как молодой рыбак занес в хижину топчан и, поставив его возле очага, накрыл меховой шкурой. Отец уложил сонную Аврелию на это спартанское ложе, которое, однако, показалось измученной страннице весьма уютным. Закрыв глаза, она сквозь дремотное забытье услышала, как отец о чем-то беседует с Памфилом, и успела подумать, что сейчас утро и совсем не время для сна, в который дочь епископа стремительно погружалась, даже забыв помолиться.
Проснулась Аврелия среди ночи. Очаг давно погас, и слабой прохладой веяло из неплотно закрытой двери хижины. Повинуясь безотчетному порыву, Аврелия встала, завернулась в ткань, которой была укрыта, и вышла за порог. Небо, еще темное, с восточной стороны уже окрашивалось в серовато-голубые тона, что свидетельствовало о приближении рассвета. «Как же долго я проспала», — подумала молодая женщина, осторожно ступая по каменистой дорожке, ведущей от дома в сторону морского берега. Слева между деревьями мелькнул огонь, и, направившись к нему, Аврелия увидела костер, разожженный перед входом в пещеру. Возле костра сидел Световид и нанизывал на крючья рыбу, которую, очевидно, собирался коптить. Аврелия поняла, что рыбак ночевал в пещере, предоставив свою тесную хижину гостям. Поежившись от ночной прохлады, она нерешительно приблизилась к живому огню. Световид посмотрел на нее с тем пристальным и откровенным любопытством, которое невольно смущало юную женщину. Сейчас он был в одних штанах, и его обнаженный до пояса торс казался в отсветах пламени отлитым из бронзы и напоминал статуи атлетов. Аврелия видела в молодом рыбаке лишь варвара, простодушное дитя природы, но не могла не отметить, что он недурен собой, а его диковатые повадки по-своему приятны. Он поманил ее рукой:
— Подходи смелее. Раз уж проснулась, то посиди рядом и поговори со мной. — Он пододвинул ей деревянный пенек, служивший скамейкой. — Хочешь есть? Скоро рыба испечется. Или, может, тебе хочется помыться? У нас после ливня набрался полный чан дождевой воды. Сейчас принесу.
Световид пошел к скале, по уступу которой вода во время ливня стекала, как по желобу, и взял стоявший внизу большой чан. Мускулы играли под загорелой кожей молодого рыбака. «Как легко несет он эту тяжесть», — вдруг подумала Аврелия и почему-то вспомнила хрупкого Светония, презиравшего ристания языческих атлетов.
— Вот, можешь помыться и сразу обсушиться возле огня, — предложил Световид, поставив чан рядом с костром. — Давай буду поливать тебе из черпака.
Он взял висевший на ветке дерева ковш с длинной ручкой и зачерпнул воды из чана.
— Не надо, я сама, — сказала Аврелия и протянула руку к ковшу, невольно выпустив при этом конец ткани, в которую была укутана.
Она тотчас поняла свою оплошность и придержала ткань, но было уже поздно: рыбак успел увидеть ее обнаженную грудь, и глаза его загорелись.
— Красивая! — сказал он, шагнув к Аврелии. — Не закрывай свое тело, я хочу на него посмотреть.
Она отступила и споткнулась, но он тут же удержал ее, схватив в объятия.
— Пожалуй, я не дотерплю до того срока, когда ты перестанешь оплакивать мужа, — заявил Световид, прижимая ее к себе. — Я же тебя спас, приютил, буду о тебе заботиться. Значит, я могу стать твоим мужем прямо сейчас.
Аврелия почувствовала, как гулко бьется его сердце, и ей стало страшно, что необузданный молодой дикарь сию минуту может взять ее силой, — и неоткуда будет ждать помощи, потому что ее несчастного отца этот белокурый силач способен прибить одной рукой. Напрягаясь в его объятиях и выставляя вперед локти, Аврелия испуганно выдохнула:
— Мы еще даже не связаны брачным обрядом, а ты уже…
— Так пусть твой отец сегодня же совершит этот обряд! — воскликнул Световид и, сдвинув вниз покрывало, которое Аврелия судорожно сжимала возле шеи, приник горячими губами к ее обнаженному плечу.
— Нет! Ты не должен меня трогать, пока я беременна, иначе прогневишь Бога и он покарает меня и тебя за этот грех!
Слова о Божьей каре насторожили рыбака, и он, ослабив объятия, удивленно спросил:
— За что ваш Бог нас покарает? Ведь никто, даже грозный Перун, не запрещает мужчинам и женщинам любиться.
В этот миг лихорадочно метавшиеся мысли Аврелии пришли в порядок и она нашла ответ, который годился и для Световида, и для нее самой:
— Я дала клятву, что не буду принадлежать ни одному мужчине, пока не рожу своего первенца. Дева Мария, Божья матерь, познала своего мужа Иосифа лишь после того, как родила Божьего сына. И я разделю с тобой ложе лишь после того, как родится мой сын. Так я поклялась перед Богом — и не отступлю.
В ясных глазах молодого славянина отобразилось удивление:
— А откуда ты знаешь, что у тебя родится сын, а не дочь?
— Я знаю, что у меня будет сын, — твердо ответила Аврелия, которая в эту минуту и сама была убеждена в правоте своих слов. — Я даже придумала мальчику мирское имя, а христианское ему дадут при крещении.
— А ты какое имя придумала?
— Вчера в море мы с отцом словно получили второе рождение, и жизнь моего сына, наверное, будет связана с морем, по которому ему предстоит долго плавать в поисках Святой земли… — Аврелия вздохнула и, пользуясь тем, что Световид разжал объятия, отступила на несколько шагов назад. — Я назову его Маритимус — что значит «морской».
— Зачем же ему носиться по дальним морям? Он будет здесь, со мной, рыбачить недалеко от берега.
Световид шагнул к отступающей Аврелии, и в этот момент из хижины вышел Климент. С одного взгляда догадавшись, что происходит между его дочерью и Световидом, епископ кинулся к ним со словами:
— Аврелия, дочка, твоя одежда давно высохла, иди, надевай ее.
Сам Климент был уже одет и в руках держал платье Аврелии. Молодая женщина быстро подошла к отцу и стала чуть позади него, опасливо поглядывая на Световида. Климент с поклоном обратился к рыбаку:
— Спасибо тебе, добрый человек, за помощь, но позволь нам с дочкой ненадолго удалиться по нашим нуждам. Мы должны начинать утро с молитвы.
— Ну что ж… — пожал плечами Световид. — Вон за тем большим камнем есть источник, можете возле него и совершать свои обряды.
Климент и Аврелия проследовали в указанном направлении и скоро увидели родник, вытекающий из скалы и скрытый с одной стороны каменным выступом, а с другой — зарослями можжевельника. Аврелия поспешно оделась, потом кинулась к источнику и жадно напилась чистой холодной воды, зачерпывая ее ладонями. Утолив жажду и умывшись, она села на ствол поваленного сухого дерева и, пока отец был у родника, торопливо прошептала слова молитвы.
— Я увел тебя в сторону, чтобы поговорить о важном, — сказал епископ, присев рядом с дочерью и перекрестившись. — Бог простит нас за краткость молитвы, но сейчас этот разговор нам должен ее заменить.
В предрассветном сумраке глаза Климента горели вдохновением и тревогой. Аврелии казалось, что после пережитых бедствий она уже ничему не может удивляться, но слова отца сразу же ее насторожили: она почувствовала, что сейчас он откроет ей нечто судьбоносное, связанное с высшими истинами.
— Дитя мое, — начал Климент, взяв дочь за руку, — слушай меня внимательно и запоминай. Когда-нибудь тебе придется пересказать все это своим потомкам. — Епископ немного помолчал, переводя дыхание. — Наверное, ты догадывалась, что цель нашего бегства из Рима — не только спасение христианских жизней, но и высокая миссия, которую мы должны исполнить. Я был в числе посвященных, и мне доверили вернуть на Святую землю вторую Чашу.
— Вторую? А разве их две?.. — замерла удивленная Аврелия.
— Их две, но они неотличимы одна от другой. Первая — та, из которой Христос причащал апостолов во время Тайной Вечери и в которую потом собрали его кровь. Иосиф Аримафейский был ее хранителем. Он со своими спутниками пошел в Месопотамию, в царство Озроена, где столицей был славный город Эдесса. Тамошний царь Эвалон после проповеди Иосифа принял христианство и с помощью ангелического всадника победил своих врагов. Этому царю Иосиф и доверил на хранение Чашу. В Эдессе уже была христианская святыня — Святой Убрус, на котором отпечатался Нерукотворный образ Божий. Убрус был прислан царю Авгарю V самим Христом, и с помощью святого плата больной царь исцелился. Иосиф и другие проповедники хотели нести свет христианства как на Восток, так и на Запад, и рассудили, что должно быть две Святые Чаши — для двух христианских частей света. Вторая драгоценная чаша была сделана как копия первой. Ее обернули в Священный Убрус, и она обрела такую же святость, как была у первой. Оставив обе чаши на хранение христианскому царю Эдессы, Иосиф направился через Евфрат на Восток. Своим ученикам он завещал открыть тайну Чаши правителю Рима, когда тот будет готов принять христианство. Шло время, умирали святые проповедники и мученики, но их слова и деяния давали всходы, истинная вера расширялась все дальше на Восток и Запад. И недаром именно Озроена, где находилось несколько святынь, стала первым в мире государством, в котором христианство было провозглашено главной религией. Это случилось более тридцати лет назад, в правление царя Авгаря VIII. А через год следующий царь, Авгарь IX, был приглашен в Рим императором Каракаллой. Авгарь и священники Эдессы решили, что правитель Рима проникся новой верой и пора укрепить его в этом, подарив Святую Чашу, из которой он может принять причастие. Но по приезде в Рим Авгарь был схвачен и предательски убит, а Озроену император провозгласил римской провинцией. К счастью, одному из священников, сопровождавших царя, удалось спасти Чашу, и он передал ее на хранение римской общине, в которую впоследствии вошел и я. Теперь, когда начались гонения, язычники будут пытать праведников и могут узнать о могуществе Святой Чаши и о значении ее для христиан. И потому мы решили увезти святыню подальше от опасностей и сохранить вторую Чашу вблизи тех мест, где хранится первая. Мой учитель, проповедник Татиан, перед которым я преклоняюсь, обладал пророческим даром и предсказывал, что когда-нибудь одна из чаш прославится в Британии, а другая — в Византии, но искать их будут христианские воины по всему миру. И у истоков этой великой тайны находимся мы с тобой — гонимые, безвестные христиане, чьи имена затеряются во тьме веков. Да, именно нам, оставшимся в живых, дарована эта честь!
Но Аврелия не разделяла восторга, горевшего в глазах епископа. Тяжело вздохнув, она сказала:
— Мы остались в живых, но что с нами будет дальше? Одни, на краю света… Хорошо, если приютившие нас рыбаки окажутся людьми честными и помогут нам выбраться из Таврики. — Аврелия вспомнила горячие объятия Световида и засомневалась, что молодой славянин отпустит ее от себя. — Да и где уверенность, что по дороге на нас не нападут какие-нибудь злобные варвары? Как мы с тобой вдвоем, без охраны, сможем довезти наши сокровища? Ты не так молод и крепок, чтобы пускаться в опасный путь, а я беременна…
— Неужели ты думаешь, дочка, что я всего этого не понимаю? Вчера, когда ты, совсем измученная, уснула, что неудивительно в твоем положении, я бодрствовал почти до вечера. Вначале беседовал с греком, а потом долго предавался размышлениям. Кстати, Памфил не глуп и вовсе не дик. Это сейчас он немощен и прикован к месту, но в молодости ему приходилось плавать во Фракию и Понт, а уж Таврику он знает от края до края. Он сразу догадался, что в ящике мы везем какие-то сокровища, но не выказывал намерения их отобрать. Тогда я сам поведал ему всю правду, — а что мне оставалось делать? Грек сказал, что выбраться из Таврики с такими сокровищами в руках будет непросто. Ближайшее отсюда поселение — городок Сугдея[3], где живут аланы и греки. Но там сейчас неспокойно. Сугдея находится на окраине Боспорского царства, которое пришло в упадок из-за бесконечных распрей. Скоро племена готов будут хозяйничать по всей Таврике, а потом доберутся и до малоазиатских городов.
— Так что же нам делать? Куда бежать — на запад или на восток?
— Грек сказал мне, что к западу отсюда есть пещеры в горах, где могут обитать христиане — последователи тех первых мучеников, которых крестил еще Климент, ученик апостолов Петра и Павла. Как знаменательно, что у меня то же имя, какое носил римский святой, погибший в Таврике!
Аврелия знала историю святого Климента, третьего Римского Папы, рукоположенного самим апостолом Петром. 150 лет назад за свои проповеди Климент по приказу императора был сослан в Таврику, где вместе с учениками должен был трудиться в каменоломнях Херсонеса на самых тяжелых каторжных работах. Свято выполняя завет Вселенской церкви: «Пойдите и научите все народы», Климент стал проповедовать новую веру жителям города и округи. Он сотворил чудо: в безводных каменоломнях открыл источник пресной воды, на который указал ему в видениях ангел. После этого многие язычники стали принимать христианство и строить церкви в округе Херсонеса. Узнав об этом, римские власти осудили Климента на жестокую казнь: его привязали к корабельному якорю и живого бросили в пучину. Казнили и его учеников. Но в Таврике остались последователи святого, и они берегли свою веру.
— Значит, ты хочешь идти на запад Таврики, к дальним пещерам, чтобы там искать христиан? — догадалась Аврелия.
— Да, в этом наше с тобой спасение. Если мы не найдем христианскую общину, то будем в постоянной опасности и не выберемся отсюда. Но я не могу пускаться в путь с сокровищами, их придется спрятать где-нибудь недалеко, в безлюдных горах. Памфил обещал мне, что его приемный сын покажет такое место, где есть незаметная для посторонних глаз пещера. Я спрячу там все, кроме Чаши. Чашу я возьму с собой, обернув в мешковину. Святыня укажет мне путь.
— Ты говоришь только о себе? — насторожилась Аврелия. — А как же я? Разве мы с тобой не вместе отправимся в путь?
— Я долго думал об этом, но решил, что тебе нельзя идти со мной. И Памфил не советовал брать тебя в дорогу. На меня, пожилого бедного странника, никто не обратит внимания, а молодая красивая женщина слишком заметна в этих диких местах. К тому же твоя беременность не позволит тебе идти по скользким камням или убегать от погони. Ты должна беречь дитя, которое носишь под сердцем. Поживешь у рыбаков, пока я буду добираться до святых пещер. Потом я вернусь за тобой — но уже не один, а с другими христианами.
— Но я боюсь оставаться здесь одна, без тебя!.. — сдавленным голосом прошептала Аврелия. — Отец, поживи и ты у рыбаков некоторое время, окрепни после бедствий!
— Я могу задержаться здесь лишь на несколько дней, не больше. Нам нельзя оставаться в Таврике до зимы, корабли в зимнее время не плавают по Понту. Да и как ты будешь жить в этих суровых краях, когда наступят холода? Как будешь рожать ребенка? Нет, я должен поскорее отправиться в путь.
— А вдруг с тобой что-нибудь случится в пути?.. А если ты не найдешь христиан?..
— Не бойся, Чаша меня охранит, приведет к единоверцам и освятит те места, в которых я побываю. Так надо, так велел мне ангел, которого я видел сегодня во сне.
Аврелия знала, что отец верит вещим снам и возражать ему в этом бесполезно. Она тяжело вздохнула:
— Но позволь мне хотя бы сопровождать тебя до той пещеры, в которую ты спрячешь сокровища. Ты ведь не можешь доверить эту тайну одному лишь язычнику Световиду.
— Пожалуй, я могу тебя взять, если путь к тому месту окажется не слишком долгим и трудным. Что же касается Световида, то он хоть и язычник, но, мне кажется, не алчный до золота, и это меня успокаивает. Притом же я спрячу мешок с ценностями так, что ни один язычник до него не доберется. Сокровища будут охраняться христианским заклятием.
Аврелия на несколько мгновений задумалась, потом спросила:
— Но сможем ли мы сами потом отыскать это место, если оно такое укромное и неприметное? А вдруг что-нибудь случится с нами и со Световидом? Как сделать, чтобы эти сокровища не пропали для христиан?
— И об этом я подумал, дочка. Знай, что вместе с Чашей мне в наследство от Татиана досталась еще одна реликвия — осколок небесного камня, когда-то упавшего на Святую землю. Этим камнем можно начертить знаки на любой, самой твердой, скале, и знаки там останутся навечно. Но они будут скрыты от глаз людских до тех пор, пока на скалу не попадет небесная вода. У входа в пещеру, где мы спрячем сокровища, я нарисую хризму[4] на скале.
— И на ту скалу надо будет плеснуть дождевой водой, чтоб увидеть знак?
— Да. По этому символу ты сможешь найти тайник, если со мной что-нибудь случится.
— Я не хочу даже думать, что с тобой может случиться недоброе! — запротестовала Аврелия.
В эту минуту кусты рядом с ними раздвинулись, появился Световид и спросил:
— Вы все еще молитесь?
— Неужели ты боишься, что мы с дочерью сбежим? — невесело усмехнулся Климент.
— Нет, я этого не боюсь, — ответил рыбак с простодушной серьезностью. — Я знаю, что вы никуда не уйдете без тех предметов, которые в ящике. Они вам слишком дороги. Однако я пришел, чтобы позвать вас в дом. Памфил проснулся и хочет с вами поговорить.
Климент и Аврелия молча последовали за Световидом.
Памфил теперь не лежал, а сидел на своем низеньком ложе, подогнув колени и обхватив их руками. Вид у него был все такой же болезненный, но, казалось, он делал усилия, чтобы взбодриться.
— Ты уже все обсудил со своей дочерью, Климент? — обратился он к епископу. — Ты не передумал идти к Херсонесу, искать пещеры христиан?
— Нет, не передумал. Но дочь моя боится отпускать меня одного. Убеди ее, что мне ничего не грозит.
У Аврелии от волнения подкашивались ноги, и она тихо опустилась на топчан. Климент сел рядом с дочерью и ободряюще погладил ее по руке.
— Я не могу сказать, что твоему отцу совсем ничего не грозит, — вздохнул грек. — Но, поверь, если ты отправишься в путь вместе с ним, то это будет намного опасней для вас обоих. Твоя красота и благородное происхождение слишком заметны. Любой разбойник или кочевник — а их на наших дорогах хватает — обратит на тебя внимание и захочет взять себе или кому-нибудь продать. Отец, конечно, станет тебя защищать и поплатится за это жизнью. Значит, разумней, если он пойдет один. Я бы сам его сопровождал, да болезнь привязала меня к месту. А дать ему в спутники Световида тоже не могу, слишком дорог мне мой приемный сын, чтобы рисковать им ради чужеземца. Да и как мы с тобой останемся здесь одни, без Световида? Я беспомощный старик, а ты беременна, да и непривычна к жизни в одинокой рыбацкой хижине. Так что, видишь, по всему выходит, что искать спутников-единоверцев Клименту придется в одиночку.
Аврелия опустила голову, понимая правоту грека, и пробормотала:
— Но я могу пойти вместе с отцом к тому месту, где он спрячет христианские ценности?
— Можешь, это не очень далеко отсюда, — сказал Памфил. — Туда вас поведет Световид, и обратно ты вернешься вместе с ним, а твой отец пойдет дальше, на запад.
— Может, проще в ближайшем порту договориться с корабельщиками, чтобы перевезли нас в Синоп? — осторожно предложила Аврелия.
— А ты думаешь, что путешествовать двоим беззащитным по морю безопасней, чем по суше? — хрипло усмехнулся Памфил. — Да и кто знает, на каких корабельщиков вы нарветесь? Среди них есть и такие, которые связаны с пиратами. Нет, без спутников вам никак не обойтись.
— И что же, я останусь жить здесь, у вас, пока отец будет искать христианскую общину? — растерянно спросила Аврелия. — Может быть, мне лучше перебраться в селение, где есть женщины?
Вместо ответа грек обратился к Световиду:
— Пойди-ка, сынок, да принеси нам печеной рыбы, она уже, наверное, готова.
Как только молодой славянин вышел, Памфил объявил Клименту:
— Твоя дочь поживет у нас. Я вижу, что она очень понравилась Световиду и он хочет взять ее в жены. — Заметив протестующий жест епископа, грек тут же добавил: — Не бойся, он ничего не будет делать насильно. Световид — простосердечный дикарь, но он не лишен благородства. После смерти моей жены Световид остался для меня единственным родным человеком на свете. Бог не послал нам с женою детей, но этот юноша из племени антов заменил мне сына. Жизнь моя скоро оборвется, золота я на тот свет не возьму. А все, чего я хочу на этом свете, — помочь Световиду найти свое счастье. Я вижу, что с твоей дочерью он может быть счастливым.
— Ты хочешь, чтобы моя дочь навсегда осталась здесь, у вас?.. — сдавленным голосом спросил Климент. — Такова плата за вашу помощь?.. Но Аврелия беременна и оплакивает своего мужа, она не может даже думать о союзе с мужчиной.
— Я не сказал, что она останется здесь навсегда, — покачал головой Памфил. — Но на год — наверняка. Вряд ли твой путь к херсонесским пещерам и обратно окажется недолгим. А твоей дочери, судя по ее животу, месяца через три-четыре придется рожать, потом какое-то время она будет слаба после родов. Световид о ней позаботится. Когда же через год ты вернешься за ней и она скажет, что не хочет быть женой Световида, тогда ты можешь забрать ее отсюда. Но если к тому времени она тоже полюбит Световида, то они вместе выберут свою судьбу и вместе поедут в Синоп либо останутся здесь.
— Но он… он даже не христианин, — развел руками епископ.
— Так сделай его христианином хоть сегодня; юноша не сведущ в вопросах веры, и твоя дочь будет его просвещать.
— Я не знаю, что тебе ответить… — растерялся Климент.
Аврелии было обидно, что грек обсуждает с отцом ее судьбу, даже не спросив у нее, согласна ли она целый год жить рядом со Световидом. И в то же время некое подспудное и волнующее любопытство пробивалось сквозь эту обиду, делая ее не такой горькой.
Скрипнула дверь, и, оглянувшись, Аврелия встретилась глазами с вошедшим Световидом. Во взгляде юноши она прочла уже знакомое восхищение и невольно смутилась, вспомнив его горячие объятия у костра.
— Хорошо пахнет печеная рыба, сейчас попируем, — улыбнулся Памфил. — Положи ее на стол, пусть остывает. А тем временем открой этот ящик, пусть Климент вытащит оттуда сокровища и перепрячет их в мешок — в самый грубый и неприглядный из мешков. А ящик нам здесь в хозяйстве пригодится.
Световид послушно выполнил указания Памфила, и скоро из ящика были извлечены два ларца: один с драгоценностями, другой — с Чашей. Климент дрожащими руками приоткрыл тот, в котором лежала заветная святыня. Почувствовав торжественность минуты, Аврелия встала и стиснула руки на груди. Взгляд ее был устремлен к Чаше… И вдруг неземное сияние коснулось ее глаз и она увидела, угадала свое будущее… Это длилось всего лишь миг, но за этот миг Аврелия поняла, что отец уйдет и она больше никогда не увидится с ним и ничего не узнает о его судьбе, что сама она родит сына Маритимуса и станет женой Световида, и будет иметь от него детей, и потеряет его в водовороте злоключений, и когда-нибудь обязательно вернется в Рим…
Глава первая
1379 год
Марину разбудил пронзительный крик матери:
— О, горе!.. Андроник умирает!..
Девушка вскочила с постели и плеснула себе в лицо воды из кувшина, чтобы окончательно проснуться. Лучи сентябрьского солнца пробивались в окно, обещая ясный погожий день, но в доме Андроника Таги сейчас все было пронизано мрачным предчувствием беды. Марина вспомнила, что отчим еще с вечера жаловался на боли в животе, но потом выпил настойки, принесенной врачом, и, получив облегчение, уснул. Теперь же, услышав крики матери и стоны Андроника, девушка поняла, что болезнь навалилась на него с новой силой.
Наскоро одевшись, Марина кинулась в коридор, а оттуда — в комнату, где лежал больной. На кровати возле Андроника сидела его жена Таисия — мать Марины, а вокруг бестолково суетились две служанки и молчаливый раб Чугай — здоровенный, но слабоумный детина, которому поручалась в доме самая грубая работа, требующая одной лишь силы. Сейчас Чугая позвали, потому что Андроник, жалуясь не только на боль, но и на жар во всем теле, хотел, чтобы раб-силач вынес его во двор, где было прохладнее, чем в доме. Но Таисия возражала:
— Погоди, Андроник, может, тебя нельзя трогать с места! Сейчас придет Лазарь, за ним уже послано. Подождем, что он скажет.
Лазарь славился искусством врачевания не только в армянском контрадо[5] Айоц-Берд, но и во всей Кафе, и даже самые заносчивые из латинян его уважали.
— Нет, я не дождусь его, я сгорю изнутри… — стонал больной.
Бледное лицо Андроника покрылось крупными каплями пота, редкие седые волосы прилипли ко лбу, изборожденному глубокими морщинами. Сейчас было особенно заметно, что он старше своей жены на тридцать лет. Сидевшая рядом Таисия выглядела его дочерью. Марине всегда казалось, что мать не любит отчима, а только уважает и, наверное, испытывает благодарность за то, что он обеспечил ей благополучную и спокойную жизнь. Но сейчас девушка видела, что мать искренне переживает и боится потерять своего пожилого ворчливого мужа. Впрочем, это было понятно: после смерти Андроника ей трудно будет справиться с делами купеческого дома, а приказчики и слуги вряд ли упустят возможность обмануть неопытную хозяйку. Конечно, у Андроника были друзья и родичи, но их Таисия всегда сторонилась, опасаясь, что они могут претендовать на часть наследства, хотя прямым и законным наследником был десятилетний Георгий — сын Андроника и Таисии, брат Марины.
Этот мальчик, которого мать-славянка называла Юрием, а отец-армянин — Геворком, стоял сейчас в стороне, испуганно таращил глаза на больного и беззвучно повторял слова молитвы. Обычно резвый, он притих, понимая, что надвинулась беда.
Служанки, отойдя в дальний угол и прикрывая рты ладонями, о чем-то шептались. Марине показалось, что они произнесли «чума». Это было страшное слово для приморского города. Чума, тридцать лет назад унесшая половину населения Европы, начинала свое губительное шествие отсюда, из Кафы, осаждаемой войсками золотоордынского хана Джанибека. Город был хорошо укреплен, и жители не собирались сдаваться: продовольствие они доставляли кораблями, а пресную воду получали из многочисленных источников. Потом в татарском лагере вспыхнула чума, и хан приказал забрасывать трупы умерших через оборонительные стены при помощи катапульт. Болезнь оказалась страшнее любого оружия. Генуэзцы, спасаясь от заражения, покинули Кафу и ушли на кораблях в море, разнося по Европе черную смерть.
С тех пор для защиты от новых вспышек чумы в Кафе построили место, названное Карантин, а слово это происходило от итальянского «quaranta giorni» — «сорок дней». Сорок дней отстаивались суда в Карантине перед прибытием в порт и разгрузкой.
Марина вдруг вспомнила, что как раз вчера или сегодня заканчивался карантинный отстой большого торгового корабля, прибывшего из Генуи. Слуги, видимо, связали внезапную болезнь Андроника с этим кораблем. Наверное, решили, что врачи, проверявшие корабль, недосмотрели заразу и она проникла в город. Теперь Марина поняла, почему все слуги вдруг куда-то попрятались и возле больного остался только слабоумный Чугай да те две служанки, которых Таисия никуда от себя не отпускала. Девушке стало страшно оттого, что мать так близко сидит возле Андроника, и она хотела что-нибудь сказать, но от страха и растерянности не находила слов. А больной страдальческим голосом выкрикнул, обращаясь к Чугаю:
— Неси меня во двор, иначе умру!
Раб уже наклонился, чтобы взять господина на руки, но тут в комнату вошел Лазарь.
Этот смуглый бородатый человек лет сорока пяти всегда производил внушительное впечатление на окружающих своим острым взглядом и резким голосом. Он был одет в балахон, напоминавший монашескую рясу, с капюшоном, надвинутым на голову. Такую одежду, дополненную еще особой маской для лица, носили «чумные» врачи, и Марина почувствовала новый прилив страха, подумав о том, что Лазарь тоже опасается заразы.
Врач подошел к больному, оглядел его шею, руки, ноги, пощупал пульс и живот, после чего откинул капюшон с головы и со вздохом облегчения сказал:
— Слава Богу, это не чума. — И, оглянувшись на испуганно забившихся в угол служанок, прикрикнул: — Ну, чего жметесь там, гусыни? Говорю же вам: здесь нет никакой заразы! Идите-ка сюда, помогайте хозяйке ухаживать за больным.
— Но что со мной?.. — простонал Андроник. — Я не могу ничего есть, такая боль… И все горит во мне!..
— Это язва разъедает твое нутро, — пояснил Лазарь. — Но она не заразна.
— А ее можно вылечить? — с надеждой обратилась к нему Таисия.
— Облегчи хотя бы мою боль!.. — взмолился Андроник.
— Сейчас я дам тебе травяного настоя, это должно помочь, но лишь на время, — сказал врач. — А для более основательного лечения нужен один левантийский бальзам, но у меня его нет.
— Но где-то же в городе он есть? — спросила Таисия.
— Аптекарь Эрмирио говорил, что ему должны привезти его на том генуэзском корабле, который вчера выпустили из Карантина. Пошлите кого-нибудь к Эрмирио.
— Да, сейчас… — Таисия растерянно оглянулась и обратила внимание, что, кроме Чугая и двух служанок, вокруг никого из челяди нет. — Слуги куда-то разбежались… Не посылать же мне слабоумного раба или этих двух глупых гусынь, которые со страху что-нибудь перепутают. Куда остальные подевались? Зовите их!
— Мама, лучше я пойду, — заявила Марина, которой вдруг захотелось вырваться из гнетущей обстановки дома на городские улицы, где шумное и пестрое разнообразие невольно отвлекало от мрачных мыслей. — Я-то уж точно ничего не перепутаю. Пусть только Лазарь скажет мне название бальзама или напишет аптекарю.
Врач вытащил из своей сумки кусочек пергамента и протянул его Марине:
— Вот, покажешь эту запись Эрмирио, и он все поймет. Только лекарство стоит дорого.
— О, я готов заплатить любые деньги, лишь бы унять эти страдания!.. — простонал Андроник.
Марина взяла записку и выскользнула за дверь. Мать успела крикнуть ей вслед:
— Возьми кого-нибудь в провожатые!
Таисия была женщиной строгих правил и считала, что девицам благородного сословия зазорно ходить по городу в одиночестве не только вечером, но и днем. В другой раз Марина, наверное, пропустила бы мимо ушей наставление матери, но не сегодня, в день, когда закончился карантинный отстой большого торгового корабля и, значит, улицы города заполнятся голодными на женщин моряками и нахальными генуэзскими купцами, которые в каждой встречной одинокой девушке видят свою законную добычу.
Во дворе топтался Никодим — помощник Андроника по торговым делам, невысокий смуглый крепыш с хитровато бегающими глазами. Именно его Таисия посылала за Лазарем.
— Что, боишься в дом зайти? — насмешливо спросила Марина. — Не бойся, нет у нас чумы. Андроник болен животом, и я сейчас пойду к аптекарю за лекарством, а ты будешь меня сопровождать.
Никодим с готовностью принял на себя роль провожатого молодой госпожи. Марина уже несколько раз замечала, что он бросает на нее слишком уж прилипчивые взгляды. Впрочем, не только он. В последнее время и другие мужчины — знакомые и незнакомые — оглядывались ей вслед.
Подумав об этом, она невольно улыбнулась. А ведь совсем недавно Марина считалась — и чувствовала себя — такой невидной и нескладной, что на нее даже никто не смотрел как на будущую женщину, словно она была мальчишкой-подростком. Но потом, как-то вдруг и незаметно для всех, худоба ее сгладилась, в тонкой девичьей фигуре на нужных местах появились соблазнительные округлости, черты лица определились, обрели женственность, а угловатость движений сменилась порывистой грацией. И сама себя Марина почувствовала другой; перестала бегать по улицам в простеньком коротком платье, лазить по деревьям, прыгать с крыльца; зато стала подолгу вертеться перед зеркалом, примеряя, какое платье к лицу да в какую прическу лучше уложить свои пышные золотисто-русые волосы.
В доме Андроника Таги с некоторых пор не было принято говорить о женской красоте, нарядах, украшениях и прочих суетных вещах, а потому Марина не могла ждать похвал от домашних. Но тем больше ей хотелось видеть в восхищенных взглядах мужчин подтверждение того, что она хороша и может нравиться многим — от знатных горожан до простых слуг.
А месяц назад девушка случайно услышала, как купец Варлаам говорил своему брату Константину:
— Да, расцвела падчерица Андроника! Вот так бывает у этих славянок: ходит нескладная, тощая, смотреть не на что, а потом вдруг — выровнялась и поплыла по земле, словно лебедь по озеру. Вчера еще — замарашка, а сегодня — царевна!
— Эти северные девицы расцветают позже наших, но зато и красота у них держится дольше, — ответил Константин.
В тот день Марина долго не могла уснуть и все вздыхала с одной лишь мыслью о молодом красавце, который не дождался ее расцвета. Константин, сын греческого купца и знатной грузинки, был одним из самых видных женихов в православных кварталах. Но всем было известно, что полгода назад его обручили с богатой невестой Евлалией, отец которой был назначен генеральным синдиком[6], и свадьба Константина и Евлалии должна была состояться в ближайшие дни. Марина утешала себя мыслью, что Константин женится ради выгоды и, может быть, сам будет когда-нибудь страдать по ней, по Марине, которая еще всем себя покажет и станет звездой Кафы. Такие честолюбивые мечты все чаще посещали хорошенькую головку семнадцатилетней горожанки.
Никодим услужливо распахнул перед Мариной калитку, и девушка с бессознательным кокетством стрельнула в него своими большими лучистыми глазами цвета морской волны.
Дом Андроника, расположенный в центре армянского квартала, выходил фасадом на площадь. Девушка миновала церкви Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова, направляясь в южную часть города, к башне Джиованни ди Скаффа, возле которой жил аптекарь Эрмирио, хорошо знакомый Андронику и его домочадцам.
Никодим шагал следом, пресекая попытки некоторых прохожих заговорить с девушкой или схватить ее за руку. На улицах, как и предполагала Марина, было многолюдно. Жители Кафы выходили из домов, чтобы посмотреть на пассажиров богатого генуэзского корабля, а те, в свою очередь, с любопытством глазели на город и его жителей.
Марина не без гордости подумала о том, что в Кафе есть чему поучиться даже самым надменным из латинян, которые, вероятно, думали, что попадут на край света, в страну дикарей. Между тем приморский портовый город, окруженный могучими стенами и башнями, удивлял приезжих опрятностью. Жители Кафы привыкли содержать в чистоте улицы и сточные канавы перед домами ввиду постоянно существовавшей угрозы распространения чумы. Приставы строго надзирали за порядком на рынках. Была в городе также особая комиссия, следившая за состоянием съестных припасов, — ведь пуще всего горожане боялись крыс, главных разносчиков чумы. Кафа имела немало источников пресной воды, и это тоже помогало соблюдать в городе чистоту. Фонтаны-цистерны, сообщавшиеся по трубам с родниками на склонах гор, снабжали горожан свежей питьевой водой. Проходя мимо одного из таких фонтанов, украшенных изображением святого Георгия — покровителя Генуи и Кафы, Марина на мгновение оглянулась, охватив взглядом пространство города, амфитеатром сходившее к берегу.
Утреннее солнце золотило крыши домов, играло на маковках церквей, изумрудами сверкало сквозь кроны деревьев. А дальше, за домами, садами и зубцами береговых укреплений раскинулась синева моря. Огромная бухта Кафы была одной из самых удобных и оживленных в Тавриде, здесь в гавани иногда можно было увидеть больше сотни судов. Если бы Марине не надо было спешить в аптеку, она бы еще постояла возле фонтана и полюбовалась с этого удобного места красивой картиной бухты в утренних лучах.
Девушка любила Кафу и часто забывала, что этот приморский город не был ее родиной, ибо она появилась на свет далеко отсюда, на севере, в Киеве, который не одно столетие был гордой столицей русичей, но пришел в упадок после татаро-монгольского нашествия. Зато Таисия никогда не упускала случая напомнить, что является по рождению знатной киевской боярыней, а первый муж ее, отец Марины, был из рода северских князей, принадлежавших к младшей ветви Рюриковичей. Если бы не мать, Марина, наверное, уже и забыла бы о своем детстве в Киеве, откуда была увезена в шесть лет, когда овдовевшая Таисия вышла замуж за Андроника — богатого армянского купца из Кафы, приезжавшего в славянские земли по торговым делам.
Своего родного отца Даниила Марина помнила смутно, почти как видение из детского сна: красивый могучий витязь в кольчуге, улыбаясь, берет ее на руки, подбрасывает вверх, а она заливается смехом. Он тогда прощался с женой и дочерью, отправляясь в поход, но маленькая девочка не догадывалась, что видит отца в последний раз. Потом мать ей говорила, что отец погиб в стычке с татарами, когда выступил против них как воевода в дружине северских князей. Марина не ведала, так ли было на самом деле, но она с детства привыкла безоговорочно верить матери во всем. Правда, ей не раз приходилось слышать, как соседи и родственники Андроника между собой подсмеивались над якобы знатным происхождением молодой жены пожилого купца и намекали, что первый муж Таисии был простолюдином и наемным воином. Но девушка знала, что в лицо ее матери они не посмеют надерзить: Таисия умела себя поставить, да и Андроник любил жену, заставлял всех с нею считаться. Ну а поскольку мать частенько повторяла, что отец ее дочери — боярин Даниил Северский, то вскоре и за Мариной среди знакомых горожан закрепилось прозвание Северская.
Вот и сейчас, переходя из армянского квартала в латинский, она услышала за спиной:
— Смотри, да это же Марина Северская, твоя невеста!
Девушка быстро оглянулась и нахмурилась: эти слова произнес известный в округе насмешник и приживал Давид, а были они обращены к Варадату — юноше, которого Андроник и впрямь прочил в мужья своей падчерице. Варадат, хоть и был сыном богатого купца, нисколько не нравился Марине, и она злилась, когда его называли ее женихом. Девушка скользнула презрительным взглядом по тощей фигуре остроносого хитроглазого Давида и по красновато-веснушчатому лицу дородного, пышно одетого Варадата, который, осмелев в присутствии нахального дружка, воскликнул:
— Да за такую красавицу невесту любой султан отдаст мешок золота!
Вероятно, предполагаемый жених решил, что девушке должны быть лестны его слова, но Марина лишь пренебрежительно усмехнулась в ответ:
— Тебе лучше знать, какая невеста сколько стоит, ты же привык торговать живым товаром. Однако мне недосуг с вами болтать, я спешу по делам.
И она устремилась вперед, оставив незадачливого поклонника в некотором замешательстве. Впрочем, Марина упомянула о торговле живым товаром вовсе не ради красного словца, а потому что и вправду семья Варадата Хаспека разбогатела, занимаясь работорговлей — весьма прибыльным и распространенным промыслом в Кафе. Спрос на невольников стал особенно велик после того, как чума прошлась своей страшной косой по Европе. Теперь раба, которого в былые времена можно было купить в Кафе менее чем за 200 аспров[7], предприимчивые работорговцы продавали за 600 аспров и выше. Рабов приобретали по большей части у татар, похищавших людей в славянских землях и на Кавказе. Но иногда и сами купцы-латиняне, не чуждые корсарству, захватывали пленников. И хотя охота за людьми пресекалась генуэзскими властями Кафы, наказание за нее не отличалось суровостью. Здешний невольничий рынок был крупнейшим на Черном море, и самые знатные из горожан не чурались прибыльного промысла.
Но в семье Андроника Таги, гордившегося основателем своего рода — ученым поэтом-певцом, к работорговле относились с оттенком презрения. Сам Андроник торговал зерном, солью, а также весьма прибыльными товарами с Востока — пряностями и шелком. Однако не слишком уважаемая им торговля семьи Варадата Хаспека не останавливала Андроника в стремлении выдать падчерицу замуж за богатого молодого купца, готового взять Марину даже без приданого. Впрочем, девушка надеялась, что с помощью матери ей удастся избежать союза с Варадатом, к которому не лежало ее сердце.
Проходя по улицам, Марина с невольным любопытством задерживала взгляд на женщинах-латинянках, которые в Кафе встречались довольно редко. Генуэзцы, хоть и правили городом, составляли среди горожан немногочисленную группу. Сюда, в далекие заморские земли, в поисках богатства и удачи отправлялись в основном молодые неженатые мужчины. А те, что были постарше, редко привозили с собой семьи. Некоторые итальянцы женились уже в Кафе, на местных женщинах, охотно перенимавших латинскую моду и обычаи. Заметив возле ювелирной лавки юную латинянку — видимо, дочь богатого генуэзского купца, — Марина быстрым взглядом окинула ее платье, отмечая каждую деталь: узкий лиф, перехваченный под грудью поясом, из-под которого ниспадает бесчисленными складками длинная юбка, рукава с раструбами у запястья, воротник, отороченный кружевами.
Итальянская девушка, в свою очередь, бросила любопытный взгляд на Марину, в одежде которой сочетались славянские, греческие и армянские мотивы. Отойдя на несколько шагов, Марина и сама себя критически осмотрела сверху вниз: белая рубашка с вышитым воротом, синяя юбка, передник, пояс с серебряными застежками. Живя в доме Андроника и уступая его обычаям, Марина часто заплетала волосы в две тугие косы и надевала расшитую золотом армянскую шапочку-феску. Но сегодня, второпях, девушка лишь слегка прибрала волосы, заплетя их в одну свободную косу и надев на голову серебряный обруч. Невольно сравнив себя с нарядной итальянкой, Марина отметила, что тоже выглядит недурно, хотя на взгляд латинян, наверное, простовато.
Миновав пару извилистых улиц, Марина вошла в квартал, примыкавший к башне Джиованни ди Скаффа, называемой горожанами Замок. Эта башня, входившая во внешнее кольцо оборонительных сооружений Кафы, была видна издалека и словно напоминала горожанам о своей особой роли главного и последнего укрепления, способного выдержать длительную осаду, даже если другие бастионы падут и защитники Замка окажутся в полном окружении врагов.
Бросив взгляд на неприступные стены грозной круглой башни, Марина свернула к маленькой площади, на которую выходил фасад аптечной лавки Эрмирио. Этот пожилой, всегда одетый в монашескую рясу латинянин не был генуэзцем; Марина знала, что он родом из другого итальянского города — Флоренции. Об аптекаре рассказывали, будто он был изгнан из монастыря за какие-то прегрешения и, будучи сведущ в лекарствах, нанялся корабельным лекарем к генуэзскому купцу, который и привез его в Кафу, где Эрмирио успешно обосновался и жил уже много лет, вполне освоившись со здешними порядками.
Несмотря на ранний час, в лавке Эрмирио было уже несколько посетителей; причем, казалось, они пришли сюда не за лекарствами, а чтобы побеседовать. В первую минуту Марина даже растерялась, увидев здесь трех молодых латинян, двое из которых, судя по всему, прибыли на том самом корабле, что вчера был допущен к разгрузке в порту Кафы.
Девушка нерешительно остановилась в затемненном углу возле порога, так что латиняне, собравшиеся вокруг аптечного прилавка, за которым восседал Эрмирио, не сразу заметили посетительницу и продолжали разговор.
— Так ты говоришь, Донато, обманули тебя генуэзские купцы? — с усмешкой спрашивал Эрмирио одного из латинян, стоявшего к Марине спиной. — И как именно? Небось, надули на торговой сделке? Они известны своим плутовством и жадностью.
— Обманули, но не только в торговых делах, — был ответ. — Так меня запутали, что готов бежать от них на край света.
— А что удивительного? — заметил другой итальянец, стоявший боком к двери. — Как писал Данте в «Божественной комедии», самые нижние круги ада заняты генуэзцами, которые сплошь — мерзавец на мерзавце.
— Но-но-но, не мажьте всех генуэзцев черной краской! — предостерегающе поднял палец третий латинянин, лицо которого показалось Марине знакомым. — Я ведь тоже родом из Генуи! А этот ваш Данте, наверное, желчный и высокомерный зазнайка, как большинство флорентийцев!
Марина вспомнила, что этого генуэзца зовут Лукино Тариго и он лет пять назад прославился тем, что с отрядом авантюристов на одной вооруженной фусте[8] прошел через Керченский пролив в Азовское море, до устья Дона, затем реками добрался до Каспия, грабя все встречные суда, но сам был ограблен по пути домой не то калмыками, не то татарами. Тогда многие горожане ходили смотреть на отчаянного морехода, которому явно нравилось находиться в центре внимания. Марина была в то время еще подростком, но запомнила, как Андроник говорил Таисии: «Неудивительно, что пират бахвалится и чувствует себя героем: ведь латиняне вообще не считают пиратство зазорным, лишь бы этот промысел приносил доход. Консул даже по уставу обязан поощрять таких головорезов. Еще бы! Ведь половина пиратской добычи должна передаваться генуэзской общине».
А отец Панкратий, священник церкви Святого Стефана, в которой Марина любила разглядывать фрески, добавил к словам Андроника: «Эти паписты не лучше турецких пиратов. У них даже монахи-иоанниты[9] промышляют по правилам corso[10]. А чем корсары отличаются от обычных разбойников? Только тем, что действуют под покровительством своих государей безбожных». Марина тогда еще многого не понимала, но догадалась, что отец Панкратий, православный грек, питает к латинянам стойкую неприязнь и, наверное, у него есть на то особые причины.
Такие воспоминания промелькнули перед ней, когда она узнала Лукино Тариго и слегка удивилась, что этот довольно невзрачный и малорослый человек имеет славу храбреца и заводилы. Двое его молодых собеседников выглядели гораздо представительней, но Марина не успела их толком разглядеть, поскольку в этот момент посетители аптечной лавки ее заметили и ей показалось зазорным смущаться и стоять в дверях, а потому она решительно шагнула вперед.
— О, да здесь на пороге красавица, а вы рассуждаете о каком-то Данте и прочих непонятных ей вещах! — воскликнул Лукино Тариго, повернувшись к девушке с таким видом, словно хотел заключить ее в объятия.
— Отчего же непонятных? — пожала плечами Марина и, обойдя Тариго, приблизилась к прилавку. — Мне известно, что Данте — итальянский поэт, но не генуэзец родом.
— Да, он флорентиец, как и я! — воскликнул тот, который приводил слова Данте о генуэзцах. — Не ожидал, что здешние девушки наслышаны о наших поэтах.
— Может, и не все девушки, но эта — уж точно образованней иных флорентийских мадонн, — с лукавым прищуром заметил аптекарь, который хорошо знал и Марину, и всю семью Андроника.
— Почему же я ее раньше не встречал? — молодцевато подбоченясь, спросил генуэзец. — Разве справедливо, что эта милашечка до сих пор не знакома с храбрым корсаром, который может увезти ее отсюда за море, в край чудес?
— Это вы о себе говорите, Лукино Тариго? — усмехнулась Марина. — Уж не в те ли степные края вы хотите меня увезти, где вас пять лет назад ограбили кочевники?
Генуэзец слегка опешил, а флорентиец, хлопнув его по плечу, рассмеялся:
— Ну что, получил отпор, гуляка? — и, обращаясь к Марине: — Но как вышло, синьорина, что вы знаете его имя, а он ваше — нет?
— Наверное, так судьбе было угодно, — слегка улыбнулась девушка.
При этом она небрежно повела глазами в сторону собеседника и отметила, что молодой флорентиец не то чтобы красив, но приятен. Его тонкий стан был затянут в камзол дорогого сукна, черные волосы волнами ниспадали из-под круглой шляпы с закинутыми на плечо концами разноцветных тканей. Длинный нос, приподнятые брови и чуть прищуренные глаза придавали его лицу добродушно-насмешливое выражение. Впрочем, сам флорентиец не особенно заинтересовал Марину, но, повернувшись к нему, она невольно задержала взгляд на стоявшем рядом с ним третьем посетителе лавки, которого аптекарь назвал Донато. Ей показалось, что в гордой осанке этого высокого плечистого латинянина, в твердой лепке его мужественного лица, обрамленного крупными завитками темно-каштановых волос, в проницательном взгляде больших черных глаз, в слегка ироничном изгибе четко очерченных губ есть нечто особенное, отличающее его от других итальянцев, виденных ею на улицах Кафы. Почему-то Марине вдруг вспомнились старинные скульптуры и вазы с изображениями эллинских и римских богов и героев. Ей всегда казалось, что нынешние греческие и итальянские купцы, по большей части суетливые и хитроглазые, мало напоминают своих величественных предков. Но облик этого приезжего латинянина словно был отмечен знаком древней породы, берущей начало от каких-нибудь исполненных достоинства патрициев или монументальных центурионов. Даже его строгая темная одежда подчеркивала это впечатление.
Опасаясь выказать свой невольный интерес к незнакомцу, Марина быстро перевела взгляд на аптекаря и обратилась к нему:
— Господин Эрмирио, Андронику очень плохо, и нам нужен левантийский бальзам, который может быть только у вас. Лазарь передал вам его описание.
Аптекарь взглянул на кусок пергамента и подтвердил:
— Да, я уже имею этот бальзам. Мой племянник Ридольфо его привез. — Эрмирио кивнул на молодого флорентийца. — Но знает ли твоя семья, что это очень дорогое лекарство?
— Конечно. Лазарь сказал, что это единственное средство для Андроника. И мне велено доставить его как можно быстрей.
— Сейчас принесу. А вы, — Эрмирио обратился к трем итальянцам, — ведите себя потише и не смущайте своими разговорами достойную синьорину.
С этими словами толстяк аптекарь проворно выкатился из-за прилавка и исчез в смежной комнате. Никодим, до сих пор скромно стоявший в дверях, приблизился к Марине и стал между нею и итальянцами, давая понять, что сопровождает девушку и служит ей защитой. Марина, впрочем, не была особенно уверена в его смелости, — просто он знал, что в Кафе, да еще среди бела дня, никто не посмеет обидеть девушку из порядочной семьи, ибо законы консульской республики были достаточно строги на этот счет. Самое большее, что грозило Марине в окружении латинян, — это подвергнуться их насмешливым расспросам и заигрываниям, но словесных перепалок она не боялась, так как и сама была достаточно остра на язык.
— О, да у красавицы грозный страж! — усмехнулся Лукино Тариго в сторону Никодима. — Ты кто ж ей: муж, брат или жених?
— Я не имею чести быть связанным какими-либо узами с дочерью моего хозяина, но клянусь, что сумею ее защитить, если понадобится! — выпятив грудь, заявил Никодим, которому нравилось показывать себя храбрецом, особенно если это ему ничем не грозило.
— О-о, какие велеречивые слуги в ваших краях! — воскликнул Ридольфо. — Да, судя по всему, Таврика — вовсе не глухая провинция. Недаром дядюшка Эрмирио здесь прижился.
— По-моему, этот старый плут Эрмирио везде сумеет стать своим человеком, — заметил генуэзец и тут же воззрился на Марину: — А вы, барышня, живете где-то недалеко от аптечной лавки?
— А ты что же, хочешь проводить синьорину до дома? — спросил Ридольфо.
— Такую красотку я готов проводить хоть до алтаря, какой бы она ни была веры! — заявил Лукино.
— Не слушайте его, синьорина, — шутливо предостерег Ридольфо. — Такие, как он, женятся в каждом порту.
— Меня и предупреждать не надо, — через плечо кинула Марина. — Девушки Кафы знают цену обещаниям генуэзских моряков.
— А вы давно живете в Кафе? — спросил ее флорентиец.
— С самого детства.
— И что же, вам здесь нравится? — продолжал допытываться Ридольфо. — Вы никогда не хотели уехать из этой генуэзской фактории куда-нибудь в большой город, в цветущую страну?
— Но Кафа — тоже большой город, а не захолустная фактория, — с некоторой обидой в голосе заявила Марина. — Купцы-мореходы называют Кафу королевой Черного моря.
— Это правда, — подтвердил Эрмирио, который, войдя, услышал слова Марины. — С тех пор как пали государства крестоносцев в Палестине, а на Востоке возникла империя монголов, изменились и торговые пути. А Кафа оказалась в центре этих путей. Здесь замыкаются связи между Западом и Востоком.
— Это же мы, генуэзцы, сумели выбрать такое удачное место для колонии! — хлопнув себя в грудь, заявил Лукино.
— Но теперь Кафа по красоте и богатству вполне может соперничать с Генуей, — сказал Эрмирио.
— И все-таки она наша колония! — упрямо повторил генуэзец.
— Конечно, ваши торгаши ничего не хотят выпустить из рук, — насмешливо заметил Ридольфо. — Кафа от вас за тридевять земель, а вы считаете ее своей колонией. Еще бы, ведь здесь такая прибыльная торговля! Особенно рабами. Недаром о генуэзцах и венецианцах говорят: «Весь народ — купцы». Не правда ли, Донато? — обратился он к своему спутнику.
— Но у вас во Флоренции купцы тоже всем заправляют и давно слились с нобилями[11], — ответил Донато.
У Марины, вначале заинтригованной молчанием этого странного латинянина, а теперь удивленной его словами, невольно вырвался вопрос:
— А вы, синьор, разве не флорентиец?
— Я римлянин! — ответил Донато, слегка вскинув голову.
— И что за гордость нынче быть римлянином! — усмехнулся Ридольфо. — Это в старину Рим был главою мира, а в наши дни он являет собою не более как его хвост.
Донато нахмурился, а Эрмирио поспешил примирительным тоном вмешаться:
— Ничего, Рим еще возродит свое величие. Только дай Бог, чтобы папа окончательно вернулся из Авиньона[12] и не начался церковный раскол.
Марина, взглянув на аптекаря, вспомнила, что ей пора домой, что она и так уже задержалась в лавке дольше, чем того требовала необходимость. Мысленно упрекнув себя за суетный интерес к разговорам молодых итальянцев, она поспешила взять лекарство и попрощаться с Эрмирио.
— Погодите, синьорина, позвольте хотя бы узнать ваше имя! — крикнул ей вслед Ридольфо.
— Мне некогда с вами знакомиться, я спешу к больному! — ответила девушка уже от двери и, мельком оглянувшись, встретила пристальный взгляд Донато.
«А он все-таки заметил меня, но почему-то даже не попытался заговорить», — подумала Марина, удивленная и слегка задетая тем, что он не проявил к ней такого интереса, как Лукино и Ридольфо. Она шла по улице торопливо, чуть не спотыкаясь при ходьбе, словно хотела этой поспешностью загладить то легкомысленное любопытство, которое подтолкнуло ее вовлечься в разговор с молодыми итальянцами, задержавшись на несколько лишних минут в аптечной лавке.
После ухода Марины на Эрмирио тут же посыпались вопросы.
— Кто эта девушка? — приступил к нему племянник. — По одежде — скорее из греческого квартала, но говорит по-итальянски весьма недурно.
— О, в этом нет ничего удивительного, — пожал плечами аптекарь. — В Кафе столько разных племен и наречий, что все научились объясняться друг с другом. Здесь уже начал вырабатываться свой особый язык, доступный как латинянам, так и восточным народам.
— Странно, что я никогда раньше не видел эту красотку, хотя она меня знает, — подкрутив усы, заметил Лукино.
— Многие знают такого знаменитого корсара, как ты, — лукаво улыбнулся Эрмирио. — А ты так редко бываешь в городе, все время где-то странствуешь, вот и не замечаешь местных девушек. Впрочем, эта малютка совсем недавно похорошела, а раньше была незаметным серым воробушком.
— Но кто она такая, откуда? — спросил генуэзец.
— Это падчерица Андроника Таги, армянского купца из контрадо Айоц-Берд, — пояснил аптекарь.
— Но она не похожа ни на армянку, ни на гречанку, — заметил Ридольфо. — Я только у венецианок видел такие золотые волосы, да и то они ведь добиваются подобного цвета, высиживая в особых шляпах под солнцем и обсыпая волосы разными пудрами. И черты лица у этой девушки совсем не восточные.
— Марина — славянка, и у нее северная красота, — сказал Эрмирио.
— Марина? Ее зовут Марина? — спросил молчавший до сих пор Донато. — Но ведь это романское имя.
— Да, а что тебя удивляет? — откликнулся аптекарь. — Славянские женщины носят не только греческие, но и римские имена.
— Марина означает «морская», — пробормотал Донато с задумчивым видом. — Морская дева…
— А купец Андроник, кажется, богат? — поинтересовался Лукино.
— Не то чтобы очень, но довольно состоятелен, — ответил Эрмирио.
— И много у него наследников, кроме этой Марины? — продолжал допытываться генуэзец. — У него ведь, наверное, есть и родные дети?
Эрмирио принялся охотно рассказывать:
— Его дети и первая жена умерли во время чумы. Потом он женился вторично, но его вторая жена умерла при родах, осталась дочь Рузанна, но она давно ушла жить в монастырскую общину. Еще у него был от одной гречанки побочный сын Григор, которого Андроник признал, взял в дом и даже назначил своим наследником. Но несколько лет назад они поссорились, Григор ушел в плавание, да так и не вернулся, утонул во время шторма. И теперь у Андроника единственный наследник — его сын от третьей жены, славянки, матери Марины. Ну а за падчерицей, я думаю, прижимистый Андроник большого приданого не выложит. Он хочет отдать ее замуж за Варадата Хаспека, который и без того богат, так что приданого не потребует.
— Варадат? Это такой краснолицый торговец невольниками? — уточнил Лукино. — Кажется, я его знаю.
— Уж не хочешь ли ты отбить у него невесту? — насмешливо поинтересовался Ридольфо.
— Зачем зря стараться? — пожал плечами генуэзец. — В таких контрадо, как Айоц-Берд, царят строгие нравы, там с девушками из приличных семей не развлечешься. А для женитьбы я, видит Бог, не дозрел. Или, наоборот, перезрел.
— А в самом деле, что тебя удерживает от женитьбы? — подзадоривая Лукино, спросил молодой флорентинец. — То обстоятельство, что девушка православная, а не католичка? Так ведь здесь, у вас, я слыхал, даже поощряются браки генуэзцев с местными женщинами, какой бы веры те ни придерживались. Так ведь, дядя?
— Да, — подтвердил Эрмирио. — Женившись на местной, генуэзец получает денежное вознаграждение и льготы на строительство дома. И дети от такого брака будут считаться полноправными генуэзцами. И это, по-моему, весьма разумно, потому что в Кафе латиняне уже оказались в меньшинстве по сравнению с другими народами.
— Мне такой способ обогащения ни к чему, я и так, слава Богу, не бедствую, — отмахнулся Лукино. — Это вот им, молодым искателям счастья, — он кивнул на Ридольфо и Донато, — можно положить глаз на красотку и с помощью удачного брака хорошо обосноваться в Кафе. Кстати, здесь права генуэзцев сейчас получают все, кому не лень: татары, греки, славяне, евреи. Лишь бы прожили в Кафе со своими семьями больше года и платили налоги.
— Зачем мне права генуэзца и жизнь в Кафе, когда я флорентиец? — пожал плечами Ридольфо. — Я, конечно, не прочь приударить за местными красотками, но жениться буду во Флоренции, на девушке почтенного рода, которую мне сосватают родители.
— Это правильно, — одобрил его дядя. — Благородному человеку надо уважать семейные устои. А у тебя, Донато, — обратился он к римлянину, — какие намерения? Ты тоже приехал сюда по торговым делам, как Ридольфо, или хочешь здесь надолго обосноваться?
— Я сюда, можно сказать, бежал, — невесело усмехнулся Донато. — На родине мне угрожало горе и бесчестие, но рассказывать об этом не хочу и не буду. Не знаю, надолго ли задержусь в Кафе. Пока мне надо подумать, осмотреться.
— А на родине тебя кто-нибудь ждет? — полюбопытствовал Эрмирио.
— Нет. Родители мои умерли, а близких родственников я не имею. О друзьях же и недругах говорить не хочу, так что даже не спрашивайте.
— Но могу ли я тебя хотя бы спросить о роде твоих занятий? — осторожно поинтересовался аптекарь. — Чем ты зарабатываешь на жизнь? Торговлей? Или у тебя есть имение?
— Имение у меня отняли обманом, а на жизнь я зарабатываю военной службой.
— Так ты солдат? Или кондотьер[13]? Приехал сюда, чтобы наняться в войско консула или в охрану какого-нибудь местного богача? Если так, то я советую тебе пойти в аргузии — личную конную стражу консула. Аргузии — это весьма почетный отряд, он набирается из сильных, ловких и надежных мужчин, каждый из которых имеет лошадь, щит, плащ и свое оружие. Кроме жалованья, правда не очень большого, кафинскому аргузию предоставляется право единолично распоряжаться той добычей, которую он захватит.
— Да? Так жалованье аргузия прирастает за счет доходов от разбоя? — с иронией заметил Донато. — Это неплохо. Но я еще не решил, чем займусь. Во время плавания на корабле ваш племянник много рассказывал мне о выгодах морской торговли. Будто бы только на ней можно быстро разбогатеть.
Эрмирио эти слова показались наивными, и он, с удивлением глянув на римлянина, заметил:
— Но в торговых делах и одураченным можно остаться. Если хочешь быстрой прибыли, держи ухо востро и будь готов ко всему. А самая выгодная торговля в Кафе — это продажа невольников. Или, может, ты презираешь такое занятие?
— Нет, я готов заниматься чем угодно, лишь бы разбогатеть.
— Ну, на торговле живым товаром ты уж точно разбогатеешь, если не глуп, — заверил его Лукино. — После того как чума выкосила столько народа, рабы повсюду стали на вес золота, рабочих рук не хватает.
— Да, и потому всякий наемный люд задрал голову и рвется к власти, — хмуро заметил Ридольфо. — Вот у нас во Флоренции в прошлом году чомпи[14] бунтовали, сожгли здание цеха и многие купеческие дома.
— Представляю, сколько страха натерпелся ваш жирный люд, — хмыкнул генуэзец и обратился к Донато: — А ты, мне кажется, отчаянный и крепкий парень. Если не брезгуешь опасным промыслом, то у нас ты добьешься успеха. Предлагаю тебе сейчас пойти в таверну «Золотое колесо», я ее совладелец. При таверне есть и постоялый двор, можешь там остановиться. «Золотое колесо» — такое место, где ты познакомишься со многими полезными людьми.
— Нет, зачем же на постоялый двор? — вмешался Эрмирио. — Донато был попутчиком моего племянника в плавании, так пусть он пока остановится у меня в доме.
Донато не успел ничего ответить, как в аптеку чуть ли не вприпрыжку вбежал худенький черноволосый юноша лет семнадцати-восемнадцати, быстро всех поприветствовал и, протянув аптекарю полотняный мешочек, пояснил:
— Вот, синьор Эрмирио, те коренья, которые вы просили, отец нашел их в горах.
Аптекарь развернул ткань, рассмотрел коренья и удовлетворенно кивнул:
— Да, хорошо, спасибо тебе, Томазо. А что же Симоне сам не приехал в город?
— Не хочет. Отец уже привык жить как отшельник. Велел продать вам эти корешки за десять аспров.
— Ладно, сейчас я отсчитаю деньги. А где твой брат?
— Точно не знаю, но думаю, что он где-то кутит с дружками.
— Хорошо, что хоть на тебя Симоне может положиться, — заметил Эрмирио.
— Бартоло тоже неплохой, но наемные солдаты все время его сманивают и приучают к харчевням. До свидания, синьоры, я спешу, отец велел вернуться до вечера, а путь неблизкий.
Юноша исчез столь же стремительно, как и появился.
— Что за смешной торопыга? — кивнул ему вслед Ридольфо. — И зачем тебе, дядюшка, его коренья, если купцы могут привезти сюда лучшие травы и бальзамы со всего мира?
— Э, дорогой мой, в Таврике имеются такие лечебные растения, которых в других местах и не найдешь, — сказал аптекарь. — Отец этого мальчика, отшельник Симоне, отыскивает в здешних горах и скифский корень, и понтийскую абсентию, и целебную смолу, и много чего другого.
— Отшельник, который живет в горах? — спросил Донато. — Что-то я не вижу вокруг Кафы больших гор, только холмы.
— Да, но Симоне живет далеко от города, — пояснил Эрмирио. — Если поехать отсюда на юго-запад, то можно увидеть весьма причудливые горы и скалы. Симоне и поселился среди таких гор между Кафой и Солдайей.
— А кто он такой? — уточнил Донато. — Местный уроженец или приехал из Генуи? И что его заставило стать отшельником?
— О, это весьма чувствительная и грустная история, — пустился в объяснения словоохотливый аптекарь. — Отец Симоне был генуэзцем, а мать — мавританкой из арабского контрадо Тугар-аль-Хасс. Симоне осиротел во время чумы, был беден, но знал грамоту, и в консульской канцелярии ему иногда давали мелкие поручения. Все думали, что он изберет духовное или медицинское поприще, но юноша вдруг влюбился в дочь самого викария[15] и добился ее взаимности. Отец девушки, когда узнал, что она любит бедняка, да еще и полукровку, пришел в ярость и хотел заточить дочь в башню или насильно выдать замуж. Но Симоне его опередил: он вместе с возлюбленной бежал из Кафы в Солдайю, и там они обвенчались. Викарий поначалу гневался, но потом все же простил молодых супругов — тем более что дочь его была уже беременна. Симоне с женой вернулся в Кафу. Счастье его окрылило, и он с таким рвением занялся морской торговлей, что скоро разбогател. У них с женой родилось два сына — Бартоло и Томазо, которого вы только что видели. Но через несколько лет жена Симоне умерла, и это повергло его в такое горе, что он почти тронулся умом, забросил все дела, и они скоро пришли в упадок. Сыновей он тоже забросил, и мальчики жили у тестя. А Симоне поселился в отдаленной хижине, стал отшельником и знахарем. Темные люди даже считают его колдуном. Вот что сделала с человеком тоска по погибшей любви. Но, правда, спустя какое-то время он одумался и стал заниматься воспитанием своих детей, — тем более что тесть его заболел и умер. Теперь для отшельника сыновья — свет в окне, он ради них живет. Надо сказать, что, будь Симоне похитрей, он мог бы стать богатым, потому что как лекарь и хирург весьма искусен да к тому же обладает даром прорицателя. Но Симоне — человек блаженный, не от мира сего, и деньги к его рукам не прилипают, а это совсем не нравится старшему сыну, Бартоло. Он не любит навещать отца и даже его стыдится. А вот Томазо — хороший, добрый мальчик, хотя и простоватый.
— Томазо — недалекий юнец, а Бартоло — настоящий бравый генуэзец, не то что его свихнувшийся родитель, — заявил Лукино и, обращаясь к Донато, добавил: — Кстати, Бартоло часто бывает у нас в «Золотом колесе». Он, как и ты, мечтает разбогатеть на военном поприще.
— Кажется, у вас на постоялом дворе я смогу найти себе подходящую компанию, — сказал Донато, слегка улыбнувшись. — Решено, Лукино. Веди меня в «Золотое колесо».
Попрощавшись с немного озадаченными флорентийцами, Донато вместе с Лукино ушел из аптечной лавки. Эрмирио посмотрел ему вслед и, пожав плечами, обратился к племяннику:
— По-моему, этот римлянин ведет себя довольно странно. Он не производит впечатления неопытного человека, но вместе с тем… неужели он не понимает, что в таких харчевнях, как «Золотое колесо», собираются проходимцы и мошенники, которые могут обмануть, обыграть, а то и ножом пырнуть? Он ведь уже один раз стал жертвой обмана, так ему этого мало? Кто он вообще таков, ты его давно знаешь? И что за нужда погнала его в Таврику?
— Дядюшка, я о нем знаю лишь то, что его зовут Донато Латино. Он не любит говорить о себе, только намекает, что одна генуэзская семейка его обманула, и он бежал, чтобы не угодить в ловушку. Когда я в Ливорно погрузился на корабль, Донато уже был там, он плыл из самой Генуи.
— А капитан корабля ничего не знает о Донато?
— А что он может знать? Донато заплатил ему и сел на корабль перед самым отплытием.
— Да, странный господин… И ведь еще молод, лет двадцати пяти — двадцати семи, не более, а серьезен и немногословен, будто почтенный, повидавший жизнь человек. Похоже, он благородного происхождения. Но тогда тем более непонятно, как он мог довериться такому головорезу, как Лукино Тариго. Ведь я с полным доброжелательством предлагал ему остановиться у меня, а он предпочел пойти в сомнительную таверну.
— Может, просто не захотел тебя стеснять? — предположил Ридольфо.
— А может, он не тот, за кого себя выдает? — засомневался Эрмирио. — Ну, посмотрим. Рано или поздно он себя проявит. Но если окажешься с ним в одной компании, будь поосторожней.
— О, об этом можешь не предупреждать! — усмехнулся Ридольфо. — В нашей семье люди умеют не попадать впросак.
— Дай-то Бог. Ну а теперь, дорогой племянник, идем в дом, поговорим о семейных делах, и я попотчую тебя местными блюдами, здесь превосходная рыба. А лавку пока оставлю на Беппо.
Эрмирио позвал приказчика, а сам вместе с Ридольфо поднялся на второй этаж, в жилые комнаты.
Глава вторая
Звон колокола Часовой башни, носившей имя Христа или «Криско», как говорили латиняне, заставил Марину вздрогнуть, отвлечься от своих мыслей. На этой башне, венчающей восточный фланг цитадели, недавно было установлено редкое чудо — часовой механизм, при котором состояли специальный мастер и четыре стража, звонившие в колокол по часам.
В армянском квартале, расположенном недалеко от цитадели, этот звон всегда был слышен очень хорошо. Он словно напоминал разноплеменным обитателям Кафы о том, что жизнь города подчиняется Уставу для генуэзских колоний.
Марина быстро глянула по сторонам, как будто опасаясь, что кто-то может догадаться, как далеки были ее мысли от домашних забот и больного Андроника, которому она несла лекарство. Девушка и сама себе не хотела признаться, что в уме все время перебирала свой разговор с итальянцами в аптеке. Она была возле дома, и Никодим уже услужливо распахнул перед ней калитку, как вдруг сзади ее окликнули по имени. Марина оглянулась — и встретилась глазами с Константином. Молодой купец слегка поклонился и сказал:
— Приветствую тебя, Марина. Это правда, что Андроник продает свой загородный дом?
— Да… кажется, продает, — рассеянно ответила девушка.
— Я хотел бы обсудить с ним условия покупки. Можно ли сейчас к вам зайти?
— Нет… боюсь, что нельзя. Андроник заболел, и я несу ему лекарство из аптеки. Андронику очень плохо.
— Ну что ж, зайду, когда он выздоровеет. Но ты ему передай, что я готов купить этот дом.
— Хорошо, передам, — пообещала Марина, а про себя подумала: «Наверное, он покупает загородный дом, чтобы после свадьбы поселиться там с Евлалией».
Константин попрощался, напоследок окинув девушку быстрым и, как ей показалось, оценивающим взглядом. Она отвернулась от него, вошла в распахнутую Никодимом калитку и почему-то вдруг подумала, что внешность у молодого купца, пожалуй, слишком слащавая и изнеженная для мужчины. Марине даже стало удивительно, как раньше она этого не замечала, поддаваясь мнению молвы, называвшей Константина красавчиком и завидным женихом.
У постели Андроника по-прежнему сидела Таисия, рядом с ней — Лазарь, а чуть поодаль топтался ожидавший приказаний Чугай. Марина отдала врачу бальзам и вопросительно взглянула на мать. Таисия вздохнула, слегка покачала головой, а потом велела дочери:
— Иди, посмотри, как там на кухне. Ждана должна была приготовить пирог с рыбой.
— О нет, я ничего не хочу, кроме печеных яблок, — поморщился Андроник, который всегда бывал очень капризным во время болезней.
Таисия оглянулась на Лазаря, и тот кивнул:
— Да, печеных яблок ему можно. А также молока.
Марина вспомнила, что и сама еще с утра ничего не ела, и в тот же миг ощутила волчий голод. Прибежав на кухню, расположенную в полуподвальном помещении дома, она схватила со стола ломоть хлеба и кусок сыра и принялась жевать, запивая компотом из слив. На кухне хозяйничала Ждана — повариха-славянка. Она, единственная среди домашних слуг, была привезена Таисией из Киева и своим обликом и говором напоминала хозяйке о далекой родине. Оказавшись в доме Андроника, Ждана, в те годы еще юная девушка, обучалась поварскому искусству у пожилой армянки Ануш и теперь умела хорошо готовить армянские и греческие блюда. После смерти Ануш молодая славянка заменила ее на кухне купеческого дома. Сейчас пухленькой миловидной Ждане было не более двадцати семи лет, но она уже успела стать вдовой. Ее муж, грек по происхождению, работал каменщиком и погиб во время обвала на стройке. Своих детей у Жданы не было, и она всей душой привязалась к маленькому Георгию, а к Марине относилась словно к младшей сестренке.
— Не хватай куски, а поешь как следует, — с добродушной строгостью сказала повариха молодой хозяйке. — Пирог уже готов, и дичь на вертеле зарумянилась.
— Поем с удовольствием, — откликнулась Марина, допивая компот. — Но вначале отнесу Андронику молока и печеных яблок. Ему, бедняге, больше ничего нельзя.
— Дай-то Бог, чтоб хозяин выздоровел. — Ждана вздохнула и перекрестилась.
Она, как и другие слуги, понимала, что благополучие семьи и дома Таги держится на Андронике, а потому и молилась искренне о его здоровье.
Все это понимала и Марина, которой было грустно еще и оттого, что болезнь Андроника отодвигала на неопределенный срок давно обещанную ей поездку в Сугдею. Марине, которая всегда мечтала посмотреть другие города и завидовала морякам, приплывавшим из далеких земель, было досадно, что мать и Андроник сами не любят путешествовать и ее не отпускают никуда дальше кафинских предместий. Даже ближайший к Кафе город Сугдею-Солдайю ей пока не удалось посетить.
Впрочем, если мать никогда не любила поездок, то Андроник стал домоседом лишь на склоне лет. В молодости же он много попутешествовал — причем не только по Таврике и славянским землям. Мысли о своих далеких предках подвигли его посетить Киликийскую Армению[16], и древний город Эдессу, и бывшие владения крестоносцев от Иерусалима до Антиохии.
Когда купец бывал в благодушном настроении, он любил рассказывать о том путешествии, и Марина помнила его рассказы во всех подробностях, но все равно каждый раз слушала с интересом. Андроник часто упоминал о том, что двести лет назад, в славное время крестовых походов, Иерусалимом правила знаменитая королева Мелисанта, француженка по отцу и армянка по матери, внучка Тороса Эдесского. И эта красавица королева словно воплощала в себе слияние западной и восточной культур. Андроник описывал армянские церкви в Иерусалиме и Вифлееме, а также знаменитый Псалтырь Мелисанты, написанный на французском языке, но оформленный в византийских и армянских традициях. При этом он не упускал случая повторить, что его предки были в родстве с королевой Марфой, матерью Мелисанты. И Марина понимала, что ему так же заманчиво в это верить, как ей самой — в свое происхождение от князей Рюриковой крови. Подтвердить — впрочем, как и опровергнуть — вопросы столь древнего родства все равно никто не мог.
Еще Андроник рассказывал об Эдессе — древнехристианском городе, из которого в Константинополь был перенесен Нерукотворный Убрус Иисуса Христа. Также, по некоторым сведениям, именно из Эдессы крестоносцы вывезли таинственную Чашу Грааля, о которой было сложено много легенд.
Когда Андроник упоминал о византийской иконе святой Марины, виденной им в Триполи, падчерица его расспрашивала, а хороша ли ее небесная покровительница, изображения которой не было в кафинских церквах. Но отчим всякий раз наставительно отвечал, что красота есть не в чертах изображенного лица, а в святости, исходящей от иконы. Андроник был строгим и набожным человеком, и Марине приходилось при нем сдерживать свой живой и любознательный нрав.
После левантийского бальзама Андронику стало лучше, и он даже уснул, что принесло домочадцам временное облегчение. Таисия пошла с Мариной в церковь, чтобы помолиться о скорейшем выздоровлении мужа.
Церковь Святого Стефана была небольшой, но одной из лучших в православных кварталах. Иногда службу здесь правил отец Панкратий — суровый, немногословный грек, которого многие прихожане побаивались. Но Марине он нравился, потому что рассказывал ей о фресках, иконах, а главное — давал почитать книги из монастыря Святого Василия, где отец Панкратий ведал библиотекой и скрипторием. Как ни странно, но любознательность Марины, казавшаяся отчиму и матери суетной, не вызывала осуждения у строгого священника, который поощрял в людях склонность к духовным исканиям.
Сейчас отца Панкратия не было в церкви, а другие служители, равно как и прихожане, у Марины не вызывали интереса. Пока мать молилась, девушка молча смотрела на фрески, которые в церкви Святого Стефана казались ей особенными и завораживали исходящей от них внутренней силой. Эти фрески были подобны немногословной, но истовой молитве — столько в них было тревожного огня, движения и порыва. Их темный фон прорезали неровные вспышки белого света — словно духовные молнии, что выхватывали из сумрака мира святые лики, полные сурового вдохновения, и тонкие фигуры в струящихся складках одежд. Казалось, художник хотел передать зрителям некую важную мысль и вдохнуть в них сильное чувство.
Отец Панкратий однажды упомянул, что эти фрески написал мудрый греческий живописец Феофан, который родом был из Константинополя, но потом побывал во многих городах и землях, а после Кафы отправился на Русь. Марине не приходилось видеть Феофана Грека, но, глядя на его фрески, она представляла художника похожим на отца Панкратия — таким же строгим, молчаливым, но с удивительным сиянием в глазах, взгляд которых был одновременно и сосредоточенным, и беспокойным.
Марина остановилась напротив фрески, изображавшей таинство причащения. Лики Христа и апостолов, как и святая чаша Евхаристии, были озарены таким светом, что, казалось, художник знал секрет чудесной краски, впитавшей в себя небесные лучи. Этот свет пробуждал в душе Марины какие-то неизъяснимые чувства, словно звал к чему-то высокому, чего она не могла выразить словами.
И вдруг девушка услышала за спиной знакомый голос, негромко продекламировавший на латыни:
На сидящих у стола От Чаши радость снизошла… В душу снизошло дивное тепло! А вас коснулся дивный свет?..[17]Она узнала голос итальянца Донато, утром виденного ею в аптеке.
Другой голос, явно принадлежавший Лукино Тариго, с насмешкой откликнулся:
— Это ты сам сочинил или кто-то из чванливых флорентийских писак?
— Нет, это старинный бургундский поэт Робер де Борон, — ответил Донато. — Он первый написал о Чаше Грааля. А эта православная фреска заставила меня вспомнить его строки.
— По-моему, для аргузия ты слишком образован, — хмыкнул генуэзец.
Марина, стоявшая в ряду других женщин, с платком на голове, не сразу была замечена итальянцами, но в следующую минуту мать подала ей знак уходить, и девушка оглянулась. Тут же Донато и Лукино ее узнали и кивнули ей — причем генуэзец еще игриво улыбнулся. Это не укрылось от Таисии, и она, схватив дочь за руку, быстро увела ее из церкви, а уже за порогом храма спросила:
— Что ты переглядываешься с этими генуэзцами? Они тебе знакомы?
— Просто видела их сегодня в аптеке у Эрмирио, вот и все, — пожала плечами Марина.
Таисия проворчала:
— Ходят, наглецы, в православный храм, что им тут делать? Разве что наших девушек высматривать. Не вздумай отвечать на их любезности.
— Я и не отвечаю.
— К тому же у тебя есть жених.
— А это еще неизвестно, — пробормотала Марина себе под нос, не желая сейчас открыто возражать матери.
Незаметно оглянувшись, девушка обнаружила, что итальянцы тоже вышли из церкви и повернули в сторону генуэзского квартала. «Интересно, что они здесь делали? — подумала она. — Может, искали меня? Ведь Эрмирио наверняка рассказал им, где я живу». Однако Марина тут же отмела это тщеславное предположение другим вопросом: «Но тогда почему они не пошли за мной? Нет, видно, я тут ни при чем. Просто римлянин попросил генуэзца показать ему здешние храмы и крепости».
По дороге домой она невольно возвращалась мыслями к своему случайному знакомству с итальянцами. Ее несколько разочаровали услышанные в церкви слова Лукино, из которых следовало, что Донато будет служить в Кафе аргузием. У девушки сложилось не лучшее мнение об этих стражниках. Однажды вечером, засидевшись у подруги, она возвращалась домой после звона колокола на башне Криско, возвещавшего, согласно Уставу, что горожанам пора гасить свет, закрывать лавки и таверны. И вдруг двое пьяных аргузиев с хохотом и непристойными замечаниями заслонили ей путь. В тот вечер только быстрота и ловкость помогли девушке избежать их похотливых объятий и скрыться. С тех пор у нее осталось враждебное отношение к стражникам и полицейским, она обходила их десятой дорогой и считала грубыми и наглыми людьми.
И сейчас ей неприятно было узнать, что Донато, в облике которого угадывалось нечто значительное и благородное, прибыл в Кафу, чтобы служить аргузием и водить дружбу с головорезами вроде Лукино Тариго.
Марина вспомнила, как Донато с гордостью сказал: «Я римлянин!» Да, видно, он сознавал, что это честь — быть уроженцем великого города, когда-то гремевшего на весь мир. Марина вдруг подумала о себе: а гордится ли она сама своим происхождением из Киева? Ведь стольный град русичей тоже был древним и знаменитым — второй православной столицей после Царьграда-Константинополя. А нынче и Рим, и Константинополь, и Киев находятся в унижении и упадке, только славное прошлое и дает им надежду возродиться. Отец Панкратий рассказывал Марине о гибели Константинополя от рук крестоносцев. Мрачноватый грек ненавидел завоевателей православной столицы, но, помня о справедливости, говорил: «Не все латиняне одинаковы, есть среди них люди благородные». Марине вдруг стало интересно: а каким бы отцу Панкратию показался Донато?
Голос матери отвлек ее от размышлений:
— Если Андроник заговорит с тобой о Варадате, не возражай. Не надо огорчать Андроника хотя бы сейчас, когда ему плохо. Ты же понимаешь, каково нам придется, если он умрет.
— Ладно, мама, я не буду перечить Андронику, пока он болеет, — согласилась Марина. — Но после того как поправится, я не стану скрывать, что Варадат мне не по душе и я за него не пойду.
— Вот и глупа ты, дочка! — заявила Таисия и приостановилась, глядя на Марину с раздражением и досадой. — И откуда в тебе такое упрямство? Ну, сама подумай: Андроник стар, болен, а Георгий еще мал, ему рано вести дела купеческого дома. И если Андроник умрет, как мы с тобой будем жить, где найдем защиту и опору? А Варадат — толковый и богатый человек, ты за ним будешь как за каменной стеной.
— Нет, мама. Если уж у нас не заведено, чтобы женщины сами вели торговые дела, то можно попросить кого-нибудь из родичей Андроника…
— Вот-вот! — перебила ее мать. — Они только и ждут, чтобы весь наш дом прибрать к рукам. Нет, дочка, лучше тебе найти опору в Варадате, он любит тебя и не обидит.
— Но почему обязательно Варадат? — топнула ногой Марина.
— А кого еще ты видишь вокруг себя? Он как раз самый подходящий и есть. Или, может, ты на красавчика Константина засматриваешься? Так он уже почти женат. Или тебе понравился кто-нибудь из этих разбойников-латинян?
Девушка насупилась, недоумевая, почему мать упомянула Константина. Неужели Зоя, лучшая подруга, проговорилась? Ведь только ей Марина призналась в своих тайных чувствах к молодому купцу. Впрочем, сейчас это уже не очень-то волновало Марину. Гораздо больше ее насторожило предположение матери о латинянах.
— Не нужны мне ни Константин, ни латиняне! — выпалила она резко. — Я, может… Я, может, вообще в монастырь уйду, как Рузанна!
Сказав так, Марина сама испугалась собственных слов и, оторвавшись от матери, быстро зашагала вперед. Догнав дочь, Таисия схватила ее за рукав и растерянно пробормотала:
— Ну, что ты, Маринка, не надо такого говорить, не надо!.. Я не стану тебя торопить, время покажет, как будет лучше.
Марина поняла, что мать смутили не столько слова о монастыре, сколько о Рузанне. Уже почти девять лет минуло с тех пор, как дочь Андроника жила далеко от дома, в женской православной обители, которая приютилась в лесистых горах где-то между монастырями Сурб-Хач и Святого Стефана Сурожского. Упоминание о Рузанне, как и о погибшем в морской пучине Григоре, было в доме Андроника Таги под негласным запретом.
Марина тоже избегала мыслей о сводной сестре, потому что они будили в ней какое-то тягостное чувство, похожее на смутные угрызения совести.
Но вечером она снова невольно вспомнила о Рузанне, когда, поднявшись по внутренней лестнице на второй этаж, прошла мимо комнаты, которую когда-то занимала дочь Андроника. Перед мысленным взором Марины промелькнули события той уже далекой весны, когда нарушился привычный порядок купеческого дома.
Войдя в свою спальню, девушка распахнула окно и, опершись на подоконник, засмотрелась вдаль. Окно выходило в сторону моря, а дом Андроника стоял на некотором возвышении, и потому за крышами и деревьями Марине была видна морская равнина, сейчас подернутая вечерней дымкой. Колокол на башне Христа уже пробил девять часов, и город постепенно погрузился в тишину и сумрак. Прохладный ветерок доносил запах моря и освежал лицо Марины, пылавшее внутренним огнем из-за неприятных воспоминаний…
Она тогда была маленькой девочкой, почти ничего не знавшей о жизни и во всем полагавшейся на мать — свою единственную опору в тревожном мире, своего обожаемого ангела и наставника. До семи лет Марина боялась спать одна, и мать баюкала ее, укладывая с собой. Но потом Андроник положил этому конец, заявив, что девочке следует приучаться спать отдельно, а Таисия не должна ее баловать. Вскоре родился Георгий, он был беспокойным ребенком, и у матери уже не оставалось времени возиться с Мариной.
Первое время девочка плакала, засыпая в своей спальне, и ее приходила успокаивать Ждана, а иногда — Рузанна, бывшая на восемь лет старше сводной сестры. Рузанна говорила, что надо быть сильной и смелой, чтобы выжить в суровом мире и отогнать от себя злых духов. И постепенно Марина привыкла к строгим порядкам купеческого дома, перестала бояться и уже спокойно засыпала одна.
В ту весну из далекого путешествия вернулся Григор. Впоследствии, подрастая, Марина узнала историю своего сводного брата, бывшего незаконным сыном Андроника.
Случилось так, что во время осады Кафы татарами, заразившими город чумой, Андроник находился вдали от родного дома — в своей знаменитой поездке к древним городам Ближнего Востока. Когда он смог наконец вернуться на родину, то с ужасом узнал, что его жена и двое детей умерли от чумы. Погоревав, Андроник нашел утешение в объятиях красивой гречанки, приехавшей в Кафу из Херсонеса, откуда тянулась за ней прилипчивая слава гетеры. Скоро возлюбленная родила Андронику сына, названного Григором, но жениться на ней купец не мог, поскольку все родичи были против, да и священники осуждали такой брак. Возможно, Андроник в конце концов переступил бы через их недовольство и запреты, но тут гречанка внезапно исчезла из города. Одни говорили, что ее похитили татары, другие — что она сама сбежала с кем-то из бывших любовников. Как бы там ни было, но мать Григора так и не объявилась в Кафе, оставив мальчика отцу, и Андроник очень привязался к сыну, признал его своим законным наследником. Жизнь шла своим чередом, и, погрустив какое-то время, купец женился на молодой армянке Наринэ — девушке из добропорядочной семьи. Ни Наринэ, ни ее родне не нравилось, что в доме Андроника живет незаконнорожденный сын, и, не желая огорчать жену, купец поселил мальчика в своем загородном доме. Впрочем, привязанность его к сыну отнюдь не стала меньше, и он по-прежнему воспитывал Григора как своего наследника, хотя надеялся дождаться и других детей. Однако Наринэ оказалась слаба здоровьем и произвела на свет только Рузанну, двое других детей родились мертвыми, а вскоре и сама Наринэ умерла. Андроник уже почти смирился с мыслью, что его единственным сыном и преемником в делах купеческого дома останется Григор, который рос на удивление смышленым и резвым ребенком. Все изменила поездка Андроника в Киев, где он и познакомился с Таисией. После женитьбы и рождения Георгия у купца появился второй наследник, хотя и старшего сына Андроник не собирался ни в чем обделять. Григор уже мог самостоятельно вести торговые дела, и если отец предпочитал сухопутные путешествия, то сын любил море и корабли. Проводя жизнь в плаваниях, Григор редко бывал дома и, казалось, вовсе не был обеспокоен женитьбой отца.
Но в ту весну старший сын Андроника задержался в доме дольше обычного. Григор был веселым красивым юношей двадцати двух лет, и домочадцы поговаривали, что расчетливый Андроник хочет женить его на девушке из богатой семьи. А для шестнадцатилетней Рузанны отец уже подыскал жениха — немолодого, но весьма состоятельного вдовца. Впрочем, в доме никаких разговоров о свадьбе пока не велось, все было тихо, спокойно, и маленькая Марина не видела вокруг ничего примечательного.
Но все изменилось в тот поздний майский вечер, когда теплый воздух, казалось, сгущался в предчувствии ночной грозы, а голоса птиц звенели каким-то тревожным ликованием.
Марина долго не могла уснуть, но не решалась позвать Ждану, чтобы вновь не выглядеть маленькой трусихой, к которой вернулись давно забытые ночные страхи. Вообще-то, страха как раз не было; просто девочке хотелось, чтобы кто-то рядом с ней посидел и рассказал на ночь сказку — одну из тех историй о богатырях и царевнах, которые она особенно любила.
Наконец, поворочавшись с боку на бок, она решилась заглянуть к Рузанне, комната которой была недалеко, надо было только немного пройти по коридору. К тому же юную Рузанну Марина стеснялась меньше, чем старших.
Осторожно открыв дверь, девочка неслышно прошлепала босыми ножками к комнате сводной сестры и уже хотела к ней постучаться, как вдруг странные звуки ее насторожили. Ей послышался из-за двери сестриной спальни протяжный стон и какой-то несвязный шепот. У Марины мелькнула мысль, что, может быть, Рузанне плохо и надо бы кого-то позвать на помощь. Но потом она узнала голос Григора, который явственно произнес:
— Ничего не бойся, ведь я с тобой.
Значит, Григор там, в спальне Рузанны, и если сестре плохо, то он поможет, решила Марина, но что-то странное почудилось ей в следующих словах Григора:
— Любовь — не преступление, и мы с тобой не преступники. Но разве справедливо, что тебя отдадут какому-то старому дураку и тирану? С ним ты даже не узнаешь, что такое мужская любовь. А ты такая юная, красивая… Ты расцвела за последний год, как роза. Я, когда вернулся домой и тебя увидел, то просто обомлел.
Марина прижалась ухом к двери и своим чутким детским слухом ловила каждое слово, хотя многого не понимала.
Голос Рузанны звучал испуганно, смятенно:
— Ты был бы прав во всем, если бы не наше с тобой родство. Я бы сбежала с тобой, любила бы тебя всегда, но… но ведь ты мой брат! То, что мы делаем, — тяжкий грех, грех неискупимый…
— Это люди придумали, что такое грех, а в природе нет такого понятия, — уверенно заявил Григор. — И разве я виноват, что у меня к тебе отнюдь не братская любовь? Мы с тобой жили порознь, редко виделись, и я не чувствую тебя своей сестрой. Ты для меня — красивая и желанная девушка. И кто может меня за это осудить? Жалкие людишки, которые нас окружают? Да они сами готовы на все ради выгоды, готовы продать свою честь, свободу, своих детей. Это их мы должны бояться?
— Но есть Бог, и он не простит нам такого греха!
— Гм, не знаю… Если подумать, то все люди на земле — потомки кровосмесительной связи. Ведь когда-то, кроме Адама и Евы, на земле не было других людей, верно? Значит, род людской мог продлиться только от их детей, а их дети были между собой братьями и сестрами. Разве не так?
— Вроде бы так, но и не так… меня пугают твои кощунственные слова, я их не понимаю, — растерянно бормотала Рузанна.
— Красавица моя, но ты же смелая, гордая, ты не должна смиряться с судьбой, которую тебе навязывают, — горячо убеждал ее Григор. — Мы свободны, когда любим друг друга, а все остальное — унылая неволя.
Дальше их разговор перешел в прерывистый шепот, затем послышались странные вздохи, и Марина, не сдержав любопытства, решила заглянуть в спальню сводной сестры. Дверь была заперта изнутри на крючок. Но, поскольку она прилегала к косяку неплотно, тоненький пальчик Марины смог добраться до крючка и неслышно его сдвинуть. Заглянув в щель между приоткрытой дверью и внутренней занавеской, девочка увидела картину, поразившую ее детское воображение. В комнате горела единственная свеча, и в ее мерцающем свете обнаженные тела на постели напоминали ожившие статуи богов из розового мрамора, которые Марина видела на площади у дворца. И эти прекрасные молодые тела сплетались друг с другом и двигались плавными толчками, и каждое движение сопровождалось сдержанным стоном. Не понимая, что происходит, но чувствуя, что стала свидетельницей какой-то опасной и стыдной тайны, девочка чуть отступила назад и прикрыла за собою дверь. И в этот момент она услышала легкие шаги в конце коридора. Вздрогнув, Марина кинулась бежать и возле своей спальни наткнулась на Таисию.
— Что такое? Ты почему не в постели? — спросила мать, обнимая девочку. — А я как чувствовала, что надо тебя навестить. Ты опять чего-то испугалась, моя маленькая?
— Нет, мама, я просто хотела, чтобы Рузанна рассказала мне сказку, — прошептала Марина, прижимаясь к матери. — Но там, у Рузанны, Григор… они там почему-то голые лежат. Я случайно заглянула — и сразу же вышла. Они меня даже не видели.
— Что?.. — Таисия наклонилась к дочери, и ее глаза засверкали. — Григор у Рузанны?
— Да, мама, но ты туда не ходи, не надо их пугать, ладно? — Марина прижала палец к губам.
— А ну-ка, дочка, быстро иди спать и не выглядывай в коридор, — строго приказала мать и подтолкнула Марину к ее спальне.
Но девочка, скрывшись в комнате, не могла последовать совету матери и спокойно уснуть, — уж слишком растревожено было ее воображение только что увиденной картиной.
Подойдя на цыпочках к двери и выглянув в щель, она увидела, что мать сделала несколько медленных, осторожных шагов по коридору и, как перед тем Марина, заглянула в спальню Рузанны. Через несколько мгновений Таисия по-прежнему неслышными, но теперь уже торопливыми шагами ушла прочь. Марина подумала, что мать, уважив ее просьбу, решила не пугать Рузанну и Григора. Довольная, что все обошлось без шума и брани, девочка юркнула под одеяло, собираясь уснуть. Но уже через минуту-другую она услышала теперь уже не осторожные, а довольно громкие шаги по коридору, вслед за которыми раздался гневный голос Андроника. Тут же вскочив с постели, Марина выглянула из своей комнаты и увидела, как Андроник выталкивает полуодетого Григора из дочкиной спальни и кричит ему вдогонку:
— Убирайся из моего дома, мерзкий нечестивец! Вот когда сказалась порочная натура твоей матери! Ты мне отныне не сын, живи как хочешь!
Потом послышались приглушенные рыдания Рузанны и суровый приговор ее отца:
— А ты, бесстыжая негодяйка, отправишься в монастырь и будешь там до конца дней замаливать свои грехи!
Раскаты грома внезапно заглушили брань Андроника. Майская гроза своим безудержным порывом довершила картину непоправимого семейного разлада.
В этот момент мать посмотрела в сторону Марины, и девочка поспешно захлопнула свою дверь.
Через некоторое время Таисия зашла к ней, чтобы проверить, спит ли дочь. Когда она присела на кровать и погладила Марину по голове, девочка открыла глаза и с обидой в голосе спросила:
— Мама, для чего ты привела Андроника? Видишь, он рассердился и выгнал из дома Рузанну и Григора.
— Так надо было, дочка, они это заслужили, — строго сказала Таисия.
— Но мне их жалко! Рузанна хорошая, а Григор веселый. За что их выгонять?
— Вырастешь — сама все поймешь. И жалеть тебе их нечего, у тебя свой брат есть, родной, вот его и жалей. — И, помолчав, Таисия тихо добавила: — Теперь вы с Юрием — единственные наследники этого дома.
Смысл последней фразы Марина поняла лишь потом, когда повзрослела. С годами ей стало ясно, что Таисия нарочно донесла мужу на его детей, ибо знала, что благочестивый Андроник не простит им подобного греха.
С той роковой ночи в доме не звучал больше звонкий голос Рузанны, отправленной в женскую обитель. Григор, лишенный дома и имущества, ушел в плавание, нанявшись простым моряком на корабль к какому-то купцу. Слуги и соседи, не зная причины такой суровости Андроника, могли только строить догадки и распускать слухи — впрочем, некоторые из этих слухов были близки к истине.
Андроник стал еще ревностней молиться, еще больше жертвовать на церковь, а в своем доме завел еще более строгие порядки. Он сурово следил за поведением всех домочадцев, не допускал вольностей ни в одежде, ни в разговорах. Даже похвалы женской красоте считались в его доме чем-то легкомысленным, — именно поэтому Марина поздновато узнала, что превратилась из нескладного подростка в красивую девушку. Мать заботилась прежде всего о том, чтобы Андроник, не усомнившись в благочестии ее детей, оставил все наследство Георгию, а потому старалась оградить Марину от суеты и соблазнов. Она также согласна была выдать дочь за Варадата, поскольку считала такой брак выгодным и, вероятно, надеялась постепенно убедить в этом Марину.
Вспомнив прошлое, девушка снова почувствовала подспудные укоры совести. Да, она была тогда маленькой и ничего не понимала, во всем полагаясь на мать, но ведь именно она явилась виновницей — пусть и невольной — той ужасной развязки, которая привела к изгнанию Рузанны и неприкаянным скитаниям Григора, завершившимся его гибелью в морской пучине. Если бы не ее детское любопытство, то участь юных грешников могла бы быть мягче и милосердней…
Марина надеялась, что сон прогонит ее тягостные мысли, но получилось иначе, и вместо сна девушку ждало новое напоминание о Рузанне. Она не успела сомкнуть глаз, как испуганная служанка постучала в ее дверь и позвала Марину к постели отчима.
В спальне Андроника горело много свечей, потому что больной боялся умереть в темноте. Он возлежал на высоких подушках и судорожно сжимал руку сидящей рядом Таисии, приговаривая при этом:
— Все, конец… до утра не доживу…
— Не думай о смерти, крепись… сейчас придет Лазарь, — успокаивала его жена.
— Нет, чувствую, что конец, — повторил Андроник. — Позовите Георгия, Марину… и священника.
— Марина уже здесь, а Георгия не следует пугать на ночь глядя, — сказала Таисия. — И священника пока не надо звать. Я уверена, что тебе к утру станет лучше.
— Нет, лучше не будет, я умираю… — прошептал Андроник и, бросив взгляд на Марину, объявил: — Мне надо сказать вам с дочерью нечто важное. Все остальные пусть уйдут.
Таисия кивнула служанкам, и те покинули комнату.
— Так вот… — сдавленным голосом продолжал Андроник. — Так вот… обещайте мне, что выполните мое предсмертное желание. Я много думал и раскаиваюсь в том, что жестоко, без милосердия повел себя с Рузанной и Григором.
— Тебе не в чем раскаиваться, — возразила Таисия. — Не при Марине будет сказано, но они совершили страшный грех.
— Да, но они были молоды, глупы… горячая кровь ударила в голову… А я слишком мало занимался их воспитанием, не водил на проповеди к мудрым священникам… Я сам во многом виноват. И, как бы там ни было, они мои дети. Григора уже не вернешь, а Рузанна… мне жаль мою заблудшую овечку… она, наверное, несчастна в той убогой обители, вдали от дома. Я хочу вернуть ее сюда, в Кафу, в наше семейное гнездо. Обещайте мне, что поедете к Рузанне и скажете ей, что я ее прощаю и зову в родной дом. Пусть забудет о моей суровости. Я не успею сказать ей это сам, но ты обещай мне, Таисия, что найдешь Рузанну, вернешь ее домой…
Глаза Андроника горели лихорадочным огнем, слова сбивчивым потоком лились из его запекшихся губ. Марина вдруг подумала, что такое состояние отчима может свидетельствовать как о болезненном помутнении рассудка, так и о предсмертном озарении.
А Таисия с оттенком недовольства сказала:
— Полно тебе, Андроник, тревожить себя такими мыслями. Вот выздоровеешь — сам и поезжай за Рузанной.
— Нет, я уже не встану, — страдальчески бормотал Андроник. — А ты обещай сделать, как я прошу…
Таисия снова хотела возразить, но тут Марина неожиданно даже для самой себя выпалила:
— Я обещаю тебе, Андроник! Выздоровеешь ты или нет, — но я в ближайшие дни поеду к Рузанне и позову ее домой!
Мать бросила на Марину недовольный взгляд, а отчим посмотрел на нее со слабой улыбкой и прошептал:
— Спасибо тебе за это обещание, я верю, что ты его исполнишь. А также обещай… поклянись мне, что выйдешь замуж за Варадата. Мне будет спокойней умирать, зная, что моя семья останется под его защитой.
Марина растерялась, ибо была не в силах дать такую клятву умирающему. Таисия строго взглянула на дочь и требовательным тоном повторила:
— Ну что же ты? Обещай, клянись! Нельзя огорчать больного отца, который сделал нам столько добра.
— Отвечай быстрее, мне еще надо успеть проститься с Георгием и исповедоваться священнику! — Андроник сделал усилие, чтобы приподнять голову, но тут же снова упал на подушку.
Глаза его закатились, он захрипел и стал судорожно хватать руками одеяло. Таисия испуганно вскрикнула, заметалась, но в следующий миг вошел Лазарь, и она кинулась к нему с выражением отчаяния и надежды. Лазарь быстро осмотрел больного и покачал головой.
— Что?.. Он отходит?.. — сдавленно выдохнула Таисия.
— Пока нет, но до утра, скорей всего, не доживет, — ответил Лазарь.
— Надо звать священника?..
— Зовите. Хотя вряд ли Андроник сможет с кем-то поговорить, он в забытьи. Но, может, для него это и лучше, не почувствует предсмертной муки.
— Значит, не помог левантийский бальзам?.. — упавшим голосом спросила Таисия.
— Он помог от одной болезни, но Андроник умирает от другой, от той, которая в голове, — ответил врач.
Таисия беззвучно заплакала, Лазарь тронул ее за плечо, и на его суровом лице отобразилось сочувствие.
А Марина стояла в стороне и, шепча молитву, думала о том, что не успела дать клятву Андронику и, значит, не обязана выходить замуж за Варадата. В этом она увидела знак судьбы.
Глава третья
Первый раз в жизни Марина проявила полное неповиновение матери, когда на десятый день после похорон Андроника твердо заявила, что поедет к Рузанне, выполняя обещание, данное покойному. Таисия вначале воспротивилась, заявляя, что сама посетит обитель, когда немного оправится после несчастья, но Марина знала, что мать не скоро выберет время для этой поездки. Таисия была растеряна и занята делами дома, в устройстве которых больше полагалась на советы Лазаря, а не родичей покойного мужа, и не могла даже думать о том, чтобы хоть ненадолго покинуть Кафу. Да и вряд ли ей хотелось возвращения Рузанны.
Когда Марина настаивала на своей поездке в обитель, мать отговаривалась тем, что у них в доме нет слуг, способных быть охранниками в пути, а отпускать девушку лишь в сопровождении глуповатого Чугая и верного, но пожилого конюха Филиппа небезопасно. И вдруг, неожиданно для Марины и Таисии, в дело вмешался Варадат, явившийся в дом во время разговора матери и дочери. Предполагаемый жених тут же заявил, что сам поедет сопровождать Марину к Рузанне, да еще и возьмет троих крепких слуг для охраны.
Марина, в другое время отказавшаяся бы от навязчивой помощи Варадата, на этот раз не стала ее отвергать, потому что только таким способом могла вырваться из дома и отправиться наконец далеко за окрестности Кафы.
Так и получилось, что в дороге ее спутником стал Варадат. Он хотел еще взять своего болтливого приживала Давида, но тут уж девушка решительно воспротивилась. И, как оказалось, это весьма облегчило ей путешествие, поскольку без поддержки приятеля тугодумный в беседах Варадат не докучал «невесте» излишними разговорами.
Небольшой отряд, в центре которого гордо восседала на лошади Марина, выехал в предместья Кафы. Эти предместья, называвшиеся бургами, раньше лепились к стенам кафинской цитадели, но с годами вышли далеко за пределы внутренней крепости. Проезжая по тесным улочкам и переулкам, Марина оглядывалась на бесчисленные лавки мелких торговцев и мастерские гончаров, мыловаров, скорняков, пекарей, портных, парикмахеров и прочего ремесленного люда, обслуживавшего горожан. Здесь же размещались цеховые объединения каменщиков, плотников, кузнецов, судостроителей, канатчиков, конопатчиков и ткачей парусов. Бурги уже представляли собой целый город, нуждавшийся в защите, какую могла ему дать только новая крепость. И эта крепость недавно начала строиться. Внешнее кольцо оборонительных сооружений не только защищало предместья, но и придавало дополнительную надежность самой цитадели, внутри которой находился замок консула, именовавшегося «главой Кафы и всего Черного моря».
При возведении крепости кафинские градостроители учитывали расположение города, который с одной стороны огибал морской залив, а с другой поднимался к Митридатскому холму. Окрестности изобиловали руслами водотоков; обычно сухие, они во время ливней превращались в бурные ручьи, несущие в город воду, камни и грязь. И потому возведению крепостных стен и башен предшествовало обустройство рвов, которые играли не только защитную роль, но также служили водоотводящими каналами.
Материалы для строительства крепости нередко привозили сами горожане, которым Устав Кафы разрешал добывать камни «на каждом пустопорожнем месте, не причиняя вред промыслу землевладельца». Марина знала, что многие жители квартала Айоц-Берд, в том числе и Андроник, поставили для ближайшего к ним участка крепости большое количество камней, надписанных их именами.
Выехав за город через Кайгадорские ворота, располагавшиеся близ башни Святого Константина, Марина и ее спутники не сразу оказались на проезжей дороге, а еще немного попетляли по новым предместьям, которые успели возникнуть и за пределами внешнего оборонительного кольца.
— Быстро разрастается город… — пробормотала девушка. — Не успели построить крепость вокруг бургов, как уже и за ней прилепились дома.
— Да, совсем как в Константинополе, — заметил Филипп, который в молодости побывал в большом путешествии вместе со своим хозяином и очень этим гордился. — Недаром же Кафу называют таврийским Царьградом.
Марина тоже могла бы порадоваться размаху родного города, но в этот момент, скользнув взглядом к полуразрушенной стене из дикого камня, заметила весьма неприглядную картину. На площадке между камнями топталась группа оборванных людей, которых окружали надсмотрщики с плетьми и кривыми саблями. Девушка сразу поняла, что это невольничий рынок — один из тех маленьких окраинных рынков, куда охотники за людьми свозят только что пригнанных издалека пленников, грязных и измученных после тяжкой дороги. Здесь их недорого уступали опытным работорговцам, которые затем приводили живой товар в надлежащий вид и уже в розницу продавали на большом приморском рынке.
Марина отвела взгляд от угрюмых мужчин и плачущих женщин, невольно помрачнев при мысли о безысходной судьбе несчастных пленников.
— Да, — вздохнул Филипп, словно догадавшись о настроении молодой хозяйки. — Этим бедолагам не повезло. Теперь продадут их неведомо куда. Хорошо, если добрый хозяин попадется. А если злой и жадный, то загоняет их, как скотину.
Марина помолчала, бросив выразительный взгляд на Варадата, имевшего немалый доход от работорговли, а потом спросила, ни к кому не обращаясь:
— Неужто кафинским купцам нельзя обойтись без торговли людьми? Ведь столько разных товаров перевозится со всего света, правда, Филипп?
— Да, чем только в нашем городе не торгуют! — принялся перечислять Филипп. — С Востока везут пряности, драгоценные камни, шелк, сандаловое дерево, жемчуг, а в обмен с Запада — сукно, стекло, краски, мыло, сахар, вино. Из славянских земель — зерно, меха, воск. А в самой Таврике добывают соль, ловят рыбу, изготавливают оснастку для кораблей. Да мало ли еще какие у нас промыслы! А все-таки торговля рабами — самая прибыльная. Тут уж ничего не поделаешь.
Путники, удалившись от неприглядного места, скоро оказались на проезжей дороге, петлявшей между покатыми холмами. Некоторое время ехали молча, потом Марина спросила конюха:
— А по какой дороге можно доехать до монастыря Сурб-Хач? Я хочу там побывать и помолиться.
— Здесь пока одна дорога идет на запад, — ответил Филипп. — Потом она разветвляется: нижняя ведет в Отузы[18], верхняя — в Солхат[19]. Сурб-Хач — на юг от Солхата. А монастырь Стефана Сурожского, возле которого женская обитель, — в урочище Кизил-Таш, а оно ближе к Отузам, чем к Солхату. Мы ведь туда едем, к Рузанне? Значит, нам правильней будет свернуть на нижнюю дорогу.
— Нет, вначале поедем в Сурб-Хач! — заявила Марина, которой хотелось, пользуясь случаем, посмотреть как можно больше новых мест.
Филипп только пожал плечами, а Варадат даже был доволен тем, что девушка подольше побудет в пути и он сможет ее сопровождать.
Не встретив возражений со стороны своих спутников, Марина с уверенным видом поехала впереди всех, пустив лошадь резвой рысью.
Впрочем, через какое-то время она в душе даже пожалела о том, что так решительно избрала для путешествия верхнюю дорогу.
Остановившись у большого камня на развилке, путники решили немного передохнуть и попить родниковой воды из бившего между камней источника. Скоро позади раздался топот копыт и из-за купы придорожных деревьев показались двое всадников. Они были не в военном облачении, но имели при себе мечи и арбалеты, что свидетельствовало о готовности к опасным неожиданностям в пути. В одном из них Марина узнала Донато. Она не видела гордого римлянина с тех пор, как впервые встретилась с ним в аптеке Эрмирио, а затем — в церкви Святого Стефана. Спутником Донато был смуглый молодой латинянин в лихо заломленной шляпе на курчавых иссиня-черных волосах. Его лицо показалось Марине знакомым, и, словно отвечая на ее немой вопрос, Филипп воскликнул:
— Да это же Бартоло, сын знахаря Симоне!
Марина, как и многие в Кафе, знала странную и печальную историю отшельника Симоне. В аптеке Эрмирио она несколько раз встречала юного Томазо, младшего сына Симоне, а однажды видела этого паренька на улице рядом со старшим братом, имевшим славу воинственного задиры. Люди говорили, что Бартоло внешне похож на свою бабку-мавританку, а Томазо унаследовал тонкие черты лица и незлобивый нрав своей безвременно умершей матери, по которой Симоне так и не перестал тосковать.
Бартоло что-то весело выкрикнул в ответ на приветствие Филиппа, а Донато молча поклонился Марине и небрежно кивнул в сторону ее спутников.
— Куда держите путь, синьоры? — поинтересовался Бартоло, ни к кому не обращаясь, но бросив выразительный взгляд на Марину.
Этот самоуверенный молодец чем-то напоминал ей Лукино Тариго, и девушка даже удивилась, что у отшельника Симоне может быть такой сын.
Варадат, который считал себя старшим в отряде, да и вообще не любил заносчивых генуэзцев, с важностью ответил:
— Но мы же вас не спрашиваем, куда вы направляетесь.
Бартоло рассмеялся:
— А тебе, видно, есть что скрывать, Варадат? Может, ты едешь за новыми рабами?
Филипп, опасаясь, что задиристый латинянин может из-за пустяка затеять ссору, поспешил пояснить:
— Мы едем в монастырь Сурб-Хач. Молодая госпожа обещала Андронику, что закажет тамошним монахам поминальную службу, а потом навестит свою сводную сестру.
— А, так эта синьорина — падчерица Андроника Таги? — догадался Бартоло. — Ну что ж, счастливого пути. Жаль, что мы с Донато не сможем вас сопровождать, потому что сейчас сворачиваем на дорогу в Отузы.
Услышав об этом, Марина пожалела, что выбрала другую дорогу. Ей бы очень хотелось проехать хотя бы часть пути рядом с загадочным Донато, но теперь менять свои планы было бы неловко, поскольку Варадат и Филипп могли догадаться о ее интересе к кому-то из латинян.
— Любопытно, что им надо в Отузах? — пробормотала Марина на смеси греческого и армянского, чтобы приезжий римлянин Донато не понял ее вопроса.
Тогда Филипп, словно выполняя скрытое указание молодой хозяйки, обратился к латинянам по-итальянски:
— Наверное, ты решил навестить своего отца, Бартоло? Он ведь живет где-то между Отузами и Нижними Отузами[20]? А этот господин тебя сопровождает?
— Нет, скорее это я его сопровождаю, — усмехнулся Бартоло, — потому что именно он хочет познакомиться с моим стариком, а мне вовсе не к спеху лишний раз выслушивать упреки и наставления родителя. Кстати, позвольте вам представить моего нового знакомца Донато Латино. Он недавно прибыл из Италии и хочет поступить на службу к нашему консулу.
Теперь у Марины был повод прямо взглянуть на Донато и заметить в его черных глазах искры откровенного мужского интереса.
— А я уже имел честь познакомиться с синьориной в аптеке флорентийца Эрмирио. — Донато слегка улыбнулся. — Я даже запомнил ваше имя: Марина.
«Значит, приезжие латиняне расспрашивали аптекаря обо мне», — мысленно отметила девушка.
Варадат, недовольный, что на него не обращают внимания, вмешался в разговор:
— Но со мною вы, кажется, еще не знакомы, хотя многие в Кафе меня знают, я купец Варадат Хаспек. А госпожу Марину Северскую я сопровождаю к святым местам в качестве ее жениха.
Марина с негодованием взглянула на Варадата, но ничего не успела возразить, так как поспешил вставить слово Филипп:
— Это покойный господин Андроник хотел выдать Марину за Варадата, но сейчас в нашей семье траур, пока не до свадеб…
— Я не просил твоих пояснений, конюх, — недовольно поморщился Варадат. — Да и какое дело латинянам до наших православных обычаев?
Губы Донато тронула ироничная улыбка, а Бартоло со смехом воскликнул:
— Ну что ж, могу только поздравить тебя, Варадат, и эту синьорину. Давайте, женитесь к обоюдной выгоде и удовольствию. Нам-то что? У нас свои дела. Счастливого пути!
Приподняв шляпы, латиняне попрощались со случайными собеседниками и свернули на нижнюю дорогу. Напоследок Донато бросил пристальный взгляд на Марину, лицо которой приняло мученическое выражение из-за невозможности пояснить молодому чужеземцу, что «жених» Варадат вовсе не является предметом ее мечтаний. Она могла сколько угодно злиться на купца, но теперь, когда латиняне удалились прочь, это было уже бесполезно и не имело никакого значения. «Как все нелепо совпало! — пронеслось у нее в голове. — Теперь этот Донато будет думать, что я темная девица без ума и вкуса, если могу плениться таким, как Варадат. Или, может, он все-таки поймет, что мне навязывают этого жениха против моего желания?»
Невольно она повернула голову вслед умчавшимся всадникам, но натолкнулась на взгляд ехавшего прямо за ней Варадата, который тут же подал голос:
— Интересно, зачем приезжему латинянину понадобился знахарь Симоне? Может, в дороге этот, как его… Донато Латино заразился какой-то болезнью и теперь ищет зелье от нее?
Марина поняла, что такое высказывание «жениха» имело целью выставить чужеземца в неприглядном свете перед ней, ибо купец Варадат уже считал «невесту» своей собственностью и готов был ревниво ограждать ее от других мужчин.
Филипп высказал менее мрачное предположение:
— А может, этот латинянин, прослышав, что Симоне имеет дар прорицателя, хочет выведать у него свою судьбу? Например, узнать, повезет ли ему в Кафе или лучше вернуться обратно?
— Да, эти чужеземные оборванцы едут сюда в поисках легкой добычи, надеются разбогатеть, — хмыкнул Варадат, посматривая на Марину. — Может, он попросит отшельника поколдовать, приворожить к нему какую-нибудь богатую кафинскую вдовушку. А что? В латинском квартале Вонитика есть одна такая. Муж у нее был старый богатый купец, недавно умер, а она теперь ягодка хоть куда: собой хороша и с большим приданым. Говорят, к ней пират Лука Тариго пытался найти подход, но она его отвергла. Ну а этот Донато, видно, решил действовать похитрей, с помощью колдовских чар.
— Да зачем ему колдовать? — пожал плечами Филипп, питавший скрытую неприязнь к чванливому Варадату. — Такой статный красавец, как Донато, и без всякого колдовства достигнет успеха. Лука против него неказист.
— Много ты понимаешь в красоте, конюх! — перебил его Варадат. — Думаешь, если Андроник когда-то повозил тебя по свету, так ты уже стал ученым человеком? То, что нравится тебе, совсем необязательно привлечет благородную госпожу.
Раздражение Марины против «жениха» нашло выход в ее язвительном вопросе:
— А почему тебе самому, Варадат, не жениться на этой «благородной» вдовушке? Ты соединил бы свое состояние с ее приданым, и вы бы стали одними из богатейших супругов в Кафе.
— Как ты… как ты можешь говорить такое?.. — растерялся Варадат. — Да у меня и в мыслях не было присматривать другую невесту, кроме тебя!
— Ну и напрасно, я тебе этого не запрещаю! — заявила Марина и, слегка ударив лошадь по бокам, выехала вперед, оторвавшись от своих спутников.
Мысленно она провожала глазами двух латинян, скачущих по дороге в Отузы, и снова жалела, что выбрала другой путь. Судьбе угодно было лишь на короткие минуты сталкивать ее с Донато, — как будто для того, чтобы разжечь в ней любопытство, которым Марина и без того отличалась, а после встречи с чем-то загадочным и непонятным оно в ней всегда удваивалось. Сейчас таким загадочным и непонятным существом был для нее чужестранец Донато, который вел себя с нею на редкость сдержанно и непроницаемо, хотя во взгляде его жгучих черных глаз угадывалась натура живая и страстная. Марине хотелось верить, что и Донато хоть немного думает о ней.
Возможно, он и думал о славянской красавице, но внешне это никак не отражалось. Донато почти не откликался на те шутливые замечания, которые Бартоло отпускал по адресу только что встреченных путников. Лишь когда генуэзец прямо спросил его, какого он мнения о невесте Варадата, римлянин, пожав плечами, ответил:
— Она слишком хороша для своего жениха. Будет несчастьем для нее, если судьба их все-таки соединит.
— Ну почему же? — возразил Бартоло. — У нее — красота, у него — деньги. Такие сделки часто случаются, и их даже можно назвать честными.
— Дело не в красоте, которую можно продать, а в утонченности души, которая не продается.
— Что-то ты странное говоришь. По-моему, для аргузия ты слишком образован.
— Я это уже слышал от твоего друга Луки Тариго, — усмехнулся Донато. — Но, кстати, я ведь еще не стал аргузием.
— Но ведь собираешься? Или уже передумал? Ты и вправду едешь к моему родителю затем, чтобы узнать свою судьбу? Ждешь от него подсказки?
— А ты мне не веришь? Думаешь, что я еду с другой целью?
— Да кто тебя разберет. Ты же такой скрытный, лишнего слова не скажешь. Даже Бандекка из «Золотого колеса» не смогла тебя разговорить, а уж она ловко втирается в доверие к мужчинам. Зато, кажется, она осталась довольна, проведя с тобой ночь. А Бандекка — разборчивая девка, с ней далеко не каждому удается переспать даже за золотые, а тебя она и бесплатно привечает. Ты, наверное, счастливчик по женской части. Вот и эта Марина бросала на тебя весьма любопытные взгляды, — а ведь она девица из благонравного семейства, да еще и невеста богача Варадата.
— Что-то ты слишком много говоришь о Марине. — Донато не то с насмешкой, не то с раздражением покосился на своего спутника. — Может, эта девушка тебе самому понравилась?
— Нет, я о таких добродетельных девицах даже не помышляю, — отмахнулся Бартоло. — Предпочитаю получать женщин за деньги. Это надежней и легче, не надо долго добиваться взаимности. Настоящие воины берут женщин походя, в перерывах между боями и походами, им некогда тратить время на ухаживания.
— А ты твердо решил избрать ремесло воина?
— Конечно. А ты разве нет?
— Гм… Мне надо еще подумать, осмотреться. Может, здесь, в Таврике, найдется что-нибудь повыгоднее военного ремесла.
— Торговля? Ну, чтобы в Кафе начать свое дело, надо иметь хоть какие-то средства, а у тебя, как я понял, с деньгами негусто. Можно, конечно, обратиться к ростовщикам, но это рискованно. Если твоя первая сделка прогорит, так наши здешние лихоимцы за долги упекут тебя в тюрьму, а то и продадут в рабство. Нет, я в эти хитрые торгашеские дела не ввязываюсь. Лучше уж наймусь на военную службу. И тебе советую то же самое. На военном поприще в наших краях очень скоро можно будет неплохо заработать.
— Вот как? А я думал, что в Таврике — мирная жизнь, не то что в Италии, где вечные распри между городами и князьями.
— Мирная? Да ты смеешься, что ли? — воскликнул Бартоло. — Неужели еще не понял, что здесь все кипит, как в котле? Ну, если не понял, так я тебе объясню. Знаешь ведь, наверное, что Таврика еще в прошлом веке была захвачена татарами и вошла в их Золотую Орду под названием Крымский улус? Но генуэзцы здесь живут и торгуют благодаря договорам с татарами, которым нужны такие опытные союзники в торговых делах. Все держится на взаимной выгоде. Даже в гербе Кафы латинский крест соседствует с татарской тамгой.
— Да, генуэзские купцы ради выгоды подружатся и с чертом, — криво усмехнулся Донато.
— Ну, ты не чванься, у вас в Риме тоже не святые живут, — махнул рукой Бартоло. — Так вот, для успешной торговли генуэзцам нужно спокойствие в Таврике и на торговых путях, а спокойствие может обеспечить только твердая власть. В Орде такую власть сейчас имеет хан Мамай. Но он не природный потомок Чингизидов, и против него выступают многие местные беи. А в союзе с этими беями находятся греки-феодориты — вечные наши соперники за земли и торговые пути. Например, для Кафы очень важна торговля с Русью — это большое княжество на севере. Но греки стараются поссорить тамошнего князя с Мамаем и с генуэзцами. Тем более что русичи давно хотят сбросить власть татарского хана.
— А эта девушка — Марина — родом из Руси? — уточнил Донато.
— Наверное. Сам я никогда в тех краях не бывал, но знаю, что земля та богата пушным зверем, серебром, медом… еще чем-то, не знаю. Словом, генуэзским купцам выгодно было бы приручить этих северных варваров. К тому же сухопутные торговые пути проходят через Русь и Литву, а эти пути нам понадобятся, если венецианцы, не дай Бог, перекроют нам морской пролив.
— Венецианцы перекроют пролив? Но для этого им надо иметь поддержку Византии, а там, насколько я помню, нынешний император — ставленник генуэзцев.
— Ты не знаешь новостей, Донато. Уже больше месяца, как прежний император Иоанн при помощи венецианцев вернулся на престол.
— Трудно уследить, с какой частотой Генуя и Венеция чередуют свое влияние на побережье, — усмехнулся Донато. — Да, опасность для кафинской торговли велика.
— Опасность велика, и генуэзцам просто необходим договор с русским князем, но пока там ничего не выходит. Теперь ты понял, что все запутано и пахнет войной?
— Кажется, понял. Значит, с одной стороны — генуэзцы и Мамай, с другой — греки и местные беи, враждебные Мамаю. И все будет зависеть от того, на чью сторону склонится русский князь.
— Если русский князь решит воевать против Мамая, то мы, конечно, поможем хану, у которого нет своих пехотинцев-арбалетчиков. И эта война непременно принесет нам победу и немалые барыши.
— Кто знает. Исход любой войны непредсказуем.
— Все равно война — мое ремесло, и мне за нее хорошо заплатят. Конечно, отдавать свою жизнь за какого-то татарского хана я не собираюсь, сражаться до последнего вздоха не намерен, а вовремя отступлю, если чаша весов склонится не в нашу сторону. Но прежде чем ввязываться в драку, я, конечно, получу свои денежки и надежно их припрячу.
— Ну, дай-то Бог, чтобы ты их получил и они пошли тебе на пользу, — сказал Донато со скрытой иронией.
Разговаривая, всадники ехали быстрым шагом по каменистой дороге, которая петляла между холмами, перешедшими затем в горы. Склоны этих гор были частью скалистыми, частью поросшими лесом, и их вершины причудливыми зубцами врезались в ярко-голубое небо.
— Теплая нынче осень, — посмотрев вверх, заметил Бартоло. — Солнце такое, что даже голову мне напекло. Неплохо бы сейчас посидеть в прохладном месте и чего-нибудь выпить. Здесь по пути есть одна харчевня у отрогов Черной скалы, называется «Морской дракон». Там хозяин — кривой Гуччо, бывший пират. Он, конечно, мошенник, но вино у него отменное. И меня он никогда не обманет по старой дружбе. Впрочем, в окрестностях Кафы все знают Бартоло-задиру, и никто не решится стать мне поперек дороги.
Донато усмехнулся, не очень поверив хвастливым заявлениям своего спутника, но не стал возражать против посещения харчевни. Сие придорожное заведение, построенное из дикого камня и украшенное над входом незатейливым рисунком корабля с головой дракона на носу, располагалось в удобном месте, возле источника, на бойком участке дороги. Навстречу путникам выбежал мальчишка-слуга и принял у них лошадей. Возле дома под навесом стоял длинный стол, на котором толстяк в фартуке и колпаке разделывал рыбу. Кивнув повару, как старому знакомому, Бартоло вошел в харчевню с грозным названием «Морской дракон». Донато проследовал за ним в темноватое помещение, заполненное столами и скамьями. Посетителей в харчевне было немного — человек семь-восемь, но все они имели, как показалось Донато, довольно подозрительный вид. Впрочем, в «Золотом колесе» он уже встречал таких же молодчиков, похожих одновременно на солдат, пиратов и странствующих торговцев.
Прихрамывая, навстречу новым посетителям вышел пожилой, но еще довольно крепкий человек с седеющей курчавой бородой. Нетрудно было догадаться, что это и есть хозяин таверны Кривой Гуччо: повязка на глазу и серьга в ухе свидетельствовали о его пиратском прошлом. Он радушно поприветствовал Бартоло, а на Донато бросил быстрый и цепкий взгляд.
— Это мой новый знакомец Донато Латино, он недавно прибыл из Генуи, — сообщил Бартоло. — Хочет наниматься на военную службу, но пока колеблется, раздумывает. Вот, едет к моему отцу, чтобы поспрашивать о своей судьбе.
— О, так он слушает прорицателей вроде Симоне? — усмехнулся Гуччо. — Доверчивый малый.
— Я бы не назвал его доверчивым, — покачал головой Бартоло. — Я знаком с ним больше недели, но пока ничего о нем не знаю. Донато из тех, о которых говорят: «себе на уме». Он бы, наверное, не пошел на военную службу, если бы у него были деньги. Ведь так, Донато?
Римлянин неопределенно улыбнулся и пожал плечами.
— Но, надеюсь, у него все же хватит денег заплатить за обед? — прищурив единственный глаз, спросил Гуччо.
— Не беспокойся, я пока не нищий, — небрежно бросил Донато и сел на скамью у ближайшего стола. — Я бы даже имел неплохое состояние, если бы однажды меня не ограбили. Но сейчас не об этом речь. Бартоло уверял, что здесь нам дадут отличного вина и хорошо накормят. Это так?
— А ты, видно, гордый малый, — заметил Гуччо и, кивнув служанке, велел принести новым посетителям вино и еду.
Тут же Донато заметил в таверне некоторое странное оживление. Трое мужчин, сидевших за столом в углу, подошли к Бартоло и, хлопая его по плечу, принялись о чем-то бойко рассказывать на каком-то смешанном наречии, так что Донато не сразу уловил смысл. Римлянин уже понял, что, живя в Кафе, надо привыкать к многообразию населявших ее племен и бытовавших в ней языков, а потому старался, напрягая слух и память, разбираться в местных говорах. Скоро он догадался, что завсегдатаи таверны приглашают Бартоло выпить с ними и поиграть в кости. Но Бартоло заявил, что не может перейти за их стол и оставить своего нового приятеля в одиночестве.
— Так пусть и этот приятель присоединится к нашей компании, — заявил один из приглашавших, невысокий рыжеватый крепыш средних лет.
Донато успел внимательно рассмотреть троих завсегдатаев, и что-то в них ему определенно не понравилось: то ли бегающие взгляды и суетливые движения, то ли подчеркнутая приветливость, за которой угадывалась скрытая насмешка.
— Спасибо за приглашение, но мы с Бартоло спешим, нам надо пораньше добраться до места, — заявил Донато миролюбивым тоном. — В другой раз. Может, на обратном пути.
— Да, Гуччо правильно подметил: твой знакомец гордый, — сказал крепыш, обращаясь к Бартоло. — А почему такая спешка? Симоне ведь никуда не исчезнет, даже если вы ночью к нему доберетесь.
— Ну, погодите, — отмахнулся от приглашения Бартоло, наливая вина себе и Донато. — Мы только с дороги, дайте нам время выпить и поесть, а потом подумаем.
Трое приятелей вернулись за свой стол, и Донато заметил, какими быстрыми взглядами они обменялись между собой. Нетрудно было догадаться, что это опытные игроки, и сейчас, за неимением лучшей добычи, они решили выудить деньги у хвастливого вояки Бартоло. Донато хотелось этому помешать, но скоро он убедился, что увести подвыпившего Бартоло из харчевни будет нелегко. Вино ударило в голову кафинскому задире, а трое приятелей-игроков еще добавили ему из своей фляги, и он переместился за их стол, где уже были раскиданы игральные кости.
Наблюдая со стороны, Донато понимал все уловки хитрецов, которые проявлялись одинаково как в замке знатного синьора, так и в захолустной корчме: вначале простаку дают выиграть, поздравляют с удачей, потом потихоньку возвращают выигрыш назад и, наконец, двумя-тремя ловкими ходами наносят бедняге сокрушительный урон, обирая его до нитки.
Скоро Бартоло, проиграв имевшиеся у него деньги, обратился за помощью к Донато. Римлянин подошел к столу игроков и, взяв своего незадачливого спутника за плечо, внушительным голосом сказал:
— У меня нет денег, а если бы и были, я бы тебе их не занял для верного проигрыша. Пойдем отсюда.
— Нет, погоди, я должен отыграться! — упрямо заявил Бартоло и повернулся к хозяину таверны: — Гуччо, займи-ка немного денег! Я чувствую, что сегодня мне повезет в игре.
— Нет, если я тебе займу, то ты не скоро отдашь мне этот долг, — усмехнулся трактирщик. — А я денег на ветер не бросаю.
— Ну что ты их просишь, Бартоло, если приехал сюда на коне? — воскликнул один из игроков. — Вместо денег поставь коня!
Задира уже готов был согласиться на это предложение, но тут вмешался Донато:
— Ну уж нет, Бартоло, коня я тебе поставить не позволю! Конь тебе нужен самому, чтобы доехать до отца! И не надейся на удачу, в эти кости ты никогда не выиграешь.
Тут вскочил рыжеватый крепыш, который, очевидно, был главным среди игроков, и, свирепо вращая глазами, закричал:
— Ты хочешь сказать, чужак, что мы играем шулерскими костями? Убирайся отсюда, пока цел, и не мешай нам играть с нашим приятелем Бартоло!
Римлянин спокойно отнесся к словесным угрозам, но, когда крепыш замахнулся на него кулаком, Донато перехватил его руку повыше запястья и с силой вывернул, так что игрок, вскрикнув, отлетел назад и схватился другой рукой за край стола, при этом рассыпав кости на пол. Тут же два его товарища вскочили с мест и кинулись на Донато, который, чуть отступив, взялся за рукоять меча. Игроки тоже схватились за кинжалы, но, не решаясь напасть, только примерялись к противнику. Другие посетители харчевни сбились в кучу, с любопытством наблюдая за спором, который мог перейти в большую драку.
Стычку предотвратил Гуччо, бросившись между спорщиками. Старому пирату совсем не хотелось, чтобы его харчевня имела дурную славу, и он, замахав руками на игроков, приказал им:
— А ну-ка на место, разбойники, или я вас больше не пущу на порог! Ишь чего задумали: нападать на приезжего благородного синьора! Этак вы всех путников отпугнете от «Морского дракона»!
— Пусть не мешает нам играть с приятелем, — угрюмо проворчал крепыш, потирая ушибленную руку.
Игроки, на которых хозяин таверны, видимо, имел немалое влияние, вернулись на место, но посматривали в сторону Донато с явной неприязнью.
— И не вздумайте также нападать на этого синьора исподтишка, — предостерег их Гуччо. — Ведь по тебе, Чоре, и по тебе, Орсо, давно уже виселица плачет, и скажите спасибо, что я вам еще даю приют.
Бартоло, вскочив со скамьи, смотрел на участников спора настороженным взглядом и, казалось, не знал, на что решиться. Донато шагнул к нему и, глядя в растерянные, бегающие глаза своего попутчика, приглушенным голосом сказал:
— Ты же хочешь разбогатеть на войне, рискуя жизнью. А зачем? Чтобы потом эти деньги, добытые собственной кровью, так же глупо проиграть и остаться нищим бродягой?
Слова Донато и пристальный взгляд, который он устремил на собеседника, видимо, возымели действие, и Бартоло, чуть пошатываясь, отошел от стола игроков.
— Выпей воды! — Донато протянул ему кувшин. — А еще лучше — плесни водой себе на голову.
Бартоло крупными глотками, обливаясь, напился, а остатком воды смочил себе лицо. Посетители харчевни смотрели на него с удивлением, а Кривой Гуччо даже присвистнул:
— Эге, видно, этот приезжий синьор имеет магическую силу во взгляде, если сумел отрезвить нашего задиру. Не иначе как в Италии он был кондотьером и привык приказывать солдатам.
— Пойдем, Бартоло, — поторопил Донато своего спутника и, расплатившись с трактирщиком, сказал на прощание: — Наверное, ты был неплохим мореходом, Гуччо, и не допускал бунта на своем корабле.
По бородатому лицу трактирщика скользнула улыбка, и было видно, что он оценил сдержанную похвалу необычного посетителя.
Не давая Бартоло опомниться и передумать, Донато потащил его к выходу.
Но сразу же за дверью харчевни путники едва не столкнулись с молодым парнем, по виду генуэзцем, который, взглянув на Донато, удивленно и радостно воскликнул:
— Донато Латино, ты ли это? Вот так неожиданность!
Но римлянин, казалось, вовсе не был рад этой встрече, хотя и не подал вида, даже изобразил улыбку на лице и не замедлил с ответом:
— Доброго здоровья тебе, Нефри. Давно ты из Генуи?
— Да уж больше месяца живу в Солдайе. А ты здесь какими судьбами? Странно, что мы до сих пор не встретились.
— А я остановился не в Солдайе, а в Кафе.
— И что ты делаешь? Торгуешь? Ты в доле с братьями Одерико? А на чьем корабле ты сюда прибыл? Наверное, рыжего Тартальи? Ты уже уходишь из таверны? Нет, задержись, давай выпьем за нашу встречу!
Но Донато, жестом остановив словоохотливого генуэзца, покачал головой:
— Послушай, Нефри, мы с Бартоло не можем задерживаться, нам надо спешить. Не обессудь, но выпьем за встречу в другой раз.
Но генуэзец, хватая своего знакомца за рукав, продолжал спрашивать:
— А что за странная история произошла у тебя с этими хитрецами Одерико? Ты женился на их сестре Чечилии или не успел?
— Нефри, я очень тороплюсь, поговорим позже, — быстро сказал Донато и, отстранившись от собеседника, потащил Бартоло за собой к навесу, где были привязаны лошади.
— Но где я тебя увижу? — крикнул ему вслед озадаченный Нефри.
— Я найду тебя в Солдайе или ты меня в Кафе! — оглянувшись, на ходу ответил Донато.
— В Солдайе я остановился в доме купца Чино ди Беноццо! — поспешил сообщить генуэзец.
— Я найду тебя, Нефри! — откликнулся Донато, вскочив на коня. — Будь здоров!
Бартоло, хотя остатки хмеля еще не выветрились из его головы, все же заметил, как римлянин, оборвав разговор со своим генуэзским знакомцем, поспешил удалиться от харчевни.
— Что ты так отшатнулся от этого приятеля? — спросил он с удивлением. — Мог бы и выпить с ним за встречу.
— Выпить? Нет, нам с тобой нельзя было возвращаться в эту харчевню, там снова могла начаться опасная игра.
— А мне показалось, что ты боишься каких-то разговоров с этим Нефри. — Бартоло, прищурившись, погрозил пальцем. — Что там он у тебя спрашивал насчет женитьбы, а? Признавайся! Ты хотел жениться, а тебе не дали? Или, наоборот, сбежал от невесты?
— Ни то, ни другое, Нефри все напутал, — ответил Донато и, слегка пришпорив коня, вырвался вперед. — Скорее, приятель, что ты тащишься, как улитка? Мы и так задержались в таверне по твоей милости.
— Зачем слишком торопиться, лучше побережем коней.
— Побережем коней? — рассмеялся Донато. — А ты думал о своем коне, когда чуть его не проиграл?
— Ладно, не попрекай. Я и сам знаю, что слишком азартен, а хитрецы этим пользуются. А вот ты, наверное, по натуре не игрок?
— О, я был подвержен этой страсти не меньше тебя. Но не стал бы играть со столь явными жуликами, как в «Морском драконе». А еще знаю по собственному опыту, что нельзя садиться за игру в подпитии, особенно когда соперники наливают тебе из своей фляги. Я сам из-за этого пострадал, так что потом пришлось менять всю свою жизнь… Но теперь я чую шулеров издалека и никогда не попаду к ним на крючок.
— Прошу тебя, Донато, не говори моему старику, что я играл в кости, он очень этого не любит. А еще спасибо, что заплатил за мой обед, я-то остался без единой монеты. Кстати, ты ведь все равно собрался как-то благодарить моего отца за его ворожбу, так не ссудишь ли мне часть этих денег? Отец не будет возражать, мы же с ним одна семья.
— Нет уж, деньги я отдам только ему в руки, и никому другому. А то ведь может случиться, что наша с тобой дорога окажется бесконечной.
— Даю тебе слово, что меня больше никто не задержит и очень скоро мы будем на месте. До Отуз всего-то часа два пути, а дом отца там недалеко.
Однако, вопреки уверениям Бартоло, добраться до темноты путникам не удалось. Скоро золотисто-розовая полоса заката догорела за вершинами гор и на фиолетовом небе все ярче стало проступать полукружие луны и звездная россыпь. Донато невольно залюбовался знакомыми рисунками созвездий, которые и здесь, над далеким краем земли, были такими же, как над его родным Вечным городом.
После теплого дня ночной ветерок повеял прохладой, и Бартоло, поеживаясь, окончательно протрезвел.
— Пустынно тут сегодня, — заметил он и беспокойно огляделся по сторонам. — Ну, ничего, до отцовского жилища уже рукой подать.
Донато тоже ощутил безотчетную тревогу. Он слышал, что в этих местах татары-людоловы могут охотиться за пленниками даже днем, а уж ночью…
В ночной тишине слышался отдаленный шум прибоя, крики чаек. «А впрочем, чего мне бояться? — подумал римлянин с внезапным спокойствием. — Я ведь бежал сюда за свободой и в рабство никому живым не дамся. Так что хуже смерти со мной ничего не случится, а ее все равно никому не миновать». Скоро темнота перестала казаться Донато зловещей, а ночные звуки — тревожными.
— Твой отец живет здесь совсем один? — спросил он, чтобы нарушить молчание. — У него даже нет женщины, чтобы готовила еду?
— Нет, он полный отшельник. После смерти матери он не терпит возле себя никаких женщин.
— Да, я слышал его печальную историю от аптекаря Эрмирио.
— Мы с отцом разные, я бы так жить не смог. Но, впрочем, хоть мой старик и отшельник, а в его хижину иногда заглядывают люди даже очень знатные, потому что никто в Кафе не умеет так лечить раны и останавливать кровь, как он. А еще он может находить травы, которые считаются волшебными. — Бартоло помолчал, вглядываясь в темноту, и со вздохом облегчения сообщил: — Ну, вот мы и приехали.
В призрачном ночном свете обрисовались очертания маленького домика, прилепившегося среди лесистых холмов. Когда всадники подъехали к одинокому жилищу, в одном из его окон загорелся свет и скоро на пороге дома появился человек с фонарем в руке. Спешившись, Бартоло подбежал к нему с восклицанием:
— Отец, это я! Не ожидал?
— Я всегда жду своих сыновей! — в глуховатом голосе отшельника слышалась радость. Он обнял Бартоло и тут же спросил: — Томазо с тобой?
— Нет, он остался в городе помогать мессеру[21] Фантоне.
Из дорожного разговора с Бартоло Донато знал, что мессер Фантоне, дальний родственник братьев со стороны матери, был судейским чиновником в Кафе и иногда давал исполнительному Томазо мелкие поручения.
Донато, спешившись, неторопливо приблизился к отцу и сыну.
— Это мой новый приятель Донато Латино, — представил его Бартоло. — Он недавно приехал из Генуи и хочет с тобой познакомиться.
— Со мной? — удивился Симоне, присматриваясь к приезжему. — Что ж, добро пожаловать, синьор, в мое жилище, хотя, право, не знаю, чем вас могла заинтересовать моя скромная особа.
— Доброго здоровья вам, синьор, — слегка поклонился Донато. — Я наслышан о вашем пророческом даре.
— Ну, обо мне говорят много лишнего, — усмехнулся Симоне, жестом приглашая гостя войти.
Таинственный отшельник был среднего роста, худощав и слегка сутул. От матери-мавританки он унаследовал смуглую кожу и курчавые черные волосы, которые уже обильно припорошила седина. При свете фонаря Донато разглядел лицо Симоне, в котором не было бы ничего особенного, если бы не острый, пронзительный взгляд больших темных глаз. Казалось, его глаза видят человека насквозь, и это в первую минуту смутило Донато, не желавшего рассказывать правду о себе даже прорицателю.
Симоне разжег очаг, повесил над ним котелок с водой и повернулся к гостям:
— Сейчас напою вас целебным отваром и что-нибудь соберу поесть.
— Мы не голодны, обедали в харчевне Кривого Гуччо, — сказал Донато.
— А я уже успел проголодаться и съел бы лепешек с сыром, — заявил Бартоло. — У отца вкусный овечий сыр, он сам его делает. Попробуй, Донато, не пожалеешь. А еще у него всегда есть славное вино, это куда вкусней целебного отвара.
— Бартоло прав, надо поесть после дальней дороги, — заметил Симоне. — А все разговоры о цели вашего приезда мы отложим до утра. Кстати, вино в Отузах и Козио и вправду неплохое, так как здесь почвы особые и хорошо прогреваются. Я покупаю его у знакомого виноградаря в Козио — это генуэзское поселение между Кафой и Солдайей.
Донато не стал возражать, с удовольствием подкрепившись и сыром, и вином, которое показалось ему ничуть не хуже итальянских вин. А после медового отвара усталых путников стало клонить ко сну. Растянувшись на соломенном тюфяке в углу, Донато уснул мгновенно и так крепко, что даже не помнил сновидений.
Утром, когда он открыл глаза, у него было ощущение, что лег всего лишь минуту назад. Между тем в окно скромного жилища, куда путники прибыли при свете звезд, уже пробивались яркие лучи дневного светила.
Донато, не приученный своей спартанской жизнью долго спать по утрам, тут же вскочил на ноги. Бартоло похрапывал на тюфяке в другом углу, а Симоне в доме не было. Обнаружив возле двери чан с водой и ковш над ним, Донато напился и, плеснув воды себе в ладонь, освежил лицо.
Снаружи слышался стук топора. Римлянин вышел из дома, осмотрелся. Жилище отшельника было окружено неким подобием двора с частоколом. Внутри частокола находилась маленькая овчарня, навес со стойлами для лошадей и сарай, возле которого Симоне рубил дрова. Увидев гостя, хозяин кивнул ему и, отложив топор, спросил:
— Как спалось на новом месте, синьор римлянин?
— Откуда вы знаете, что я римлянин? — удивился Донато. — Бартоло успел рассказать?
— Я сам догадался. Симоне Камби не такой уж дикий отшельник, как может показаться. Господь наделил меня наблюдательностью. По твоему выговору я понял, что ты не генуэзец. А перстень у тебя на руке — со старинным римским гербом.
— Да… — Донато невольно опустил глаза и повернул кольцо на пальце левой руки. — Это фамильный перстень семьи Латино, потому я и ношу его, хотя вообще-то не люблю украшений, считаю их женским делом.
— А еще я понял, что ты приехал ко мне отнюдь не из праздного любопытства, а что-то серьезное и тайное тебя сюда привело. Есть какая-то causa causarum[22].
— Мессер Симоне, по всему видно, что вы не только умный, но и ученый человек. Не трудно ли вам, с вашими знаниями, жить одному в глуши, вести хозяйство?
— А я уже привык к такой жизни. Так могли жить первые христиане-отшельники — вдали от людской суеты, в гармонии с природой. Да и потом, я не один, у меня есть сыновья, которые меня навещают, помогают мне, особенно Томазо. — Глаза Симоне потеплели. — Но и Бартоло славный парень, только лихие люди часто сбивают его с толку.
— Наверное, здесь, на лоне природы, вы черпаете спокойствие духа?
— Да, моя душа спокойна. А вот твоя — нет. — И отшельник вперил в Донато такой пронзительный взгляд, что римлянин невольно отвел глаза. — Говори же, почему ты мечешься и чего ждешь от меня.
— Я бы сказал, что жду от вас совета, чем заняться в Кафе. Я приехал сюда, не имея ни денег, ни связей. Но именно здесь, на краю света, я хочу начать новую жизнь. Такое возможно?
— А от прежней жизни ты бежал?
— Да, бежал, сел на корабль, который плыл так далеко, что я надеялся, никто меня здесь не найдет. Но, увы, уже вчера встретил человека, который знал меня по прежней жизни и теперь может рассказать обо мне другим.
Симоне немного помолчал, потом со вздохом заметил:
— Друг мой, от прошлого никуда не убежишь, и тебе volens nolens[23] придется с ним считаться. Ты спросил моего совета, как тебе жить в Кафе. Но я не могу сказать ничего нового. Займись тем, что умеешь делать лучше всего. Ты кем был раньше?
— О, кем я только не был! Воином, купцом, мореходом…
— А в Риме у тебя осталась семья?
— Никого, я совершенно один. Только воспоминания о близких.
— Но, может быть, у тебя есть родственники или друзья где-нибудь в других краях?
— Об этом даже не стоит говорить. Я приехал в Таврику — и здесь хочу обосноваться. Но прежде… прежде мне надо набраться духовных сил. Я слышал, что в Таврике есть такие места… особенно пещеры… их называют местами силы. Я хотел бы в них побывать.
При последних словах речь Донато стала слегка сбивчивой, и отшельник это заметил:
— Твой трезвый разум в подобные чудеса не верит, но душа стремится к чему-то неизъяснимому, и потому ты волнуешься.
— Да. Если бы мои прежние приятели узнали, что я поехал на край света в надежде набраться духовной силы, они бы меня засмеяли.
Симоне внимательно посмотрел на собеседника и сказал с чуть заметной улыбкой:
— А ведь ты явно чего-то недоговариваешь. Но дело твое, допрашивать не буду.
В этот момент из дома вышел заспанный Бартоло и, зевнув, с усмешкой поинтересовался:
— Ну что, отец, ты уже успел поворожить нашему гостю?
— Ворожба — не мое ремесло, — строго сказал Симоне. — Но я постараюсь помочь Донато.
— А мне ты не поможешь? — почесывая затылок, спросил Бартоло. — У меня сейчас туго с деньгами…
— Я бы дал тебе немного денег, если бы был уверен, что ты их не пропьешь и не прогуляешь в харчевнях, — был ответ.
— Нет, клянусь! — ударил себя в грудь Бартоло. — Мне нужны деньги на новую экипировку. Потом я все верну с лихвой. Но пока у меня не очень складывается со службой, потому что начальник стражи консула со мной не в ладах. Однако скоро консул в Кафе сменится и вместе с ним поменяется вся команда, а в новой команде я уж постараюсь занять достойное место. Я ведь даже знаю, кто будет нашим новым консулом, его скоро пришлют из Генуи.
— И кто же? — спросил Донато. — Я недавно из Генуи, но ничего о новом консуле не слышал.
— А мне это известно из секретных источников, — не без гордости сообщил Бартоло. — К нам пришлют на консульство некоего Джаноне дель Боско.
— Джаноне дель Боско? — уточнил Донато с небрежным видом.
— Да. А ты его знаешь?
— Нет, я с ним не знаком. Просто слышал в Генуе, что он враждует с одним влиятельным семейством. А какой он человек, этот дель Боско, мне не известно.
— Главное — что он наберет на службу новых людей, и важно среди них оказаться, — заявил Бартоло и, обращаясь к Симоне, добавил: — Так что ты, отец, не отговаривай Донато от военного поприща, скоро мы там славно послужим.
Симоне ответил что-то неопределенное, но Бартоло почувствовал, что отец смягчился и готов еще раз помочь старшему сыну. Довольный таким поворотом дела, Бартоло тут же объявил, что сразу после завтрака собирается вернуться в Кафу, где проезжий торговец обещал за полцены продать ему новые доспехи.
— Только ты поезжай без меня, я пока остаюсь, — сказал Донато. — Мессер Симоне согласился показать мне здешние места силы. Надеюсь, обратная дорога у тебя пройдет без неожиданностей.
Однако неожиданности в это утро начались еще до отъезда из хижины. Едва отшельник и его гости покончили с завтраком, как со двора раздался топот копыт и громкие голоса. Выглянув в окно, Симоне сообщил:
— Да тут прямо небольшой отряд: Заноби Грассо и четверо его телохранителей.
— Заноби Грассо? — недовольно вскинулся Бартоло. — А что здесь надо этому головорезу?
— Молчи, сынок, — Симоне приложил палец к губам. — Мне он тоже не нравится, но ведь опасно проявлять к нему неуважение. Он стал теперь могущественным и владетельным синьором.
Бартоло хотел еще что-то спросить, но тут дверь хижины распахнулась и на пороге появился богато одетый генуэзец лет 35-40. Он был довольно тучен, но при этом в его фигуре угадывалась ловкость и сила, а мясистое, с красноватыми прожилками лицо имело волевое и надменное выражение.
— Принимай гостей, знахарь! — провозгласил вошедший вместо приветствия. — Ты нас, конечно, не ждал, но я тебе хорошо заплачу за хлопоты.
— Доброе утро, мессер Заноби, — сдержанно поклонился Симоне.
Заноби повел своими маленькими быстрыми глазами в сторону Донато и Бартоло, заметив с недовольной гримасой:
— Да у тебя, я смотрю, уже есть гости в доме. А мне хотелось бы, чтоб ты вначале занялся моим делом.
— Извольте, синьор, садитесь и рассказывайте, что вам нужно от меня. — Симоне указал на широкую скамью у стены. — Мой сын Бартоло и его приятель Донато нам не помешают.
Заноби снова окинул взглядом молодых людей и с насмешливой небрежностью поинтересовался:
— Наверное, они служат стражниками в Кафе? Или нанимаются охранять богатых купцов?
Бартоло, видимо, раздраженный пренебрежительным тоном незваного гостя, встал и предложил Донато:
— Давай выйдем, чтоб освободить место для охранников этого господина.
— Ничего, сейчас обойдусь без охраны, — сказал Заноби и добавил вслед уходящим: — Не вздумайте звать их в дом, пока я сам не распоряжусь.
Во дворе телохранители Заноби привязывали к столбам под навесом своих лошадей и, посмеиваясь, что-то обсуждали на малопонятном наречии.
Донато и Бартоло даже не стали к ним приближаться, а демонстративно отошли к большому дереву возле частокола.
— Кто таков этот Заноби Грассо? — спросил Донато, кивнув в сторону незваных гостей. — У его телохранителей какой-то варварский вид и говор.
— Заноби Грассо — самый настоящий разбойник, и подручные ему под стать, — убежденно заявил Бартоло. — Раньше Заноби корсарил, на чем и разбогател, потом то ли купил, то ли захватил земли на побережье где-то между Лустой[24] и Ламбадие, построил там замок, сумел как-то войти в доверие к консулу и теперь заважничал, словно какой-то высокородный князь, а не разбойничье отродье.
— Не слишком ли ты к нему суров? — усмехнулся Донато. — Твой друг Лука Тариго тоже ведь корсар и головорез.
— Лукино — свой человек, дружественный, а Заноби — чванливый негодяй.
— Говоришь, его имение возле Лусты? Но ведь это, кажется, далеко от Кафы.
— Да, это уже на границе с греческим княжеством. Но так Заноби даже удобней: там, вдали от города, он сам себе хозяин и творит, что хочет. А с продажными чиновниками всегда сумеет договориться.
— Если Заноби пускается в неблизкий путь, чтобы встретиться с твоим отцом, значит, у него в том большая надобность?
— Однажды этот негодяй охотился в здешних местах, и его скрутило от боли в спине. Слуги привезли его сюда, и моему отцу удалось его быстро вылечить. С тех пор Заноби иногда заезжает к старику сам или присылает своих людей.
— Да, он неприятная личность, но, наверное, хорошо платит за услуги. И вероятно, у него есть высокие покровители в Кафе. Кстати, он мог бы замолвить слово за тебя — хотя бы в благодарность за то, что твой отец его лечит.
— Ну что ты, какая благодарность! Этот надменный боров ни во что не ставит даже самых ученых и достойных людей. А на меня он смотрит как на пустое место. Но я тоже имею гордость и никогда его ни о чем не попрошу!
В этот момент из хижины вышел Заноби, сопровождаемый Симоне. Донато обратил внимание, что отшельник накинул на себя плащ, повесил за спину дорожную суму и взял в руки посох.
Приблизившись к молодым людям, Симоне объявил:
— Мне надо отправиться в горы за лекарством для мессера Заноби. Вот случай тебе, Донато, тоже побывать в горах, ты же этого хотел. Пойдешь со мной?
Донато кивнул.
— А мне что делать, отец? — спросил Бартоло, бросив неприязненный взгляд в сторону Заноби, с важным видом стоявшего чуть поодаль.
— Возвращайся в Кафу, сын, как и собирался. Иди, седлай коня, а мы с Донато пойдем в горы пешком.
— Пешком? — удивился Донато. — А мой конь останется здесь?
— Да, пешком нам будет удобнее пробираться сквозь заросли и между камнями. А за своего коня не беспокойся, я дал ему корма, и здесь его никто не тронет. — Симоне повернулся к Заноби и почтительным тоном сообщил: — Синьор, мы пробудем в горах, наверное, до вечера, потому что трудно найти нужную траву. А вы со своими людьми пока располагайтесь у меня во дворе или в доме — как вам будет угодно.
— Значит, доверяешь нам свой дом, лекарь? — усмехнулся Заноби.
— Доверяю. Да и что таким богатым, знатным синьорам может понадобиться в доме такого скромного отшельника, как я?
Симоне сказал это с простодушным видом, но Донато заметил хитровато-насмешливый блеск в его глазах.
Заноби шагнул к Симоне и вполголоса спросил, кивая на Донато:
— А этот парень достаточно надежный? Может, лучше возьмешь с собой в горы кого-то из моих людей?
— Нет, мессер Заноби, этого делать не следует, — твердо заявил отшельник. — Те волшебные травы, которые я ищу, прячутся от обычных людей и даются в руки только посвященным. Донато — из посвященных, и у него магический взгляд, а ваши люди, синьор, только отпугнут то, что мы ищем.
— Ну ладно, раз уж этот малый тоже ведает в таких делах… — Заноби настороженно посмотрел на римлянина. — Идите, но возвращайтесь поскорей, у меня дело срочное.
Донато с удивлением отметил, что человек, которого Бартоло охарактеризовал как разбойника и проходимца, и который, судя по всему, и был таким, легко поверил в слова отшельника о волшебных травах и посвященных людях с магическими взглядами.
Скоро трое путников вышли со двора: Симоне впереди, за ним Донато и Бартоло, который вел свою лошадь под уздцы и время от времени с подозрением оглядывался на отцовскую усадьбу, где сейчас расположились чужаки.
— Ты не боишься, что эти висельники у тебя что-нибудь украдут или поломают? — обратился он к отцу.
— Нет, не боюсь, — улыбнулся Симоне. — Заноби не станет мне вредить, я ему нужен.
— Ну, если ты так в этом уверен… — пожал плечами Бартоло. — Ладно, будем прощаться. Ты, отец, не скучай, скоро к тебе приедет Томазо. А ты, Донато, завершай свои магические изыскания и возвращайся в Кафу, там для тебя скоро найдется служба.
Распрощавшись, Бартоло вскочил на коня и поехал по дороге на северо-восток. Симоне посмотрел ему вслед и обратился к Донато:
— А нам с тобой — в другую сторону, на юго-запад. Там, между Отузской долиной и Козио — много причудливых скал с пещерами, из которых самая известная — Ухо Земли, как называют ее татары. Только она очень глубокая, настоящий колодец, так что проникать в нее опасно, лучше посмотреть снаружи.
Путники двинулись вперед по тропинке между холмами, постепенно уходящей вверх.
— Я не люблю глубокие пещеры и предпочел бы осматривать более мелкие и не такие знаменитые, как это Ухо Земли, — сказал Донато.
— Да? — Симоне удивленно повел бровью. — Что ж, здесь в горах немало и простых разломов, где в трещинах можно найти залежи горного хрусталя и других самоцветов. Не их ли ты ищешь? Здешние камешки недурны, но на них не разбогатеешь, это ведь не алмазы с изумрудами.
— Нет, камней я не ищу, мне надо совсем другое.
— Да кто ж разберет, что тебе надо, — пробормотал Симоне.
Путники вышли на верхнюю дорогу, откуда хорошо просматривались причудливые рисунки гор, окаймлявших бухту. В утренних лучах сочетание морской синевы, зеленых рощиц и желтых горных склонов казалось особенно ярким и торжественным.
— Здесь красивые места, — заметил Донато. — Не правда ли, чем-то похоже на Италию?
— Не знаю, я в Италии не был, моя родина — Таврида, здесь я родился и прожил всю жизнь. Здесь познал и счастье, и горе…
Симоне вздохнул и, опираясь на посох, зашагал вперед с удвоенной быстротой, словно энергичная ходьба могла облегчить ему груз печальных воспоминаний.
— Наверное, вы спешите поскорее выполнить поручение этого Заноби Грассо? — спросил Донато, стараясь ни на шаг не отставать от своего почтенного спутника. — Я понял, что вначале вы займетесь его делами, а уж потом — моими.
— Мы совместим эти два дела. — Симоне внезапно остановился и, посмотрев прямо в глаза Донато, внушительным голосом сказал: — Сейчас я должен кое-что тебе объяснить, чтобы потом просить тебя о содействии. Впрочем, если ты не согласишься мне помочь — я не обижусь.
— Думаю, что соглашусь, — слегка улыбнулся Донато. — Вряд ли такой человек, как вы, может кого-то подбить на плохое дело.
Симоне снова двинулся вперед, но уже медленным шагом и, поглядывая на своего спутника, принялся объяснять:
— Да будет тебе известно, Донато, что здесь, в Таврике, сейчас ведется то явная, то скрытая борьба за земли между генуэзцами и греческим княжеством Феодоро. Генуэзцы вытесняют феодоритов от берега, чтобы те оставались горным народом и не имели выхода к морю. А феодориты не хотят упустить свою долю в черноморской торговле, где первенствуют генуэзцы.
— Да, я об этом уже слышал от Бартоло и от других. А греки рассказывают какую-то сказку о героической принцессе Феодоре, которая стойко оборонялась от генуэзцев. Но, откровенно говоря, меня все эти местные распри не интересуют. В Италии тоже хватает подобных междоусобиц. Но какое это имеет отношение к вам, отшельнику и философу?
— Дело в том, что Заноби Грассо враждует с одним греческим князьком-феодоритом по имени Василий. Причина этого спора — полоса земли на границе их владений. Заноби хочет отобрать ее у грека, но пока ему это не удается, потому что на стороне Василия — местный татарский бей Яшлав, человек очень влиятельный. Вот Заноби и задумал устранить этого Яшлава, да еще так, чтобы подозрение пало на Василия. Если все случится по его замыслу, татары изгонят или даже убьют Василия, спорные земли перейдут к Заноби, а консул будет только рад, что генуэзцу удалось отобрать имение у феодорита.
— И Заноби приехал, чтобы поделиться с вами этим замыслом?
— Конечно, нет. Но о его замысле я сам догадался, когда Заноби попросил меня приготовить ему одно особенное зелье, от которого человек умирает не сразу, но в течение суток.
— Почему же вы думаете, что он хочет отравить татарина, а не грека?
— Во-первых, Василий очень осторожен и никогда не примет ни подарка, ни угощения от генуэзца. А во-вторых, даже в случае смерти Василия его наследники не лишатся поддержки Яшлава. Другое дело, если после визита к Василию бей вдруг скоропостижно скончается. Тогда, понятно, все подозрения падут на грека. Яшлав собирается посетить замок Василия в ближайшие дни, и Заноби стало об этом известно, вот он и спешит добыть отраву и каким-то образом подсыпать ее татарину, когда тот будет на пути к греку. Я даже знаю, где он это может сделать — у источника святой воды, возле которого татары обязательно остановятся. Яшлав — ревностный мусульманин, и кто-то из людей Заноби может приблизиться к бею под видом нищего дервиша и подсыпать зелье в его сосуд. А плохо татарину станет уже в доме грека, после застолья.
— Но как вы, отшельник, разобрались во всех этих хитросплетениях?
— Э, друг, поживи здесь с мое — и ты научишься многое понимать, — вздохнул Симоне. — Но для изготовления зелья нужна особая трава. Вот я и отправился на ее поиски. Во всяком случае, так думает Заноби, который приказал мне поспешить.
Донато приостановился и с удивлением взглянул на собеседника:
— Заноби так думает, а на самом деле? Вы разве не собираетесь искать эту траву?
Странное выражение промелькнуло на лице отшельника, и, пошевелив своими черными, чуть нависающими бровями, он сказал:
— А у меня есть эта трава, только Заноби о ней не должен знать. Пусть ищет яд в другом месте, а я не хочу марать руки в его грязных делах.
— Но вы же согласились ему помочь?
— А что мне оставалось делать? Против грубой силы приходится действовать хитростью. У Заноби времени — не более двух дней, и эти два дня я намерен отсутствовать. Вот здесь-то мне и нужна твоя помощь, Донато.
— А что я должен сделать?
— Под вечер вернешься в мою хижину и сообщишь Заноби, будто я потерялся в горах. Ты меня долго искал, звал, потом заблудился и едва нашел дорогу обратно.
— Вы думаете, разбойники мне поверят?
— Почему же нет? Заноби, при всей его свирепости, очень суеверен, и его можно убедить, что меня взяли в плен какие-нибудь колдуны или горные духи. Притом же я сказал ему, что видел вещий сон, предупреждающий о вечерней опасности. Разбойник решил, что я набиваю цену, и обещал доплатить за риск. Но, когда я исчезну, он вспомнит о моих предостережениях.
— Но ведь после, когда вы вернетесь и расскажете Заноби какую-нибудь небылицу, он все равно потребует у вас это зелье. Не сейчас, так после отравит бея.
— Там будет видно. Я найду способ не участвовать в его злодействах.
— А может, лучше предупредить татарина и грека? Хотя, конечно, какое нам с вами дело до них? Благодарности не будет, а риск большой.
— Пусть все идет своим чередом. Бог разберется, кто прав, кто виноват. А у меня хватит разума не делать того, к чему не лежит душа. Так ты согласен мне помочь?
— Конечно.
— А я в благодарность покажу тебе все окрестные места силы, какие знаю. — И добавил вполголоса: — Если они тебе в самом деле нужны.
Донато кивнул и быстро отвел взгляд от проницательных глаз собеседника.
Глава четвертая
Солнце выплыло из-за облака и заиграло яркими красками на желто-зеленой осенней траве, покрывавшей невысокие плоскогорья вокруг дороги. И, словно повинуясь солнечному свету, Марина вдруг оживилась и с затаенной радостью подумала про себя: «Если судьбе будет угодно, она не раз еще сведет между собой людей, которые однажды разминулись». Это светлое предчувствие заставило девушку по-новому взглянуть на окружающий мир. Теперь Марину интересовала и радовала сама дорога с ее неброскими, но живыми приметами, будь то маленькая рощица, виноградники на склоне холма, стадо овец на пастбище или крестьянин с навьюченным осликом, бредущий по тропинке к горному селению.
На подъезде к Солхату луговая растительность сменилась лесистыми участками предгорий, со всех сторон окружавших долину, где расположилась столица Крымского улуса Золотой Орды.
Можно было, минуя Солхат, поехать по юго-западной дороге прямо к монастырю Сурб-Хач, в котором Андроник просил отслужить молебен за упокой его души. Но Марина, при ее природной любознательности, не могла упустить случая посмотреть знаменитый в Таврике город, раскинувшийся на пересечении караванных путей из Поволжья, Русских земель, Кавказа, Индии и Китая. Кафа и Солхат были тесно связаны между собой торговыми делами. Морской порт Кафы позволял товарам, прибывшим с караванами, продолжать свое движение водным путем, а Солхат был для генуэзских купцов словно продолжение кафинской пристани.
Солхат, или Эски-Кырым, как называли его татары, был городом мусульманским, хотя за его стенами проживали также греки, армяне, русичи, потомки печенегов и половцев. Восточный мусульманский облик его был заметен уже в предместьях, где раскинулся караван-сарай. По сторонам огромного пятиугольного пространства тянулись открытые деревянные галереи, под крышами которых кипела торговля. За галереями находились помещения для постояльцев, а посреди двора, рядом с колодцем, возвышался арочный свод, где торговали самыми дорогими заморскими товарами, шелками, посудой. Всюду сновали люди, большинство из которых было в восточных халатах, с чалмами или повязками на голове.
На этом бойком торжище появление юной девушки, которая, в отличие от мусульманок, не прятала лицо под платком, было довольно заметным, и Марина скоро почувствовала на себе любопытные взгляды. Впрочем, долго задерживаться здесь ей было незачем, поскольку мать все равно не дала денег на покупки, а только лишь на дорогу и ночлег. Бегло взглянув на изобилие товаров и пестроту одежд, Марина со своими спутниками поспешила удалиться от караван-сарая.
Оказавшись на улицах Солхата, она не могла не посетить церковь Иоанна Крестителя, бывшую, по словам отца Панкратия, самым древним христианским храмом в здешних местах.
Но путь к православной церкви проходил мимо двух мусульманских мечетей. Одну, более старую, называли мечетью Бейбарса, ибо она была построена сто лет назад по указанию знаменитого египетского султана из мамлюкской династии. Султан Бейбарс, побеждавший монголов и крестоносцев, был родом половец или кипчак, в детстве купленный для мамлюкского войска на одном из невольничьих рынков Таврики. Марина слышала легенду, будто этот султан на склоне лет покинул страну, где правил, и ушел умирать в родные степи, а в Египте вместо него был похоронен его двойник. Никто не знал, можно ли верить этой легенде, но одно в ней, бесспорно, было правдой: степняки никогда не забывают полынный запах своей родины. Марина думала об этом, остановившись перед мечетью Бейбарса и представляя, какое впечатление новый храм производил на татар и половцев сто лет назад, когда мусульманская вера среди них еще не набрала силу и великолепная мечеть казалась редким чудом в сравнении с языческими капищами.
Проследовав дальше, путники увидели другой мусульманский храм, построенный ханом Золотой Орды Узбеком. На фоне бледно-голубого осеннего неба тянулся вверх высокий тонкий минарет, напоминающий копье арабского всадника. Резной портал был украшен причудливым орнаментом, стены, выложенные из обработанного камня, казались белыми в лучах полуденного солнца. За узорчатой чугунной оградой виднелся двор с фонтаном, вымощенный каменными плитами и усаженный цветами.
Варадат, желавший показать Марине свою осведомленность, с важным видом изрек:
— Эта мечеть внутри еще нарядней, чем снаружи. Я однажды в нее заглянул. Там восьмигранные колонны, разноцветная роспись, богатые ковры на полу.
— А христианские храмы мне нравятся больше, даже если выполнены строго и скромно, — заметил Филипп, с неприязнью и насмешкой покосившись на купца.
— А мне еще нравится, что в христианских храмах женщины могут молиться наравне с мужчинами, — сказала Марина, понимающе переглянувшись с Филиппом.
Церковь Иоанна Крестителя и впрямь выглядела скромно в сравнении с нарядной мечетью Узбека, но было в ней что-то величавое и торжественное — как сам дух христианской старины, в традициях которой она была построена. Отец Панкратий говорил, что этот православный храм похож на те небольшие однонефные базилики, что были издавна распространены в провинциях Византийской империи.
Помолившись и поставив свечи перед иконами в церкви Иоанна Крестителя, путники отправились дальше, на юго-запад, по дороге, ведущей к монастырю Сурб-Хач.
Под впечатлением увиденного Марина едва ли не впервые в жизни задумалась о многообразии церквей и обрядов. Дитя веротерпимой Кафы, она не имела предубеждения против людей, исповедующих иную религию, но сейчас ей вдруг пришло в голову, что разная вера может стать непреодолимым препятствием, причиной вражды и кровопролития. Ей приходилось слышать о крестовых походах, религиозных войнах и казнях еретиков, но она не очень интересовалась этими событиями, не имевшими отношения к ее жизни. И вот теперь почему-то Марине стало любопытно, как отнесутся кафинские священники, например, к браку православной и католика. Впрочем, такие браки были не редкостью в Кафе, где могли соединиться не только христиане разных обрядов, но даже христиане и мусульмане или иудеи. Марина улыбнулась своим мыслям, поскольку отлично понимала, чем они вызваны: просто она вдруг представила, что скажут окружающие, если когда-нибудь речь зайдет о ее браке с католиком Донато Латино. Строгий отец Панкратий, конечно, будет осуждать. Но можно обратиться к другому православному священнику, отцу Меркурию, который был родом русич и нрав имел добродушный, даже веселый. Уж он-то наверняка не будет против того, чтобы обвенчать молодую пару.
Подумав об этом, Марина тут же мысленно одернула себя: ведь глупо даже в шутку предполагать такую невозможную вещь, как венчание с чужим и, по сути, незнакомым человеком! Сейчас ей очень хотелось бы увидеть рядом свою подругу Зою, с которой можно было поболтать на эту тему и весело посмеяться над своими фантазиями: «Ну что я за легкомысленное создание: сначала обращаю свой взор на чужого жениха Константина, а теперь — на молчаливого латинянина Донато, о котором ровно ничего не знаю. И это вместо того, чтобы благосклонно принимать поклонение богача Варадата».
Скоро дорога стала подниматься по горному склону, поросшему дубовым и буковым лесом. Некоторое время путники, ехавшие по узкой тропе гуськом, видели только густые кроны деревьев, заслонявшие от них окружающее пространство. Но вот внезапно чаща поредела и на открывшейся площадке, словно чудесное видение, возникла величественная цитадель духа, о которой Марина так много слышала от Андроника и его родичей.
— Сурб-Хач — «Святой Крест»… — прошептал Филипп, перекрестившись.
Марина знала, что название монастыря связано со священным хачкаром[25], доставленным сюда из древней армянской столицы Ани. Монастырь Сурб-Хач был построен не так давно, лет двадцать назад, и Андроник считал себя причастным к его основанию, поскольку вносил щедрые пожертвования на строительство и подарил монахам старинное Евангелие, вывезенное им из Киликийской Армении. От Андроника Марина слышала историю о том, как было выбрано место для закладки монастыря: будто бы священникам открылось в небе видение — крест, указующий на землю. В том месте, куда он указывал, нашли целебный родник, а рядом, в лесу — развалины древнего греческого храма. Чтобы освятить избранное место, армяне оставили на нем монаха-отшельника, дабы он молитвами положил начало новому духовному служению. Одинокая келья этого монаха стала первым строением монастыря.
Строгое в своей красоте здание Сурб-Хача было окружено обширным мощеным двором, от которого вниз спускались террасы, усаженные садами и огородами.
Спешившись, Марина в сопровождении Варадата и Филиппа поднялась по ступенькам, ведущим к воротам храма. Привратник сурово допросил путников, кто они и откуда, и Марина ответила за всех:
— Мы пришли помолиться в церкви Сурб-Ншан и заказать молитву святым отцам за упокой души Андроника Таги.
Привратник с неудовольствием глянул на девушку, столь смело и бойко отвечающую в присутствии мужчин, но имя Андроника Таги вызывало здесь уважение, и монах провел путников к притвору храма.
С интересом осматриваясь вокруг, Марина отметила, что Сурб-Хач своими крепкими стенами и узкими окнами напоминает крепость. Даже колокольня служила одновременно сторожевой башней. Монастырь, расположенный в лесистых горах, на неспокойной земле Таврики, должен был уметь обороняться.
Церковь Сурб-Ншан — Святого Знамения — была сердцем монастыря. Подойдя к резному порталу гавита — притвора, Марина едва не споткнулась, встретив строгий взгляд высокого чернобородого священника. Как оказалось, это был сам настоятель монастыря отец Левон. Появление незваных гостей, среди которых к тому же была женщина, он воспринял с недовольством, но имя Андроника Таги снова вызвало благосклонность, и настоятель разрешил Марине войти в церковь и присутствовать на службе за упокой души ее отчима.
Низко надвинув на лоб платок, девушка миновала темный коридор и поднялась по ступеням в храм. Впереди она увидела алтарь на высоком помосте, освещенный лучом света из узкого окна. Алтарь обрамляли цветные росписи — неброские, но торжественные в своей благородной простоте.
Пока длилась служба, девушка стояла, замерев в священном трепете, и была бы похожа на изваяние, если бы время от времени не совершала крестное знамение.
Но после службы, покидая церковь, она почувствовала себя свободней и стала с присущим ей любопытством осматриваться вокруг, отмечая, как мудро устроен этот строгий храм, в котором прихожане, идя через пять проемов, вначале поднимаются к освещенному ярким лучом алтарю, словно к горним высотам духа, а затем спускаются по ступеням вниз, к суетной мирской жизни.
Она невольно задержалась перед одним окном, из которого открывался широкий вид на долину под горой Агармыш. Внизу по дороге двигалось несколько повозок, направляясь к торжищу, прилепившемуся у склона горы.
Задумавшись о чередовании вечного и бренного в жизни человека, девушка вдруг услышала где-то совсем рядом голос, показавшийся ей знакомым. Она была почти уверена, что этот тихий голос, говоривший что-то на смеси армянского и греческого, принадлежит отцу Панкратию, и оглянулась вокруг, надеясь увидеть знакомого священника. Но рядом не было никого, кроме сопровождавших ее Филиппа и Варадата. Голос явно звучал из-за двери, ведущей в кельи. Сделав вид, что хочет поправить одежду, она жестом велела Филиппу и Варадату проследовать вперед, а сама, приблизившись к этой двери, прислушалась и разобрала слова второго собеседника:
— Да, я помню, что князь Гаврас армянского происхождения. Но это не причина, чтобы мне и моим братьям участвовать в распрях генуэзцев с феодоритами. Пока я здесь настоятель, Сурб-Хач останется крепостью духа и не будет влезать в мирские междоусобицы.
Дальше голоса зазвучали тише, а потом и вовсе смолкли: видимо, собеседники удалились от двери, перейдя во внутренние покои. И все-таки Марина не могла отделаться от мысли, что гостем настоятеля был кафинский священник отец Панкратий. Впрочем, она могла и ошибиться, ведь голос, показавшийся ей знакомым, звучал тихо и неразборчиво.
День уже клонился к вечеру, и, когда усталые путники наконец преодолели расстояние от монастыря Сурб-Хач до обители Стефана Сурожского, солнце уже опустилось за горизонт. В последних, ярко-алых лучах заката они увидели маленькую церковь и ряд низеньких строений на краю живописной долины, окруженной лесистыми горами и обрывами скального хребта. Одинокая обитель выглядела скромно, даже бедно, но место, в котором она располагалась, было священным для христиан православного обряда, ибо здесь еще в восьмом веке жил архиепископ Стефан Сурожский, претерпевший мучения за верность иконопочитанию. Возле грота, в котором молился святой Стефан, сохранились остатки древнего храма, где рядом с алтарем вытекал священный источник.
Чуть поодаль мужского монастыря, в роще, виднелась часовенка и хижины маленькой женской общины, в которой уже девятый год жила Рузанна.
Чем ближе была встреча со сводной сестрой, тем больше волновалась Марина, тем острее чувствовала свою невольную детскую вину перед изгнанницей. Минутами ей хотелось все рассказать Рузанне, даже покаяться перед ней, но Марина тут же отбрасывала эту мысль, понимая, что никогда не решится на такое признание, не сможет заговорить о прошлом.
Женская киновия[26] состояла из небольшого числа монахинь, и все работы, связанные с ведением хозяйства общины, сестры выполняли сами, трудясь от зари до зари.
Еще издали Марина увидела, что две монахини собирают овощи в огороде, одна возле хлева доит козу, еще одна загоняет в птичник гусей. Из хижины доносился запах свежеиспеченного хлеба, за сараем слышался стук топора.
Не успели путники приблизиться, как раздался громкий лай двух больших дворовых собак, выполнявших здесь роль сторожей.
Тут же из часовни вышла настоятельница — высокая пожилая женщина с властным лицом. Путники, спешившись, с почтением ей поклонились, а она, окинув их внимательным взглядом, строго спросила:
— Вы, должно быть, хотите попроситься на ночлег? Мужчины пусть идут в мужскую обитель, а девушку мы сможем принять, если, конечно, скажете, кто вы и откуда.
— Матушка, я приехала навестить свою сводную сестру Рузанну, — пояснила Марина, волнуясь. — Мой отчим Андроник Таги попросил, чтобы я передала ей…
В этот момент одна из сестер, работавших на огороде, подняла голову и, приглядевшись к путникам, сделала несколько шагов в их сторону. Она еще не успела приблизиться, как Марина и Филипп, одновременно догадавшись, прошептали:
— Рузанна…
За девять лет дочь Андроника изменилась, резче и суровее стали черты ее лица, обрамленного темным платком, и все же невозможно было не узнать ее иконописный облик, тонкий стан, большие глаза под черными, слегка сросшимися бровями.
Переводя взгляд с Марины на ее спутников, Рузанна с некоторым удивлением проговорила:
— Неужели это малышка Марина? А тебя, Филипп, я сразу узнала. И здоровяка Чугая помню.
В прошлом порывистая, сейчас Рузанна вела себя весьма сдержанно: не обняла гостей из родного дома и даже почти не улыбнулась им. Возможно, она не хотела проявлять своих чувств в присутствии игуменьи, а возможно, жизнь в одинокой обители приучила ее к строгому спокойствию.
Филипп поклонился дочери своего хозяина, не решаясь подойти к ней, а на туповатом лице Чугая появилось некое подобие улыбки. Варадат, с которым Рузанна не была знакома, не стал дожидаться, когда его представят, а сам выступил вперед и объявил:
— А мое имя Варадат Хаспек. Андроник принимал меня в своем доме как жениха Марины.
— Принимал? А теперь не принимает? — рассеянно спросила Рузанна, без всякого интереса взглянув на «жениха».
И тут Марина, повинуясь безотчетному порыву, кинулась к сводной сестре и, на секунду прижавшись к ней, прошептала:
— Мы так давно не виделись… но я тебя никогда не забывала.
— Спасибо, милая, — откликнулась Рузанна и, взяв Марину за плечи, вгляделась в ее лицо. — Какая ты стала взрослая и красивая. И как это мой отец и твоя мать позволили тебе сюда приехать? Или, может, теперь, когда ты собралась замуж, тебе дали больше свободы?
— Нет, замуж я пока не собралась, — решительно заявила Марина и, вздохнув, тихо добавила: — Андроник сам попросил меня к тебе приехать. Такова была его последняя воля.
Рузанна побледнела и прижала руку к груди.
— Он… отец умер? Давно?
— Двенадцать дней тому. Я бы приехала раньше, но мама не пускала меня, боялась опасной дороги…
— А перед смертью отец велел что-то мне передать? — спросила Рузанна сдавленным голосом.
— Да. Он говорил, что раскаивается в своей суровости, жалеет тебя и просит вернуться в родной дом, — волнуясь, ответила Марина. — Его последние слова были о тебе.
Рузанна молча отвернулась и отошла в сторону. Плечи ее задрожали. Настоятельница, прошептав молитву, три раза перекрестилась.
А уже через несколько мгновений Рузанна опять повернулась к собеседникам, и лицо ее казалось спокойным, хотя глаза слегка покраснели от пролитых слез. Такое самообладание было не свойственно ей раньше.
— Спасибо, что выполнила его волю, — кивнула она Марине. — Жаль, что Таисия не смогла или не захотела позвать меня на похороны моего отца. Но ты-то тут ни при чем. Я рада видеть тебя и других домашних. Мужчины пусть идут ночевать в мужской монастырь, там их примет отец Николай. А ты переночуешь в моей келье. Я правильно говорю, матушка Ермиона? — обратилась она к настоятельнице.
— Правильно, сестра Руфина, — был ответ. — Соболезную твоему горю и буду молиться за упокой души твоего родителя.
С этими словами игуменья направилась к часовне, сделав знак другим монахиням, стоявшим чуть поодаль, следовать за ней.
— Значит, ты теперь сестра Руфина? — Марина быстро взглянула в большие строгие глаза дочери Андроника и тут же отвела взгляд.
— Да, я приняла новое имя, когда окончательно решила начать новую, чистую жизнь.
— Но ведь другое имя не помешает тебе вернуться домой? — с надеждой спросила Марина.
— Нет, домой я не вернусь никогда. — Рузанна медленно покачала головой.
— Но почему?
— Знаешь, дитя мое, этого так быстро не объяснишь, — вздохнула сводная сестра. — Уже поздно, пойдем поужинаем, а после трапезы ты заночуешь в моей келье, там и поговорим.
Рузанна сдержанно кивнула Филиппу и другим гостям мужского пола, взяла Марину за руку и повела к хижине, из которой доносился запах свежего хлеба.
— У нас строгая трапеза: хлеб, соль, вареные овощи и немного оливкового масла. Тебе будет непривычно после домашней еды.
— Ничего, я так проголодалась в дороге, что мне сейчас любая еда покажется лакомством, — улыбнулась Марина. — А ваш монастырский хлеб так аппетитно пахнет.
— Да, у нас сестра Конкордия — хороший пекарь, даже из скудных запасов изготовит вкусную выпечку.
В узком домике, служившем трапезной, за общим столом сидели десять монахинь во главе с настоятельницей. После долгой молитвы приступили к ужину. Под придирчиво-любопытными взглядами обитательниц киновии Марина чувствовала себя скованно и старалась есть так же неторопливо, как они, сдерживая свой аппетит и опуская глаза долу.
Лишь оказавшись вдвоем с Рузанной в ее келье, девушка вздохнула с облегчением и, уже не испытывая необходимости контролировать каждый свой шаг и каждое слово, спросила:
— Наверное, трудно здесь жить под постоянным присмотром общины? Тебя не гнетет такая несвобода, надзор? Мне кажется, я бы так не смогла.
— Ты еще слишком молода, Марина, чтобы судить об этом, — строго заметила Рузанна. — Иногда внешняя несвобода нужна, чтобы укреплять дух. Человек слаб и не всегда умеет избежать искушений по собственной воле. Но когда правила, внушенные суровым окружением, становятся привычкой, их выполнять легко.
В словах Рузанны Марина почувствовала скрытый смысл. Задумчивый взгляд молодой монахини был устремлен куда-то вдаль, в то самое прошлое, где остался ее тайный грех, о котором, как она думала, Марине ничего не известно.
— Хорошо, хоть в келье ты можешь побыть наедине с собой, — заметила Марина, осматривая тесную темную комнату с крошечным окном вверху.
— Но не всегда так было, — слегка улыбнулась Рузанна. — Это теперь мне отвели келью за мое терпеливое послушание и хорошее знание священных книг. Кроме меня только матушка Ермиона и сестра Феодора живут в отдельных кельях, остальные — в общей. Но что хорошего оставаться наедине со своими мыслями и воспоминаниями? Меня они только терзают, и я стараюсь загрузить себя трудами и молитвами.
— Но теперь, когда Андроник сам раскаялся, что поступил с тобой сурово, и позвал тебя домой, теперь-то тебе зачем продолжать такую трудную жизнь среди чужих людей? Не лучше ли вернуться в Кафу, в родной дом? Все домашние будут тебе рады!
— И Таисия тоже? — усмехнулась Рузанна и тут же помрачнела. — Впрочем, дело не в ней. Даже если бы твоя мать меня обожала, я бы не вернулась в родной дом. Андроник отправил меня в монастырь за мои грехи и, поверь, сделал это справедливо. Только праведной жизнью и трудами я заслужу у Бога прощение.
— Если и был у тебя какой-то грех, то ты его уже давно отмолила, и пора вернуться домой, — не унималась Марина. — В Кафе тоже много богомольных женщин, которые все дни проводят в церквах, ты можешь быть среди них. Но зачем же обязательно жить в таком отдалении, в пустынном месте? Ведь это же, наверное, опасно.
— Опасности нет, поскольку монастыри в окрестностях Сугдеи пользуются защитой генуэзских консулов, а у татар с ними договор. Дорога от Сурб-Хача до монастыря Стефана Сурожского — самая безопасная в здешних краях. Кстати, это хорошо, что вы добирались сюда именно по ней, а не по южной, через Отузы. Обратно поезжайте тем же путем.
Марина промолчала, решив про себя, что, если будет возвращаться домой без Рузанны, то как раз выберет южную дорогу, идущую вблизи тех мест, где располагалась хижина Симоне. А вслух она высказала другую мысль:
— Но если ты не хочешь жить в Кафе постоянно, то хотя бы поезжай на время… навестить родные места, где провела детство, где могилы твоих родителей.
— Может быть, и поеду, но позже, не сейчас, — качнула головой Рузанна. — Сейчас я нужна здесь, и матушка Ермиона не простит, если я брошу на полдороге начатое дело.
— Какое дело? — удивилась Марина. — Работу в огороде, в хлеву и бесконечные молитвы? Разве без тебя здесь не обойдутся пару месяцев?
— Нет, дитя, у меня есть миссия поважней повседневных трудов. Я не могу тебе всего объяснить, но, поверь, это то, чем я живу, чем спасаюсь от тяжких мыслей и воспоминаний.
— Наверное, это настоятельница приобщила тебя к какой-то миссии? — догадалась Марина. — Она… матушка Ермиона показалась мне суровой и властной. Кстати, она гречанка?
— Да, она гречанка, я армянка, сестра Конкордия — грузинка, ты славянка, но все мы — православные, вот что главное, — заявила Рузанна твердым голосом, и ее глаза сверкнули, отразив огонек свечи. — Наша вера пошла из Византии, из Константинополя — восточного Рима. А здесь, в Таврике, есть продолжение Византии — княжество Феодоро. И его первым правителем был Феодор Гаврас — князь армянского происхождения. Мой отец говорил, что его предки в каком-то колене были в родстве с Гаврасами. А матушка Ермиона родом из Феодоро, и мне близки многие ее мысли.
— Какие мысли, о чем?
— О божественном озарении, о безмолвной молитве. Но, впрочем, ты пока еще этого не поймешь… — Рузанна немного помолчала, а потом заговорила более мягким и будничным голосом: — Лучше расскажи о себе, о своей жизни. Этот Варадат Хаспек и вправду твой жених? Кто он, чем занимается?
— Я вовсе не считаю его своим женихом! — решительно заявила Марина. — Это Андроник и моя мать собирались выдать меня за него, но мне он не нравится. Варадат самодовольный и недалекий человек. К тому же он богатеет на работорговле. А это ведь неправедное занятие?
— Да, неправедное. Мне он тоже показался неподходящей парой для тебя. Но, однако, ты взяла его себе в спутники?
— Да, потому что без него мама не отпускала меня в дорогу. Но что о нем говорить, это неинтересно. А других женихов у меня нет, потому что я пока ни в кого не влюбилась. А ведь замужество без любви не сделает женщину счастливой, верно?
— Об этом я бы не хотела рассуждать, — сухо заметила Рузанна. — Лучше ложись спать, у тебя уже слипаются глаза. Но помолись на ночь хотя бы в душе.
Марине, уставшей после дороги, казалось, что, едва коснувшись подушки, она тотчас погрузится в сон. Но так не случилось. После того как Рузанна погасила свечу и легла сама, Марина вдруг ощутила, что сон куда-то улетучился, и никакая усталость его не приблизит.
Девушка думала о прошлом и настоящем, пытаясь понять сложную взаимосвязь причин и следствий. Никто не может знать своей судьбы, никто не в силах предугадать, чем обернется случайный поступок или даже случайно брошенное слово. Рузанна, юная, пылкая, порывистая Рузанна, с ее звонким смехом и вечерними сказками у постели маленькой Марины, куда-то исчезла, а вместо нее появилась суровая, замкнутая монахиня, живущая неведомой духовной миссией и отринувшая все мирское настолько, что даже не хочет навестить родной дом. Но кто знает, какой была бы судьба Рузанны, если бы маленькой Марине не вздумалось заглянуть в дверь ее спальни. Хватило бы у дочери Андроника духовных сил, чтобы самой, без внешней острастки, отказаться от греховной любви? И какова была бы ее жизнь, останься она в родном доме? А может, Григор уговорил бы ее бежать и они бы где-то скитались, и Рузанна могла погибнуть вместе с ним. Да, такой исход был вполне вероятен. Но тогда выходит, что Марина, оказавшись случайной разоблачительницей, помогла сохранить Рузанне жизнь. И пусть теперь эта жизнь трудна, сурова и одинока, но все равно жизнь лучше преждевременной смерти, уносящей душу грешника в ад.
Марина так и не смогла прийти к выводу, пользой или вредом обернулось ее детское любопытство для Рузанны. Ворочаясь на жестком монастырском ложе, девушка то закрывала глаза, пытаясь уснуть, то открывала их и смотрела на звезды, светившие в маленькое окошко под потолком. Дыхание Рузанны было сонным, ровным, и Марине подумалось: «Она спит как человек со спокойной душой, а я…» Девушка тяжело, прерывисто вздохнула, и в следующий миг услышала встревоженный голос Рузанны:
— Что такое? Тебе нехорошо?
— Ах, Рузанна… ты не спишь? — невольно смутилась Марина.
— Просто у меня очень чуткий сон. А ты почему не спишь? Может, у тебя что-нибудь болит?
— Душа болит, а больше ничего, — прошептала Марина. — Мысли и сомнения не дают покоя…
— Если хочешь — расскажи, облегчи душу. Хотя… какие в твои годы могут быть мысли и сомнения? Только любовные. А в этом деле я тебе не советчик.
Голос монахини звучал глухо, сурово. А Марина вдруг ощутила, что если сейчас, сию минуту, не расскажет Рузанне всей правды, то потом и вовсе никогда не сможет и будет всю жизнь терзаться сомнениями. Темнота скрывала лица собеседниц, и сейчас Марине легче было говорить, чем днем, встречаясь взглядом с Рузанной. Девушка собралась с силами и выпалила на одном дыхании:
— Я хочу, чтобы ты знала: это все из-за меня, я тогда случайно подсмотрела за тобой и Григором, а потом ко мне в спальню пришла мать и я ей рассказала, а она побежала за Андроником. Я была маленькой и ничего не понимала, но я никогда не желала тебе плохого, я тебя любила, но прости, что так получилось…
На несколько мгновений в келье повисло тяжелое молчание. Марина прислонилась к стене за топчаном и, боясь пошевелиться, ждала, что скажет сводная сестра. В тусклом ночном свете девушка скорее угадала, чем увидела, что Рузанна приподняла голову с подушки и села на своем узком ложе, обхватив колени руками.
— Тебе не за что просить прощения. — В полночной тишине голос Рузанны звучал отчетливо и спокойно. — Не ты совершила преступление, а я. Ты же просто была невинным орудием в руках провидения. Кто-то должен был вовремя меня остановить и привести к покаянию. До сих пор я не знала, что тебе все известно, но теперь… теперь мне совестно перед тобой. Забудь ту, грешную, Рузанну. Я теперь другая.
— Но я не могу забыть, какой ты была доброй и веселой! И Григор тоже. Наверное, вы с ним не так уж виноваты, это рок. Теперь Григора нет, а ты…
— Молчи! — прервала ее Рузанна глухим голосом. — Не вспоминай то, что было в прошлой жизни. Сейчас я живу другими, высшими интересами. И, поверь, я чувствую себя счастливой, угодной Богу и нужной людям.
— Спасибо, что не сердишься на меня, Рузанна. А я так часто испытывала угрызения совести, когда думала о тебе. Ведь, если бы я тогда не рассказала матери, ты бы, наверное, одумалась, рассталась с Григором, и никто бы не узнал о твоей… ошибке, ты бы продолжала жить в родном доме. Но я была слишком маленькой, глупой и любопытной…
— Тебе не в чем себя корить.
— Знаешь, я думала, что никогда не решусь рассказать об этом. А теперь словно камень с души свалился. Но все равно я чувствую какую-то невольную вину и хотела бы сделать для тебя что-то хорошее, чем-то помочь. Скажи, что я могу? Наверное, часть состояния Андроника должна принадлежать тебе, и я напомню матери…
— Нет, я не хочу втягивать тебя в мирские тяжбы, — прервала ее монахиня. — Но если желаешь добра моей душе — будь твердой в вере и почаще ходи в церковь Святого Стефана.
— Я и так часто туда хожу, мне нравятся тамошние фрески, особенно «Евхаристия». — Марина вспомнила, что именно возле этой фрески едва не столкнулась с Донато. — И еще в церкви Святого Стефана часто бывает отец Панкратий — очень мудрый священник. Он строгий, но добрый и дает мне читать книги.
— Это хорошо, что ты знаешь отца Панкратия, — тут же откликнулась Рузанна. — Он один из лучших священников Кафы. Если хочешь радости для меня и пользы для себя — слушайся его во всем. Обещаешь мне это?
— Обещаю, клянусь! — с готовностью заверила Марина.
— Не забывай о данном слове. Отец Панкратий просветит тебя и научит добрым делам. А теперь спи с легким сердцем и спокойными мыслями, сестра. Это говорю тебе я — не грешная мирянка Рузанна, но инокиня Руфина.
Марина улыбнулась, чувствуя, как смятение уходит из ее души, и, облегченно вздохнув, погрузилась в крепкий сон без сновидений.
Она проснулась перед рассветом, когда солнце еще не взошло, но небо на востоке уже посветлело. Утренняя прохлада заставила девушку натянуть на себя одеяло, сбившееся в сторону во время сна. Несколько мгновений она лежала неподвижно, прислушиваясь к легкому дыханию спящей Рузанны. Потом в монастырском дворе раздался резкий, но быстро смолкнувший собачий лай, приглушенные голоса и еще какие-то неясные звуки. Повинуясь природному любопытству, Марина быстро поднялась с топчана, сделала два шага к двери и, открыв ее, выглянула во двор. В предрассветном сумраке предметы казались еще темными, но очертания их просматривались четко. Возле часовни Марина увидела настоятельницу, беседующую с двумя священниками. Чуть поодаль стояла повозка, запряженная парой лошадей, возле которых хлопотал кучер. Настоятельница и священники беседовали приглушенными голосами, и в утренней тишине их речь хоть и была слышна, но звучала неразборчиво, как отдаленный гул. Потом один из священников, поклонившись, отошел к повозке, а другой — он, видимо, был старшим — вынул из-под полы своего одеяния плотно скрученный свиток и протянул его матушке Ермионе. Когда, обменявшись поклонами с настоятельницей, старший священник на мгновение повернул голову, девушке показалось, что это не кто иной, как отец Панкратий. Она уже готова была кинуться вслед за ним и окликнуть его, но тут сзади ее схватила за плечо крепкая рука Рузанны.
— Вернись в келью, пока тебя не заметили, — вполголоса потребовала монахиня и потянула Марину назад. — Негоже проявлять любопытство в обители.
Марина повиновалась, но, перед тем как скрыться за дверью, оглянулась и увидела, что священники сели в повозку.
— Рузанна, да ведь это же, по-моему, был отец Панкратий! — возбужденно прошептала Марина. — Почему мне нельзя было его окликнуть, встретиться с ним?
— Вряд ли это был он. Скорей всего, ты обозналась.
— Да? Но какое странное совпадение… Вчера, когда я молилась в церкви монастыря Сурб-Хач, мне тоже послышался голос отца Панкратия… Ты что-то знаешь, Рузанна, но не хочешь мне объяснить. Наверное, это связано с той тайной миссией, о которой ты говорила?
— Молчи! — Рузанна прижала палец к губам. — Если этот утренний посланец действительно был отец Панкратий, то он сам тебе все и расскажет, когда увидишь его в Кафе. И помни, что ты обещала мне во всем ему повиноваться.
— Я помню, но… если…
Марину вдруг снова посетила неясная мысль о том, с каким осуждением отнесется суровый отец Панкратий к браку православной и католика.
— Не надо никаких колебаний, сестра! — Взгляд Рузанны из-под нахмуренных черных бровей почему-то вызвал в памяти Марины грозные очи шестикрылого Серафима на иконе в кафинской церкви. — Святой отец никогда не даст тебе дурного совета, но всегда направит тебя к твоему же благу.
В этот миг зазвонил колокол к заутрене, и его торжественные звуки словно подтвердили строгое наставление инокини Руфины.
После утренней молитвы и трапезы наступил час прощаться. Марина снова попросила Рузанну приехать домой, в Кафу, и та снова пообещала сделать это когда-нибудь в неопределенном будущем.
Уже перед самой дорогой Рузанна и матушка Ермиона вновь посоветовали возвращаться обратно по северной дороге, через Сурб-Хач, поскольку южнее Кизил-Таша были замечены татарские охотники за людьми.
Марина пообещала быть осторожной. Но, едва отъехав со своими спутниками от монастыря, она тут же приказала повернуть на южную дорогу, объяснив при этом, что желает по пути осмотреть новые места, прибрежные горы и виноградные долины селения Козио.
Сопровождавшие ее мужчины не слышали предостережений монахинь, а потому согласились охотно. Только Филипп, внимательно оглядываясь по сторонам, пробормотал:
— Надеюсь, что по этой дороге татары средь бела дня не рыскают.
— А я вот нисколько не боюсь татар! — молодцевато подбоченился Варадат. — Они нападают только на бродяг, а знатных людей не трогают.
Марина решила, что если даже Варадат не боится, то никакой опасности в самом деле нет, а выбранная дорога казалась ей не только интересной, но и таящей ожидание волнующих встреч.
Но, когда путники, обогнув скальный хребет, поехали по участку горного леса, какое-то странное предчувствие шевельнулось у Марины в душе. На миг девушке вдруг показалось, что пустота урочища обманчива, что где-то в зарослях и между скалами таятся неведомые существа, которые следят за путниками и готовы на них напасть. Она тут же мысленно себя успокоила и подняла голову вверх, любуясь просвеченной солнцем желто-зеленой листвой на фоне голубого осеннего неба.
— Пахнет грозой, — вдруг сказал Филипп. — Как бы дождь не застал нас в пути.
— Какая гроза? — удивилась Марина. — Небо-то ясное.
— Это вверху, а с восточной стороны наползают тучи, — заметил Филипп, посмотрев в просвет между деревьями. — И где-то далеко грохочет, слышите?
«Так вот откуда у меня тревожное предчувствие: надвигается гроза», — подумала Марина с облегчением, ибо природные ненастья пугали ее гораздо меньше, чем встреча с лихими людьми.
— Где ж нам укрыться? — забеспокоился Варадат. — До Отуз еще далеко. Но, может, успеем. Надо двигаться быстрей. — Он оглянулся на своих слуг, замыкавших кавалькаду. — Ты не знаешь, Орест, есть ли здесь поблизости какая-нибудь хижина или…
Но слуга, к которому он обратился, вместо ответа вдруг выкрикнул сдавленным голосом:
— Татары!..
Охотники за людьми выскочили прямо из зарослей: трое на лошадях, а вслед за ними — с десяток пеших.
Филипп и Чугай мгновенно схватились за оружие и стали отбиваться, стараясь заслонить девушку. А из слуг Варадата только один вступил в бой; двое других, увидев численный перевес татар, пришпорили коней и умчались прочь. Сам же Варадат не успел вытащить саблю из ножен, как его с обеих сторон обхватили два татарина, пытаясь стащить с лошади.
— Не трогайте меня, я заплачу хороший выкуп! — завопил купец срывающимся голосом и оглянулся на девушку. — Марина, нас выкупят, обещаю!
Трусость Варадата и его людей делала положение путников безнадежным. Понимая, что помощи ждать неоткуда, Филипп крикнул Марине:
— Беги, скачи к селению! Мы их постараемся задержать!
Пришпорив коня, девушка устремилась из зарослей на открытое место и помчалась по горной дороге, каждую минуту рискуя сорваться в пропасть. На ходу она успела оглянуться и заметить, что двум конным татарам преградили путь Филипп и Чугай, а третий всадник скачет за ней и явно не собирается упускать свою добычу.
Глава пятая
Сердце Марины готово было выпрыгнуть из груди, разум мутился от страха, перед глазами плясали огненные круги. Она оглянулась и увидела, что преследователь не отстает. Каждую минуту к погоне могли присоединиться и другие татары, ведь лошадь у Варадата они уже наверняка отобрали, а Филипп и Чугай тоже не смогут долго продержаться против всех. Марина понимала, что надежда спастись остается, пока преследователь еще один, но как найти дорогу к селению? Девушке, впервые оказавшейся так далеко от окрестностей Кафы, в незнакомой горной местности, можно было надеяться только на чудо, и она мысленно обратилась к Богу с горячей молитвой.
Каменистая дорога слева бежала вниз, под уклон, а справа горизонт закрывала гора с нависающими скалистыми выступами. Марине пришло в голову, что лучше поскакать направо и хотя бы на несколько минут скрыться за горой, поскольку на видном месте беглянку легче достать стрелой или арканом. Хотя, впрочем, вряд ли преследователь захочет, чтобы она была ранена или покалечилась при падении, — ведь «товар» для гарема нужен целым и невредимым.
На повороте дороги Марина оглянулась, и ей показалось, что татарин немного отстал, а в следующую секунду она с ужасом заметила, что из зарослей выскочил еще один преследователь. Но выступ скалы был уже близко, еще миг — и он скрыл беглянку от глаз охотников. И тут оглушительный раскат грома расколол тишину гор. Лошадь под Мариной испуганно заржала и кинулась вперед, едва не соскользнув в пропасть, зиявшую по другую сторону горы. Марина вскрикнула не менее громко, чем перепуганное животное, и невольно схватилась рукой за куст можжевельника, росший прямо на скале. Ладонь при этом оказалась содранной в кровь, но девушка успела заметить, что рядом с кустом есть расщелина, прикрытая выступом скалы и тенью от чахлого деревца, прилепившегося сверху. Марина поняла, что здесь — ее единственная надежда на спасение. Спрыгнув с лошади, она хлестнула ее, заставив поскакать вперед, затем сорвала белый шарф с головы и, вытерев об него окровавленную ладонь, бросила в пропасть под скалой. При этом она толкнула ногой камень, лежавший у края обрыва, и он с грохотом покатился вниз, увлекая за собой другие камни. А в следующее мгновение девушка нырнула в незаметную расщелину, оказавшуюся входом в довольно большую пещеру. Там она затаилась, сжавшись в комок и дрожа от страха.
Скоро раздался топот копыт и недовольные голоса двух мужчин, говоривших по-татарски:
— Вот шайтан!.. Девка не удержалась в седле и упала в пропасть. Кажется, ее прибило камнями.
— Да, вижу, там ее покрывало в крови. А может, она еще жива? Надо бы ее вытащить, красивая девка.
— Ты полезешь за ней в пропасть? Я — нет. Гроза начинается, надо возвращаться в хижину. А девка если и жива, то от нее мало что осталось.
— Ладно, у нас сегодня есть и другая добыча.
— Смотри, вон ее лошадь мечется, надо забрать, пригодится.
Скоро голоса и топот копыт смолкли, но зато раздались новые раскаты грома. Гроза приближалась. Марина, немного успокоенная тем, что ей удалось обмануть преследователей, перевязала содранную ладонь платком и стала осторожно осматривать свое укрытие. Узкая у входа, пещера затем расширялась, в ней можно было даже встать во весь рост. Следовать вглубь пещеры, туда, где было темно, девушка не решилась, опасаясь провалиться в яму или наткнуться на острые камни.
В пещере не было ни хвороста, ни сухих листьев; Марине удалось найти лишь обломок бревна, на который она и села, наблюдая за входом, куда проникала полоса света, огражденная с одной стороны выступом скалы. Скоро свет померк под натиском тяжелых туч. Из укрытия девушке был виден край горной тропы и лоскуток свинцового неба. Вспышка молнии на миг озарила предгрозовую тьму, следом раздался раскат грома, и первые дождевые капли забарабанили по камням. Через несколько мгновений дождь набрал силу и обрушился на землю неудержимым водопадом. Яростные порывы ветра забрасывали дождевые капли прямо в пещеру, и возле входа образовалась небольшая лужица. Марина отодвинулась подальше, чтобы не замочить ноги, и зябко поежилась, чувствуя, что скоро дорожное платье не сможет защитить ее от наползающего холода.
Но постепенно ветер утих и ливень немного ослабел. Теперь шум дождя стал размеренным, монотонным, и под этот шум Марина горько задумалась над своей судьбой. Она тысячу раз корила себя за то, что не послушалась совета монахинь и, поехав по опасной дороге, навлекла беду на себя и своих спутников. Теперь ее верные слуги Филипп и Чугай, наверное, погибли или попали в рабство, а сама она оказалась в ловушке, из которой еще неизвестно как выберется. «А все твое проклятое любопытство», — мысленно ругала она саму себя и яростно терла руками озябшие плечи. В глубине души Марина сознавала, что не только любопытство и желание посмотреть новые места были причиной ее непослушания, но также вкрадчивая мысль оказаться возле домика таинственного отшельника Симоне, к которому поехал не менее таинственный римлянин Донато. И этот беспричинный интерес к приезжему итальянцу был досаднее всего, и в нем она не хотела даже сама себе признаваться.
Вскоре Мариной овладело что-то вроде дремотного оцепенения, она прикрыла глаза и на миг увидела образ, похожий на сон: прекрасную темноволосую девушку в старинном белом одеянии и с золотой чашей в руках. Вздрогнув, Марина очнулась, огляделась вокруг. Наверное, она дремала не одно мгновение, а дольше, потому что дождь уже утих и небо посветлело. Теперь лучи проникали даже в глубину грота, и Марина убедилась, что пещера хоть и с высоким сводом, но не длинная и не извилистая, можно через десять шагов упереться в ее противоположную стену.
Пора было выбираться наружу и искать путь к людскому жилью. Осторожно выглянув из своего укрытия и убедившись, что поблизости никого нет, девушка наконец решилась покинуть спасительные своды пещеры. Воздух после дождя был свежим и хрустально-чистым, тучи ушли за горизонт, и сквозь редеющие белые облака просвечивало солнце. Незнакомые места пугали, но одновременно и завораживали своей торжественной красотой. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь шумом ручья, который после ливня превратился в настоящую горную реку. Глянув с высоты на стремительный поток, Марина невольно содрогнулась: ведь она сегодня могла упасть в эту пропасть и тогда ее жизнь оборвалась бы нелепо и бессмысленно, и близкие даже не знали бы, где искать тело глупой девчонки, которая ввергла в опасность и себя, и других.
Девушка оглянулась на каменистую гору, в недрах которой нашла спасительное пристанище, и вдруг замерла, пораженная странным явлением: на ровном участке скалы возле входа в пещеру был прочерчен крупный, в аршин, старинный знак, похожий на те, которые она видела в книге о первых христианах. От отца Панкратия она знала, что такой знак называется хризмой.
Марина готова была поклясться, что, когда первый раз взглянула на эту скалу, ничего подобного здесь не было. Но, может быть, в ту минуту, спасаясь от преследователей, она была слишком испугана и просто не заметила таинственного знака?
Девушка подошла ближе к скале, потрогала гладкую поверхность. Хризма не была нарисована краской или высечена резцом. Но тогда каким чудом здесь появилось это изображение, да еще столь отчетливое?
Поверхность камня была мокрой после дождя, но солнце, выглянув из-за облака, светило прямо на скалу и быстро высушивало влагу. И, пока Марина стояла и оторопело разглядывала загадочный рисунок, он вдруг стал понемногу исчезать. Девушка не в силах была оторваться от удивительного зрелища и скоро поняла, что линии знака исчезают в тех местах, с которых испаряется влага. Она понимала, что надо уходить, спешить, чтобы до темноты найти человеческое жилье, но изображение на скале словно притягивало ее, и Марина не тронулась с места, пока рисунок хризмы окончательно не исчез, словно затаившись в камне, откуда его могла вызвать лишь небесная вода.
Марина вспомнила рассказы старых людей о том, что в горах Таврики существуют места силы, и подумала, что, может быть, сейчас оказалась в одном из этих мест. Недаром же ей привиделась девушка в старинной тунике и с золотой чашей, напоминающей ту, что была изображена на фреске в церкви Святого Стефана.
Она еще раз притронулась к скале, в которой был спрятан древний знак, словно хотела вобрать в себя часть его таинственной силы, и внимательно огляделась вокруг, стараясь запомнить местность, чтобы когда-нибудь еще раз сюда вернуться.
Всюду возвышались вершины — то каменные, то поросшие лесом, и лишь со стороны ущелья в горной гряде был просвет, через который Марина разглядела далекую и туманную полосу моря. Она знала, что путь к Кафе лежит на восток, значит, надо двигаться так, чтобы море все время было по правую руку. А ближайшим отсюда селением, возможно, и будут те самые Отузы, близ которых находится дом Симоне. Знахарь и его сыновья были единственными в этой местности людьми, которых она хоть немного знала и могла обратиться к ним за помощью. Что же касается Донато, то теперь ей бы хотелось, чтоб его вовсе не было в доме отшельника, куда она добредет, скорей всего, в самом жалком и потрепанном виде.
Идти пешком по горной дороге, по скользким после дождя камням оказалось делом нелегким, и Марина должна была рассчитывать каждый свой шаг, чтобы не упасть и не подвернуть ногу. Однако и спустившись в долину, она особого облегчения не испытала: после проливного дождя здесь стояла грязь, и девушке приходилось, подобрав юбку, перескакивать с кочки на кочку. Поскользнувшись, она с размаху вступила в глубокую лужу, промочив ноги и забрызгав платье почти до пояса. Теперь ей было жарко, хотя еще недавно, в пещере, она мерзла. Все тело ныло от усталости и напряжения. К прочим страданиям прибавились и муки голода, — ведь после скромной утренней трапезы в монастыре прошло уже много времени. Иногда девушке хотелось сесть и плакать от отчаяния, но она знала, что останавливаться нельзя, ибо приближалась вечерняя темнота, а с ней — новые опасности.
Наконец, впереди на склоне горы Марина увидела виноградник и несколько приземистых хижин. Значит, здесь было человеческое жилье, в котором она могла попросить временного пристанища. Девушка поднесла руку к поясу, где, скрытый складками плаща, висел мешочек, в котором были гребень, зеркальце и кошелек с деньгами, выданными матерью на дорогу. К счастью, мешочек не оторвался во время сумасшедшей скачки по горам, и теперь девушке было чем заплатить за еду и ночлег. Вот только… тут Марина засомневалась, — только на каких людей она набредет в незнакомом селении? Вдруг это будут недобрые люди?
И все же другого выхода не было. Девушка осторожно спустилась со склона горы, вошла в маленькую рощицу — и вдруг увидела между деревьями пожилую женщину, которая несла на плече мешок и вела за собой козу. Судя по одежде, это была греческая крестьянка, и Марина обратилась к ней на ее языке:
— Доброго здоровья тебе, тетушка! Не могла бы ты мне помочь?
Женщина с некоторым испугом посмотрела на молодую незнакомку, простоволосую, растрепанную и перемазанную грязью. Марина тут же поспешила пояснить:
— Не бойся меня; я из Кафы, из уважаемой семьи. По дороге на меня и моих слуг напали татары, и я чудом от них спаслась. Теперь пробираюсь домой, но уже очень устала и проголодалась, мне надо бы где-нибудь отдохнуть и поесть.
— Поесть? — озадаченно переспросила женщина, которая, очевидно, не очень поверила словам незнакомки.
— Да! Продайте мне немного еды, я вам заплачу! — Марина положила руку на кошелек у пояса.
— Ну, хорошо, деньги нам нужны. Мой муж скоро поедет в Кафу за покупками. Пойдем, я дам тебе хлеба и молока.
Настороженно оглядываясь, крестьянка привела Марину к своей хижине и вынесла ей оттуда завернутый в ткань хлеб и кувшинчик молока. Девушка расплатилась и, усевшись на деревянную скамью возле сарая, тут же с жадностью накинулась на еду.
— Только в дом я тебя не пущу, пока муж и дети не вернутся с виноградника, — заявила женщина, искоса наблюдая за незнакомкой. — Муж не любит, когда я привечаю всяких странников.
— А скажи, тетушка, далеко ли до Отуз? — спросила Марина, утолив первый, самый острый голод.
— Недалеко. Часа два пути, если бодрым шагом.
— А может, ты даже знаешь, где находится жилище знахаря Симоне?
— Знаю, — с готовностью откликнулась гречанка. — Его тут многие знают. Он славный лекарь, хоть и латинянин. Муж в прошлом году сильно поранил ногу, так Симоне ее быстро залечил.
— А далеко ли до его дома?
— Ближе, чем до Отуз.
— А успею я дойти до темноты?
— Успеешь.
— Ты мне покажешь, по какой дороге идти?
Видимо, имя Симоне невольно вызвало доверие поселянки, и она предложила усталой путнице:
— Вообще-то ты можешь заночевать и у нас, если в нашей бедной хижине тебе не покажется тесно.
— Спасибо, тетушка, но я, пожалуй, пойду к Симоне.
Марина, еще минуту назад собиравшаяся проситься к поселянам на ночлег, теперь взбодрилась и решила все-таки дойти до жилища отшельника. Утолив голод и умыв испачканное лицо колодезной водой, она немного посидела на скамье, прислонившись к сараю, и скоро почувствовала, что готова продолжать свой путь.
После объяснений поселянки Марине казалось, что она легко одолеет тот почти прямой отрезок дороги, что оставался до усадьбы Симоне.
Но скоро девушка поняла, что в горах, да еще в незнакомой местности, где после утренних злоключений она на каждом шагу опасалась встретить лихих людей, дорога не может быть простой и ее не удастся одолеть до темноты.
Когда начало смеркаться, девушка побоялась идти по зарослям, свернула на открытую дорогу и, увидев пастуха-татарчонка, загонявшего овец в кошару, спросила его, не знает ли он, где дом знахаря. Оказалось, что жилище Симоне было уже совсем близко, за рощей.
Скоро Марина увидела между холмами маленький дом с двором, окруженным деревянным забором, и поняла, что это и есть усадьба отшельника. Сделав над собой усилие, вконец измученная путница взобралась на холм и, тяжело дыша, свалилась с ног прямо у забора. Последний луч догорел за горизонтом, и окружающий мир стал быстро погружаться во мрак. Но Марина уже не боялась темноты, поскольку спасительное пристанище было совсем рядом. Отдышавшись, она вытащила из мешочка на поясе гребешок и причесала растрепавшиеся волосы. Теперь пора было идти к дому, в окне которого приветливо мерцал огонек светильника. Но, едва девушка ступила во двор, как раздался громкий собачий лай. Марина тотчас отпрянула назад, за ограду, а уже в следующую минуту поняла, что собака лаяла не на нее, да к тому же была привязана, так что не могла наброситься на нежданную гостью.
Между неплотно пригнанными досками забора девушка видела пространство двора от дома до сарая. К сараю подошел человек, на ходу что-то бросил собаке, и она замолчала. В этот миг из-за облака выплыла яркая луна, и в ее призрачном свете Марина разглядела лицо человека, который, судя по одежде, был генуэзцем и походил не то на стражника, не то на корсара. Не успела девушка удивиться, почему он оказался во дворе отшельника в столь позднее время, как подозрительный незнакомец вытащил из-под камня за сараем какой-то предмет и на мгновение задержал его на ладони, разглядывая. В лунном свете блеснули белые горошины жемчужного ожерелья. Воровато оглянувшись, генуэзец завернул драгоценность в платок и спрятал во внутренний карман своего камзола. Затем, немного потоптавшись во дворе и потрепав по загривку собаку, вернулся в дом.
«Не иначе — вор! — пронеслось в голове у Марины. — Может, он украл этот жемчуг у Симоне? Или просто перепрятывал здесь краденое?»
Встретить подобных гостей в доме отшельника девушка никак не ожидала, и холодок страха снова закрался ей в душу: а не подстерегают ли ее в этом доме новые злоключения? Но выбора не было: ночевать под открытым небом казалось несомненно опаснее, чем под крышей. К тому же она надеялась, что Симоне не позволит своим гостям ее обидеть.
Не обращая внимания на собачий лай, девушка подошла к дому и постучала в дверь. Грубый мужской голос откликнулся:
— Эй, хозяин, чего стучишь? Входи, давно ждем!
Это восклицание ее удивило и озадачило: выходит, хозяина сейчас нет в доме и гости его ждут? Марина на мгновение заколебалась, не решаясь войти, но тут дверь перед ней распахнули изнутри и девушке ничего не оставалось, как ступить на порог.
В комнате находилось пятеро незнакомых ей мужчин, среди которых был и тот, что припрятал за пазухой жемчужное ожерелье. Быстро окинув всех настороженным взглядом, Марина сразу догадалась, что главным в этой компании был тучный, богато одетый генуэзец, который важно развалился у стола, попивая вино и теребя золотую цепь у себя на груди. Четверо других, очевидно, были его слугами и телохранителями. Фляги и кружки с вином, остатки еды и разбросанные по столу игральные кости свидетельствовали о том, что в жилище Симоне компания генуэзцев чувствует себя как дома.
Двое слуг были уже основательно во хмелю и, увидев на пороге девушку, кинулись к ней с пьяными восклицаниями:
— О, красотка! Как раз вовремя! Тебя-то нам и не хватало!
Марина, брезгливо отшатнувшись от наглых слуг, обратилась к их хозяину:
— Синьор, прошу вас меня защитить! Я попала в беду, на наш отряд напали татары, я едва спаслась!
Тучный генуэзец смерил девушку с ног до головы насмешливым взглядом и изрек:
— Конечно, я помогу! Такого не бывает, чтобы Заноби Грассо не уделил внимания хорошенькой девице.
С этими словами он встал и, подойдя к Марине, взял ее за подбородок. Она попыталась отстраниться, но тут один из людей Заноби схватил ее сзади за плечи.
— Как вы смеете! — Марина дернулась, выворачиваясь из его рук. — Я приняла вас за благородных синьоров, а вы…
— А мы именно такие благородные и есть, — осклабился тот из слуг, что был менее пьяным. — Татары хотели обидеть девицу, а мы ее приласкаем.
— Да что вы себе позволяете! — вскричала Марина со смесью испуга и возмущения. — Я из уважаемой кафинской семьи! Мы пожалуемся консулу! Отпустите меня немедленно! Кто вы такие, почему вы здесь? Где мессер Симоне?
— Слишком много вопросов, красавица, — усмехнулся Заноби и приказал своим людям: — Не тяните руки к девчонке, я хочу первым распробовать это лакомство. А что до консула — так он далеко. Татары гораздо ближе. Если не будешь со мной любезна, то я отдам тебя татарским работорговцам, и никакая знатная кафинская семья тебя не найдет. — Он тронул девушку за грудь и прищелкнул языком: — Клянусь своей головой, красотка еще невинна!
Марина с ужасом поняла, что попала из огня да в полымя. Она лихорадочно искала выход, сознавая, что помощи ждать неоткуда. Внезапно спасительная мысль молнией сверкнула у нее в голове и девушка воскликнула, стараясь придать своему голосу звучность и твердость:
— Берегитесь, меня охраняют высшие силы! Я только что побывала в пещере, отмеченной магическим знаком! Он появляется на камне только от небесной воды! И мне явилась богиня с золотой чашей в руках! Она сказала, что тот, кто возьмет меня силой, не проживет и дня, умрет страшной смертью.
В этот миг за ее спиной хлопнула дверь и кто-то ступил на порог. Девушка оглянулась, надеясь увидеть Симоне, и чуть не вскрикнула, встретившись глазами с Донато.
— Не трогайте девушку! — властно приказал римлянин. — Она говорит правду! Симоне тоже рассказывал мне о таких местах силы, куда могут попасть только избранные.
Генуэзцы, немного опешив от его вмешательства, отпустили Марину, и она тут же отступила поближе к Донато. Он прислонил свой арбалет к стене у двери, а меч не стал отстегивать от пояса и, пройдя в комнату, обратился к девушке:
— Скажите, синьорина, на что похож тот знак, который вы увидели возле пещеры? Он языческий или христианский?
— Христианский! Я знаю, что он называется хризмой.
— Так и есть… морская дева… — пробормотал римлянин и, повернувшись к генуэзцам, провозгласил: — Эта девушка — избранная, и никто не может тронуть ее безнаказанно.
В глазах Заноби мелькнуло что-то похожее на растерянность или испуг, и он махнул рукой своим людям:
— Ладно, пока подождем с развлечениями, у нас есть дела поважней. — Он обратился к Донато: — А где же Симоне? Пусть он сам подтвердит твои слова о местах силы.
— Я не знаю, где Симоне, — развел руками Донато. — Мы с ним разминулись в горах. Я надеялся, что он уже вернулся в дом. Но… видимо, не напрасно отшельник боялся горных духов. Он говорил, что сегодня какой-то особый вечер, и ему будто бы приснился сон…
— Да, он и мне рассказывал о вещем сне, — пробормотал Заноби, и по его лицу пробежала судорога. — Черт возьми, неужели это правда?..
— Да не верьте вы в эти местные сказки, синьор! — воскликнул тот генуэзец, которого Марина видела с жемчужным ожерельем. — Просто наш отшельник забрел в какое-нибудь селение к знакомой вдовушке. Или, что, конечно, хуже, провалился в какую-нибудь яму и сломал ногу или ударил голову. А эта девица и ее защитник, — он указал на Донато, — просто морочат нам голову и стараются запугать. Видно, парню самому хочется распробовать красотку, а не отдавать ее нам.
Марина резко повернулась к говорившему и, вновь придав своему голосу особую звучность, провозгласила:
— Ты лжешь, а я вижу тебя насквозь! И вот подтверждение той силы, которую я сегодня обрела: я вижу, что у тебя за пазухой спрятана ворованная драгоценность!
— Что?.. — разбойник попятился к двери. — Не слушайте вы эту сумасшедшую, лучше поскорей валите ее на пол и делайте свое дело!
Донато схватил генуэзца за шиворот и подтащил к Заноби, а тот приказал своим людям:
— Ну-ка, ребята, посмотрите, есть ли у нашего Бальдо что-то ценное за пазухой.
Трое слуг накинулись на четвертого и скоро извлекли у него из внутреннего кармана жемчужное ожерелье. При виде драгоценности Заноби, яростно сверкая глазами, закричал:
— Так вот где мой жемчуг! А я-то думал, что потерял его в дороге или на ярмарке, что его украли какие-то бродячие воры! А это оказался свой — подлый шакал! Ты знаешь, как я караю слуг, ворующих у своего хозяина? Знаешь, ничтожный раб? — Заноби схватил Бальдо за волосы и повернулся к другим слугам: — Пусть это будет вам уроком! Я награждаю только верных, а предателей и воров казню без суда!
С этими словами Заноби полоснул кинжалом по шее проворовавшегося телохранителя, который тут же с предсмертным стоном рухнул на пол.
При виде столь быстрой и кровавой расправы Марина вскрикнула и отвернулась, закрыв лицо руками. Донато тронул ее за плечо и прошептал:
— Мужайтесь, синьорина.
По приказу Заноби его люди вытащили бездыханное тело Бальдо из хижины.
— Зачем вы это сделали в чужом доме, Заноби Грассо? — обратился к нему Донато. — Ведь теперь в убийстве могут заподозрить Симоне.
— Ничего, я приказал своим людям унести тело за пределы двора, на дорогу. Я сам доложу властям, что убил вора. — Заноби на мгновение замолчал, вглядываясь в лицо Донато. — А ты кто такой, чтобы лезть в мои дела? Бродяга, приятель Бартоло? Лучше бы ты как следует охранял в дороге знахаря. А может, ты сам его случайно зарезал или столкнул куда-нибудь в яму?
— Зачем бы я это делал? — пожал плечами Донато. — А если бы сделал, то зачем бы возвращался сюда, к вам?
Немного поразмыслив, Заноби согласился:
— Да, верно, не стал бы возвращаться. Но тогда где, черт возьми, потерялся Симоне?
— Хотел бы и я это знать. Утром надо отправляться на его поиски.
— Поиски? Эти поиски могут долго продолжаться, а мне знахарь нужен уже сейчас!
Щелкнув пальцами, Заноби быстро прошелся из угла в угол. Пламя в масляном светильнике заколебалось, причудливые тени забегали по стенам.
Марина все еще чувствовала себя в ловушке, но теперь, когда рядом находился Донато, ей было не так страшно.
Генуэзец вдруг остановился перед девушкой и, цепким взглядом впившись ей в лицо, спросил:
— Значит, это правда, что ты где-то там в горах обрела особую силу? И тебя нельзя обижать?
Марина молчала и прямо смотрела в маленькие колючие глазки Заноби. Она собрала всю свою волю, чтобы не дрогнуть и первой не отвести взгляд. Почувствовав ее внутреннее сопротивление, генуэзец невольно заморгал и поспешил задать следующий вопрос:
— Значит, все мужчины, которые возьмут тебя насильно, погибнут? Или только первый — тот, кто лишит тебя невинности?
Губы девушки едва шевельнулись, когда она с мрачным и непроницаемым видом ответила:
— Все. Но первый — это уж точно.
Заноби хмыкнул и, задумавшись на несколько мгновений, вдруг объявил Марине:
— Здесь тебя никто не обидит, оставайся на ночлег и будь спокойна. За себя и своих людей я ручаюсь.
Девушка не успела удивиться неожиданной приветливости генуэзца, как в хижину вернулись трое его слуг, оттащивших на дорогу бездыханное тело четвертого.
— Дело сделано, господин, — отряхивая руки, сказал тот, что был, судя по всему, доверенным человеком хозяина.
— Хорошо, Ингилезе, — кивнул Заноби и, подойдя к помощнику, что-то быстро ему прошептал.
Марина оглянулась на Донато, словно ища у него поддержки, и он ей слегка улыбнулся.
— А теперь все укладывайтесь на ночлег, — скомандовал Заноби. — Надо выспаться, чтобы завтра с утра начать поиски знахаря. Для синьорины есть место в углу за занавеской, а остальные пусть лягут где придется. Выпьем на ночь вина, чтобы лучше заснуть.
Пока Ингилезе разливал вино по кружкам, а двое слуг суетились вокруг стола, на мгновение заслонив собой господина, Донато успел шепнуть Марине:
— Не пейте вина.
Она насторожилась, но не подала виду; напротив, всячески старалась подчеркнуть, что совершенно спокойна и от усталости засыпает на ходу.
— Возьмите, синьорина. — Ингилезе с учтивым поклоном протянул ей полную кружку.
— Не надо, я не пью вина, в нашей семье это не принято, — сонным голосом пробормотала Марина и зевнула, прикрывая рот рукой. — Если прямо сейчас не лягу спать, то свалюсь с ног…
Она нетвердым шагом направилась в отгороженный занавесками угол, где стоял топчан, и легла, не раздевшись и не разувшись. Со стороны могло показаться, что девушку мгновенно сморил сон. На самом же деле она решила как можно дольше бороться с дремотным забытьем и прислушиваться к окружающим звукам.
Заноби, слегка приподняв край занавески, взглянул на Марину и вернулся к столу.
— Эта и без вина уснула, как сурок, — пробормотал он в сторону Ингилезе, затем обратился к Донато: — Выпей и ты с нами. Если уж Симоне водит с тобой дружбу, то и мы к тебе отнесемся по-приятельски.
Он протянул Донато кружку с вином, и римлянин подошел к столу, оказавшись напротив окна. Взяв кружку, он вдруг испуганно вскрикнул:
— Смотрите, там, за окном, кто это?..
Генуэзцы разом повернулись к окну, а Донато в этот миг молниеносным движением поменял свою кружку на другую.
— Что тебе там привиделось? — насторожился суеверный Заноби.
Его помощник выглянул в окно и тут же с усмешкой объявил:
— Да просто луна выплыла из-за облаков, а этому парню, видно, примерещился сам дьявол. Ты, приятель, кажется, трусоват? — Ингилезе снисходительно похлопал римлянина по плечу.
Донато, сделав вид, что смущен, быстро хлебнул вина. Генуэзцы тоже выпили — причем один из них взял ту кружку, которая предназначалась Донато. Через полминуты римлянин стал зевать, пожаловался на усталость и, шатаясь, отошел от стола.
— Спи, приятель, ложись прямо на пол! — со смехом посоветовал ему Заноби.
Донато споткнулся и, словно невзначай, упал как раз на медвежью шкуру, лежавшую в том углу, где за занавеской спала Марина. Повернувшись на бок, он тут же стал похрапывать, и никто из генуэзцев не обратил внимания, что римлянин так и не отстегнул от пояса свой меч.
Скоро тот из телохранителей Заноби, который выпил из кружки, предназначенной Донато, стал клевать носом и с грохотом повалился на пол, опрокинув при этом скамью.
— Эй, Ванино, ты что это вздумал уснуть раньше времени? — воскликнул Ингилезе, пытаясь его растолкать. — Вы поглядите, бездельник спит прямо мертвецким сном!
— Потому что он мертвецки пьян, — хохотнул другой слуга. — Он же всегда пьет за троих!
— Да, в пьянстве он первый, не то что в сражениях, — проворчал Ингилезе и обратился к Заноби: — Что с ним делать, хозяин? Кажется, он нам не помощник.
— Обойдемся без этого ничтожества. — Заноби с досадой пнул ногой заворчавшего во сне Ванино. — Он больше не будет у меня служить. Пьяные бездельники нужны мне не больше, чем вороватые шакалы вроде Бальдо.
Донато, продолжавший похрапывать в углу, на самом деле чутко прислушивался к разговору, который вели между собой Заноби и его помощник.
— Может, подождем до утра, хозяин? — раздался приглушенный голос Ингилезе.
— Нет, нельзя. Нельзя, чтобы кто-то нас увидел рядом с этой девкой. Сейчас перенесем ее в заброшенную кошару, а завтра ее оттуда заберет Хаким. Это ведь, наверное, его люди и напали на нее сегодня утром, а? — Заноби хохотнул. — Не будем лишать нашего дикого татарина его законной добычи. А в награду потребуем только одного — продать опасную красотку в гарем Яшлава. Говорят, бей охоч до юных девственниц. Вот мы и проверим, может ли она принести погибель насильнику.
— А если она просто придумала эту сказку, чтобы нас испугать?
— Это не такая уж сказка, Ингилезе. Здесь, в Таврике, много всяких колдовских мест, где можно встретиться с горными духами. А еще от Симоне я слышал о зельях, которые готовятся из особого корня. Если женщина съест такое зелье, то первый мужчина, который ее возьмет, обязательно погибнет.
— Господи, вот страсти-то какие… — Ингилезе перекрестился. — Значит, девку сейчас связываем и увозим в кошару? А что с этим будем делать? — Он указал на Донато.
— Я бы, конечно, его прикончил, он мне не нравится, — заявил Заноби. — Но этот бродяга нам нужен, чтобы найти Симоне. Да и не хочется из-за него ссориться со знахарем. Ладно, пусть живет. Утром, когда проснется, мы ему скажем, что девка ночью куда-то сбежала.
— Так что прикажете делать? Вязать ее?
— Вяжи. Да заткни рот, чтобы не кричала. — Заноби повернулся к третьему слуге: — Ты тоже иди сюда, помогай.
Когда Ингилезе с веревкой в руках шагнул к занавешенному углу, случилось неожиданное: Донато, мгновенно пробудившийся от сна, вскочил на ноги и ударом меча поразил генуэзца прямо в грудь. Ингилезе упал на пол, корчась в предсмертных судорогах, а Заноби, чуть отступив назад и выхватив из ножен меч, отчаянно завопил:
— Сумасшедший мерзавец!.. Ты убил моего лучшего помощника! Теперь тебе не жить!
С лязгом скрестились клинки двух сильных противников. Марина, вскочив на ноги и прижавшись к стене, с ужасом наблюдала за поединком, от которого зависела ее судьба. А через несколько мгновений опомнился третий слуга и тоже выхватил оружие; теперь двое были против одного, но Донато им не уступал, заслоняя Марину.
— Кто ты такой, что тебе надо? — отражая удары, выкрикивал Заноби. — Почему ты защищаешь эту девку, ради нее рискуешь жизнью? — Бросив взгляд в сторону Марины, он приказал слуге: — Хватай ее и тащи отсюда подальше!
Телохранитель тотчас кинулся выполнять приказ своего господина, но, прежде чем он дотянулся до Марины, девушка, отчаянно завизжав, успела набросить ему на голову занавеску. Тех двух мгновений, что он выпутывался из ткани, хватило, чтобы Донато достал его своим мечом. От полученной раны генуэзец скорчился, выронив кинжал, который Марина тут же подняла.
— Хватай девку, трус! — приказал раненому Заноби, одновременно толкая ногой спящего Ванино: — Вставай, бездельник!
Зажав левой рукой рану на правом боку, генуэзец, словно в беспамятстве, с безумными глазами двинулся на Марину. Когда его правая рука уже коснулась ее плеча, девушка, вскрикнув, наугад взмахнула кинжалом прямо перед собой. Удар пришелся по горлу противника, и он с хриплым стоном упал к ногам Марины, забрызгав своей кровью ее платье. Девушка застыла от ужаса, от сознания, что невольно оказалась убийцей, а ее побелевшие пальцы продолжали судорожно сжимать рукоять кинжала.
Заноби, увидев, что оказался один на один с противником, отступил назад, споткнулся о скамью, упал на пол рядом со спящим Ванино и тут же заслонился его телом от меча Донато. Удар, предназначенный хозяину, пришелся в грудь слуги.
Мгновенной заминки оказалось достаточно, чтобы Заноби, сбив мечом светильник, погасил его и, пользуясь наступившей темнотой, выбежал из дома.
— Дьявол!.. Он не должен уйти живым!.. — пробормотал Донато, бросаясь вслед за генуэзцем.
— Не оставляйте меня здесь одну!.. — вскрикнула Марина.
— Не бойтесь, я сейчас вернусь! — Донато, пошарив рукой возле двери, нащупал свой арбалет.
Он выбежал во двор, где Заноби, отвязав своего коня, уже вскочил в седло. Донато прицелился, но в слабом свете луны сделать это было непросто. Стрела вылетела в тот момент, когда генуэзец, пришпорив коня, помчался прочь со двора. В его прерывистом, хриплом голосе прозвучала угроза:
— Я запомнил тебя, висельник, и расправлюсь с тобой!
Римлянин понял, что промахнулся, и хотел выстрелить еще раз, но в этот миг луна скрылась за облаком и темнота ночи стала непроглядной.
Повернув к дому, Донато почти столкнулся у двери с Мариной, которая кинулась во двор вслед за ним.
— Мне страшно… там кровь, трупы… — она задрожала, стиснув руки на груди. — На мне кровь… я убила одного из них…
— Не бойтесь и не корите себя: вы убили, защищаясь. — Донато взял ее за плечи. — Пойдемте в дом, вам надо успокоиться и выпить вина для бодрости.
— Нет, вначале зажгите светильник, там темно. Я боюсь наткнуться на чей-нибудь труп, — сдавленным голосом пробормотала Марина.
Донато выполнил ее просьбу, и скоро в окне дома засветился огонек. А где-то рядом, со стороны двора, послышались осторожные шаги. Девушка тотчас кинулась в дом и, задыхаясь, воскликнула:
— Там кто-то есть, кто-то подбирается к дому!..
Донато, заслонив собой Марину, шагнул к двери и резким движением распахнул ее. На пороге стоял Симоне.
— Слава Богу, это вы, синьор, — сказал Донато, отводя назад руку, в которой сжимал меч.
Увидев три трупа на окровавленном полу, отшельник ужаснулся:
— Что за бойня здесь произошла?..
— Негодяи напали на эту девушку, — пояснил Донато. — Хотели похитить ее и продать татарам.
Марина вышла из тени на свет, и Симоне, разглядев ее лицо, спросил:
— Кто вы, синьорина, и как здесь оказались?
— Меня зовут Марина, я падчерица покойного Андроника Таги из Кафы, из квартала Айоц-Берд. Вы, может быть, ничего не знаете о нашей семье, но нас хорошо знает аптекарь Эрмирио, которому вы иногда поставляете травы. И ваши сыновья Томазо и Бартоло немного знакомы со мной.
— Падчерица Андроника Таги? — переспросил Симоне. — Это армянский купец, женатый на славянке?
— Да, и я ее дочь, Марина Северская, — подтвердила девушка. — А здесь я оказалась потому, что попала в беду… По дороге из монастыря на наш отряд налетели татары, но мне удалось от них скрыться, потом я добралась до вашего дома, и вот здесь эти бандиты чуть не схватили меня… — взглянув в сторону окровавленных тел, Марина невольно вздрогнула и запнулась.
Донато тут же пришел ей на помощь, завершив ее рассказ:
— Синьорина проявила мужество и находчивость: она сказала им, что побывала в волшебном месте, где ей явилась богиня, обещавшая охранять ее от насильников. Заноби поверил, что каждый, кто возьмет эту девушку силой, погибнет, и решил продать ее тому самому бею, от которого хочет избавиться.
— Моя участь могла бы оказаться очень страшной, если бы в доме не появился мессер Донато, — сказала Марина.
— Я не хотел кровопролития, — пояснил римлянин, — но их было четверо, а я один, и мне бы не удалось с ними договориться по-хорошему. К тому же я видел, что Заноби скор на расправу — своего слугу, уличенного в воровстве, убил сразу, на месте. И потому мне оставалось только упредить разбойников, напав на них неожиданно.
— Наверное, я был не прав, что оставил этих бандитов в своем доме, — пробормотал Симоне. — После того как мы расстались с тобой, Донато, у меня появилось предчувствие беды, я повернул обратно и оказался возле дома в тот момент, когда Заноби уже мчался верхом и выкрикивал угрозы.
— Я выстрелил в него, но промахнулся в темноте, — с досадой сказал римлянин. — Этот негодяй не должен был остаться в живых.
— Да, не должен был, — согласился Симоне. — Теперь он вдвойне опасен, потому что озлоблен против тебя. И против этой девушки тоже. Не хочу вас пугать, но отныне вам надо быть очень осторожными. Такие мстительные бандиты, как Заноби, не прощают своих поражений. — Он повернулся к Марине: — А вы, дитя, и вправду побывали в местах силы или выдумали, чтобы обмануть генуэзцев? Как вы догадались, что Заноби — весьма суеверный бандит?
— Меня словно свыше осенило сказать то, что сказала. Но в моем рассказе все правда, кроме одного: девушка с чашей ничего не говорила о том, что я… что близость со мной может убить насильника.
Симоне повернулся к Донато:
— Если Заноби этому поверил, то постарается похитить Марину и через каких-нибудь работорговцев продать бею.
— Что?.. — растерялась девушка. — Похитить меня? Да мы ведь живем в Кафе, а не в диком лесу. Есть закон, Устав…
— До Кафы вам с Донато еще надо добраться, — вздохнул Симоне. — Боюсь, что разбойник может напасть по дороге, исподтишка. В окрестностях ему будет нетрудно набрать себе в помощники всякого отребья. Да и охотник за людьми Хаким околачивается где-то недалеко. Meo voto[27] вам нужно возвращаться в город поскорее, пока Заноби еще не успел опомниться.
— Уезжать сейчас, среди ночи? — невольно поежилась Марина.
— Иного выхода нет, — развел руками отшельник и обратился к Донато: — Только прежде помоги мне вытащить эти трупы на дорогу. Пусть люди думают, что разбойники чего-то не поделили между собой и перерезали друг друга. Потом натаскаем воды из колодца и смоем кровь, чтобы моя хижина не была похожа на скотобойню.
Когда мужчины наклонились над одним из окровавленных тел и, взяв его за руки и ноги, понесли к выходу, Марине стало дурно и она выбежала во двор. Постояв на прохладном ветерке под деревьями и подождав, пока уймется тошнота, девушка медленно вернулась к дому, где Симоне и Донато уже смывали водой кровавые следы.
— А что заставило тебя так яростно защищать эту девушку? — спросил Симоне, покряхтывая от тяжелой и неприятной работы.
Марина, повинуясь безотчетному любопытству, прислонилась спиной к наружной стене дома возле двери и стала прислушиваться к разговору мужчин.
— Разве я не должен был этого делать? — вопросом на вопрос ответил Донато.
— Это был просто рыцарский порыв или нечто большее? — продолжал допытываться Симоне. — Ты знаком с этой девушкой?
— Видел ее пару раз в Кафе.
— Она тебе нравится? Может, ты имеешь на нее какие-то виды?
— Нет, видов я на нее не имею. Она красивая и, кажется, умная, смелая девушка, но мы с ней обитаем в разных мирах.
— Да, римлянин… ты из тех, кто никого не пустит в свой внутренний мир… Однако же во внешнем мире тебе сейчас грозит опасность. Тебе и этой девушке. Ей даже больше, чем тебе. Ведь ты можешь вернуться в Италию, а она, живя в Кафе, не укроется от Заноби Грассо. И если уж ты взялся ее защищать, то защити до конца, обратись за помощью к консулу.
— Я что-нибудь придумаю.
Донато выглянул во двор, и Марина, сделав вид, будто только что подошла к дому, встревоженно спросила:
— Нам пора ехать?
— Да, — кивнул он в ответ. — У вас хватит сил для ночной поездки?
— Думаю, что справлюсь. — Марина постаралась улыбнуться. — Ведь, как сказал Симоне, иного выхода нет.
Глава шестая
Симоне дал путникам на дорогу хлеба и вина и посоветовал ехать через Отузы:
— Там вы можете постучаться к кому-нибудь из поселян и переждать до рассвета. Но в Кафу отправляйтесь как можно раньше, с первыми лучами зари.
— Спасибо, мессер Симоне, — откликнулся Донато. — А вам я советую где-нибудь укрыться до утра, а потом сделать вид, будто только что вернулись и ничего не знаете о ночных событиях.
— Да, пожалуй, так будет разумно, — согласился отшельник. — Ну, Бог вам в помощь, прощайте!
Некоторое время он постоял у забора, вглядываясь в ночную темноту, быстро поглотившую фигуры всадников.
Марина ехала на лошади одного из убитых генуэзцев и чувствовала бы себя весьма неуверенно, если бы рядом не было Донато. Она искоса поглядывала на своего спутника, не решаясь заговорить первой. В призрачном сиянии ночного светила гордый профиль римлянина напоминал ей статую какого-то античного бога.
У Марины не шел из головы подслушанный ею разговор Симоне и Донато. Из этого разговора следовало, что римлянин хоть и заметил ее красоту и другие достоинства, но не считает возможным сближаться с девушкой из другой среды, «из другого мира», как он выразился. «Что же он имел в виду? — пыталась угадать Марина. — Разницу в вере, воспитании или что-то другое? Неужто он такой гордец, что считает меня ниже себя? Но ведь кинулся меня защищать, рискуя жизнью! Или он для каждой женщины сделал бы то же самое?»
Ее раздумья были прерваны внезапным вопросом Донато:
— Скажите, синьорина, вы мне верите? Верите, что я не посоветую вам плохого?
— Конечно, верю, синьор! — с невольной пылкостью откликнулась Марина. — Вы спасли мне жизнь, честь, и я вам безмерно благодарна.
— Тогда вот что я вам скажу. Ехать сейчас в Кафу небезопасно. Возможно, где-то поблизости притаился Заноби и следит за кафинской дорогой, чтобы напасть на нас.
— Но что же делать?
— Я считаю, что мы должны избрать другой путь — в Солдайю. Там Заноби нас не ждет и не будет искать. В Солдайе тоже действует консульский устав, и мы найдем там защиту. А в Кафу вернемся с обозом каких-нибудь купцов.
— Хорошо, я согласна. Полагаюсь на ваш разум и опыт. — Марина немного помолчала. — А можно мне узнать, почему Заноби со своими разбойниками оказался в доме Симоне? И зачем он вдруг захотел отдать меня какому-то бею?
Донато не стал скрывать правду:
— Заноби враждует со знатным греком по имени Василий и изгнал бы его с пограничных земель, но этому мешает один татарский бей. Вот генуэзец и задумал отравить татарина медленно действующим ядом. А вину свалить на Василия. За ядом-то он и пришел к Симоне, но отшельник предпочел скрыться, чтобы не участвовать в этих грязных делах. Теперь вам понятно, для чего Заноби решил вас похитить?
— Понятно. Значит, своим рассказом о пещере я хоть и спасла себя от насилия, но навела Заноби на мысль о похищении.
— А знаете ли, синьорина… — его глаза блеснули в темноте, когда он повернул к ней голову, вглядываясь в ее лицо. — Меня очень заинтересовал ваш рассказ о пещере с магическим знаком. Признаюсь, я тоже искал в Таврике подобные места силы, я верю в них, и мне бы хотелось побывать в той пещере. Ведь это чудо, что она открылась именно вам, о ней даже Симоне не знает.
— Вход в нее такой незаметный, он похож на тень от выступа скалы, и я обнаружила его случайно. Это действительно было как чудо, которое помогло мне спастись.
— И вы запомнили дорогу к той пещере? Она находится отсюда на юго-запад?
— Да. Я хорошо запомнила и дорогу, и местность. Они словно нарисованы у меня в голове.
— И вы могли бы мне их показать?
— Охотно. Как только будет случай…
— Зачем же нам ждать другого случая? — с некоторой поспешностью заметил Донато. — Ведь мы сейчас как раз направляемся в ту сторону. Почему бы по дороге на Солдайю не побывать в пещере? Может, магическое место придаст нам новых сил.
— Ну… как вам будет угодно, — немного растерялась Марина. — Боюсь только, что в темноте опасно ехать к тому месту, там с одной стороны — скала, а с другой — пропасть.
— Значит, остановимся где-то по дороге, дождемся утра. Рассвет уже не за горами.
— По дороге есть одно греческое селение, очень маленькое — скорее даже хутор. Но не знаю, пустят ли нас на ночлег.
— Поехали вперед, а там посмотрим.
Марина не стала возражать, во всем полагаясь на своего загадочного спутника. Она ехала рядом с Донато по ночной дороге и думала о нем: «Нет, он не такой, как многие другие латиняне — алчные торгаши и проходимцы, для которых нет ничего высокого, святого. Он даже словом не намекнул о награде за мое спасение, но, напротив, интересуется такими духовными вещами, как места силы».
Задумавшись, она невольно вздохнула, и Донато тотчас обратился к ней:
— Вы устали, синьорина? Или, может быть, вам плохо?
— Нет, просто не по себе после всего, что произошло. Еще никогда не приходилось видеть так близко кровь, смерть… И печальные мысли одолевают. Мне-то удалось спастись от татар, а вот мои слуги… что с ними? Кто бы мог подумать, что охотники за людьми окажутся так близко?
— Да, чаще они привозят пленников из других земель, а в Таврике продают. Но некоторые особо жадные охотятся и на местных. Симоне рассказывал, что здесь появился какой-то дикий татарин Хаким, который даже беям не подчиняется. Скорей всего, на вас напали разбойники из его ватаги.
— И Заноби упоминал Хакима. Наверное, они связаны между собой. — Марина немного помолчала, искоса поглядывая на Донато. — Татары бы не превратили Кафу в невольничий рынок, если бы им в этом не помогали итальянские купцы и корсары. Я слышала, что на вашей родине, в Италии, много просвещенных людей, они сочиняют стихи, пишут картины, поклоняются всему прекрасному. Отчего же к нам в Таврику попадают совсем другие люди?
— Но разве все знакомые вам итальянцы лишены благородства?
В темноте Марина разглядела, что Донато улыбается, и ей стало неловко, она поспешила ответить:
— О нет, конечно, я этого не хотела сказать! К вам и мессеру Симоне это совсем не относится. Я говорила не обо всех, а о большинстве.
— Нет ничего удивительного в том, что к далеким землям в поисках богатой добычи устремляется много проходимцев. Всегда так было и будет. Но даже корсары и отъявленные головорезы не все такие, как Заноби. Среди них можно встретить весьма неплохих людей. Каждый человек неповторим. И не всех гонит за моря жажда наживы. Бывают путешественники совсем иного рода. У поэта Данте, о котором вы слышали, есть такие стихи:
Земные чувства, их остаток скудный Отдайте постиженью новизны, Чтоб солнцу вслед увидеть мир безлюдный…— Наверное, и вы чувствуете так, как сказал Данте? — спросила Марина с невольным волнением в голосе.
— Нет, это не про меня, — усмехнулся Донато. — Я не столь уж разочарован жизнью, чтобы говорить о «скудном остатке» земных чувств. И меня позвало в дорогу не только желание увидеть мир, но и… нечто другое.
«Может быть, несчастная любовь?» — промелькнуло в голове у Марины, а вслух она сказала:
— Здесь, на чужбине, вы сегодня так рисковали ради меня. А если бы с вами что-то случилось? Ведь в Италии у вас, наверное, осталась семья…
— Не будем говорить обо мне, это совсем неинтересно, — прервал ее Донато. — Лучше поговорим о вас. Вы печалитесь о своих слугах, которые, наверное, попали в плен к татарам, но не вспомнили о женихе… как его имя… кажется, Варадат?
— Он не жених мне, — поспешно заявила Марина. — Отчим с матерью хотели выдать меня за него, но я решительно отказалась, Варадат никогда мне не нравился. К тому же он богатеет на работорговле, а я презираю это занятие. А сегодня в стычке с татарами он проявил себя отъявленным трусом.
— Вы строги в своих суждениях, — с усмешкой заметил Донато. — А если бы я, например, занялся работорговлей или корсарством, вы бы и меня презирали?
— Вас?.. — Марина слегка растерялась. — Но разве вы?..
— Нет, пока еще нет. Я ищу способ иным путем поправить свои дела.
— По всему видно, что вы человек военный. Наверное, хотите служить в гарнизоне консульской крепости?
— Вряд ли это возможно сейчас. Нынешний консул меня не знает. А если он к тому же имеет какие-то выгоды от Заноби Грассо, то мне служба в Кафе не светит. Подожду лучших для себя времен.
— Лучших? А что вы имеете в виду?
— Нынешний консул скоро должен смениться новым. И я знаю, кто будет назначен консулом Кафы на следующий год. Надеюсь, он поможет мне занять достойное место.
— Он ваш друг?
— Нет, мы с ним едва знакомы. Просто Джаноне дель Боско — враг моих врагов, а стало быть, у нас с ним есть нечто общее… Но, однако же, синьорина, я с вами что-то слишком разговорился. Наверное, ночь и пережитые вместе опасности способствуют откровенной беседе. Но, знаете ли, нам лучше немного помолчать. Здесь, в тишине, даже приглушенные голоса далеко разносятся. Мало ли кто нас может услышать? Опасность-то еще не миновала.
Некоторое время путники ехали молча, и скоро Марина стала ощущать, что засыпает на ходу. Усталость, накопившаяся за целые сутки мытарств и душевных потрясений, теперь давала о себе знать. Девушка не заметила, как голова ее склонилась на грудь, глаза закрылись, и сама она едва не упала с лошади. Донато успел удержать ее в седле, и Марина, очнувшись, пробормотала:
— Не пойму, что со мной случилось…
— Вас чуть сон не сморил, что неудивительно. Сегодня на вашу долю выпали такие злоключения, что не всякий мужчина перенесет, а уж хрупкая девушка… Вот что, синьорина. Если мы сейчас не остановимся и хоть немного не отдохнем, наш путь может окончиться плачевно.
— Но где же тут остановиться? — Марина завертела головой. — Домов поблизости не видно…
— Но в поле я приметил стог сена, можно в него зарыться и подремать до рассвета.
Они спешились возле стога, и Донато привязал лошадей к ближайшему дереву. Затем, слегка раздвинув сено в том месте, которое не просматривалось со стороны дороги, он простелил там плащ и предложил Марине забраться в это походное укрытие. Она, немного смутившись, что может здесь оказаться бок о бок с Донато, поспешно спросила:
— А вдруг нас увидят разбойники, пока мы будем спать?
— Спать будете только вы, а я постараюсь отдохнуть с открытыми глазами, чтобы вовремя заметить опасность.
Он сел, прислонившись к стогу на угол от Марины, чтобы видеть одновременно и дорогу, и своих привязанных лошадей. Тогда, уже не сомневаясь, девушка нырнула в предназначенную ей нишу и, блаженно ощутив измученным телом душистую мягкость сухой травы, прошептала:
— О, синьор Донато, даже не знаю, как вас благодарить за все, что вы сделали для меня… Вы сегодня мой ангел-хранитель…
— Погодите меня хвалить. Ангелом-хранителем я стану, если доставлю вас в целости и сохранности в ваш дом. — Он немного помолчал. — Но мне, синьорина, тоже есть за что вас благодарить.
Услышав эти слова, Марина, уже охваченная сонным оцепенением, встрепенулась:
— Благодарить? За что? От меня вам сегодня одни лишь опасные хлопоты и мытарства.
— Зато от вас я узнал о пещере с чудесным знаком. Если бы не вы, то я, может быть, никогда бы ее и не нашел.
— Неужели это для вас так важно? — удивилась Марина.
— Может быть… А скажите, синьорина, вам и вправду там привиделась девушка с золотой чашей?
— Клянусь.
— А как она была одета?
— Как гречанка или римлянка на старинных вазах. А чаша у нее в руках была похожа на ту, что в церкви Святого Стефана… на фреске… — Марину опять начал одолевать сон.
— Да… так и есть. Священная Чаша Грааля…
— Чаша Грааля… — повторила девушка заплетающимся языком. — Я знаю, что у латинян есть такие легенды… многие рыцари ищут Святой Грааль… Наверное, вы тоже…
Стремительно погружаясь в сон, Марина успела услышать тихие слова Донато:
— Нет, я ищу сокровища моих предков.
— Духовные?
— Пожалуй, да…
— Чаша… духовные сокровища… — пробормотала девушка и унеслась в царство Морфея.
Она не видела, как Донато встал и принялся ходить вокруг стога, подставляя лицо прохладному ветерку, чтобы отогнать дремоту.
Скоро неодолимая усталость заставила его сесть, прислонившись к стогу, и Донато решил немного отдохнуть с открытыми глазами. Он был уверен, что не уснет, постоянно пребывая настороже.
Но сон подкрался незаметно и продлился до первых рассветных лучей. Правда, это был чуткий и тревожный сон; едва ощутив на себе чей-то взгляд, римлянин тотчас проснулся и привычным движением потянулся к оружию.
Две пары глаз оглядывали Донато с расстояния примерно двадцати шагов. Он сразу понял, что двое мужчин подозрительного вида подбираются к его лошадям. А еще почти мгновенно узнал в них игроков из таверны Гуччо. Они тоже узнали его, и один сказал другому:
— Гляди, Чоре, да это же тот негодяй, который не дал нам выиграть коня у задиры Бартоло! Пусть теперь отдает нам своих коней, а не то…
Игрок не успел договорить, потому что в следующую секунду Донато прицелился в него из арбалета и приказал:
— Убирайтесь отсюда, пока целы! Предупреждаю: у себя на родине я считался метким стрелком.
Противники были вооружены только кинжалами, а меч и арбалет Донато смиряли их воинственный пыл. Свирепо поглядывая на римлянина, они все же не решались начинать драку.
И в этот миг на дороге появился всадник, в котором Донато еще издали узнал Заноби.
Генуэзец, бросив взгляд на римлянина и двух его противников, быстро оценил обстановку и закричал игрокам:
— Смелее, парни, расправьтесь с этим негодяем, а я помогу! Да еще доплачу вам за смелость!
Донато мгновенно перенацелил арбалет с игроков на Заноби и выстрелил. Но генуэзец успел поднять своего коня на дыбы, заслонившись им, как до этого, в доме отшельника, заслонился телом спящего слуги. Один из игроков, воспользовавшись тем, что противник отвлекся, метнул в него свой кинжал, задев Донато левую руку повыше локтя. Римлянин тут же ответил своей стрелой, которая попала игроку в грудь, заставив его скорчиться и отступить.
Но в этот момент Заноби, выкарабкавшись из-под раненого коня, подскочил к Донато с обнаженным мечом, и вчерашние противники снова скрестили клинки.
Возгласы и лязг оружия разбудили Марину, она выглянула из своего укрытия, и генуэзец ее заметил. Он тут же приказал второму игроку:
— Хватай ее, парень, я тебя щедро награжу!
Игрок бросился к Марине, но Донато успел ударить его по руке мечом, заставив взвыть от боли и выронить кинжал. Но, отвлекшись в сторону, римлянин на мгновение оставил неприкрытым себя самого, чем и воспользовался Заноби, сделав сильный выпад своим мечом. Генуэзец рассчитывал проткнуть противника насквозь, но римлянин успел повернуться боком, и клинок Заноби, соскользнув с широкой пряжки пояса Донато, лишь ранил его в бедро. Однако рана была глубокой, и Донато почувствовал, как кровь заливает его ногу горячей струей. Он знал, что скоро может потерять силы от боли и потери крови, но не подавал виду, чтобы не осмелели два других противника. Один из игроков был ранен опасно, другой — легко, но оба они, видя, что имеют дело с сильным бойцом, не захотели дальше рисковать и, взобравшись на украденных лошадей, покинули поле битвы, хотя Заноби и кричал им вслед, чтобы вернулись.
Марина заметила, что Донато опасно ранен, и страх за него придал ей смелости. Она схватила брошенный одним из игроков кинжал и, оббежав вокруг стога, сзади приблизилась к генуэзцу. Предполагая, что его туловище под камзолом защищено кожаным панцирем, который кинжал не проткнет, девушка вначале хотела ударить Заноби в шею, но, побоявшись промахнуться, изо всех сил всадила ему кинжал пониже спины. Взвыв от внезапной боли, генуэзец обернулся, и в этот миг Донато нанес ему смертельную рану в грудь.
Заноби, словно тяжелый куль, рухнул на землю, но, прежде чем испустить дух, сдавленным голосом пригрозил противнику:
— Ты все равно умрешь! Не знаю, зачем тебе нужна эта девка, но ты зря ее защищал… Тебе не жить… мой клинок отравлен… ты… умрешь…
Услышав эти угрозы, Марина вскрикнула и кинулась к Донато, который, уронив меч, прижал руку к раненому бедру. Кровь тут же просочилась между пальцами. Марина торопливо зашептала:
— Сейчас, сейчас… Надо перевязать раны…
Подняв юбки, она оторвала полосу ткани от своей нижней рубашки и дрожащими руками перевязала вначале рану на бедре, затем другую, менее опасную — на руке.
Задыхаясь от спешки и волнения, она боялась произнести вслух то, что пугало ее более всего, но Донато сам заговорил об этом:
— Ничего, не надо верить его угрозам об отравленном клинке. Разбойник просто хотел перед смертью хоть чем-то меня запугать.
— Да, да, конечно… я не верю, — прошептала Марина, с ужасом заметив, что повязка на бедре слишком быстро пропитывается кровью. — Надо кого-то позвать на помощь… Здесь недалеко должно быть селение. Я пойду поищу людей… Но как вас оставить одного?..
— Постой, Марина. — Он вдруг схватил ее за руку и стал поспешно и сбивчиво говорить: — Не знаю, был ли яд на клинке или просто рана слишком серьезная, но я чувствую, что теряю силы. Если я умру, то ты должна знать… Я тебе завещаю сокровища моих предков… Все равно у меня нет наследников, а ты, морская дева, помогла мне их найти, и тебе сам Бог велел ими владеть. Они там, в той пещере… Только чаши там нет, чашу никто не сможет найти… Но другие сокровища там… Если я умру, они твои… Поклянись, что никому не выдашь тайну пещеры…
Девушка испуганно смотрела на раненого, который говорил о смерти и непонятных тайнах пещеры, и даже не заметила, что в своем лихорадочном состоянии он обращался к ней на «ты».
— Какие сокровища, какая чаша?.. — Марина вытерла взмокший лоб. — Вы бредите, Донато?.. Умоляю вас, не думайте о смерти, вы не должны умереть!
Но раненый, словно израсходовав последние силы на свое бессвязное объяснение, закрыл глаза и впал в забытье.
Марина вскочила на ноги, заметалась, не зная, что делать и куда бежать; вокруг было пустынно, лишь на краю долины просматривались хижины селения. Девушка упала на колени и подняла руки к небу, умоляя всевышнего сохранить жизнь человеку, в одночасье ставшему ее самоотверженным ангелом-хранителем.
И в тот миг, когда она готова была сойти с ума от отчаяния, со стороны дороги раздался конский топот, скрип колес и человеческие голоса. Звуки свидетельствовали о том, что приближается большая группа людей, но кто были эти люди? Марина прижалась к земле, наблюдая из-за высокой травы за дорогой: появится ли на ней купеческий обоз, военный отряд или разбойничья ватага. От этого зависела ее судьба и жизнь человека, который до вчерашнего вечера лишь вызывал у нее затаенный интерес, а теперь стал близок и дорог настолько, что она готова была ради него пойти на любые испытания.
Из-за деревьев показалось несколько всадников, за ними — крытая повозка, затем еще всадники. По одежде Марина поняла, что это греки. Среди них был православный священник и трое монахов. Священник повернул голову, свет упал ему на лицо, и Марина тотчас узнала отца Панкратия.
Стремительно выбежав на дорогу, девушка закричала:
— Отец Панкратий! Помогите, человек умирает!
Священник узнал Марину и что-то прошептал двум ехавшим рядом с ним богато одетым грекам. Девушка остановилась перед всадниками, показывая рукой на раненого и всем своим видом моля о помощи. Она была испугана, бледна, растрепана, в перепачканной одежде, но даже это плачевное состояние не могло скрыть ее красоты. Один из греков, бывший, видимо, главным в отряде, — дородный и важный господин средних лет — посмотрел на Марину сверху вниз и снисходительным тоном спросил:
— Что, красавица, какие-то разбойники ранили твоего дружка?
— Вы ошибаетесь, князь, — вмешался отец Панкратий. — Марина не из тех девушек, которые могут бродить по дорогам с какими-нибудь дружками.
Священник слез с лошади и, подойдя к Марине, отеческим жестом взял ее за плечи.
— Что случилось, дитя мое? Ты попала в беду, когда ехала из обители Стефана Сурожского?
«Значит, он все-таки был там», — невольно отметила Марина и поспешила пояснить:
— На нас напали татары из ватаги Хакима, мне удалось скрыться от них, потом я добралась до хижины Симоне-отшельника. Но Симоне не было дома, зато там его ждали генуэзские разбойники во главе с неким Заноби Грассо.
— Что? Заноби Грассо? — вскрикнул важный грек. — Он где-то недалеко?
— Ближе, чем вы думаете, господин. — Марина показала на труп генуэзца. — Он и его люди хотели меня схватить и продать татарам, но синьор Донато Латино им помешал. Он убил Заноби, но и сам опасно ранен. Умоляю, помогите ему!..
Разглядев бездыханное тело Заноби Грассо, важный грек удовлетворенно хмыкнул:
— Да, это Заноби. Даже не верится, что с этим головорезом наконец-то покончено.
— Видишь, Василий, как удачно начинается для тебя сегодняшний день, — обратился к важному греку его спутник — по всей видимости, родственник или друг.
— Да, Эраст, враг повержен и к тому же руками латинянина. Бог услышал мои молитвы!
Марина вспомнила слова Донато о соперничестве Заноби с князем-феодоритом по имени Василий, и воскликнула:
— Господин Василий, Донато не только убил Заноби, но спас тем самым вас от беды!
И она рассказала о намерении Заноби отравить бея и свалить вину на Василия. Отец Панкратий тут же обратился к князю:
— Долг благодарности велит нам помочь этому человеку. Среди латинян ведь тоже есть благородные люди, и надо их уважать.
— Ну что ж… — князь переглянулся со священником. — Никто не может упрекнуть меня в неблагодарности. Хоть латинянин совершил этот подвиг не ради меня, но я ему все равно благодарен. Пожалуй, возьмем этого раненого в наш обоз.
— Его надо перевязать, он теряет кровь! — воскликнула Марина. — А еще Заноби сказал, что отравил его ядом на лезвии своего меча!
— Среди нас есть лекарь. — Отец Панкратий подозвал пожилого монаха. — Осмотри этого юношу, Тимон, и окажи ему помощь.
Донато перенесли в повозку, и лекарь с помощником стали хлопотать над ним.
— Садись и ты в повозку, Марина, поедешь с нами, — обратился к девушке отец Панкратий.
— А куда вы направляетесь?
— Мы собирались ехать в замок Василия Нотараса возле Алустона, а потом еще дальше — в княжество Феодоро, в Мангуп, — ответил священник, внимательно вглядываясь в лицо девушки, словно изучая ее мысли.
— Но раненый не выдержит такой дальней поездки! — невольно вырвалось у Марины.
— Да, — подтвердил отец Панкратий. — И потому мы с князем решили отвезти раненого в Сугдею, в дом Эраста — двоюродного брата Василия.
Марина забралась в повозку, где лекарь с помощником перевязывали Донато.
Князь, не слезая с коня, громко спросил:
— Что раненый? Будет жить?
Тимон выглянул из-за полога:
— Кровь нам удалось остановить, а дальше все в руках Божиих. Пока невозможно понять, попала ли в рану отрава или нет. Ему сейчас нужен покой.
— До Сугдеи недалеко, там и отлежится, — решил Василий и повернулся к священнику и Эрасту: — А генуэзца оставим здесь, возле дороги. Пусть кто-нибудь из проезжих найдет его тело. Но никто не должен знать, что я тут был и взялся спасать человека, убившего Заноби.
Отец Панкратий кивнул в сторону повозки:
— За монахов и эту девушку я ручаюсь, они никому не скажут.
— Я тоже уверен в своих людях, — заявил князь. — Надо спешить, пока нас тут не заметили.
Отец Панкратий сел в повозку рядом с Мариной, и обоз тронулся в путь.
Девушка тревожно вглядывалась в бледное лицо Донато, и каждый ухаб, каждый камень, на котором подскакивала повозка, словно причинял ей боль.
Тимон поднес к запекшимся губам раненого бальзам и, качая головой, вздохнул:
— Только бы рана не воспалилась… Если начнется лихорадка — дело худо…
— Но ведь не может быть, чтоб меч был отравлен? — с надеждой спросила Марина. — Разбойник просто хотел нас напугать.
— Наверное, главный яд был в его словах, — заметил отец Панкратий. — Иногда людская ненависть и злоба бывают сильней цикуты.
— Рана может воспалиться не только от яда, — пояснил лекарь. — К тому же парень ослабел от потери крови. Понадобится время, чтоб его вылечить.
— Сколько времени? — уточнил отец Панкратий.
— Может быть, месяц, — ответил Тимон.
Марина осторожно коснулась лба Донато и тут же испуганно прошептала:
— Кажется, у него начинается жар…
И, словно в ответ на ее прикосновение, раненый вдруг бессвязным шепотом пробормотал:
— Чаша… Морская дева… Сокровища…
Отец Панкратий, прислушавшись, удивленно взглянул на Марину:
— Не знаешь ли, о чем он говорит? Какая чаша, какие сокровища?
— Не знаю, я тоже не поняла, — рассеянно откликнулась девушка, не отводя взгляда от лица Донато. — Он и вчера что-то говорил о чаше, о духовных сокровищах предков… Может, он из тех рыцарей, которые ищут Чашу Грааля?
— А морской девой он называет тебя?
— Меня? Нет, не думаю…
Отец Панкратий немного помолчал, потом вдруг заговорил с Мариной на славянском наречии. Девушка мимоходом отметила, что священник, владевший многими языками, сейчас не хочет, чтобы их разговор понял кто-либо, кроме нее. Она бы, наверное, удивилась этому, если бы все ее мысли не были заняты опасным состоянием Донато.
— Наверное, он дорог тебе? — спросил отец Панкратий, кивая на раненого. — Я вижу, что ты очень тревожишься о нем.
Марина ответила тоже по-славянски:
— Но как же не тревожиться о человеке, который сегодня дважды спас меня от генуэзских разбойников? Он рисковал жизнью из-за меня, и вот теперь… — Она закусила губу, чтобы не заплакать.
— Да, рисковал жизнью, и это свидетельствует о том, что ты ему не безразлична. Но откуда он тебя знает? Вы с ним раньше встречались?
— Да, но мельком, в аптеке Эрмирио и в церкви Святого Стефана.
— Этот генуэзец ходил в православный храм? — удивился священник.
— Донато не генуэзец, а римлянин. А в храме он разглядывал фреску с изображением Чаши. Мне кажется, он благородный человек, занятый духовными изысканиями.
— Очень странно… Так ты думаешь, что он вступился за тебя из благородства? — Священник помолчал, словно раздумывая. — Но ты должна мне все рассказать подробно. — Что произошло в доме Симоне, как вы с Донато оказались на дороге в Сугдею, кто еще был свидетелем этой драки?
Марина готова была рассказать все, как на исповеди, но вспомнила, что Донато, теряя сознание, успел попросить ее никому не выдавать тайну пещеры. Эта непонятная ей тайна невидимой нитью соединяла их с римлянином, и девушка не хотела ее разрывать. И потому в своем рассказе она не упомянула о том, что пещера, послужившая ей укрытием, была отмечена особым знаком, вызвавшим странный интерес у Донато.
Выслушав рассказ Марины о событиях в доме отшельника и на дороге, отец Панкратий озабоченно вздохнул:
— Плохо, что те двое игроков остались живы и могут добраться до Кафы, рассказать, что Донато убил Заноби Грассо.
— Но ведь он же убил его в честном поединке!
— Это неважно. Главное, что он первым обнажил оружие против генуэзца. А Заноби Грассо на хорошем счету у консула.
— Этот разбойник?!.
— Дитя мое, тебе еще многому в жизни предстоит удивляться. Да, разбойник, но консул и его чиновники ценили Заноби, который то хитростью, то силой прибирал к рукам землю в приграничных с Феодоро областях. Подозреваю, что нынешний консул еще имел какие-то выгоды от Заноби. Так что вряд ли Донато может рассчитывать на благосклонность кафинских властей. Наверное, ему опасно будет возвращаться в Кафу…
Марина, не желавшая даже допустить мысли, что Донато придется уехать, навсегда исчезнув из ее жизни, поспешно возразила:
— Это сейчас опасно, но ведь скоро в Кафе будет другой консул, у которого Донато может оказаться на хорошем счету.
— Откуда ты знаешь? Он тебе говорил? А не называл ли имя следующего консула?
— Да, называл. Кажется… Джино… нет, Джаноне… Джаноне дель Боско.
— Джаноне дель Боско… И у нас такие сведения, — чуть слышно пробормотал отец Панкратий.
Несколько мгновений длилось молчание, потом Марина решилась спросить у лекаря:
— А почему раненый не приходит в себя? Ведь не может это быть из-за лихорадки или потери крови? Неужели все-таки яд?..
— Негоже девицам проявлять такое любопытство в вопросах, которыми ведают только ученые медики, — поджав губы, ответил Тимон. — Но скажу тебе одно: он мог лишиться чувств не только из-за раны, но также из-за душевных потрясений. Иногда Бог дает человеку забвение, чтобы тот не так остро ощущал телесную и душевную боль.
Марина вздохнула и больше ни о чем не спрашивала монахов, а только беззвучно молилась, уповая на чудо и волю Всевышнего.
Отец Панкратий, внимательно посмотрев на девушку и словно прочитав ее мысли, заметил:
— Искренние молитвы всегда дойдут до Бога. Но, пока Донато будет лежать в доме Эраста, понадобятся не только молитвы, но и лечение, уход. Ты ведь не откажешься помочь лекарям ухаживать за раненым?
— Конечно. Вот только… — Марина на мгновение задумалась. — Только если я буду какое-то время жить в Сугдее, моя мама и другие домашние будут тревожиться, искать меня. Надо же им сообщить, где я.
— Не беспокойся, им сообщат.
— Кто? Вы, отец Панкратий?
— Нет, сам я в ближайшее время не поеду в Кафу, мой путь лежит во владения князей Феодоро. Но я направлю в Кафу послушника Иакова, который все расскажет Таисии.
— Спасибо вам, отче, что заботитесь обо мне и о Донато.
— Долг пастыря — заботиться о тех, кто попал в беду, — изрек священник торжественно, как на проповеди. — Надеюсь, что и ты, Марина, не забудешь о своем долге православной христианки, когда придет час.
Девушка тут же вспомнила обещание, данное Рузанне, и ответила с простодушной искренностью:
— Я во всем буду следовать вашим советам и наставлениям, отче!
— Верю, верю, — пробормотал отец Панкратий, и на его всегда строгом лице появилось подобие улыбки. — Я буду молиться за твоего спасителя Донато. Может, уже совсем скоро его здоровье пойдет на поправку. Ведь сразу видно, что он крепкий мужчина, бывалый воин.
Марина с благодарностью взглянула на священника и еще раз мысленно пообещала Рузанне во всем его слушаться.
Глава седьмая
Три дня раненый метался в лихорадочном бреду, потом жар пошел на убыль, наступило облегчение, и утром, когда первые лучи солнца заглянули в окно, Донато открыл глаза и посмотрел на мир уже не затуманенным, а осмысленным взглядом.
В этот момент возле его постели находился послушник Никанор — помощник Тимона, и он поспешил известить лекаря, что больной очнулся. Крики Никанора услышала также и Марина, которой в доме Эраста отвели комнату рядом с той, где лежал Донато.
Девушка накинула на плечи шаль и пошла вслед за лекарями. Она услышала, как Донато спросил у склонившегося над ним Тимона:
— Где я? Что со мной?
— Ты в доме благочестивых христиан, и мы лечим твои раны, — сдержанно пояснил строгий лекарь.
И тут Донато увидел застывшую на пороге Марину. В его глазах появился живой блеск, а в голосе прозвучало радостное удивление:
— Марина! И ты здесь?
— А где же мне быть, разве я могла оставить своего спасителя? — Она сделала несколько шагов к его постели. — Мы с вами в Сугдее, в доме греческого купца Эраста. На наше счастье, мимо того места, где вы дрались с Заноби, проезжали добрые люди, среди них был священник из Кафы отец Панкратий, который хорошо знает нашу семью. А во главе отряда был тот самый феодорит Василий, с которым враждовал Заноби.
Тимон велел послушнику позвать Василия и отца Панкратия, но их в доме не оказалось, они с утра пошли в церковь.
Вообще после прибытия в Сугдею, в дом Эраста, Марина почти не виделась с отцом Панкратием, постоянно занятым какими-то делами. Других же обитателей дома она не знала и, замечая, что они неохотно отвечают на ее вопросы, перестала с ними заговаривать. Делами в доме заправляла жена Эраста — весьма надменная и капризная дама, которой явно не пришлось по вкусу присутствие нежданных и весьма необычных гостей. Однако перечить Василию, князю и главе родового клана, никто в этом доме не смел. Зато, как заметила Марина, на князя большое влияние имел отец Панкратий; раньше она считала его просто кафинским священником, теперь же поняла, что у этого человека есть какая-то тайная власть, что к его голосу прислушиваются люди, наделенные титулами, землями и богатствами.
Видимо, именно по совету отца Панкратия и распоряжению князя к Марине и Донато со вниманием отнеслись в доме Эраста. Их поместили в хорошие комнаты, за раненым был обеспечен надлежащий уход, возле его постели постоянно кто-нибудь дежурил. Марине сразу по приезде предоставили возможность помыться и сменить свою грязную и порванную одежду на новое платье, затем служанка принесла ей в комнату еду. Но, несмотря на внешнее проявление гостеприимства, Марина чувствовала себя неуютно в этом чужом доме, где и хозяева, и слуги смотрели на нее с оттенком подозрения. Большую часть времени девушка проводила у постели Донато, а когда ее сменяли лекари и слуги, читала в своей комнате псалтырь или бродила по саду, окружавшему дом Эраста. Выходить же за пределы двора ей с самого начала не велел отец Панкратий, объясняя это тем, что в городе ее появление может вызвать излишнее любопытство. Вообще же в этом доме было слишком много тайн — во всяком случае, так казалось Марине. Она несколько раз порывалась подойти с расспросами к отцу Панкратию, но он постоянно куда-то исчезал. И тогда девушке пришло в голову, что священник просто выжидает, чем закончится метание Донато между жизнью и смертью. Возможно, если раненый выживет, отец Панкратий всерьез поговорит с Мариной о ее и его судьбе, и кто знает, не приоткроет ли какую-нибудь из тайн?..
И вот наконец мучительные три дня неопределенности закончились. Девушка поняла это в ту минуту, когда ее глаза встретили такой долгожданный, ясный и осмысленный взгляд рыцаря, защитившего ее жизнь и честь.
— Если я выжил, значит, яд был не на лезвии, а только в словах Заноби. — Донато улыбнулся и даже попытался приподняться, но Тимон его тотчас удержал со словами:
— Лежи, ты слаб еще. Благодарение Богу, что хоть выжил, но силы тебе еще придется восстанавливать.
Лекарь послал послушника на кухню, чтобы оттуда принесли раненому бульон, вареное мясо и фрукты.
А через минуту за дверью раздался капризный голос хозяйки дома, и скоро она сама появилась на пороге.
— Ты мне нужен, Тимон, — объявила супруга Эраста лекарю. — Я мучаюсь от головной боли, приготовь мне бальзам для растирания висков. Я вижу, раненому уже лучше, так что тебе тут необязательно дежурить, пусть с ним девушка посидит, — она кивнула на Марину.
Лекарь вышел, Донато с Мариной остались в комнате вдвоем. Он улыбнулся ей и попросил:
— Сядь возле меня.
— Охотно, синьор. — Она присела на край кровати.
— Марина, после стольких испытаний, пережитых вместе, мы уже можем обращаться друг к другу на «ты». — Он взял ее за руку. — Ты согласна?
— Не знаю, удобно ли это. — Марина почувствовала, как он сжал ее пальцы, и невольно ответила на это пожатие. — Впрочем, я согласна.
— Ты ведь не уедешь отсюда, пока я не окрепну и не стану таким, как раньше?
— Конечно, обещаю.
— Мы потом вместе поедем в Кафу, ведь так?
— Но отец Панкратий говорил, что пока это опасно, вас… тебя могут обвинить в убийстве Заноби.
— Ну, тогда я поеду немного позже, когда будет безопасно. Но к той пещере… к тому месту силы ты ведь меня проведешь?
— Да, как только вы… ты окрепнешь.
— Кстати… — Он слегка нахмурился. — Я, наверное, в бреду что-то говорил о пещере и еще о чем-нибудь таинственном?
— Да, ты говорил о каких-то сокровищах, о чаше, о морской деве. Я решила, что речь идет о Чаше Грааля и священных реликвиях. Я и отцу Панкратию так пояснила. Я ведь читала о рыцарях, которые по всему свету ищут духовные святыни.
— Все правильно, дитя мое. — Донато улыбнулся. — В прошлом веке таких рыцарей было немало, теперь же почти не осталось. Но я готов быть последним из них. А морской девой я назвал тебя. Ведь твое имя — Марина — на латыни означает «морская». И моя жизнь связана с морем. В нашей семье из поколения в поколение передавалась легенда, будто основателем рода Латино был некто Маритимус — человек, приплывший в Рим из-за моря. И кажется, это было Понтийское море.
— Понтийское? То есть — наше море, Черное?
— Да, ваше. Мы называем его еще Греческое или Маре Маджоре, а турки — Карадениз.
— У него также было название Русское море, потому что русичи много по нему плавали.
— Я знаю, что ты принадлежишь к народу русичей. У нас, в католических странах, многие считают русов чуть ли не скифами или татарами. А на самом деле вы вот какие — светловолосые, белокожие… и черты лица у вас не азиатские, а как у норманнов, только мягче. А ты помнишь те места, где родилась?
Девушка ничего не успела ответить, потому что вошел Никанор, принесший еду в корзине. Марина тотчас выдернула свою руку из руки Донато и спросила:
— Вам помочь, синьор?
— Не надо, я уже сам способен держать ложку, — усмехнувшись, ответил раненый. — А Никанор поможет мне помыться и сменить одежду.
Он дал понять девушке, чтобы она вышла, и Марина удалилась в свою комнату.
Душа ее ликовала, рука все еще ощущала прикосновение теплых пальцев Донато, в ушах звучал его голос. «Он выжил, он будет жить!» — повторяла она про себя, и именно это было для нее самым главным. Ей хотелось кружиться, петь и мысленно перебирать каждое слово, сказанное Донато…
Но вдруг Марина вспомнила об отце Панкратии — и тут же ее бурная радость утихла, словно речка, вернувшаяся после весеннего половодья в свои берега. Вряд ли строгий пастырь одобрит ее увлечение чужеземцем-католиком; скорее, назовет его греховным и запретит девушке даже думать о Донато как о мужчине. И ей придется смириться с этим запретом, — ведь она дала слово Рузанне во всем быть послушной отцу Панкратию, и к данному слову теперь еще прибавился долг благодарности священнику, который в тяжкую минуту спас ее и Донато.
И вдруг, словно угадав ее раздумья и сомнения, на пороге комнаты появился отец Панкратий и позвал девушку для важного разговора с глазу на глаз. Они прошли в сад и сели на скамью, огороженную шатром из дикого винограда. Солнце просвечивало сквозь золотую и багряную листву, прохладный ветер издали доносил запах моря. Марина почему-то подумала о том, что было бы очень интересно посмотреть город Сугдею-Сурож, побродить по его улицам… вместе с Донато. Отец Панкратий заметил, что девушка, слегка жмурясь от солнца, мечтательно смотрит вдаль, и сказал с непривычной для него мягкостью в голосе:
— Да, дитя мое, тебе много пришлось испытать в последние дни. Больше, чем за всю твою спокойную и пока еще детскую жизнь в Кафе.
— Никогда не думала, что моя поездка окажется такой страшной… — Марина порывисто повернулась к священнику. — Скажите, отче, ваш послушник уже передал в Кафу, что я жива и невредима? А что с людьми, которые меня сопровождали?
— Конечно, передал, успокоил мать и всех домашних, а о судьбе твоих спутников пока ничего не известно, — ответил отец Панкратий с некоторой поспешностью. — Слава Богу, для тебя все закончилось хорошо, и твой спаситель Донато выжил. Теперь его здоровье пойдет на поправку, и я за него спокоен. — Он сделал паузу и внимательно посмотрел на Марину. — Но настало время нам с тобой серьезно поговорить об этом человеке и о многом другом. Ты готова воспринять мои слова?
— Слушаю вас, отче. — Марина сложила руки на коленях и слегка потупилась. — Я готова слушать вас всегда и во всем.
— Надеюсь, Марина, я не зря учил тебя никогда не забывать о долге православной христианки.
«Вот оно, начинается! — пронеслось у нее в голове. — Сейчас я услышу о том, что недопустимо православной девушке сближаться с латинянином, даже самым благородным».
— Верю, что ты не забываешь, — продолжал отец Панкратий. — И потому должна знать, что сейчас православный мир находится в опасности.
Марина почувствовала облегчение оттого, что речь пойдет не о Донато, и, вздохнув, сказала:
— Увы, я мало смыслю в таких важных делах, отче, но, если вы мне объясните, то все надеюсь понять.
— И я на это надеюсь, потому что ты умная, пытливая девушка. Недаром же тебе нравится читать книги, в то время как большинство других женщин даже грамоты не знают. — Священник помолчал, перебирая четки и искоса поглядывая на собеседницу. — Хочу сказать тебе о православном княжестве Феодоро, в котором я родился.
— Княжество Феодоро? — живо откликнулась Марина. — Рузанна… сестра Руфина говорила мне, что Феодоро — словно продолжение Византии здесь, в таврийских землях.
— Да. Когда в начале прошлого века Константинополь был завоеван крестоносцами, многие православные люди переселились в Таврику, основав княжество Феодоро со столицей Мангуп. Но теперь над этим оплотом нашей веры нависла страшная тень. Генуэзцы захватили побережье и все дальше оттесняют феодоритов в горы, а на равнинах хозяйничают татары Мамая. И от Византийской империи мы не можем ждать помощи, потому что сейчас она и сама ослаблена распрями, и турки ей угрожают. А в Константинополе все большую власть забирают в свои руки генуэзцы. Когда-то византийский император сам позволил им свободно торговать на Черном море и расширить свою колонию в Константинополе. И сделал он это в награду за то, что генуэзцы помогли ему отвоевать православную столицу, захваченную другими латинянами, среди которых было много венецианцев. Теперь же все переменилось, и венецианцы даже стали нашими союзниками в борьбе с генуэзскими хищниками. Да, дитя мое, в делах державных нет вечных друзей и врагов.
Марина слушала внимательно и старалась вникнуть в смысл речей отца Панкратия, хотя они были ей не очень интересны. Княжество Феодоро казалось девушке далеким и непонятным, но все же она невольно посочувствовала феодоритам и спросила:
— Но неужели у княжества нет никакой надежды уцелеть?
— Какое-то время мангупским князьям казалось, что надежды нет. Они даже спрятали далеко в горах священную реликвию феодоритов — золотую колыбель. Но нашлись в Константинополе и Мангупе мудрые люди, которых Бог просветил, как спасти православный мир от уничтожения. И главная наша надежда на союз с единоверцами — православными русичами. Ты ведь тоже принадлежишь к этому народу, Марина?
Девушка еще не поняла, к чему клонит священник, но вспомнила, что похожие слова слышала от Рузанны, и спросила напрямик:
— Наверное, вы хотите приобщить меня к той миссии, о которой хлопотали в монастыре Сурб-Хач и обители Стефана Сурожского?
— Ты разве видела меня там? — Отец Панкратий был явно удивлен. — Что ж, твои выводы лишний раз убеждают меня, что ты сообразительная девушка. Это хорошо. Значит, все правильно поймешь. Ты славянка и не должна забывать, что татары во главе с Батыем когда-то растоптали твою землю, поработили твой народ. А теперь по стопам Батыя идет Мамай. Русь платит дань Орде, но копит силы, чтобы освободиться от ига. Мамай такой же враг русичам, как и феодоритам. А генуэзцы — союзники Мамая, они снабжают его деньгами и оружием. Тебе все понятно?
— Вы хотите сказать, что если я славянка, то должна питать вражду к татарам и генуэзцам? — слегка растерялась Марина. — Но у нас в Кафе живут разные люди, и я ни с кем не враждую. Среди моих подружек есть одна татарка — Фатьма. А вот знахарь Симоне и его сын Томазо — генуэзцы, но совсем не плохие люди.
— Что ты, дитя, я не призываю тебя к вражде! — запротестовал священник. — Отношения между людьми — это одно, а дела государственные или церковные — совсем другое. Но ты должна понимать эту разницу, Марина.
— Хорошо, я постараюсь понять. Вы говорили, что православные княжества Феодоро и Руси должны действовать заодно?
— Правильно. Но на Руси не все так просто. Там иные князья видят свою выгоду в союзе с генуэзскими купцами. И, если эти сторонники пересилят, то Русь может даже окатоличиться, как это уже случилось с Литвой. А феодоритские князья и священники стараются укрепить русичей в православной вере и объединить их на борьбу с Мамаем. И они добьются своего — не деньгами, не оружием, но духовным убеждением. Ведь от божественного духа идет вся сила, которая потом движет народами и армиями. Впрочем, тебе еще предстоит узнать об исихастах — безмолвствующих.
Марина вспомнила, что похожие слова слышала от Рузанны:
— Сестра-монахиня тоже говорила мне о божественном озарении, о безмолвной молитве.
— Ты в полной мере это поймешь, когда побываешь в Феодоро.
— Разве я должна там побывать?
— Но ты же знаешь, что при нынешнем консуле вам с Донато возвращаться в Кафу небезопасно. Вот месяца через три-четыре, когда займет свое место Джаноне дель Боско, вы вернетесь. А пока для вас будет самым разумным переждать неспокойное время в Мангупе. Князь Василий Нотарас уже сообщил об этом своему влиятельному родственнику Косме Гаврасу, в доме которого вы и остановитесь.
— Но мама не разрешит мне поехать так далеко.
— Она не будет против, я ей все объясню, — поспешно заверил священник.
— Но почему мангупские князья проявляют такое гостеприимство? — удивилась Марина. — Они не знакомы ни со мной, ни с Донато… Неужели только в благодарность за то, что Донато убил Заноби?
— Это я убедил их повезти вас в Мангуп. Поверь, дитя, так надо. Ты ведь обещала верить мне во всем и следовать моим советам?
Девушка молча кивнула.
— Скажу тебе больше, — продолжал отец Панкратий. — Поездка в Феодоро нужна не только ради вашей безопасности, но и чтобы вы с Донато лучше узнали друг друга, прониклись взаимным доверием.
Марина даже вздрогнула, удивленная этими словами:
— Вы думаете, что я и Донато?..
— Да, дочь моя, я вижу ваши взаимные чувства и не считаю их греховными, — мягким голосом сказал священник. — Бывают случаи, когда церковь позволяет заключать браки между православными и латинянами.
— Заключать браки?.. — Марина вконец растерялась. — Да почему же вы считаете, будто Донато хочет жениться на мне?
— Если латинянин так рисковал жизнью ради тебя, это может свидетельствовать только об очень сильных чувствах. Да и неудивительно, что ты ему понравилась, ведь ты красивая и умная девушка. Я думаю, что когда он узнает тебя поближе, то влюбится еще сильней. И если вы решите пожениться, я благословлю ваш брак.
Марина сидела как громом пораженная. Еще несколько минут назад она боялась, что строгий пастырь запретит ей даже думать о Донато, теперь же он сам будто подталкивал ее к возможному браку с римлянином. Но девушка инстинктивно ощущала, что за всем этим кроется какой-то неведомый ей замысел, нечто большее, чем простая снисходительность священника к чувствам молодых людей. Немного подумав, она решилась задать прямой вопрос:
— Скажите, отче, вы ведь недаром сначала говорили мне о православном долге, а теперь — о моих отношениях с Донато?
Священник пригладил бороду и, как показалось Марине, даже усмехнулся в усы. Он не сразу взглянул в глаза собеседнице и ответил лишь после некоторого молчания:
— Да, Марина, ты верно угадала: между предметами моих рассуждений есть связь. И, рано или поздно, я должен открыть тебе свой замысел. Так вот. Нам, феодоритам, очень важно знать о намерениях генуэзских властей. Именно в Кафе будет готовиться поход Мамая на Русь. Но в окружении кафинского консула пока нет близких нам людей. Ты понимаешь, к чему я веду?
— Кажется, понимаю… Вы хотите, чтобы таким человеком стал Донато.
— Да. Теперь ты видишь, Марина, насколько я доверяю тебе, юной и неопытной девушке, если говорю с тобой на такие темы? Но ты поклялась во всем следовать моим советам. И как бы дальше все ни сложилось, ты должна сохранять в тайне наш разговор.
— Обещаю вам, отче. Только я совсем не уверена, что Донато согласится помогать феодоритам.
— Но у него нет причин отказаться. Он римлянин, а не генуэзец, он не присягал генуэзскому дожу, он приехал в Таврику за удачей и богатством, а еще — как ты считаешь — в поисках Чаши Грааля и других духовных реликвий. Объясни ему, что все это он найдет, если согласится помочь православному княжеству. Когда он поступит на службу к Джаноне дель Боско, то будет получать жалованье не только от консула, но и от нас. А побывав в Феодоро, он убедится, что именно в нашем княжестве остались самые верные следы Святой Чаши. Латинские поэты придумали, будто Чашу надо искать в западных странах, на самом же деле она изначально хранилась здесь, на православном востоке.
— Все это слишком сложно и спорно… — вздохнула Марина. — Поверит ли Донато таким объяснениям?
— А это во многом будет зависеть от тебя. Влюбленный мужчина обязательно прислушается к словам любимой девушки, особенно если она будет говорить горячо и уверенно, с огнем в глазах. Постарайся быть убедительной, но для этого ты сама должна быть убеждена в своей правоте.
Марине приятно было слышать, что отец Панкратий называет ее любимой девушкой Донато, но в глубине души она почему-то сомневалась в чувствах римлянина к ней. Слишком загадочным казался ей этот мужчина, о котором она почти ничего не знала и душа которого была закрыта для нее, как потайной ларец.
Задумавшись, она не сразу откликнулась на прямой вопрос священника:
— Так ты согласна следовать моему плану, Марина? Или тебе не хочется сближаться с этим римлянином?
Она пробормотала что-то неопределенное.
— Впрочем, я не тороплю тебя с ответом, подумай до завтра. — Отец Панкратий покровительственным жестом тронул ее за плечо. — Спроси свое сердце и разум.
Марина и без раздумий знала, что сердце ее согласно, но стеснялась об этом говорить, поскольку еще не была уверена в ответных чувствах Донато.
— Слишком все неожиданно, отче: тайная миссия, поездка в Феодоро… Я не могу так сразу все решить. Можно мне сегодня пойти в церковь помолиться? Пусть Бог меня вразумит.
— Тебе просто хочется посмотреть город? — он слегка улыбнулся. — Хорошо, мы вместе пойдем в церковь Святой Параскевы. Молись и в храме, и дома, это благое дело.
На том разговор был окончен, и отец Панкратий оставил девушку в раздумьях.
Теперь, после объяснений священника, Марине многое стало ясно. Она поняла, что их с Донато хотят использовать в сложной политической игре, которую здесь, в Таврике, вели между собой греческие князья, генуэзские купцы и татарские беи. А главным полем этой кровавой игры должны были стать земли далекого северного княжества, где жили единокровные Марине русичи. Столь неожиданные повороты судьбы пугали девушку, и порой она чувствовала себя щепкой, подхваченной бурным потоком, но мысль о том, что отец Панкратий — святой человек, который не может посоветовать плохого, ее успокаивала.
И сейчас Марина уже не удивлялась тому, что греки старались сделать незаметным пребывание ее и Донато в доме Эраста. Ведь Сугдея, как и Кафа, была владением генуэзцев, и отец Панкратий опасался генуэзских чиновников и шпионов, которые могли помешать той тайной миссии, к которой он хотел привлечь Донато и Марину.
Но уже на следующий день девушка убедилась, что, несмотря на все предосторожности, в городе нашелся человек, узнавший римлянина.
Это случилось утром, когда Марина, готовясь дать окончательный ответ отцу Панкратию, решила войти к Донато и попытаться хотя бы намеками распознать его чувства к ней.
Она застала раненого уже не в постели; он стоял возле окна, опираясь здоровой рукой о стену, и, отодвинув занавеску, смотрел на улицу.
— Зачем вы встали?.. Зачем ты встал? — забеспокоилась девушка, кинувшись к нему. — Разве врач уже разрешил вставать?
— Марина! — обрадовался он. — А что же ты вчера вечером не зашла меня проведать?
— Я была в церкви с отцом Панкратием, — сказала она, отводя взгляд от его искрящихся черных глаз. — Ну, довольно стоять, ложись в постель, ты еще слаб.
— Слаб, говоришь? Ну, тогда помоги мне добраться до постели.
Он крепко обнял Марину за талию и, чуть прихрамывая на раненую ногу, отошел от окна и сел на кровать. Марину он не выпустил, и ей пришлось сесть рядом. Осторожно освободившись от его объятий, она заставила раненого лечь и строго ему сказала:
— Твои раны еще не зажили, а от потери крови у тебя может закружиться голова, поэтому пока не вставай, если находишься в комнате один.
— Спасибо за заботу, мой милый лекарь, — улыбнулся Донато.
— Могу ли я не заботиться о своем спасителе? — Марина улыбнулась в ответ.
— Не только я твой спаситель, но и ты моя спасительница. Ведь это ты помогла мне нанести решающий удар Заноби, а потом ты же позвала на помощь греков. Если бы не твое мужество, я бы тогда отправился в мир иной.
«А ведь и правда — мы спасли друг друга», — подумала Марина, радуясь, что взаимная благодарность навсегда связала ее с Донато.
Он вдруг попросил ее:
— Наклонись ко мне, я что-то хочу сказать тебе по секрету.
— Любопытно, что за секрет?
Она наклонилась, а он вдруг обнял ее, притянул к себе и крепко поцеловал в губы.
Марина никогда раньше по-настоящему не целовалась с мужчинами. Те легкие, полушутливые поцелуи, которые срывали с ее уст юнцы во время танцев на городских праздниках, были не в счет, и она это поняла сейчас, испытав волнующее, ни с чем не сравнимое чувство. В поцелуе Донато угадывалась настоящая мужская страсть, опыт и сила. «Что это, если не любовь? — подумала девушка с замиранием сердца. — И эту любовь готов благословить даже суровый отец Панкратий!»
Слегка задохнувшись, она оторвалась от Донато и тут же услышала за спиной веселый мужской голос:
— Я вижу, приятель, ты здесь не скучаешь, о тебе есть кому позаботиться!
Вздрогнув, Марина оглянулась на вошедшего. Это был молодой генуэзец среднего роста и ничем не примечательной наружности. Он смотрел на Донато и Марину смеющимся взглядом и, судя по всему, сразу же сделал вывод об их любовной связи.
— Нефри? — удивился Донато. — Откуда ты узнал, что я здесь?
Генуэзец подошел ближе, а Марина, поднявшись с кровати, пересела на стул.
— Я нашел тебя случайно, — пояснил Нефри. — Купец, у которого я остановился, живет на соседней улице, и мне не раз приходилось бывать возле дома Эраста. Я знаком с его управляющим, мы вместе любим захаживать в один трактир. На днях он мне проговорился, что у хозяина в доме находится раненый латинянин и красивая девушка из Кафы. — Нефри повел глазами в сторону Марины. — А сегодня утром, направляясь в порт, я случайно поднял глаза и увидел тебя в окне, но не успел окликнуть. Я засомневался, ты ли это, и решил проверить. Хозяев в доме не оказалось, а слуги меня задерживать не стали, я сказал, что ты мой друг и ждешь меня.
Марине показалось, что словоохотливый генуэзец не очень-то обрадовал римлянина своим визитом. Однако Нефри, видимо, этого совсем не заметил, либо посчитал недовольное выражение лица Донато признаком болезни, и с надлежащей долей сочувствия спросил:
— Кто же тебя так серьезно ранил? И где это случилось?
— Я сам не знаю, кто были эти разбойники, которые напали на меня по дороге в Солдайю, — уклончиво ответил Донато.
— Управляющий Эраста сказал по секрету, будто тебя ранили, когда ты защищал эту милую девушку. — Нефри лукаво подмигнул Марине: — В этом доме вас, синьорина, считают невестой Донато, хоть вы и гречанка.
— Я не гречанка, — тихо откликнулась Марина.
— Да? Ну, не важно, — сказал генуэзец. — Вообще-то вы похожи на венецианку, там тоже много золотоволосых. Если бы кое-кто в Генуе узнал, какие подвиги ты совершаешь ради таврийской красавицы, то…
— А ты скоро едешь в Геную? — прервал его Донато.
— Да, уже завтра, дела торопят. Очень рад, что перед отъездом успел с тобою повидаться. Жаль, конечно, что ты сейчас не при здоровье и не можешь выпить со мной доброго вина в таверне. Ну да ничего, говорят, тебя здесь лечит ученый греческий медик Тимон. Впрочем, лекари всех племен и сословий одинаковы: первым делом пускают больному кровь, а потом пичкают горькими настойками. У тебя же, приятель, кровопускание случилось и без вмешательства лекарей, так что есть надежда на твое скорое выздоровление. Особенно если здесь за тобой будет такой приятный уход. — Он снова стрельнул глазами в сторону Марины.
Донато натянуто улыбнулся и ничего не ответил.
Однако Нефри, совершенно не замечая, что собеседник устал от его болтовни и определенно ею тяготится, продолжал расспрашивать:
— А как получилось, что именно Эраст с родичами тебя спас и оставил в своем доме на лечение? Ведь этот грек, как и всякий купец, ничего даром не делает — тем более для незнакомого человека, чужеземца. Или ты пообещал ему хорошо заплатить? Или собираешься поступить к нему на службу?
Но в этот момент на пороге появился отец Панкратий и избавил Донато от необходимости отвечать.
— Послушайте, господин купец, — обратился священник к Нефри, — раненого нельзя беспокоить долгими разговорами. Здоровье Донато еще не поправилось, и медики запрещают пускать к нему гостей. Но, коль уж вы случайно проникли в дом, то так тому и быть, вам позволили немного побеседовать с вашим знакомым. Однако теперь довольно, я прошу вас покинуть эту комнату. Придете позже, когда Донато окрепнет.
— Да я пришел попрощаться, — пояснил Нефри, немного смущенный строгим тоном священника. — Завтра с утра отправляюсь в Геную и вряд ли скоро увижусь с Донато.
— Я рад был видеть тебя, Нефри, — слегка улыбнулся раненый. — Счастливой тебе дороги!
— Выздоравливай, Донато, и старайся лечиться только приятными средствами. — Нефри подмигнул ему и, оглянувшись на Марину, добавил: — Вы уж поухаживайте за моим приятелем. Всех вам благ, синьорина! И вам, святой отец.
После ухода генуэзца в комнате на несколько мгновений повисла странная тишина. Марина чутьем угадывала, что визит Нефри отнюдь не обрадовал Донато, хотя и не могла понять почему. Сама же она чувствовала смущение и досаду из-за игривых намеков Нефри, который оказался свидетелем ее поцелуя с Донато. Что касается отца Панкратия, то он, видимо, просто был огорчен тем, что не удалось сохранить в тайне от всех генуэзцев пребывание Донато в доме Эраста.
— Слава Богу, что этот проныра завтра уезжает, — пробормотал священник, бросив недовольный взгляд на дверь, за которой скрылся генуэзец.
— Нефри безобиден, но слишком болтлив, — сказал Донато. — Мы с ним не на такой уж короткой ноге, но он всех своих знакомых называет друзьями и приятелями. А мне бы не хотелось, чтоб он, приехав в Геную, рассказывал, что я попал в какую-то историю.
— Если бы ты… если бы вы, синьор, не выглядывали сегодня в окно, этот Нефри вас бы не увидел, — с шутливой укоризной заметила Марина.
— Так ты уже сам вставал и подходил к окну? — уточнил отец Панкратий. — Что ж, значит, силы к тебе возвращаются. И вид у тебя сегодня бодрый. Надеюсь, что тебе удастся выздороветь быстрее, чем предполагал лекарь. И это очень кстати, потому что скоро вам с Мариной предстоит неблизкая поездка.
— Поездка? Куда? — насторожился Донато.
— На запад Таврики, в княжество Феодоро. — Отец Панкратий, заметив удивление и недовольство в глазах римлянина, поспешил пояснить: — Увы, я получил из Кафы неутешительное известие: те два проходимца, которые были свидетелями вашей драки с Заноби, рассказали кафинским чиновникам, будто ты убийца, а Марина — твоя пособница. Бог знает что они наговорили, и теперь стражники консула готовы тебя арестовать. Конечно, может, суд во всем разберется и вас оправдает, но ведь до суда может быть еще и тюрьма, а то и допросы с пристрастием, проще говоря — пытки.
Марина вздрогнула и испуганно спросила:
— Отче, неужели все так опасно?
— Более чем, дитя мое, — вздохнул священник. — Потому и оставаться в Сугдее вам нежелательно, ведь кто-нибудь прознает и донесет, а Сугдея — город, подвластный генуэзцам. Зато в княжестве Феодоро вы будете в безопасности. Потом, когда сменится консул, сможете вернуться в Кафу. Надеюсь, за три-четыре месяца слухи об убийстве Заноби утихнут.
Марина, которая уже и раньше дала согласие на отъезд в Феодоро, не стала возражать, но Донато был явно раздосадован таким поворотом дела:
— Спасибо за заботу, святой отец, но нельзя ли нам с Мариной переждать опасное время где-нибудь поближе? Мне бы не хотелось ехать так далеко.
— Разве для бывалого путешественника это такая уж даль? — бодрым голосом возразил отец Панкратий. — К тому же, насколько я понял, ты человек, не чуждый духовным исканиям. Наверное, тебя интересует Святая Чаша, которую вы, латиняне, называете Грааль. Так вот, именно в нашем горном княжестве, с его древними храмами в пещерах, ты найдешь самый верный, самый истинный след Святой Чаши. Ибо, как говорят мудрые люди, Запад погряз в грехах и духовные сокровища могут храниться только на Востоке.
Донато вопросительно посмотрел на Марину, словно искал у нее совета и одобрения. И она с готовностью подтвердила слова священника:
— Да, отец Панкратий все правильно говорит, и мы ему должны быть благодарны.
— Что ж, если так… — Донато пожал плечами. — Но где я буду жить в вашем горном княжестве? Ведь вы же не можете меня, католика, поселить в греческом монастыре.
— В Мангупе ты будешь не моим гостем; тебя поселит в своем доме князь Косма Гаврас, родственник Василия и один из правителей Феодоро. Это замечательно мудрый и праведный человек, и счастлив тот, кому он окажет покровительство.
— Уж не хотите ли вы, чтобы я поступил на службу к тамошним князьям? — пробормотал Донато.
Но отец Панкратий сделал вид, что не расслышал вопроса, и, пожелав раненому здоровья, вышел, уводя за собой Марину, которая на ходу успела обменяться с Донато красноречивыми взглядами.
Глава восьмая
— Видишь — Священная Чаша, она же — ясли для младенца, — негромко сказал отец Панкратий, указывая на алтарную роспись феодоритского храма. — Бог ради людей приносит в жертву свое дитя, которое тоже Бог. Наверное, ты, Донато, заметил на наших православных фресках связь жертвенного блюда с колыбелью. Тема поклонения жертве появилась в византийских храмах в то самое время, когда у вас, латинян, возникли сказания о Граале. Грааль ведь тоже не всегда изображают в виде чаши со святой кровью, но иногда — как жертвенное блюдо.
Донато, внимательно разглядывая фреску, спросил:
— А этот священник слева, который держит чашу, вероятно, представляет Иосифа Аримафейского?
— Да, ты верно понял! — обрадовался отец Панкратий. — Я не ошибся, предположив в тебе человека духовного. А знаешь ли, как называется этот храм? Храм Донаторов — то есть дарителей. Не правда ли, это созвучно твоему имени?
— Может быть. Только я, увы, ничего не могу подарить вашему храму, — пробормотал римлянин.
Но отец Панкратий, словно не расслышав его слов, продолжал объяснять:
— Подобные росписи я покажу тебе также в храме Успения Богородицы, в церкви Иоанна Предтечи и многих других храмах и пещерных городах Феодоро. Ты убедишься, что истинный след Чаши надо искать здесь, а не в латинских странах.
— А может, Святых Чаш было две? — предположил Донато. — Одна прославилась на Западе, другая — на Востоке.
— Да, существует и такое толкование, — кивнул отец Панкратий. — Но истина скрыта в глубине веков, и едва ли мы, недостойные, когда-нибудь ее узнаем. Здесь, в Таврике, ты еще встретишь много такого, что заставит тебя задуматься. Эта земля хранит истоки древних тайн, и именно здесь зародились иные знаменитые легенды, перешедшие затем к латинянам. Например, сказание о золотой наковальне, в которую был воткнут меч, завещанный достаться только настоящему королю. А в латинской легенде такой меч находился в Британии и его смог вытащить из камня лишь король Артур.
Слушая негромкую речь священника, Марина в то же время украдкой посмотрела на Донато — и заметила, что он тут же отвел глаза в сторону. И это случилось не в первый раз. Уже несколько дней девушка с грустью и недоумением отмечала, как мужчина, овладевший ее мыслями и чувствами, стал выказывать к ней какую-то холодную сдержанность, словно давая понять, что между ними возможны лишь дружеские, но никак не любовные отношения.
А ведь все начиналось не так и в Сугдее, и в первый месяц после приезда в Феодоро…
Вздохнув, Марина вспомнила тот день, когда отряд во главе с Василием Нотарасом и отцом Панкратием выехал из Сугдеи, направляясь в Мангуп — столицу православного княжества. Донато уже достаточно окреп для путешествия, но не настолько, чтобы ехать верхом, и его везли в крытой повозке, где рядом с ним находились Марина и Тимон. В присутствии строгого лекаря девушка не могла позволить себе лишнего слова или жеста; лишь иногда, украдкой, бросала она взгляд на Донато и улыбалась ему.
После того первого поцелуя, свидетелем которого так некстати оказался генуэзец Нефри, Марина уже не сомневалась, что ее и римлянина соединяет чувство, о котором мечтает каждая девушка. Накануне отъезда ей снова довелось побыть с Донато наедине, хотя всего несколько минут. И он вновь поцеловал ее, даже более крепко и властно, чем в первый раз, а потом порывистым движением опрокинул на постель, сдвинул вниз лиф ее платья и охватил губами твердый сосок девичьей груди. Марина тихо ахнула от неизведанного и пронзительного ощущения, а еще от испуга, что в комнату кто-нибудь войдет и увидит эти нескромные ласки. А Донато, словно не замечая ее пугливой настороженности, продолжал покрывать горячими поцелуями грудь, шею и плечи девушки. Но вдруг где-то неподалеку послышался капризный голос хозяйки дома, и Марина, оттолкнув Донато, мгновенно вскочила на ноги, поправила одежду, прижала руки к разгоряченным щекам. Он не стал ее удерживать, а лишь спросил низким хрипловатым голосом:
— Ведь ты моя? Ты будешь со мной?
«Твоя, твоя!» — кричали ее глаза, а губы не смели сказать это вслух. И тут в комнату вошел послушник Никанор, прервав волнующую сцену.
А через день после этого короткого, но жаркого полуобъяснения Марина и Донато ехали вместе в крытой повозке под присмотром молчаливого лекаря. И каждый взгляд, которым обменивались молодые люди, таил для Марины великое множество тревожно-сладких предчувствий.
Мысли о Донато и надежды на будущее, связанное с ним, скрашивали для девушки и неудобства пути, и разлуку с родным домом и матерью, и предстоящую неопределенность жизни в чужом для нее горном княжестве.
И вот наконец дорога подошла к концу, и взорам путников предстало высокое плато Мангуп, на котором расположилась окруженная неприступной крепостью столица Феодоро. Марина уже поняла, что княжество это недаром соперничало с генуэзцами за влияние в Таврике. Во владениях феодоритов она увидела множество замков, крепостей и храмов. В плодородных долинах рек раскинулись поля, сады и виноградники, а для пастбищ использовалась яйла. В городах и городках, расположенных обычно на скалистых вершинах, жители занимались различными ремеслами, особенно много было кузнечных, гончарных и столярных мастерских. Бросалось в глаза искусство феодоритских каменотесов и строителей, умевших сооружать не только мощные стены и башни, но и украшать дома редкими по красоте резными изделиями из местного камня.
Со слов отца Панкратия Марина знала, что княжество Феодоро, возникшее на месте древней страны Дори, населяют не только греки, но и потомки других древних народов Таврики — аланов и готов. Они все исповедовали православие, и, в отличие от многоликой Кафы, храмы здесь были только византийской постройки и обряда. Впрочем, девушка уже убедилась, что суровые греческие монахи и священники могут быть довольно веротерпимы, — ведь сам отец Панкратий готов благословить ее брак с итальянцем-католиком. Пусть у греков в этом деле был свой расчет, и все-таки Марина с невольной благодарностью подумала о пастыре, который словно снял камень с ее души, позволив думать и мечтать о том, что прежде казалось невозможным.
Теперь девушка с легкой усмешкой вспоминала о том времени, когда предметом ее тайных воздыханий был красивый кафинский купец Константин. Нынче ни он, ни все другие мужчины не вызывали у нее интереса. Никто, кроме Донато, — сильного, умного, мужественного Донато — больше не занимал ее мыслей. Молодой римлянин казался ей ожившим героем, которых так много было когда-то на легендарной земле его предков. Ночами ей снились центурионы в латах, гладиаторы на арене, мореплаватели на древних парусниках, плывущие от Рима к берегам Таврики.
В доме феодоритского князя Космы Гавраса Марине и Донато снова, как и у Эраста, отвели отдельные комнаты, расположенные недалеко друг от друга. Девушке даже пришло в голову, что хозяева нарочно так устраивают, чтобы молодые люди поскорее сблизились между собой.
Дом был большим и добротным, но обстановка его казалась слишком строгой, мрачноватой, лишенной роскоши. Дорогие ткани и ковры все были темных тонов, прочная мебель не отличалась особым изяществом, в комнатах почти не было зеркал и украшений. Скоро Марина поняла, что попала в мир людей необычных, где богатство вполне могло сочетаться с аскетизмом.
Косма Гаврас был главой того избранного круга посвященных, к миссии которых Марина оказалась причастна волею судеб и отца Панкратия. С невольным интересом она присматривалась к важному греческому вельможе, взявшему на себя роль спасителя Феодоро. Косма Гаврас был человеком средних лет, среднего роста и крепкого сложения. Его лицо нельзя было назвать красивым, но в чертах этого смуглого волевого лица было нечто значительное и располагающее. Он благосклонно отнесся к гостям, хотя тот пристальный, изучающий взгляд, которым он порой смотрел на Донато и Марину, мог свидетельствовать о скрытой настороженности. Впрочем, и Донато смотрел на хозяев дома не менее настороженно. Марина понимала, что он не может взять в толк, зачем знатным феодоритам понадобилось опекать чужого им человека, да еще и католика. Очевидно, римлянин догадывался, что причиной тому — не простая благодарность, а нечто другое. Возможно, он даже хотел обсудить это с Мариной, но каждый раз что-нибудь мешало им побеседовать наедине. Отец Панкратий хоть и не прочь был соединить молодых людей узами брака, но, как истинный священник, не хотел доводить их до греха, а потому приставил к Марине пожилую служанку Феклу, выполнявшую роль не то надзирательницы, не то дуэньи.
Между тем здоровье Донато быстро шло на поправку, и скоро он уже не нуждался в услугах лекарей, а мог свободно ходить по дому и двору. Встречаясь с Мариной, он бросал на нее выразительные взгляды, а иногда ухитрялся сказать что-нибудь приятное, но не вызывающее подозрений у строгой Феклы.
Косма Гаврас иногда обедал с гостями за одним столом, но дома он бывал редко, и Марина догадывалась, что его постоянные отлучки связаны все с той же тайной миссией, которой была подчинена вся жизнь этого дома. Здесь все ходили тихо, не задавали лишних вопросов и, казалось, понимали друг друга с полуслова. Та часть дома, в которой жил сам Косма, была отделена от остальных комнат, и никому не разрешалось без спроса туда входить, особенно если хозяин принимал гостей, читал или писал письма. И только один отец Панкратий был допущен ко всем тайнам феодоритского князя.
Что касается женской половины дома, то она производила на Марину унылое впечатление. Жена и две дочери Космы Гавраса держались от гостьи на расстоянии и не проявляли к ней никакого интереса. Старшая из дочерей была вдовой и все время проводила в молитвах, а вторая, совсем девочка, пока еще забавлялась куклами в окружении нянек. Да и среди служанок княжеского дома, молчаливых и бесшумных, как тени, Марина не могла присмотреть себе ни подругу, ни хотя бы собеседницу.
Девушка невольно вздыхала, вспоминая своих веселых кафинских подруг Зою, Гаяне и Фатьму. Самой близкой среди них была Зоя — дочь состоятельного грека-судовладельца и славянки из Сурожа. Когда-то, еще в детстве, девочки подружились на одном из городских праздников и с тех пор привыкли доверять друг другу все свои секреты. Вспоминая Зою, Марина снова в который раз принималась мысленно рассказывать ей о своих удивительных приключениях, и это помогало ей скрашивать скуку и однообразие жизни в чужом доме.
Осень подходила к концу, когда Марине и Донато было наконец позволено покинуть пределы княжеского подворья и осмотреть город-крепость Мангуп, а затем и храмы за пределами столицы. Отец Панкратий их сопровождал, и скоро Марина поняла, какую цель преследовал священник во время этих поездок. Он недаром обещал римлянину показать места, связанные со Святой Чашей. Поистине, в тех храмах, куда он водил молодых людей, Чаша являлась в самых чистых и возвышенных образах.
Но — странное дело — именно после посещения храмов Марина стала замечать, как постепенно отдаляется от нее Донато. Он уже не пытался, как раньше, пользуясь моментом, обнять ее и поцеловать где-нибудь в укромном месте княжеского дома или двора. Он даже не бросал на нее тех волнующих взглядов, в которых она угадывала чувство и страсть. Несколько раз девушка пыталась с ним заговорить, но он отшучивался или отвечал односложно и всегда находил способ не остаться с ней наедине даже на минуту.
Вот и сегодня, в храме Донаторов, куда Марина вошла с надеждой и трепетом, ей снова пришлось убедиться, что мечта о счастье ускользает, уходит, словно вода в песок…
И когда возвращались обратно, в дом Гавраса, Донато старался ехать так, чтобы между ним и Мариной всегда был отец Панкратий или еще кто-либо из сопровождавших их всадников.
Девушке вдруг пришло в голову, что, возможно, римлянин, осматривая православные храмы, прочувствовал ту разницу в вере, которая разделяла их с Мариной, и сделал вывод, что это непреодолимая преграда. Другого объяснения растерянная девушка найти не смогла и решила при первом же удобном случае поговорить об этом с Донато, намекнуть ему, что в Кафе нередки браки католиков и православных и даже строгий отец Панкратий готов их благословить.
Сейчас Марина как никогда остро чувствовала свое одиночество в чужом доме, где не было ни матери, ни подруг, чтобы поделиться с ними своей сердечной тайной и попросить совета.
И вдруг она увидела молодую женщину, с которой ей сразу же захотелось подружиться. И случилось это как раз на следующий день после посещения храма Донаторов. Обдумав бессонной ночью предстоящий разговор с Донато, Марина утром потеряла всю свою решительность и снова почувствовала себя одинокой растерянной девочкой. Она подошла к окну, рассеянно наблюдая за порханием мелких снежинок, и с грустью отметила, что идет уже четвертый месяц ее разлуки с родным домом, куда она никак не может вернуться без помощи отца Панкратия и других феодоритов. Комната Марины была на втором этаже, и окно выходило на улицу. Дом напротив, тоже двухэтажный, принадлежал какому-то знатному греку, дальнему родственнику Космы Гавраса. К дому примыкал огороженный забором сад с хозяйственными постройками, и Марина иногда от скуки наблюдала, как там возятся слуги и работники.
Но в этот день, подойдя к окну, девушка вдруг увидела новое для себя лицо. Окно в доме напротив приоткрылось, и из него выглянула хорошенькая головка молодой женщины. Незнакомка встретилась взглядом с Мариной и приветливо ей улыбнулась. И Марина не могла не улыбнуться в ответ. Здесь, в молчаливом доме Гаврасов, она не встречала такой веселой приветливости. Через несколько мгновений незнакомка исчезла из окна, но скоро появилась на улице и, подняв голову вверх, помахала Марине рукой. Девушка ответила ей таким же жестом и обратила внимание, что соседка Гавраса даже одета более ярко, чем другие феодоритки, а из-под платка у нее выбивается несколько игривых черных локонов. Хорошенькая дама в сопровождении двух служанок пошла по улице и скоро исчезла из виду.
Марина удивилась, почему раньше ей не пришлось увидеть эту милую и приветливую даму, с которой сразу же захотелось познакомиться поближе. Как только появилась Фекла, девушка не преминула спросить, кто эта соседка, живущая в доме напротив. Поджав губы, Фекла пояснила, что соседку зовут Нимфодора, она дальняя родственница Космы Гавраса, но раньше жила на побережье, в доме мужа, а теперь, овдовев, вернулась в Мангуп. Девушке показалось, что Фекла не очень-то жалует хорошенькую вдовушку.
И какова же была радость Марины, когда в тот же день Нимфодора появилась в доме Гаврасов и, пользуясь отсутствием хозяина, сама нашла юную гостью и представилась ей. Приветливая дама была лет на пять старше девушки и сразу стала обращаться к ней покровительственно:
— Милое дитя, тебе, наверное, очень одиноко в доме моего двоюродного дядюшки? Я знаю, что у него здесь заведены монашеские порядки, хотя по натуре он купец, и весьма удачливый. Но в некоторых людях деловитость сочетается с ханжеством, и с этим надо смириться.
— Я благодарна господину Гаврасу за то, что он дал мне пристанище в своем доме, — дипломатично ответила Марина. — Когда я смогу вернуться в Кафу, то, надеюсь, мои домашние окажут ему такое же гостеприимство.
— Ах, не скромничай, я вижу по твоим живым глазкам, что тебе здесь скучно, — игриво заметила Нимфодора. — Ну, ничего, скоро праздник Рождества, и я заставлю Косму отметить его как-нибудь поярче. Я ведь бывала в больших городах, даже в Константинополе, и знаю, что жить можно веселей, чем в нашей суровой горной стране.
— В Кафе тоже бывают пышные празднества, особенно в день святого Георгия, — заметила Марина.
— Да, я слышала об этом, но в Кафе мне бывать не приходилось. — Вдовушка оглядела маленькую скромную комнатку Марины, и ее подкрашенные серо-зеленые глаза лукаво сверкнули. — Бедняжка, у тебя здесь, наверное, даже нет второго платья! Но я принесу тебе наряд к Рождеству. Я немного знаю твою печальную историю. Ты ездила куда-то на богомолье, а по дороге на тебя напали разбойники, и ты чудом спаслась. Так? А еще, говорят, твоим спасителем оказался какой-то отважный итальянец, да?
— Да, примерно так все и было, — ответила Марина, краснея.
— Милое дитя, по-моему, ты смутилась, — с ласковой улыбкой заметила Нимфодора. — Часто девушки влюбляются в своих спасителей. А храбрые рыцари влюбляются в тех, кого удалось спасти. И это неудивительно, особенно если спасенная девушка такая хорошенькая, как ты.
— Возможно, такое бывает, но в моем случае все не так, — покачала головой Марина.
— Отчего же? Разная вера мешает? Или этот латинянин слишком беден, низкого происхождения?
Марина ничего не успела ответить, потому что в комнату вошла Фекла, а вслед за ней и отец Панкратий. Было видно, что священник недоволен вторжением Нимфодоры. Но вдовушку это нисколько не смутило. Пообещав Марине скоро еще раз навестить ее и принести ей новое платье, она поклонилась священнику и неторопливо вышла из комнаты, оставив после себя аромат пряных духов.
— Когда вы с ней успели сдружиться? — хмуро спросил отец Панкратий.
— Мы еще не сдружились, я только сегодня впервые ее увидела, она сама пришла со мной познакомиться, — ответила девушка.
— Ну, хорошо. Выйди, Фекла, — кивнул он служанке и после того, как она покинула комнату, обратился к Марине: — О чем с тобой говорила эта Нимфодора?
— О разных пустяках. Да мы и не успели толком поговорить.
— Эта дама для тебя — не слишком подходящая собеседница.
— Но у меня здесь нет подруг, и я рада была бы пообщаться с такой приветливой женщиной.
— С подругами будешь беседовать, когда вернешься в Кафу, а сейчас есть более важные вещи, о которых тебе следует думать. — Отец Панкратий тяжело опустился на скамью и Марине велел сесть напротив него. — Так вот. На днях в Таврику прибыл Джаноне дель Боско, но еще не принял обязанности консула. Однако теперь путь вам с Донато в Кафу расчищен, и тянуть с отъездом больше не следует. В конце января в Кафу отправится большой торговый обоз, и вы можете к нему примкнуть.
Марина не знала, радоваться или печалиться такому известию. А отец Панкратий продолжал:
— Теперь настало время для решительных разговоров и деяний. Исихасты пытаются спасти православный мир от гибели.
— Исихасты? — вспомнила Марина загадочное слово. — Вы обещали рассказать о них. Хотя, мне кажется, я уже кое-что поняла, проживая в этом доме…
— Да, здесь все пронизано возвышенным духом. Исихасты, или «безмолвствующие», — это последователи первых христианских подвижников, которые удалялись от мира, чтобы приобщиться к божеству. Через внутреннее безмолвие, покой — исихию — человек может увидеть Свет Фаворский. Имя Христа мы, исихасты, призываем духом, а не устами. Наш учитель Григорий Палама писал: «Тот, кто участвует в божественной энергии, сам становится един со светом».
— Свет!.. — прошептала Марина. — Свет всегда поражал меня на фресках Феофана Грека…
— Да, Феофан — один из нас. И на Руси есть немало последователей исихазма, на них вся надежда. Сейчас наш мир держится на волоске. Если бы вдруг русским митрополитом стал Митяй, сторонник генуэзцев и Мамая, все бы рухнуло. Но Митяй умер по дороге в Константинополь. И теперь преподобный Киприан Цымблак поехал к князю Дмитрию Московскому, чтобы помочь ему сплотить русских князей для решающей битвы. После Рождества в Москву отправится и Косма Гаврас. Если битва будет выиграна, Киприан станет первым русским митрополитом, не получившим ярлыка от Орды. Дай Бог! — отец Панкратий перекрестился. — Дай Бог нам всем победы!
Имена Григория Паламы, Киприана Цымблака и Митяя ничего не говорили Марине, но она уже поняла самую суть того, к чему хотел призвать ее священник:
— А я должна поскорее убедить Донато идти на службу к консулу, чтобы знать о намерениях генуэзцев?
— Да, дитя мое. — Отец Панкратий скользнул быстрым, острым взглядом по ее лицу. — Ты можешь внести в наше великое дело свою посильную лепту. Час настал. Донато уже в какой-то мере подготовлен, я внушал ему правильные мысли во время посещения храмов. Теперь ты скажи ему прямо то, что я пытался втолковать исподволь.
— Но как я скажу, когда, с чего начну? — растерялась Марина. — Ведь мы с ним даже не бываем наедине.
— Теперь все будет иначе. Я удалю от тебя Феклу, и никто не помешает вашему с ним разговору. Можете уединяться в доме или в саду.
— Нет… — Марина покачала головой и опустила глаза. — Боюсь, отче, что мои слова уже мало значат для Донато. В последнее время мы с ним отдалились друг от друга и он совсем не обращает на меня внимания…
— Не может быть. — Лицо священника в одно мгновение стало суровым, хмурым. — Ты соглашалась во всем помогать мне, а теперь, в нужную минуту, проявляешь малодушие? Хочешь, чтобы я поверил, будто человек, рисковавший ради тебя жизнью, вдруг потерял к тебе интерес? Ты просто испугалась. Кого? Генуэзцев? Татар?
— Нет, отче, клянусь вам, не в этом дело, я не испугалась! Но мне действительно кажется, что я больше не нравлюсь Донато…
— Так постарайся понравиться снова! — почти повелительно сказал отец Панкратий. — После Рождества я должен вас обвенчать, чтобы ты вернулась в Кафу замужней женщиной, а не девчонкой, попавшей в сомнительное приключение.
Марина вдруг поняла, что и впрямь ее доброе имя может стать притчей для злых языков, если до Кафы докатятся искаженные слухи о ней и Донато. Но после всех пережитых испытаний это уже не очень волновало девушку.
— Я не знаю, получится ли у меня, — сказала она усталым голосом. — Может быть, отче, вы сами убедите Донато? Он ведь, наверное, нуждается в деньгах и согласится вам помочь за вознаграждение, а не ради меня. Тогда зачем я вам нужна?
— Если он не согласится или вздумает нас обмануть — то ему придется задержаться в Мангупе до лучших времен, — жестко сказал священник. — А ты поклянешься на Святом Писании, что никому не расскажешь о своей поездке в Феодоро. Никто в Кафе об этом не должен знать.
— Но что я скажу матери, когда она спросит, где я была?
— Об этом мы еще подумаем. А пока даю тебе срок два дня, чтобы ты по-хорошему все решила с Донато. Если вы будете действовать вместе и заодно — вам же будет лучше. И я вас благословлю. А если…
Отец Панкратий не договорил, тяжело поднялся с места и пошел к двери.
Оставшись одна, Марина уронила голову на стиснутые руки и задумалась. С пугающей ясностью она осознала, что жернова великих дел, безжалостно перемалывающие тысячи маленьких судеб, сейчас готовы сомкнуться и над ее судьбой, если она сделает хотя бы один неверный шаг. Что-то подсказывало Марине, что у них с Донато уже нет выбора и они не смогут остаться в стороне от бурь, сотрясающих Таврику. Отчетливо, гулко прозвучали в ее ушах слова отца Панкратия: «Если он не согласится или вздумает нас обмануть — то ему придется задержаться в Мангупе до лучших времен». И это было правдой, а не угрозой. Теперь жить своей отдельной, частной жизнью им с Донато уже не дадут. Ее в лучшем случае отправят в Кафу — ведь без Донато она не представляет интереса для участников феодоритского заговора. А в худшем — если побоятся, что она не сохранит молчание, — задержат в Мангупе, возможно, заточат в монастырь. А с Донато, как чужеземцем и иноверцем, обойдутся еще жестче. Если же римлянин вернется в Кафу, а генуэзцы прознают о его пребывании в Мангупе, то он может окончить свои дни в застенках консульского замка.
От тяжких раздумий у Марины разболелась голова, а посоветоваться ей было не с кем, кроме как с тем же Донато. Немного поколебавшись, она решилась пойти к нему в комнату.
Но, открыв дверь в коридор, девушка не сделала и двух шагов, как услышала голос Донато со стороны внутренней лестницы. Видимо, он беседовал с кем-то из слуг или приживалов княжеского дома. За время пребывания в Мангупе римлянин неплохо освоил греческий язык и без посторонней помощи объяснялся со всеми домочадцами.
Марина тихо спустилась на первый этаж и обнаружила, что собеседницей Донато была Нимфодора. Вдова стояла лицом к лестнице, а Донато — спиной. Увидев девушку, Нимфодора приветливо ей улыбнулась:
— Я принесла тебе платье к Рождеству, как и обещала.
Тут же и Донато оглянулся на Марину, и по его лицу пробежало то странное, неопределенное выражение, которое в последнее время так настораживало девушку.
— Спасибо вам за подарок, Нимфодора, — кивнула Марина, стараясь не смотреть на Донато, хотя взгляд ее помимо воли устремлялся к нему.
— Ну, у вас здесь женские дела и разговоры, поэтому я удаляюсь, — слегка улыбнулся римлянин и ушел, на ходу переглянувшись с молоденькой служанкой Ириной, убиравшей комнаты.
Нимфодора взяла Марину под руку и, отведя в сторону, села вместе с ней на обитую тканью скамейку в углу.
— Познакомилась я с твоим спасителем, — вполголоса сообщила вдова, заглядывая девушке в глаза. — Расспрашивала его, кто он и откуда, но этот латинянин довольно скрытен, лишнего слова не скажет. Но, впрочем, он недурен, и в нем чувствуется благородное происхождение. Скажи по правде, он нравится тебе? Вижу, ты смутилась.
Марина, которая и впрямь была смущена любопытством соседки, все же заставила себя принять спокойный вид и небрежно заметила:
— Какая мне причина смущаться, если между нами нет никаких отношений?
— В самом деле? И он не пытается ухаживать за тобой?
— Нет.
— А почему? Но, кажется, я понимаю. — Нимфодора понизила голос почти до шепота и заговорщически кивнула на дверь, за которой скрылась Ирина. — В доме слишком много молодых и смазливых девиц вроде этой. К тому же они доступны, их не надо добиваться, как женщин из знатных сословий. Мужчины часто бывают ленивы и берут то, что плохо лежит. Ведь правда?
— Не знаю, у меня в таких делах мало опыта, — пожала плечами Марина.
Нимфодора, словно почувствовав нежелание девушки говорить о Донато, принялась обсуждать предстоящий праздник. Затем собеседницы перешли в комнату Марины, а вслед за ними служанка Нимфодоры принесла подарок щедрой вдовушки — платье из узорчатой греческой парчи. Нетерпеливая соседка тут же попросила девушку примерить новый наряд и выразила свои восторги, хотя самой Марине показалось, что платье ей немного велико и слишком топорщится по бокам, придавая фигуре мешковатость. Нимфодора без умолку болтала, рассказывая о своей веселой жизни на побережье и остроумно высмеивая мрачноватых домочадцев Гавраса. Марина поняла, что хорошенькая вдовушка далека от той подвижнической миссии, которой подчинялась жизнь княжеского дома.
Живость Нимфодоры, казалось бы, должна была развеселить Марину, но девушка почему-то ощущала уныние и внутреннюю опустошенность. После ухода разговорчивой соседки она вдруг поняла причину своего душевного разлада: конечно, всему виной те подозрения, которые заронила в нее Нимфодора! Раньше Марина не думала о возможной связи Донато с другими женщинами, теперь же ревность стала подтачивать ее, как язва. Служанки Гавраса уже не казались ей тихими и незаметными, как тени; в их взглядах и повадке Марине чудилось лукавство, кокетство и скрытые пороки. Кто-то из них — хотя бы та же Ирина — мог соблазнить римлянина, увлечь своей чувственной пылкостью, отвратив от неопытной девчонки из Кафы.
До самого вечера Марина металась в сомнениях, а потом решилась все-таки поговорить с Донато. Неслышными шагами подойдя к его двери, она постучала, даже окликнула его, но он не ответил. «Не хочет меня видеть или уже спит?» — засомневалась Марина и, оглянувшись по сторонам, вернулась к себе. В голову упорно лезли мысли о том, что, наверное, в комнате Донато был не один, а с какой-нибудь любовницей. Возможно, они даже вместе посмеялись над простушкой, стучавшей в его дверь.
Сейчас Марина, как никогда, огорчалась, что у нее нет наперсницы, которая могла бы проследить за Донато и выяснить, с кем он провел ночь. Она даже пожалела, что не открыла свое сердце Нимфодоре — пусть легкомысленной, но доброй и сообразительной, способной дать по-женски зрелый совет.
Промаявшись ночь, Марина проснулась чуть свет и подошла к окну, глядя на дом Нимфодоры в надежде увидеть соседку и знаком позвать ее к себе. Первые бледные лучи зари освещали улицу, припорошенную снегом, прорисовывали на темном фоне домов очертания окон, дверей и резных каменных украшений. Прислонившись лбом к холодной стене, Марина бездумно смотрела перед собой и понимала, что ожидание ее бесполезно, что изнеженная дама вряд ли просыпается так рано.
Девушка уже хотела отойти от окна, как вдруг дверь дома Нимфодоры приоткрылась и кто-то сделал шаг на улицу, но тут же вновь скрылся за дверью, словно его притянули обратно чьи-то руки. Марина подумала, что, возможно, какая-нибудь ловкая служанка прощается на пороге со своим дружком. Это показалось ей забавным, но в следующую минуту девушка похолодела: из дома соседки вышел не кто иной, как Донато. А руки, которые его удерживали, обнимая, были руками Нимфодоры. Вдовушка даже устремилась за любовником на улицу, хотя была легко одета. Когда она обхватила Донато за шею и поцеловала, платок с ее плеч соскользнул на землю. Донато поднял его, накинул на Нимфодору, еще раз обнял ее напоследок и, отвернувшись, шагнул к дому Гавраса. Вдовушка посмотрела ему вслед и, зябко поежившись, скрылась за дверью.
Потрясенная увиденным, Марина опустилась на пол и прижала руки к лицу. Она сама не могла понять, какие чувства сейчас ее обуревают: гнев, обида, ревность, ненависть или стыд. Еще минуту назад она готова была сделать Нимфодору своей исповедницей, и лишь случайность позволила ей узнать горькую правду. Но когда эти двое успели сговориться и стать любовниками? Ведь, кажется, вчера они только впервые увиделись? Или, может, были знакомы раньше?
Но как мог Донато в одночасье предать все то, что соединило его с Мариной, ради чего она, девушка строгого воспитания, готова была забыть самое себя и идти за ним на край света?..
Марине хотелось сейчас, сию минуту, все высказать ему, и она, не думая о последствиях, выбежала из своей комнаты. Донато как раз шел по коридору, и девушка кинулась к нему, сдавленным голосом выдохнула:
— Подлец!.. Как ты мог… с Нимфодорой… Я вас видела в окно.
Донато схватил Марину за руки и со словами: «Молчи, нас могут услышать» почти грубо втолкнул ее к себе в комнату и закрыл за ней дверь.
— Хочешь — поговорим здесь, но не в коридоре, — сказал он отрывистым, приглушенным голосом.
— Не о чем нам с тобой говорить, мне уже все ясно! — прошептала она, задыхаясь от возмущения и подступивших слез.
— Ты напрасно меня обвиняешь, называешь подлецом. — Он прислонился спиной к двери, заслоняя ей выход. — Пойми: я мужчина и не могу так долго обходиться без женщин. Тебя, чистую девушку, я не смею тронуть, так что же мне делать? Природа требует своего.
Марина хотела возразить, что, если мужчина любит девушку, то может на ней жениться, а не искать себе доступных женщин, но не знала, как выразить это словами, чтобы не показалось, будто она навязывает себя ему в жены. Слезы душили ее, мешали думать и рассуждать. Изо всех сил она пыталась держать себя в руках, чтобы не заплакать перед Донато. Но он все-таки заметил ее состояние и, взяв девушку за плечи, мягким голосом сказал:
— Тебе надо успокоиться, Марина. Ступай к себе в комнату, отдохни, помолись. Я скоро сам к тебе приду для серьезного разговора. Все слишком важно, чтобы обсуждать вот так, на ходу, когда ты в гневе.
Марина вдруг уловила от него аромат пряных духов Нимфодоры. Резко сбросив со своих плеч его руки, она ломким голосом сказала:
— Только прежде смойте с себя благовония вашей любовницы! Терпеть не могу мускусные запахи!
Донато посторонился, давая ей дорогу, и Марина почти бегом кинулась в коридор. Закрывшись у себя в комнате, она дала волю слезам, но они не облегчили ее душу. Рухнуло все, чем она жила последние три месяца, на что надеялась в будущем, ради чего готова была преодолеть любые испытания. Теперь оставалось лишь уйти, устраниться из жизни Донато и предоставить отцу Панкратию самому решать все вопросы, связанные с римлянином.
Был ранний час, и Марина с тоской подумала о том, что скоро предстоит утренняя молитва и завтрак в окружении строгих домочадцев Гавраса. Находиться среди людей, ежеминутно боясь встретиться глазами с Донато, было для нее сейчас невыносимо.
И Марина решила немедленно отыскать отца Панкратия, рассказать ему всю правду и попросить о скорейшем возвращении в Кафу.
Она тут же устремилась туда, где в этот утренний час мог быть священник — в домашнюю часовню Гаврасов. Но, едва спустившись на первый этаж, девушка почти лицом к лицу столкнулась с отцом Панкратием.
— Отче!.. Как хорошо, что я вас повстречала, я шла к вам! — в ее голосе звенели слезы. — Вы словно услышали мою мольбу.
— Что случилось, дитя? — Священник встревоженно заглянул ей в глаза. — Какое-то несчастье?
— Для меня — да, — упавшим голосом ответила Марина и, отвернувшись, смахнула слезы с глаз.
— Пойдем к тебе и поговорим без помех, — решил отец Панкратий.
Они поднялись наверх. Марина шла так стремительно, что у дверей своей комнаты споткнулась. Отец Панкратий, поддержав ее, строго сказал:
— Учись владеть собой и не теряться даже в несчастьях.
Марина толкнула дверь, и от легкого сквозняка заколебалась занавеска, прикрывавшая нишу, где стояла ее кровать.
Девушка и священник вошли и сели друг против друга на скамейки по обе стороны маленького стола.
Марина несколько раз глубоко вздохнула, чтобы окончательно прогнать подступавшие слезы, а отец Панкратий с некоторым удивлением заметил:
— Странно, что ты плакала. Ведь это редко с тобой бывает. Меня всегда радовало, что ты не плаксива, как большинство женщин.
— Обещаю, что не буду плакать и поговорю с вами спокойно, — сказала Марина уже ровным голосом.
— Так что же все-таки случилось?
— Вчера вы дали мне два дня срока, чтобы выяснить мои отношения с Донато. А сегодня я вам говорю: мы с ним — чужие люди, и прошу вас как можно быстрей отправить меня в Кафу.
— Что это значит, почему так вдруг? — в голосе священника прозвучала неприкрытая досада. — Он тебя чем-нибудь обидел?
— Нет. Просто я узнала, что Донато нравится другая женщина, а я для него ничего не значу. Он спасал меня из благородства и еще, наверное, из жалости. И не спрашивайте больше ни о чем, умоляю вас! Мне стыдно об этом говорить. Сейчас я хочу только одного: поскорее вернуться домой. Я понимаю, что Донато вам будет нужен, если поступит на службу к консулу. Но договаривайтесь с ним без моей помощи, все равно у меня нет на него никакого влияния. Пообещайте ему деньги, земельный надел… я не знаю, что еще. Только меня отпустите, я здесь лишняя.
Марина выпалила все это на одном дыхании, стараясь не встречаться глазами со священником, а глядя ему поверх плеча. Взгляд ее упирался как раз в сторону ниши, прикрытой занавеской. И вдруг, к изумлению и ужасу Марины, занавеска заколебалась, из-за нее вышел Донато и насмешливо заметил:
— Так вот для чего я был вам нужен! Теперь понимаю, чем вызвана такая забота о чужеземце-латинянине.
Отец Панкратий резко повернулся к Донато и с возмущением спросил, переводя взгляд с него на Марину:
— Ты что же, провел ночь в постели этой девушки?
— Нет, клянусь вам! — воскликнула Марина. — Я не знаю, как он здесь оказался.
— Да, я вошел минуту назад, чтобы поговорить с Мариной, — подтвердил Донато. — Ее не оказалось в комнате, я хотел подождать, но тут услышал за дверью шаги и ваш голос, отец Панкратий. Мне не хотелось, чтобы вы подумали лишнее, потому я и спрятался за шторой. А еще вдруг стало любопытно, не обо мне ли пойдет речь. И я не ошибся — действительно обо мне. Теперь наконец я понял, какой службы от меня вы ждете.
Отец Панкратий растерялся, но ненадолго. Вздохнув и покачав головой, он взял себя в руки и прямо объявил Донато:
— Что ж, если ты все понял, то обойдемся без лишних объяснений. Да, мы предлагаем тебе помочь нашему княжеству, которое сейчас в опасности. Джаноне дель Боско уже прибыл в Кафу, и ты можешь поступить к нему на службу.
— А почему вы думаете, что я соглашусь стать вашим лазутчиком в лагере консула?
— А какие у тебя причины отказаться? — Священник вперил свой острый, проницательный взгляд в лицо Донато. — Ты римлянин, что у тебя общего с этими торгашами-генуэзцами? Ты ведь не присягал их дожу. И разве наши храмы не убедили тебя в священных корнях Феодоро? Ведь именно в этих местах когда-то проповедовали первые римские епископы, гонимые императорами-язычниками. И Святая Чаша здесь, бесспорно, была. А может, и осталась где-то в недрах наших гор.
— Странные доводы, — хмыкнул Донато. — Уж не принимаете ли вы меня за восторженного рыцаря Парцифаля?
— Нет, не принимаю. — Отец Панкратий погладил бороду, исподлобья поглядывая на стоявшего перед ним Донато. — Среди латинян уже не осталось рыцарей, которые живут только духовными исканиями. Разумеется, тебе нужна материальная выгода. Так вот, поверь: мы щедро вознаградим тебя. Ты беден, ты приехал в Кафу искать счастья и богатства. Ты их найдешь. Мы поможем тебе купить дом, основать свое дело. Ты сможешь завести семью и построить достойное будущее в Кафе. А от тебя потребуется немного: всего-то оповещать нас, когда и какими силами генуэзцы с Мамаем собираются выступить против русичей. А еще вовремя предупреждать нас, если консул что-то замыслит против Феодоро.
— Заманчивое предложение, — Донато усмехнулся краем губ. — Я верю, что вы щедро отплатите за службу. Только жизнь моя не будет стоить ломаного гроша, если, служа вам, я попаду в камеру пыток консульского замка. А риск такой есть.
— Риск есть всегда и в любом деле. Но мы все продумали до мелочей. На тебя не упадет даже тень подозрения. Ты не будешь встречаться ни с кем из феодоритов и доверять тайные сведения бумаге. Твоя будущая жена — моя верная прихожанка, и она все будет пересказывать мне во время исповеди.
— Так вы еще и жену мне посватаете? — поднял брови Донато.
— Да. Но, разумеется, не такую вертихвостку, как Нимфодора, которая, подозреваю, уже положила на тебя глаз. Твоей женой может стать одна из самых красивых и достойных девушек Кафы. Я смогу убедить ее мать, чтоб отдала за тебя.
— Эта девушка — Марина? — быстро спросил Донато.
Марина подалась вперед, чтобы возразить, но священник жестом остановил ее и продолжал:
— Да, я говорил о ней, о девушке, ради которой ты рисковал жизнью. Она из весьма уважаемой семьи, породниться с которой не зазорно даже очень знатному дворянину.
— Оказывается, Марина — это тоже часть вашего замысла? — Донато бросил на девушку такой пристальный взгляд, что она невольно опустила глаза. — Но зачем же так сложно, святой отец? Зачем было привлекать это невинное создание, заставлять ее лгать и притворяться? Вы могли бы поговорить со мной напрямик, предложить мне деньги — и я бы согласился. Ведь вы же понимаете, что мне нужны деньги. Если бы не их отсутствие, я не приехал бы из Италии сюда, на край света. А вы разыграли передо мной целое представление, нашли мне превосходную жену. Конечно, благодарю вас за такую честь, но мне вполне хватит определенной суммы золотых.
— Так ты… ты согласен? — спросил отец Панкратий, немного растерявшись от насмешливого тона собеседника.
— Почти согласен, — кивнул Донато.
Марина порывисто поднялась с места:
— Значит, я вам больше не нужна, отче, я здесь лишняя. Позвольте мне уйти и поскорей уехать в Кафу.
Отец Панкратий медлил с ответом, и Марина, расценив это как знак согласия, уже хотела выйти из комнаты, но вдруг Донато преградил ей путь и обратился к священнику:
— Прежде чем окончательно согласиться на ваше предложение, святой отец, я хочу поговорить с этой девушкой. Позвольте нам объясниться наедине.
— Хорошо. — Отец Панкратий тяжело поднялся со скамьи и направился к выходу. Открыв дверь, он оглянулся и устремил на молодых людей такой пронзительный взгляд, словно хотел глазами внушить им то, что казалось ему самым важным.
Оставшись вдвоем с Донато, Марина подошла к окну и там застыла, не поворачиваясь к собеседнику.
— А знаешь, Марина, я немного разочарован. — Голос Донато звучал глухо, но в нем чувствовалось напряжение натянутой струны. — Ведь мне казалось, что ты искренна со мной, а на самом деле твоя… благосклонность входила в замыслы отца Панкратия. Это он надоумил тебя притворяться, будто я нравлюсь тебе?
— Да как вы смеете так думать?! — Марина резко повернулась и обнаружила, что Донато стоит прямо у нее за спиной.
Они оказались так близко, что Марина хотела отодвинуться назад, но Донато удержал ее за плечи и, глядя ей в глаза, требовательно спросил:
— С какого момента ты начала притворяться? Еще в Сугдее или уже здесь, в Мангупе?
— Я не притворялась никогда, — прошептала она взволнованно. — Это вы притворялись так ловко, что отец Панкратий решил, будто вы… влюблены в меня. Да, он решил использовать наши отношения в своих интересах, хотел нас обвенчать. Но я-то узнала о его замыслах лишь после того, как… после того, как почувствовала к вам…
Она не договорила, и слезы навернулись ей на глаза. А в следующее мгновение Донато вдруг прижал ее к себе и поцеловал столь же страстно, как тогда, в Сугдее. Марина пыталась вырываться, но Донато крепко держал ее в объятиях и продолжал целовать, потом поднял девушку на руки и отнес на постель. Волна смятения захлестнула ее, лишила воли, но это длилось лишь несколько мгновений. Потом Марина вспомнила, с кем Донато провел прошедшую ночь, и снова ей почудился от него запах соперницы. Она уперлась ему в грудь, сопротивляясь, но он уже и сам отпустил ее и сел на кровать, тяжело переводя дыхание.
— Прости… я не должен быть с тобой, не должен лишать тебя девственности… Я ведь знаю, как с этим строго в таких православных семьях, как твоя.
Марина быстро поправила шнуровку лифа и села рядом с Донато.
— Я не могу разобраться в твоих чувствах, и это меня терзает. — Голос девушки звучал прерывисто. — В последнее время ты отдалился, стал чужим… завел любовницу. А теперь снова целуешь меня, и я чувствую твою страсть. Так в чем причина, почему ты играешь со мной? Может, ты думал, что православную девушку не отдадут за католика? Но теперь-то ты знаешь, что даже строгий отец Панкратий готов нас повенчать.
— Гм, ты делаешь мне предложение, дитя мое? — Он прижался щекой к ее руке. — Но я, увы, не могу на тебе жениться.
— Отчего же? — прошептала она одними губами. — Ты не любишь меня?
— И любить тебя я не имею права, — вздохнул Донато.
— Но почему, почему? — не удержалась она от вопроса, и в голосе ее прозвучала боль и обида. — Что во мне не так?
— В тебе все прекрасно, все мило, препятствие лишь в моей несчастной судьбе. Я женат…
Он встал и, не поворачиваясь к Марине, шагнул в сторону. Она вскочила следом, заглядывая ему в лицо.
— Ты женат?.. Женат?.. — Не в силах выразить свое возмущение словами, Марина забила кулачками ему в грудь, а он молча принимал ее удары и смотрел на девушку с какой-то печальной нежностью. — Отчего же ты раньше молчал, отчего целовал меня, смотрел так, что позволил мне в тебя влюбиться?..
Она заплакала, а Донато, погладив ее распустившиеся волосы, тихо сказал:
— Раньше я даже хотел соблазнить тебя, чтобы ты была моей, мне подчинялась. Но потом я сам тебя искренне полюбил и не хочу портить тебе жизнь. Потому-то и стал от тебя отдаляться, проявлять видимую холодность.
— Значит, ты полюбил меня только недавно? А раньше я тебе просто немного нравилась, как девчонка, которую можно соблазнить, поиграть с нею? Но почему тогда ты защищал меня от бандитов, жертвовал собой? Трудно поверить, что это было только из благородства. Скажи, зачем я тебе была нужна?
— Это правда, ты мне была нужна. Ты единственная, кто может указать мне путь к пещере.
— Пещера, опять пещера! Что в ней такого, объясни? Если ты и впрямь веришь в места силы, то почему же пещерные храмы Феодоро тебя не заинтересовали? Нет, здесь какая-то тайна…
— Верно, тайна есть, и до сих пор я никому ее не открывал. А тебе открою, больше не могу терпеть. Слишком сильно ты зацепила мою душу. Расскажу тебе всю правду о себе, а потом уж ты решай — нужен я тебе такой или нет.
— Что же это за тайна?.. — Марина невольно дрогнула от тревожных предчувствий. — Может, узнав ее, я стану навеки несчастной?.. Но все равно говори, ничего не скрывай.
Марина и Донато несколько мгновений молчали, глядя друг на друга, потом одновременно посмотрели на дверь, за которой слышались отдаленные шаги, голоса, звон посуды. Дом просыпался, начиналась суета нового дня.
— Все слишком важно, чтобы говорить об этом здесь, — заметил Донато. — Мне бы не хотелось, чтоб кто-то случайно или намеренно нас подслушал. Вот что, Марина. Оденься потеплей, и пойдем с тобой к городскому валу, там можно найти уединенное место, где нас уж точно никто не услышит. Ты согласна?
Она молча кивнула.
Глава девятая
Над обрывом была площадка, огражденная невысокими каменными перилами. У Марины дух захватывало от раскинувшегося перед ней величавого простора, и она сама себе казалась птицей, готовой к полету. С этого места были хорошо видны не только необъятные дали горной Таврики, окружавшие Мангуп, но и само плато, на котором расположилась столица Феодоро, словно парящая между небом и землей. Отсюда можно было проследить направление главной улицы, пересекающей город с запада на восток, и ответвления других улиц и кварталов. Стены и башни Мангупа перегораживали доступ к городу со стороны оврагов, дополняя естественные неприступные преграды, которыми являлись почти отвесные скалистые обрывы головокружительной высоты. Мангупская крепость была огромна по площади, обильно обеспечена водой и могла дать приют большому числу жителей со скотом и имуществом. Невольно сравнивая Феодоро с Кафой, Марина отметила, что прибрежный город, для которого естественной защитой было море, со стороны суши не так мощно укреплен, как это суровое горное княжество.
Здесь было красиво даже сейчас, зимой, и девушка представила, как все оживет весной и летом, когда зацветут окрестные долины, покроются листвой рощи и яркие пятна зелени брызнут в расщелинах неприступных скал.
— Да… величественный вид, — сказал Донато, тронув Марину за плечо. — Тебе не страшно смотреть с высоты?
— Нет, совсем не страшно. Такая красота! Княжество на горном плато — ведь это редкое чудо.
— В Италии тоже есть княжество на горном плато. Оно называется Сан-Марино.
— Вот как? Наверное, там тоже красиво. И все-таки мне больше нравятся приморские города.
— Ты любишь море? — улыбнулся Донато.
— Люблю. Мне кажется, я жить не могла бы без моря. И это странно, ведь я родилась далеко от морского побережья, в лесном краю.
— Значит, тебе на роду было написано стать морской девой. Недаром же твое имя Марина. Но я бы называл тебя еще и по-другому.
— По-другому? — она посмотрела на него настороженно. — И как же?
— Королева Черного моря. Королева Таврики.
Марина рассмеялась:
— Нет, это слишком громко для меня. Королевой Черного моря и Таврики купцы называют Кафу.
— А для меня ты — королева.
— Не надо таких слов, — нахмурилась девушка. — Ты собирался открыть мне важную тайну, так не теряй времени на пустые разговоры.
— Да, — вздохнул Донато. — Но приготовься к длинному и трудному рассказу. Однако же давай отойдем отсюда в сторону. Здесь красиво, но ветрено, ты можешь простудиться.
Они пошли по дороге вдоль обрыва, потом спустились по лестнице, огибающей выступ скалы, и оказались на другой площадке, вглубь которой уходило два грота. Один из них, небольшой, но со всех сторон защищенный от ветра, показался Донато подходящим для уединенной беседы.
— Наверное, когда-то в этих пещерках жили древние христианские отшельники, — заметил он, оглядываясь вокруг. — Феодоро — это просто какое-то царство пещер.
— Но тебя ведь интересует только одна пещера — та, что в окрестностях Сугдеи? Какая там скрыта тайна и откуда ты узнал о ней, живя в Италии?
— Наберись терпения меня выслушать. Я должен рассказать тебе всю мою историю, иначе не поймешь. — Он помолчал, собираясь с мыслями. — Начну с происхождения. Наш род Латино очень древний, знатный, но обедневший. Мои предки всегда жили в Риме и гордились этим. Но наш великий город пришел в упадок и запустение — особенно после того, как папская резиденция была перенесена в Авиньон. В Риме не стало церковной власти, которая бы сдерживала своеволие местных баронов, вечно грызущихся друг с другом. И власть городской коммуны не была такой сильной, как, например, во Флоренции. Мои предки тоже немало пострадали от баронских распрей и ночных грабежей. Родители посылали нас с братом учиться в университет, надеясь, что ученость поможет нам занять положение, достойное нашего древнего имени. Однако скоро и мой отец, и мы с братом поняли, что без деловой смекалки и смелости богатства не наживешь, и решили брать пример с генуэзских и венецианских купцов. Мы приобрели корабль, нагрузили его товаром и отбыли на Кипр. Но в пути настигло нас бедствие: ночью разразилась буря, корабль налетел на подводную скалу и разбился, а людей закрутило в страшном водовороте. Я напрасно звал отца и брата; вокруг был непроглядный мрак и рев урагана. Не знаю, каким чудом я остался жив, но меня выбросило на берег, где я пролежал без чувств до утра. Так в одну ночь я лишился отца, брата и большей части семейного состояния. У меня бы даже не было средств добраться домой, если бы мы с братом, по совету отца, не зашили бы в свои пояса по нескольку золотых монет. За время путешествия я познакомился с генуэзскими купцами, и они посоветовали мне заняться вместе с ними корсарством, грабя турецкие корабли, а потом, поднакопив денег, начать честную торговлю.
— И что же, ты был корсаром? — удивилась Марина.
— Был и корсаром, и наемным воином, а затем кондотьером. Можешь меня презирать, но я не брезговал никакими занятиями, чтобы заработать на достойную жизнь. Ведь я оставался единственным мужчиной в семье и должен был позаботиться о своей бедной матушке и младшей сестре. И вот, наконец почувствовав, что могу уже оставить опасное ремесло и заняться обустройством дома, я вернулся в свое римское поместье. К тому времени папа перекочевал из Авиньона в Рим, и я надеялся, что возвращение папского престола положит начало восстановлению былого величия Рима. Но что я увидел, вернувшись в родные места? Ничего не изменилось, стало еще хуже. Папа Григорий[28] не чувствовал себя римлянином, он любил роскошь Авиньона и своих французских кардиналов, а Рим, полуразрушенный и впавший в бедность, был ему чужд. Зато он привез с собой кардинала Роберта Женевского — настоящего бандита, вроде известного тебе Заноби. Роберт устроил кровавую резню в Чезене и других городах. По всему было видно, что назревал великий раскол церкви. Честные римляне хотели иметь папу-итальянца, а многие бароны во главе с префектом Рима предпочитали далекого авиньонского папу близкому римскому, чтобы сподручнее было грабить окрестные города и деревни. Все это, конечно, меня удручало, но я должен был прежде всего заботиться о своей семье. Мать, так и не оправившаяся от горя, совсем разболелась, а сестра Примавера стала взрослой девушкой, и надо было подумать о ее будущем.
— Примавера — красивое имя, — заметила Марина. — Оно означает «весна»?
— Да, имя красивое, и сестра была красивой девушкой. Но красота не принесла ей счастья. На нее положил глаз богатый хищник Густаво Каэтани. Он настойчиво к ней сватался, и матушка с сестрой пребывали в полной растерянности. Отказать ему они боялись, потому что он был близким другом самого префекта, который при попустительстве Роберта Женевского превратился в самовластного сатрапа и творил в Риме что хотел. Но и выходить за Густаво сестра боялась, он был ей глубоко неприятен. Мать и сестра едва дождались моего возвращения и просили решить все за них. И я сказал, что обязательно спасу Примаверу от Густаво, увезу ее от него подальше. В Риме как раз гостили знакомые мне генуэзские купцы — братья Одерико. Я попросил их помочь мне купить дом в Генуе, чтобы перевезти туда мать и сестру. Взяв с собой деньги, заработанные за пять лет военной службы и корсарства, я отправился в Геную. Братьям Одерико я верил, считая их своими искренними друзьями, и не подозревал, какую ловушку они мне готовят. Поначалу эти братья, Нероне и Уберто, проявили редкое гостеприимство, поселили меня в своем доме, познакомили со многими влиятельными горожанами, показали подходящий для покупки дом. А вечером предложили мне пойти в лучший генуэзский трактир, и я имел глупость согласиться. Там они угостили меня крепким вином, и я сразу повеселел, даже забыл все свои трудности. В трактире шла игра в кости; заводилой там был один забавный старичок, который хвастливо заявлял, что сегодня он при деньгах и собирается играть хоть до утра. Нероне продолжал подливать мне вина, а Уберто шепнул, что старичок очень богат и в азарте может проиграть целое состояние. А я в то время тоже был азартным игроком и не смог удержаться от соблазна удвоить свои денежки. И сел играть. Поначалу мне везло, а потом… В каком-то пьяном угаре я снова и снова делал ставки, и мне казалось, что вот-вот схвачу удачу за хвост. Но старичок только с виду был забавным и безобидным. Более ловкого игрока я в жизни не встречал. Не знаю, был ли он шулером или просто так сумел освоить все тонкости игры, а только обобрал он меня до последней монеты, да еще и сверх того я ему задолжал немалую сумму. Когда наутро я проснулся с тяжелой от похмелья головой и узнал, что остался ни с чем и влез в долги, меня охватило отчаяние. Братья Одерико утешали меня, и поначалу я им верил. Это потом уж я узнал, что ловкий старичок — не кто иной, как их дядюшка Козимо, который с братьями был заодно. Но пока я еще не догадался, что именно семья Одерико меня обобрала, Уберто и Нероне по-прежнему казались мне искренними друзьями. Они даже предложили мне покрыть все мои долги и взять меня к себе в компаньоны при условии, что я женюсь на их сестре Чечилии. Эта девушка весьма приветливо приняла меня в доме, и, как оказалось, я понравился ей с первого взгляда. Так, во всяком случае, утверждали ее братья.
— А тебе эта Чечилия понравилась? — не удержалась от вопроса Марина.
— Она весьма недурна собой, но что-то в ее красоте показалось мне неприятным, и я не чувствовал к ней даже малейшей симпатии. Братьям я сказал, что мне надо подумать, и пошел бродить по городу. На площади я встретил купцов, знакомых мне еще по плаваниям, и рассказал им о своей беде. И тогда они открыли мне глаза на братьев Одерико, их дядюшку Козимо и сестру Чечилию. Оказалось, что эта девица известна в Генуе своим распутным нравом и несколько раз попадала в скандальные истории. Отец и братья хотели либо выдать ее замуж, либо поместить в монастырь, но что-то у них не получалось, а может, жалели для нее приданого. Сама же Чечилия при всех заявила, что пойдет только за того человека, которого страстно полюбит. «Берегись, приятель, — говорили мне купцы, — если Чечилия Одерико в тебя влюбилась, то уж ни за что не отпустит, и никуда ты от этой семейки не уйдешь». «Да неужели во всей Генуе не найдется управы на этих мошенников?» — спросил я. Мне посоветовали обратиться к важному чиновнику Джаноне дель Боско, который тоже не в ладах с Одерико и мог бы мне помочь. В тот же день я бросился к Джаноне и добился у него приема. Он выслушал меня со вниманием, возмутился коварством братьев, но сказал, что отменить долг в игре, которая велась при свидетелях, невозможно. Однако он обещал уплатить мой долг Одерико, чтобы мне не пришлось жениться на их сестре. Таким образом, я оказывался должником Джаноне дель Боско, но он предоставлял мне достаточно времени, чтобы собрать нужную сумму. А еще он предложил мне идти к нему на службу, если захочу поселиться в Генуе. Я понял, что этот весьма неглупый чиновник не прочь окружить себя людьми, которые являются врагами его врагов.
— Но ты так и не поступил к нему на службу в Генуе? Теперь можешь сделать это в Кафе.
— Я подумаю. Но слушай дальше. Как только с помощью Джаноне дель Боско мне удалось отделаться от притязаний Одерико, я поехал обратно, в Рим. Но дома меня ждало сразу два ужасных известия: умерла моя матушка, а Примаверу Густаво почти силой взял замуж. Когда я увиделся с сестрой, она старалась сохранять мужество и уверяла меня, что ее супруг не такой уж плохой человек. Я понимал, что бедняжка просто храбрится, но ничем не мог ей помочь. Теперь, после смерти матери и замужества сестры, мне уже не нужен был мой римский дом и поместье, я решил их продать, чтобы поскорей вернуть долг генуэзскому чиновнику. Но перед продажей мне захотелось еще раз осмотреть свое родовое гнездо, забрать те памятные вещи, которые мне были дороги. В одном из сундуков, спрятанных в потайной нише, я нашел древний свиток и почему-то заинтересовался, стал читать, с трудом разбирая старинные буквы. И скоро мне показалось, что я читаю невероятную сказку. Из рукописи следовало, что она написана Маритимусом — легендарным основателем нашего рода. Он рассказывал о том, что родился в далекой Таврике, куда его мать Аврелия, христианка, попала в результате кораблекрушения, когда вместе с другими единоверцами бежала от преследований императора-язычника. Отец Маритимуса, римлянин, погиб еще до его рождения, но второй муж Аврелии, Световид, заменил мальчику родного отца. Световид был из северных варваров, но под влиянием Аврелии стал христианином.
— Световид — славянское имя, — заметила Марина.
— Я так и думал. У Аврелии были еще дети и от Световида. Семья жила в рыбацкой хижине на побережье недалеко от Сугдеи. Когда Маритимусу исполнилось двенадцать лет, мать рассказала ему, что христианская община, в которой ее отец, Климент, был епископом, взяла с собой в изгнание сокровища и Святую Чашу. Во время кораблекрушения ящик с сокровищами и Чашей удалось спасти. Климент, оставив беременную дочь на попечение рыбака, пошел к северо-западным пещерам Таврики, где уже в то время были христиане. Чашу он взял с собой, а сокровища спрятал в горах недалеко от Сугдеи, в пещере, вход в которую был почти невиден людскому глазу. И, чтобы найти эту пещеру по возвращении, он начертал на скале небесным камнем хризму. Этот знак проступал и становился видимым лишь во время дождя, когда на него попадала небесная влага. И вот двенадцать лет Аврелия ждала возвращения отца, который должен был привести с собой других христиан, чтобы взять сокровища и уехать из Таврики в Вифинию или Понт, где христианство не подвергалось таким гонениям. Но Климент так и не вернулся, и Аврелия ничего не узнала о его судьбе. Возможно, он погиб в дороге. Но я все же думаю, что он успел донести Чашу до этих мест, где мы сейчас с тобой пребываем. Недаром же в Феодоро след Чаши виден в каждом пещерном храме… Но возвращаюсь к рассказу Маритимуса. Так вот, мать открыла ему тайну христианского клада и показала пещеру с магическим знаком. Она сказала, что, если они со Световидом умрут, не дождавшись лучших времен, то он, Маритимус, должен стать хранителем сокровища и передать его христианской церкви. Маритимус писал: «Я не поверил бы в это чудо, если бы своими глазами не видел и тайный знак, и ларец с драгоценностями, спрятанный в землю под камнем». А спустя еще два года римский корабль причалил вблизи рыбацкого селения и от моряков Аврелия со Световидом узнали о том, что в Риме уже прекратились преследования христиан, поскольку император Галлиен слишком занят борьбой с претендентами на престол и с варварскими племенами, тревожившими границы империи. Аврелия, которая давно скучала по родине, убедила мужа ехать в Рим и там начать новую жизнь. Они договорились с капитаном римского корабля, отплывавшего через несколько дней, чтобы взял на борт их семью, а на следующее утро собирались идти в горы за сокровищем. Но не успели этого сделать: ночью на селение напали береговые пираты, ловившие людей для продажи на невольничьих рынках. Световид отчаянно защищал свою семью и был убит в стычке с пиратами, а его жена и дети оказались вместе с другими пленниками на пиратской галере. Их привезли на невольничий рынок в Пергам. Маритимусу, в то время четырнадцатилетнему юноше, удалось бежать, и он нашел в городе римских граждан, к которым и обратился за помощью. К счастью, эти римляне оказались христианами, знавшими его деда, Климента Наталиса. Они дали приют Маритимусу и выкупили из плена Аврелию и ее младшую дочь. Но старшая девочка и два мальчика уже были проданы, и следы их потерялись навсегда. Итак, Маритимус, его мать и сестра приехали в Рим, где их приютили дальние родственники Аврелии, входившие в христианскую общину. Но Маритимусу хотелось независимости и богатства, он поступил в легион, стал воином, успешно сражался и в зрелом возрасте достиг довольно высокого положения, женился на знатной девушке и положил начало уважаемому римскому роду. Аврелия же ненадолго пережила своего мужа и перед смертью просила сына, чтобы он когда-нибудь обязательно вернулся за христианскими сокровищами, иначе они так и пропадут в таврийских недрах. Маритимус и сам хотел их добыть, но всю жизнь ему что-нибудь мешало попасть в Таврику. А со временем, когда началась война с варварами, тревожившими берега Понта, это стало и вовсе невозможным. И однажды, заболев и чувствуя приближение конца, Маритимус решил написать о своей жизни и о далекой пещере, где хранились завещанные ему сокровища. Эти записи он оставил своим детям и внукам. Но, видимо, потомки не поверили его истории, посчитали ее сказкой. А может, кто-то из них и отважился на путешествие в Таврику, да так и не нашел потаенное место.
— Как удивительно, что эту пещеру нашла именно я… — прошептала Марина.
— Так должно было случиться. На это есть намек и в записях Маритимуса. Перед смертью он ходил к знаменитой предсказательнице и спрашивал ее: «Найдутся ли сокровища, спрятанные моим дедом в далекой земле?» И она ответила: «Найдутся через много веков. Твой далекий потомок найдет их с помощью морской девы». Он подумал, что морская дева — понтийская русалка, в существование которых верили многие моряки. Но теперь-то я знаю, что слова «морская дева» могут относиться к твоему имени.
— Ты прочел эти записи и сразу поверил им? Решил ехать в Таврику за сокровищами?
— Нельзя сказать, чтоб я так уж сильно поверил в эту немыслимую историю. Но она не давала мне покоя. Я слышал рассказы генуэзских моряков о далекой Таврике, где в горах много пещер, священных родников и древних храмов. И что-то подсказывало мне, что повесть Маритимуса правдива, хоть и кажется сказкой. Ведь недаром легенда об этом предке передавалась в нашем роду из поколения в поколение. Я спрятал записи в тайник и решил при первой же возможности отправиться в Таврику и попытать счастья. Но прежде надо было съездить в Геную, отдать долг Джаноне дель Боско. И может быть, заручиться его поддержкой. Однако тут новое горе свалилось на меня: умерла Примавера. От ее старой служанки я узнал, что сестра умерла не своей смертью; ее убил Густаво, ожесточенный тем, что она не проявляла к нему любви и покорности. Я поклялся себе, что не уеду из Рима, пока не отомщу злодею. Ночью я подстерег Густаво, когда он возвращался из одного разгульного притона, и набросился на него с оружием. Наш поединок длился недолго, потому что ярость и боль за сестру удваивали мои силы. Враг был убит, Примавера отомщена, но для меня начались новые бедствия. Оказалось, что братья Одерико, подстрекаемые Чечилией, приехали вместе с ней в Рим и начали тайно следить за мной. Они видели, что я убил Густаво, и пригрозили выдать меня властям. За убийство этого чиновного негодяя, друга префекта, мне грозила тюрьма, пытка и смертный приговор. Я оказался перед выбором: женитьба на Чечилии или позорная казнь. Сначала я пытался как-то договориться с Одерико, но они и тут обхитрили меня, подпоив вином, в которое было что-то подмешано. После этого застолья венчание с Чечилией прошло для меня как в тумане. Но утром, проснувшись и увидев, что лежу с ней в одной постели, я опомнился и, пока Чечилия еще спала, бежал через окно. В то же утро я помчался в Геную и хотел снова обратиться за помощью к Джаноне дель Боско, но его в городе не оказалось. Теперь я думаю, что это было даже к лучшему, потому что вряд ли генуэзский чиновник захотел бы из-за меня ссориться с префектом Рима. Но тогда я готов был рассказать Джаноне всю правду, и его отсутствие меня весьма огорчило. Свой долг ему я отдал через его секретаря, а сам тут же устремился в порт, где, на мое счастье, большой купеческий корабль готовился отплыть в Кафу. Все это я проделал очень быстро и тайно, так что никто из моих генуэзских знакомых не видел меня и не мог сообщить Одерико, куда я делся. Оказавшись в Таврике, я стал искать способ подобраться к загадочной пещере. Узнав, что недалеко в горах живет отшельник Симоне, я через его сына познакомился с ним и прикинулся мистиком, который ищет таврийские места силы. Ну а дальше ты знаешь… — Донато нахмурился и замолчал.
Молчала и Марина, потрясенная его рассказом. Потом, преодолев смятение мыслей и чувств, она обратилась к нему с горьким упреком:
— Ты, наверное, хочешь, чтобы я посочувствовала твоим бедствиям. А сам-то ты меня жалел, когда обманом влез мне в душу? Я ведь думала, ты ищешь какие-то духовные сокровища, реликвии, а тебе просто хотелось добраться до золота и драгоценностей. Для того я и была нужна. Потому-то ты целовал меня и делал вид, что влюблен. И я, как дура, тебе поверила. А оказывается, у тебя не было никаких чувств, одна корысть!
Она чуть не заплакала и отвернулась от Донато. А он, преодолевая сопротивление девушки, взял ее за плечи и строго, как ребенку, сказал:
— Ты обещала спокойно выслушать меня до конца, а вместо этого фыркаешь и набрасываешься с упреками. Подумай сама: если бы у меня действительно не было к тебе никаких чувств, разве я сейчас открыл бы тебе всю правду? Нет, я играл бы с тобой до конца, не пожалел бы твоей чистоты и твоего сердца. А после того, как ты привела бы меня к сокровищам, я бы тебя хладнокровно бросил. Вот как поступил бы человек, у которого на уме одна корысть.
— Кто знает… — пробормотала Марина. — Может, ты хитрей, чем я думала.
— Да не в хитрости дело! Просто я полюбил тебя! Полюбил по-настоящему, потому и не хотел больше тискать тебя по углам, целовать украдкой и соблазнять, словно глупую простушку. Когда мужчина всей душой любит женщину, она для него — святыня, а не предмет вожделения. Это я понял лишь теперь, полюбив тебя. И еще понял, что раньше никого не любил, а только желал.
Марина вспомнила чувственную сцену в Сугдее, когда Донато обнажил и целовал ей грудь. Даже тогда, хоть она и хотела верить в его любовь, тревожное сомнение закралось в ее душу. Теперь же Марина отчетливо поняла, что те грубовато-откровенные ласки Донато отнюдь не были доказательством настоящей любви, в то время как его нынешняя сдержанность могла свидетельствовать о более серьезных и возвышенных чувствах.
Ей захотелось не то позлить Донато, не то проверить искренность его признаний, и она не без лукавства спросила:
— А что ты сделаешь, если я вовсе не покажу тебе пещеру с сокровищами? Да еще и расскажу все отцу Панкратию или кому-то другому?
В его глазах заблестели искры не то удивления, не то гнева, и Марина, невольно отступив на шаг, воскликнула:
— Наверное, ты сейчас готов убить меня прямо на этом месте!
— Какая ты еще маленькая дурочка. — Донато вздохнул и покачал головой. — Я рассказал тебе о сокровищах потому, что верю тебе, верю в твою любовь. А ты сейчас пытаешься со мной играть, проверяешь мои чувства. Но я сто раз готов повторить, что люблю тебя! Люблю не ради корысти! Люблю, хоть и не имею на это права!
Он порывисто обнял Марину и долгим, страстным поцелуем приник к ее губам.
— Зачем ты так со мной?.. — она слегка задохнулась. — Теперь я уже не пойму: твои поцелуи искренни или это снова притворство?
— Какое притворство? — в низком хрипловатом голосе Донато прозвучала боль. — Да я с ума схожу по тебе, но должен сдерживаться!
Горящий взгляд его черных глаз, казалось, мог обжечь, а руки могучим кольцом сжимали хрупкий стан Марины.
— Отпусти меня… — прошептала она чуть слышно, но не отодвинулась, а положила голову ему на грудь. — Все равно у нас с тобой нет будущего. Не судьба.
— Счастье ты мое единственное… — он погладил ее по щеке и волосам. — Мы можем быть вместе вопреки судьбе. Если ты согласна презреть предрассудки и стать моей, то, клянусь, я горы сверну ради того, чтобы ты была счастлива!
Его слова, как и объятия, были для Марины таким мучительным счастьем, от которого она не имела сил отказаться, хотя разум подсказывал ей немедленно бежать от этого человека и постараться забыть о нем навсегда. Наконец, совладав со своими противоречивыми чувствами, она решилась посмотреть в глаза Донато и прямо его спросить:
— Значит, ты предлагаешь мне стать твоей любовницей?
— Нет, не любовницей, а женой. Да, женой, хоть и невенчанной.
— Ты думаешь, никто в Кафе не узнает, что у тебя уже есть жена? Рано или поздно узнают. И тогда все от меня отвернутся, назовут грешницей. А что ждет тебя за двоеженство? Как мы будем жить, если станем изгоями?
У Донато и самого был холодок на сердце при мысли о том, что Одерико уже узнали о его пребывании в Таврике, — во всяком случае, после встречи с Нефри это было вполне возможно. Но, стараясь не показать Марине даже тени своих сомнений, он ответил твердым и уверенным тоном:
— Изгоями мы не станем, клянусь. У вас, православных, слишком строгие понятия о грехе, но во многих странах на это смотрят куда свободней. Если мы будем богаты и независимы, никто не сможет нам указывать, как жить.
— Богаты? Значит, без сокровищ наше счастье не состоится?
— Благодаря этим сокровищам, королева моя, мы сможем жить, не озираясь на людскую молву. Ты будешь свободна от приказаний матери, Андрониковой родни и отчима, если он у тебя вновь появится. Тебя не заставят выйти замуж за Варадата и не отправят в монастырскую келью. Мы с тобой поселимся где-нибудь в загородном доме и не будем ни от кого зависеть.
— Жить во грехе?
— А что такое грех? Разве наша любовь грешна только потому, что я стал жертвой обмана? Ведь ту женщину, которая считается моей женой, я не люблю и никогда не любил. Ты же для меня — мой новый мир, моя надежда на возрождение.
— Я так хочу верить твоим словам, но…
— Но над тобой тяготеют внушенные тебе правила. Клянусь, я буду с этим считаться и ничего не сделаю насильно. Ты станешь моей, когда сама будешь к этому готова. А в Кафе я обращусь к Джаноне дель Боско и попытаюсь через него подать в Рим прошение о разводе. В любом случае я не считаю Чечилию Одерико своей женой.
Ревность невольно пробудилась в Марине, и девушка не удержалась от вопроса:
— Но ты ведь спал с ней в брачную ночь?
— Не помню, я был слишком пьян, — уклончиво ответил Донато. — Забудь о ней навсегда, она осталась в прошлом, от которого я убежал в новую жизнь. Теперь мы с тобой, и только это важно. Ты — главное сокровище, которое я нашел в Таврике. А то, которое спрятано в горах, будет нашим с тобой общим достоянием.
— Нашим достоянием? — Марина задумалась. — Но если мы и вправду его найдем, то сможем ли считать своим? Оно принадлежало христианской общине.
— Да, но за древностью лет клад потерял своего хозяина и теперь будет принадлежать тому, кто его найдет. — И, заметив ее колебания, добавил с шутливой угрозой в голосе: — Не сомневайся и не вздумай сказать об этом на исповеди отцу Панкратию.
Марина невольно вздрогнула при упоминании о священнике и растерянно пробормотала:
— Отец Панкратий… Ведь он спросит, как мы с тобой договорились. Он собирался нас обвенчать и отправить в Кафу с купеческим обозом. А что мы ему ответим? Придется рассказать, что ты женат?
Донато нахмурил брови, задумавшись, потом решительно качнул головой:
— Нет, пока не надо. Этот священник не любит, когда ломаются его планы. Скажу, что я помолвлен, но собираюсь расторгнуть помолвку. Пусть отец Панкратий думает, что сможет поженить нас позднее, когда мы вернемся в Кафу.
— А как его главное условие? Ты согласишься быть лазутчиком феодоритов?
— Я соглашусь на все, лишь бы поскорей уехать отсюда, — усмехнулся Донато.
Марина почувствовала, как холодок сомнения пробежал у нее по спине:
— Значит, ты будешь притворяться? Но зачем? Ты мог бы ответить отказом.
— Неужели ты до сих пор не поняла, что если я не соглашусь идти на тайную службу к мангупским князьям, то останусь в этом горном княжестве надолго? Может быть — навсегда.
— Мне это тоже приходило в голову, — вздохнула Марина. — Но я привыкла во всем доверять отцу Панкратию.
— Я понимаю феодоритов: идет война, и они защищают свою родину, как могут. Но нам с тобой зачем вмешиваться в эти чужие и непонятные распри?
— Для меня это не совсем чужая война, — нахмурилась Марина. — Не забывай, что я славянка, а Мамай собирается воевать с моим народом.
— Так неужели ты хочешь, чтобы я действительно стал шпионом феодоритов на службе у консула? — Он пытливо заглянул ей в глаза. — А что будет, если генуэзцы меня разоблачат? А если изменится расстановка сил и феодориты сами захотят от меня избавиться? Не кажется ли тебе, что это слишком опасная игра?
Внезапный порыв тревоги и нежности толкнул Марину к Донато, она положила руки ему на плечи и воскликнула:
— Да, да, ты прав! Все войны мира не стоят жизни любимого человека!
— Дорогая моя, счастье мое… такой ответ я и хотел от тебя услышать!
Обняв Марину, он покрыл поцелуями ее лицо. Минуту они стояли молча, прижавшись друг к другу, потом он глухим от волнения голосом произнес:
— Это дороже всего. И это я никогда не предам. Не забуду и о том, что ты славянка и я должен по возможности помочь твоему народу. Я не пойду на службу к консулу, но все равно постараюсь узнать о намерениях Мамая и генуэзцев. Только сделаю это как частное лицо.
— Но что ты скажешь отцу Панкратию?
— Скажу, что недруги оговорили меня перед консулом и тот не берет меня на службу. А вдобавок объясню, что в деньгах больше не нуждаюсь, поскольку получил наследство и теперь никому не хочу служить.
— Наследство — это твой древний клад? Но я боюсь, что мы даже не сможем до него добраться, за нами будут следить.
— Да, и потому нам надо оторваться от феодоритов еще до приезда в Кафу.
— Но как это сделать?
— Я вот что решил… если, конечно, и ты будешь согласна. Мы едем с купеческим обозом в Кафу, но по дороге вроде бы «теряемся». Купцы не будут нас долго искать, опасаясь разбойников. А мы тем временем уедем на побережье. В приморских городах мангупские князья нам не опасны, там хозяйничают генуэзцы. Переждав несколько дней, чтобы купеческий караван ушел подальше, мы отправимся на поиски клада. И дай Бог, чтобы он оказался не сказкой…
— А потом, когда вернемся в Кафу, что мы скажем?
— Скажем, что в дороге заблудились, потом чуть не попали в руки разбойников, спаслись за стенами какого-нибудь города. Да в Кафе феодориты и не посмеют нас допрашивать. Главное — выбраться отсюда. Здесь, на плато, мы как в плену.
— А если по дороге нас кто-нибудь узнает? В Сугдее, например?
— Если окажемся в Сугдее, то будем держаться подальше от дома Эраста. Ведь, кроме его слуг, нас почти никто там и не видел. А для пущей безопасности тебе в дорогу лучше одеться мальчиком.
— Да, пожалуй, хотя отец Панкратий вряд ли одобрит переодевание в мужской костюм. Но надо его убедить.
Внезапно порыв ветра залетел в грот, принеся рой мелких снежинок, и Марина поежилась, ощутив холод.
— Ты замерзла? — Донато обнял ее. — Пойдем отсюда в дом, к огню. Мы ведь уже сказали друг другу все самое главное. А о подробностях можно договариваться и в доме.
Они прошли вдоль крепостной стены, спустились по ступенькам к улице. Ветер усиливался, заставляя их слегка пригибаться к земле. Но внезапно Марина, вспомнив нечто важное, остановилась.
— Но если мы отстанем от купеческого обоза, то как будем жить, пока не доберемся до клада? Нам же придется платить за еду и ночлег.
— У меня еще осталось в поясе несколько монет. А на крайний случай… — он быстрым движением расстегнул ворот и показал Марине золотой медальон на цепочке. — Этот семейный медальон матушка разрешила мне продать, если у меня не будет другого выхода.
— Кажется, и я могу внести свою лепту. — Марина коснулась золотых серег у себя в ушах. — На что они мне, если в дороге я оденусь мальчиком?
Они поцеловались прямо посреди улицы, поймав на себе осуждающий взгляд проходившего мимо монаха.
В доме Гавраса отец Панкратий встретил молодых людей нетерпеливым вопросом:
— Ну, вы пришли к согласию?
— Да, святой отец, — кивнул Донато. — Мы согласны на все ваши условия… кроме одного. Я не смогу обвенчаться с Мариной прямо сейчас. Мне надо прежде исповедаться католическому священнику и расторгнуть помолвку, к которой меня принудили в Генуе.
Для отца Панкратия слова Донато явились неприятным открытием. Но после некоторого раздумья он все же согласился с римлянином:
— Хорошо. Обвенчаетесь позднее, в Кафе.
Марина и Донато незаметно, как заговорщики, переглянулись.
Глава десятая
Холодные зимние волны набегали пенными гребешками на берег, огибая выступающий в море купол небольшой скалы, на вершине которого стояла сторожевая башня, построенная генуэзцами, чье присутствие в этом греко-готском городке уже ощутимо обозначилось, хотя и было менее заметным, чем в Кафе или Солдайе. Консульский замок — весьма скромный в сравнении с кафинским — возвышался на прибрежном утесе Кале-Поти, у подножия которого располагалась пристань для кораблей. Город назывался Партенит в честь древней богини тавров Девы, именовавшейся по-гречески Партенос. По преданию, жрицей святилища Девы некогда была дочь царя Агамемнона Ифигения, которую богиня Артемида спасла от жертвенного ножа, перенеся на берег Понта Эвксинского, в далекую Тавриду.
Несмотря на небольшие размеры, город, расположенный в благодатной долине, защищенный от ветра медвежьей тушей горы, что называлась у греков Криуметопон (Бараний лоб), а у итальянцев — Камелло (Верблюд), был красив, довольно оживлен и известен по всей Таврике как важный торговый порт. Но здесь не только торговали, а и строили суда, выращивали виноград и фрукты, вели хозяйство в добротных городских усадьбах. А еще город был известен как родина святого Иоанна Готского, защищавшего иконопочитателей и возглавившего в Таврике восстание против хазар.
Так сложилось, что именно Партенит оказался тем местом, где Марина и Донато нашли пристанище, отделившись от купеческого обоза. Когда позади остались окрестности прибрежной горы, напоминающей медведя, и купцы направились дальше, к Лусте, Донато решил: пора! На повороте горной тропы молодые люди словно невзначай отстали от каравана и скрылись за соснами и выступами камней. Туман, окутавший долину, помог сделать их исчезновение незаметным. К тому же купцы из обоза не особенно приглядывали за случайными спутниками, которые присоединились к ним по поручению Космы Гавраса. Сам князь и отец Панкратий пока оставались в Мангупе, что облегчало Донато и Марине осуществить задуманное бегство.
Партенит, как большинство приморских городов, находился под влиянием генуэзцев, но консула сюда назначали не из Генуи, а из Кафы. И хотя договор с татарским ханом на владение побережьем еще не был заключен, генуэзские купцы уже чувствовали себя в городе хозяевами, оттеснившими от берега своих соперников-феодоритов. Впрочем, татарский наместник — тудун тоже не упускал случая напомнить, что Таврика является улусом Золотой Орды, а генуэзцы должны платить хану положенную дань.
Оказавшись в Партените, Донато и Марина сразу же позаботились о том, чтобы стать незаметными, затеряться среди горожан. А для этого прежде всего надо было найти пристанище. Они устремились на постоялый двор, где жили несколько приезжих купцов, ожидавших весны и начала судоходства.
Донато решил для безопасности назваться именем флорентийского купца Ридольфо Черки, с которым приехал в Кафу, а Марину, переодетую юношей, назвать своим братом Марино.
Постоялый двор оказался жилищем неуютным, тесным и довольно грязным. Марина, не привыкшая к столь убогим условиям и брезгливая от природы, отвела Донато в сторону и шепотом пожаловалась:
— Я не смогу тут ночевать, среди этих немытых постояльцев. Смотри, какая теснота, спят чуть ли не друг у друга на головах. И запах от них неприятный. А еще здесь, наверное, есть блохи и прочие насекомые. Да и постели никакой нет, спят прямо на рогоже, а со всех щелей дует.
— Потерпи немного, хотя бы одну ночь, а потом я что-нибудь придумаю, — пообещал Донато.
Он потребовал у хозяина топчан, объяснив, что «брат Марино» слаб здоровьем, и, потеснив нескольких постояльцев, устроил свою спутницу в самом теплом углу, где за стеной был очаг. Марина благодарно улыбнулась ему и, измученная усталостью, уснула.
А Донато некоторое время сидел, глядя на нее с глубокой нежностью. Никогда раньше — даже в зеленой юности — он не испытывал такого благоговейного чувства, как сейчас. До сих пор римлянин считал любовью обладание, утоление плотских желаний. Теперь же ему хотелось отдавать, а не брать, не покорять, а беречь и лелеять. Он чувствовал себя в ответе за эту девушку, готовую ради него переступить через предрассудки и правила, внушенные ей с детства. «Пока я ничего не могу ей дать, а как бы мне хотелось оградить ее от всех бурь, защитить от всего мира!» — подумал он, и желваки на его скулах заходили от скрытого волнения.
Донато и самому казалось странным, что столь возвышенную любовь ему внушила эта чужестранка, с которой у него не было ни общей родины, ни общей веры, ни надежды на общую судьбу. Римлянину даже пришло в голову, что это загадочные таврийские духи подарили встречу с девушкой, ставшей королевой его сердца. Память вдруг подсказала ему волнующие строки флорентийского поэта:
Коль не любовь сей жар, какой недуг Меня знобит? Коль он — любовь, то что же Любовь? Добро ль? Но эти муки, боже!.. Так злой огонь?.. А сладость этих мук!..[29]— Эй, флорентиец! — окликнул его один из постояльцев. — Не поиграешь ли с нами в кости?
Донато оглянулся:
— Мой брат нездоров, и мне бы не хотелось, чтоб его будили шумом игры.
— А мы не здесь будем играть, а наверху, в харчевне.
У Донато вдруг появилось какое-то странное предчувствие выигрыша. Может быть, вид спящей Марины и желание немедленно улучшить ее жизнь толкнули его без особых колебаний согласиться на игру.
Он пошел с тремя другими постояльцами в харчевню, где несколько посетителей пили вино и лениво обсуждали городские новости.
Предчувствие не обмануло Донато: он сразу же начал выигрывать. Но прежний горький опыт подсказывал ему, что нельзя радоваться раньше времени и соглашаться на предложение выпить вина. Другие игроки выпили, а он лишь поднес кружку к губам и, оглядевшись вокруг, с рассеянным видом спросил:
— А что же у вас в городке такой бедный постоялый двор? Наверное, его хозяин очень скуп?
От прилавка в углу отделился краснолицый толстяк и, сделав пару шагов к игорному столу, проворчал:
— Если тебе, флорентиец, здесь не нравится, то убирайся к чертям вместе со своим изнеженным братцем.
Донато повернулся к толстяку и, смерив его презрительным взглядом, заявил:
— Ты плохой хозяин, да еще и невежа.
Толстяк набрал в грудь воздуха, готовясь, очевидно, дать внушительный ответ, но неожиданно смешался, глянул на дверь и скороговоркой пробормотал:
— Я не владелец постоялого двора, а управляющий. Может, у нас условия не такие роскошные, как в вашей Флоренции, но здешние постояльцы не жалуются.
Донато тоже посмотрел на дверь — и встретился взглядом с сухопарым и чуть сутулым мужчиной лет сорока пяти, одетым богато и даже с претензией на изысканность.
— Мессер Таленто! — льстиво заюлил перед вошедшим толстяк. — Вы уж простите, что постояльцы снова затеяли игру, я знаю, что вы против этого, но я же не мог им помешать…
Донато догадался, что «мессер Таленто» — это и есть владелец постоялого двора и харчевни. Отмахнувшись от объяснений управляющего, Таленто подошел к столу и обратился к Донато:
— Ты флорентиец?
— Да, флорентийский гражданин Ридольфо Черки, — ответил Донато, внутренне насторожившись.
Блеклое лицо Таленто вдруг расплылось в улыбке:
— Ты, наверное, поэт или художник, как многие флорентийцы?
— Увы, нет, — развел руками Донато. — Среди флорентийцев теперь тоже в почете торгаши, а не поэты. Как сказал наш знаменитый Боккаччо,
«На листья лавра вдруг цена упала И на цветы; за скрюченной спиной У всех стяжанья груз; и, взмыв гурьбой, Пороков тьма кругом возликовала».[30]— О! Да вы ученый человек, синьор! — Таленто, похоже, был в полном восторге. — Я давно мечтал встретить в этой глуши образованного флорентийца. Каким счастливым ветром вас занесло в наш маленький городок?
У Донато с Мариной была заранее заготовлена история о том, что купеческий обоз был по дороге ограблен разбойниками и только двоим братьям удалось убежать, и они теперь сами добираются в Кафу.
— Какое несчастье!.. — покачал головой Таленто. — Зимние дороги так опасны, я бы посоветовал вам переждать в Партените до весны. — Он окинул взглядом стол с игральными костями и озадаченные лица игроков. — А скажите, мессер Ридольфо, вам сегодня везло в игре?
— Да, пока я в выигрыше, — ответил Донато.
— Тогда забирайте свой выигрыш и уходите, нельзя долго искушать судьбу.
Донато и сам хотел уже выйти из игры и мысленно подыскивал повод, а Таленто своим вмешательством ему помог. Когда римлянин встал из-за стола, хозяин предложил ему пройти в отдельную комнату и поговорить.
Комната, видимо, предназначалась для особо важных гостей, потому что была куда чище и теплей, чем та общая, в которой жили обычные постояльцы. Здесь было две кровати, два стула, стол, сундук в углу и полка с посудой.
— Вот что скажу вам, мессер Ридольфо, — начал хозяин. — Сам я генуэзец, но всегда уважал ученость, которой славятся флорентийцы. Вы, наверное, учились в университете?
— Да.
— А вот мне, увы, не довелось. Судьба забросила меня в эту глушь, на край света, но я рассматриваю свое пребывание в Таврике как временное. Скоро накоплю достаточно денег, вернусь в Италию и там буду жить как благородный человек. Но для этого мне и двум моим сыновьям надо знать хотя бы азы того, что нынче знают образованные синьоры. А кто нас может этому научить? В наш городок если и приезжают люди из Италии, так все больше невежественные торговцы или корабельщики из Генуи. А я всегда мечтал, чтобы хоть мои сыновья получили образование во Флоренции. И у меня к вам предложение, синьор Черки. Вы сейчас оказались в трудном положении, а я предоставлю вам приличное жилье и стол, за что вы научите моих сыновей хорошим манерам, стихам, расскажете о художниках, поэтах и ученых людях. Словом, расскажете все, что знаете сами, дабы юноши не попали впросак, когда появятся в Италии в благородном обществе.
— Не знаю, что вам ответить, синьор. — Донато пожал плечами. — Ваше предложение мне нравится. Но мы с братом не можем задерживаться здесь на долгое время.
— Но хотя бы на месяц-другой. В начале апреля я сам буду ехать в Кафу и вас туда благополучно доставлю. — Заметив колебания Донато, он поспешно добавил: — Если вы не доверяете мне, то можете расспросить в городе кого угодно, вам каждый скажет, что Таленто Газано — порядочный и состоятельный человек.
Донато сразу же подумал о Марине, для которой, несомненно, было бы лучше переждать холодное время здесь, в удобном месте, а не путешествовать по продуваемым ветрами дорогам и заснеженным склонам, рискуя простудиться и заболеть. Даже его нетерпеливое желание поскорее добраться до клада сейчас отступало перед заботой о благополучии любимой девушки.
— Хорошо, синьор Газано, я почти согласен. Только надо посоветоваться с братом.
— Так советуйтесь прямо сейчас!
— Но Марино сейчас спит, он устал и немного приболел в дороге. Он довольно слабый юноша.
— Но такой же ученый, как вы?
Донато вдруг подумал о том, что одежда и вероисповедание «брата» могут вызвать вопросы у генуэзцев, и посчитал нужным пояснить:
— Марино неплохо образован, но — вы не удивляйтесь — он другой веры. У нас общий отец, а матери разные. Его мать была гречанкой и воспитала брата в греческой вере.
— Как жаль, что сын флорентийца стал схизматиком, — скривился Таленто. — Впрочем, это поправимо. Ему надо почаще беседовать с учеными клириками.
— Да, наверное, — уклончиво ответил Донато.
— Если вы согласны с моим предложением, то можете располагаться с братом прямо здесь, в этой комнате, или идти жить в мой дом, он недалеко от постоялого двора.
— Что ж, эта комната мне нравится. — Донато огляделся вокруг. — Пожалуй, я согласен. Если моих скромных знаний хватит, чтобы быть полезным вашим сыновьям, то буду рад.
Хозяин и гость договорились приступить к обучению юношей прямо с завтрашнего утра. Когда довольный новым знакомством генуэзец ушел, Донато навел о нем справки у других постояльцев. Оказалось, что Таленто Газано — не только владелец постоялого двора, но и один из самых богатых в Партените купцов. О нем говорили как о прижимистом и ловком человеке, который умел ладить и с генуэзским консулом, и с татарским тудуном, не скупясь для них на подарки, в то время как своим слугам и простым постояльцам не уступал даже мелкой монеты.
Обрадованный тем, что появилась возможность облегчить пребывание Марины на постоялом дворе, Донато вернулся в неуютное помещение, где она спала на топчане, свернувшись калачиком. Он сел рядом и поправил на ней одеяло, а она вдруг проснулась, посмотрела на него с тревожным удивлением и спросила:
— Ты куда-то уходил, Донато? Где ты был?
— Недалеко, в харчевне. А у тебя слишком чуткий сон.
— Это потому, что я все время настороже. А что ты делал в харчевне? Ты… играл? — От этой догадки она окончательно проснулась и села, обхватив колени руками. — Ты играл? Но как ты мог! Ведь игра тебя уже один раз погубила.
— Не беспокойся, малыш, на этот раз я в выигрыше, — улыбнулся Донато. — Еще и в каком выигрыше! Пойдем отсюда в более удобное место. Я же говорил, что обязательно что-нибудь придумаю.
Он привел девушку в отдельную комнату, которую предоставил им Таленто.
В порыве радости Марина бросилась ему на шею, так что шапка слетела у нее с головы и распустившиеся косы упали на спину. А Донато, поцеловав девушку скорее нежным, чем страстным поцелуем, глухо произнес:
— Пока я не имею на это права…
Ее руки соскользнули с его плеч, и, отступив назад, она одними губами спросила:
— Не имеешь права меня любить?
— Не имею права тебя желать. — Он отвел взгляд в сторону. — Любовь — она в сердце, ее никакие законы не могут запретить. Но сделать тебя своей женщиной, разделить с тобой ложе… такое право я заслужу лишь после того, как смогу тебе что-то дать в этой жизни.
Она отвернулась, не зная, радоваться или грустить. Он подошел сзади, раздвинул ей волосы на затылке и прижался губами к нежной девичьей коже. Марина дрогнула, чуть откинув голову, а Донато тут же отпустил ее и сказал, тяжело переводя дыхание:
— Хочу тебя безумно, но не должен поддаваться искушению.
Она отозвалась отрывисто:
— Да, не должен. И я не должна. Отвернись, я разденусь.
Одна из кроватей была застелена чистой белой тканью, и Марина, раздевшись до рубашки, нырнула под одеяло и с наслаждением вытянулась на вполне удобном ложе.
А Донато, зачерпнув ковшом воды из чана, жадно выпил, остаток плеснул себе на голову, погасил светильник и сел на другую кровать.
— Спасибо, что жалеешь меня, — тихо промолвила Марина.
Он ничего не ответил, только вздохнул, сам себе удивляясь: ведь еще месяц-другой тому назад он готов был поступить с Мариной, как и с другими женщинами, не заботясь о том, чем обернется для них любовная близость и что с ними будет дальше. Теперь же, изнывая от желания, он находил волю сдерживать себя и беречь ту, которую не мог сделать своей женой перед Богом и людьми. Каким же чудом эта девушка незаметно, исподволь, обрела над ним такую власть? О, не иначе это чары Таврики с ее древними тайнами и местами силы…
Потянулись однообразные и в то же время полные скрытой тревоги дни в маленьком городе. Донато принял на себя роль учителя купеческих сыновей, Марина же, изображая хворого «брата», старалась поменьше попадаться людям на глаза, отсиживалась в комнате или одиноко бродила вдоль морского берега, порой проделывая длинный путь от базилики у подножия горы Камелло до судоверфи в бухте Ламбадие.
Первое время Марина и Донато еще боялись, что купцы из обоза догадаются вернуться в Партенит и обнаружат беглецов, но, когда прошло несколько дней, молодые люди успокоились на этот счет.
Теперь для Марины главная опасность заключалась не во внешнем мире, а в ней самой. Чем дальше, тем труднее было ей ночевать в одной комнате с Донато, чувствуя тот жар, который он сдерживал лишь усилием воли. Днем римлянин с утра до вечера загружал себя работой: обучал купеческих сыновей не только наукам, но и приемам верховой езды и владению оружием, а после занятий с «учениками» еще нанимался помощником в судостроительную мастерскую. И Марина понимала, что беспрестанная работа помогает ему отвлечься от телесного желания.
Иногда, в свободные часы, «братья из Флоренции» вместе взбирались на гору, где было несколько греческих поселений с церквями и часовнями, а сверху открывался великолепный вид на море и долину.
Наступил март, и ранняя таврийская весна принесла долгожданное тепло. Солнечными бликами сверкало море, покрывались пышной зеленью горные склоны, распустились в ароматном цветении жимолость, самшит, кизил и миндаль.
В один из особенно ярких весенних дней Марина поднялась от окраинных улочек к террасам холма Тепелер, на которых располагались усадьбы состоятельных людей. Вымощенные дворы выходили на неширокую улицу, идущую по краю террасы, и Марина, с интересом разглядывая дома и цветущие сады, вдруг застыла на месте, увидев Донато рядом с хорошенькой женщиной. Они беседовали возле ворот большой усадьбы и не заметили Марину, наблюдавшую за ними издали. Девушка испугалась, что незнакомка уведет Донато в дом, и вздохнула с облегчением, когда собеседники разошлись в разные стороны. Правда, они улыбнулись друг другу на прощание и женщина даже игриво похлопала Донато по плечу.
Ревность снова заскребла сердце Марины; девушка боялась, что опять в жизни Донато появится какая-нибудь новая Нимфодора, ибо ведь он — мужчина, находящийся во власти естественных желаний. «Вот что случается, когда любишь человека, которому не можешь отдаться!» — говорила она сама себе, и слезы туманили ее взгляд, мешая видеть красоту весны.
Вечером Марина осторожно спросила Донато о незнакомке, но он, словно угадав ревнивую тревогу девушки, тут же ее успокоил, объяснив, что женщина, с которой он беседовал, — жена Таленто и притом же она далеко не так молода, как кажется издали.
Прошло еще несколько дней, и Марина уже начала до крайности тяготиться пребыванием на одном месте, ей не терпелось отправиться в путь. Но скоро Донато и сам об этом заговорил:
— Завтра нам представится удобный случай для отъезда. Таленто будет не до нас, у него образовалась какая-то тяжба с татарским наместником. Он, конечно, надеется, что мы пробудем здесь еще месяц и уедем в Кафу вместе с ним, но ведь у нас с тобой такая цель, что попутчики нам ни к чему. Я договорился о покупке двух лошадей, так что завтра на рассвете выезжаем.
— Наконец-то в путь! — обрадовалась Марина. — У меня хорошее предчувствие! Мы едем навстречу новой жизни!
— Так оно и есть, — улыбнулся Донато. — Скорей бы уже началась эта жизнь… с тобой.
По блеску его глаз она догадалась, о чем он подумал. Ей стало сладко и тревожно. Будущее, которого она желала и боялась, с каждым днем все ближе подступало ней и требовало каких-то решений…
Утром вместе с Мариной и Донато постоялый двор покинули двое торговцев, направлявшихся в селение Скути[31], где у них были виноградники. По дороге они охотно завели разговор с «братьями», а Марина и Донато, переглянувшись, решили, что с такими временными попутчиками им ехать будет безопасней, да и дорогу местные виноторговцы знают лучше.
Через два дня, останавливаясь лишь в Лусте, четверо путников достигли Скути, а дальше Марина и Донато продолжали путь уже вдвоем. Впрочем, до западной округи Сугдеи было теперь недалеко, и дорога, бегущая средь живописных прибрежных гор и долин, казалась спокойной, на ней часто встречались путники и повозки.
Скоро из-за горы Перчем, укрывавшей город с запада, перед Мариной и Донато предстала Сугдея-Солдайя. День уже клонился к вечеру, и закатные лучи бросали красноватый отсвет на крыши домов, стены и башни крепости, сияли золотом на куполе православного храма возле горы и окрашивали морскую гладь янтарно-розовым цветом. Остановившись на возвышенном месте, всадники невольно залюбовались вечерней картиной приморского города.
— Какая красота! Какое море! — прошептала Марина.
— Да, море… — откликнулся Донато. — Только в минуты заката или рассвета понимаешь, почему Гомер называл море винноцветным… Но нам надо поторопиться, чтобы до темноты найти ночлег.
— А завтра прямо с утра поедем в горы?
— Нет, не сразу. Прежде купим на рынке все необходимое для нашей дороги. Среди прочего — и женское платье, чтобы ты вернулась домой не в виде юноши. Ну а мое оружие, слава Богу, при мне, его покупать не придется.
— А не опасно ли нам появляться на рынке? Вдруг встретим кого-то из людей Василия или Эраста.
— Надеюсь, что не встретим. Но не заехать в Солдайю нам никак нельзя, ведь другого города на пути не будет.
Постоялый двор располагался прямо возле рынка, в стороне от того квартала, где был дом Эраста, и это успокоило Марину. Но все же ночью ей плохо спалось, она чувствовала внутреннюю дрожь от ожидания того момента, когда наконец Донато достигнет цели, к которой стремился все эти долгие месяцы своего пребывания в Таврике. Ведь благодаря таинственному сокровищу он стал покровителем и спутником Марины. И вот теперь у нее будет возможность проверить: действительно ли он полюбил ее всем сердцем или она нужна ему лишь как проводник к магическому месту и, достигнув своей цели, он потеряет интерес к девушке. Именно подспудный страх при мысли, что чувство Донато окажется фальшивым, не давал ей покоя и мешал уснуть.
Но и Донато не спалось. Он думал о том, как могут рухнуть его надежды на счастье, если сокровища он так и не найдет. Ведь за столько веков клад могли раскопать воры или просто случайные люди. А может быть, это сокровище — всего лишь сказка, миф, шутка какого-нибудь древнего писаря. И что же тогда ждет его, Донато Латино, потомка римских всадников и первых христиан? Какую судьбу он сможет выбрать? Наняться арбалетчиком на службу к генуэзцам и идти рядом с такими вояками, как Бартоло, на битву против русичей? Стать лазутчиком феодоритов в лагере консула? А может, вспомнить былое корсарство и снова носиться по морю в поисках добычи или собственной гибели? Любой из трех жребиев, которые могла предоставить ему судьба, разлучал его с Мариной, а без нее жизнь для Донато теперь теряла свет и радость. Лежа с открытыми глазами и не догадываясь, что Марина тоже не спит, он мысленно обращался к ней: «Если я останусь нищим бродягой или свяжусь с опасным ремеслом лазутчика или корсара, то не буду иметь на тебя права, моя королева. Но ты не бойся; я не вмешаюсь в твою судьбу, если не смогу надежно защитить тебя и дать тебе ту жизнь, которой ты достойна. Скорее погибну, чем сделаю тебя несчастной».
Утром, едва рассвело, «флорентийские братья» поспешили на рынок, где купили себе в дорогу хлеба, сыра и вяленого мяса, а также меда и сушеных ягод. Затем Донато отыскал подходящую ему лопату — прочную, но с короткой рукояткой, чтобы можно было спрятать ее в мешок и она бы не бросалась в глаза. После этого молодые люди зашли в лавку, где продавались ткани и одежда. Платье для Марины нашлось только одно, да и то латинского покроя, но пришлось его купить, потому что другие казались слишком широки или, того хуже, выглядели поношенными. В этой же лавке Марина, помня свою первую ночь на неуютном постоялом дворе, посоветовала Донато купить еще кусок полотна и две шерстяные накидки.
Пока он договаривался с продавцом о цене и укладывал покупки в дорожную сумку, Марина выглянула из лавки — и тут же, вздрогнув, отпрянула назад. Как раз напротив, возле мастерской ткачей, она увидела свою кафинскую подружку Зою, которая стояла с грустным и рассеянным видом и, казалось, ничего не замечала вокруг. Такое настроение было совсем не присуще всегда веселой и подвижной Зое, и Марина невольно подивилась, почему ее подруга вдруг очутилась в Сугдее, да еще так погрустнела. Впрочем, мать Зои была сурожской славянкой; возможно, девушка приехала сюда в гости к родичам. Но как бы там ни было, а показываться на глаза кому-либо из знакомых, даже лучшей подруге, Марина сейчас не могла, а потому растерялась и спряталась в лавке. Но тут из ткацкой мастерской вышла пожилая женщина, взяла Зою за руку и увела на другой конец рынка. Марина осторожно выглянула им вслед и с удивлением заметила, что Зоя идет как-то неуверенно, спотыкаясь, словно человек, который смотрит в одну точку, а не себе под ноги.
— Что-то случилось? — спросил Донато, обнаружив, что Марина за кем-то наблюдает.
— Так… ничего. Здесь почему-то оказалась моя подруга из Кафы. Но она, слава Богу, меня не заметила.
— Надо поскорее уезжать из города, пока еще кого-нибудь не встретили.
А у Марины вид печальной Зои вызвал смутную тревогу и тоску: что там сейчас творится в Кафе, какие, может быть, перемены случились за это время? И что сама она там увидит, вернувшись? При мыслях о матери у девушки даже слезы навернулись на глаза.
Скоро молодые люди выехали из города, не встретив на своем пути знакомых и не бросаясь в глаза горожанам. Сейчас, в пору весенних работ и торгов, все вокруг пришло в движение и проезжие всюду были обычным делом.
От Сугдеи южная дорога вела к городку Козио, славившегося своими винами, а северная, петлявшая между горными хребтами, — к Отузам. По этой дороге и поехали Марина с Донато, направляясь к только им известной цели. На западном склоне высокой горы стоял греческий монастырь во имя святого Георгия, и у Марины сначала мелькнула мысль пойти помолиться в монастырскую церковь, но потом она вдруг испугалась, что может встретить там кого-то из феодоритских знакомых, а то и самого отца Панкратия. При мысли о священнике девушка почувствовала себя грешной обманщицей, и на сердце у нее стало тяжело.
Чем ближе были знакомые места, где она когда-то нашла спасительное убежище, тем тревожней становилось у нее на сердце. И, словно задавшись целью усугубить эту смутную тревогу, тучи все более плотно затягивали небо, не давая пробиться солнечным лучам. Внезапный порыв ветра шумно пронесся по кронам деревьев, едва не сорвав с Марины шапку, под которую она прятала свою туго заплетенную косу.
— Похоже, будет гроза, — заметил Донато, с беспокойством поглядывая вокруг. — Наверное, лучше где-нибудь укрыться. Повернем в Козио?
— Нет, не надо! — звонким голосом воскликнула Марина. — Мы уже близки к цели! Видишь ту скалу за обрывом? Это в ней пещера!
Девушку охватило какое-то странное возбуждение, почти азарт, как у игрока, решившего во что бы то ни стало добиться победы. Донато, словно заразившись ее настроением, пришпорил коня и с криком «вперед!» помчался вверх по горной тропе. Далекие раскаты грома только усиливали мятежное состояние путников, столь близких к своей заветной цели.
Дождь хлынул, когда они уже одолели подъем и поехали шагом вдоль опасного обрыва.
— Ты не промокнешь? — оглянулся на спутницу Донато.
— Ничего! — откликнулась она весело. — Это даже лучше, что дождь: ты сможешь увидеть хризму на камне! Эта гроза — знамение свыше, притом — благоприятное знамение!
Вход в пещеру, прикрытый выступом скалы и кустом можжевельника, был по-прежнему незаметен, но теперь пройти мимо него было невозможно: древний христианский знак проступал на каменной плите, вызванный к жизни струями небесной воды. Потрясенный Донато несколько мгновений смотрел на хризму, потом, опомнившись, спрыгнул с коня и помог сойти Марине, которая тут же нырнула в пещеру. Донато привязал лошадей к ближайшему дереву, снял мешки с поклажей и пошел в укрытие следом за Мариной.
— Словно послание от далеких предков… — прошептал он, оглядывая пещеру изнутри. — Дай Бог, чтобы сказка имела удачный конец.
Не теряя времени, он вытащил из мешка лопату и, перекрестившись, принялся копать у дальней стены пещеры. Марина заметила, что руки его слегка дрожат. Девушка и сама ощущала внутреннюю дрожь, наблюдая за Донато. У нее было чувство, что клад в скале — это не просто золото и драгоценности, но и духовное наследие от первых христиан, которые еще не делились на православных и католиков. И Марина уже давно загадала, что если они с Донато найдут сокровище, то это будет знаком того, что их любовь получила благословение, несмотря на все внешние преграды. Если же клада на месте не окажется — значит, ей не позволено и не суждено быть с любимым…
После долгих минут усердной работы Донато и тревожного ожидания Марины лезвие лопаты наконец уперлось в металлический предмет. Раскопав землю вокруг, Донато извлек из нее потемневший от времени медный ларец и, тяжело переводя дыхание, вытерев пот со лба, снова перекрестился. Наступила решительная минута. С помощью ножа Донато принялся открывать долгожданную находку. Замок оказался нехитрым, но от многовекового земельного плена крышка словно приросла к корпусу ларца, и с ней пришлось долго провозиться. Когда же она наконец поднялась вверх, взорам молодых людей предстало сверкающее великолепие неподвластных времени сокровищ. Алмазы, изумруды, рубины и сапфиры переливались в золотых оправах колец, серег, подвесок и диадем, созданных руками искусных древних мастеров. Сокровища, некогда положенные в ларец знатными христианами Рима, которые надеялись основать свою церковь и начать новую жизнь где-нибудь вдали от грозного императорского города, теперь были снова открыты для мира и могли послужить добру или злу.
На мгновение Марине показалось, что она вот-вот лишится чувств, и девушка осела по каменной стене прямо на землю. Донато встревоженно кинулся к ней:
— Что с тобой? Тебе плохо?
— Нет, ничего… — Она поднялась, опершись на руку Донато. — Это просто от потрясения… и от вида всей этой старинной красоты.
— Да, прекрасно, не правда ли? — Донато взял в руки ожерелье из алмазов и рубинов, полюбовался им на свет, потом поднес его к груди Марины. — И это наше! Самые лучшие из них я не продам, чтобы ты могла украсить ими себя.
— Нет, — покачала головой Марина. — Это сокровище — только твое, ты его наследник.
— Не я один, мы оба, — возразил Донато. — Ведь без тебя я бы его не нашел. Да без тебя мне и не захочется начинать новую жизнь! И судьбы наши будут нераздельны даже вопреки людским законам.
Он обнял ее, и Марина положила голову ему на плечо. Она была почти счастлива. Только какая-то внутренняя дрожь ее не отпускала, и девушка решила, что это от волнения.
— Ты промокла, замерзла? — спросил Донато.
— Нет, ничего. Смотри, дождь уже прошел, солнышко появилось! — Она выглянула из пещеры и радостно всплеснула руками: — Сегодня дождь недолго продолжался, а ровно столько, чтобы показать нам магический символ! Это знамение свыше! Мы можем начать новую жизнь!
— Да, — улыбнулся Донато. — Только путешествовать с этим ларцом нам пока опасно. Возьмем в дорогу лишь несколько колец, а ларчик до времени зароем обратно. Кольца я продам в Кафе, найму людей для охраны, а потом вернусь за сокровищем.
— Я тоже так бы поступила.
Скоро, надежно упрятав ларец обратно в землю и насыпав сверху слой камешков, Марина и Донато покинули пещеру, унося в карманах по нескольку самых мелких драгоценностей из клада.
— Вечер приближается, надо искать ночлег, — заметил Донато. — Наверное, поедем в хижину Симоне? Она ведь недалеко отсюда?
— Недалеко. Но, когда я пешком до нее добиралась по горной дороге, да еще размытой дождем, мне показалось, что это такая даль…
— Ничего, на лошадях часа за два доедем.
Солнце переливалось самоцветами на мокрых листьях и траве, ветер отогнал дождевые тучи за горизонт, и теперь по голубой небесной глади плыли лишь белые узоры легких перистых облаков. В воздухе пахло чистотой гор, моря и недавней грозы. Заметно потеплело, но Марину все равно пробирала дрожь, и через некоторое время девушка поняла, что причиной тому — уже не волнение, а озноб. Ее промокшая одежда еще не высохла, и из-за этого даже слабый ветерок казался ей пронизывающим.
Донато, находясь в радостном возбуждении, торопился вперед, что-то насвистывал, напевал и не сразу заметил состояние Марины. Наконец, удивившись ее молчаливости, он внимательно посмотрел на девушку и спросил:
— Бедняжка, ты, наверное, устала от всех наших приключений?
— Нет, ничего… Просто я, кажется, немного замерзла после дождя.
В голосе ее была заметная дрожь, и Донато встревожился:
— Немного замерзла? Да у тебя зуб на зуб не попадает. — Он вытащил из дорожного кожаного мешка сухую накидку и набросил на плечи Марине. — Как бы не началась лихорадка… Это я, дурак, виноват. Не следовало ехать в дождь, лучше бы переждали в деревне. Но теперь надо поскорей добраться до жилья, обсушиться и согреться.
Они выехали в долину среди лесистых гор и, осмотревшись вокруг, поняли, что отклонились в сторону от усадьбы знахаря. А между тем вечерело, тени становились все гуще и длинней, сумрак постепенно гасил яркие краски дня. Донато уже подумал, что придется сделать привал где-нибудь в роще и разжечь костер.
И вдруг перед ними, словно по волшебству, возник дом. Сразу за поворотом дороги, огибавшей невысокую гору, среди сосен и дубов, возвышалось довольно большое каменное здание — одноэтажное, но с высоким цоколем, с галереей вдоль фасада, с зарешеченными окнами и маленькими башенками по углам. Путники устремились туда, словно к спасительной гавани, но не встретили вокруг дома ни одной живой души, даже не услышали лая собак. Донато спешился, постучал в дверь, окно — никакого ответа. Дом выглядел нежилым, хотя, судя по качеству кладки, решеток и перил, был построен совсем недавно. К тому же во дворе был колодец, сарай и навес для лошадей. Эта одинокая усадьба могла принадлежать кому-либо из местных землевладельцев, а могла оказаться и разбойничьим притоном. Но, во всяком случае, судя по архитектуре, строили его не татары, а генуэзцы. Донато вспомнил, что Верхние и Нижние Отузы, как и вся Отузская долина, принадлежат генуэзцам, и уже без всякого сомнения поднажал на дверь. Она оказалась не заперта, а лишь плотно закрыта и, поддавшись его усилиям, распахнулась.
— Зачем ты это делаешь? — запротестовала Марина, но из-за болезненного состояния ее протест оказался вялым. — А если появятся хозяева?
— Ничего, они нас не прогонят, мы заплатим за ночлег. Этот дом нам просто Бог послал, чтобы спасти тебя от простуды.
Он помог Марине спешиться, на несколько мгновений задержав девушку в своих объятиях.
Путники вошли в дом. В первой большой комнате был очаг, кучка дров в углу, стол, скамейки и поставец с глиняной посудой, частью побитой. У стены стояла широкая лежанка, покрытая пыльной овчиной.
— В доме явно никто не живет, но здесь имеется то, что нам нужно, — заметил Донато. — Присядь, любимая, потерпи немного, сейчас я все сделаю.
Он вышел во двор, привязал лошадей под навесом и занес в дом мешки с едой и одеждой. Затем, присев у очага, разжег огонь, и скоро сумрачная комната озарилась живым подвижным светом. Донато помог Марине снять промокшую одежду, которую развесил над очагом. Девушка смущенно прикрыла свою наготу шерстяной накидкой и дрожащим от озноба голосом спросила:
— А ты почему не переодеваешься? Тоже ведь промок.
— Я не замерз. Сейчас вытряхну эту овчину, чтобы ты могла лечь и укрыться.
Пока он выбивал пыль из лохматой овечьей шкуры, Марина успела застелить лежанку купленным в Сугдее полотном и легла, завернувшись в шерстяной плащ. Донато вернулся и укрыл ее сверху овчиной. Но девушку по-прежнему бил озноб. Донато дал ей выпить подогретого вина, повесил над очагом котелок с колодезной водой, бросил в него сушеные ягоды шиповника и малины.
— Ты так заботишься обо мне… — прошептала Марина. — А я оказалась такой слабой и хилой, даже стыдно…
— Ты не слабая, ты очень сильная, — возразил Донато. — Просто на твою долю выпало слишком много злоключений за короткий срок. Не каждая девушка, выросшая в спокойном благополучном доме, так бы справилась с этими испытаниями.
Он подал ей ягодный отвар, и она выпила, постукивая зубами о стенку ковшика. Затем, укутавшись до подбородка, легла, но озноб ее не отпускал.
— Все еще дрожишь? — спросил Донато, наклонившись над девушкой.
— Да, почему-то меня морозит, — откликнулась она удрученно.
— Тогда есть только один способ тебя согреть, — заявил он решительно и стал раздеваться перед очагом.
Она вначале не поняла, что он задумал, и смотрела с некоторой растерянностью, как он сбрасывает с себя одежду. В красноватых отблесках огня его стройное сильное тело с выпуклыми мускулами казалось ей ожившей статуей греческого или римского бога. Оставшись лишь в узкой повязке на бедрах, он подошел к Марине и лег рядом с ней под покрывало, заключив девушку в объятия. Их обнаженные тела соприкоснулись, и Марина почувствовала, как лихорадочный озноб отступает перед тем жарким чувственным волнением, которое исходило от Донато и передавалось ей самой.
— Так теплее? Так лучше? — спрашивал он все более прерывистым и хриплым голосом, а она не имела сил ответить, только молча кивала и отводила взгляд от его горящих черных глаз.
Скоро ей уже было не холодно, не зябко, а совсем тепло. Донато начал ее целовать — вначале осторожно, нежно, а потом все пламенней. Голова у нее закружилась, и она не заметила, что сама отвечает на его поцелуи и объятия со всей безоглядностью своей первой настоящей любви. В какой-то момент она краем сознания ощутила, что падает в запретный омут, и прошептала:
— Но ведь нельзя, это грех… Мы не венчаны, ты женат…
— Нет, любимая, теперь можно, — возразил он, прерывая ее протесты поцелуями. — Я загадал, что если сокровище найдется, — значит, мы получим духовное благословение. Бог послал нам любовь, и людские законы нас не разлучат.
— Я загадала то же самое, — прошептала Марина и больше не колебалась, всецело доверив себя любимому мужчине.
Теперь ей было не просто тепло, а жарко, и она даже не заметила, как соскользнула на пол овчина, сбился к ногам шерстяной плащ и единственным покрывалом для ее тела остались руки и губы Донато. А он придумывал все новые, все более прихотливые ласки, словно готовил девушку к чему-то главному, к какой-то неизведанной вершине. И Марина, несмотря на свою неопытность, с каждой минутой становилась смелей и раскованней, отвечая на его страстные порывы. Потом сквозь волны томительно-сладкого возбуждения она ощутила боль — и поняла, что стала женщиной.
Донато бережно завершил это первое в ее жизни любовное соитие. Опомнившись после головокружительной бури, Марина почувствовала блаженный покой и тепло. Ее голова лежала на груди Донато, а он, укрыв девушку покрывалом, одной рукой обнимал ее за плечи, а другой гладил ей волосы, вытирал взмокший лоб. Она провела ладонью по его груди и прошептала:
— Кажется, ты вылечил меня от простуды.
— А ты вылечила меня от любовной горячки, — сказал он низким бархатным голосом, в котором все еще чувствовалось напряжение страсти. — Если бы ты знала, как трудно мне было находиться рядом с тобой — и не касаться тебя. Поверь, я испытывал муки Тантала.
— И заглушал свои муки с другими женщинами, — не удержалась от ревнивого упрека Марина.
— Ты вспомнила Нимфодору? Забудь о ней, забудь обо всем, что было раньше. Я ведь думал тогда, что между нами — пропасть, что ты не согласишься быть моей…
— А я согласилась… хотя не должна была. Но мне теперь уж все равно. Теперь моя жизнь в твоих руках, Донато…
— Я все сделаю, чтобы ты была счастлива, — заверил он ее, и она, благодарно улыбнувшись, унеслась в царство волнующих снов.
Утром Марина пробудилась с сознанием необратимых перемен. Она была уже не та, прежняя девушка из Кафы, наученная матерью, священником и всем окружением, что жизнь ее должна протекать по раз и навсегда установленным законам, и какие-либо изменения, счастливые или несчастливые, возможны лишь внутри этих законов. Теперь же она преступила некую черту, дала волю собственным чувствам и решила жить так, как хочется. Впереди могло ждать осуждение, изгнание, невзгоды, — все ей казалось нипочем. Лишь одного она боялась — предательства любимого мужчины. «Только твоя любовь для меня важна», — прошептала она сквозь сон. И тут же почувствовала, как его губы коснулись ее закрытых глаз и знакомый мужественный голос прозвучал у самого ее уха:
— Ты для меня — весь мир. Без тебя я никогда не буду счастлив.
Они снова сплелись в объятии и познавали друг друга уже не в вечерней темноте, а при ярком утреннем свете, струившемся из окон на их обнаженные тела.
Но если Марина была поглощена лишь своими внутренними переживаниями и ощущениями, то Донато не забывал и о внешнем мире, ибо чувствовал ответственность за неопытную девушку, которая всецело ему доверилась и для которой он был в этом мире защитой. С самого утра, пока Марина спала, он оглядел со всех сторон таинственный дом и обошел окрестности. Встретив двух пастухов, гнавших к реке стадо овец, Донато спросил их, кому принадлежит этот дом и почему он пуст. Пастухи, опасливо покосившись на брошенное жилище, ответили, что владелец дома и вся его семья недавно погибли, а наследник пока не объявился. Донато понял, что с домом связана какая-то темная история, и решил более подробно выяснить все у Симоне.
Вначале он думал отправиться к знахарю вдвоем с Мариной, но после любовной ночи девушка еще не оправилась, и он понял, что ей пока будет больно даже сесть на лошадь и уж тем более проехать какое-то расстояние. Возможно, будь на месте Марины другая женщина, он не опекал бы ее с такой нежностью, но эта юная славянка пробуждала в нем чувства совершенно особенные: ему хотелось быть для нее и мужем, и другом, и отцом, и братом — всем на свете.
И потому он убедил девушку отдохнуть в этом подаренном судьбой доме, пока сам он съездит к Симоне и выяснит, чье это жилище, а также какие есть новости из Кафы.
Умывшись колодезной водой и подкрепившись взятыми в дорогу припасами, молодые люди ненадолго расстались.
Донато поехал к дому Симоне, а Марина, проводив его, принялась осматривать свое временное пристанище. В доме имелось несколько комнат, но все они, кроме той, где путники ночевали, были совершенно пусты. Видимо, хозяева погибли до того, как успели обжить свой новый дом. Двор, окружавший строение, был почти не огорожен, лишь несколько грубо сколоченных досок представляли некое подобие забора со стороны дороги. Сразу за домом начиналась рощица, тянувшаяся прямо к узкой и быстрой реке, что протекала по глубокому ущелью, имела обрывистые берега и каменистое дно. Девушка подумала, что при сильных дождях такая река может стремиться вниз полноводным потоком, сметающим камни на своем пути, и невольно вспомнила еще одну горную реку — ту, под скалой с пещерой, в которую она чуть не упала, спасаясь от татар. Марина поежилась при этом воспоминании и пошла дальше обследовать живописную местность. Немного выше, там, где берега речки казались особенно крутыми, через нее был перекинут деревянный мост с тонкими перилами. Издали он выглядел довольно шатким, но неистребимое любопытство Марины толкало ее перейти на другой берег и посмотреть, что скрывается там за плотными зарослями можжевельника и раскидистыми кронами каменных дубов. Она с некоторой опаской ступила на висячий мостик, но, сделав несколько шагов, почувствовала себя уверенней и даже посмотрела вниз, где бежал по острым камням речной поток. На другом берегу не оказалось признаков жилья; лишь в одном месте девушка увидела остаток каменной кладки — очевидно, то была недостроенная или, наоборот, разрушенная стена дома. За можжевеловой рощей виднелись причудливые нагромождения невысоких скал, среди которых Марина обнаружила родник с очень вкусной водой. Идти дальше она не решилась, особенно после того, как из кустов выпорхнула и зловеще закаркала большая черная птица. Это показалось девушке тревожным предзнаменованием, и она повернула обратно. Теперь Марина ступила на шаткий мостик уверенно, без страха, но, как оказалось, ее уверенность была преждевременной. Одна из досок примерно посередине моста вдруг угрожающе треснула под ногой и подалась вниз; Марина едва удержала равновесие, схватившись за перила, и оставшуюся часть моста преодолела уже с опаской. Ей пришло в голову, что, наверное, Донато побранил бы ее за легкомысленное любопытство и неосторожность. Она решила больше никуда не удаляться и ждать возлюбленного возле дома.
А Донато по дороге к Симоне обдумывал зародившееся у него утром намерение купить дом, в котором они с Мариной провели свою первую ночь. Ему казалось, что этот добротный дом без хозяина недаром возник на их пути, что сама судьба подала знак — здесь, не очень далеко от города и в то же время уединенно, он сможет жить с любимой девушкой, защитив ее от косых взглядов и злых языков.
Дорога до жилища Симоне заняла у Донато менее получаса, хотя он ехал не быстро, и такое близкое соседство со знахарем тоже показалось римлянину добрым знаком.
Симоне встретил гостя приветливо, но с изрядной долей удивления:
— Где же ты провел почти полгода? О тебе даже никаких слухов не появлялось ни в Кафе, ни в Отузах! И Бартоло меня спрашивал, куда ты пропал. Но что я мог рассказать? Мы же с тобой условились скрывать, какая бойня случилась в моем доме. Вот я и говорил, что разминулся с тобой в горах, что ты, наверное, заблудился или куда-то уехал. Но где же ты был на самом деле?
Донато, не желая открывать опасную тайну своего пребывания в Мангупе, уклончиво ответил, что по дороге им с Мариной снова пришлось спасаться от разбойников, и они оказались в прибрежном городке, где и переждали зиму, а потом встретили знакомых купцов, с которыми смогли доехать до Солдайи.
Симоне выслушал внимательно, но с некоторым сомнением во взгляде, и тут же спросил:
— А где сейчас Марина? Она вернулась в Кафу без тебя?
— Нет, мы с ней вместе вернемся. А что говорят о ней в Кафе? Ее отсутствие не связали со мной?
— Нет, я ведь об этом молчал. К тому же в Кафу вернулся этот купец, как его… Варадат, который откупился от татар и всем рассказал, что Марину Северскую забрали в плен.
— А греческий священник разве не передал весточку ее матери?
— Об этом мне ничего не известно. Да и откуда я узнал бы подробности, если живу здесь отшельником. Кстати, мне повезло, что генуэзцы не заподозрили меня в причастности к убийству людей Заноби. Утром их нашли местные крестьяне и решили, что разбойники поссорились и поубивали друг друга. Заноби Грассо тоже нашли убитым, но не здесь, а ближе к Солдайе. Не ты ли постарался?
Вместо ответа Донато спросил:
— А что, в Кафе как-то связали гибель Заноби с моим именем?
— Не думаю. Если бы это было так, Бартоло мне бы рассказал.
— Странно… — пробормотал Донато, вспомнив предостережения отца Панкратия о том, что в Кафу возвращаться опасно, поскольку стражники ищут убийцу Заноби.
— Чувствую, что ты многого недоговариваешь, римлянин, но допытываться не буду. Однако ты все-таки приехал ко мне, значит, я тебе для чего-то нужен. Только почему ты не привез Марину? Где она сейчас?
— Она тут недалеко, в брошенном доме возле реки. Мы вчера промокли под дождем, и ей немного нездоровится.
— Так ты приехал за лекарством от простуды?
— Нет, Марине уже лучше. Я хочу расспросить вас об этом странном доме, где мы с Мариной нашли пристанище. Местные пастухи сказали, что он ничейный, его хозяева погибли, а новые не объявились. Как такое может быть?
— Здесь и не то может случиться, — вздохнул Симоне. — Окрестные горы полны загадок. Этот дом построил виноторговец из Отуз Лаппо Федини. Но когда он ехал сюда с женой и двумя детьми, лошади внезапно понесли, повозка свалилась в пропасть и вся семья погибла. Жив остался только возница, спрыгнувший с козел в последний момент. Ходили слухи, что этого возницу подкупил кто-то из недругов Лаппо, а такие были, потому что виноторговец отличался вздорным нравом. А еще в Отузах поговаривают, что несчастье подстроил Баттиста — младший брат Лаппо, который теперь остался его единственным наследником. И это похоже на правду, поскольку братья никогда не ладили между собой.
— Значит, теперь дом принадлежит брату погибшего? Почему же наследник туда не вселился?
— Баттиста хочет продать этот дом и переехать из Отуз в Солдайю, у него там богатая невеста. Но, боюсь, после такой зловещей истории покупателей он не скоро найдет. Притом, здешние люди живут небогато, а Баттиста хочет взять за дом немалую сумму. — Симоне помолчал и с насмешливым любопытством взглянул на собеседника: — А почему это тебя интересует? Уж не хочешь ли ты купить дом у Баттисты? Неужели за эти месяцы ты успел разбогатеть?
— Можно сказать и так. До меня дошли известия, что умер мой богатый дядюшка и оставил мне наследство. И сейчас я еду в Кафу, чтобы это наследство получить.
— Вот как? — недоверчиво улыбнулся отшельник. — Ну что ж, случаются такие подарки судьбы. Значит, тебе приглянулся дом Лаппо Федини и ты хочешь его купить? И готов заплатить немалую цену?
— Да, вы угадали. Я всегда хотел жить в таком уютном поместье, среди красивой природы. Это будет напоминать мне мое навсегда утраченное римское имение. К тому же до Кафы и Солдайи отсюда недалеко. Снаружи дом вполне добротный, осталось лишь доделать его изнутри, заполнить мебелью и вещами. Не могли бы вы, мессер Симоне, сообщить этому Баттисте, что на его дом нашелся покупатель? А я вернусь сюда, как только получу в Кафе положенные мне деньги.
— Ну что ж, я скажу Баттисте, мне не трудно, — пожал плечами Симоне. — Хотя все это кажется довольно странным… И ты какой-то не тот, словно вернулся из другого мира.
— Мне тоже иногда кажется, что я стал другим человеком, — улыбнулся Донато, и на его мужественном лице проступило мягкое и мечтательное выражение. — Хоть я уже не мальчик, но впервые в жизни узнал, что такое истинная любовь. А ведь многим людям до конца дней не дано этого понять.
— Но я-то тебя понимаю, я знаю, что такое истинная любовь, — вздохнул Симоне. — Понимаю и благословляю. Я сразу заметил, что вы с Мариной — пара. Но только вот что хочу сказать тебе, Донато. Я, старый отшельник, немного знаю об этой девушке и почти ничего — о тебе, но предчувствие мне подсказывает, что большие испытания ждут вашу любовь…
— Да, испытания… — эхом откликнулся Донато. — И я к ним готов. Лишь бы ей они оказались по силам.
Глава одиннадцатая
Влюбленные провели еще одну ночь в доме, который Донато уже твердо вознамерился купить, и отправились в путь лишь на следующее утро.
Весна была в самом разгаре, и ее цветущая роскошь на фоне яркой синевы моря и чистой голубизны неба могла внести радость и гармонию даже в самые мятежные души.
И все-таки чем ближе были окрестности Кафы, тем больше волновалась Марина. После того как Донато передал ей слова Симоне, не совпадающие с тем, что сообщил отец Панкратий, девушку охватили сомнения и страх перед неизвестностью. Но она не говорила об этом Донато, пряча тревогу в себе.
Когда вдали показались знакомые очертания Митридатского холма, Марина вдруг подумала о том, что если сейчас свернуть с основной дороги на боковую, то можно проехать мимо загородного дома Андроника. Девушка вспомнила, что незадолго до смерти отчима этот дом хотел купить Константин, и ей стало любопытно, живет ли там молодой купец со своей женой Евлалией.
Перед приездом в Кафу Марина сменила мужской костюм на женское платье, украсила волосы красивым обручем, и теперь могла предстать перед кафинскими знакомыми в надлежащем виде. Она украдкой вытащила из прикрепленного к поясу кошелька зеркальце и, посмотревшись в него, осталась довольна своей внешностью. Любовные бури придали ей волнующую женственность, и даже сознание того, что страсть, соединившая их с Донато, грешна и запретна, не могло погасить блеск в ее глазах.
Марина словно невзначай предложила возлюбленному немного отклониться от основной дороги и проверить, кто теперь хозяйничает в загородном доме, еще недавно принадлежавшем семье Андроника Таги. Донато не возражал, и они, свернув направо, скоро оказались перед увитой плющом изгородью, поверх которой был хорошо виден дом, окруженный садом. На крыльцо вышла женщина с корзиной белья в руках и остановилась, заметив проезжающих мимо всадников. Марина невольно вскрикнула, узнав верную служанку Таисии — повариху Ждану. Ждана тоже узнала свою молодую хозяйку и, поставив корзину на землю, побежала к воротам. Марина, не дожидаясь помощи Донато, соскочила с коня и бросилась в объятия Жданы, смеясь и плача, словно маленькая девочка. Донато спешился и некоторое время с удивлением наблюдал за встречей, потом спросил:
— Это твоя родственница, Марина?
— Нет, господин, я служу в этом доме, — ответила Ждана, с любопытством посматривая на статного спутника своей молодой хозяйки.
— Ждана служит у моей матери с малолетства и стала для нас почти родственницей, — пояснила Марина. — Она тоже славянка, как и мы с мамой.
— Жемчужинка ты наша, красавица, — приговаривала Ждана, гладя Марину по волосам. — Где же ты так долго пропадала? Мы уж не чаяли увидеть тебя когда-нибудь. Чего только не передумали, у каких гадалок не были, столько страху натерпелись! Ведь нам Варадат рассказал, что ты либо погибла, либо попала в плен к татарам!
— Но разве вы не знали, что я спаслась от татар? Разве монахи не передавали вам весточку? — удивилась Марина, вспомнив уверения отца Панкратия.
— Монахи? — Ждана была не менее удивлена. — Да, в Кафе возле нашего дома видели какого-то незнакомого монаха, но он никому ничего не говорил. Правда, в тот же день Никодим нашел под воротами записку, в которой сообщалось, что ты жива и здорова. А больше ничего. Таисия, бедная, вся извелась, и я тоже. Думали-гадали, где ты, что с тобой, от кого эта записка. Ведь приходило в голову, что тебя продали какому-нибудь турку или татарину, а записку нарочно подбросили для нашего успокоения, чтобы мы тебя не искали. Почему ж тот монах нам ничего не сказал?
— Что ж, значит, так было надо, — пробормотала Марина, не решаясь даже мысленно упрекать отца Панкратия. — Ну а что мама, брат? Они здоровы?
— Здоровы, слава Богу. Но горя мы все натерпелись, пока тебя не было, — вздохнула Ждана. — Так где же ты на самом-то деле пропадала, птичка моя? Пойдем, расскажешь обо всем по порядку.
— Да рассказ мой будет коротким, — пожала плечами Марина, избегая прямо смотреть в глаза собеседнице. — От татарского плена меня спас синьор Донато Латино. — Она кивнула на своего спутника. — Но в бою он был ранен и лечился в одном монастыре на побережье. В том же монастыре и я нашла приют. Так и пережили зиму, а как потеплело — тронулись в путь.
— Ох, господин, мы все за вас будем Богу молиться, что спасли нашу боярышню! — обратилась к Донато Ждана. — Входите в дом, будьте дорогим гостем! И ты, сударушка, приглашай своего спасителя!
— А я думала, что наш загородный дом продан, — сказала Марина. — Ведь Андроник перед смертью собирался.
— Нет, дом пока не продан и вряд ли скоро продадут, — пояснила Ждана. — Да тут столько разного произошло, пока тебя не было! Пойдемте, пойдемте, обо всем поговорим. Сейчас позову Никодима, он примет ваших лошадей.
После громких окриков Жданы из глубины сада появился Никодим и, увидев Марину, выронил из рук лопату и застыл на месте с открытым ртом. Девушка поняла, что в Кафе ее считали уже чуть ли не покойницей. Но, немного отойдя от изумления, Никодим засуетился, велеречиво поприветствовал молодую хозяйку и ее спутника, взял под уздцы лошадей и повел их в стойло.
А Ждана тем временем пригласила молодых людей в дом и торопливо собрала на стол то, что было под рукой: хлеб, молоко, сыр, медовый напиток и сушеные фрукты. Но Марина, едва проглотив кусок хлеба и запив его молоком, тут же принялась расспрашивать Ждану о событиях в Кафе. Впрочем, служанка и сама горела желанием выложить все новости и охотно приступила к ним, перескакивая с одного на другое:
— Неделю после твоего отъезда не было вестей, а потом в город вернулся Варадат и сказал, что на ваш отряд напали татары, всех слуг перебили, а Марину не то взяли в плен, не то она, убегая, упала в пропасть. А сам он — то есть Варадат, будто бы храбро сражался, пытаясь выручить девушку, но на него разом навалились двадцать человек и связали его по рукам и ногам.
— Вот врет-то, трус хвастливый, — скривилась Марина.
— А мы так и думали, что врет, — кивнула Ждана. — Сам-то он откупился от татар, а вот бедняги Филипп и Чугай полегли в бою, мы их потом похоронили.
Марина всплакнула и перекрестилась, вспомнив о верных слугах, защищавших ее до конца.
— Да, много горя мы натерпелись, пока тебя не было, — вздохнула Ждана. — Таисия день и ночь молилась о тебе, а Юрия боялась отпускать от себя даже на шаг. Но лекарь Лазарь ее все время успокаивал, лекарства ей давал, дом помогал вести. В общем, ты, Марина, не удивляйся, но недавно Таисия и Лазарь обвенчались.
— Значит, у меня теперь будет новый отчим, — пробормотала Марина с невеселой усмешкой.
— Что ж делать, жизнь идет своим чередом, — развела руками Ждана. — Я вот несколько лет была вдовой, но недавно решила, что вдвоем все-таки лучше, веселей живется. Так что сошлись мы с Никодимом, поженились, теперь хозяева поселили нас в этот дом, чтоб мы его в порядке содержали и за садом ухаживали.
— А кто же теперь вместо тебя куховарит? — удивилась Марина.
— Лазарь привел своего повара, весьма искусного.
— Наверное, мой новый отчим решил завести в доме новые порядки? — нахмурилась девушка.
— Ничего, Таисия себя в обиду не даст, она женщина властная, — заверила Ждана. — Но Лазарь тоже, хоть и молчун, а многое ухитряется делать по-своему.
В комнату вошел Никодим и скромно сел в сторонке. Марина слегка улыбнулась, вспомнив, как когда-то помощник Андроника заглядывался на нее.
— А еще хозяева нам к свадьбе подарили сундук одежды и полотна, — похвасталась Ждана.
— Так-то оно так, — вставил Никодим, — да только у прежнего господина я был помощником по торговой части, а нынешний, Лазарь, решил, что я гожусь только за домом и садом приглядывать.
— Зато мы с тобой в этом доме — сами себе хозяева, — заметила Ждана.
— А надолго ли? — проворчал Никодим. — Только до тех пор, пока этот дом кто-нибудь не купит.
— Удивляюсь, что он еще не продан, — сказала Марина. — Помнится, кто-то из купцов собирался купить.
— Да, этот красавчик Константин, брат Варлаама! — кивнула Ждана. — Собирался, но не купил.
— Константин? — переспросил Донато. — Кажется, я слышал о таком.
Марина почувствовала на себе его пристальный взгляд и слегка покраснела.
— Да, Константин был человеком заметным в наших кварталах, он считался видным женихом, о нем многие девушки вздыхали, — охотно сообщила Ждана. — За это он, можно сказать, и поплатился. Такое случилось, Марина, ты не поверишь! — По лицу Жданы было видно, что она подошла к самому интригующему месту своего рассказа. — Значит, собрались они с Евлалией, дочкой синдика, пожениться, об этом весь город знал. Ну, дом-то Константин вроде хотел купить, но цену предлагал небольшую, и Лазарь посоветовал Таисии пока подождать с продажей. Дескать, после свадьбы Константину богатый тесть поможет и они за дом больше выложат. И вот день свадьбы наступил. Народу перед церковью собралось — целая толпа. И мы с Никодимом пошли посмотреть. Вот, значит, церковь открывается, выходят оттуда молодые супруги, Евлалия вся в белом, вся в жемчугах и самоцветах. Красавицей особенной ее не назовешь, но одета была так нарядно и богато, что весь народ на ее платье засматривался. И вдруг к самым ступеням церкви подъезжает карета, из нее выходит — кто бы ты думала? Твоя подружка Зоя! Вся в черном, с черным покрывалом на голове, а в руках — черные бумажные цветы. И она эти цветы бросает прямо под ноги молодым, кричит: «Не видать вам счастья!», затем садится в карету и уезжает. Все оторопели. А Евлалия закричала и в обморок хлопнулась, ее потом водой отпаивали. И Константин побледнел и прямо весь передернулся.
— Господи, да зачем же Зоя это сделала? — пробормотала Марина.
— Затем, что отомстить ему хотела. Оказывается, у них с Константином были любовные дела… — Ждана смущенно кашлянула. — Ну, ты понимаешь, она ему позволила то, что девушка не должна позволять до свадьбы. Видно, красавчик ее уверял, что любит, что женится, а сам и не думал менять Евлалию на Зою. Оно и понятно: у Евлалии отец богач, да еще и судейский чиновник, а у Зои — просто корабельный мастер. Словом, обманул Константин девушку, а она в день его свадьбы решила ему отомстить. Да только себе же хуже сделала: открылся всем ее позор, и пришлось Зое уехать из Кафы. Родители отправили ее к деду с бабкой в Сурож.
Марина вспомнила Зоин остановившийся взгляд и неуверенную походку, и теперь не удивлялась, почему в Сугдее бойкая ранее подружка ее даже не заметила. Удивило Марину другое: как Зоя могла так долго скрывать от нее свои чувства? Ведь между лучшими подругами не было тайн. Во всяком случае, так казалось Марине. Теперь же ей становилось стыдно оттого, что раскрывала подруге душу, признавалась в своих чувствах к Константину. А Зоя еще и советы давала, и подшучивала над «выгодной невестой» Евлалией, и уверяла Марину, что нельзя терять надежды на взаимность. А на самом деле, наверное, она обо всем рассказывала Константину в минуты близости, и они вместе посмеивались над простодушием Марины. Может, потому Константин и смотрел так пристально при встречах. Вероятно, хотел убедиться, что Марина и вправду в него влюблена. Теперь-то он ей был безразличен, и она даже жалела свою незадачливую подружку, которая, наверное, сама себе казалась ловкой и хитрой, но попала впросак.
Заметив, как напряглось лицо Марины, Донато внезапно спросил:
— А вы, синьорина, не были влюблены в этого красавца?
— Нет, синьор, он не в моем вкусе, — усмехнулась девушка.
В вопросе Донато ей почудилась ревность, и это могло бы ее порадовать, если бы одна мысль тут же не привела Марину в уныние: она вдруг поняла, что и сама может оказаться в положении Зои. Она всем сердцем верила, что Донато не способен ее предать, но ведь и Зоя, должно быть, так же верила своему любовнику…
От грустных размышлений ее отвлек вопрос Жданы:
— И как ты думаешь, моя птичка, хорошо ли теперь живется Константину?
— Откуда же мне знать? — пожала плечами Марина. — Наверное, хорошо. У него богатый и влиятельный тесть, да и сам он купец не из бедных. Небось, этот дом теперь им кажется слишком простым, потому и не купили.
— А вот и не угадала! — воскликнула Ждана. — После свадьбы дела у Константина и его брата пошли хуже: ошиблись купцы, взяли плохой товар, да еще один генуэзский корабельщик вздумал с ними судиться. Тесть бы, конечно, помог Константину в тяжбе, но и тут вышла незадача: при новом консуле отец Евлалии оказался не в чести, был смещен с должности. Так что Константин порядком обеднел, и ему теперь не до покупки дома, как бы в долги не влезть. Да и с Евлалией, говорят, они живут не в ладах. Вот и выходит, что Зоино проклятье подействовало.
— Да, неприятная история, — заметила Марина. — А какие еще новости в Кафе? Что слышно о новом консуле?
— Говорят, суровый, старых чиновников посмещал. Ну а нам-то что? Лишь бы новыми поборами людей не обложил. — Ждана всплеснула руками: — Ой, а что это я сижу, пора в город бежать, а то ведь уже темно!
— Зачем в город, ты разве не здесь ночуешь? — удивилась Марина.
— Здесь, но ведь надо же поскорее сообщить Таисии, что ты нашлась!
Марина, которая внутренне еще не была готова к объяснению с матерью, остановила Ждану:
— Погоди, не надо ехать в Кафу на ночь глядя. Наверное, уже и ворота закрыли. Давай завтра с утра все вместе туда и отправимся. А пока нагрей воды помыться, приготовь постели. Очень уж я устала, спать хочется.
— Хорошо, как скажешь, моя птичка. Пойдем со мной. А Никодим все приготовит для твоего спасителя.
Марина перед уходом кивнула возлюбленному:
— Спокойной ночи, мессер Донато.
— Хороших вам снов, госпожа, — улыбнулся он в ответ.
Оказавшись наедине с Мариной, Ждана тут же принялась ее расспрашивать:
— Кто этот генуэзец? Такой видный мужчина! Он из Кафы или из Сурожа?
— Донато не генуэзец, а римлянин. Он недавно приехал из Италии, еще нигде не успел толком обосноваться. Его мне сам Бог послал, иначе быть бы мне в рабстве или в могиле.
— Молиться буду за этого господина, хоть он и не нашей веры. — Ждана перекрестилась. — А чем он занимается? Наверное, купец? Одет, правда, небогато.
— Пока он не богат, но скоро получит большое наследство.
— Это хорошо, это понравится твоей матушке. Но, правда, ей не понравится, что он латинянин.
— Ждана, ты так говоришь, словно Донато уже ко мне посватался, — натянуто улыбнулась Марина. — Он мой спаситель, но не жених.
— Уж будто я не вижу, как он на тебя смотрит! — всплеснула руками Ждана. — Тут и понимать не надо: нравишься ты ему, жемчужинка моя. И он тебе, наверное. А как не влюбиться в такого статного и удалого витязя?
— Ну, довольно тебе, болтунья, — остановила ее Марина, скрывая смущение. — Может, мы и нравимся друг другу, да только между нами много преград.
— Да уж это конечно, — вздохнула Ждана. — Боюсь, что Лазарь теперь навяжет тебе в мужья своего племянника Захария, и Таисия с этим согласится.
— Нет, теперь мне никто ничего не навяжет, — заявила Марина. — За это время я стала сильней и буду сама выбирать себе судьбу.
— Да, вижу, переменилась ты, повзрослела… не знаю только, к лучшему ли это. — Ждана перекрестила девушку. — Ладно, не буду тебя больше тревожить расспросами.
Помывшись и переодевшись в новую рубашку, Марина блаженно уснула на чистой постели, под теплым пуховым одеялом. Она наконец была в родных стенах, а не в чужом доме и не в тягостном для нее неуюте постоялых дворов, где девушке, переодетой юношей, каждую минуту приходилось быть настороже.
Марина спала так крепко, что не видела снов, а утром, открыв глаза, почувствовала себя удивительно сильной и бодрой. Яркое весеннее солнце просвечивало сквозь листву росшего за окном дерева, причудливые блики и тени скользили по стене, по колеблемой ветром занавеске. Откинув одеяло, Марина потянулась и на мгновение зажмурила глаза, а когда открыла их, увидела Донато. Он быстро шагнул к девушке и, не давая ей вновь укрыться, заключил в объятия.
— Ты что? А если Ждана сейчас войдет? — прошептала она, отстраняясь.
— Не войдет, Ждана с Никодимом уехали в город.
— Уехали? И мне ничего не сказали?
— Наверно, не хотели тебя будить. Ты ведь так сладко спала.
— Но, значит, они скоро вернутся вместе с моей мамой, — заволновалась Марина. — Надо подготовиться…
— Не тревожься, они только что вышли за калитку. Так что вернутся не скоро, у нас еще много времени, любимая…
Он стал целовать девушку, сдвигая с ее плеч рубашку и одновременно раздеваясь сам. И скоро Марина уже не могла сопротивляться его страстным желаниям, ее разум вновь уступил сердцу, а в сердце была только любовь.
Молодые люди потеряли счет времени и опомнились, лишь когда где-то совсем близко раздались шаги и голоса. Марина, вздрогнув, тут же отстранилась от Донато, и он успел надеть штаны, а она — укрыться одеялом до подбородка. И в этот миг дверь распахнулась и на пороге возникли Таисия и Лазарь. Лицо матери, вначале радостное, стало попеременно менять выражение от растерянности и испуга — к возмущению и даже гневу, а Лазарь смотрел с мрачноватым спокойствием.
Несколько мгновений длилась тишина, потом Таисия срывающимся голосом заговорила:
— Марина, дочка, что же это? Тебя полгода нет дома, мы сходим с ума, никаких вестей, кроме жалкой записки, неизвестно кем подброшенной. А теперь ты являешься — и что? Вместо того чтобы спешить ко мне, проводишь ночь в загородном доме, где я застаю тебя с чужим мужчиной! Не думала я, что такой будет наша встреча!
— Мама, перестань меня бранить! — воскликнула Марина. — Если бы не Донато, ты, может, никогда бы меня больше не увидела! Я все тебе объясню, только пусть Лазарь пока выйдет!
Новый отчим Марины молча покинул комнату, Донато отвернулся к стене, а Марина, пряча глаза от матери, быстро натянула на себя рубашку и встала с постели.
— Так что ты мне скажешь? — вздохнула Таисия. — Что этот латинянин тебя спас, а ты в награду стала его любовницей?
— Мама, ты меня упрекаешь вместо того, чтобы обнять? — дрогнувшим голосом спросила Марина. — Разве ты не рада, что я жива и свободна?
— Доченька моя!.. Кровинка родная!
Таисия бросилась к дочери, стала обнимать и целовать ее, перемежая порывы радости слезами, а потом снова отстранилась от Марины и не сдержала упреков:
— Но как ты могла спать с мужчиной, который тебе не муж?
— Мама, мы с Донато прошли через такие испытания, столько всего вместе пережили…
— Понимаю, понимаю, прощаю тебя, — пробормотала Таисия, снова прижимая к себе дочь. — Бедная моя девочка, ты не виновата, с тобой случилось несчастье. Но все можно поправить. Ты вернешься в родной дом, и никто ничего не узнает. Мы выдадим тебя замуж за Захария, племянника Лазаря. Он добрый человек, он полюбит тебя и все поймет. А этого латинянина, — Таисия кивнула на Донато, — мы отблагодарим за твое спасение и дадим ему денег на дорогу, чтобы уехал из Кафы и никому не проговорился о твоем невольном грехе.
Женщина говорила тихо, но Донато все-таки услышал и тут же откликнулся:
— Почему же вы думаете, синьора, что я захочу уехать? Нет, я останусь в Кафе. И ваша награда мне не нужна, я скоро получу большое наследство. — Он помолчал, нахмурившись. — Впрочем, я могу и уехать, но при одном условии: если Марина мне прикажет.
— Я не прикажу ему уехать, — решительно заявила девушка и посмотрела матери в глаза. — И замуж не пойду за Варадата или Захария. Мне никто не нужен, потому что я люблю Донато!
Римлянин, словно только и ждал этих слов, тут же подошел к Марине, стал рядом с ней и обратился к Таисии:
— Синьора, я люблю вашу дочь и всегда буду ей защитой. Марина для меня дороже жизни.
— Как мне это понимать? — Таисия растерянно переводила взгляд с Марины на Донато. — Ты хочешь жениться на моей дочери? Ты просишь моего благословения?
— Я непременно женюсь на Марине, как только смогу, — ответил Донато.
— Что значит «сможешь»? — насторожилась Таисия.
— Я должен сначала расторгнуть помолвку, к которой меня принудили в Генуе.
— Ах, вот оно что… — Таисия помрачнела. — У тебя на родине остался какой-то должок… Ты неизвестно как долго будешь ждать расторжения помолвки и жить в свое удовольствие, а Марине все это время придется ходить с опущенной головой? На нее же все пальцем будут показывать: вот, дескать, идет полюбовница латинянина, у которого на родине есть невеста! А может, не невеста, а жена? Да никогда такого не было у нас в роду, чтобы девушки так свое доброе имя порочили! Лучше выйти за нелюба, да честно, чем жить в таком позоре! Не хочу я для дочери такой судьбы!
— Мама, я сама буду выбирать свою судьбу! — воскликнула Марина. — Я с детства привыкла тебе подчиняться, но теперь не стану! И пусть меня весь мир осуждает, но я не откажусь от своей любви! И ходить буду не с опущенной, а с гордо поднятой головой!
Донато взял руку Марины в свои и, склонившись, поцеловал ее.
— Да, сейчас, дочка, тебе все кажется красивым, — хмуря брови, пробормотала Таисия. — Но пройдет любовный угар, и этот латинянин бросит тебя, найдет другую или вовсе уедет к себе на родину. И что тогда с тобою будет?
— Никогда я не предам Марину, клянусь душой, клянусь памятью моих родителей! — воскликнул Донато.
Что-то в словах и во взгляде римлянина невольно тронуло Таисию, и она, смягчившись, вздохнула:
— Ладно, подождем, посмотрим, какой ты человек, Донато. Можешь иногда приходить к нам в гости, но наедине с Мариной я не дам тебе оставаться до тех пор, пока ты не сможешь на ней жениться. А сейчас, будь любезен, собирайся восвояси, а дочку я увожу в наш городской дом.
Возражать матери было неразумно, да и бесполезно, и девушка решила на время смириться. Она с грустной и нежной улыбкой обратилась к Донато:
— Ничего, мы ведь ненадолго расстаемся. Ты пока устраивай свои дела, а я буду за тебя молиться. За нашу общую судьбу молиться.
Таисия показала Донато на дверь:
— Выйди, дай девушке одеться.
Прежде чем выйти, он посмотрел на Марину долгим взглядом и тихо произнес:
— Я люблю тебя.
Эти слова и взгляд согревали девушку в первые, трудные для нее дни после приезда в Кафу. Марину окружало любопытство знакомых и соседей, перешептывания за спиной и лукавые расспросы. Длительное отсутствие девушки в городе, конечно, дало пищу для разговоров, и даже домашние слуги, кажется, не прочь были посудачить о молодой хозяйке. А Таисия, настроенная весьма решительно, не позволяла дочери встретиться с Донато наедине. Дважды он приходил в квартал Айоц-Берд и пытался поговорить с Мариной, но первый раз ее дома не оказалось, мать увела девушку в гости к родичам мужа, а второй раз он видел Марину лишь в присутствии Таисии и Лазаря. Донато сообщил, что ненадолго уедет из Кафы по важному делу, но не стал объяснять, по какому, и только из его намеков Марина догадалась, что дело касается их двоих. После этого Донато к ним в дом не являлся.
А вскоре в Кафу приехал отец Панкратий, и встреча с ним оказалась для Марины тяжким испытанием. Они столкнулись возле церкви Святого Иоанна Предтечи, и девушка смятенно опустила глаза под суровым взглядом священника.
— Изволь объясниться, Марина, — потребовал он, отведя ее в сторону, под тень крепостной стены, тянувшейся от башни Криско. — Как получилось, что вы с Донато исчезли из купеческого обоза? От вас не приходило известий ни из Кафы, ни из Сугдеи. Теперь, когда я сам сюда приехал, то узнал, что ходят слухи, будто латинянин спас тебя от разбойников и вы с ним где-то скитались по побережью. Но это не похоже на правду. Скорей всего, вы сами сбежали и скрывались от всех. Но зачем? Молчишь? Впрочем, я и сам обо всем догадался. Римлянин просто не захотел послужить феодоритам, но не сказал об этом в Мангупе, боясь, что мы его не выпустим. Ведь так? А ты ему решила помочь, потому что влюблена в него и не думаешь о грехе. Ты даже забыла о своем долге православной христианки, хотя обещала во всем следовать моим советам.
— Нет, отче, я помню о своем долге, — тихо откликнулась Марина, не поднимая глаз. — Донато действительно не хочет идти на службу ни к консулу, ни к вам, но он обещал мне, что поможет русичам и феодоритам в войне с Мамаем. Он постарается узнать важные новости, но лишь как частное лицо.
— Не хочет идти на службу? — во взгляде отца Панкратия отобразилось недоумение. — Но ведь ему нужны деньги, он только ради них и согласился нам посодействовать.
— Но теперь Донато неожиданно получил наследство, и ему нет нужды наниматься на опасную службу.
— Вот оно что… — священник нахмурил брови. — Да, теперь у меня нет никакой надежды на помощь твоего римлянина. И в тебе я разочарован.
— Так уж получилось. — Она помолчала и осмелилась на легкий упрек: — Но ведь и вы, отче, не всегда говорили мне правду. Я была уверена, что вы успокоили мою мать, передали ей весточку обо мне, а на самом деле в Кафе все думали, будто меня уже продали в рабство.
— Я не мог рассказать, что ты в Мангупе, — сурово ответил отец Панкратий. — Я и сейчас прошу тебя молчать о том, где вы были с Донато. Впрочем, что теперь вспоминать этого римлянина, вряд ли я его еще когда-нибудь увижу.
— Напрасно вы так думаете, отче. — Марина упрямо тряхнула головой. — Я верю обещаниям Донато, он сделает для нас то, что будет в его силах.
— Сделает? — отец Панкратий недоверчиво усмехнулся. — А где он сейчас?
— Он ненадолго уехал из Кафы, но скоро вернется.
— Вернется? А может, став богатым наследником, он вообще покинет Таврику? Зачем ему эта далекая земля, зачем все наши беды и распри? Раньше я надеялся, что он станет нашим союзником не только из-за денег, но еще и потому, что любит тебя. Но теперь я очень сомневаюсь в его любви. Как он мог уехать, оставить тебя в неопределенности? Ведь о тебе в Кафе уже начинают сплетничать. Никто толком не знает, где ты была целых полгода. А то, что ты вернулась вдвоем с латинянином, у многих вызывает подозрения. И я думаю, что, если бы Донато тебя любил, первым делом расторг бы свою прежнюю помолвку и посватался бы к тебе.
— Но это ведь не сделаешь так быстро… — потупилась Марина.
— Отчего же? Быть обрученным — не значит быть женатым. Чтобы расторгнуть помолвку, разрешения Папы Римского не требуется.
Марина не знала, что ответить, и, видя ее растерянность, священник только вздохнул:
— Что ж, дитя, пусть Бог тебя защитит и вразумит. Приходи ко мне на исповедь, я до осени никуда не уеду из Кафы. Ты всегда сможешь найти меня в церкви или монастыре Святого Василия.
После разговора с отцом Панкратием Марина совсем приуныла. В голову упорно лезли мысли о том, что Донато и вправду может ее покинуть, что его чувства оказались не такими глубокими, как он уверял. Вначале она объясняла его отсутствие поездкой за сокровищем, но потом, когда это отсутствие слишком затянулось, девушка стала нервничать и порою плакать тайком у себя в спальне.
Теперь во взглядах соседей, знакомых и даже слуг ей чудилась насмешка, в каждом небрежном или шутливом слове слышался язвительный намек. А однажды случилось то, что повергло ее чуть ли не в отчаяние.
Марина решила пойти в аптеку Эрмирио, надеясь там осторожно выведать какие-нибудь новости о Донато. Но дойти до аптеки она не успела, потому что на улице между греческим и латинским кварталами перед ней вдруг с вызывающим видом остановилась молодая красивая женщина. Незнакомка была одета в платье с плотно прилегающим лифом и широкой складчатой юбкой, ее темно-пепельные волосы были перехвачены обручем, но не закрыты чепцом или покрывалом, что могло свидетельствовать о незамужнем положении красавицы. Она оглядела Марину с головы до ног и, подбоченясь, с усмешкой сказала:
— Так вот ты какая, Марина Северская. Я нарочно шла, чтобы посмотреть на тебя вблизи. Да, ты и впрямь недурна. Недаром же Донато не смог тебя пропустить.
У Марины вспыхнуло лицо от столь двусмысленной похвалы этой грубоватой красотки, которая по виду и разговору могла быть дочерью торговца или трактирщика из генуэзского квартала. Но, решив не показывать своего невольного смущения перед наглой девицей, Марина вскинула голову и дерзким тоном спросила:
— А кто ты такая, чтобы обсуждать меня и мою внешность?
— Кто я? — незнакомка лукаво ухмыльнулась. — Ну, положим, я та, которую Донато тоже любил, хоть и недолго.
— Какое мне дело до тебя и твоих любовников? — пожала плечами Марина и повернула обратно.
— Куда ты? Ты ведь шла в другую сторону! — насмешливо крикнула ей вслед незнакомка.
Марина решила не оглядываться, но тут ее сзади кто-то тронул за локоть, и она, невольно вздрогнув, остановилась и повернула голову. Перед ней возникло шутовское лицо известного приживала и пересмешника Давида.
— Хочешь знать, кто эта девица? — кивнул он в сторону незнакомки. — Так я тебе скажу: это Бандекка из трактира «Золотое колесо».
— Бандекка?.. — Марина непроизвольно бросила взгляд на красотку, которая теперь удалялась по улице, покачивая бедрами и вертя во все стороны головой. — А почему ты решил, что меня интересует эта трактирная девка?
— Ну, она не совсем девка, то есть не совсем шлюха, — с шутовскими ужимками уточнил Давид. — Она в каком-то родстве с владельцами «Золотого колеса». И, надо сказать, без нее это заведение не пользовалось бы таким успехом, а потому она там чувствует себя почти хозяйкой. Так что ты не очень презирай ее, сестричка.
— А иди-ка ты прочь, братик, — сказала Марина сквозь зубы и зашагала обратно к своему кварталу.
Но Давид, увиваясь вокруг нее и гримасничая, продолжал приставать с разговорами:
— А хочешь знать, почему она тобой заинтересовалась? Ну, не делай вид, что тебе это безразлично! У Бандекки были любовные дела с тем самым латинянином, который привез тебя в Кафу.
Марина одновременно желала и отделаться от назойливого собеседника, и узнать от него об отношениях Донато и Бандекки.
— Но, по-моему, она недаром ревнует к тебе, — продолжал Давид. — Ты красивей ее и, уж конечно, образованней, благородней. Любой генуэзец мог тобой увлечься. Да что там говорить о генуэзских бродягах! Тут некий весьма родовитый и уважаемый господин ищет с тобой встречи, даже попросил меня помочь в этом деле.
— Какой господин? — насмешливо спросила Марина. — Твой давний патрон Варадат? Так он же вроде женился, и, говорят, жена твердо держит его в руках.
О Варадате и вправду было известно, что, поистратившись на свой выкуп у татар, он поправил дела женитьбой на богатой вдове — немолодой, но очень властной особе, которая сумела подчинить себе своего незадачливого мужа.
— Нет, Варадат перестал быть моим патроном, — скривился Давид. — Я говорю не о нем, а о другом человеке, который не только родовит, но и весьма хорош собой. Знаешь, кто это? Константин из квартала Дуки.
— Константин?.. — удивилась Марина, услышав имя того, кто был когда-то предметом ее первых девичьих мечтаний. — А его жена Евлалия знает, что он нанял тебя в качестве сводника?
— Евлалия — женщина недалекая и, слава богу, не такая мегера, как Варадатова супруга. И я ни к кому в сводники не нанимался, просто по собственному разумению решил сделать доброе дело. Константин недавно признался мне за чаркой вина, что ты ему нравишься — особенно теперь, когда вернулась в Кафу после исчезновения.
— Значит, вот каков Константин! Вначале мою подругу Зою лишил доброго имени, а теперь хочет и меня?
— Ну, твое доброе имя, сестричка, уже и так пострадало. Тебя же в Кафе почти похоронили, а ты вдруг явилась вся такая красивая, соблазнительная. — Давид прижал к губам три сложенные в щепотку пальца и чмокнул. — Словно в гареме побывала и там выучку прошла.
— Дурак, наглый болтун! — вскрикнула Марина и, толкнув Давида обеими руками, быстро зашагала прочь.
Он еще кричал ей вслед что-то насмешливое, но она не оглядывалась и не замедлила шаг до самого дома. В голове теснились обидные, горькие мысли о том, что теперь на нее смотрят как на доступную девицу, что не только Константин, но и другие мужчины, попроще, думают, будто после своего таинственного отсутствия Марина потеряла право называться честной девушкой и ей можно назначать свидания словно гетере.
А спасти ее от злых языков и дерзких намеков может только Донато, и ведь он обещал быть ей защитой всегда и во всем… Но почему его так долго нет в Кафе? Неужели обманул?.. «Если так — то мне не хочется и жить», — в отчаянии подумала Марина.
А дома ее снова ждали разговоры матери о том, что неплохо было бы Марине выйти замуж за племянника Лазаря. Ведь Захарий хоть и вдовец, но еще молод, и ему очень нравится Марина, он готов простить все, что случилось с ней во время злосчастной поездки, и приданого не потребует, и дом его расположен недалеко от Андроникового, так что Марина каждый день будет видеться с матерью. Девушка слушала молча, не возражая, но ее совсем не убеждали доводы Таисии; Захарий не нравился Марине ни внешне, ни по характеру, и она подозревала, что с помощью своего угрюмого племянника Лазарь хочет прибрать к рукам строптивую падчерицу, а заодно и соединить хозяйство двух домов. Марина понимала, что мать и новый отчим сделают все, чтобы отдалить ее от Донато, которого между собой они называли «генуэзским бродягой» и не верили, что он может быть благородным и состоятельным человеком. Когда прошло еще несколько дней, а Донато так и не появился в городе, Таисия упрекнула дочь:
— Ну, где же твой генуэзский бродяга? Может, вернулся к своей невесте?
— Мама, сколько можно повторять, что он не генуэзец, а римлянин! — нервно откликнулась Марина.
— А какая разница? По мне, так все эти латиняне одинаковы. Закрутил тебе голову, наобещал с три короба, да и исчез.
— Не забывай, что он спас меня от работорговцев.
— От рабства, может, и спас, но доброе имя твое не защитил, — вздохнула Таисия. — Если бы ты ему была дорога, так давно бы уже вернулся и посватался к тебе.
Марине нечего было ответить матери. Она молчала и ждала. И с каждым днем теряла надежду на счастье.
Ходить в латинские кварталы она уже не решалась, опасаясь встретить там Бандекку или еще кого-нибудь из прежних любовниц Донато. Приступы ревности иногда доводили девушку до отчаяния, и в такие минуты ее любовь превращалась в ненависть.
Но все изменилось в одно прекрасное утро, когда Марина, ускользнув из-под домашнего надзора, вышла к морю в районе Доковой башни. За ее спиной осталась Святая Долина, плотно застроенная храмами, а перед ней расстилалась синяя морская равнина, упиравшаяся в зеленые прибрежные холмы. Марина долго стояла на одном месте, рассеянно оглядывая корабли на кафинском рейде, верфи возле Доковой башни и саму башню, омываемую морем, но устойчивую, словно поплавок, благодаря особому устройству основания, заполненного глиной. Кричали морские чайки, слышался звон колокола и отдаленные звуки голосов, но девушка ничего этого не замечала, поглощенная своими мыслями.
И вдруг сзади раздались шаги, кто-то тронул Марину за плечо. Она вздрогнула, недовольная тем, что потревожили ее одиночество. Но в следующий миг, оглянувшись, не смогла скрыть невольной радости: перед ней стоял Донато.
— Наконец-то я тебя вижу, и ты здесь одна. — Он быстро поцеловал девушку.
Она отстранилась от него, посмотрела по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, сказала:
— А ты не очень спешил меня увидеть.
— Я только об этом и мечтал, но не мог тебя позвать до тех пор, пока все не подготовил к нашей встрече.
— А чем же ты был занят так долго? Разве для того, чтобы привезти в Кафу ларец из пещеры, требуется целый месяц?
— А почему ты решила, что я привез его в Кафу? Нет, это было бы слишком опасно. Да и с тобой я не могу быть в Кафе до тех пор, пока не освобожусь от своих постылых уз. Мы поселимся отдельно, вдали от городской суеты, чтоб никто нам не помешал. И все это время, любимая, я был занят покупкой и обустройством дома, который станет нашим с тобой семейным гнездом. Теперь там все готово к приезду хозяйки — тебя. Требуется только твое согласие.
— Ты купил тот самый дом? — Марина все еще пыталась хмуриться, но искорки в глазах выдавали ее радость.
— Да. Тот самый, где мы с тобой провели нашу первую ночь. И я верю, что у нас там будет еще много счастливых ночей.
— Почему же ты раньше не сказал, чем будешь занят? Ведь я волновалась.
— Как я мог сказать, если нам с тобой не давали увидеться наедине? Но я думал, что ты и сама догадаешься. Разве ты не уверена во мне?
— Трудно быть уверенной, когда все вокруг доказывают мне обратное! — воскликнула она с обидой. — Мать и отчим твердят, что ты меня обманешь, и предлагают мне выйти замуж за человека, которого считают надежным. Твоя любовница из «Золотого колеса» встречает меня на улице и говорит дерзости. Сплетники шепчутся за моей спиной, сводники уже начали предлагать свидания с местными ухажерами.
— Прости меня; я клянусь, что все это очень быстро закончится! — Донато взял Марину за плечи, и желваки на его скулах заходили. — Я сегодня же пойду к консулу и попрошу его помочь в моих хлопотах о разводе.
— Но эти хлопоты продлятся долго, — вздохнула Марина.
— Да, скрывать не буду, это долгое дело. Но, чем бы оно ни закончилось, ты все равно моя жена. Мы будем жить вместе в нашем доме богато и счастливо.
— Нас никто не благословит на это счастье: ни твои, ни мои священники…
— Нас благословит Бог, который послал нам эту любовь, — убежденно заявил Донато.
— Может быть. Но люди осудят. Я недавно встретила отца Панкратия. Он очень обижен на нас. Я ему пообещала, что ты, хоть и не пойдешь на службу, все же постараешься узнать о подготовке к войне. Я зря пообещала?
— Нет, не зря. Я сделаю то, что говорил. Я не хочу быть лжецом в твоих глазах. Мне важно, чтобы ты в меня верила.
— Слава Богу, теперь воскресла моя надежда на счастье. — Марина грустно улыбнулась. — Хотя это будет очень трудное счастье…
— А счастье вообще не бывает легким, — вздохнул Донато. — Так ты согласна уехать со мной из Кафы в наш дом?
— Когда?
— Да хоть сейчас, немедленно.
— Сейчас это невозможно. Мне надо все обдумать, собраться.
— Скоро в Кафе будет праздник святого Георгия, всеобщая суматоха. По-моему, это удобный случай для нашего с тобой отъезда. Ты согласна?
Марина быстро оглянулась по сторонам и поймала на себе любопытные взгляды двух стоявших в отдалении женщин. Ей стало неприятно, что городские кумушки будут наблюдать за ее разговором с Донато, а потом обсуждать и строить предположения.
— Встретимся на празднике, и тогда я тебе дам ответ, — сказала она торопливо и, отступив на шаг, добавила: — Торжества начнутся возле Кайгадорских ворот, там ты меня и увидишь. Прощай!
Марина зашагала прочь, не оглядываясь, а он некоторое время смотрел ей вслед, потом повернул от Доковой башни на юго-запад, к воротам цитадели, за стенами которой располагался замок консула, резиденция епископа, главный латинский храм города — церковь Святой Агнессы, а также здание суда, казначейство и прочие важные учреждения города. Сегодня в полдень Донато рассчитывал попасть на прием к консулу Кафы Джаноне дель Боско.
Глава двенадцатая
Из стрельчатого оконного проема в коридоре консульского замка была видна якорная стоянка Кафы, находившаяся близко от берега, возле стен цитадели. Небольшая осадка быстроходных генуэзских кораблей позволяла им подходить к коротким причалам, а число причалов соответствовало количеству ворот морского фасада. Стоя возле окна, Донато рассеянно оглядывал картину кафинского рейда и уже не в первый раз отмечал сходство Кафы с Генуей, особенно заметное в припортовых кварталах. Да и окружавшие город пейзажи были подобны генуэзским.
Сзади послышался голос секретаря консульской канцелярии, и Донато тотчас оглянулся:
— Консул примет меня?
— Его милость сможет уделить вам немного времени, — бесцветным голосом ответил секретарь и повел Донато в кабинет Джаноне дель Боско.
Рядом с этим кабинетом находилась комната с машиной для пыток, и от ее зловещей близости у посетителей невольно пробегал холодок по спине, заставляя остро чувствовать свою зависимость от железного кулака власти, олицетворением которой в Кафе служил консульский замок.
Консул в этот момент беседовал с викарием и одновременно просматривал бумаги, разложенные на столе. Услышав звук шагов, он поднял голову, и его цепкий взгляд задержался на лице Донато. Римлянин вежливо, но без робости поклонился и поприветствовал правителя Кафы — хоть и временного, но достаточно влиятельного, чтобы за год своего правления успеть устроить или, наоборот, сломать чью-то судьбу.
Джаноне дель Боско был человеком средних лет и достаточно внушительной наружности. В его крепкой фигуре и властном породистом лице было нечто, вызывающее невольное почтение. Когда небольшие темно-серые глаза консула остановились на Донато, римлянин понял, что Джаноне не только его узнал, но и в подробностях вспомнил, с какого рода просьбой обращался к нему данный посетитель еще в Генуе.
Пока консул заканчивал свой разговор с викарием, Донато без особого интереса разглядывал обстановку комнаты: массивный стол, скамьи с высокими спинками, огромный ларь в углу, на стене — гобелен с вытканным на нем гербом консула и оружие, украшенное драгоценными камнями.
Но, проявляя кажущееся безразличие, римлянин чутко прислушивался к беседе консула с викарием и уловил в словах последнего нечто любопытное:
— Джанкасиус[32] грозится занять несколько селений кафинской Кампаньи[33], если мы не сделаем того, что обещали. А эти селения снабжают город продовольствием.
— И этот черкес способен выполнить свою угрозу, — мрачным голосом пробормотал консул и замолчал, шелестя бумагами.
Донато перевел взгляд на другую стену и обратил внимание на две стрельчатые ниши с рельефными изображениями двух гербов, один из которых был гербом Генуи — крест посреди щита, обрамленного гирляндой растительного орнамента. Другой представлял собой татарскую тамгу с полумесяцем — герб Золотой Орды, символизирующий зависимость Кафы от Крымского хана.
— Иногда приходится признавать власть варваров, чтобы самим удержаться у власти и иметь свою выгоду, — вдруг прозвучал резковатый голос Джаноне дель Боско. — Ты согласен с этим, римлянин?
Донато удивился: он был уверен, что консул, поглощенный беседой с викарием и просмотром бумаг, вовсе не замечает, каким насмешливым взглядом его новый посетитель посмотрел на татарскую тамгу. Также была достойна удивления и память Джаноне дель Боско, не забывшего, что Донато Латино не генуэзец, а римлянин.
— Да, ваша милость, нельзя не согласиться с этой дальновидной политикой. — Донато слегка поклонился и изобразил почтительность на лице.
Консул, дав последние указания викарию, отпустил его и, наконец, уделил свое внимание посетителю, даже предложил ему сесть на скамью у стены.
— Я помню тебя по Генуе, — сказал он довольно благосклонно. — Ты пострадал там от этих мошенников Одерико.
— Я до сих пор благодарен вам за помощь, ваша милость, вы тогда выручили меня.
— А каким ветром тебя занесло в Кафу?
— Тому причиной опять-таки подлое семейство Одерико. Братьям Нероне и Уберто удалось обманом женить меня на их сестре Чечилии. Но я сбежал от них на другой день после венчания и сел на корабль, плывущий как можно дальше от Генуи.
— Вот оно что! — Джаноне рассмеялся. — Я слышал, что в этом злокозненном семействе произошел какой-то скандал, но не думал, что дело связано с тобой. Во всяком случае, я рад, что нашелся удалец, который их опозорил, отплатил и братьям, и сестре за подлый обман. Когда-то их недоброй памяти родитель Бернабо Одерико путем подкупа и всяческих интриг отсудил у меня почти половину моего законного имущества, и я вовек им этого не забуду. А сыновья у Бернабо выросли ему под стать. Да и дочка тоже. Значит, она теперь с тобой повенчана?
— Увы. Но я не считаю эту женщину своей женой.
— Ты сбежал от нее, и это лучшее, что ты мог сделать. Здесь, в Кафе, ты можешь чувствовать себя свободным человеком. — Джаноне немного помолчал, внимательно разглядывая собеседника. — Но я догадываюсь, что привело тебя ко мне. Сбежав от постылой невесты, ты оказался на чужбине один, без средств, без дома. Но, на твое счастье, консулом Кафы назначен я, и в моих возможностях дать тебе достойную службу, на которой ты будешь хорошо обеспечен. Судя по твоей выправке и крепкому сложению, ты не чужд военному ремеслу. Мне кажется, из тебя бы вышел неплохой начальник консульской стражи.
— Благодарю за честь, но я пришел к вам не с просьбой о службе. Сейчас меня более всего волнует другое: я хочу освободиться от уз брака с Чечилией. И моя великая просьба к вам — помочь мне выхлопотать развод.
— Развод? — насмешливо переспросил Джаноне. — А разве ты — королевская особа, чтобы ради тебя священники во главе с папой занимались таким трудным делом, как развод? И кто нынче папа? Кажется, их сразу двое, если не трое. Нет, мессер Донато. О разводе я не советую даже мечтать. Да и зачем? Одерико не знают, что ты здесь. А если и узнают, то вряд ли поедут за тобой в такую даль. Ты свободен! Живи в Кафе так, словно никогда и не стоял под венцом. Забудь об Одерико навсегда.
— Я бы тоже так думал, ваша милость, — вздохнул Донато, — но есть обстоятельство, которое не позволяет мне быть легкомысленным. Я полюбил местную девушку и хочу на ней жениться.
— А кто она, откуда?
— Она благочестивая и образованная девушка из контрадо Айоц-Берд. Ее мать — вдова купца.
— Айоц-Берд… Там живут православные? Армяне?
— Да. Отчим Марины был армянином. Но сама она по происхождению славянка.
— Православная… славянка… — недовольно поджал губы консул. — Впрочем, это неважно. Все равно ваши с ней дети будут считаться генуэзцами. Что ж, если тебе понравилась эта девушка, то живи с ней как с женой, не обязательно венчаться. Если уж в наше время самые важные прелаты имеют любовниц, то для таких, как ты, бывших корсаров, это привычное дело.
— Не в этот раз, ваша милость. Марина из строгой православной семьи, и вряд ли ее близкие согласятся, чтобы я жил с ней, не обвенчавшись. Мне обязательно нужно добиться развода с Чечилией.
— От Чечилии Одерико ты сможешь избавиться, только убив ее или отправив в монастырь, — усмехнулся консул. — Так что лучше живи спокойно в Кафе и не напоминай о себе Чечилии. Если же, паче чаяния, сам поедешь в Рим добиваться развода, то уж будь уверен, что эта цепкая дама накинет на тебя аркан и не выпустит из объятий.
— Значит, вы не можете оказать мне никакого содействия в деле о разводе? — продолжал настаивать Донато, хотя уже понял, что здесь надеяться ему не на что.
Консул не успел ответить, потому что в комнату вдруг без доклада ворвался запыхавшийся пожилой человек в кожаном колете и сапогах. Донато узнал его — это был известный кафинский военачальник Нелло д’Элизеи.
— Ваша милость, получено сообщение, что корабли с арбалетчиками уже направляются в Тану[34]! Представители банка тоже…
Но тут он заметил сидевшего у стены Донато и замялся. На губах консула появилась тонкая улыбка, и, переводя взгляд с одного посетителя на другого, он снисходительно заметил:
— Ты всегда слишком торопишься, Нелло. Быстрота — хорошее качество для воина, но не для дипломата. Впрочем, мессер Донато наш друг, и при нем ты можешь сказать то, что собирался.
— Я, в общем, уже сказал главное, — с некоторой настороженностью пояснил Нелло. — Только хотел добавить, что банкиры и купцы присылают на этих кораблях своих людей, чтобы следили за… за…
— За тем, как будут расходоваться деньги на поход, — помог ему закончить мысль Джаноне. — Понятно: ведь они рискуют своими деньгами.
— Они рискуют деньгами, а мы будем рисковать своими жизнями, — пробормотал Нелло.
— Ну, не мы, а наши солдаты, но риск — это их ремесло, — сухо заметил консул. — Направь своих людей в Тану, пусть проследят за прибытием кораблей и размещением пехотинцев. Ступай, Нелло.
Когда военный начальник вышел, Джаноне пояснил, обращаясь к Донато:
— Нелло сам когда-то был наемным солдатом и, похоже, до сих пор им сочувствует. Это странное свойство иных наемников — про себя ненавидеть тех, кто платит им деньги за риск. Как тут будешь уверен в их надежности, особенно если против них — варвары, отстаивающие свою землю.
— А что, мессер Нелло собирается вести солдат в военный поход? — с небрежно-рассеянным видом спросил Донато.
— Нет, ему бы я это не доверил, он уже стар, да и потерял навыки за годы мирной жизни. — Джаноне бросил острый взгляд на собеседника. — Если бы встал вопрос назначать капитана от Кафы, я бы скорее остановил свой выбор на таком удальце, как ты.
— А разве Кафа готовится к войне? — Донато изобразил удивление.
— Вынуждена готовиться, — нахмурился консул. — Положение Генуи, а стало быть, и Кафы, сейчас непростое. Генуэзский флот разбит венецианцами при Кьоджи, наш славный адмирал Дориа погиб в бою. Теперь венецианцы будут господствовать в проливах. Из Константинополя выдворен наш сторонник, а нынешний император опирается на серебро московитов. Византийские церковники и феодоритские князья делают все, чтобы лишить Геную власти в Греческом море. Их союзник на севере — огромное Московское княжество, богатое мехами и серебром. Мы не смогли подчинить его с помощью внутреннего переворота, так сделаем это на поле сражения.
— Но разве сил кафинского гарнизона и ополчения хватит, чтобы сражаться с целым княжеством? — спросил Донато, демонстрируя наивную простоватость.
— Сражаться будут татары, а мы им помогать. Ведь это тот случай, когда интересы Генуи совпадают с интересами татарского хана. Солхатский князь Джанкасиус не просто предлагает, а требует, даже принуждает кафинцев поддержать его властителя Мамая.
— Мамай — это, кажется, какой-то татарский царек?
— Ты уже много месяцев живешь в Таврике, а еще не разобрался, кто здесь главный татарин и почему, — упрекнул его Джаноне. — Похоже, твоя голова забита только любовными переживаниями. Это плохо для военного человека.
— Но, по правде сказать, я уже отвык от военного ремесла.
— Ничего, привыкнешь снова. До конца лета еще есть время.
— Поход начнется в конце лета?
— Вряд ли это будет раньше.
— Увы, я не чувствую себя готовым к такой службе. — Донато вздохнул и развел руками.
— Не хочешь служить? Тогда на что ты рассчитываешь в Кафе, на какие средства? Если у твоей возлюбленной строгая семья, то они не дадут за девушкой приданого, пока не повенчаешься, а повенчаться ты не сможешь.
— Я и не думал о приданом. Но у меня есть некоторые средства. Мой дядя по материнской линии оставил мне небольшое наследство, и я даже успел купить дом вблизи селения Отузы.
— Вот как? — Джаноне недовольно поморщился. — Ты не хочешь идти на службу, а я не могу помочь тебе получить развод. Ты же видишь, мне сейчас не до таких мелочей. Тогда зачем ты отнимаешь мое время? Или у тебя есть еще какие-нибудь просьбы?
Донато тут же нашелся:
— Только одна. Прошу вас, ваша милость, дать мне разрешение на покупку некоторых земель вокруг моего дома.
— Хочешь стать заурядным помещиком? — Консул удивленно поднял брови. — Это совсем не похоже на бывшего корсара и кондотьера. Вряд ли ты привыкнешь к такой скучной оседлой жизни.
— Возможно. Но пока у меня есть большое желание пожить именно такой жизнью рядом с любимой девушкой.
— Как порой незамысловаты бывают человеческие желания, — хмыкнул Джаноне. — Это все флорентийские поэты, болтуны, навеяли нашей молодежи любовные бредни. Ну что ж. Если ты достаточно богат, чтобы купить не только дом, но и земли вокруг него, то, я думаю, у тебя хватит средств помочь кафинской коммуне организовать ополчение.
Донато понял, что такова будет плата за разрешение владеть землей, и после небольшой паузы ответил:
— Я готов пожертвовать некоторую сумму на нужды коммуны.
— Хорошо. Оговоришь подробности с викарием.
— А условия покупки земли — тоже с ним?
— Да, я это поручу ему. — Консул помолчал и добавил с церемонной сухостью: — Теперь ступайте, мессер Донато. Я вас не принуждаю, но все-таки подумайте о службе. Многие ищут то, что я вам предлагаю.
— Я подумаю, ваша милость, благодарю вас. — Донато поклонился и вышел.
Он и сам еще совсем недавно хотел наниматься на службу к консулу и добивался бы этого, если бы с ним не случилось чуда и он не нашел бы сокровище далеких предков.
Но теперь Донато имел возможность не подчинять свою жизнь приказам и служебным обязанностям в ущерб делам сердечным. Все, что могло отдалить его от Марины, было для него невыносимым и неприемлемым. Он мог бы смириться с некоторой несвободой, если бы любимая девушка была его женой, принадлежала ему по закону; но положение не супругов, а любовников делало их союз уязвимым, а потому Донато решил выбрать тот образ жизни, при котором всегда мог быть рядом с Мариной, не удаляясь от нее ради служебного или воинского долга. Чудесно обретенное богатство позволяло ему жить так, как он хотел. И, несмотря на то что для полного счастья Донато не хватало свободы от уз ненавистного брака, он все же в целом был доволен своим визитом к консулу. Во-первых, ему удалось договориться о покупке земли, которая теперь могла стать для него источником постоянного дохода. А во-вторых, он выполнил данное Марине обещание и узнал о намерениях генуэзцев в отношении войны с русичами. Теперь ему будет что рассказать ей на празднике святого Георгия. И там же, среди праздничной толпы, он надеялся незаметно договориться с девушкой об ее отъезде из родного дома. Нет, это будет даже не отъезд, а скорее побег — побег в ненадежное будущее, в тот самый дом, где она стала женщиной и где будет жить как невенчанная жена чужеземца Донато Латино. И если девушка, воспитанная в строгих правилах и предрассудках, решится на этот побег — значит, ее любовь не надуманная, не детская, не малодушная, а настоящая, смелая и страстная — такая же, как его собственное чувство к ней. Думая об этом, Донато по-мальчишески волновался, и на сердце у него порой становилось тяжело от мысли, что его мечта может не осуществиться.
Дни, оставшиеся до праздника, он потратил на получение бумаг, закрепляющих его права на землю. Стремясь завершить сделку как можно быстрее, Донато не скупился на взятки и подарки. И если раньше гордому римлянину претило общение с продажными чиновниками, то теперь для него все способы были хороши, лишь бы поскорее соединиться с любимой и жить с ней в своем доме, на собственной земле.
Готовиться к обустройству такой жизни он начал сразу же по возвращении в Кафу после полугодового отсутствия. Обратив в деньги те несколько драгоценностей, что взял из клада, он поехал в Отузы, где оговорил с Баттистой условия покупки дома и дал ему задаток. Затем нанял слуг для охраны дома и в первый же вечер, напоив их вином и отправив спать в пристройку, сам поехал в горы за ларцом, который привез в дом под покровом ночи и спрятал в заранее приготовленный тайник. У Донато не было в Кафе никого, кроме Марины, кому бы он мог доверить тайну этого хранилища, и римлянин невольно вздыхал, думая о своем одиночестве на чужой земле. Впрочем, теперь эта земля должна была стать его второй родиной, ибо возвращение в Италию оставалось для него невозможным.
И вот наконец все принадлежало ему — и дом, и земля, а в доме все было обставлено с надлежащей дворянину роскошью. Но теперь осталось сделать самое главное — заполучить ту, ради которой он так стремился обустроить свою жизнь в чужом краю.
Он ждал праздника, чтобы встретиться с Мариной и узнать ее ответ.
Кафа всегда пышно отмечала день святого Георгия. Этого святого одинаково чтили как православные, так и католики. А для генуэзцев он был еще и божественным покровителем их родного города.
В день праздника именным разрешением консула позволялись многие отступления от правил, предписанных Уставом. Горожане могли гулять всю ночь и не гасить свет в девять часов вечера, не закрывать лавки, таверны и притоны. По улицам уже с утра бродили музыканты, наполняя город праздничными звуками; виночерпии выкатывали бочки, пекари выносили пироги; церкви, ратуша и все значительные здания украшались коврами и знаменами.
Праздник в основном оплачивался из городской казны, и это делало его особенно привлекательным и многолюдным, ибо даже последние бедняки могли забыть о своей убогой доле и повеселиться, и насытиться, что удавалось им не каждый день.
В церквах с утра шли торжественные службы, для которых свечи опять же были закуплены на деньги казначейства. Готовились к состязаниям участники конных турниров и гонки парусных судов; победителям полагалась немалая награда. Мастера по устройству фейерверков ждали вечера, чтобы удивить горожан летучими огнями.
Донато, как было условлено с Мариной, пошел встречать ее у Кайгадорских ворот, где по традиции начиналось праздничное шествие. Ворота располагались возле башни святого Константина, которую называли еще Арсенальной, поскольку в ней хранились запасы оружия: алебарды, арбалеты, мечи, копья, стрелы, каменные ядра. Эта трехстенная башня, стоявшая у самой кромки воды, играла важную роль в оборонной цепи Кафы. Ожидая начала торжеств, Донато ходил вокруг и, задрав голову, оглядывал навесные бойницы — машикули в средней части башни и зубцы — мерлоны, предназначенные для укрытия арбалетчиков во время защиты крепости.
Вдруг кто-то окликнул его по имени. Оглянувшись, Донато встретился взглядом со своим давним знакомцем Бартоло, которого не видел с тех самых пор, как они расстались возле дома Симоне.
— Где ж ты скрываешься, приятель? — воскликнул сын отшельника, подойдя поближе. — О тебе какие только слухи не ходили! Родитель мой сказал, что ты потерялся в горах, но потом я слышал, будто ты вернулся-таки в Кафу, да не один, а с красоткой. Почему же до сих пор не навестил меня?
— Так уж получилось. Я был занят делами и не смог зайти в «Золотое колесо».
Донато обратил внимание, что Бартоло необычно одет: кираса, шлем, сапоги, перчатки, меч у пояса — все могло свидетельствовать о том, что он собрался в военный поход, а не на праздничное гулянье. Заметив удивленный взгляд римлянина, генуэзец рассмеялся:
— Что смотришь? Думаешь, я готовлюсь не к празднику, а к войне?
— Похоже на то.
— А вот и не угадал! Просто мы с братом собираемся принять участие в джостре[35]. Победителю достанется неплохая награда. — Бартоло подтолкнул вперед юношу, тоже облаченного в доспехи. — Будь знаком с моим братом Томазо.
— А я уже встречал твоего брата в аптечной лавке Эрмирио, — вспомнил Донато.
— Мне, конечно, еще рано мечтать о турнирных успехах, — скромно заметил Томазо. — А вот Бартоло вполне может стать победителем.
— Томазо пока еще неопытен в военных состязаниях, но ведь с чего-то надо начинать, — заявил Бартоло. — А джостра для этого — хорошая школа: опасности для жизни нет, зато можно себя проверить, почувствовать воином. Потом, в настоящей битве, это пригодится.
— А ваш отец знает, что вы оба идете на турнир? — спросил Донато, вспомнив недовольство Симоне военными пристрастиями старшего сына.
— Слава Богу, родитель не приезжает на праздник в Кафу, а то бы запретил Томазо даже притрагиваться к оружию. При таком воспитании брат мой никогда не станет мужчиной.
— Это верно, — согласился юноша. — Отец дает мне воспитание не отцовское, а материнское. Спасибо, что хоть Бартоло учит меня быть сильным.
В это время толпа зашумела, что свидетельствовало о начале церемонии, и Донато, боясь упустить из виду Марину, быстро попрощался с братьями, пожелав им успехов на турнире. Бартоло, возможно, еще бы продолжал расспросы, но его и Томазо увлекли за собой другие участники военных состязаний.
Донато посмотрел в ту сторону, куда спешило большинство людей. Именно там, возле Кайгадорских ворот, начиналось торжественное шествие консула, сопровождаемое пешей и конной свитой. Это было открытие праздника, а завершиться он должен был ужином во Дворце Коммуны.
Но Донато вовсе не был охвачен азартом толпы, жаждавшей посмотреть на консула и его нарядную свиту; римлянина гораздо больше волновало то обстоятельство, что в такой толпе они с Мариной не отыщут друг друга. Он решил, что надо бы ему занять место где-нибудь на возвышении, чтобы Марине легче было заметить его. Чуть отступив к морскому фасаду крепости, он оглянулся — и вдруг увидел ту, которую искал. Это показалось ему невероятным, но в нескольких шагах от него, возле бокового откоса башни, стояла Марина. Ее тоненькая фигурка в светло-малиновом платье ярко выделялась на фоне серой каменной стены.
Донато кинулся к ней, расталкивая на пути зазевавшихся прохожих. Но, когда он хотел обнять девушку, она предусмотрительно отстранилась:
— Осторожно, нас могут увидеть. Моя мать и отчим тоже здесь, только мне удалось от них отделиться. Они думают, что я со своей подругой Гаяне, но я и от нее отстала, когда увидела тебя. Надеюсь, Гаяне меня не выдаст.
— Марина, мне надо многое тебе сказать. — Донато, оглядевшись по сторонам, стал так, чтобы прикрывать собой девушку от посторонних взглядов. — Прежде всего знай: все готово к нашей с тобой семейной жизни. Пусть мы пока невенчанные супруги, но можем жить вместе вполне благополучно. У нас есть дом, поместье, слуги. У тебя будет все, что ты пожелаешь. Я увезу тебя в любое время, только дай свое согласие.
— Но я не могу решиться рассказать об этом матери, — вздохнула Марина. — А если расскажу, она меня не отпустит.
— А ты напиши ей письмо, которое она прочтет уже после твоего отъезда. Материнское сердце не камень: сначала она будет сердиться, но потом непременно тебя простит и благословит.
— Не знаю… может быть. Но вот кто точно не благословит, так это отец Панкратий. Он уже видел меня в Кафе и сказал, что я не оправдала его надежд, что мы с тобой — лжецы.
— Но ведь этот священник и сам не всегда говорил правду. Когда ему было нужно задержать нас в Мангупе, он утверждал, будто кафинские стражники охотятся за мной как за убийцей Заноби. А на самом деле этого не было. Я выяснил окольным путем, что никто здесь не связывает гибель Заноби со мной. Разве что отец Панкратий сам об этом кому-нибудь расскажет. Но не думаю, что ему это на руку. Тем более теперь, когда я узнал то, что интересует феодоритов.
— Ты был у консула? — догадалась Марина.
— Был. И Джаноне дель Боско сам предлагал мне поступить к нему на службу, но я отказался, потому что хочу быть свободным. Свободным, чтобы всегда быть с тобой и защищать тебя.
Марина почувствовала, как теплеет у нее на сердце от слов Донато. Но, не подавая виду, что готова хоть сию минуту идти за ним на край света, она строго спросила:
— А какие новости ты там узнал? Я могу передать что-то важное отцу Панкратию?
— А ты собираешься идти на исповедь к отцу Панкратию?
— Я непременно должна к нему сходить перед тем, как… перед тем, как решусь дать тебе ответ. Я буду просить у него благословения.
— А если он не благословит, что тогда? Ты откажешься уехать со мной?
— Я еще не знаю. — Она опустила глаза. — Но если ты не передашь ему обещанных сведений, то он точно не благословит.
— Похоже, у меня нет другого выхода. — Он невесело усмехнулся. — Мне безразличны интересы как генуэзцев, так и феодоритов, но глубоко небезразлична девушка, которая привыкла слушаться своего священника.
Донато обнял Марину за плечи, так что его широкий плащ окутал ее тонкую фигуру, и повернул девушку спиной к городской улице. Она бросила на него настороженный взгляд, а он заговорил, почти касаясь губами ее уха:
— Передай отцу Панкратию, что из Генуи отправлен кораблями большой отряд пехотинцев…
Далее он рассказал все, что узнал о намерениях генуэзцев помочь татарам в войне за славянские земли. Марина слушала с напряженным вниманием, стараясь запомнить каждое слово. Молодые люди были так поглощены разговором, что не заметили устремленного на них внимательного взгляда. Мужчина лет тридцати пяти — сорока, одетый не то как генуэзский, не то как греческий купец, разглядывал их со стороны улицы, отделившись от толпы, которая следовала за торжественным шествием. К нему повернулись двое его спутников и окликнули:
— Коррадо! Ты что там замешкался?
— Кажется, я увидел знакомое лицо, — отозвался он и махнул рукой. — Вы идите, я вас догоню! Встретимся возле ратуши.
Он направился к Марине и Донато, и молодые люди оглянулись на его восклицание:
— Синьор Латино, вас ли я вижу?
Марина посмотрела на незнакомца с легким испугом, а Донато — с удивлением:
— Коррадо Перуцци? Какая неожиданная встреча!
— А я, признаться, ожидал встретить вас здесь, мессер Донато, — улыбнулся Коррадо Перуцци. — Правда, не надеялся, что наша встреча произойдет так быстро. А все благодаря празднику, выманившему всех горожан на улицы.
— Вы ожидали встретить меня в Кафе? — насторожился Донато. — Но откуда вы узнали, что я здесь?
Марина встревоженно переводила взгляд с Донато на его собеседника. Для нее каждый новый генуэзец таил в себе скрытую угрозу, ибо мог привезти дурные вести и как-то повлиять на судьбу ее возлюбленного. Но Донато не огорчила неожиданная встреча, поскольку Коррадо принадлежал к тем генуэзцам, с которыми у римлянина сложились добрые отношения. Именно этот солидный генуэзский купец в свое время не раз давал Донато важные советы по торговым делам да к тому же помог ему попасть на прием к Джаноне дель Боско.
— Не только я узнал, что вы здесь, мессер Донато, — сообщил Коррадо. — Новость о вашем пребывании в Таврике привез в Геную не кто иной, как Нефри Чекино.
— Нефри!.. Я так и думал… — нахмурился Донато.
— Он неплохой малый, но изрядный болтун, — заметил Коррадо. — Когда я узнал о вашем пребывании в Таврике, а это случилось незадолго до моего отъезда, то решил непременно повидать вас здесь и кое-что вам рассказать.
— А вы приехали сюда по торговым делам?
— Да, я привез оружие, на него в Кафе и Тане сейчас большой спрос, а у меня налажены связи с лучшими миланскими оружейниками. Правда, из-за войны с венецианцами добираться мне пришлось окольными путями, через греческие порты.
Отвлекшись на беседу с генуэзским купцом, Донато перестал настороженно посматривать по сторонам и не разглядел в проходившей мимо башни толпе Таисию и Лазаря. Марина же, которая стояла спиной к улице, и вовсе не могла видеть ни матери, ни отчима; зато последние заметили молодых людей. Таисия хотела было кинуться к дочери, но потом передумала и решила, подобравшись поближе, подслушать разговор. Лазарь одобрил ее намерение, и они вместе подошли к башне, спрятавшись за выступом стены.
А беседа Донато с генуэзцем приблизилась к самому щекотливому моменту.
— Вы хотели рассказать мне что-то важное, мессер Коррадо? — спросил Донато, хотя и так догадался, о чем пойдет речь.
— Да, это важно для вас. Слух о вашем пребывании в Таврике дошел до одного генуэзского семейства, которое… — Коррадо запнулся, бросив выразительный взгляд на Марину.
— Можете говорить об Одерико; синьорина знает эту историю. Марина мой лучший друг и, надеюсь, будущая жена, — объявил Донато.
— О-о!.. Я могу вас только поздравить с таким выбором, мессер Донато, — любезно улыбнулся генуэзец. — Но, боюсь, об этой синьорине уже знает и ваша нынешняя жена Чечилия. Нефри не смог удержаться и рассказал о том, что у вас взаимная любовь с одной местной красавицей. Теперь Одерико знают, где вы, и знают, что вы здесь не один. И вряд ли такая властная женщина, как Чечилия, с этим смирится. Если она поставит цель добраться до своего мужа, то уж непременно прибудет в Таврику. Правда, сейчас венецианцы заблокировали проливы, но такие ловкачи, как Одерико, всегда найдут обходные пути. Вам следует опасаться, мессер Донато. Вот об этом я и хотел вас предупредить.
Донато поймал на себе встревоженный взгляд Марины и, ободряюще ей улыбнувшись, сказал:
— Одерико женили меня обманом, но не смогут удержать силой. Я буду добиваться развода с Чечилией.
— Но для этого надо будет обратиться в Рим, к папе, — заметил Коррадо. — А я должен вас предупредить, что ехать в Рим вам сейчас опасно. Одерико уже донесли римскому префекту, что вы убили его друга.
— Я отомстил Густаво за смерть своей сестры!
— Да, но вряд ли префект примет это во внимание. Увы, мессер Донато, но при нынешней власти все дороги в Рим для вас отрезаны.
— Я могу добиваться развода и через третьих лиц, — заметил Донато, хотя после беседы с консулом совсем не был уверен в успехе таких переговоров.
— Попробуйте. Но вряд ли это возможно в условиях той смуты, которая нынче царит в Риме, — вздохнул Коррадо. — Да и здесь, в Таврике, очень неспокойно. Поэтому мой вам совет: не разоряйтесь на тяжбы и подкуп чиновников, которые наобещают, но ничего сделать не смогут. Потерпите, дождитесь лучших времен.
Марина, удрученная словами генуэзца, растерянно огляделась по сторонам — и вздрогнула, встретившись глазами с матерью.
Таисия услышала слишком много возмутившего ее и, уже больше не считая нужным скрываться, разгневанная и суровая, вышла вперед в сопровождении молчаливо-хмурого Лазаря.
— Значит, ты не помолвлен, а женат? — прямо обратилась она к Донато. — И к тому же на родине тебя обвиняют в убийстве? Всем хорош молодец: сбежал и от жены, и от тюрьмы! Только зачем же ты мою дочь обманул? Зачем притворялся женихом, если жениться не можешь?
— Мама, я прошу тебя, не бранись! — вскрикнула Марина. — Донато ни в чем не виноват! И не забывай, что он спас меня!
— Спас — спасибо, мы его за это готовы отблагодарить, пусть назовет цену, — заявила Таисия. — Но только к нашему дому пусть больше не приближается и доброе имя твое не порочит.
— Мама!.. — снова выкрикнула Марина. — О какой цене ты говоришь? Донато спас меня бескорыстно, он благородный человек.
— Благородный? А разве благородно женатому человеку морочить голову честной девушке? — Таисия повернулась к Донато: — Вижу, что тебе нечего сказать в свое оправдание.
— Только одно могу сказать: я люблю вашу дочь, — заявил Донато.
— А моей дочери твоя любовь не нужна! — вскинулась Таисия. — Ступай, доказывай свою любовь жене! А Марине я найду в мужья честного, богобоязненного человека.
— Мама! Не надо за меня решать, кто мне нужен! — возразила Марина.
Заметив пристальные, полные тоски взгляды, которыми обменялись Марина и Донато, Таисия схватила девушку за руку и потащила в сторону:
— Пойдем, пойдем, дочка, от греха подальше, пойдем, посидишь сегодня дома.
Марина, вынужденная повиноваться, оглянулась на Донато, но Лазарь тут же стал позади нее, заслонив девушку от возлюбленного, и помог Таисии увести строптивицу прочь. Донато хотел было кинуться следом за Мариной, но Коррадо сдержал его порыв:
— Постойте, мессер Донато, не делайте глупостей. Ведь вы, по сути, не имеете права ухаживать за этой девушкой, и ее родители могут на вас пожаловаться.
— Но что же мне делать?.. — в отчаянии прошептал Донато. — Ведь я люблю ее!..
— Тут надо действовать похитрей. Войдите в доверие к ее родителям, объясните им, что вас женили обманом, что для Марины вы будете хорошим спутником жизни даже без венчания. Впрочем, что я говорю… Не похоже, чтобы эти суровые люди греческой веры понимали счастье молодой девушки, которая, кажется, влюблена в вас не меньше, чем вы в нее. Тогда лишь одно остается: встречаться с ней тайно, как делают многие влюбленные. Этому не помешает даже замужество вашей красавицы. Замужние женщины не меньше могут любить, чем свободные: вспомните хотя бы историю мадонны Фьяметты[36].
— Но я не хочу, чтобы Марину выдали за кого-то замуж! — воскликнул Донато. — Скорее украду ее, чем позволю, чтобы к ней прикоснулся другой мужчина, пусть даже законный муж!
— Ваша страсть меня пугает, — покачал головой Коррадо. — Вы готовы похитить девушку другой веры здесь, в чужой стране, где вокруг столько опасностей? Вы совсем не думаете о своем будущем?
— А что мне будущее без Марины!
В горящих черных глазах Донато была такая тоска, что Коррадо невольно посочувствовал ему:
— Я бы хотел вам помочь, но не знаю чем. В деле похищения я, конечно, не помощник, но во всем остальном попытаюсь.
— Мессер Коррадо… Когда вернетесь в Италию, похлопочите о моем разводе.
— Но в Италию я вернусь лишь поздней осенью. Боюсь, что до этого времени вам уже придется иметь дело с Одерико, которые обязательно что-нибудь предпримут.
Донато сказал после некоторого раздумья:
— Тогда есть у меня к вам другая, более простая просьба. Я скоро уезжаю из города в свое недавно купленное поместье. Если в Кафе вдруг появятся Одерико, я прошу вас оповестить меня об этом. Ведь другие мои кафинские знакомые не знают этих мошенников в лицо. Впрочем, их знает еще консул, но вряд ли они станут показываться на глаза Джаноне дель Боско.
— Разумеется, я выполню вашу просьбу. Только надо условиться, куда и через кого я должен буду передать вам весточку.
Пока Донато и его генуэзский знакомец беседовали возле башни, Таисия спешно уводила дочь домой, а Лазарь неотступно следовал рядом, не давая девушке даже посмотреть в сторону. Вокруг шумела праздничная толпа, но у Марины не было ни желания, ни возможности разделить городское веселье. Иногда в толпе мелькали знакомые лица, но мать и отчим не останавливались, чтобы с кем-нибудь поговорить.
Придя домой, Таисия водворила дочь в ее комнату и объявила:
— Теперь-то уж точно выдадим тебя замуж за Захария. Надо это сделать, пока не поздно, а то уж скоро слухи пойдут о тебе и этом женатом латинянине, тогда тебя никто из порядочных людей замуж не возьмет.
— Но я не хочу замуж! — воскликнула Марина. — Я не люблю Захария!
— А чего же ты хочешь? Стать любовницей этого латинянина? Да он тебя бросит, как только натешится! Или, может, хочешь окончить свои дни в монастырской келье, как Рузанна?
Напоминание о сводной сестре тут же привело мысли Марины к отцу Панкратию, и она решила как можно скорее пойти к нему на исповедь, чтобы передать сведения от Донато. К тому же встреча со священником была теперь для нее единственной возможностью отлучиться из дома, и Марина заявила матери:
— Я дам тебе ответ, когда посоветуюсь с отцом Панкратием. Он мудрый человек и подскажет мне правильное решение.
— Может, и мудрый, а только зря он давал тебе читать книги, — проворчала Таисия. — Лишнее это занятие для девушки, баловство. Женское счастье не в учености состоит.
— Счастье каждый по-своему понимает, — сказала Марина и отвернулась к окну.
— Ладно, посиди, поразмысли, какое тебе счастье надобно, — вздохнула Таисия. — Думаешь, мне тебя не жалко? Да у меня сердце кровью обливается, когда подумаю, что придется отдавать тебя замуж против твоей воли! Но нет у меня другого выхода! Вижу, что люб тебе этот латинянин, я бы даже и согласилась на него и Лазаря бы уговорила, но ведь Донато твой — женатый человек! Пусть и не любит он свою жену и не живет с ней, но ведь она есть! А ты с ним можешь жить только в грехе и позоре! Это хоть понимаешь?
Слушая наставления матери, Марина сначала отмалчивалась, а потом не выдержала и со слезами в голосе воскликнула:
— Я все понимаю! Но не могу приказать своему сердцу! И рядом с Донато я не боюсь греха и позора! Можешь меня осуждать, но я не виновата, что люблю его! Значит, так Бог велел, ведь без божьей воли любви не бывает!
Услышав отчаянную отповедь дочери, Таисия растерянно заморгала и отступила назад, прижав руки к лицу. Она вдруг поняла, что сейчас бесполезно в чем-либо убеждать девушку, и, решив оставить ее в покое, тихо вышла из комнаты.
Но Марина недолго предавалась отчаянию. Подспудно в ней крепла уверенность в том, что Донато обязательно найдет какой-нибудь выход. Сама же она решила в ближайшие дни постараться выйти из дому одна, без сопровождения, чтобы Донато имел возможность дать ей какой-нибудь знак.
Вскоре после окончания праздников они с матерью пошли в церковь Святого Стефана, где в этот день должен был править службу отец Панкратий. По дороге Таисия не отпускала дочь ни на шаг, даже держала ее за руку, и все-таки материнская опека не помешала девушке почувствовать тот взгляд, который всегда казался ей магическим. Донато стоял на возвышении возле стены, что вела к башне Криско, и не сводил с Марины своих блестящих черных глаз, в которых девушка прочитала и нежность, и страстный призыв. Но на римлянина обратила внимание и Таисия, которая тут же попеняла дочери:
— Зачем вертишь головой в его сторону? Думаешь, люди не заметят, как ты переглядываешься с женатым латинянином?
— Мама, в Кафе никто не знает, что он женат, кроме того приезжего синьора Коррадо, — тихо ответила Марина. — Да вот еще вы с Лазарем знаете, потому что подслушали разговор.
— А ты думаешь, эта тайна долго удержится? Сплетни быстро разносятся, так что будь осторожной, не позорь себя.
Марина ничего не сказала, но еще раз украдкой оглянулась на Донато и заметила, что он глазами делает ей знак в сторону юноши, стоявшего чуть поодаль, под деревом. Марина посмотрела на юношу более внимательно и узнала в нем Томазо — младшего сына Симоне.
— Опять вертишь головой? — недовольно проворчала Таисия и тоже оглянулась, но Донато уже не было на прежнем месте. — Ушел, слава Богу. А я уж боялась, что целый день будет на тебя глазеть.
Через несколько шагов девушка обратила внимание, что Томазо переместился ближе к церкви и, поймав взгляд Марины, незаметно показал ей сложенный клочок бумаги. Она поняла, что это и есть долгожданная весточка от Донато, и, проходя мимо Томазо, нарочно споткнулась и уронила на землю молитвенник. Юноша тотчас его поднял и любезно протянул Марине, успев при этом вложить между страницами записку. Девушка поблагодарила, выразительно глянув на Томазо, и пошла дальше рука об руку с матерью.
— Кто этот малец? — кивнула Таисия на Томазо. — Кажется, я его видела в аптечной лавке Эрмирио.
— Да, он там бывает. Это сын знахаря Симоне.
— Симоне? Того, который был женат на мавританке и тронулся умом, когда овдовел?
— Ты перепутала: у него мать была мавританкой, а не жена. А жену он действительно так любил, что стал отшельником после ее смерти.
Таисия вздохнула и, перекрестившись, вошла в церковь. Похоже было, что она не усмотрела ничего подозрительного в коротком общении дочери и Томазо. Зато Марина не сомневалась в том, что записка, переданная юношей, — от Донато, и ей не терпелось поскорей ее прочесть. Даже суровый взгляд отца Панкратия, проводившего службу, не мог заставить девушку потерпеть; она раскрыла молитвенник и незаметно пробежала глазами короткое послание. Донато сообщал, что будет ждать Марину вечером у задней калитки ее двора. Разволновавшись, девушка закрыла молитвенник и до конца службы уже не могла сосредоточиться. Она понимала, что означает просьба Донато о вечернем свидании: он хочет увезти Марину с собой, он ждет ее решительного ответа, а она все еще не была к этому готова.
После службы девушка подошла к отцу Панкратию с просьбой об исповеди. Священник понял, что речь пойдет о чем-то важном, и объявил Таисии, что может принять исповедь ее дочери прямо сейчас. В глазах матери вспыхнула тревога, но воля отца Панкратия здесь была законом, и Таисия вышла из церкви, оставив Марину наедине с ее пастырем.
Чтобы расположить к себе отца Панкратия, девушка первым делом сообщила ему те сведения, которые ей передал Донато. Выслушав ее, священник пробормотал:
— Что ж, это совпадает с нашими наблюдениями.
— Донато рад был оказать вам услугу. И если в дальнейшем он узнает что-то еще… — Марина запнулась под недоверчивым взглядом священника.
— Неужели латинянин готов служить нам бесплатно? Или ему что-нибудь нужно?
— Единственная благодарность, которую он ждет… и я тоже… это ваше благословение, отче.
— Он пусть ищет благословения у пастырей своей веры, а тебя я могу благословить и принять твою исповедь. — Глаза отца Панкратия словно заглядывали ей в самую душу. — Ты в чем-нибудь грешна?
— Не знаю… Но если моя любовь к Донато — грех, тогда…
— Если я не благословлю твою любовь к латинянину, то ты откажешься от нее?
— Нет, — тихо, но твердо ответила Марина.
— Что ж, тогда я бессилен помешать этой любви. — Священник вздохнул и перекрестил Марину. — Иди с Богом, дитя. У тебя чистая душа и ясный ум, пусть они тебе подскажут, как быть.
Марина ушла просветленная. Хотя прямого благословения своей любви она не получила, да и всей правды о Донато не открыла, но иносказательно суровый пастырь все же позволил ей слушаться собственного сердца.
Вечером того же дня, собрав в узелок самые необходимые мелочи, она вышла во двор, чтобы незаметно, петляя между деревьями, приблизиться к задней калитке. Обстоятельства ей благоприятствовали: вечер выдался сумрачный и во дворе как раз никого не было. Лишь откуда-то из-за сарая раздавался звонкий смех Юрия, игравшего со своей любимой собакой.
И внезапно мысль о матери, о брате пронзила девушку, заставив остановиться и поколебаться в своем решении безоглядно и тайно бежать, скрывшись от родных людей. Она решила попрощаться с матерью хотя бы через брата и, тихонько подозвав к себе Юрия, сказала ему:
— Братик, я прошу тебя, передай маме, что я ее очень люблю, но должна на время уехать. Она все поймет. И тебя я люблю, Юрасик.
Она расцеловала мальчика в обе щеки, а он, удивленно округлив глаза, спросил:
— Ты опять хочешь уехать на целых полгода? Но зачем, куда? Мы же будем скучать по тебе!
— И я по вас буду скучать.
— Так не уезжай!
— Я не могу, Юрасик. Мне надо уехать. Но это ведь не навсегда. Передай маме, чтоб не волновалась, со мной все будет хорошо.
Еще раз поцеловав брата, она пошла к условленному месту. Задняя калитка оказалась заперта, и Марина, став на большой камень возле забора, выглянула за пределы двора. С этой стороны усадьба находилась на некотором возвышении над дорогой и дворами следующего ряда.
На дороге стояла закрытая коляска, запряженная парой лошадей, а рядом переминался с ноги на ногу Донато, нетерпеливо поглядывая в сторону калитки. Увидев вдруг появившуюся над забором голову Марины, он радостно встрепенулся, но девушка, приложив палец к губам, вполголоса пояснила:
— Я не могу выйти, калитка заперта.
Донато подошел вплотную к забору и протянул к ней руки:
— Ты можешь подняться чуть-чуть повыше? Только немного приподнимись над забором, а я тебя подхвачу.
Забор, сложенный из дикого камня, был неровен. И девушка попробовала подтянуться, цепляясь ногами и руками за эти неровности. Но тут сзади она услышала взволнованный, прерывистый голос матери:
— Куда ты? Остановись!
Запыхавшаяся Таисия схватила дочь за плечи, повернула к себе и растерянными, испуганными глазами посмотрела ей в лицо. Марина поняла, что брат успел рассказать матери о странном прощании сестры.
— Мама, родная, не останавливай меня, я все равно убегу, — сказала девушка, обнимая мать и одновременно пытаясь вырваться из материнских рук. — Прости меня, но такова моя судьба. Другой судьбы, другого счастья мне не надо!
— Дочка, но ты же в омут головой бросаешься!
— Даже если так, я все равно иначе не могу! Что же мне делать? Я люблю его и никогда не полюблю никого другого! И я буду с ним счастлива, пусть даже недолго! Но ведь короткое счастье дороже многих лет тоскливой безрадостной жизни! Разве не так? И не уговаривай меня, это бесполезно! Даже если бросите меня в темницу, я все равно буду думать о нем!
Таисия, тяжело вздохнув, прошептала:
— Видно, и вправду такова твоя судьба… Сказано же библейским царем: «Сильна, как смерть, любовь»… Иди, дочка, я тебя отпускаю и буду Бога молить за тебя. — Она поцеловала Марину, перекрестила ее и, кивнув на забор, добавила: — Только не надо тебе через ограду карабкаться, словно бродяжке какой.
Таисия взяла висевшую у нее на поясе связку ключей и отперла калитку.
— Спасибо, мамочка моя родная! — Марина со слезами на глазах обняла мать и выпорхнула из родного гнезда в неизвестность.
Темнота вечера помешала ей заметить корягу на обрывистом склоне перед дорогой, и она, зацепившись платьем, споткнулась; но Донато был рядом, и Марина упала прямо в его объятия.
Глава тринадцатая
Донато выехал на охоту с двумя слугами, остальных оставил в усадьбе охранять молодую хозяйку, которая уже второй месяц жила в его доме как горячо любимая, хоть и невенчанная, жена. Мысль о том, что дома ждет Марина, делали особенно сладким его возвращение в недавно купленное поместье, где он надеялся обустроить свой маленький рай, оградив от бурь и злой молвы такое хрупкое и выстраданное счастье.
Донато не был большим любителем охоты, но если уж отправлялся на нее, то не мог сдержать свойственного ему от природы азарта. И в этот раз, преследуя оленя-рогача, он вместе со своими спутниками удалился далеко от дома, в дубовые чащи позади Черной горы. И когда наконец охота завершилась удачно, Донато обнаружил, что оказался вблизи знакомой ему харчевни «Морской дракон». Ее хозяин Кривой Гуччо благосклонно относился к римлянину еще с тех пор, когда впервые увидел его в своем заведении и предотвратил драку Донато с двумя игроками, которые пытались обчистить подвыпившего Бартоло. Теперь старому пирату нравилось, что римлянин, став богатым землевладельцем, не загордился и не обложил поборами местных крестьян, как это делали иные генуэзцы, умевшие подкупить чиновников, чтоб те закрывали глаза на их самоуправство. С легкой руки трактирщика поместье, приобретенное Донато, в окрестностях стали называть Подере ди Романо — имение Римлянина.
Донато решил, что раз уж он оказался возле «Морского дракона», то это случай передохнуть, выпить вина и переброситься парой слов с Гуччо.
Но, вопреки его намерениям, отдыха не получилось. Едва Донато сел на скамью и утолил жажду несколькими глотками молодого вина, как на пороге харчевни появился не кто иной, как Коррадо Перуцци. После встречи на празднике святого Георгия Донато виделся с генуэзским купцом только один раз, когда месяц назад приезжал в Кафу покупать лошадей и повозки. В тот день ни о чем важном Коррадо не сообщил, был занят своими повседневными торговыми делами. Теперь же, едва взглянув на его хмурое, озабоченное лицо, Донато понял, что не праздное любопытство и не желание погостить привели сюда генуэзца.
— Какая встреча, мессер Донато! А я ведь направлялся к вам в поместье!
— Я так и думал, — откликнулся римлянин и, пожимая руку Коррадо, вполголоса спросил: — Они уже в Кафе?
— Да, — так же тихо ответил Коррадо. — Чечилия и Уберто приехали, а Нероне с ними нет. Я слышал, что их старший братец угодил не то в тюрьму, не то в плен к пиратам.
— Неважно, хватит и этих двоих, — помрачнел Донато. — Они расспрашивали вас обо мне?
— Да. Но я, разумеется, ничего не рассказал. Однако вы же понимаете, они и без меня сумеют выведать, как вас найти. Раз уж добрались до Таврики…
— Мне надо спешить домой, — сказал Донато, охваченный внезапной тревогой.
— Давайте хоть немного передохнем, — остановил его генуэзец. — Ведь они не доберутся до вас так быстро. Я видел их только вчера.
— Но ведь вы не знаете, когда они приехали в Кафу; может, уже несколько дней тому назад. Простите, мессер Коррадо, вы можете пока передохнуть в харчевне, но я должен возвращаться домой немедленно. У меня неспокойно на душе.
— Погодите, через несколько минут я поеду вместе с вами.
Скоро Донато, оставив слуг возле харчевни разделывать охотничью добычу, мчался в сопровождении Коррадо по дороге к своему поместью. Его подгоняло недоброе предчувствие, для которого, как утверждал генуэзец, пока что не было причин.
Марина же в эти минуты не испытывала ни страха, ни тревоги, а только лишь радостное волнение, связанное с важным для нее и Донато обстоятельством. Последнее время она чувствовала в себе определенные перемены и, несмотря на отсутствие опыта, понимала, что это может быть признаком беременности. А сегодня, открывшись своей новой служанке Агафье, она уже не сомневалась, что находится в положении, и ждала возвращения Донато, чтобы сообщить ему об этом.
Агафью, женщину еще молодую, но уже достаточно опытную и знающую толк во врачевании, привезла к Марине Таисия, которая однажды навестила дочь в ее новом жилище и, кажется, осталась довольна той роскошью и заботой, какой окружил девушку Донато. Она не высказалась вслух, но Марина угадала по лицу матери, что Таисия уже смирилась с выбором дочери и готова ее защищать. Однако Лазарь не сопровождал жену в этой поездке, и Марина сделала вывод, что отчим непреклонно против своевольного решения падчерицы. Впрочем, девушку не слишком трогало отношение к ней Лазаря; для нее было главным, что мать поняла и простила.
Агафья, славянка по происхождению, имела добродушный нрав, в домашних делах отличалась чистоплотностью и проворством и скоро стала для Марины если не подругой, то уж, во всяком случае, доверенным человеком. Другие же слуги женского пола, нанятые Донато, для этой роли не подходили: повариха-гречанка была пожилой и молчаливой, а две татарки, занимавшиеся уборкой и шитьем, общались только между собой и едва умели говорить на других языках. И это вполне устраивало Донато, который ценил в домашних слугах отсутствие болтливости и любопытства.
Количество слуг и работников мужского пола было более многочисленным. Донато нанял нескольких бывших генуэзских солдат, чтобы они выполняли в имении роль сторожей и телохранителей.
В послеполуденный час, когда лучи августовского солнца были уже не такими жгучими, как в разгаре дня, Марина сидела в одиночестве перед окном, не желая видеть ни Агафью, ни, тем более, других слуг. Ее мысли были заняты предстоящим разговором с Донато, который обещал вернуться сегодня к вечеру. Ей было важно, как отнесется возлюбленный к сообщению о ее беременности. Марина была почти уверена, что он обрадуется и заранее полюбит плод их любви, но все же холодок сомнения порой закрадывался ей в душу. Ведь будущему ребенку, увы, судьбой уготована роль бастарда…
От противоречивых мыслей девушку отвлек легкий шум за окном и звуки голосов. Она обрадовалась, решив, что это Донато вернулся с охоты, и уже хотела выйти ему навстречу, но тут в комнату заглянула Агафья и объявила:
— Госпожа, к тебе приехала какая-то женщина.
— Кто же это? — удивилась Марина. — Неужели моя подруга дозналась, где я теперь живу?
— Нет, это не твоя подруга, а какая-то латинянка. Говорит, что у нее к тебе важное дело.
— Очень странно, — нахмурилась Марина и почему-то подумала о Бандекке. — Наверное, какая-нибудь девица из таверны?
— Нет, по виду — знатная дама. Говорит, что она дальняя родственница хозяина.
— Вот как? Значит, надо принять ее с уважением. — Марина встала, собираясь выйти навстречу незнакомке.
— Но Энрико говорит, что хозяин будет недоволен, если мы пустим в дом кого-нибудь из незваных гостей, — замялась Агафья.
Энрико был командиром солдат, нанятых Донато для охраны имения.
— А что опасного в этой женщине? — пожала плечами Марина. — Или, может, ее сопровождают подозрительные люди?
— Нет, она приехала только с одним слугой — возницей, но он стоит в сторонке и даже к дому не подходит.
— Ну, вот видишь, Энрико нечего опасаться. И будет невежливо, если я ее не приму.
Марина вышла в зал для гостей. Именно в этой большой комнате они с Донато весной провели свою первую ночь любви. Теперь же, когда весь дом был приведен в порядок, у них была уютная спальня с окнами в сад, а зал, как и положено, служил гостиной.
Незнакомка стояла спиной к окну, и потому Марина не смогла сразу разглядеть черты ее лица, скрытого к тому же легким покрывалом.
— Рада вас видеть, синьора, — поприветствовала гостью хозяйка. — Позвольте узнать ваше имя.
Гостья подошла ближе и откинула с лица покрывало. Она оказалась молодой и довольно красивой женщиной, хотя резким чертам ее лица, пожалуй, недоставало женственности, а взгляд чуть прищуренных оливковых глаз настораживал своим холодновато-надменным выражением.
— Мое имя Чечилия, — объявила она и негромко добавила: — Если вам это о чем-то говорит.
— Да… Мне это говорит о многом…
Девушка не смогла скрыть произведенного на нее впечатления. Она давно ожидала и боялась этой встречи, хоть ей и не верилось, что итальянская синьора решится на столь далекое и опасное путешествие ради того, чтобы вернуть отвергнувшего ее мужа.
Но, увидев близко ту, которая была ее соперницей не по прихоти случая, как Нимфодора или Бандекка, а по закону, Марина невольно растерялась и, почувствовав приступ дурноты, поднесла руку ко рту и опустилась на стул.
— Госпожа, тебе плохо? — захлопотала вокруг нее Агафья. — Может, дать тебе ягод? Или кислого молока?
— Нет, только воды.
Напившись, Марина встала и обратилась к гостье:
— Зачем вы приехали, синьора? Что вам нужно от меня?
— А разве нам с вами не о чем говорить? — Чечилия усмехнулась уголками губ. — Или вы боитесь побеседовать со мной наедине?
Агафья, плохо понимавшая итальянский язык, настороженно переводила взгляд с Марины на Чечилию. Она, как и другие слуги, не знала, что Донато женат, а потому и не могла догадаться об истинном отношении гостьи к хозяйке.
— Что ж, если вам угодно, побеседуем наедине, — сказала Марина и обратилась к служанке: — Выйди, Агафья. Твоя помощь не нужна. Мне уже лучше.
Агафья вышла, но перед тем, как скрыться за дверью, оглянулась.
— Боюсь, что в доме нас будут подслушивать, — насмешливо заметила Чечилия. — Не лучше ли нам с вами выйти в сад и там поговорить?
Марина не могла найти слов возражения и вышла вслед за гостьей в сад, хотя при этом чувствовала себя униженной и пристыженной.
Возле крыльца топтался Энрико, чуть поодаль стояли два его помощника.
— Синьора, хозяин велел везде вас сопровождать, — заявил бдительный страж.
Но Марине совсем не хотелось, чтобы ее сопровождал Энрико, который, в отличие от Агафьи, понял бы каждое слово из разговора соперниц, и потому она решительно возразила:
— Но не сейчас, Энрико! Я ведь не еду на прогулку. Мы с этой дамой будем беседовать в саду. — Но, видя, что охранник по-прежнему колеблется, Марина добавила: — Мессер Донато хорошо знает эту синьору.
— Ну, если так… — Энрико пожал плечами. — Только кучер у синьоры почему-то немой, это странно.
— Я нарочно наняла немого кучера, — объявила Чечилия, услышав замечание охранника. — Не люблю болтливых слуг и таких, которые вмешиваются в дела господ.
Энрико молча отошел от собеседниц, а Чечилия, с улыбкой взглянув на Марину, сделала несколько шагов в сторону дубовой аллеи. Марине ничего не оставалось, как пойти рядом со своей незваной гостьей.
— Значит, вы приехали в такую даль, чтобы поговорить со мной? — спросила девушка, не выдержав молчания. — А как вы узнали, что Донато нет дома?
— О, это было нетрудно, — с простодушным видом ответила Чечилия. — Мы с братом недавно остановились в деревушке поблизости от вашего поместья и проследили, когда мой муж поедет на охоту. Ведь в присутствии Донато я вряд ли была бы допущена так свободно побеседовать с вами. А мне, признаюсь, любопытно было взглянуть на женщину, которую Донато полюбил и окружил роскошью. Уж не знаю, где он добыл состояние, чтобы вести здесь жизнь богатого дворянина. Видно, опять вернулся к ремеслу корсара. Впрочем, это неважно. Главное, что вы оказались красивой и умной женщиной, вполне достойной его любви. Я отдаю вам должное, но поймите и вы меня.
Она осторожно взяла Марину под руку и заглянула ей в глаза. Взгляд Чечилии казался добрым, даже кротким, и Марина невольно откликнулась на ее слова:
— Я понимаю вас, синьора. Вы вправе осуждать меня, даже ненавидеть, но я не виновата в том, что случилось…
— Я? Ненавидеть вас? Да что вы! — воскликнула Чечилия, не переставая идти вперед и незаметно увлекая за собой Марину. — Я ведь тоже вас понимаю. Донато такой мужчина, в которого трудно не влюбиться. Я боялась, что вы окажетесь грубой, вульгарной девкой из трактира или видавшей виды развратной вдовушкой. Но теперь, когда я узнала вас, у меня появилась надежда вернуть моего мужа.
— Что вы хотите сказать? — насторожилась Марина.
— Да, не удивляйтесь, именно это я и хочу сказать. Вы так добры, что вернете мне Донато. Поймите же, я люблю его больше жизни, я готова ради него на все! И к тому же я законная супруга Донато, не забывайте об этом. А вы молоды, у вас в жизни будет еще не одна любовь. Когда вы расстанетесь с Донато, не бойтесь ни бедности, ни осуждения. Я достаточно богата, чтобы купить для вас небольшое поместье со слугами где-нибудь подальше отсюда, где никто не будет знать о вашем прошлом.
— Что?.. — Марина задохнулась от возмущения. — Вы… вы хотите заплатить мне за Донато? Вначале вы женили его на себе обманом, а теперь…
— Это он вам сказал, что я его женила обманом, а на самом деле между нами была страстная любовь. И после свадьбы он провел со мной бурную брачную ночь.
— Почему же тогда он сбежал от вас?
— Меня оклеветали, а он поверил и возненавидел меня от ревности. Но это пройдет, и он снова будет со мной. Я не в обиде, что вы стали его любовницей. Увы, все знатные люди имеют любовниц, даже кардиналы во главе с папой. В латинских странах ведь не такие строгие нравы, как у вас, где греческие священники насаждают аскетизм, а если и грешат, то лишь в глубокой тайне. Поэтому измена Донато меня не страшит. Нет, если бы вы были какой-нибудь опытной дамой или куртизанкой, искусной в любви, тогда бы я, возможно, вас и опасалась. Но такая простая девушка, воспитанная в ханжеском окружении… — Чечилия окинула Марину насмешливым взглядом. — Нет, вы мне вовсе не соперница. Поверьте, его увлечение вами недолго продлится.
— Это все, что вы хотели мне сказать? — холодно спросила Марина.
Она не заметила, что ловкая гостья уже увела ее далеко от дома, к тому месту, где в глубоком ущелье бурлила река. Чечилия оглянулась и, убедившись, что густая роща полностью скрыла собеседниц от посторонних взглядов, вдруг переменила и тон, и выражение лица. Ее глаза блеснули остро, как два клинка, а в голосе, доселе мягком и вкрадчивом, зазвенел металл:
— Сейчас я скажу то, что собьет с тебя спесь, наглая тварь! Ты не захотела, чтобы я от тебя откупилась, так теперь сама заплатишь мне за все! Я сделаю из тебя продажную уличную девку, и ты узнаешь свое истинное место! Думаешь, я позволю, чтобы ты жила с Донато и рожала своих ублюдков? И не таращи на меня глаза, я сразу поняла, что ты беременна!
— Вот ты как заговорила… — Марина отступила на шаг, но соперница тотчас сжала ей запястье и потащила девушку по направлению к обрыву. — Отпусти или я закричу!
— Не закричишь, если хочешь жить. Мой брат Уберто хорошо стреляет.
По другую сторону ущелья стоял мужчина с арбалетом, нацеленным прямо в Марину. Этот зловещий стрелок словно вынырнул из-за дубовых стволов как раз напротив того места, где висячий мостик соединял обрывистые берега реки. Именно к мостику Чечилия и толкала Марину, приговаривая:
— Пойдем, пойдем с нами, мы тебя увезем подальше отсюда. Там, за деревьями, стоит повозка, запряженная резвыми лошадьми, мы быстро уедем, и нас никто не догонит. Райского блаженства я тебе не обещаю, зато, по крайней мере, будешь жива. А если начнешь вопить или брыкаться, Уберто прицелится тебе в живот. Одной стрелой и тебя, и твоего зародыша.
— Ты думаешь, что после этого Донато полюбит тебя? — выкрикнула Марина и, резко ударив соперницу по руке, на мгновение освободилась от нее.
Уберто тотчас сделал шаг к обрыву, угрожающе подняв арбалет. Марина заметалась, осознав безвыходность своего положения. В глазах Чечилии светилось мрачное торжество.
— Пойдем с нами, если хочешь жить, — снова повторила она глубоким и протяжным голосом, словно хотела заколдовать соперницу.
И в ту минуту, когда Марина уже готова была шагнуть к мостику, мимо просвистела стрела и вонзилась прямо в грудь Уберто. Вскрикнув, брат Чечилии скатился в пропасть. Марина быстро оглянулась, и сердце радостно подпрыгнуло у нее в груди: на тропинке, огибавшей рощу, стоял Донато с арбалетом в руках, а за ним — Коррадо и Энрико. Но радость девушки оказалась преждевременной, ибо в следующую секунду Чечилия коршуном кинулась на соперницу и, заслонившись ею, приставила к ее горлу стилет. Донато непроизвольно сделал несколько шагов вперед, но Чечилия остановила его восклицанием:
— Не приближайся, или я убью ее!
— Если ты тронешь Марину, тебе не жить! — глухим от волнения голосом объявил Донато.
— Не трону, жива будет твоя девка, — сказала Чечилия, отступая вместе с Мариной к мостику. — Пусть только переведет меня через эту пропасть, а там я ее отпущу.
Но Марина чувствовала, что генуэзка не отпустит ее живой. И если раньше брат и сестра Одерико собирались увезти Марину и, вдоволь поглумившись над ней, продать в рабство, то теперь, когда Уберто мертв, Чечилия одна не сможет взять соперницу в плен, и ей остается только ее убить.
Наверное, понимал это и Донато: Марина видела страх и боль в его глазах. Но он бессилен был помочь своей возлюбленной, пока та находилась в руках ревнивой фурии.
Прикрываясь Мариной и сжимая у ее горла стилет, Чечилия отступила к мостику. Когда обе женщины оказались на шатком деревянном сооружении, протянутом над пропастью, Донато подался вперед, готовый каждую секунду кинуться на помощь любимой. Ему пришло в голову, что обуреваемая ненавистью Чечилия не удержится от искушения прямо сейчас, немедленно столкнуть девушку вниз.
Марина же почему-то была уверена, что генуэзка не захочет рисковать собственной жизнью, подставляя себя под стрелы, и избавится от соперницы лишь после того, как сама будет в безопасности. Возможно, Чечилия даже надеется, что еще сможет вернуть Донато, что он простит ей убийство как доказательство ее любви и страстной натуры.
Мысль об этом заставила девушку напрячь все свои силы в поисках выхода. Она вспомнила, как после первой ночи в поместье переходила через висячий мостик и прямо посередине его чуть не упала, когда доска под ногами треснула. Донато собирался обновить непрочное сооружение, но пока не успел, и Марина решила воспользоваться зыбкой возможностью на один шаг переиграть убийцу. Чечилия шла первой, прикрываясь Мариной, и первой должна была ступить на треснувшую доску. Опустив глаза, девушка заметила это место и нарочно качнулась в сторону, заставив соперницу крепче упереться ногами в шаткий настил моста. В ту же секунду сломанная доска подалась, отлетела вниз, и Чечилия, потеряв равновесие, вынуждена была схватиться одной рукой за перила и выпустить при этом плечо Марины. Девушка тут же изо всех сил сжала вторую руку Чечилии — ту, в которой был стилет, и, резко присев и отклонившись, вывернулась из-под смертоносного лезвия, да еще при этом локтем толкнула соперницу в бок. Генуэзка, зашатавшись над пропастью, успела схватить Марину за платье, и девушке пришлось, повернувшись к ней лицом, отрывать ее от себя. Ужас и ярость сверкнули в глазах Чечилии: она не собиралась падать в бездну, не потянув за собой соперницу. Удар стилета был нацелен Марине в горло, но, теряя опору под ногами, генуэзка не смогла нанести его метко, и лезвие полоснуло девушку от ключицы до плеча. Издав пронзительный крик, Чечилия сорвалась вниз; возможно, она погибла с мыслью, что любовница мужа получила смертельную рану.
От боли у Марины потемнело в глазах, и она со стоном опустилась на шаткие доски моста, пытаясь отползти от зияющей дыры, в которую провалилась ее мстительная соперница. А в следующую секунду Донато подхватил девушку на руки и в два шага перенес с моста на твердую землю.
Когда он склонился над ней, она успела прошептать:
— Донато, я жду ребенка, мне умирать нельзя…
— Ты не умрешь! — воскликнул он взволнованно, но она не услышала его, потому что от боли лишилась чувств.
К ним подбежали Коррадо, Энрико, Агафья, потом и еще несколько слуг. Кровавое пятно на платье Марины быстро расплывалось, и Донато в первые секунды смотрел на него застывшим взглядом; потом, переборов столбняк отчаяния, крикнул:
— Агафья, перевяжи рану госпоже!
Он понес Марину в дом, где Агафья принялась хлопотать над ней, приговаривая:
— Да, я перевяжу… Но рана слишком большая… ее, наверное, надо зашить, а я этого не умею… Кровь еще надо заговорить. Только бы горячки не приключилось… Тут не простой лекарь нужен, а кудесник, чудотворец…
«Симоне!» — мелькнула мысль у Донато. И, словно подтверждая его озарение, Энрико осторожно заметил:
— Здесь один лишь знахарь Симоне поможет, никто лучше его не залечивает раны. Надо к нему везти госпожу.
— А что же вы не доглядели за вашей госпожой? — напустился на слуг Донато. — Ведь я вам велел глаз с нее не спускать!
— Она сама нам приказала оставить их одних и не мешать разговору, — оправдывался Энрико. — Мы думали: какая опасность от дамы, с виду благородной?
— Если Марина умрет, я не знаю, что с вами сделаю, — сквозь зубы процедил Донато.
После того как Агафья перевязала рану Марине, Донато снова поднял девушку на руки и вынес во двор, где уже стояли готовые к отъезду лошади. Он осторожно уложил Марину на повозку, застланную мягкими тюфяками; туда же рядом с госпожой села Агафья. Мужчины сопровождали повозку верхом.
Путь до хижины Симоне сейчас казался Донато бесконечным. Он скакал рядом с повозкой и, глядя на бледное лицо девушки, на кровавое пятно, проступавшее сквозь повязку, беззвучно молился и просил Бога сохранить жизнь Марине любой ценой, даже предлагал свою собственную жизнь в обмен на ее спасение.
Иногда к раненой проблесками возвращалось сознание и она смотрела на Донато лихорадочно блестевшими глазами, а один раз даже спросила слабым голосом:
— Чечилия погибла? Но я же в этом не виновата, правда?
— Конечно, любимая! — откликнулся Донато и, наклонившись, коснулся рукой ее разметавшихся волос. — Чечилия сама виновата в своей гибели, это она убийца, а не ты. А тебя Господь хранил.
— Значит, ты теперь свободен, ты вдовец?.. — прошептала Марина. — Как странно… ты свободен, между нами больше нет преград, а я умираю… и нашего ребенка не успею родить…
— О, не говори так! — воскликнул Донато, чувствуя, как от слов Марины по его телу пробегает холод отчаяния. — Я и слышать не хочу о смерти! Когда-то я сам умирал от тяжелой раны, но ведь выжил! Выжил, потому что ты была рядом! А теперь я рядом с тобой и не дам тебе умереть!
Но Марина снова впала в забытье, и Донато не мог понять, слышит ли она его слова, но все равно продолжал говорить, убеждая не только ее, но и себя в том, что смерть отступит перед их любовью.
Наконец, из-за лесистого холма открылся вид на одинокую хижину отшельника. Донато издали разглядел и самого хозяина усадьбы, который седлал коня и явно собирался в дорогу. Заметив путников, Симоне на несколько мгновений приостановился, но, видимо, решив не менять своих намерений, вскочил в седло. Донато помчался ему навстречу, боясь, что знахарь тронется в путь. И эти опасения оказались не напрасными: Симоне и вправду собирался уезжать. Увидев Донато — бледного, с искаженным от отчаяния и тревоги лицом, отшельник понял, что случилось нечто необычное, но не спешился, не пригласил гостя в дом, а лишь замахал на него руками:
— Нет, нет, мессер Донато, хоть вы теперь и важный человек, но я не могу сейчас вас принять и выслушать, даже не просите!
— Но речь идет о жизни и смерти! — яростным голосом воскликнул Донато.
— И у меня речь идет о жизни и смерти! — столь же яростно возразил ему Симоне. — Не останавливай меня, Донато, я еду спасать своих сыновей!
— Сыновей? Разве они ранены или погибают?
— Они едут на войну, они хотят денег и славы, а найдут свою верную гибель! Я должен их остановить!
— Но ведь пока они живы и здоровы, а моя жена погибает!
— Жена?
— Да, Марина!
В этот момент повозка подъехала ко двору знахаря, и он, спрыгнув с коня, поспешил осмотреть раненую. Донато тоже спешился и стал рядом с Симоне, переводя взгляд с него на Марину.
— Что?.. Что скажете, Симоне? — спросил он со страхом и надеждой.
— Ужасная рана. Кто это сделал?
— Тот, кто сделал, поплатился жизнью за свое злодейство.
Симоне отвел Донато в сторону и со вздохом сказал:
— У меня нет уверенности, что Марина выживет. В ее рану было вложено слишком много злобы.
— Да, правда. Но неужели это так непоправимо? Я заклинаю вас всеми святыми!..
— Я знаю, ты любишь эту девушку. Мне жаль тебя и Марину, но я не могу вам помочь. Чтобы лечить такие раны, надо в душе иметь уверенность и силу. А моя душа сейчас не на месте — она там, где мои сыновья. В них вся моя жизнь, так же как твоя — в Марине.
— Симоне! — вскричал Донато, глядя на знахаря сумасшедшими глазами. — Вы отказываетесь ее лечить?! Так я заставлю вас!
Его руки уже потянулись схватить Симоне за одежду и встряхнуть, но взгляд отшельника остановил этот порыв.
— Заставить меня совершить чудо исцеления невозможно, — печально сказал Симоне. — Даже если ты прикуешь меня цепью и поставишь рядом сторожей, моя душа и мысли все равно будут далеко от Марины, хоть я и жалею эту девушку. Я должен ехать за сыновьями. Кто остановит их, кроме меня?
Донато колебался лишь несколько мгновений, потом воскликнул:
— Я знаю, как мне поступить! Вам не надо ехать вдогонку за Бартоло и Томазо! Это сделаю я! Я остановлю ваших сыновей, я не пущу их на войну!
— Ты? — взгляд отшельника стал сосредоточенным и твердым. — Ты обещаешь мне это?
— Я все сделаю для их спасения, если вы спасете Марину!
— Пообещай, что поедешь за ними сам, а не поручишь это кому-то из своих слуг!
— Клянусь вам!
— Хорошо… — пробормотал Симоне. — Может, ты единственный, кто сумеет их остановить. Они упрямы, особенно Бартоло. А у тебя получится. Но надо поспешить, они уже, наверное, выступили в поход. Мне слишком поздно сообщили! Может, придется выкупить их из войска, если они уже получили задаток…
— Об этом не беспокойтесь, я все сделаю. Только спасите Марину!
Донато перенес раненую в дом знахаря и с помощью Агафьи уложил на постель. Служанка привезла с собой куски полотна, травяные настойки и коробочки с бальзамом.
— Агафья поможет ухаживать за Мариной, она тоже немного знахарка, — сказал Донато, обращаясь к Симоне. — Я оставлю вам денег, а мои слуги будут выполнять любые ваши поручения.
— Верни мне моих сыновей, а другой награды я и не попрошу, — заявил лекарь и бросил на Донато нетерпеливый взгляд. — Ступай. Спеши, твоя помощь нужна мне не здесь!
— Симоне… Вы должны знать еще об одном, это может быть важно. Марина беременна.
— Я почему-то так и подумал, — вздохнул лекарь. — Увы, я не уверен, что после таких потрясений женщина сохранит ребенка. Но если сама она выживет, у вас еще будут дети. Я обещаю тебе отдать все свои силы, всю магию, чтобы спасти Марину. Но и ты меня не обмани, не смалодушничай, выполни свое обещание до конца! Помни: мы сейчас зависим друг от друга. Ну а теперь иди, пусть Бог тебе поможет!
— И вам.
Донато поцеловал пребывавшую в беспамятстве Марину и, оглядываясь на нее, отступил к двери.
Во дворе его ждал взволнованный Коррадо; чуть поодаль стояли слуги. Энрико, чувствуя свою вину, боялся поднять глаза на хозяина. Но Донато сам к нему обратился:
— Мне надо срочно ехать в Кафу, а ты, Энрико, остаешься здесь за главного. Распорядись так, чтобы дом Симоне день и ночь охраняли. Выполняй все указания знахаря.
— Вам надо ехать, синьор? — удивился Коррадо. — Но как вы оставите ее?..
— У меня нет другого выхода, — тяжело вздохнул Донато. — Я должен удержать сыновей знахаря от военного похода, иначе Симоне не сможет лечить Марину. И вот еще что, мессер Коррадо. Мне сейчас важна каждая минута, и я не могу задерживаться в Кафе для объяснений о гибели Уберто и Чечилии. Вы видели, как все произошло, и я прошу вас доложить кафинским чиновникам, что брат и сестра Одерико погибли по собственной вине.
Генуэзец кивнул в знак согласия, а Донато обратился к двоим слугам, которые верхом сопровождали повозку:
— Ты, Галеотто, и ты, Никколо! Вы поедете со мной. А ты, Энрико, все понял? Если второй раз допустишь такой промах, как сегодня…
— Нет, нет, синьор, я все понял, я больше вас не подведу! — торопливо сказал Энрико, глядя на хозяина преданными глазами.
Кивнув на прощание Коррадо и бросив тоскливо-тревожный взгляд на хижину знахаря, Донато вскочил на коня и в сопровождении слуг помчался по дороге в сторону Кафы.
Глава четырнадцатая
Они ворвались в город как раз в тот момент, когда стражники уже закрывали ворота предместий. Не замедляя бешеной скачки, всадники пронеслись мимо оливковой рощи у южного склона Митридатского холма, мимо недостроенной башни святого Фомы, мимо фонтана за юго-западным крылом цитадели и наконец осадили лошадей у таверны «Золотое колесо», что стояла при дороге, ведущей к порту. Именно в этом сомнительном, но бойком заведении Донато рассчитывал застать Бартоло, который, как завсегдатай таверны, непременно захочет перед отбытием в поход выпить с приятелями.
Светильники в углах обширного помещения разгоняли вечерний мрак, но не настолько, чтобы Донато сразу разглядел всех участников шумной компании, собравшейся вокруг большого стола. Вбежав в таверну, он с порога крикнул:
— Бартоло, ты здесь?
От компании тотчас отделилась разрумянившаяся, с полуголой грудью Бандекка и кинулась на шею к Донато, обдав его запахом вина и дешевых благовоний.
— Красавец мой, давно же ты у нас не появлялся! Говорят, живешь теперь в деревне с какой-то дикаркой? А она умеет так целоваться, как я?
Донато резко отстранил цеплявшуюся за него девицу и шагнул к столу. Навстречу ему поднялся Лукино Тариго:
— Римлянин, ты? Что это тебя к нам занесло на ночь глядя? Да ты, гляжу, так запыхался и запылился, словно за тобой черти гнались!
— Это я гонюсь, а не за мной, — сообщил Донато. — Спешу застать в Кафе братьев Бартоло и Томазо.
— Бартоло и Томазо? — Лукино присвистнул. — Ну, так ты опоздал. Их уже больше недели нет в городе.
— Как нет? — насторожился Донато. — Симоне сказал, что они еще здесь. Я должен их догнать и вернуть, я обещал ему.
— Так это старый отшельник хочет задержать их в Кафе? — усмехнулся Лукино. — Что ж, значит, Бартоло все правильно рассчитал. Он так и думал, что старик помешает их отъезду, а потому попросил передать ему весточку с опозданием.
— Черт возьми! — Донато упал на скамью и с досадой стукнул кулаком по столу.
Завсегдатаи таверны уставились на него с любопытством и удивлением, пьяная Бандекка расхохоталась, а Лукино насмешливо спросил:
— А почему ты взялся выполнять поручение Симоне? Ты же теперь разбогател, стал владельцем поместья. Какое тебе дело до сыновей полоумного отшельника?
Донато вскочил и потянул генуэзца прочь от стола:
— Пойдем, Лука, мне надо с тобой поговорить, это очень важно.
Тариго был явно заинтригован и повел Донато в отдельную комнату, где обычно собирались близкие друзья владельцев таверны.
— Так что за причина для волнения? — спросил генуэзец, зажигая светильник на столе. — Впервые вижу невозмутимого римлянина таким встревоженным.
— Лукино, помоги мне догнать Бартоло и Томазо! — воскликнул Донато, сверкая глазами и нетерпеливо постукивая ребром ладони по спинке стула. — Я хорошо тебе заплачу, только помоги! Время дорого!
— Но я не смогу помочь, если не буду знать, в чем дело, — заявил Тариго. — Или рассказывай все, или не проси о помощи. Да и потом, мы не можем ехать за ними на ночь глядя, а только с утра. Так что время есть, рассказывай.
— Ладно, слушай. У меня нет причины скрывать это от тебя.
Выслушав рассказ Донато, генуэзец сделал удивленную гримасу:
— Кто бы мог подумать, что эта малютка-славяночка так зацепит гордого римлянина и что ради нее он будет готов совершать безумства!
— Не смей говорить о ней в таком тоне! — Донато непроизвольно поднес сжатую в кулак руку к лицу Лукино. — Она сейчас между жизнью и смертью! И только Симоне может ее спасти! А он не исцелит Марину, если я не верну ему сыновей!
— Погоди, не горячись, — остановил его Тариго. — Рассуди здраво: как может спасение Марины зависеть от того, вернутся ли в Кафу Бартоло и Томазо? Если раненую удастся вылечить, значит, такова божья воля. А старику скажешь, что не застал его сыновей в Кафе, потому что уехали они не сегодня, а десять дней назад. Не будет же он из-за этого вредить твоей милой.
— Вредить не будет, но и помочь не сможет. Он ведь не простой лекарь, этот Симоне, а настоящий горный колдун, который видит людей насквозь. Он сразу поймет, что я обманул его, смалодушничал, не сделал все, что мог. Поэтому и прошу тебя, Лукино: помоги мне догнать его сыновей! Ведь ты наверняка знаешь, где они сейчас.
— Где они сию минуту — не знаю, — пожал плечами Лукино. — Но неделю назад они вместе с другими арбалетчиками отплыли из Кафы в Тану, чтобы присоединиться к отряду, прибывшему туда из Генуи.
— Значит, они еще могут быть в Тане?
— Да. А может, уже выступили в поход.
— Вместе с войсками Мамая?
— Мамай будет идти из своей столицы Сарай-ал-Джедид, а генуэзцы, вероятно, присоединятся к нему по дороге. Впрочем, я точно не знаю.
После некоторого раздумья Донато заявил:
— Я немедленно отплываю в Тану.
— Когда? Прямо ночью? И на чем?
— Я прошу тебя, Лукино, дать мне свою фусту. Если же ты откажешься, найму любой корабль или лодку. Но все же мне хотелось бы добраться в Тану с твоей помощью. Ты знаешь тамошние места, да и фуста твоя легкая, маневренная, она быстро доплывет до Таны.
— Сказать по правде, я и сам собирался в Тану по торговым делам, но лишь через несколько дней. Моя посудина нуждается в некотором ремонте.
— Но ведь путь-то невелик, мы его за день-другой одолеем! — воскликнул Донато. — Я с лихвой оплачу твой риск, Лука! А корабль починишь уже в Тане.
Генуэзец призадумался, видимо подсчитывая в уме свои выгоды и риски.
— Когда же ты хочешь ехать?
— Да хоть сейчас, немедленно!
— Все же придется подождать до завтра. Море сегодня беспокойное, ночью плыть опасно.
— Это для такого бывалого корсара, как ты?
— Даже для меня. Кроме того, надо собрать команду. Кстати, если ты заплатишь мне дополнительно, могу дать тебе в дорогу хорошего проводника и толмача. Это я к тому, что в Тане ты наших наемников можешь и не застать, придется ехать за ними дальше, через земли Орды и Московского княжества. Вот там тебе мой Ярец и пригодится.
— Ярец? Странное имя.
— Он славянин по происхождению, знает язык и земли Московского княжества. Но долго жил в татарском плену, так что татарский язык и обычаи тоже знает. А я с ним знаком еще с тех времен, когда ходил до Каспия.
— А сам ты не согласишься стать моим проводником в славянских землях?
— Нет, ни за что. Какой мне смысл рисковать жизнью теперь, когда я уже накопил достаточно денег, чтобы вернуться в Геную и там жить в свое удовольствие?
Донато невесело усмехнулся. Он знал, что целью многих итальянских купцов и воинов, приехавших в черноморские колонии, была лишь погоня за барышами, а жить постоянно они тут не собирались, потому и отправляли накопленные богатства к себе на родину, чтобы со временем туда вернуться, завести семьи и жить безбедно в городском доме или загородном поместье. Но для иных приезжих земля Таврики становилась второй родиной, и они прочно врастали в нее, обустраивая свой быт в местных городах и селениях. К числу таких переселенцев Донато теперь относил и себя, а потому его невольно покоробили слова бравого корсара.
— Жаль, Лукино, что и ты смотришь на Таврику, как на временное пристанище, где можно только нажиться. А вот мне надо привыкать к здешнему миру, он теперь будет моим. Я здесь надолго, если не навсегда… Но хоть в Тану ты меня доставишь?
— Да, это я обещаю, я свой кораблик не доверю никому. Ну а если тебе придется путешествовать дальше Таны, так уж это без меня. Там Ярец тебе поможет.
Ярец оказался крепким детиной неопределенного возраста. Светлые волосы и светлая курчавая борода обрамляли его грубоватое лицо со следами шрамов. Говорил он мало, неторопливо, и мог бы показаться угрюмым, если бы не добродушный прищур голубовато-серых глаз, которые живо и ярко блестели из-под кустистых бровей. Впрочем, Донато надеялся, что путешествовать дальше Таны ему не придется и, следовательно, не будет нужды прибегать к услугам этого северного варвара, которого римлянин посчитал туповатым и неповоротливым.
Но все с самого начала пошло не так, как рассчитывал Донато. Вскоре после отплытия из Кафы море разбушевалось и Лукино Тариго пришлось искать укрытия в бухте Черкио.
Эта генуэзская фактория располагалась на месте некогда знаменитого эллинского города Пантикапея, ставшего потом столицей Боспорского царства, где правил соперник Рима мятежный понтийский царь Митридат Евпатор. Впоследствии этими землями владели русичи, и город, названный ими Корчевом, был столицей Тмутараканского княжества. И вот теперь, после нашествия ордынских войск и многих лет разрухи и безвременья, в городе над проливом стали править генуэзцы, переделав название «Корчев» в «Черкио».
Если бы Донато оказался здесь в более спокойное для себя время, то, конечно, не преминул бы воспользоваться случаем и осмотреть легендарные окрестности Черкио, где, по преданию, Одиссей нашел Ахилла, где был колодец древнее Троянской войны, где трон Митридата стоял на знаменитой горе, с высоты которой умирающий царь в последний раз поглядел на море.
Но сейчас, когда Донато был вне себя от волнения и тревоги, он лишь мельком окинул взглядом этот приморский городок, жители которого давно забыли звучные названия некогда окружавших его бойких эллинских полисов: Нимфей, Мирмекий, Тиритака, Аполлоний…
Пока Лукино с матросами чинил свою фусту, поврежденную во время шторма, Донато помогал ему и ежеминутно с тоской поглядывал на море, ожидая, когда же оно наконец утихнет. Задержка в Черкио вышла небольшой — всего три дня, но для Донато сейчас не то что день, а каждый час был на счету.
Дальнейшее плавание обошлось без приключений, но по прибытии в Тану Донато ожидало новое разочарование: оказалось, что отряд генуэзских пехотинцев покинул город почти неделю назад. Однако теперь, когда римлянин уже проделал долгий путь, он не собирался отступать, рассудив, что всадники на быстрых конях вполне могут догнать пехотинцев, шагающих рядом с тяжелыми возами, груженными доспехами, оружием, съестными и прочими припасами
А из разговоров с бывалыми людьми Донато знал, что Мамай пока собирает силы, поджидает своих литовских союзников и вряд ли сражение начнется раньше чем через месяц.
— Есть надежда догнать их по дороге, — сказал Донато генуэзцу. — Теперь-то мне твой проводник пригодится. Но точно ли этот Ярец толковый человек?
— Во всяком случае, меня он не подвел во время путешествия на Каспий, — ответил Тариго. — И можешь быть уверен, он дорогу знает.
— Надеюсь. Мне все равно уже некогда искать другого проводника.
Обсудив с римлянином условия оплаты, Лукино позвал Ярца и объяснил ему:
— Поедешь с мессером Донато вдогонку за генуэзским отрядом.
— За тем самым, который едет на подмогу к Мамаю? — тут же догадался Ярец.
— Да. И помни: надо догнать генуэзцев до того, как они присоединятся к войску Мамая. Будешь все время идти по следам.
— Понятно. — Ярец сверкнул глазами в сторону Донато. — У господина, наверное, важное сообщение для фрягов[37]?
Лукино сделал неопределенную гримасу, не считая нужным объяснять славянину цель поездки.
— У меня очень срочное дело, — обратился к Ярцу Донато. — Речь идет о жизни и смерти. Если ты поможешь мне как можно быстрее догнать генуэзцев, я тебе хорошо заплачу.
— Да я-то постараюсь, конечно, но тут вот какое дело… — Ярец почесал затылок. — Мы-то будем долго ехать по татарским землям, как бы на нас там не напали. Надо бы какую охранную грамоту от татарского тудуна. Что, дескать, едут фряги не просто так, а в помощь к ханским союзникам.
— Толково рассудил, — заметил Лукино и усмехнулся в сторону Донато: — А ты сомневался в смекалке нашего проводника. Грамоту тебе добудем. Я, правда, сам с местным тудуном не знаком, но знаю человека, который к нему вхож и за определенную плату поможет в этом деле.
Пока Лукино договаривался с нужным чиновником, Донато со своими слугами покупал лошадей и провизию в дорогу. Мимоходом римлянин отметил, что торги и выбор товаров в Тане не меньше, чем в Кафе. И хотя размерами Тана была городом небольшим, но выгодное расположение в устье Дона, на караванном пути в Персию, Индию и Китай, делали ее связующим звеном между Европой и Востоком, привлекая генуэзских и венецианских купцов, которые имели здесь свои торговые кварталы. К вечеру была добыта дорожная грамота и куплено пять коней — для Донато, Галеотто, Никколо и Ярца, а один конь запасной. Лукино советовал не отправляться в дорогу на ночь глядя, подождать до утра, но Донато не хотел терять ни минуты.
— Ты выручил меня, Лука, спасибо тебе, — сказал он, прощаясь.
— Ну что ж, я всегда согласен помочь, если сам при этом не в накладе, — усмехнулся генуэзец. — Корсары хоть и корыстные люди, а все же иногда бывают полезны. И еще напоследок дам тебе один совет: если познакомишься в дороге с кем-то из кафинцев, не называйся своим именем. О тебе ведь в Кафе ходят слухи, будто ты с нынешним консулом близко знаком. Могут подумать, что ты выполняешь его тайное поручение. А зачем тебе такая слава, мало ли кто попадется на твоем пути. Лучше назовись… ну, скажем, флорентийским купцом Ридольфи, с которым ты знаком.
— Спасибо за совет, — кивнул Донато. — Я, кстати, один раз уже пользовался именем Ридольфо. Надо будет при случае его поблагодарить. Ну, прощай, Лукино. Пожелай мне удачи, как я желаю тебе.
Они расстались на окраине Таны, и генуэзец некоторое время провожал глазами четверых всадников, быстро удалявшихся в сумрачную степь. Ему, бесшабашному и жадному до денег корсару, чем-то был симпатичен этот странный римлянин, который, несмотря на свое загадочное и, наверное, высокое происхождение, был способен искренне влюбиться в кафинскую девушку и забыть ради нее не только все выгоды и расчеты, но даже и простое благоразумие. Вздохнув, Лукино пошел к гавани, где стояла его фуста. Он очень сомневался в успехе путешествия Донато.
Но сам Донато не мог даже допустить мысли о том, что его усилия окажутся напрасны. С утра до вечера им владело одно только стремление — вперед, вдогонку за ускользающей целью, которая казалась так близка, но почему-то день за днем путники ее не достигали. Он все время подгонял проводника, требуя от него выбрать более короткий путь, но Ярец уверял, что по другой дороге ехать опасно, там дикие места, где рыскают стаи волков. Ночевали ездоки где придется: иногда в небольших хуторках, шалашах, а если таких не было на пути, то натягивали шатер, который возили за собой на вьючной лошади.
Донато почти не разговаривал со спутниками и даже не смотрел на них, всецело поглощенный своими мыслями. Ночью, забываясь тяжелым сном, он чаще всего видел Марину, которая протягивала к нему руки и звала, недоумевая, почему он уехал от нее, а он пытался объяснить, что не было у него другого выхода, но не мог вымолвить ни слова, потому что голос у него во сне пропадал.
Пару раз небольшой отряд останавливали татары, но это были слуги местного бея, и они отпускали путников после предъявления дорожной грамоты. Проводник говорил Донато, что такое миролюбие татар объясняется тем, что ездоки следуют точно за «фряжским обозом», а если бы отклонились от пути, то им бы басурманы не поверили.
— Где же этот обоз, черт возьми?! Когда мы наконец его догоним? — досадовал римлянин. — Он все время исчезает, как мираж в пустыне!
— Видно, быстро идут фряги, быстрей, чем мы думали, — объяснял Ярец.
А потом путникам встретились татары, которых не остановила предъявленная грамота. Это были уже не стражники, не воины и не слуги, а охотники за людьми, поставлявшие живой товар на невольничьи рынки. В первую минуту Донато подумал, что все кончено, что злой рок расставил ему новую ловушку, но потом быстро разобрался, что надежда на спасение не утрачена: разбойничий отряд оказался невелик, всего лишь шесть человек. Но, вероятно, татары, увидев четверых всадников, решили, что это купцы, отставшие от каравана, с которыми дорожным людоловам справиться будет нетрудно. Однако скоро они поняли, что имеют дело с воинами, закаленными в битвах. Отражая и нанося удары, Донато краем глаза посмотрел на Ярца и отметил, что славянин дерется не хуже генуэзцев. Когда Донато проткнул мечом одного противника, а Ярец зарубил саблей другого, разбойники, лишившись численного преимущества, ускакали в заросли. Римлянин успел уложить еще одного из них, выстрелив из арбалета.
— Метко стреляешь, — заметил Ярец. — Видно, ты у фрягов боец не из последних.
— Да и ты хорошо дерешься, — сказал Донато и тут же обеспокоился, заметив, что Галеотто едва держится в седле и его левый бок окровавлен. — А ты, кажется, ранен не на шутку?
Рана оказалась слишком опасной, чтобы перевозить парня на лошади, но и оставлять его здесь, в разбойничьем месте, было рискованно. Никколо и Донато перевязали раненого, а Ярец предложил:
— Давайте повернем в левую сторону, там уже начинаются русские земли, а по пути есть хутор моего родича Тырты. Я давно там не был, но, дай Бог, чтобы за эти годы татары его не разорили. Если хутор на месте, так и мы там отдохнем, и раненому найдется приют и врачевание.
Ничего другого и не оставалось, как только ехать к ближайшему хутору — тем более что день клонился к вечеру. Галеотто пришлось привязать к седлу, а Донато и Никколо поддерживали его с двух сторон.
Последние отблески заката исчезли за горизонтом, когда путники наконец добрались до хутора. Во дворе просматривалось несколько строений, темные кроны деревьев упирались в посеребренное луною небо. Раздался громкий собачий лай, и на пороге деревянной избы тут же появился бородатый мужик со светильником в руке.
— Кто здесь? — раздался его густой, чуть надтреснутый голос.
— Тырта, это Ярец! — отозвался проводник. — А со мной трое фрягов, один ранен.
— Ярец! Ты живой? Ну, слава Богу! Это когда же мы виделись в последний раз?
Обнявшись, родичи переговорились между собой быстро, приглушенными голосами, — так что Донато, хоть уже и научился славянскому языку от Марины, сейчас ничего не понял.
Хозяин, посторонившись, пустил гостей в дом. Галеотто перенесли на лежанку возле печи, и Тырта хотел позвать к нему бабку-знахарку, но лечение раненому уже не понадобилось: придя в себя на несколько коротких мгновений, генуэзец захрипел, у него пошла горлом кровь, и предсмертная судорога сковала его тело.
— Преставился, бедняга, — вздохнул Ярец и перекрестился.
Никколо закрыл глаза мертвому товарищу, а Донато сказал:
— Надо похоронить его по-христиански. Жаль Галеотто, он был хорошим солдатом.
— Похороним, но только утром, — отозвался Ярец. — В темноте хоронить негоже, да и устали мы все, измучились, отдохнуть бы надо.
Тырта повел гостей во вторую комнату, где стоял один топчан и лежало несколько охапок сена, покрытых мешковиной.
— Вот такие у меня хоромы, — объявил хозяин и усмехнулся, обращаясь к Ярцу: — Не знаю, подойдут ли они твоим важным господам.
— А они сейчас любому хлеву будут рады, — тоже насмешливо ответил Ярец.
В пути Донато объяснялся с проводником только по-итальянски, и, видимо, Ярец решил, что «фрязин» вовсе не знает славянского языка, а потому и позволял себе говорить о латинянах в насмешливом тоне. Донато вначале хотел осадить его, а потом, повинуясь наитию, решил не подавать вида, что понимает его речь, и спросил по-итальянски:
— А вино у твоего хозяина найдется? Хлеб и солонина у нас еще остались, а вот горло промочить нечем.
— О ваших фряжских винах здесь и не слыхивали, — ответил Ярец. — А вот брага, пожалуй, найдется. Ну, и вода колодезная.
— Ладно, давай все, что есть, — сказал Донато.
— Слышь, Тырта, неси-ка сюда водицы да бражки своей — той, которая покрепче. — Ярец толкнул хозяина в бок и вышел вместе с ним в сени.
Донато успел заметить, какими выразительными взглядами обменялись между собой Ярец с Тыртой, и это показалось ему подозрительным. Скоро хозяин принес два кувшина — один с брагой, другой с водой.
— Поешьте, попейте, да и ложитесь спать. А мы с Тыртой на сеновале ляжем.
Ярец пододвинул кувшин с брагой поближе к Донато, и этот жест почему-то насторожил римлянина.
— А разве ты с нами не поешь? — спросил он проводника.
— Благодарствую, но сегодня меня мой родич накормит. — Ярец бросил быстрый взгляд на хозяина. — Пойдем, Тырта.
Когда они вышли, Донато выпил воды и, чуть приоткрыв дверь, выглянул в сени. Никколо тем временем жадно хлебал брагу, заедая ее куском хлеба с солониной.
— Тебе этот хутор не кажется подозрительным? — приглушенным голосом спросил Донато.
— А что делать, мне и в худших местах приходилось ночевать, — махнул рукой Никколо. — Солдатам выбирать не приходится. Бедняга Галеотто. Жалко его, рано умер.
Генуэзец перекрестился, зевнул и, повалившись на сено, прикрытое мешковиной, скоро начал похрапывать.
Донато какое-то время сидел неподвижно, чутко прислушиваясь к каждому звуку в доме. Ему тоже хотелось спать, но странная, необъяснимая тревога подстегивала его, не позволяя поддаться усталости. Фитиль в плошке почти догорел, но глаза Донато уже привыкли к темноте, и он различал в маленьком квадратике окна очертания деревьев, сарая, а еще две мужские фигуры, медленно идущие по двору. Немного поколебавшись, он решил, что опасность лучше предупредить, чем ждать, когда она себя проявит.
Он осторожно вышел в сени, потом во двор и, неслышно ступая, двинулся на звук голосов. Ярец и Тырта беседовали, сидя на бревне возле сарая.
— Значит, говоришь, фрязин твой татарину служит? — спросил Тырта. — Тому самому, который сейчас на Московского князя идет?
— Тому самому, Мамаю. К Мамаю сейчас на подмогу съезжаются и ясы, и черкасы, и буртасы. И целый отряд фряжской пехоты идет с копьями, с самострелами. Этот вот фрязин — Донато — он тоже славно стреляет. И, видать, какое-то важное сообщение везет, а сам под чужим именем едет. Говорит: мне надо догнать наше войско, это, дескать, вопрос жизни и смерти. Ну, я, конечно, нанялся к нему в проводники охотно. А что? Не меня, так другого бы нашел. Так я-то уж хоть все эти хитрости знаю и не допущу, чтобы фрязин помогал нехристям православную землю воевать. Я сам себе сказал: костьми лягу, но он фрязей своих не догонит и важное сообщение им не передаст. Я с самого начала вел их окольными путями, а под конец задумал к тебе на хутор заманить, да не знал, как это ловчее сделать. Но тут мне татарские разбойники невольно помогли, когда напали на наш отряд. Шестеро их было против нас четверых.
— Знаю этих разбойников: они недавно и ко мне нагрянули, пришлось их три дня кормить-поить. Хорошо, что все свое добро я успел в подполе припрятать, а то бы разорили хутор подчистую. И хоть татарам их закон пьянствовать запрещает, а эти воры напились браги и бахвалились: наш, мол, хан не зря на вашего князя осенью идет, как раз весь урожай созреет. И приказ он будто бы отдал своим холопам: «Ни един от вас не пашите хлеба, да будете готовы на русские хлеба». Значит, нехристям в православной земле будет прокорм, а нам опять разорение. Ну, ничего, русские ратники со всех сторон собираются. Будет сеча великая. — Тырта тяжело вздохнул. — Мой Гридя тоже туда поехал.
— Гридя? Да он же совсем малец! Зачем ты его отпустил?
— Это ты его помнишь мальцом, а ему уже девятнадцатый пошел. Да и как его удержишь, если он с детства только о ратных делах и думает? Теперь вот подружился с Семеном Меликом, княжеским дружинником. Семен-то и позвал моего парня, Гридя уехал с его отрядом. Я бы, может, и сам за ними последовал, да как же мне дочерей своих сиротить, как дом, хозяйство бросить? Никак нельзя. А душа болит… Тебе, Ярец, может, этого и не понять, ты теперь сурожанином стал, возле теплого моря живешь, вы там с татарами ладите. А здесь…
Ярец прервал его суровым голосом:
— Рассержусь я, Тырта, за такие слова! Рассержусь и в морду дам, не посмотрю, что родич! Разве ж я перестал быть православным русичем только потому, что живу у Сурожского моря? И я ведь там не по своей воле оказался, а когда из татарского плена бежал! Разве мне не обидно, что басурманы уже столько лет нашу землю под игом держат? Да и за плен свой мне отомстить охота. Ведь рабом меня сделали, впроголодь держали, в грязи, плетью стегали, чтобы работал, как скотина, и ни о чем, кроме куска хлеба, не помышлял. Я ведь сбежал оттуда чудом. И знаешь, Тырта, что я понял? Самое страшное, когда человек к своему рабству привыкает, мирится с ним. Вот то-то. Нам к этому привыкать никак нельзя.
Прислонившись спиной к бревенчатому срубу, Донато на мгновение прикрыл глаза и задержал дыхание. Только теперь ему стало понятно, какой ошибкой было его пренебрежение к Ярцу, которого римлянин посчитал тупым варваром. Оказалось, что проводник-славянин весьма умен и ловок, если сумел так долго дурачить латинян, разыгрывая перед ними простака, а сам незаметно уводя их в сторону. И делал он это не из низкой корысти, а из побуждений благородных, желая послужить своему народу и своим князьям в борьбе против поработителей. Донато даже почувствовал нечто вроде уважения к обманувшему его проводнику. Но в следующую минуту он услышал то, что заставило его насторожиться, как зверя, почуявшего опасность.
— А что будем делать с этим фрязином? — спросил Тырта.
Ярец не замедлил с ответом:
— Дождемся, когда заснет покрепче от твоей браги, а тогда свяжем и обыщем. А когда очухается, допросим его как следует. Если у фрягов с татарами какие-то хитрости задуманы, так надо нашим воеводам срочно о том донести.
— А успеем? Мамай на Красивой Мече стоит, а княжеские полки идут туда из Коломны. От нас же до тех мест сколько верст пути? Вот то-то и оно…
— Успеем — не успеем, но постараться надо.
Донато оставалось только пожалеть, что из-за пренебрежительного отношения к проводнику он не посчитал нужным сообщить ему о цели своей поездки, и теперь русичи приняли его за генуэзского посланника в стан Мамая, собираются допрашивать, а после, может, и убить. Первым побуждением римлянина было немедленно объявить им, что они ошибаются, но в следующую минуту он сообразил, что это будет неразумно. Ведь тогда русичи догадаются, что он их подслушивал и понимает славянский язык, а это уж точно приведет их к мысли, что он вражеский лазутчик.
И Донато решил действовать похитрей. Он вернулся в дом, подождал несколько секунд, а потом распахнул дверь и прямо с порога громко крикнул:
— Ярец! Ярец, иди сюда, помоги!
Ярец и Тырта подбежали к нему и остановились, настороженно переглядываясь.
— Что у тебя стряслось? — недовольно спросил проводник. — Или сон плохой приснился?
— Сон не у меня, а у моего слуги, — суровым голосом ответил Донато. — Никколо заснул, как убитый, растолкать его не могу. С чего бы это? Вдруг заболел? А мне ведь задерживаться нельзя не то что лишнего дня, а и лишнего часа. Как же я теперь без слуг? Один погиб, другой уснул мертвым сном. Скажи по правде: это ваша брага его так усыпила?
Вместо ответа Ярец полюбопытствовал:
— А с чего это у тебя такая спешка, что даже ратнику своему не дашь толком отдохнуть?
Донато только и ждал этого вопроса:
— Что у меня за спешка? Скажу. Может, тогда поймешь, почему я так тороплюсь и тревожусь.
Даже в темноте Донато заметил, с каким напряженным интересом смотрят на него Ярец и Тырта. Они, словно невзначай, стали так, чтобы преградить итальянцу выход из избы, если бы он вздумал бежать. Но бегство не входило в его планы; напротив, он еще больше нуждался в услугах проводника теперь, когда слишком далеко зашел в пределы чужой незнакомой земли.
— Горе у меня, Ярец, — вздохнул Донато. — Жену мою опасно ранили, и спасти ее может только один искусный лекарь, почти волшебник. А у него сыновья нанялись в то самое войско, за которым я гонюсь. Знахарь мне условие поставил: спасу твою жену, если ты вернешь мне моих сыновей. Вот я ради этого и гонюсь за ними уже полмесяца, а мысли все о ней: как она, жива ли, не страдает ли?
— Любишь ее, значит? — спросил Ярец.
— Люблю. Больше жизни люблю.
— У меня тоже когда-то была жена. — Ярец опустил голову. — Ее татары в плен угнали. Меня в одну сторону увели, ее — в другую… С тех пор никаких вестей о моей Голубе. Наверное, сгинула где-то в неволе.
— Значит, ты должен меня понять. Страшно терять ту, которую любишь.
Проводник немного помолчал, а потом во взгляде и голосе его появилось недоброе выражение:
— А те фрязи, которых ты хочешь догнать, они что же, идут воевать за татарского хана?
— Не за хана они идут воевать, а за деньги. Они наемники, война — их ремесло.
— Плохое ремесло, — угрюмо сказал Ярец. — Что же отец-лекарь не научил их своему ремеслу?
— Не получилось у него. Старший сын захотел денег и славы, а младший — совсем еще мальчишка, брат его в это дело втянул, наговорил, что только в бою можно стать мужчиной. Мне надо их спасти, я обещал знахарю. Помоги мне, Ярец! Я должен успеть до начала битвы!
Пока Донато объяснялся с Ярцем, Тырта, не понимая языка, настороженно посматривал на собеседников, потом стал расспрашивать родича, о чем шла речь. Ярец растолковал ему и с хмурым видом добавил:
— Выходит, фрязин-то ничего плохого не замышлял, а я его столько времени водил за нос, хотя мог бы уже догнать кафинский отряд, если бы правильно шел по следу, а не уводил в сторону.
— Ну и ладно, не больно ты и сокрушайся, — махнул рукой Тырта.
— Нет, все-таки неловко мне перед Донато, — вздохнул Ярец. — Получается, что я его подвел ни за что ни про что, а ведь он мне хорошо заплатил. Надо бы это поправить, если еще не поздно.
Донато, делая вид, что не понимает, о чем говорят между собой славяне, вновь настойчиво обратился к проводнику:
— Выехать нам следует как можно раньше, прямо на рассвете. Похороним Галеотто — и в путь. Ты обещаешь мне, что Никколо до утра проснется?
Ярец, видимо, испытывавший угрызения совести, кивнул:
— Проснется, растолкаем. И фрязей постараемся догнать. Хотя ручаться не могу. На все божья воля. А теперь иди спать, и мы пойдем. А то ведь этак вовсе можно с ног свалиться.
Донато тяжело вздохнул и, уже не тревожась за свою безопасность, отправился на ночлег. Но, измученный усталостью и волнениями, он все равно спал чутко и заранее знал, что проснется с первыми лучами рассвета.
Глава пятнадцатая
На заре, совершив печальный обряд погребения, путники снова пустились в погоню за уходящим войском. Тырта взялся их сопровождать, показав короткую дорогу до реки Красивая Меча, возле которой расположился лагерь Мамая. На подходах к этому лагерю Донато и надеялся встретить генуэзский отряд.
Теперь между итальянцем и русичами не было недомолвок, и он не боялся подвоха с их стороны. Чутье подсказывало ему, что эти северные варвары способны честно исполнить свое обещание.
По открытой местности путники ехали молча, сосредоточенно, а когда углубились в перелески, русичи немного расслабились и Тырта даже затянул тихую, протяжную песню:
У которого денег нет, у того дитя возьмет; у которого дитя нет, у того жену возьмет; у которого жены-то нет, того самого головой возьмет…Донато понял, что песня сложена русичами, терпевшими притеснения от татарских баскаков. В какой-то момент ему даже стало неловко, что сам он, в отличие от славян, абсолютно безразличен к исходу их войны с татарами, что его волнует только собственное счастье. Впрочем, ведь эта война была для него чужой, а его соплеменники если и участвовали в ней, то лишь в качестве наемников.
«Кто я теперь и где мой мир? — внезапно подумал он с грустью. — Я стал свободен, богат и мог бы вернуться на родину — пусть пока не в Рим, но в другой город Италии. А вместо этого я спешу на край света, ввергаюсь в опасности и строю свой дом на чужой земле. Значит, мой мир там, где моя любовь, где моя душа? А кто я буду без нее?..»
Размышления Донато прервал внезапный возглас Ярца:
— Тырта, гляди, там повозка на дороге! Не к твоему ли хутору едет?
Тырта вытянул шею, присматриваясь, и вдруг, подхлестнув свою лошаденку, вырвался вперед с криком:
— Гридя, сынок!
Когда Донато увидел, что на повозке лежат два раненых славянских ратника, его охватило предчувствие непоправимой беды. Молодой парень в потрепанном тегиляе[38], с повязкой на голове, соскочил с козел и подбежал к отцу. Они обнялись, и Тырта спросил:
— Гридя, сынок, откуда ты? Неужто сеча была?
— Сеча была великая! Вчера с утра до вечера длилась! И победа на нашей стороне!
Лицо парня, измазанное кровью и грязью, сияло торжеством, в глазах горел неостывший азарт битвы.
— Слава Богу! — Тырта перекрестился. — А ты мне говорил, что еще месяц до сражения.
— Многие так думали. А потом князь Дмитрий Иванович послал стражей в поле к орде Мамаевой. И я с Семеном Меликом пошел. Мы там языка добыли и узнали, что Мамай ждет союзника — Ягайлу литовского. Тогда князь Дмитрий решил не мешкать, чтобы к Мамаю не успело прийти подкрепление.
— Ты ранен, Гридя? — спросил Тырта, с тревогой коснувшись повязки на голове сына.
— Да у меня не рана — царапина! — улыбнулся парень. — А вот товарищи мои, Фрол и Томислав, — он указал в сторону повозки, — сильно пострадали. К нам на хутор везу, потому что им до своего селения далеко.
— А где битва-то была? — спросил Ярец.
Гридя перевел взгляд на спутников отца, и Тырта ему пояснил:
— Это Ярец, наш родич, ты его должен помнить. А эти двое, — он указал на итальянцев, — попутчики его от самой Кафы, купцы. Они тут ищут своих раненых.
Парень кивнул, не слишком вдумываясь в слова отца. Торжество победы сейчас затмевало для него весь мир.
— Так расскажи о битве, Гридя, — попросил его Ярец.
Молодой воин принялся охотно описывать пережитые события:
— Место князь выбрал возле впадения Непрядвы в Дон. За нами были реки, а по обеим сторонам — овраги и леса; они потом стали помехой для татарской конницы. Наше войско выстроилось еще до рассвета: в середине — большой полк, впереди — передовой и сторожевой, позади — запасной, по сторонам — полки правой и левой руки.
— А ты в каком был? — нетерпеливо спросил Тырта.
— Мы с Семеном Меликом были в конном засадном полку у воеводы Дмитрия Ивановича Боброка-Волынца. Князь поставил наш полк в Зеленой дубраве и велел не вступать в бой до самой последней минуты. Потому так вышло, что первую половину битвы я не сражался, а наблюдал издали. С утра был туман, а когда он рассеялся, я увидел, как с Красного холма спустилось Мамаево войско. Оно было похоже на черную тучу: на черных конях, в темных латах из буйволовой кожи. А посередке татарского построения шла фряжская пехота: латы железные блестят, копья лежат на плечах впереди идущих. Посмотрел я на всю эту силищу конную и пешую — и страшно стало. Но потом сказал сам себе: разве наша сила слабее, хуже? Да нам ведь родная земля помогает, мы же на ней сражаемся!
Донато напрягся, когда молодой русич упомянул о фряжской пехоте, и дальше слушал с удвоенным вниманием.
Гридя рассказывал о поединке богатырей, с которого началась битва, об отваге князя Дмитрия, вступившего в бой как простой воин и сражавшегося в передних рядах, о кровопролитной сече, об огромных потерях большого полка, стоявшего насмерть:
— Много людей полегло с обеих сторон, кровь лилась, как вода… Наши пешие воины не только от оружия погибали, но и под конскими ногами, и от тесноты великой задыхались. Но не отступал большой полк, стояли ратники плечом к плечу, ощетинившись копьями и рогатинами. Многие погибли, но и татарскую конницу, которая на них наскакивала, они вконец измотали. Тогда Мамай перенес главный удар на полк правой руки, но и там не удалось сломить наших воинов. И тут свежая Мамаева конница, как ураган, обрушилась на полк левой руки и потеснила его, и наш резервный полк тоже не устоял. Еще немного — и татары зашли бы к нам в тыл, к переправам, отрезали бы путь к отступлению. Тогда воевода Боброк, который долго нас, нетерпеливых, удерживал в ожидании урочного часа, сказал: «Время пришло! Дерзайте, братья и други, и да поможет нам сила Святого Духа!» И наша конница вырвалась из Зеленой дубравы. Но дальше я вам не могу рассказать, как шло сражение по всему полю, потому что сам я был на коне и в гуще битвы, видел только то, что передо мной, рубил врагов, пока рука не устала. Опомнился лишь, когда утихла сеча и враги отступили. Часть татарской конницы потонула в Непрядве, а другая бросилась к Красному холму и по пути давила свою же пехоту. После битвы стали мы раненых спасать. А убитых не счесть, все поле покрылось их телами, земля пропиталась кровью. И хоронить их еще долго…
— А что сталось с генуэзцами? — спросил Донато, забыв даже притвориться, что не понимает славянский язык. — Они попали в плен?
— Купец тебя спрашивает, многие ли фряги попали в плен, — пояснил парню Ярец.
— Фряги? — Гридя почесал затылок. — Да не было пленных, они все полегли.
— Как полегли? Погибли? — воскликнул Донато. — Не может быть, чтоб они не сдались в плен! Зачем им было погибать за татарского хана? А русичам зачем их было убивать, ведь за них могли дать немалый выкуп!
— Не знаю, о чем этот купец толкует, а только пленных я не видел. — Гридя настороженно покосился на итальянцев, потом сказал отцу: — Устал я сильно, и товарищи мои страдают от ран, а до нашего хутора еще неблизко, так уж ехать надо бы побыстрей.
— И я возвращаюсь домой с сыном, — повернулся Тырта к Ярцу. — А ты как? С нами на хутор?
Ярец посмотрел на Донато:
— И тебе уже ни к чему ехать вперед, пора в обратный путь. Ничего не поделаешь, такая судьба. Нет в живых твоих фрязей.
— Я все равно поеду к месту сражения! — твердо заявил Донато. — Пока сам не удостоверюсь, что Томазо и Бартоло мертвы, обратно не вернусь.
— Ну, куда же тебе ехать? — развел руками Ярец. — Ты и дороги-то сам не найдешь! Да ведь там только что битва завершилась, повсюду воины, ратники снуют, а на поле — убитых и раненых не исчислить. Тебя же любой татарин, а то и русич может сгоряча или ненароком убить.
— Ничего, я сумею за себя постоять. Расскажи мне, как ехать, а сам можешь возвращаться, если боишься. Хотя я, помнится, тебе заплатил не за то, чтобы ты останавливался на полпути.
— Ладно, негоже мне тебя не сопроводить на чужой земле, — вздохнул Ярец. — Поеду с тобой. Только отсюда до устья Непрядвы неблизко, ехать придется до вечера.
— Хоть до утра!
Ярец распрощался с родичами и, вновь приступив к обязанностям проводника, поехал впереди итальянцев.
Теперь Донато стремился вперед, уже почти ни на что не надеясь, и все-таки никакие доводы рассудка не смогли бы его остановить, он должен был пройти намеченный путь до конца.
Предусмотрительный Ярец возил в своей дорожной котомке довольно потрепанный плащ, напоминающий одеяние не то монаха, не то странника, и вскоре посоветовал Донато накинуть это рубище поверх одежды, что римлянин и сделал, хотя поначалу такая предосторожность показалась ему излишней. Но потом он понял, что Ярец был прав, ибо чем дальше, тем чаще навстречу стали попадаться телеги с ранеными, а также пешие ратники и ополченцы, которые порой с подозрением оглядывали троих всадников, спешащих к месту, где накануне произошло кровопролитное сражение. Отъехав в сторону от своих спутников, Ярец переговорил с одним из легко раненных русских воинов, а затем, вернувшись к Донато, сообщил, что князь Дмитрий со своими воеводами несколько дней будет оставаться на месте, торжествуя победу, и вернется в Москву лишь после погребения всех павших. Еще говорилось о богатой добыче, захваченной у татар: множество шатров, телег, лошадей, верблюдов, оружия, ковров, дорогой одежды и утвари. О пленниках же — тем более о пленных итальянцах — этот воин, как и Гридя, ничего не мог сообщить.
— Зря ты упрямишься, Донато, — вздыхал Ярец. — Ведь раз нет пленных — значит, все они полегли. Не могли же пешие фряги убежать от русской конницы.
Римлянин промолчал, продолжая упорно следовать вперед. И все же в лесном урочище у истоков Непрядвы Ярец вынудил своих спутников сделать привал, потому что и сам он, и Никколо выбились из сил, а Донато держался одним лишь напряжением воли.
— Скоро стемнеет, — говорил проводник, запивая кусок хлеба родниковой водой. — Но это для нас даже хорошо: в темноте нас примут за странников, которые пришли, чтобы оплакивать мертвых. Поищешь в поле своих фрязей. — Ярец поднял голову вверх. — Ночь должна быть ясной, так что разглядишь их и без факела. Не спасешь — так хоть похоронишь по-людски.
Донато молчал, опустив голову, а перед глазами у него было лишь бледное лицо Марины. Сейчас вся его жизнь висела на волоске — не потому, что ему самому грозила опасность, а потому что в эти минуты, может быть, решалось: жить или не жить той, без которой весь мир для него превращался в пустыню.
Как и предполагал Ярец, к боевому полю путники добрались лишь поздно вечером, когда на темном небе засветилось полукружие луны и проступили звезды. Увидев издали это страшное поле, усеянное мертвыми телами, Донато похолодел от гнетущего чувства безнадежности: ведь со времени окончания битвы прошли уже сутки, и вряд ли кто-то из кафинских наемников, будь он жив, пролежал бы здесь столько времени среди мертвецов.
— Страшная сеча была… — прошептал Ярец и перекрестился. — Кого ты теперь на поле-то найдешь?
Донато молча спрыгнул с коня и кинулся вперед, спотыкаясь и не разбирая дороги.
— Пойди за хозяином, а то он словно не в себе, — обратился Ярец к Никколо. — Ступай, а я вас тут подожду, подержу ваших коней.
Остановившись на краю дубравы, русич провожал глазами темные фигуры итальянцев, которые вначале выделялись на фоне неба, а потом, отдалившись, почти слились с полем — большим, черным, кровавым. Казалось, воздух над этим полем все еще сотрясался гулом сражений и стонал от ран. А мрачные черные птицы уже слетались сюда в предчувствии своей поживы.
Обходя мертвые тела, Донато пробирался к середине поля — туда, где сутки назад сражалась, зажатая с двух сторон татарской конницей, генуэзская пехота. Вначале он шел молча, потом, в порыве отчаяния, стал метаться во все стороны и кричать:
— Бартоло! Томазо!
Даже Никколо понял, как опасно выкрикивать иноземные имена здесь, на чужом поле, где латиняне были врагами, и кинулся к хозяину, зашептав ему на ухо:
— Синьор!.. Не надо кричать, не выдавайте себя! Нас же могут взять в плен или убить!
Донато замолчал, сделал несколько неуверенных шагов вперед и вдруг резко остановился: перед ним вповалку лежали поверженные в бою генуэзцы. Их невозможно было не узнать по латинским латам и шлемам. Рядом с мертвыми пехотинцами валялись их арбалеты и копья.
— Все кончено… — прошептал Донато, опустившись на землю. — Я их не спас… значит, Симоне не сможет спасти Марину…
И вдруг где-то рядом он услышал тихий голос, позвавший его по имени. Встрепенувшись, Донато посмотрел по сторонам и увидел, как над темной грудой мертвых тел поднялась чья-то голова. Подбежав, Донато вгляделся в это измученное, испачканное кровью и грязью лицо, с трудом узнавая в нем черты Томазо.
— Ты жив? Слава Богу! — Донато помог юноше подняться. — Ты ранен? А Бартоло?
— Бартоло убит, — слабым, почти неживым голосом ответил Томазо. — А я даже не ранен, только оглушен. Бартоло все время прикрывал меня, а потом я получил удар по голове и упал, а дальше ничего не помню. Наверное, я долго пролежал без памяти, а когда очнулся, увидел, что все наши мертвы. А Бартоло лежал рядом и даже после своей гибели словно прикрывал меня от ударов… Когда я это увидел, то закрыл глаза и стал ждать смерти. А потом вдруг услышал твой голос и понял, что еще жив. Каким чудом ты здесь?..
— Потом расскажу. Снимай доспехи и пойдем отсюда, пока нас никто не заметил! — поторопил его Донато. — Хорошо, что сейчас ночь. К утру мы должны уехать как можно дальше.
Он помог юноше освободиться от железного панциря и накрыл его плечи своим плащом.
Но Томазо вдруг решительным, хоть и слабым, голосом заявил:
— Я не уеду отсюда, пока не предам Бартоло земле! Мы должны унести его с поля!
Пришлось Донато и Никколо снять с мертвого Бартоло доспехи и, взяв его за одеревеневшие руки и ноги, понести с поля. Следом, спотыкаясь от слабости, брел Томазо.
Ярец ждал своих спутников у кромки леса. Увидев, что Донато все же довел свои поиски до конца, он немало удивился:
— Упрямый ты, фрязин, нашел-таки своих. Выполнил, значит, обещание.
— Да, но только наполовину, — вздохнул Донато. — Старший из братьев убит.
— Что ж делать, на все божья воля, — развел руками Ярец. — Но мы его хоть похороним по-христиански.
Бартоло положили на лошадь Никколо, а Томазо сел на коня позади Донато. Немного углубившись в лес, путники спешились и вырыли могилу для генуэзца. Прочитав над покойным молитву, его предали земле, а крест ему соорудили из двух палок, связанных веревками.
Томазо, утолив голод и жажду, ощутил некоторый прилив сил и начал говорить. Чувствовалось, что потрясенному юноше хотелось выговориться. Ведь он пошел на эту чужую для него войну, поверив рассказам брата и других вояк о богатой добыче и славе героя, о победе, которую обученные военному искусству генуэзцы легко одержат над северными варварами. И вот чем все обернулось…
— Почему же вы не сдались в плен, какого черта сражались до конца? — возмутился Донато. — Зачем вам было погибать за этого деспота Мамая? Ведь славяне не стали бы вас убивать, а взяли бы выкуп! А то и на службу к себе приняли бы.
— Да неужто ты думаешь, что мы бы стали биться за Мамая до последней капли крови? — возразил Томазо. — Мы и хотели сдаться, но нам не удалось! Когда Мамай начал отступать, он прикрылся нашей пехотой. А чтобы мы этого не поняли, он окружил нас своей конницей, и татарские всадники не давали нам сдаться в плен! Сами же они рассчитывали в конце боя прорваться — ведь конникам это легче сделать, чем пехотинцам. Вот так и вышло, что вся наша пехота погибла. Без всякого смысла погибла, а только по злому умыслу Мамая! И Бартоло из-за него погиб!.. — голос юноши дрогнул. — Я никогда не прощу этому азиатскому деспоту! Я отомщу ему за брата, клянусь жизнью!
— Погоди думать о мести, сначала нам надо самим добраться живыми до Кафы, — сказал Донато и про себя тихо добавил: — А обещание, данное Симоне, я выполнил только наполовину…
Всю ночь без передышки скакали всадники, удаляясь от опасного места, и к утру доехали до хутора Тырты, где ненадолго остановились поесть и поспать.
Дальнейшая дорога прошла для Донато как в тумане, ибо все его мысли и чувства были подчинены лишь одному стремлению: скорей, скорей, скорей! В своей лихорадочной спешке он мало замечал состояние Томазо и не принимал всерьез клятвы неопытного юноши отомстить могущественному темнику Мамаю. Только когда они оказались уже на корабле, по пути в Кафу, Донато, словно марафонец, отдышавшийся после долгого бега, вдруг осмотрелся по сторонам и увидел изменения, происшедшие с Томазо. Это был уже не порывистый мальчик-торопыга с наивными глазами и свежими щеками, а рано возмужавший, закаленный страданиями воин с жестким взглядом, твердо сжатыми губами и хрипловатым голосом. Такой мог отомстить даже очень сильному врагу!
Внезапно Донато понял, что сражение, разыгравшееся на далеком поле славянской земли, было не одним из многих, а тем великим и страшным, которое оставит вечный след в судьбах и памяти не только отдельных людей, но и целых народов. И ему, римлянину, чужому на этой земле, довелось прикоснуться к событию, равному по грандиозности тем битвам древнего Рима, в которых некогда решались судьбы мира.
И, словно вторя его мыслям, Ярец, стоявший рядом с Донато на палубе, медленно произнес:
— А сеча-то была великая… Слава о ней дойдет не только до Кафы, но и до Железных ворот[39], и до Царьграда… а то и до самого Рима. И не будь у татар на пути русичей, эти нехристи, пожалуй, и до Рима бы добрались, и до других латинских городов, а?
Донато не знал, что ответить, и промолчал, глядя в морскую даль.
В Кафе он первым делом устремился к дому Таисии, но хозяйки там не застал. Навстречу ему вышел Лазарь, объявивший, что Таисия поехала к дочери.
— А куда? Где сейчас Марина? — взволнованно спросил Донато.
— А там, где ты ее оставил. — Лазарь недовольно сжал губы. — Я сам врач, известный в Кафе, но ты предпочел доверить Марину невежественному знахарю-отшельнику.
— Но он вылечил ее? — вскричал Донато.
— Не знаю. Сам поезжай и посмотри.
После этого Донато не мог лишней минуты задержаться в Кафе; тревога гнала его как можно скорее добраться до хижины знахаря. Теперь его спутниками были только Томазо и Никколо, а Ярец остался в Кафе, где у него был свой угол — каморка в «Золотом колесе». Но про себя Донато мимоходом подумал, что надо бы позвать смекалистого славянина к себе на службу. После всего, что они пережили вместе, Ярец вызывал у Донато доверие даже несмотря на то, что подвел его в начале пути.
К дому Симоне всадники добрались вечером, когда туманная осенняя сырость беловатой дымкой укрыла окрестности. И в этой полупрозрачной пелене у ворот усадьбы обрисовалась одинокая фигура отшельника. Когда всадники вынырнули перед ним из тумана и спешились, он вскрикнул при виде сына и кинулся ему навстречу. Отец и сын обнялись, и Донато краем уха услышал слова Томазо:
— Бартоло погиб… И все по вине Мамая!..
А взгляд Донато устремился дальше, во двор усадьбы, по которому медленно шли две женщины. Это были Марина и Таисия. Мать поддерживала еще слабую дочь. Донато на миг задохнулся от счастья: да, это была Марина! Слабая, бледная, едва оправившаяся от страшной раны, но живая! Он кинулся к ней, и она, отделившись от матери, шагнула ему навстречу. Боясь причинить ей боль слишком крепкими объятиями, Донато коснулся ее осторожно, бережно. А Марина провела ладонью по его заросшему лицу, по волосам, в которых появились седые нити, и долгим взглядом посмотрела в его лихорадочно блестевшие, воспаленные от усталости и бесконечной тревоги глаза.
— Я все знаю, — прошептала она одними губами. — Симоне рассказал мне, что ты отправился в путь из-за меня. Я ждала тебя, верила в тебя… и это придавало мне сил.
— Марина, ты… — он целовал ей руки, боясь спросить о главном.
Но она сама об этом заговорила:
— Не только я жива, но и наш ребенок жив, я его не потеряла. Это похоже на чудо… Наверное, он будет крепким мальчиком, если выдержал такие испытания…
— Или девочкой, — сказала, подойдя к дочери, Таисия.
Донато тут же с поклоном к ней обратился:
— Синьора, я прошу руки вашей дочери. Благословите нас.
— Что же с вами поделаешь, — вздыхая и одновременно улыбаясь, сказала Таисия. — Если уж вы такие муки преодолели, то, значит, сам Бог соединил вас.
Пока мать благословляла будущих супругов, до слуха Донато долетели слова, которые произнес Томазо, утешая Симоне:
— Ничего, отец, мы найдем способ отомстить Мамаю!
Глава шестнадцатая
Высунув голову в окно крытой повозки, Марина чуть рассеянно поглядывала на спускавшийся к берегу приморский рынок, куда Агафья отправилась покупать рыбу. Скупое февральское солнце вынырнуло из облаков, но не могло согреть землю, а от неспокойного в эту пору моря тянуло сырой прохладой. Однако Марине, плотно укутанной в меховую зимнюю одежду и защищенную от ветра бортами повозки, было тепло.
Шел восьмой месяц ее беременности, и молодая женщина все чаще смотрела не столько на окружающий мир, сколько вглубь своих мыслей и чувств, прислушиваясь к биению новой жизни у себя под сердцем.
Марина и Донато обвенчались сразу после его возвращения из невероятного, непредвиденного путешествия в русские земли. Против их брака не возражал никто, кроме Лазаря, надеявшегося выдать падчерицу за своего племянника. Впрочем, Лазарь смирился, когда узнал, что Донато не только не попросил за девушкой никакого приданого, а, напротив, не торгуясь купил загородный дом, который Таисия с Лазарем уже не надеялись продать за хорошую цену. В этом доме молодые супруги жили во время своих приездов в Кафу.
А Донато теперь чаще приходилось приезжать из поместья в город, поскольку произошли события, поневоле привлекшие его к службе у консула.
Мамай, бежав после своего поражения на Куликовом поле в Кафу, собрал новое войско, но уже не для завоеваний — теперь ему надо было хотя бы отстоять свою власть в Орде, а там у него появился сильный соперник — Тохтамыш, один из потомков Чингисхановых, снискавший дружбу нового завоевателя, пришедшего из глубин Азии, — Тамерлана. Тохтамыш объявил себя наследником Батыева престола, а темника Мамая — незаконным самозванцем. Ослабленный и униженный Мамай не мог расплатиться с генуэзцами за их помощь ничем, кроме права владения землей на побережье. И тогда от его имени наместник Солхата Джанкасиус подписал с консулом Кафы Джаноне дель Боско договор, по которому «Великой Коммуне» Генуи предоставлялось восемнадцать селений Солдайского округа и Готия с ее селениями от Чембало до Лусты.
В генуэзских владениях, названных Капитанство Готия, теперь было введено прямое военное правление — ими управляли капитаны, назначаемые консулом Кафы. В Солдайском же округе консулу требовались военные советники, которыми он хотел видеть людей смелых, надежных и сведущих в морском и военном деле. Тогда Джаноне дель Боско вспомнил и о Донато Латино, чье поместье Подере ди Романо находилось в восточной части Солдайского округа. Разумеется, римлянин не мог отказаться от должности военного советника, которая была весьма почетна и позволяла ему стать заметным человеком на всем побережье от Кафы до Солдайи. Теперь, когда их с Мариной соединял церковный брак, у Донато уже не было необходимости отгораживать свою частную жизнь от постороннего взгляда, уединяясь в поместье. Но служба у консула, давая определенные преимущества, налагала и обязанности, чаще всего связанные с поездками в Солдайю и Солхат.
Сейчас Донато тоже был в Солхате, а Марина ждала его возвращения в Кафу со дня на день.
Ребенок шевельнулся у нее под сердцем, и она, нежно улыбаясь, положила руку на живот. Даже под толстой меховой одеждой ее рука ощущала толчки маленьких ручек и ножек. Этот еще нерожденный малыш казался очень подвижным и бойким, несмотря на те страшные испытания, которые пришлось пережить его матери в первые месяцы беременности. Марине до сих пор не верилось, что все позади и между нею и Донато больше нет неодолимых преград, и их ребенок не родится бастардом.
Она задумчиво посмотрела в морскую даль, потом, вспомнив о будничных делах, поискала глазами Агафью, но не нашла ее среди сновавших между навесами и лавками людей. Зато справа от себя, у подножия стены, спускавшейся к морю, она заметила странного торговца снадобьями, которые он разложил прямо на земле, подстелив под них рогожку. Его обросшее бородой лицо показалось ей знакомо, хотя оно было наполовину скрыто вязаным шлемом, какие часто носили зимой латиняне. Он тоже посмотрел на нее. И по его сверкающим проницательным глазам она узнала знахаря-отшельника и своего спасителя Симоне. Марина чуть не позвала его по имени, но вовремя удержалась, потому что он вдруг прижал палец к губам, делая ей знак, чтобы не показывала своего знакомства с ним. Видеть Симоне здесь, в городе, да еще в роли бродячего торговца, казалось более чем странным. Марина сразу же связала это с печальной историей его сыновей, не в добрый час решивших искать военную удачу. Она знала, что Томазо не оставил мысли отомстить Мамаю за бессмысленную гибель брата, и Симоне поддерживал его в этих намерениях. А возможно, Томазо заразил желанием мести и других генуэзцев, чьи родичи и друзья полегли на Куликовом поле потому, что Мамаева конница помешала им сдаться в плен.
Впрочем, сама судьба уже отомстила властолюбивому темнику. До Кафы дошли слухи о том, что Мамай был наголову разбит Тохтамышем у реки Калки, где некогда монголы истребили соединенное войско русских князей. Неверные мурзы Мамая перешли к его удачливому сопернику, а сам он куда-то бежал. Томазо говорил, что, по всей видимости, Мамай бежал в Кафу или Солхат. Доверяя Донато как своему спасителю, юноша однажды признался, что хочет найти Мамая и поступить к нему на службу, дабы легче было отомстить. И вот сейчас, увидев на базаре Симоне, который явно скрывал свою личность, Марина заподозрила, что отец и сын уже приступили к осуществлению безумного плана мести. Она невольно подалась вперед, охваченная не только удивлением, но и какой-то смутной тревогой, при этом не заметив, как у нее с головы съехало покрывало и пышные волосы разметались на ветру. Молодая женщина даже не подозревала, как была хороша в эту минуту — золотоволосая, с нежным румянцем на белом лице, с блестящими глазами цвета морской волны. Глядя на ее хорошенькую головку в окне повозки, никто бы и не заподозрил, что Марина беременна. Несколько мгновений она смотрела на Симоне, а потом, вдруг почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, повернула голову в другую сторону. Там, шагах в десяти от нее, прислонившись к деревянному столбу, стоял мужчина в длинном темном одеянии, напоминающем одновременно и латинский плащ-гупелянд, и восточный халат. Мужчина был среднего роста, плотного сложения и, кажется, немолодых лет. Впрочем, трудно было судить о его возрасте и внешности, потому что лицо незнакомца наполовину скрывала повязка, прикрепленная к тюрбану. И лишь узкие раскосые глаза выдавали его азиатское происхождение. Взгляд этих глаз, пристальный и упорный, был устремлен на Марину. Чуть позади дерзкого незнакомца прохаживались, зорко посматривая по сторонам, двое крепких и таких же закутанных, как он, молодцов свирепого вида, которых можно было принять за его охранников. Нахмурившись, Марина прикрыла голову покрывалом, отвернулась от странного, показавшегося ей опасным наблюдателя и велела вознице отъехать в сторону. Но возница — старый половчанин Копти — был глуховат и, не услышав хозяйку, остался стоять на месте.
В этот момент к повозке подошел юноша в таком же вязаном шлеме, как у Симоне, и тихим голосом поприветствовал Марину. Это был не кто иной, как Томазо, еще более возмужавший и посуровевший лицом, чем стразу после возвращения из Руси.
— Вы здесь одна? — спросил он удивленно.
— А почему бы нет? — улыбнулась Марина. — Разве мне что-то угрожает на улицах Кафы? Вот, сижу здесь, смотрю на море, пока Агафья покупает рыбу. А Донато сейчас в Солхате по поручению консула.
— Я знаю.
Марина спросила, понизив голос:
— Я заметила тут рядом Симоне; это как-то связано с тем вашим замыслом… отомстить?
Томазо сдвинул брови и кивнул.
— И ты уже начал выполнять задуманное? Поступил на службу к тому, к кому хотел?
— Да. И мой… гм, хозяин здесь, недалеко, — ответил Томазо с мрачной усмешкой.
— Да ну? — глаза Марины загорелись любопытством. — А где он, покажи?
— Сейчас я к нему подойду, — тихо сказал юноша. — Но об этом — никому ни слова.
Марина, стараясь не выдать своего особого интереса и делая вид, что рассеянно поглядывает по сторонам, проследила за Томазо и с удивлением, а отчасти и испугом, обнаружила, что его «хозяин» — тот самый татарин, что глазел на нее поверх платка, прикрывавшего его лицо. «Значит, это Мамай?.. — подумала она потрясенно. — Тот самый зловещий хан?..»
В первые минуты Марина возмутилась тем, что кровавый темник разгуливает по Кафе, и никто до сих пор не узнал его, не бросился на него прямо в городе, средь бела дня, с кинжалом, чтобы при всех свершить возмездие, которого он вполне заслуживал. Но, поразмыслив, она поняла, что не все так просто, что законы Кафы и гибкая политика генуэзского консула охраняют затаившегося злодея от прямой расправы над ним. И, видимо, правы были Томазо и Симоне, избравшие другой, более осторожный, план мести.
Краем глаза она следила, как юноша о чем-то тихо беседовал с «хозяином», потом, кивнув ему, снова подошел к повозке, из которой с деланно равнодушным видом выглядывала Марина. По лихорадочно блестевшим глазам Томазо молодая женщина поняла, что юноша хочет сообщить ей нечто особенное.
Он был так взволнован, что забыл об условностях этикета и обратился к Марине на «ты», как к простой ровеснице:
— Послушай, я должен сказать тебе что-то очень важное! — он повел глазами в сторону возницы. — Но это секретный разговор.
— Не бойся, Копти плохо слышит, а Агафью, если вернется, я отошлю в сторону, — успокоила его Марина. — Говори, я вся внимание.
— Оказывается, Мамай тебя заметил и ты ему очень понравилась. А увидев, что я с тобой разговаривал, он стал расспрашивать меня о тебе и заявил, что хочет встретиться с тобой. Я солгал ему, что тебя зовут Бандекка, ты служишь в «Золотом колесе» и сегодня уезжаешь из Кафы в Солхат. Тут я ничем не рисковал, я знаю, что Бандекка действительно уехала, — так что, если хозяин вздумает о ней расспрашивать, то ему это подтвердят. Но он не успокоился, стал просить меня, чтобы я уговорил тебя встретиться с ним наедине. Обещает тебе щедрую награду. — Томазо сдвинул брови и криво усмехнулся. — Видно, чует, что жить ему осталось недолго, и жаждет удовольствий, а золотоволосые красавицы ему всегда нравились.
— И он смеет мне такое предлагать!.. — возмутилась Марина.
— Тише, прошу тебя! — Томазо приложил палец к губам. — Это вовсе не значит, что ты должна с ним встречаться, но сделай вид, будто согласна! Он горит желанием, он уже назвал то место вблизи Солхата, где хочет уединиться с тобой в один из ближайших вечеров. От тебя требуется одно: любезно кивнуть ему, улыбнуться, а затем уехать отсюда. Остальное сделаем мы с отцом.
Марина уже поняла замысел Томазо и с невольным испугом возразила:
— Нет, не надо, ты задумал опасное дело! Пусть его сам Бог покарает!
— У нас с ним разные боги, а потому покарать его должен человек, — хмуро заметил Томазо. — И пусть этим человеком буду я.
— Но это слишком большой риск и для тебя, и для меня!
— А я не вижу риска; никто ничего не заподозрит, ведь у него достаточно врагов и без нас. Рано или поздно его все равно прикончат — если не из мести, так ради тех сокровищ, которые он награбил. Притом же, у меня хватило осторожности наняться к нему под чужим именем. Что же касается тебя, то ты вообще ничем не рискуешь. В его шатер войдет женщина, закутанная в чадру, но это будешь не ты, а…
— Я понимаю, кто это будет, — быстро сказала Марина. — Но, знаешь ли, часто все случается не так, как замысливается.
— Не бойся, я все предусмотрел. В любом случае, даже если мой план провалится, живым я им в руки не дамся. А рядом будет мой отец, он всегда поможет. Ну же, соглашайся, Марина! Ведь это удача, что он хочет остаться наедине с незнакомой женщиной! Такого случая может больше не повториться! Кивни ему и улыбнись!
— Не знаю, как быть…
Она все еще колебалась, и Томазо прибегнул к последнему доводу:
— Разве Мамай не такой же враг тебе, как и мне? Я ненавижу его из-за брата, а ты должна ненавидеть по велению своей крови, ведь ты славянка! Подумай, скольких твоих соплеменников он истребил! А твоя вера? Ведь священники греческого обряда всегда проклинали Мамая. Они бы благословили тебя, если бы узнали, что ты помогла его уничтожить.
Марина тут же вспомнила наставления отца Панкратия, вспомнила рассказ Донато о кровавом поле на русской земле, и подавила в себе остатки нерешительности. Подняв голову, она бросила долгий, влекущий взгляд в сторону темной закутанной фигуры, неподвижно стоявшей на том самом месте. Татарин подался вперед, узкие глаза его хищно блеснули, и он одной рукой чуть сдвинул платок с лица, а другой достал из-за пазухи и показал Марине расшитый жемчугом кошелек, давая понять, что щедро заплатит красавице за удовольствие. Немного помедлив, Марина кокетливо улыбнулась и кивнула ему.
А в следующий момент к повозке приблизилась Агафья с корзиной в руке, и Томазо, чтобы не попадаться ей на глаза, поспешил отойти прочь. Служанка хотела что-то сказать — возможно, похвастаться удачными покупками, но Марина, боясь, что Агафья назовет ее по имени, велела ей молчать и немедленно сесть в повозку. Немного удивленная непривычной суровостью госпожи, служанка молча повиновалась.
Лишь когда повозка отъехала от рынка на некоторое расстояние, Марина облегченно вздохнула и пояснила Агафье:
— На базаре были люди, с которыми мне не хотелось встречаться, потому я и поспешила уехать.
— Тогда понятно, — кивнула служанка. — Беременным не надо видеться с людьми, у которых дурной глаз.
Остаток дня и ночь Марина только и думала о встрече у приморского рынка. Она не поехала к матери, опасаясь, что Таисия догадается по ее лицу, что дочка чем-то сильно взволнована, и будет докучать расспросами. Уединившись в комнате своего загородного дома, молодая женщина стала усердно молиться, размышляя о непредсказуемых картах судьбы, упавших сегодня так, что она, некогда простая легкомысленная девушка Марина Северская, оказалась, может быть, причастна к событию, которое должно оставить след в истории.
Сначала Марина хотела обо всем рассказать мужу, как только он вернется, но, поразмыслив, решила этого не делать. Ведь Донато встревожится и рассердится на нее и Томазо за такую неосторожность. И в чем-то он, конечно, будет прав, ибо если план мести провалится, то коварный темник непременно покарает Томазо и доберется до той, которую юноша назвал Бандеккой. Нет, лучше молчать и не тревожить понапрасну Донато, чтобы он сгоряча не кинулся сам осуществить приговор Мамаю. А он может это сделать, если будет уверен, что именно так защитит ее, Марину… Подумав об этом, молодая женщина невольно улыбнулась, и сердце в ее груди застучало сильней…
У двери осторожно покашляла Агафья, пришедшая раздеть госпожу на ночь и приготовить ей постель. Марина была так задумчива и молчалива, что служанка не решилась развлекать ее разговорами. После ухода Агафьи Марина в ночной рубашке села возле стола и принялась медленно расчесывать волосы, поглядывая в стоявшее перед ней маленькое зеркало. Потом, отодвинув ворот рубашки, со вздохом притронулась к розовому рубцу от страшной раны, полученной полгода назад. Вспоминая яростную Чечилию, сумевшую даже на краю гибели нанести почти смертельный удар сопернице, Марина невольно содрогалась, но в глубине души испытывала нечто похожее на уважение к силе чувств генуэзки и до сих пор немного ревновала к ней Донато, хотя никогда не говорила ему об этом.
Сидя перед зеркалом, она стала мысленно перебирать, словно четки, события своей судьбы, которая раньше была похожа на спокойную речку, а последние полтора года мчалась подобно бурному потоку. А ведь все началось в тот день, когда она увидела в аптеке Эрмирио могучую фигуру и гордый профиль римлянина, будто шагнувшего в суетный мир торговцев и бродяг из древней героической легенды… Да, все началось с него и все заканчивается им, единственным властелином ее сердца…
Марина и сама не заметила, как сонные грезы смежили ей веки и голова ее склонилась на руки, а потом и вовсе упала на стол. Молодой женщине снились гадания славянских девушек со свечой перед зеркалом, в котором они видели своего суженого.
Разбудило Марину чье-то осторожное прикосновение. Вздрогнув, она подняла голову и увидела, как продолжение своего сна, лицо Донато в зеркале. Только он был рядом с ней не во сне, а наяву, он обнимал ее плечи и касался губами ее горячей щеки.
— Ты вернулся? — обрадовалась она. — Прямо ночью? А я ждала тебя только утром.
— А ты не рада, что я вернулся раньше времени? — Он шутливо погрозил ей пальцем. — Или ждала кого-то другого?
— Ну, кого же я могла ждать, кроме тебя? — Она обвила руками шею Донато, отвечая на его поцелуй. — Слава Богу, теперь ты со мной.
Он заметил ее волнение, которое она тщетно пыталась скрыть:
— А ты будто чем-то встревожена? Что случилось за время моего отсутствия?
— Нет, ничего, тебе показалось, — поспешила возразить Марина.
— Нет уж, не скрывай, меня не обманешь. Если б ты была спокойна, то не заснула бы возле стола. — Донато поднял Марину на руки и отнес на постель, а сам сел рядом. — Рассказывай, что тебя взволновало. Или, может, здоровье ухудшилось?
— Нет, я чувствую себя хорошо! — заверила Марина и, чтобы окончательно рассеять его сомнения, решила приоткрыть половину правды: — Но знаешь ли, Донато… я слышала сегодня на рынке разговоры, будто где-то в окрестностях Кафы бродит Мамай. И это меня встревожило… тем более что тебя не было рядом.
— Глупенькая моя, какое нам дело до Мамая? — Донато осторожно приподнял Марину с подушки и коснулся губами ее щеки. — Он уже никому не опасен, но должен сам всех опасаться.
— А мне почему-то стало не по себе… Вдруг в городе начнутся беспорядки?
— Не думаю. Но, если даже так, нам с тобой это ничем не грозит. И со дня на день я увезу тебя в поместье.
— Но почему так скоро? Ведь ты же сам говоришь, что в Кафе не опасно.
— Не опасно. И все-таки женщине на сносях лучше находиться в тихом поместье, чем в суетном городе.
Марина не стала возражать и, поцеловав Донато, скоро уснула в совершенном умиротворении.
Через несколько дней, попрощавшись с Таисией, молодые супруги уехали в Подере ди Романо.
Для Марины потянулись дни, полные одновременно и спокойной созерцательности, и тревожного ожидания. Готовясь к главному событию своей женской судьбы, Марина отгоняла от себя все прочие мысли, и скоро уже забыла недавние опасения по поводу Мамая. Лишь одно ее настораживало: дом отшельника по-прежнему был пуст и заколочен, а это могло означать, что Симоне и Томазо не завершили свой план мести или же их постигла неудача. В окрестностях никто не догадывался, чем объяснить отсутствие Симоне, и поселяне считали, что знахарь ушел в горы за какими-то редкими травами либо, удрученный гибелью старшего сына, отправился куда-то на богомолье.
Однажды, в первые дни апреля, Донато покинул поместье рано утром, когда Марина еще спала. Ей было неизвестно, куда и зачем он уехал, и она невольно заволновалась. Агафья предположила, что хозяин просто решил поохотиться, но у Марины было предчувствие, что это не так, что нечто более важное, чем охота, позвало его из дому.
Она вышла во двор и, тяжело переваливаясь, поддерживая руками живот, прогулялась к воротам, посмотрела на убегающую вдаль дорогу. Ее охватило тревожное, хотя и не мрачное предчувствие. Был погожий весенний день, и яркое солнце согревало землю и душу, молодая зелень на фоне синего неба радовала взгляд. Марина подняла голову, вдыхая полной грудью свежий душистый воздух. И вдруг ощутила легкую ноющую боль внизу живота. Она тут же присела на скамью под раскидистым дубом и уже хотела позвать Агафью, но боль прошла, словно и не было. Откинувшись на спинку скамьи, Марина зажмурила глаза и минутку сидела спокойно, а потом встрепенулась, услышав приближающийся топот копыт. Взглянув на ворота, она чуть не вскрикнула от радости: во двор въехал Донато. Спрыгнув с лошади прямо напротив скамьи, он кинулся к Марине, сел рядом и обнял ее, оправдываясь:
— Прости, что уехал, ничего не объяснив, но не хотел тебя будить. Однако же я быстро вернулся, правда?
— Я бы, конечно, рассердилась на тебя, — она шутливо стукнула его кулачком по груди, — но ведь это помешало бы мне с тобой поговорить и узнать, куда и зачем ты уезжал.
— Хорошо, что твое любопытство смягчает твой гнев, — улыбнулся Донато. — Могу тебя обрадовать: я только что видел Симоне и Томазо. Они живы и здоровы.
— Слава Богу! — Марина перекрестилась. — А они… они ничего тебе не сообщали? Никаких новостей?
— Есть новость и очень важная, — сказал Донато, невольно понижая голос, хотя вокруг никого не было. — Они все-таки осуществили свою месть. Заманили хана в ловушку и зарезали, а сами скрылись и некоторое время жили в Солхате под видом татарских купцов, а потом вернулись в Кафу. А вчера вечером приехали в свою усадьбу.
У Марины загорелись глаза:
— А подробностей они тебе не рассказывали? Как именно заманили хана в ловушку?
— Говорили, что Томазо прошел к Мамаю под видом женщины и заколол его. А Симоне находился где-то рядом, чтобы в любую минуту кинуться на помощь к сыну. Но я не уверен, что все так и было. Кажется, даже мне они не хотят раскрыть всей правды. И я их понимаю. Ведь этот подвиг не из тех, которые совершают ради славы. Для потомков убийцы Мамая так и останутся безымянными.
— Но ведь эта месть — справедливое деяние, правда?
— Да.
Марина таинственно улыбнулась и, не утерпев, рассказала Донато о своем невольном участии в деле справедливой мести. Она ожидала от мужа восхищенного удивления, но вместо этого он только рассердился:
— Как же ты могла поступить так неосторожно? А если бы татарин выследил тебя, узнал твое настоящее имя? А если бы он схватил Томазо и выпытал у него, кто ты такая? Если бы потом подослал к тебе своих головорезов? Страшно подумать!.. Но каков Томазо! Как он мог использовать тебя в таком рискованном деле?! Ну, я ему покажу!
— Нет, не смей обвинять Томазо! — воскликнула Марина. — Я сама согласилась ему подыграть. Не забывай, что я славянка! Разве я не должна была так поступить?
Горячо доказывая мужу свою правоту, Марина вдруг снова ощутила боль в животе — на этот раз резкую и длительную. Она охнула и откинулась назад, положив руки на поясницу. Донато испугался, помог ей встать и пройти несколько шагов по дорожке, потом подхватил ее на руки и занес в дом. Прибежала Агафья и объявила, что у госпожи начались предродовые схватки.
Донато послал в Кафу Никколо, чтобы известил Таисию, а сам сел возле жены и взял ее за руку, словно хотел часть ее боли принять на себя. Но через некоторое время Агафья попросила его выйти из комнаты и стала хлопотать возле роженицы.
Схватки продолжались весь день, а родила Марина вечером, уже при свечах.
В тот момент, когда боль и тяжесть покинули ее тело, она услышала крик ребенка и радостный возглас Агафьи:
— Девочка! Крепенькая такая…
— Девочка… — Марина измученно улыбнулась и попросила: — Откройте окна, мне душно…
После этих слов она на минуту лишилась чувств, а когда вновь пришла в себя, перед ней уже сидел Донато. Он отодвинул со лба Марины пряди спутанных, мокрых от испарины волос и поцеловал ее запекшиеся губы. Легкий ветерок ворвался в открытое окно, принес в комнату запах цветущей жимолости и недавно прошедшего теплого весеннего дождя.
— Покажи мне нашу дочку, Донато, — прошептала Марина.
Он осторожно взял в руки крошечный пищащий сверток и поднес к жене.
— Красавица… как сама весна, — улыбнулась Марина. — Назовем нашу девочку Примавера — в честь этой весны и в память о твоей сестре.
— Спасибо, любимая. — Он поцеловал жену. — Сколько раз мы боялись, что все для нас закончилось, что впереди нет ни жизни, ни счастья. Но жизнь продолжается! И вот она — Примавера — наш первенец, наша весна!
Марина положила рядом с собой теплый родной комочек, вгляделась в обиженно сморщенное младенческое личико, и на мгновение у нее вдруг промелькнула мысль о том, что после весны всегда приходит осень, а после радости — испытания и печали…
Но сейчас юной матери не хотелось думать о грядущих ненастьях, и она со светлой улыбкой повторила вслед за мужем:
— Примавера — весна нашей жизни…
Примечания
1
Остия — античный порт вблизи Рима.
(обратно)2
Вифиния и Понт — античные области на севере Малой Азии.
(обратно)3
Сугдея (Сурож, Солдайя) — современный Судак.
(обратно)4
Хризма — раннехристианский символ (монограмма имени Иисуса Христа, стилизованная в виде креста).
(обратно)5
Контрадо — городские ячейки, своего рода кварталы, в средневековой Кафе (Феодосии), объединявшие людей по этническому и профессиональному признакам.
(обратно)6
Синдик — чиновник по судебным делам.
(обратно)7
Аспр — серебряная монета, составлявшая примерно двухсотую часть самого крупного из ходившего в Кафе денежного номинала — сомма. Медные монеты Кафы — фоллари.
(обратно)8
Фуста — небольшое парусно-гребное судно.
(обратно)9
Иоанниты (госпитальеры) — духовно-рыцарский орден, основанный крестоносцами.
(обратно)10
Согласно правилам corso, найденный на вражеских кораблях груз продавался, а вырученные деньги делились между Папой Римским, Великим магистром ордена и рыцарями, захватившими добычу.
(обратно)11
Нобили — дворяне, патрициат в итальянских городах-государствах.
(обратно)12
«Авиньонское пленение» пап, когда глава католической церкви находился не в Риме, а в Авиньоне, продолжалось с 1309 по 1378 годы.
(обратно)13
Кондотьер — наемный военачальник в средневековой Италии.
(обратно)14
Восстание чомпи (чесальщиков шерсти и других наемных рабочих) произошло во Флоренции в 1378 г.
(обратно)15
Викарием в Кафе назывался помощник консула.
(обратно)16
Средневековое государство на юго-востоке Малой Азии.
(обратно)17
Из «Романа о Граале» Робера де Борона.
(обратно)18
Отузы — ныне пос. Щебетовка.
(обратно)19
Солхат — ныне Старый Крым.
(обратно)20
Нижние Отузы — ныне пос. Курортное.
(обратно)21
Мессерами в средневековой Италии называли знатных людей, докторов медицины и юриспруденции, церковных иерархов.
(обратно)22
Главная причина (лат.)
(обратно)23
Волей-неволей (лат.)
(обратно)24
Луста — ныне Алушта.
(обратно)25
Хачкар — резной каменный крест с датами и именами — уникальная форма армянской культуры.
(обратно)26
Киновия, или скит — форма монашества, представляющая собой жизнь в малом коллективе (обычно от трех до пятнадцати человек) в небольшом уединенном монастыре.
(обратно)27
По моему мнению (лат.)
(обратно)28
Григорий ХI (1370—1378) — последний авиньонский папа, вынужденный вернуться в Рим под страхом потери своих итальянских владений.
(обратно)29
Сонет Петрарки (пер. Вяч. Иванова)
(обратно)30
Сонет Боккаччо (пер. Ю. Верховского)
(обратно)31
Скути — ныне Приветное.
(обратно)32
Джанкасиус — латинизированная форма имени ордынского наместника в Солхате Яркаса (или Черкес-бека).
(обратно)33
Кафинской Кампаньей генуэзцы называли сельские области от Солдайи (Судака) до Чембало (Балаклавы).
(обратно)34
Тана — средневековый город в устье Дона, входивший во владения Генуэзской республики.
(обратно)35
Джостра — один из видов турнирных состязаний, представляющих собой ряд поединков на копьях между двумя всадниками; цель поединка — выбить противника из седла, пользуясь копьем, снабженным специальным наконечником, не острым и предохраняющим от ранения.
(обратно)36
«Фьяметта» — роман Джованни Боккаччо, представлющий собой исповедь женщины.
(обратно)37
Фрягами русичи называли итальянцев.
(обратно)38
Тегиляй — стеганый кафтан.
(обратно)39
Железные ворота — Дербент.
(обратно)


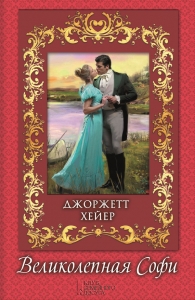
Комментарии к книге «Королева Таврики», Александра Девиль
Всего 0 комментариев