Изданіе И. А. Морозова.
М О С К В А.
Типографія A. А. Стрѣльцова, Покровка, д. № 35.
1910.
Аннотация
Когда-то купец Осипов отказал от дома дочери Анне, вышедшей замуж против его воли, и даже рождение внука не смягчило сердце купца. Но после смерти мужа жена его с трепетом ждет возвращения блудной дочери, а особенного горячо любимого, хоть и заочно, внука. Вот только мальчик-то давно умер, а у Анны растет незаконнорожденная дочь Вера. Что же им делать, ведь бабушка ждет законного наследника, а не незаконную внучку?…
А. М. Пазухинъ САМОЗВАНКА Повѣсть I.
Въ концѣ 18… года, въ домѣ купчихи Ольги Осиповны Ярцевой, на одной изъ Замоскворѣцкихъ улицъ Москвы была необыкновенная суматоха.
Сосѣди Ольги Осиповны привыкли видѣть домъ ея вѣчно съ затворенными воротами, вѣчно угрюмый и какъ бы необитаемый. Очень рѣдко кто помнилъ, чтобы ворота этого дома, когда-то выкрашенныя въ зеленую краску, а теперь буросѣрыя стояли отворенными. Только въ праздничный день утромъ отворялись они древнимъ дворникомъ и выпускали пролетку, запряженную старымъ сивымъ конемъ, который отвозилъ хозяйку къ обѣднѣ въ сосѣднюю церковь, да раза три въ недѣлю на той же самой сивой лошади старый, престарый кучеръ ѣздилъ за водой. Теперь ворота стояли отворенными; старый дворникъ мелъ дворъ, поднявъ невообразимую пыль; никогда не отворяющіяся окна дома были теперь открыты настежь, и любопытные могли видѣть, что тамъ суетливо бѣгаютъ бабы съ тряпками и вѣниками, суетятся, кричатъ, а сама хозяйка Ольга Осиповна Ярцева то и дѣло мелькаетъ въ окнахъ и энергично командуетъ этими бабами.
Ольга Осиповна Ярцева довольно давно овдовѣла, и съ тѣхъ поръ домъ ея сталъ похожимъ на какой нибудь старовѣрскій скитъ или на монастырь. Родныхъ въ Москвѣ, какъ было извѣстно, сосѣдямъ, Ольга Осиповна не имѣла; со знакомыми своими разошлась и жила въ полномъ одиночествѣ, въ затворничествѣ, принимая лишь къ себѣ мѣщанку Фіону Степановну, тоже вдову, занимавшуюся кой какой торговлей и немножко сватовствомъ. Фіона Степановна эта была извѣстна всему Замоскворѣчью, посѣщала очень многіе купеческіе дома, поторговывала, устраивала въ годъ двѣ-три свадьбы и переносила изъ дома въ домъ различныя вѣсти. Вѣсти эти бывали иногда интересными и очень часто устраивали въ томъ или другомъ домѣ ссору, вносили разладъ, однимъ словомъ, заваривали болѣе или менѣе густую домашнюю кашу, которое обстоятельство и дало возможность купеческимъ острякамъ прозвать Фіону Степановну „Заварихою“.
Почти никто не зналъ фамилію Фіоны Степановны, и большинство и называло ее именно этимъ именемъ, такъ что она одинаково отзывалась какъ на Фіону Степановну, такъ и на „Завариху Степановну“.
Эта вотъ самая Завариха Степановна вышла изъ воротъ дома Ярцевой и стала рядить извозчика въ Охотный рядъ.
– Фіонѣ Степановнѣ наше нижайшее почтеніе! – окликнулъ ее хозяинъ мелочной лавочки, которая была расположена почти напротивъ дома Ярцевой. – Какъ въ своемъ здоровьицѣ, голубушка?
Фіона Степановна обругала извозчика, который не соглашался везти ее за пятіалтынный, и подошла къ лавочнику.
– Здравствуйте, Маркелъ Павловичъ! – отвѣтила она на привѣтствіе. – Что это, батюшка, какъ нонѣ извозчики-то взбѣсились. Бывало я отъ Калужскихъ воротъ за гривенникъ въ Охотный ѣздила, а сейчасъ съ Полянки пятіалтынный даю, и онъ рыло воротитъ.
– Времена нонѣ другія, Фіона Степановна, все дорожаетъ… Да что это такое у Ольги Осиповны въ домѣ за происшествіе, дозвольте спросить?… Метутъ, скребутъ, ворота настежь отворили, что такое произошло?
Фіона Степановна таинственно наклонилась къ лавочнику и, понизивъ голосъ, хотя кругомъ свидѣтелей и не было, проговорила:
– Доченьку, батюшка, ожидаетъ, доченьку!…
– Анну Игнатьевну? – съ удивленіемъ спросилъ лавочникъ.
– Да! голубчикъ, да!…
– Да, вѣдь, онѣ въ неизвѣстности гдѣ-то пропадали! И сказывали люди, что онѣ померли!…
– Такъ всѣ и думали, а она, вишь, объявилась теперь и вотъ ѣдетъ съ сынкомъ.
– Вотъ какъ!… Даже съ сынкомъ?…
– Съ сынкомъ, голубчикъ, съ сынкомъ!… Прослышала она, стало-быть, о смерти родителя своего, ну и ѣдетъ!
– Такъ.. Что-жъ, рады Ольга Осиповна?
– Извѣстно дѣло рада, какъ ни-какъ, а дѣло материнское, вѣдь. А только я такъ полагаю, что мало ей доченька утѣшенія привезетъ.
– Почему же-съ такое?
– Да шляющаяся она, разгульная! Въ дѣвицахъ была, такъ и то повиновеніе не оказывала. Супротивъ родительской воли замужъ выскочила, шлялась неизвѣстно гдѣ, такъ какая это дочь?… И сынишка, поди, баловникъ какой-нибудь, шалопай… Росъ безъ призору, матушка вольница, такъ чего же отъ него ждать?… Я такъ полагаю, что размытаритъ онъ бабушкины денежки и отъ Ярцевскихъ капиталовъ годковъ черезъ десять ничего не останется.
– Все можетъ быть-съ! Но тѣмь не менѣе, для Ольги Осиповны теперь радость большая… Хлопоты теперь, чай, идутъ у васъ по этому случаю?
– И не говорите, голубчикъ, съ ногъ сбились. Пять комнатъ для дочки съ сыномъ отводитъ Ольга Осиповна, бѣлье достаетъ, серебро вынимаетъ. А меня вотъ командировала въ Охотный рядъ за провизіей за разной, за ягодами, за фруктами. Цѣлый часъ мы за ерестикомъ сидѣли, всякія покупки выписывали… Ну, однако, до свиданія, мнѣ пора.
Фіона Степановна направилась вдоль улицы, порядила извозчика за четвертакъ и поѣхала съ очень важнымъ и озабоченнымъ видомъ.
Около двадцати лѣтъ тому назадъ въ этомъ самомъ домѣ Ярцевыхъ разыгралась тяжелая драма.
Молоденькая и единственная дочь богатаго суроваго Игнатія Павловича Ярцева, Анна влюбилась въ бѣднаго, незначительнаго приказчика, беззавѣтно отдалась ему и призналась въ своемъ грѣхѣ родителямъ. Горько плакала оскорбленная мать, не одну подушку смочила она слезами, билась головой объ стѣну и рвала на себѣ волосы, а суровый, неумолимый Игнатій Павловичъ поднялъ на дочку тяжелую руку свою и потомъ прогналъ изъ своего дома эту преступную дочку, запретивъ ей когда бы то ни было напоминать о себѣ и объявивъ всѣмъ, что у него дочери нѣтъ и не было.
Въ одномъ платьицѣ, прикрывшись кое-какъ платочкомъ, вышла красавица Анна Игнатьевна изъ отцовскаго дома и ушла къ своему милому дружку, который не отвергнулъ ее, какъ можно было ожидать, лишенную всѣхъ правъ, а принялъ съ распростертыми объятіями, обвѣнчался съ нею, и зажили молодые супруги, хоть не очень красно, да за то весело и счастливо.
Недолго продолжалось это счастье. Разгнѣванный отецъ не ограничился изгнаніемъ дочери, а принялся мстить своему оскорбителю и, имѣя большое вліяніе въ торговой Москвѣ, добился того, что молодого человѣка съ одного мѣста, съ другого, довели его сперва до нищеты, потомъ до чарочки, къ которой прибѣгаетъ всегда русскій человѣкъ въ несчастіи. He прошло и двухъ лѣтъ послѣ бѣдной свадьбы Анны Игнатьевны, какъ жестокая нужда глянула въ ея дверь. Спившійся съ круга больной мужъ ея не могъ зарабатывать ничего, она къ тому времени сдѣлалась матерью прелестнаго ребенка и похудѣвшая, подурнѣвшая, кое-какъ снискивала себѣ пропитаніе иголкой, каждую минуту отрываясь отъ работы то для того, чтобы покормить ребенка, то для того, чтобы послужить лежащему въ злѣйшей скоротечной чахоткѣ мужу. Старуха мать знала объ этомъ горѣ своей дочери, но рѣшительно не имѣла возможности помочь ей, такъ какъ страшно боялась мужа, да боялась и грѣха за нарушеніе клятвы, данной этому мужу передъ иконою въ томъ, что она никогда не увидитъ свою дочь и ничѣмъ не поможетъ ей. Къ счастью или къ несчастью мужъ Анны Игнатьевны умеръ, и она, не повидавшись съ матерью и отцомъ, уѣхала куда то на Волгу, захвативъ съ собою мальчика своего, которому въ то время не было еще году.
Прошло много лѣтъ, и Ольга Осиповна не имѣла никакихъ свѣдѣній о своей дочери. Видѣли ее московскіе купцы въ Нижнемъ; одинъ изъ дальнихъ родственниковъ Ярцевыхъ встрѣтилъ ее въ Ярославлѣ, причемъ одни изъ этихъ видѣвшихъ говорили, что она нуждается, промышляетъ кое-какой работой, а другіе утверждали, что она расцвѣла, какъ маковъ цвѣтъ и живетъ въ свое удовольствіе.
Исторія съ дочерью повліяла на крѣпкаго старика Игнатія Павловича очень сильно. Онъ сталъ еще угрюмѣе, еще неразговорчивѣе, а порою принимался пить, и питье это обратилось у него въ запой. Онъ забиралъ съ собою денегъ, пропадалъ куда то недѣли на двѣ, на три и возвращался блѣднымъ, испитымъ, недомогающимъ, послѣ чего начинали появляться въ домѣ какія-то оскорбленныя имъ личности, которыхъ онъ удовлетворялъ деньгами. Пришлось ему два раза за учиненные въ Серпуховѣ и еще гдѣ то дебоши отсидѣть недѣли по двѣ подъ арестомъ, послѣ чего онъ запирался у себя въ домѣ, молился, читалъ духовныя книги, а потомъ опять запивалъ. Такая жизнь не могла не повліять и на его желѣзное здоровье, которое расшаталось наконецъ совершенно, и недавно Игнатій Павловичъ отошелъ въ вѣчность, оставивъ Ольгу Осиповну вдовою и обладательницей большого дома, нѣсколькихъ лавокъ и крупнаго состоянія.
Ольга Осиповна ликвидировала дѣла мужа, продала лавки, положила капиталъ въ государственный банкъ и стала жить да поживать, отдыхая на покоѣ и заботясь лишь о своей душѣ.
Теперь данная мужу клятва разрѣшалась сама собою, и у старухи явилось страстное желаніе видѣть отвергнутую когда то дочь, а еще больше ея сына, который пострадалъ за грѣхи своихъ родителей совершенно безвинно и былъ бы теперь такъ кстати, какъ прямой наслѣдникъ крупныхъ капиталовъ Ярцева, какъ продолжатель его дѣла, какъ кость отъ кости и плоть отъ плоти покойнаго Игнатія Павловича.
Старушка совѣтовалась со знакомыми, писала письма къ нижегородскимъ купцамъ, которыхъ знала, справляясь у нихъ о дочери, но никакихъ извѣстій не получала. Анна Игнатьевна словно въ воду канула.
Вдругъ въ одинъ прекрасный день старушка получила письмо отъ своей пропавшей дочери.
Анна Игнатьевна писала изъ Ярославля, гдѣ она, по ея словамъ, жила уже нѣсколько лѣтъ, занимаясь работою. Она писала, что живетъ съ сыномъ, котораго научила любить свою бабушку и молиться за упокой дѣдушкиной души, который жаждетъ обнять свою бабушку и уже заочно обожаетъ и любитъ ее.
„Мнѣ ничего не надо изъ вашихъ денегъ“,- писала Анна Игнатьевна: „я бѣдна, но я научилась жить трудами рукъ своихъ и пріучила Васю ограничиваться очень малымъ. Богъ съ нимъ съ богатствомъ, Богъ съ ними и съ деньгами, я хочу только обнять васъ, маменька, хочу только, чтобы вы благословили моего сына, вашего внука, и только. Я виновата передъ вами, но, вѣдь, я много перенесла за это. Простите меня, если можете, а ужъ Вася-то мой передъ вами ничѣмъ не виноватъ. Дайте ему возможность видѣть васъ, благословите его и больше намъ ничего не надо. Если мольбы мои эти тронутъ ваше сердце, такъ отвѣчайте мнѣ въ Ярославль, и я пріѣду повидаться съ вами. Если же нѣтъ, то мы будемъ жить въ горькомъ одиночествѣ и все таки не перестанемъ съ сыномъ горячо и усердно молиться за васъ“.
Ольга Осиповна облила слезами это письмо, горячо молилась всю ночь и на другой день послала дочери въ Ярославль телеграмму съ просьбою пріѣхать немедленно, съ прощеніемъ и благословеніемъ.
Теперь Ольга Осиповна ожидала свою дочь, готовилась къ ея встрѣчѣ, какъ къ великому празднику, и широко растворила двери своего богатаго угрюмаго дома для встрѣчи отыскавшейся дочери и внука, котораго она уже любила, котораго страстно жаждала обнять и прижать къ своей старческой груди, почти не согрѣтой дружескими объятіями. Старушка точно помолодѣла, она даже сняла свое черное платье, съ которымъ не разставалась со дня смерти мужа, и нарядилась въ шелковое платье, да чуть ли не въ первый разъ послѣ смерти мужа посмотрѣлась въ зеркало и принарядилась.
Даже въ Свѣтлый праздникъ Воскресенія Христова не было такъ радостно и весело настроена Ольга Осиповна Ярцева, какъ теперь, ожидая дочь и внука. Она каждую минуту подходила къ окну, глядѣла на улицу, справлялась съ часами и ждала, страстно ждала желаннаго часа, который долженъ былъ принести ей великую и свѣтлую радость.
II.
Въ Ярославлѣ, который справедливо зовется „столицею“ верховьевъ Волги, въ маленькомъ деревянномъ домикѣ, на самой рѣкѣ „Которосли“ сидѣла въ теплый августовскій вечеръ женщина, лѣтъ тридцати семи, и задумчиво глядѣла на панораму живописнаго города, которая открывалась изъ окна, вся позлащенная лучами заката.
Неподалеку отъ окна, возле котораго сидѣла женщина, кипѣлъ на столикѣ самоваръ; но женщина, должно быть, забыла про него, занятая какими то думами. Самоваръ пыхтѣлъ, пускалъ пары, брызгалъ, словно негодуя на невниманіе хозяйки, а она и вниманія на него не обращала, опустивъ голову на руки и устремивъ глаза вдаль.
Женщина эта была очень хороша, не смотря на свои тридцать семь лѣтъ; только что-то суровое, непривѣтливое было въ ея правильномъ лицѣ, а большіе черные глаза холодно, даже жестко, глядѣли изъ-подъ густыхъ, рѣзко очерченныхъ бровей. Морщинка легла на бѣломъ высокомъ лбу женщины, сѣдина кой-гдѣ тронула ея черные волосы. Видно было, что „пожила“ она хорошо, хорошо пожила, и можно бы было подумать, что устала жить, если бъ не огонь, который порою вспыхивалъ въ черныхъ глазахъ, если-бъ не высокая грудь, которая волновалась еще и вздымала складки простенькаго платья изъ крашеной шелковой матеріи.
– Ну, что же, Вѣра, скоро ты? – спросила женщина, отрывая глаза отъ красивой панорамы, и оглядываясь на дверь въ сосѣднюю комнату.
Дверь была притворена, а за нею возился кто-то, шурша платьемъ. Порою слышался сдержанный смѣхъ оттуда.
– Сейчасъ, мама, – отозвался изъ-за двери свѣжій голосокъ. Непривычно, не вдругъ одѣнешься… А хорошо, мама, будетъ, право, хорошо.
– Ну ладно, ладно, торопись: седьмой часъ, а въ девять надо на вокзалѣ быть…
– Готово, мама!…
Дверь отворилась и на порогѣ показался хорошенькій, какъ херувимъ, мальчикъ, не то лѣтъ четырнадцати, не то всѣхъ семнадцати. Трудно было разобрать по миловидному розовому личику, сколько лѣтъ этому красавцу-юношѣ. Румянецъ совсѣмъ какъ у ребенка, шея нѣжная, бѣлая, круглая, надъ губою и пушка еще нѣтъ, а глаза смотрятъ, какъ у юноши, мысль въ нихъ свѣтится, чувство, какихъ у четырнадцатилѣтнихъ дѣтей не было. Одѣтъ былъ мальчикъ въ пиджачный костюмъ изъ сѣренькой лѣтней матеріи. Свѣтло-русые вьющіеся волосы колечками сбѣгали на лобъ, вились надъ розовыми маленькими ушами, кольцами подымались на затылкѣ.
– Хорошо, мама? – застѣнчиво спросилъ мальчикъ, нерѣшительно дѣлая шагъ впередъ и схватившись за косякъ двери, точно не зная, куда руки дѣвать.
Женщина оглядѣла его долгимъ, пристальнымъ взглядомъ.
– Да, хорошо… Ладно, что природа не наградила полнотою, a то не обмануть бы… А все же надо вотъ тутъ потѣснѣе лифомъ стянуть…
Она подошла къ мальчику, оправила на немъ пиджачекъ, повернула кругомъ раза два и сказала:
– Ничего, сойдетъ… Ну, теперь пей проворнѣе чай, меня напой и ѣдемъ… Все у тебя уложено?
– Все, мама…
Мальчикъ сѣлъ къ столу и проворно, привычными руками принялся заваривать чай, рѣзать хлѣбъ, мыть посуду. Хоть бы и не мальчику такъ ловко женское дѣло дѣлать.
Чай былъ налитъ. Пожилая женщина взяла свою чашку и задумчиво мѣшала ложечкою.
Мальчикъ и себѣ напилъ въ чашку чаю, но не пилъ, а смотрѣлъ на мать, видимо желая что-то спросить и не смѣя.
– Мама? – наконецъ проговорилъ онъ.
– Что?
– Зачѣмъ этотъ маскарадъ, мама? He для потѣхи же ты одѣла меня мальчикомъ, не для шутки потратила на него изъ послѣднихъ денегъ пятнадцать рублей, да девять на сапоги… Зачѣмъ я одѣлась мальчикомъ, мама?
Женщина отодвинула нетронутую чашку съ чаемъ, вздохнула, прошлась по комнатѣ, опять сѣла и быстро, рѣшительно начала говорить:
– Да, я скажу тебѣ, Вѣра, все… Все я скажу тебѣ, слушай… Я вышла замужъ противъ воли моего отца, а твоего дѣда… Онъ прогналъ меня изъ дому и не велѣлъ матушкѣ моей пускать меня на глаза… Онъ былъ суровый, жестокій старикъ, не тѣмъ будь помянутъ… Я жила съ мужемъ въ Москвѣ и терпѣла страшную нужду; мужъ не имѣлъ мѣста, ему не давали его по просьбѣ отца, человѣка очень богатаго и сильнаго… У меня родился ребенокъ, сынъ Вася… Мать кое-какъ урвалась изъ дому, навѣстила меня, дала кое-что, а затѣмъ мужъ получилъ мѣсто, сперва въ Твери, а потомъ здѣсь, въ Рыбинскѣ, и мы кое-какъ жили, но недолго: мужъ умеръ, а за нимъ умеръ по второму годочку и сынъ мой Вася… Я осталась одна безъ всякихъ средствъ и…
Женщина залпомъ выпила остывшій чай.
– И сошлась съ однимъ пароходчикомъ… полюбила его… Ты была нашимъ первымъ и единственнымъ ребенкомъ…Твой отецъ скоро бросилъ меня, уѣхалъ куда-то далеко, и я опять осталась одна… Я ничего не писала матери своей, не давала о себѣ вѣсточки… Она бы прокляла меня, если бы узнала, что я внѣ брака прижила ребенка… Она тоже суровая и жесткая старуха… Мы жили съ тобою, ты знаешь какъ. Я шила, имѣла работу, ростила тебя, образовывала тебя, какъ могла и мечтала выдать тебя замужъ… Вдругъ я узнаю стороною, что отецъ мой умеръ и мать ищетъ меня… Мы ѣдемъ къ ней въ Москву…
– Къ моей бабушкѣ? – спросила Вѣра, слушая разсказъ съ напряженнымъ вниманіемъ, широко раскрывъ большіе темносиніе глаза.
– Да… Бабушка твоя знаетъ, что я овдовѣла, имѣя сына, и я… я должна пріѣхать къ ней съ сыномъ… Ты понимаешь?… Ты мальчикъ, мальчикъ Вася, Вася Байдаровъ… Ты поняла?
– Поняла, – прошептала дѣвушка.
– Ну, вотъ… Въ моихъ бумагахъ значится, что я вдова мещанина Байдарова, а сынъ Василій вписанъ… подложно: мнѣ тутъ устроилъ это одинъ пропойца, бродяга одинъ; я ему заплатила за это изъ послѣднихъ грошей пятьдесятъ рублей… Вѣра, ты должна понять этотъ обманъ и не должна осуждать меня… У твоей бабки милліонъ капитала, и онъ будетъ твой…
– Милліонъ?!… – воскликнула дѣвушка.
– Да… Она стара, а сынъ ея дочери единственный наслѣдникъ. Она любила новорожденнаго Васю, хотѣла имѣть внука и теперь будетъ имѣть…
– Внучку, – тихо и несмѣло сказала дѣвушка.
– Внука! – строго энергично воскликнула мать.- Слышишь ты? Внука!… Ты мальчикъ, Вася, и помни это!… Если ты не сумѣешь сыграть эту роль – ты погубишь и меня, и себя, а если… если у тебя хватитъ умѣнья – мы будемъ имѣть милліонъ!…
У матери сверкнули глаза.
– Ты знаешь ли, что такое милліонъ?… Нѣтъ, ты не знаешь!… Я видѣла золото, хоть издали, я слышала его звонъ, я знаю, какую силу, какую страшную силу имѣетъ оно!… Я отказалась отъ него, полюбивъ, увлекшись, но теперь я страстно, страстно хочу имѣть его… для тебя!… – поправилась женщина.
– Ахъ, какъ страшно это, мама! – воскликнула дѣвушка.
– Что?
– А вотъ эта игра наша… И страшно и заманчиво… Точно романъ… А вдругъ бабушка узнаетъ?
– Она не должна узнать, или ты мнѣ не дочь!… Она стара, она задавлена жизнью съ дикимъ, безпощаднымъ мужемъ; она, чай, изъ ума выжила, а родни у нея нѣтъ… Она не узнаетъ, и… она скоро умретъ: ей болѣе семидесяти лѣтъ… Но намъ пора…
Женщина встала и взглянула на часы, висѣвшіе въ сосѣдней комнатѣ.
– Черезъ часъ мы ѣдемъ, а къ тому времени потемнѣетъ… Ты одѣнь кафтанчикъ, а сверху – свою тальму, чтобы хозяйка не увидала тебя въ этомъ костюмѣ… Мы отпустимъ извозчика, не доѣзжая до вокзала, и ты отдашь мнѣ тальму, ты станешь мальчикомъ!…
Женщина подошла къ этому „мальчику“, положила ему руки на плечи и заговорила:
– Вѣра, помни, что мы ѣдемъ получать богатство!… И мы получимъ его, уѣдемъ куда-нибудь далеко, и мальчикъ Вася умретъ… останется хорошенькая богатая Вѣра Матвѣева, какъ ты записана въ книгахъ… Ты будешь не законнорожденная дочь купца Вертунова, который бросилъ и тебя и твою мать, но у тебя будетъ милліонъ состоянія!… Ахъ, Вѣра, если бы ты знала, какъ хорошо быть богатою!…
Она оттолкнула дочь.
– Ѣдемъ же, собирайся!… Уложи всѣ эти вещи наши, накинь тальму, шляпу свою прикрой платочкомъ и ѣдемъ…
– А если на вокзалѣ насъ кто-нибудь увидитъ, мама? – вся замирая отъ волненія, страха и робкаго восторга спросила дѣвушка.
– А, вздоръ!… Кто насъ знаетъ-то тутъ, нищихъ? Будетъ темно, мы сядемъ въ вагонъ… А потомъ… потомъ въ Москву, Вѣра!…
Часа черезъ два отъ Ярославля отошелъ пассажирскій поѣздъ въ Москву. Среди пассажировъ второго класса можно было замѣтить красивую женщину среднихъ лѣтъ, ѣдущую съ хорошенькимъ мальчикомъ. Женщина называла этого мальчика Васею.
Утромъ, на другой день, женщина съ мальчикомъ была въ Москвѣ, и читатели видѣли ихъ пріѣздъ.
Ночь настала послѣ знаменательнаго пріѣзда дорогихъ гостей къ старухѣ Ярцевой.
Успокоилось все въ домѣ, затихло. Крѣпко спятъ убѣгавшіяся за день старуха-горничная и Завариха. Даже сама Ольга Осиповна, страдающая обыкновенно безсонницею, заснула сегодня сладкимъ сномъ, какъ давно не спала. Спитъ въ отведенной для дорогихъ гостей комнатѣ крѣпкимъ сномъ молодости „внучекъ“ Ольги Осиповны.
He раздѣвшись легъ онъ въ свою кровать, уткнулся лицомъ въ подушку, смочилъ ее слезами, затихъ, да такъ и заснулъ. Во снѣ ужъ перевернулся на спину, раскинулся, разметался и спитъ, какъ убитый. Должно быть, сонъ видитъ, потому что улыбка у него на полуоткрытыхъ губахъ, а длинныя черныя рѣсницы вздрагиваютъ. Вотъ-вотъ засмѣется мальчикъ, захохочетъ. Свѣтъ отъ лампады передъ образомъ падаетъ на хорошенькое личико мальчика и освѣщаетъ всю фигуру его, стройную, изящную, хрупкую фигуру…
Спитъ мальчикъ, укачало его дорогою, а день такъ много далъ новаго, неисполненнаго, неиспытаннаго.
Мать вотъ его не спитъ.
Взбили для дорогой гостьи пуховикъ чуть не до потолка, подушекъ кругомъ накидано чуть не дюжина, простыня батистовая, одѣяло мягкое, шелковое, – не грѣетъ оно тѣло въ эту теплую, душную даже ночь, a только нѣжитъ, ласкаетъ, холодитъ немного. Хорошо спать въ такой постели, особенно послѣ долгой дороги и послѣ хорошаго ужина, а не спитъ Анна Игнатьевна, глазъ еще не свела ни на одну минуту.
Облокотилась бѣлыми красивыми руками о подушку, положила на ладони подбородокъ и смотритъ куда-то въ одну точку, словно остановившимися, глазами.
He спитъ…
Да и какъ ей спать? Хорошо сознаетъ она, что задумала дѣло опасное, рискованное, отчаянное. Легкое ли дѣло – дочку свою незаконную за законнаго сына выдать!…
Ну, бабушка стара, слѣпа стала, долгое горе пригнуло ее къ землѣ, отняло силы и, пожалуй, не догадаться ей, не замѣтить подлога, но, вѣдь, другіе могутъ замѣтить. Вотъ приживалка эта, Фіонушка, какъ она впивается глазами въ гостей, которые, вѣроятно, досадны ей, поперекъ дороги встали. Эта живо можетъ замѣтить… Что тогда будетъ?…
Какъ дошла до этого вопроса Анна Игнатьевна, такъ и охватило ее ужасомъ, застонала даже она, какъ отъ физической боли…
III.
Бѣда будетъ тогда… Срамъ будетъ, скандалъ, быть-можетъ судъ, но не это страшно Аннѣ Игнатьевнѣ, не этого она боится… Жутко ей отъ этой мысли потому, что не достигнется цѣль, а цѣль ея – наслѣдовать отцовское богатство. Милліонъ послѣ отца остался. Милліонъ!… Вѣдь это такъ много денегъ, такъ много, что съ такими деньгами можно всего достигнуть!… Настрадалась Анна Игнатьевна, намучилась, натерпѣлась нужды и хочется ей пожить… о, какъ хочется!…
– He для себя я стараюсь, а для дочки, для Вѣры, – говоритъ сама съ собою Анна Игнатьевна. – Ей пусть поживется хорошо…
И лжетъ Анна Игнатьевна, сама себя обманываетъ: дочка у нея на второмъ планѣ, самой ей хочется пожить и вкусить сладость богатства… Зажмурится Анна Игнатьевна, и начнутъ передъ ней, какъ въ стереоскопѣ, мелькать картины въ радужныхъ краскахъ… Сколько свѣта, радости, блеска въ этихъ картинахъ!…
Богата она, свободна, независима… Главное – богата. Богатство дастъ ей возможность отдохнуть, почувствовать себя счастливою, а за этимъ непремѣнно придетъ и чувство самодавольства, здоровье придетъ, увядшая раньше времени красота расцвѣтетъ опять и, быть можетъ, любовь придетъ съ нею…
Надо, надо добиться своей цѣли, во что бы то ни стало!… Ахъ! еслибъ Вѣра выдержала до конца, еслибъ сумѣла обмануть старую бабушку!… He выдержитъ, пожалуй, не сумѣетъ, молода еще, глупа, да нѣтъ у нея жажды къ богатству, не умѣетъ она цѣнить его, не знаетъ его силы.
Вотъ проснулась она, подняла головку, оглядѣла комнату.
– He спишь, Вѣра? – тихо спросила мать.
– Нѣтъ, мама… Крѣпко спала, да сонъ какой-то страшный приснился, ну, и проснулась… А вы почему не спите, мама?
– Такъ, не спится что-то… Иди сюда, Вѣра, садись у меня на кровати… He Вѣра, впрочемъ, а Вася, мальчикъ Вася, сынокъ мой…
Дѣвушка подошла къ матери и сѣла у нея на кровати.
– Страшно, мама, боюсь я!… – тихо проговорила она.
– Сна?
– Нѣтъ, мама, не сна, а дѣйствительности… Сонъ что? сонъ приснится, да и пройдетъ, а вотъ дѣйствительность-то… Очень, мама, страшно и очень тяжело!… Если возможно… то освободи меня, мама, отъ всего этого.
– Ты съ ума сошла!… – почти прикрикнула Анна Игнатьевна и даже привстала. – И думать объ этомъ не смѣй!… Слышишь?… Все счастіе наше, вся жизнь наша въ этомъ, а ты говоришь: освободить тебя!…
– Да если силъ моихъ не хватаетъ, мама, продолжать эту комедію, этотъ обманъ?…
– Вздоръ!… – сурово перебила мать.
– Нѣтъ, мама, не вздоръ… He вздоръ обманывать старуху, бабушку, которая…
Голосъ дѣвушки дрогнулъ, словно кто-нибудь ее за горло схватилъ, на глазахъ сверкнули слезы.
– He вздоръ, мама, такъ жестоко обманывать… Бабушка ожила, счастье полное испытываетъ отъ того, что къ ней внучекъ пріѣхалъ, ласкается къ нему, любитъ его, а это… это не внучекъ, а обманщица, самозванка, которая ворвалась въ ея душу и хочетъ… хочетъ обманывать, ложью украсть у старухи и любовь, и деньги… Это не вздоръ, мама, и у меня… у меня не хватитъ на это силъ…
Анна Игнатьевна сѣла въ кровати и схватила дѣвушку за руку.
– He дури, Вѣра! – грозно сказала она, злыми глазами глядя на дочь. – Слышишь?… Ты знаешь меня – я шутить не люблю… Я тебя люблю, очень люблю, но если ты помѣшаешь мнѣ добиться цѣли, къ которой я шла многіе годы – пощады тебѣ не будетъ… Глупая ты, сантиментальная дѣвченка, пойми, какое счастье-то къ намъ придетъ!… Богаты будемъ, свободны, свѣтъ увидимъ, жизнь, насладимся всѣмъ…
– И купимъ это обманомъ, – горько усмѣхнулась дѣвушка.
– Невиннымъ обманомъ!… Какъ не понять-то этого? Старухѣ хочется внука, хочется на склонѣ лѣтъ любить кого-нибудь, ласкать, и вотъ къ ней приходитъ этотъ внукъ, любитъ она его, счастлива, довольна, такъ чего же ей еще?… Ты въ ея глазахъ внучекъ ея, мальчикъ Вася, стало быть, ей хорошо, и жалѣть ее нечего…
– А если обманъ откроется? Если она узнаетъ, что это не Вася?… Вѣдь это ужасъ, ужасъ что будетъ, мама… Ей перенести такой обманъ будетъ тяжелѣе смерти внука…
– Ахъ вздоръ!… Во первыхъ, никогда никто не узнаетъ подлога, это ужъ мое дѣло, и ты только должна во всемъ слушать меня, а во вторыхъ, еслибъ она и узнала, любовь къ тебѣ, которую ты вызовешь въ ней, не пропадетъ отъ этого… Она будетъ любить тебя, вотъ это лицо твое, глаза эти, волосы, тѣло это, душу, – такъ не все ли ей равно какъ зовутъ то, что она любитъ? Пусть это будетъ Вася или Вѣра – это все равно…
– Нѣтъ, мама, нѣтъ!… Она полюбитъ внука Васю, а не меня и какъ только этого внука Васи не будетъ – любовь пропадетъ.
– Ну, будетъ объ этомъ! – Повелительно остановила мать. – Дѣло рѣшенное, и ты должна дѣлать то, что я приказала тебѣ… Ложись спать, я тоже хочу заснуть… Ступай и помни, что мы должны поступать такъ, или мы погибли!… Помни и то, что я никогда не прощу неповиновенія, а тѣмъ болѣе – неблагодарности…
Анна Игнатьевна слегка оттолкнула дочь, повернулась къ стѣнѣ, закрылась одѣяломъ и показала видъ, что засыпаетъ, а дѣвушка медленно дошла до своей кровати, присѣла, сложила руки на колѣняхъ, свѣсила голову и въ такой позѣ просидѣла до самаго утра.
Ожила пустынная замоскворѣцкая улица, ожилъ затѣмъ и домъ…
Черезъ полчаса Вѣра сидѣла уже съ бабушкою за самоваромъ и разсказывала ей о своемъ житьѣ-бытьѣ, о томъ, какъ она, то-есть не она, а мальчикъ Вася, – училась, какъ хотѣла видѣть бабушку, какъ любила ее, не зная еще.
Вчерашнее наставленіе матери, должно быть, не пропало даромъ – дѣвушка говорила хорошо и превосходно играла свою роль, а въ ловкомъ, тоненькомъ, кудрявомъ мальчикѣ, къ которому такъ шелъ костюмъ и такъ ловко сидѣлъ на немъ, никто бы не заподозрилъ дѣвушки…
Такъ пошли дни за днями.
Ольга Осиповна привязывалась ко внучку все болѣе и болѣе, любила его съ той силою, которая можетъ явиться лишь у женщины, не любившей еще никого, не испытавшей еще чувства привязанности. Отъ матери-природы, вѣроятно, каждому человѣку отпущена извѣстная доля любви, и доля эта расходуется въ теченіи всей жизни человѣка съ большей или меньшей равномѣрностью; если же остается въ экономіи до конца дней, то отдается всецѣло тому послѣднему, котырый долженъ получить ее.
Въ жизни Ольги Осиповны этотъ „послѣдній“ – былъ внукъ Вася, и ему отдала она весь запасъ не израсходованной любви.
Любовь эта наполняла теперь жизнь старухи; но человѣка, которому любовь отдавалась, она не только не радовала, а, напротивъ, приносила одно лишь горе. Это было похоже на то, еслибъ честному человѣку, принимая его за другого, кто нибудь отдавалъ долгъ, принадлежащій этому другому. Человѣкъ по странно или страшно сложившимся обстоятельствамъ беретъ этотъ долгъ, но не радуется, а страдаетъ, чувствуя себя воромъ, обманщикомъ, негодяемъ.
Такое именно чувство испытывала Вѣра, фигурирующая въ роли любимаго внука, по стольку Вѣрѣ было тяжело это и больно. А Ольга Осиповна, какъ нарочно, съ каждымъ днемъ увеличивала и увеличивала свои заботы о внукѣ. Такъ, напримѣръ, до сихъ поръ, ведя самый уединенный образъ жизни, старуха выѣзжала лишь въ церковь, а къ себѣ принимала только священниковъ, да изрѣдка племянницу Заварихи „модную дѣвицу” Настеньку. Теперь же она пожелала возобновить давно забытыя знакомства и для этой цѣли, сюрпризомъ для дочки и внука, завела новый экипажъ, лошадей, и наняла кучера. Роль послѣдняго до сихъ поръ замѣнялъ древній старикъ Акимычъ, который возилъ воду, свозилъ зимою со двора снѣгъ и имѣлъ для этой цѣли, равно какъ и для парадныхъ выѣздовъ, одного сиваго коня, стараго, неповоротливаго и не державшаго тѣло. Теперь въ конюшнѣ ржали и били передомъ два рьяные коня, a пo двору расхаживалъ щеголь кучеръ съ папироскою въ зубахъ и съ явнымъ желаніемъ влюбить въ себя всѣхъ сосѣднихъ горничныхъ и кухарокъ. Читатель можетъ себѣ представить, какъ была рада этому сюрпризу Анна Игнатьевна! Она поблагодарила мать, но объявила что „Вася“ пока не можетъ пользоваться любезностью бабушки, и выѣзжать не будетъ: онъ боленъ, у него какая-то странная болѣзнь, и докторъ не велѣлъ ему бывать въ обществѣ, предписавъ полнѣйшее уединеніе.
Эта спасительная ложь привела къ новымъ осложненіямъ.
– Боленъ? – тревожно спросила старуха, привлекая къ себѣ Вѣру и лаская ее. – Боленъ мальчикъ? Такъ доктора надо, Аннушка, ему. Здѣсь, не Ярославль вашъ, а Москва, столица! здѣсь есть знаменитые доктора, есть такіе, что по сто рублей за разъ берутъ, да ужъ за то и вылѣчатъ!… Непремѣнно надо Васеньку къ такимъ докторамъ повезти…
И Аннѣ Игнатьевнѣ стоило большого труда отстоять Вѣру отъ доктора, для чего пришлось придумывать множество различныхъ причинъ.
Трудно было уговорить старуху и отъ желанія повезти внука по знакомымъ. Тутъ опять пришлось лгать, сочинять, изворачиваться, но Анна Игнатьевна и въ этомъ дѣлѣ одержала побѣду; Вѣру старуха оставила въ покоѣ и только отъ племянницы „Заварихи”, Настеньки, не возможно было отдѣлаться.
„Модная дѣвица“ вошла и сдѣлалась своимъ человѣкомъ въ домѣ.
Это была дѣвица интересная.
Оставшись сиротою послѣ родителей, мелкихъ торговцевъ, Настенька, когда ей было лѣтъ пять, перешла къ тетушкѣ своей „Заварихѣ”, и та сосредоточила на ней всю любовь свою, всю увядающую нѣжность старой дѣвы, въ силу той же необходимости расходовать куда-нибудь свою любовь, о чемъ я говорилъ выше. Любовь – мощная сила: она живитъ, какъ любящаго, такъ и любимаго человѣка; но любовь „Заварихи“, была особенная любовь, любовь, основанная на тщеславіи. Старухѣ хотѣлось создать изъ племянницы „барышню“, даже – „аристократку“. Подъ словомъ же этимъ въ Замоскворѣчьѣ подразумѣвается дѣвица или дама, нарядно одѣтая, умѣющая бренчать на рояли, знающая два-три слова по французски и непремѣнно – „манерная“. Всего этого и стала добиваться „Завариха“. Она отдала Настеньку въ частный пансіонъ, гдѣ изъ каждой дѣвочки черезъ два-три года фабриковали нравственнаго, а порою физическаго уродца, ломающагося, говорящаго въ носъ, томно закатывающаго глазки и смотрящаго на міръ Божій шиворотъ на выворотъ. При этомъ, дома Настенька съ утра и до вечера слушала сплетни, вводилась въ курсъ интимной жизни чуть ли не всего московскаго купечества и пріучалась жить подачками отъ „благодѣтелей“, ничего не дѣлая, но непремѣнно желая и конфекты кушать, и турнюры носить, и бархатную ротонду имѣть, и ѣздить по театрамъ. Въ свободное отъ сплетенъ время Настенька читала романы Понсонъ-дю-Терайля и фельетонные романы изъ жизни французскихъ маркизовъ, испанскихъ грандовъ и итальянскихъ бандитовъ.
Такова была Настенька.
Она пришла въ домъ Ольги Осиповны вскорѣ послѣ пріѣзда Анны Игнатьевны и Вѣры, шикарно одѣтая, раздушенная и съ видимымъ желаніемъ не только произвести впечатлѣніе на провинціаловъ, но и „убить“ ихъ своимъ столичнымъ шикомъ. О Васѣ она слышала отъ тетки, что это „мальчишка не образованный” и гордый, ибо все молчитъ и дуется. Его-то, этого „мальчишку“, и хотѣла особенно поразить „модная дѣвица“.
Но „модная дѣвица“, какъ и всѣ такія „понсондютерайловскія“ дѣвицы, была очень влюбчива, а потому красота „мальчишки“ произвела на нее впечатлѣніе. Манерничая и дуясь, „какъ мышь на крупу“, Настенька очень скоро начала таять и, оставаясь съ Вѣрой наединѣ, начала льнуть къ ней и нѣжничать. Вѣру забавляло это и немного смущало, но затѣмъ она сошлась съ Настенькою, не открывая своего пола, и полюбила ее, привязалась къ ней, какъ единственному существу, съ которымъ можно было поговорить по душѣ, поболтать, пошалить. Вѣра охотно и очень скоро бы сказала Настенькѣ, что я-де не мальчикъ-Вася, a дѣвушка-Вѣра, подруга твоя, и будемъ мы подругами, но боялась матери и оставалась „мальчикомъ“. Какъ мальчика, хорошенькаго, граціознаго, милаго мальчика, и любила ее Настенька.
Стала она бывать у Ярцевыхъ часто, почти каждый день, и все болѣе и болѣе влюблялась въ „душку-Васю“, какъ она мысленно называла Вѣру.
„Завариха“ замѣчала чувства племянницы и всѣми силами старалась развить ихъ, старалась какъ можно болѣе сблизить молодыхъ людей и мечтала, сладко мечтала о возможности выдать Настеньку за наслѣдника милліоновъ…
IV.
У Вѣры съ первыхъ же дней пребыванія ея въ домѣ бабушки появилась совершенно отдѣльная комнатка въ антресоляхъ. Это была „своя собственная“ комнатка, это былъ завѣтный уголокъ, въ которомъ Вѣру никто не безпокоилъ. Бабушка не могла ходить туда по причинѣ крутой и высокой лѣстницы, мать все время была занята закупками разныхъ, вдругъ понадобившихся, вещей и точно позабыла дочь; „Завариха“ не смѣла идти наверхъ къ „гордому мальчику“, а прислуга рада-радехонька была не ходить туда, благо „хозяйскій внучекъ“ не требовалъ услугъ и самъ управлялся со всѣмъ своимъ несложнымъ дѣломъ, а когда ему нужно было что-нибудь, онъ легко и быстро, никого не безпокоя, сбѣгалъ внизъ и тамъ уже приказывалъ подать себѣ нужную вещь.
Одна Настенька навѣщала „красавчика Васю“ въ его комнаткѣ и очень-очень любила эту комнатку.
Это былъ очень милый уголокъ и совсѣмъ не походилъ на жилище юноши.
Эта была комната благовоспитанной и обладающей вкусомъ дѣвушки. У стѣны, налѣво отъ входа, стояла узенькая, чистенькая кроватка съ горкою подушекъ, закрытыхъ днемъ вышитою ширинкою. У кровати стоялъ ночной столикъ, а напротивъ – столикъ туалетный съ зеркальцемъ, съ принадлежностями туалета, съ вазою, въ которой всегда помѣщался букетъ свѣжихъ цвѣтовъ. По другимъ стѣнамъ были расположены въ чинномъ порядкѣ старинные стулья краснаго дерева, на которыхъ стояла лампа подъ розовымъ абажуромъ, лежали книги, альбомы. Еще много книгъ было на этажеркѣ, на комодѣ, а среди этихъ книгъ стояли статуэтки, вазочки, собранныя по пустыннымъ комнатамъ и имѣющія тутъ видъ цѣлой коллекціи.
Въ ногахъ кровати, въ узенькомъ простѣнкѣ, висѣло платье Вѣры, мужское платье, сшитое уже у бабушки.
Вѣра жила одиноко, однообразно, но не скучала.
Она много читала, даже быть можетъ, слишкомъ много, гуляла въ тѣнистомъ саду бабушки, ѣздила иногда кататься съ матерью или съ Настенькою и съ Настенькою же проводила большую часть дня.
– Ровно братецъ съ сестрицею живутъ, – сладко говорила „Завариха“, любуясь на молодежь.
– То-то „братецъ съ сестрицею“! – сурово замѣчала на это Ольга Осиповна. – He обучила бы мальчика глупостямъ какимъ твоя Настасья верченая… Дѣвка егоза, звѣзда дѣвка, а онъ, вишь какой – ребеночекъ чистый…
– Ахъ, чтой-то, матушка, – протестовала Завариха, – у меня Настенька дѣвушка умная, тонкая дѣвица, съ образованіемъ… Она Васеньку вашего манерамъ обучитъ, разговорамъ свѣтскимъ.
Бабушка немного косилась на сближеніе внучка съ „модной дѣвицею“, но серьезнаго въ этомъ сближеніи ничего не видѣла и лишать „мальчика“ общества Настеньки не хотѣла, зная, что оно не надолго, что Вася вотъ привыкнетъ немного и войдетъ въ „настоящій кругъ“, въ кругъ, подобающій наслѣднику милліона.
И Настенька продолжала бывать каждый день, не разставаясь съ Вѣрою ни на минуту. Они читали вмѣстѣ, вмѣстѣ гуляли, порою шалили и бѣгали, какъ дѣти.
Былъ дождливый сѣренькій денекъ. По небу ползли сѣрыя, непривѣтливыя, дождь и непогоду сулящія, тучи; въ окна барабанилъ дождь; въ саду уныло, сонъ и тоску нагоняя, шумѣли липы, тополи и березы. Вороны каркали въ саду и вдругъ, когда дождь переставалъ на нѣсколько минутъ, съ шумомъ снимались съ мѣста, кружились въ воздухѣ, оглашая его крикомъ, и снова усаживались по деревьямъ, накаркавъ дождя.
Въ такую непогодицу хорошо сидится дома, читается, а еще лучше говорится. Вотъ и засѣли въ комнаткѣ антресолей Вѣра, въ роли юноши Васи, и Настенька – „модная“ племянница Заварихи.
Вѣра усѣлась на диванъ, ноги подъ себя подогнула, положила головку на руку и слушала чтеніе Настеньки, а Настенька изысканно одѣтая, тщательно причесанная, надушенная, сидѣла въ большомъ креслѣ и читала какой то романъ, разсказывающій похожденія благороднаго и юнаго графа, оказывающаго благодѣянія поселянамъ и влюбленнаго въ одну изъ поселянокъ, которая впослѣдствіи и дѣлается графинею и поражаетъ Парижъ красотою и роскошью туалетовъ.
Настенька читала съ наслажденіемъ, захлебываясь отъ восторга въ тѣхъ мѣстахъ романа, гдѣ юная графиня плѣняетъ красавцевъ виконтовъ, маркизовъ и графовъ красотою и туалетами.
Вѣра слушала невнимательно, шалила, бросая въ чтицу шариками изъ бумаги, и наконецъ, вскочила и вырвала у Настеньки книгу. Чуткій, неизвращенный умъ дѣвушки подсказывалъ ей, что это все „неправда“, что все это выдуманное и фальшивое.
– Будетъ читать, Настенька, бросьте! – сказала она, отнимая книгу.
– Развѣ вамъ не нравится, Вася? – спросила Настенька.
– Нѣтъ… Это все не такое, какъ бываетъ, это все выдумано. Поговоримъ лучше о чемъ нибудь…
Настенькѣ живой „красавчикъ Вася“ былъ пріятнѣе книжныхъ графовъ, и она не жалѣла о романѣ. Она перешла съ Васею на диванъ и съ кокетливою улыбкою глядѣла на юношу.
– Вотъ, Васенька, вамъ бы быть графомъ, – сказала она.
– Мнѣ?! – засмѣялась Вѣра. – Хорошъ бы былъ графъ!…
– Конечно же хорошъ!… Я воображаю, какъ бы къ вамъ пошелъ изящный модный костюмъ, фракъ, напримѣръ или, напримѣръ, мундиръ… Я даже удивляюсь, почему вы не носите модныхъ костюмовъ… Положимъ, къ вамъ и этотъ очень идетъ, вы точно картинка, но все же модный туалетъ лучше…
Вѣра окинула себя взглядомъ.
– А мнѣ такъ больше нравится… – сказала она и вдругъ засмѣялась.
– Что вы смѣетесь? – спросила Настенька.
Вѣра ничего не отвѣтила ей и продолжала громко смѣяться.
Самолюбивую и очень мнительную Настеньку очень обидѣлъ смѣхъ Вѣры. „Модная дѣвица“ приняла этотъ смѣхъ на свой счетъ и надула губки.
– Я удивляюсь на вашъ смѣхъ! – обиженнымъ тономъ проговорила она: – вы, вѣроятно, надо мною смѣетесь.
– Ахъ, нѣтъ! – поспѣшно проговорила Вѣра. – Какъ вамъ не грѣхъ думать это, Настенька?… Вы, я думаю, сами хорошо знаете, что въ васъ нѣтъ ничего смѣшного…
– Такъ надъ чѣмъ же вы смѣялись?… Навѣрное надъ тѣмъ, что я предложила вамъ одѣваться по модѣ? Тутъ нѣтъ ничего смѣшного…
– Да нѣтъ же, нѣтъ, вовсе не надъ этимъ!… Я смѣюсь надъ тѣмъ, что мнѣ пришло въ голову…
– Напримѣръ? – спросила Настенька, все еще не успокоившаяся.
– Мнѣ пришло въ голову, что я буду, должно-быть, не дуренъ, знаете, въ какомъ костюмѣ?
– Въ какомъ?
– Въ женскомъ.
Настенька улыбнулась успокоенная, кажется, насчетъ смѣха.
– Да, я думаю, что вы въ платьѣ будете хорошенькою дѣвушкою, Васенька…
– Ну, не знаю, хорошенькою ли, а на дѣвчонку похожъ буду… Смотрите, я какой… Развѣ мужчины такіе бываютъ?
– Вы… вы душка, я одно только знаю!… – краснѣя не отъ застѣнчивости, а отъ прилива любви, проговорила Настенька. – Я вамъ говорю это, какъ другу…
– Спасибо, голубочка Настя, но я не заслуживаю этого…
Вѣра встала, въ два прыжка очутилась у зеркала, поглядѣла на себя, обернулась къ Настенькѣ и шаловливо-кокетливо проговорила:
– Знаете что, Настенька? – устроимъ маскарадъ…
– Маскарадъ? – удивилась дѣвушка.
– Да… Я надѣну ваше платье и покажусь вамъ… Я почти такого роста, какъ и вы, и фигура у меня такая же… Хотите?…
Настенька засмѣялась.
– Охотно, Васенька, но не досталось бы намъ отъ бабушки за эту шалость…
– Ничего, ничего!… Во-первыхъ, она не узнаетъ, а во-вторыхъ, она меня такъ любитъ, что все мнѣ проститъ… Дайте мнѣ ваше платье, дайте, я непремѣнно хочу этого!…
– Но что же я одѣну, Васенька?… Я не хочу одѣваться въ вашъ костюмъ, я боюсь бабушки…
– Я сейчасъ принесу вамъ платье, и вы четверть часа побудьте въ немъ… Сію минуту…
И не дожидаясь согласія Настеньки, Вѣра побѣжала внизъ и въ мигъ вернулась съ какимъ то капотомъ матери.
– Вотъ, одѣвайте, а мнѣ дайте ваше платье! – почти повелительно сказала она.
Той самой хотѣлось поглядѣть на „красавчика Васю“ въ дамскомъ туалетѣ, и она охотно согласилась, хотя и побаивалась, чтобъ затѣя не стала извѣстна бабушкѣ… Ольгѣ Осиповнѣ, конечно, не могла понравиться шалость внучки, и шалость эта могла быть приписана, именно, Настенькѣ.
Но Вася настаивалъ, затѣя была любопытна, оригинальна, и Настенька согласилась.
Она ушла въ корридоръ, переодѣлась тамъ и принесла свое платье Вѣрѣ.
– Одѣвайтесь, шалунъ, – сказала она, смѣясь, – но только вамъ не сладить, не одѣться…
– Слажу, не бойтесь: я часто одѣвался въ женское платье на святкахъ… Идите въ корридоръ, я васъ позову…
Волнуясь, лихорадочно торопясь, съ сверкающими глазами и часто-часто дыша, принялась Вѣра перемѣнять свой костюмъ мальчика на свойственное ей и хорошо знакомое женское платье. И это была не шутка, не капризъ это былъ.
Началось это съ шутки – вдругъ пришла такая мысль Вѣрѣ, но затѣмъ дѣвушка рѣшила воспользоваться этимъ „маскарадомъ“, какъ назвала переодѣванье Настенька, и открыть подругѣ свой полъ, открыть свою тайну.
Вѣру все время тяготилъ обманъ; не будь у нея веселой, живой и болтливой Настеньки, она, быть можетъ, давно не выдержала бы и открыла бабушкѣ „правду", нарушивъ строгіе завѣты матери. Постоянное общеніе съ бойкой Настенькою развлекало ее, оттягивало, такъ сказать, тяжелую мысль, но разъ эта мысль явилась, – Вѣра не могла противустоять ей, бросилась исполнить намѣреніе быстро, очертя голову, не спрашиваясь у разсудка, а лишь слушая сердце, которое не переносило обмана, которое желало любви не „обманной", то-есть не взятой путемъ обмана подлаго, а истинной.
– Настя любитъ меня, – думала Вѣра, быстро переодѣваясь, – такъ пусть она любитъ, именно меня, пусть она любитъ Вѣру, а не Васю… Я не хочу ее обманывать, не хочу!… Достаточно и одного обмана, обмана бабушки… To „необходимый обманъ“, говоритъ мама, – ну и пусть, пусть будетъ такъ, какъ хочетъ мама, а Настенькѣ я открою правду, я не хочу и ее обманывать… Она полюбитъ меня, какъ дѣвушку, какъ подругу, и мы будемъ дружны съ нею… Мнѣ легче будетъ, когда я буду имѣть хорошаго, милаго, вѣрнаго друга, которому все-все извѣстно… А обманывать и ее – у меня не хватаетъ больше силъ…
Вѣра быстро закончила привычный туалетъ, надѣла шляпу Настеньки, оправилась передъ зеркаломъ, и вся пунцовая отъ волненія и поспѣшности крикнула:
– Идите, Настенька, я готова… готовъ…
Настенька вошла и ахнула. Передъ нею стояла дѣвушка. Если въ мужскомъ костюмѣ Вѣра была женоподобнымъ хорошенькимъ мальчикомъ, то въ своемъ настоящемъ костюмѣ это была дѣвушка безъ малѣйшаго сходства съ мужчиною.
Это женщина, женщина стояла, а не переодѣтый мальчикъ.
Эти нѣжныя черты лица, эти краски, эта манера держать себя и носить костюмъ, эти мягкія округленныя линіи тѣла – все это было полно граціи и женственности…
V.
– Вася, да вы дѣвушка, вы красавица дѣвушка! – болѣе съ удивленіемъ, чѣмъ съ восторгомъ, воскликнула Настенька.
А Вѣра стояла, держась рукою за спинку стула, а другою поднимая немного длинную ей юбку Настенькинаго платья.
– Да? – улыбнулась она.
– Конечно! Пусть призовутъ сюда тысячу человѣкъ, и ни одинъ изъ нихъ не скажетъ, что вы мальчикъ!…
– И… и они будутъ правы, Настенька! – съ нѣкоторымъ усиліемъ проговорила Вѣра.
– Правы?
– Да…
Вѣра быстро подошла къ Настенькѣ, обняла ее, спрятала лицо на груди ея и плача заговорила:
– Я не Вася, Настенька, не мальчикъ я, а дѣвушка, дѣвушка я, Вѣра!… Полюбите меня, Настя, не отталкивайте меня, будьте моей подругою… Я очень несчастлива, Настенька, очень… я жертва даже… Да, я жертва корысти, жертва жадности къ деньгамъ… А вы меня принимали за мальчика?… Вы не сомнѣвались?… Ха, ха, ха… Мальчикъ Вася… ха, ха, ха!… Внучекъ, наслѣдникъ милліона… He отталкивайте меня, Настенька, полюбите меня!…
И Вѣра прижимала къ своей груди „модную дѣвицу“, цѣловала ее, смачивая слезами.
Вдругъ Настенька съ силою оттолкнула ее.
Вѣра отошла отъ Настеньки и глядѣла на нее съ изумленіемъ. Видъ подруги, которой она открыла сейчасъ свою тайну, поразилъ ее.
– Настенька, что съ вами? – заговорила она. – Вы оттолкнули меня, Настенька, вы сердиты на меня?… Что съ вами, Настенька?…
Вѣра подошла, было, къ подругѣ, но та опять отолкнула ее.
– Идите, оставьте меня! – съ неудержимою злобою сказала она. – Обманщица!…
Настенька вскочила, схватила Вѣру за руки повыше локтей, сжала ей руки до боли и полными ненависти глазами взглянула на нее.
– Дѣвушка, женщина ты!… А вѣдь я… я любила, я мужчину любила!…
И Настенька, не выпуская Вѣру, заплакала злыми, жгучими слезами.
– Любила, любила, а теперь… Теперь ненавижу я тебя… противна ты мнѣ!…
И Настенька такъ громко зарыдала, что Вѣра испугалась. Поспѣшно сняла она платье ея, одѣла опять свой костюмъ мальчика и, тревожно прислушиваясь, опасаясь, что вотъ-вотъ придетъ кто-нибудь снизу, стала говорить Настенькѣ добрыя, ласковыя слова.
– Прости мнѣ, милая, дорогая Настенька, прости… Я не знала, что это огорчитъ тебя такъ, не думала. Такъ ты любила меня? Любила, какъ женщина мужчину любитъ?… Влюблена была?… Бѣдная!… Ну, такъ забудь же меня, то-есть Васю забудь, мальчика, а люби меня, какъ я есть… А какъ я-то тебя любить буду, Настенька!… Вѣдь, я одинокая, Настя, совсѣмъ одинокая…
Вѣра пододвинупа стулъ къ стулу Настеньки, прижалась къ ней близко близко и обняла ее.
– Да, милочка, я одинокая! вѣдь, мама не любитъ меня… Я тебѣ по секрету это говорю… тайну тебѣ открываю. Мама вотъ приказала мнѣ быть Васею, приказала обманывать бабушку – и обманываю, слушаюсь, потому что я… боюсь мамы… Да, милая! да, я боюсь ее и только боюсь… Еще недавно я и любила маму, а теперь только боюсь… За что она меня мучаетъ такъ?… Это грѣхъ… Ей надо деньги бабушкины, и вотъ я мальчикомъ стала… Я обманываю, я дрожу каждую минуту, и открылась тебѣ потому, что мнѣ все же легче теперь: хоть одинъ человѣкъ да знаетъ правду, хоть съ однимъ человѣкомъ да могу я поговорить по душѣ, поплакать съ нимъ могу… Ты полюбишь меня, ты будешь моимъ другомъ и не выдашь меня… Да, Настенька, да?…
Настенька не плакала уже.
Она съ напряженнымъ вниманіемъ слушала Вѣру и тяжело дышала отъ волненія. На повторенный вопросъ Вѣры Настенька отвѣчала, что она прощаетъ, готова любить ее и не скажетъ никому про ея тайну.
– А теперь я пойду домой – я измучена, я сама не своя, – договорила она и встала.
Переодѣвшись, Настенька дѣйствительно ушла домой, давъ еще разъ слово и даже клятву – не выдавать Вѣру и полюбить ее.
На извозчикѣ, погоняя его и обѣщая прибавку, отправилась Настенька домой.
Тысячи думъ тѣснились въ головѣ дѣвушки, тысячи предположеній.
Тайна, которую она узнала сегодня, была такъ значительна, такъ велика, что оставить ее безъ извлеченія выгодъ, большихъ выгодъ, было бы глупо, чуть ли не преступно… Счастье въ руки ползло съ открытіемъ этой тайны; деньги сулила она, большія деньги… He стало Васи, не стало красавца-юноши, который впервые „настоящей“ любовью взволновалъ сердце хладнокровной, разсудительной „модной дѣвицы“, но за то являлась возможность хорошо наградить себя за понесенное горе, хорошо отомстить „дѣвченкѣ“, такъ жестоко обидѣвшей Настеньку.
Она вспомнила недавній случай въ Замоскворѣчьѣ, отчасти похожій на то, что случилось съ нею.
Недавно это было, года два. На одной изъ замоскворѣцкихъ улицъ жила вдова, лѣтъ за сорокъ, очень некрасивая, очень влюбчивая и очень богатая. Зная слабость этой вдовы влюбляться въ хорошенькихъ мальчиковъ, одни знакомые зло, жестоко подшутили надъ нею. Они устроили на Святкахъ костюмированный балъ и упросили одну барышню, стройную, хорошенькую шалунью, рѣзвую, какъ мальчикъ, и какъ мальчикъ остриженную – одѣться мальчикомъ-ямщикомъ и влюбить въ себя купчиху вдову. Шалунья согласилась.
Добыли костюмъ, надѣли на нее маску, а манеры мальчика у ней были свои собственныя. И вотъ, она явилась на балъ, прельстила влюбчивую вдову, вскружила ей голову, назвавшись пріѣхавшимъ изъ провинціи купчикомъ сиротою, и поѣхала ее провожать, обѣщаясь заговорщикамъ разсказать всѣ детали „комедіи“.
И не разсказала, даже не пріѣхала на все еще продолжавшійся балъ-маскарадъ. Ужъ потомъ узнали всю правду, и барышнѣ досталось до зла-горя.
Кончилась эта затѣя совсѣмъ неожиданно.
Когда вдовица, млѣя отъ нѣги и любви, привезла къ себѣ „хорошенькаго юношу“ и приказала подать чай, фрукты, вино, и когда, затѣмъ шалунья съ хохотомъ сняла маску и открылась, вдовица пришла въ ярость.
– А, такъ ты вотъ какъ! – вскипѣла она. – Ты надсмѣшки строить надо мною?… Надругаться?… Я-жъ тебя, негодницу!…
Барышня молила о пощадѣ, плакала, грозила, кричала, но вдовица, не взирая ни на что, собственноручно разложила ее и такъ „вспрыснула“, что барышня едва опомнилась въ каретѣ, которую вдовица любезно предложила ей послѣ угощенія.
Настенька находила, что ея положеніе отчасти похоже на положеніе одураченной вдовицы… Но не такъ она отомститъ, нѣтъ!… Она не дикарка старинной закваски, она „модная дѣвица“ и она не богачка. Она выгоду извлечетъ и изъ этого, хорошую выгоду…
Тетеньку бы только дома застать, ея умнаго, дѣловитаго совѣта спросить…
И очень, очень торопилась Настенька…
„Завариха“, рѣдко когда бывающая дома, сегодня чувствовала себя не совсѣмъ здоровою и никуда не пошла, никого не осчастливила своимъ посѣщеніемъ.
Настенька застала свою тетеньку за самоваромъ въ обществѣ одной свахи, большой пріятельницы „Заварихи“ и ближайшей ея помощницы.
Кумушки выпили рябиновки, хорошо закусили жалованными отъ „благодѣтелей“ соленьями и разными печеньями и кушали чай съ большимъ аппетитомъ, перемывая косточки своимъ ближнимъ.
Ураганомъ влетѣла Настенька и, не обращая вниманія на расточаемыя свахою похвалы и ласки, сказала теткѣ, что имѣетъ до нея важное дѣло.
– По секрету, Настенька? – спросилѣ „Завариха“.
– Да…
– При мнѣ говорите, красавица, при мнѣ всякій секретъ можно говорить и, все равно, какъ въ могилу, его схоронимъ, – запѣла сваха.
Но Настенька безъ церемоній перебила ее и велѣла уходить.
– Слушайте, ступайте, не могу я при васъ говорить! – рѣшительно отрѣзала „модная дѣвица“. – Погуляйте гдѣ-нибудь, а потомъ можете опять придти… Ступайте!…
Сваха не особенно охотно покорилась, не смѣя возражать бойкой и порою очень дерзкой барышнѣ.
– Что такое, Настенька, за секретъ у тебя? – сгорая отъ нетерпѣнья, спросила „Завариха“. – Должно быть, важное что-нибудь, ежели ты такъ спѣшно да неожиданно пріѣхала…
– Ахъ, тетя, такое важное, такое важное, что ужъ не знаю, и говорить-ли вамъ? – сказала Настенька, то ходя по комнатѣ, то усаживаясь за столъ, то порывисто выпивая чашку чаю.
– Чтой-то, Настенька, ты говоришь?… Теткѣ, да ужъ не сказать… Я первое дѣло, Настенька… я тетка твоя…
– Ладно ужъ, оставьте проповѣди-то!… – перебила Настенька. – Боюсь, я, что разболтаете по городу, вотъ что… Язычекъ то у васъ длиненъ очень… Хорошо, хорошо, не возражайте ужъ!… Скажу вамъ, но чтобы никому ни словечка… а скажете кому – не племянница я вамъ!… Слышите?…
– Да ладно, ладно, Настя!… говори ужъ скорѣе… Изнурила всю!…
Настенька сѣла рядомъ съ теткою, наклонилась къ ней и вполголоса, хотя въ комнатахъ никого и не было, проговорила:
– Знаете ли вы, кто такой Вася, внучекъ Ольги Осиповны?
– Кто?
– Дѣвушка, вотъ кто!…
Если бы „Завариху“ ударили чѣмъ-нибудь очень тяжелымъ и совершенно неожиданно, еслибъ въ комнатѣ разорвало бомбу, – не такъ была бы поражена и ошеломлена „Завариха“, какъ этимъ словомъ племянницы.
VI.
Отшатнулась „Завариха“, всплеснула руками, выкатила глаза и воскликнула:
– Какъ дѣвушка?… Что ты говоришь, Настенька?…
– Такъ, дѣвушка… Подлогъ сдѣлали, обманываютъ старуху, благо она изъ ума выживать стала… Узнала доченька то старухи, Анна то Игнатьевна, что мать овдовѣла и милліонами владѣетъ, ну и задумала тѣ милліоны въ свои руки захватить, а для этого… для этого свою незаконную дочь законнымъ сыномъ сдѣлала, дѣвушку Вѣру мальчикомъ Васей назвала, переодѣла, документъ фальшивый добыла и привезла въ Москву къ старухѣ внука желаннаго… Подлогъ удался, сами вы видѣли, сами дѣвченку за мальчика считали… да что вы съ Ольгой Осиповною?… Вы стары, глупы, правду надо сказать, – я… я не замѣчала подлога!… Ловкая дѣвченка эта Вѣра: тоненькая такая, волосы по-мальчишески обрѣзаны, ну и удался подлогъ… Можетъ быть, и никогда бы не догадались, да сама выболтала…
– Сама?… – задыхаясь отъ волненія и жадно ловя каждое слово племянницы, спросила „Завариха“.
– Да… Глупа еще, не понимаетъ ничего, не въ матушку, ну и выболтала…
– Да какъ же это она?… Какъ это себя въ наши руки отдала…
– Ну, это длинная исторія, вамъ дѣла до этого нѣтъ… Выболтала, и кончено…
– Вотъ ужасти-то, вотъ дѣла то!… Ахъ, Господи, Господи!… Ну, вѣсть ты мнѣ, Настя, принесла… ну, извѣстіе!… Слушаю и ушамъ своимъ не вѣрю!…
– He вѣрила и я, а-нъ правда все…
Настенька встала и взяла тетку за плечо.
– Все я сказала вамъ, тетя, великую тайну открыла, такъ помните же, что вы должны хранить эту тайну!… Счастье, большое счастье получимъ изъ этого дѣла!… Къ милліонамъ старухинымъ подойдемъ близко, до золота ея руками дотронемся!…
– Да, да… правда, правда!…
„Завариха“ дрожала отъ волненія, и глаза ея сверкали, какъ у молоденькой дѣвушки при первыхъ словахъ объясненія въ любви дорогого человѣка.
– Что-жъ мы дѣлать будемъ теперь, Настя? – спросила она.
– Надо обдумать, для этого и пріѣхала къ вамъ…
– Заявить надо „самой“…
– Ни-ни! – поспѣшно выкрикнула Настенька. – Никоимъ образомъ нельзя этого дѣлать…
– А что же надо по твоему?
– Подумаемъ… Скажемъ старухѣ – дѣло можемъ испортить.
– То-есть, чѣмъ же испортить?
– Ишь вы ошалѣли! – грубо воскликнула Настенька.
„Модная дѣвица“, манерничая и притворяясь голубкою при постороннихъ, съ теткою и „ненужными людьми“ была груба и дерзка.
– Я думала, что вы поумнѣе, за совѣтомъ ѣхала, а вы дичь говорите… Вѣдь, полюбила старуха дѣвченку-то эту переряженную, привязалась къ ней… Хорошо, если она разозлится на подлогъ, да турнетъ доченьку съ самозванкой ея, а если проститъ!… He все ли ей равно, кого любить то – мальчика или дѣвочку? Важно было обмануть сперва, а теперь, можетъ быть, и все равно…
– Да, правда, – согласилась Завариха.
– То-то и есть… Да и выгонитъ, такъ намъ толку мало: намъ милліоновъ своихъ не отдастъ…
– Правда, правда… Что-же дѣлать будемъ?…
– Подумаемъ…
Настенька прошлась по комнатѣ.
– Я большого дѣла ожидаю изъ этого, тетя!… Вотъ ѣду къ вамъ, погоняю извозчика, а во мнѣ такъ все и горитъ!… Бѣдны мы, нищіе, подачками живемъ, унижаемся, обноски съ богатыхъ купчихъ носимъ, а можетъ быть такъ, что мы… богаты будемъ!…
Настенька вдохнула въ себя воздуху, словно задыхаясь.
– Голова кружится, какъ подумаешь! – воскликнула она.
– Да что же ты думаешь-то?… Что дѣлать хочешь?… Ты скажи, Настенька, не мучь меня!… – вкрадчиво заговорила Завариха, подходя къ племянницѣ и обнимая ее за талію. – Ты умница у меня, золотая головка, не тебѣ у меня совѣта то просить, а мнѣ у тебя… Что думаешь-то ты?…
– He знаю еще хорошенько, а счастья изъ рукъ не выпущу, нѣтъ!… Думаю такъ, что пока понемножку изъ Вѣры этой жилы тянуть…
– Какъ?…
– А такъ… Пусть пока проситъ у бабушки денегъ на то и на другое и мнѣ отдаетъ, пусть разные предлоги выдумываетъ, тайкомъ отъ матушки… Пусть, хоть воруетъ, да мнѣ отдаетъ!… Вѣдь, въ моихъ рукахъ она, вотъ она гдѣ у меня!…
Настенька сжала свои холеныя неработящія ручки въ кулаки.
– Вотъ она гдѣ у меня!… He знаю вотъ, матушкѣ говорить-ли или же подождать…
– Обдеретъ ее матушка-то, въ гробъ заколотитъ, – замѣтила Завариха.
– А вамъ жаль что-ли?… Пусть хоть живую съѣстъ… He въ томъ дѣло, а не испортить бы… Да, я подумаю, я все сдѣлаю…
И Настенька ходила по комнатѣ, а лицо ея горѣло румянцемъ, ноздри раздувались.
Въ „модной дѣвицѣ“ разгорались не одни только алчные инстинкты, не одна только жажда къ золоту, которое она страстно любила, томила ее, – ее томила еще и жажда мести за разбитую любовь, за разлетѣвшіяся вдругъ надежды…
Она много разъ „влюблялась“, много и часто кокетничала, много разъ играла въ любовь и имѣла даже романы, но любила она въ первый разъ… Первый разъ шевельнулась въ ея сердцѣ настоящая любовь къ красавчику Васѣ, къ этому нѣжному чудному мальчику, къ этому юношѣ, прекрасному какъ Адонисъ, милому, ласковому, доброму… И дѣвченка Вѣрка отняла у нея этого юношу, разбила любовь въ всколыхнувшемся сердцѣ, убила надежды на счастье, убила все…
И какъ странно, какъ неожиданно все это случилось… Точно вырвалъ кто-то изъ сердца кусокъ, и пораненное сердце это болѣло, ныло, страдало…
Какъ ненавидѣла Настенька теперь Вѣру, какъ хотѣла ей мстить и какъ въ то же время желала быть обладательницею близкаго къ ней золота!…
Совѣщаніе тетушки съ племянницей въ этотъ день не привело ни къ какимъ результатамъ. Рѣшили хорошенько обдумать все и потомъ уже начать дѣйствовать.
Настенька ночевала, а на другое утро вмѣстѣ съ теткой отправилась въ домъ Ярцевой.
Всю дорогу туда Настенька твердила теткѣ, чтобы она осторожно держала себя и ни взглядомъ, ни намекомъ не обнаружила того, что она знаетъ тайну.
– Все, все испортите, если вмѣшаетесь въ это дѣло, если дадите понять Аннѣ Игнатьевнѣ или Вѣрѣ, что вы знаете тайну, – говорила Настенька.
– Да ужъ будь покойна, – утѣшала тетка, – не совсѣмъ, вѣдь, я дура, понимаю что нибудь.
Въ домѣ Ярцевой все шло по старому, только наблюдатель замѣтилъ-бы, что въ глазахъ Вѣры есть что-то тревожно-любопытное.
Съ этимъ выраженіемъ своихъ милыхъ, кроткихъ глазъ смотрѣла дѣвушка на Настеньку во время чая, къ которому пріѣхали гости, и, видимо, сгорала отъ нетерпѣнія остаться съ нею глазъ на глазъ.
Старуха, по обыкновенію, была очень нѣжна со своимъ „внучкомъ“ и покровительственно-небрежна съ гостями. На дочь свою она изрѣдка бросала испытующіе взгляды, словно изучая ея думы, ея таинственныя и, должно быть, тяжелыя думы, которыя сказывались и въ сосредоточенномъ взглядѣ, и въ плотно сжатыхъ губахъ, и въ вертикальной морщинкѣ, пробороздившей гладкій красивый лобъ.
Думъ этихъ старуха не знала, но какъ хорошо были теперь извѣстны онѣ Заварихѣ и Настенькѣ!…
Сейчасъ же послѣ чая Вѣра позвала Настеньку на верхъ.
– Ишь, дружба завелась! – насмѣшливо замѣтила Ольга Осиповна. – Словно женихъ съ невѣстою… Ты, Васенька, не больно слушай рѣчей ея, дѣвицы этой модной, a то обучитъ она тебя премудростямъ московскимъ…
– Развѣ я могу научить Васеньку чему-нибудь дурному, Ольга Осиповна? – спросила Настенька.
– Мудренаго нѣтъ: вертячка ты порядочная!…
– Ну, если и вертячка, такъ ужъ за то другихъ пороковъ не имѣю… Есть, вѣдь, дѣвушки, куда какія смиренныя, а коварства, и обмана…
Вѣра слегка поблѣднѣла отъ этого, очень явнаго для нея намека и порывисто встала.
VII.
Блѣдность эту и движеніе замѣтила Анна Игнатьевна и вперила въ дочку долгій-долгій, пристальный взглядъ…
Вѣра поблѣднѣла еще больше, а Анна Игнатьевна взглянула на Настеньку тѣмъ же взглядомъ.
„Не знаетъ ли эта хитрая дѣвченка мою тайну? He выболтала ли Вѣра? -какъ ножемъ рѣзнула мысль эта Анну Игнатьевну. – Кажется, нѣтъ. Покойно, безпечно, весело смотритъ Настенька, – не похоже, чтобъ это намекъ былъ…
Нѣтъ, не намекъ это, просто сказала Настенька, такъ безъ умысла… Да и смѣетъ ли Вѣра выболтать?… А поблѣднѣла она потому, что кольнули ее слова Насти, въ больное мѣсто попали… А все же надо поговорить съ нею, попытать ее надо, предупредить, еще разъ повторить завѣтъ свой о величайшей тайнѣ“.
Дѣвушки сейчасъ же послѣ чаю ушли наверхъ.
Заперла Вѣра за собою дверь, робко подошла къ Настѣ и взяла ее за руку.
– Вы сердитесь на меня, Настенька? – умоляющимъ, взволнованнымъ голосомъ сказала она. – Вы ненавидите меня?… Я вижу это, знаю… Вы жестоко кольнули меня сейчасъ вашимъ намекомъ!… За что это, Настенька? Иль ужъ я такъ гадка въ вашихъ глазахъ?…
Настенька презрительнымъ и злымъ взглядомъ окинула фигуру стоявшаго передъ нею, „мальчика“, – хорошенькаго, изящнаго, какъ дорогая статуэтка, какъ куколка, мальчика.
– Да, во всемъ, что вы продѣлываете тутъ съ вашей матушкою, немного благородства! – сказала она. – Но не за это зло мое на васъ… нѣтъ… Что мнѣ за дѣло, что двѣ интригантки…
Вѣра тихо простонала, точно до нея раскаленнымъ желѣзомъ дотронулись.
– Что мнѣ за дѣло, что двѣ интригантки пришли обобрать старуху съ ея тысячами? Деньги, вѣдь, соблазнительны, за ними всѣ бѣгутъ, изъ-за нихъ и большія преступленія совершаются… Мнѣ до этого дѣла нѣтъ… Меня терзаетъ то, что… что вы меня, меня такъ жестоко обманули!… Я принесла сюда, въ эту вотъ комнату, свою первую, священную любовь, и вы растоптали ее ногами, разбили… Вотъ что меня терзаетъ, и вотъ за что ненавижу я васъ…
Вѣра отошла и въ изнеможеніи опустилась на стулъ.
– Эта пытка мнѣ не по силамъ! – едва-едва выговорила она. – Ужъ лучше одинъ конецъ… Лучше ужъ я открою все; пусть со мною дѣлаютъ все, что хотятъ…
– Откроете?…
Настенька быстро подошла къ Вѣрѣ.
– Откроете?… О, нѣтъ, не смѣйте этого дѣлать!… Васъ, можетъ быть, прогонятъ, мать ваша, быть можетъ, изобьетъ васъ до полусмерти, но мнѣ отъ этого пользы мало, а я… я хочу чѣмъ-нибудь вознаградить себя… Я потеряла большое счастье обманутая вами, такъ желаю имѣть хоть маленькое… Большое счастье – это любовь, которую мечтала взять у Васи, а маленькое – это деньги, которыя мнѣ должна дать Вѣра!… Поняли вы?… Вы пришли сюда съ матерью за деньгами и, конечно, возьмете ихъ, такъ часть этихъ денегъ пусть мнѣ попадетъ…
– Вамъ?… Деньги!… – спросила Вѣра.
– Да… А васъ, наивнаго ребенка, это удивляетъ?…
И съ ненавистью глядѣла Настенька на блѣдную, взволнованную дѣвушку, которая въ изнеможеніи, какъ помѣшенная, сидѣла передъ нею…
Настенька, глядя на убитую горемъ и отчаяніемъ Вѣру, подумала, что слишкомъ уже огорчила ее и сообразила, что такъ поступать опасно: дѣвушка въ отчаяніи можетъ и въ самомъ дѣлѣ открыть все бабушкѣ и матери, тогда все пропало для Настеньки…
Она взяла Вѣру за руку и почти ласково сказала ей:
– Ну, перестаньте же играть роль угнетенной, Вѣра, будетъ вамъ… Вы не должны сердиться на меня, не должны считать меня за какую то злодѣйку…
Отъ одного этого измѣнившагося голоса Настеньки, отъ одного ласковаго прикосновенія ея руки Вѣра почувствовала себя уже легче и довѣрчиво, растроганная, съ размягченнымъ сердцемъ, нагнулась къ Настенькѣ и обняла ее, прижалась къ ней, не имѣя силъ выговорить что-нибудь, но желая много-много сказать…
– Да, я совсѣмъ не злодѣйка, – продолжала Настенька. – Я только оскорбленная въ своихъ чувствахъ женщина…
Эту фразу „модная дѣвица“ вычитала въ какомъ-то романѣ и любила употреблять ее, какъ и многія другія фразы изъ книгъ.
– И я огорчена и возмущена была, но я прощаю васъ…
– Прощаете? – взглянула Вѣра на Настеньку съ счастливою улыбкою.
– Да… И хочу быть вашею подругою… Будемъ съ сегодняшняго дня говорить другъ другу „ты“, но только тогда, когда мы однѣ… Я не выдамъ твоей тайны, будь Васею предъ всѣми, кромѣ меня и твоей матери, будь наслѣдникомъ бабушкинаго богатства…
– Ахъ, зачѣмъ мнѣ оно? – сказала Вѣра. – Я не хочу его, не хочу!… Ужъ теперь, ничего еще не видя, я такъ много горя видѣла отъ этой жажды къ деньгамъ, а что же дальше будетъ?
– Дальше будетъ наслажденіе этими деньгами… Ты еще не знаешь, что могутъ дать деньги, не знаешь силы ихъ, не знаешь и тѣхъ радостей, которыя даютъ деньги…
– Вотъ и мама мнѣ говоритъ это постоянно, но я, должно быть, дурочка, я не понимаю этого… Ну, что же дадутъ онѣ?… Ну, будетъ у меня много платьевъ, бархатъ, шелкъ, кружева, вещи дорогія, на дорогихъ лошадяхъ я поѣду, въ большихъ комнатахъ буду жить, такъ развѣ это счастье?… Нѣтъ, не думаю…
– He только это, Вѣра, хотя и это очень хорошо! – авторитетно проговорила Настенька. – Деньги дадутъ силу, а сила хорошая вещь, Вѣра!… Да, ты поймешь это потомъ… Говорятъ, что волкъ, попробовавшій человѣческаго мяса, не хочетъ уже другого и ищетъ только человѣка; такъ вотъ и человѣкъ: разъ попробуетъ онъ сладости отъ денегъ, какъ полюбитъ ихъ и – все, все готовъ сдѣлать, чтобы имѣть эти деньги!… Да вотъ тебѣ примѣръ: ко мнѣ сватался женихъ, мнѣ онъ очень нравился, я любила его и хотѣла идти за него, и была бы счастлива, но онъ не женился на мнѣ потому, что у меня мало денегъ, – ему отецъ не позволилъ… А вотъ другой примѣръ: у насъ сосѣдка есть, бѣдная вдова, у нея сынъ, единственный сынъ, любитъ она его, а онъ въ чахоткѣ. Доктора говорятъ, что если его повезти за границу – онъ выздоровѣетъ, будетъ живъ отъ тамошняго воздуха, отъ какихъ-то тамъ купаній, а мать не можетъ везти его, – она бѣдная; представь же, какъ она должна страдать!…
Вѣра слушала внимательно. Ей ужъ много и очень часто говорили о силѣ денегъ, но она все еще не вполнѣ понимала эти соблазнительныя рѣчи.
„Если не женился на тебѣ женихъ твой изъ-за денегъ, такъ, значитъ, онъ не любилъ тебя, а сынъ этой вдовы проживетъ послѣ поѣздки лишнихъ два-три года, такъ изъ-за этого нѣтъ еще нужды такъ любить деньги и желать ихъ… Быть можетъ, этому сыну лучше будетъ, если онъ умретъ… Право, тяжело и плохо жить на свѣтѣ, умереть лучше…“
Такъ думала Вѣра, но сказать не смѣла.
„Быть можетъ, это глупо, или оскорбитъ Настю, лучше я не скажу…“
А Настя продолжала соблазнять ее, рисуя картины заманчивой, полной блеска и радости, жизни съ деньгами.
– И ты будешь имѣть эти деньги, Вѣра, – говорила она, – ты и имѣешь ихъ, такъ не забудь и меня, со мною подѣлись.
– Ахъ, если бы у меня были онѣ и я имѣла бы волю – я отдала бы тебѣ половину… Нѣтъ, не половину, а все отдала бы!… Ты не сердись на меня, Настенька, – я все еще не понимаю, что деньги эти такая ужъ нужная и важная вещь…
Вѣра замѣтила, что Настенька поморщилась отъ этихъ словъ.
– Но я про себя только говорю, про себя! – поспѣшно добавила Вѣра. – Для тебя я буду желать этихъ денегъ, а ты… ты люби меня, Настя… He за деньги люби, а такъ, какъ вотъ сестру любятъ… Меня, вѣдь, никто, никто не любитъ…
Голосъ дѣвушки дрогнулъ.
– Никто… Мама вотъ нарядила меня и заставила быть обманщицей, заставила лгать и страдать, а бабушка… бабушка любитъ Васю, а не меня… Полюби меня ты, Настенька…
И бѣдная дѣвушка ласкалась къ Настѣ, заглядывала ей въ глаза.
– Я тебя полюбила, – отвѣтила Настя, а сама думала о другомъ.
Ей нужно было новое платье къ началу сезона, ее пригласили знакомые въ театръ, ложу взяли. Въ театрѣ будетъ много знакомыхъ, будетъ одинъ юный, но уже пресыщенный донъ-жуанъ изъ Солодовниковскаго пассажа, красавецъ и франтъ, кумиръ всѣхъ дамъ и дѣвицъ своего круга… Онъ ухаживаетъ теперь за одной вдовушкой, не то прельщенный ея роскошнымъ бюстомъ и жгучими глазами, не то ея туалетами, ея брилліантами, ея деньгами…
Какъ хорошо затмить бы эту вдовушку, привлечь бы этого красавца къ себѣ, заставить бы его бросить всѣхъ и сдѣлать постояннымъ своимъ кавалеромъ, какъ это сдѣлала въ послѣднемъ романѣ графиня Эльза Лотоссъ съ красавцемъ лордомъ Эдуардомъ Манчестеръ.
VIII.
– Вѣра, – заговорила Настенька, сжимая руку дѣвушки и наклоняясь къ ней, – Вѣра, скрѣпи нашу начинающуюся дружбу однимъ добрымъ дѣломъ, устрой мнѣ это дѣло…
– Что такое, Настя? – встрепенулась Вѣра, – скажи, голубка! я все, все готова для тебя сдѣлать…
– Достань мнѣ денегъ, Вѣра…
– Денегъ?…
– Да… Ахъ, мнѣ очень-очень нужно!… Я упущу большое счастіе, если у меня не будетъ этихъ денегь.
– Да, но я не знаю, какъ это… У меня… у меня очень немного, кажется… Я даже не считала. На часы мнѣ бабушка дала, часы велѣла купить, да такъ подарила пять золотыхъ… Тебѣ, вѣдь, этого мало будетъ, Настя?
– Мало… Мнѣ надо тысячъ пять…
– Пять тысячъ?… Это очень много… Если попросить у бабушки, такъ…
– Ахъ нѣтъ!…
Настенька даже ногою топнула.
– Ну, какъ это можно!… Надо какъ-нибудь по другому…
Настенька обняла Вѣру за талію, съ чарующею улыбкою, которую она отлично изучила передъ зеркаломъ, взглянула на нее и пѣвучимъ, нѣжнымъ голосомъ проговорила:
– Ты возьми у бабушки потихоньку…
– Потихоньку?…
– У бабушки деньги лежатъ въ сундукѣ; ключъ она прячетъ въ образницѣ, и тебѣ легко будетъ отворить сундукъ и взять изъ него нѣсколько билетовъ… Тамъ ихъ много-много!…
– Но… но, вѣдь, это значитъ воровать, Настя…
– Какой вздоръ!… Развѣ я стала бы учить тебя воровать?… Ты оскорбляешь меня, Вѣра… Вотъ, если бы я пошла въ сундукъ къ твоей бабушкѣ – это была бы кража, а, вѣдь, это ты, вѣдь, это твои деньги, Вѣра! Ну, не сегодня, такъ завтра, не завтра, такъ черезъ годъ, а вѣдь, возьмешь же ты себѣ всѣ эти деньги…
– Да, но пока…
– Что? – рѣзко спросила Настенька.
– Пока это… это не хорошо, это грѣхъ…
– Да?… А вотъ это не грѣхъ?
Настенька дернула пиджакъ Вѣры.
– Это вамъ не грѣхъ, это вамъ, это!… He грѣхъ обманывать бабушку, быть самозванкою? He грѣхъ было меня обманывать?…
– He сердись, Настенька… Я, право не знаю, какъ… это сдѣлать… И это грѣхъ, и то грѣхъ… He лучше ли попросить у бабушки?…
– He смѣй говорить вздора! – крикнула Настя. – Если боишься и не хочешь – не надо, но знай, что я не прощу тебѣ твоей жестокости тогда! Я все и всѣмъ разскажу!… Ты думаешь, что вотъ побьетъ тебя мать, да тѣмъ все и кончится? Нѣтъ, милая, тебя ожидаетъ судъ, позоръ, тебя за это самозванство въ острогъ посадятъ…
Настенька увидала, что опять слишкомъ жестоко обошлась съ Вѣрою и смягчила тонъ.
Настенька не осталась въ этотъ день у Ярцевой надолго и послѣ обѣда отправилась домой.
Она сдѣлала то, чего хотѣла: Вѣра была порабощена ею.
Есть натуры, не лишенныя извѣстной доли характера, воли и щедро одаренныя свѣтлымъ умомъ, но въ то же время совершенно лешенныя способности долго и упорно сопротивляться постороннему вліянію и очень скоро попадающія подъ него.
Характеръ вотъ такихъ людей проявляется лишь тогда, когда дѣло коснется только ихъ собственныхъ, нераздѣльныхъ съ ними интересовъ, когда отъ этого не страдаетъ интересъ другого лица и когда никто не вмѣшивается въ то или другое рѣшеніе такихъ натуръ. Но разъ такая натура должна противостать желанію другого лица, и особенно лица близкаго, дорогого, – она дѣлается мягкою, какъ воскъ и уступаетъ очень быстро.
И это – не слабость.
Это – мягкость сердца, доведенная до послѣдней степени. Это доброта, та доброта, которую называютъ „простотою“ и о которой говорятъ, что она „хуже воровства“.
Это – натуры изъ мягкаго куска воску.
Попадаетъ кусокъ воску въ руки художника – изъ куска этого можетъ выйти чудное произведеніе искусства; попадаетъ въ грубыя, грязныя руки, изъ него выходитъ грязный комокъ, отбросокъ, никуда негодная вещь.
Съ такими натурами часто приходится имѣть дѣло судебному слѣдствію; часто, очень даже часто, такія натуры фигурируютъ въ крупныхъ судебныхъ процессахъ.
Вѣра была именно такою натурою, и Настенькѣ, при небольшой даже ловкости и безъ особаго напряженія воли, удалось поработить ее, тѣмъ болѣе, что Вѣра была у нея „въ рукахъ“, а еще болѣе потому, что Вѣра считала себя виноватою, грѣховною и страшно хотѣла чѣмъ-нибудь искупить этотъ грѣхъ свой передъ Настенькою.
Она отдалась ей, она сдѣлалась въ ея рукахъ послушнымъ орудіемъ и шла теперь по ея велѣнію на нехорошее дѣло, зная, что оно нехорошее…
И это, говорю я, не было безволіемъ.
Проводивъ подругу, Вѣра заперлась въ своей комнаткѣ и легла на постель.
Ей хотѣлось заснуть, но какъ она ни старалась сдѣлать это, ей не удавалось.
Она закрывала глаза, принимала удобную позу, старалась думать о чемъ-нибудь самомъ незначительномъ, но сію же минуту глаза открывались сами собою, поза мѣнялась, а мысли упорно направлялись къ одному и тому же предмету.
Надо взять у бабушки денегъ и отдать эти деньги Настѣ. Деньги эти Настѣ необходимы, и она, Вѣра, должна непремѣнно добыть ихъ. Она, Вѣра, очень нехорошее дѣло хочетъ дѣлать, но ее къ этому привело еще болѣе нехорошее дѣло, и теперь уже невозможно вернуться назадъ, а надо все глубже и глубже увязать въ какую-то тину, которая засасываетъ, сильно засасываетъ и увлекаетъ куда-то въ бездонную пропасть… А тамъ, быть можетъ, и конецъ… Конецъ всему, что мучаетъ, терзаетъ, волнуетъ, отъ чего больно и страшно… Ахъ, скорѣе бы этотъ конецъ!… Но до него еще долго, еще надо что-то дѣлать, кого-то обманывать… А если не дѣлать ничего того, что такъ тяжело?… Ахъ, этого нельзя!… Сила какая-то влечетъ, сила, большая той, которая готова сопротивляться… Мама желаетъ… мама погибнетъ, если не дѣлать… Настя тоже желаетъ, и ея надо слушать, непремѣнно надо, a то что-то страшное случится…
Что-же страшное?…
Вѣра не могла рѣшить этого и не пыталась даже рѣшить. Она отдалась чужой волѣ и покатилась, какъ шаръ, брошенный съ горы… Ей хотѣлось лишь докатиться куда-нибудь… Скорѣй бы, скорѣй!… Забвеніе, покой… Такой бы покой, чтобы ничего не ощущать, не думать, не слышать, не знать…
Вѣра, думая все это, – или не думая даже, а переживая всѣмъ существомъ своимъ, – стала засыпать и сейчасъ же сны смѣшались съ дѣйствительностью, начался кошмаръ…
Вѣра слышала то голосъ матери, то голосъ Настеньки, то плакалъ кто-то у нея надъ ухомъ. Когда сонъ покидалъ дѣвушку, она, не открывая глазъ, вспоминала о разговорѣ съ Настенькою и говорила сама себѣ, что надо такъ сдѣлать, какъ она велѣла ей, и сейчасъ же, засыпая, она начинала грезить, и что-то тяжелое, уродливое вставало передъ нею, что-то давило ее; а тамъ опять дѣвушка просыпалась и думала о своемъ положеніи, о матери, о бабушкѣ.
Нѣсколько разъ во время этого тяжелаго сна Вѣру будили, стучась въ дверь, звали пить чай, ужинать, спрашивали о здоровьѣ.
– Лежу, нездоровится… He хочу ни пить, ни ужинать, – отвѣчала Вѣра.
Часу въ одиннадцатомъ мать ея постучалась особенно энергично и приказала отпереть дверь.
– Что съ тобою? – тревожно спросила Анна Игнатьевна, поглядывая на дочь, которая съ трудомъ прошла на кровать, отворивъ дверь.
– Такъ, нездоровится что-то… Голова болитъ…
– Напейся липоваго цвѣту, а горчичникъ я поставлю тебѣ… Жару, кажется, нѣтъ у тебя, а идешь – шатаешься; значитъ… значитъ серьезно прихворнула…
Вѣра успокоила мать, выпроводила ее изъ комнаты и сказала, что хочетъ спать.
Все было тихо въ домѣ Ярцевой. Слышно было, какъ по двору бѣгала собака, громыхая цѣпью; гдѣ то мышь скреблась и попискивала, откуда то доносился храпъ крѣпко и сладко спавшаго человѣка. Настала ночь.
На сосѣдней колокольнѣ пробило часъ, рѣзко прозвучалъ колоколъ, зазвенѣлъ дребезжащимъ звукомъ и замеръ.
Вѣра встала, отворила дверь своей комнаты, стараясь не скрипѣть, и вышла въ корридорчикъ, а потомъ и на лѣстницу.
Темно было тутъ, свѣжо довольно, и крашеный полъ холодилъ ноги въ тоненькихъ чулкахъ.
Жутко немного стало Вѣрѣ въ темнотѣ, которой она всегда боялась. Но сейчасъ же послѣ темной лѣстницы, было очень свѣтло въ той комнатѣ нижняго этажа, въ которую выходила эта лѣстница: лампадки тамъ горѣли передъ иконами.
Вѣра прошла этой комнатой, еще миновала одну и вышла въ столовую.
Вотъ этотъ сундукъ съ деньгами, вотъ онъ! Его недавно перенесли сюда изъ бабушкиной спальни. Тяжелый, весь желѣзный, привинченный къ полу, онъ не могъ быть украденъ, или взломанъ, а въ спальной бабушка не пожелала держать его: какой то странникъ сказалъ ей, что грѣхъ „во снѣ злато оберегать“, что около злата всегда „черный“ стоитъ, ибо злато его рукъ дѣло, онъ имъ смущаетъ людей.
Вѣра видѣла, какъ бабушка отпираетъ сундукъ: показывала какъ-то старуха „внучку“ свои сокровища и говорила, что всѣ они будутъ принадлежать ему, если онъ будетъ любить бабушку, если заслужитъ ихъ.
– Безъ этого сундука я больше бы любила тебя, бабушка; я не лгала бы тебѣ, не обманывала бы тебя, – подумала Вѣра вслухъ и испугалась своего голоса.
Шепотомъ сказаны были эти слова, а такъ рѣзко прозвучали они въ пустынной комнатѣ.
Кпючъ въ образницѣ, въ спальной, надо его взять. Тихо, тихо надо пройти туда, a то бабушка услышитъ: чутко она спитъ.
Вѣра, точно ее кто-нибудь подталкивалъ сзади, двинулась въ спальню безшумными шагами. Вотъ и бабушкина кровать и образница. Свѣтъ такъ и льется отъ лампады – мягкій, переливчатый свѣтъ, смягченный цвѣтными стеклами лампадъ. Лики святыхъ глядятъ такъ величаво и строго. Днемъ они совсѣмъ не такіе: это ночныя тѣни набѣжали на нихъ и трепетный свѣтъ лампадъ живитъ ихъ…
И бабушкино лицо, на бѣломъ фонѣ подушки, какое-то другое. Голова платкомъ повязана, отъ спинки кровати на лицо падаетъ тѣнь.
Бабушка спитъ крѣпко. Она передъ утромъ, да съ вечера страдаетъ безсонницею, а теперь крѣпко спитъ. Храпитъ слегка, шевелитъ руками, нервно вздрагиваетъ…
Вѣра, потупивъ глаза и стараясь не глядѣть кругомъ, отворила стеклянную дверцу образницы и взяла ключъ, положенный на нижней полочкѣ…
– Кто тутъ? – спросонья спросила бабушка и заговорила что-то совершенно постороннее.
Вѣра остановилась на минуту, поглядѣла на бабушку и пошла изъ комнаты, крѣпко сжимая въ рукѣ ключъ…
Сундукъ отпирался со звономъ и крышка была очень тяжела, но Вѣра благополучно сладила съ ней и открыла сундукъ. Она сѣла на него отпирая, чтобы заглушить звонъ, и съ усиліемъ, оцарапавъ немного руки, подняла крышку.
Пачками лежали въ сундукѣ банковые билеты, билеты внутренняго займа, облигаціи, купоны, кредитки. Въ особомъ ящичкѣ сбоку сверкали полуимперіалы и разныя старинныя монеты, а въ другомъ ящикѣ хранились брилліантовыя и золотыя вещи. Все это сверкало и искрилось отъ трепетнаго свѣта лампады.
IX.
Вѣра взяла одну пачку билетовъ и спрятала ее за сорочку.
– Сколько тутъ? – подумала она и, остановившись на секунду, взяла еще пачку сторублевыхъ и нѣсколько золотыхъ монетъ.
Это она спрятала въ карманъ панталонъ (читатель помнитъ, что Вѣра была въ мужскомъ костюмѣ).
Оставалось запереть сундукъ и положить ключъ на мѣсто.
Двигаясь, какъ автоматъ, Вѣра сдѣлала все это и пошла наверхъ.
Когда она клала ключъ въ образницу, бабушка опять окликнула ее спросонокъ.
– Я это, я! – хотѣла крикнуть Вѣра, но только поглядѣла на старуху и пошла къ двери, не остерегаясь уже и ступая ногами въ чулкахъ довольно громко.
Бабушка спала, ничего не слыхала. Это былъ самый крѣпкій сонъ ея.
Спрятавъ деньги въ нижній ящикъ комода въ своей комнатѣ, Вѣра не раздѣваясь, бросилась въ постель и уснула крѣпкимъ сномъ.
Ее не тревожили, не будили, и она встала въ двѣнадцатомъ часу дня.
Въ окна свѣтило солнце, яркими пятнами ложась на чистомъ крашеномъ полу; въ открытую форточку врывался свѣжій августовскій воздухъ. Гдѣ то неподалеку кричали играющія дѣти, взвизгивали, хохотали.
Вѣра улыбнулась, прислушиваясь къ раскатистому серебристому смѣху какой-то дѣвочки, должно быть, безконечно счастливой въ эту минуту.
Вѣра очень любила дѣтей и охотно играла съ ними въ Ярославлѣ. Всѣ сосѣднія дѣтишки знали ее, любили и называли „тетей“. Она хотѣла встать и поглядѣть, не у нихъ ли на дворѣ играютъ дѣти эти и, съ улыбкою поднимаясь съ постели, увидала свой мужской костюмъ, свои сапожки, сброшенные вчера у кровати.
И все вспомнила…
Она опустила голову на подушку и въ одинъ мигъ улыбка на лицѣ смѣнилась скорбнымъ выраженіемъ, краски потемнѣли, глаза словно туманомъ заволокло.
– Нельзя идти къ дѣтямъ, – произнесла Вѣра. – Это я въ Москвѣ… Я мальчикъ Вася… Я вчера взяла деньги, крала ихъ у бабушки…
Въ дверь постучались.
– Пора вставать! – раздался голосъ матери.
Вѣра вздрогнула и быстро поднялась.
– Я не для себя, не для себя, я не хочу обманывать, и никогда не воровала!… He для себя я это, не для себя!… – крикнула она, какъ въ бреду.
– Что съ тобою… Вася? – тревожно спросила за дверью Анна Игнатьевна. – Ты спишь… Вася, ты спишь? Отопри мнѣ!…
Вѣра пришла въ себя, очнулась и поспѣшно отворила матери двери.
– Что съ тобою, Вѣра? – съ безпокойствомъ спросила Анна Игнатьева, глядя на дочь и трогая ее за голову, за руки, заглядывая ей въ глаза. – Ты больна?… Ты бредила сейчасъ…
– Нѣтъ, мама, это я такъ, во снѣ… Сонъ какой-то страшный мнѣ снился… Я сейчасъ, мама, одѣнусь и приду.
Вѣра умылась, освѣжила свой туалетъ и вышла къ приготовленному для нея чаю немного блѣдная, но бодрая, свѣжая. Бабушка приласкала ее, усадила око- ло себя и посовѣтовала, во первыхъ, „поменьше книжки читать“, во вторыхъ, не очень съ Настенькою дружить, а въ третьихъ, къ докторамъ, въ случаѣ недуга, не обращаться, а пользовать себя домашними средствами.
– Попей липоваго цвѣту, горчишничекъ на затылокъ поставь, и всѣ болѣзни, какъ рукой, сниметъ, говорила бабушка, разглаживая русыя кудри „внучка“. – Ишь, ты какой у меня хрупкій, соколикъ мой, да нѣжный, надо беречь себя…
Вѣру, какъ ножемъ рѣзало отъ этихъ ласкъ старухи, отъ ея добрыхъ, полныхъ участія, словъ; какъ огнемъ, жгли ее добрые, нѣжные взгляды старухи, вдругъ подобрѣвшей, вдругъ ставшею доброю бабушкою изъ суровой, нелюдимой и до сихъ поръ жесткой старухи.
За чаемъ присутствовала и Завариха.
Тетушка „модной дѣвицы“ пристально глядѣла на эту сцену, и чуть замѣтная улыбка скользила по ея тонкимъ губамъ.
– Ужъ и дѣйствительно, что это за необыкновенной нѣжности нашъ Васенька! – проговорила она сладкимъ голосомъ. – Точно и не кавалеръ, а барышня…
И Анна Игнатьевна и Вѣра слегка измѣнились въ лицѣ.
– Право-слово барышня, – продолжала Завариха, находя наслажденіе мучить дѣвушку, – ужъ такой онъ хрупкенькій да нѣжненькій!… Встрѣтишь такого на улицѣ, подумаешь, что барышня мальчикомъ переодѣта!
– Будетъ врать-то! – сурово перебила бабушка, приписывая замѣтное волненіе Вѣры конфузливости. – Молодъ Васенька, ну, и слабъ и нѣженъ, а пройдетъ года три, онъ у насъ богатыремъ будетъ. Я помню отца-то его, молодецъ мужчина былъ, рослый, широкоплечій, кровь съ молокомъ, въ него и Вася будетъ… Вотъ твоя племяненка-то такъ совсѣмъ наоборотъ – на мальчишку похожа. Остричь ей косу, такъ хоть за солдата отдать, хоть на коня верхомъ посади, да шпагу дай… Ты, Вася, не очень съ Настасьей дружи: не научитъ она тебя ничему путному…
– Ахъ, чтой-то вы, благодѣтельница! – запротестовала Завариха. – Моя Настенька – барышня образованная, умная, съ манерами, она Васенькѣ пользу принесетъ… Да ужъ и дружба же у нихъ!… Ровно двѣ подружки, а не барышня съ кавалеромъ…
Это становилось невыносимымъ, и Вѣра была близка къ обмороку.
Она выпила чай, поблагодарила бабушку и быстро ушла въ свою комнату.
Вернувшись въ свою комнату, Вѣра отворила окно и сѣла на подоконникъ.
Она долго сидѣла на окнѣ, облокотившись на косякъ, и смотрѣла на далекое небо и неслась къ нему думами…
Что-то тамъ за синимъ небомъ?… Тутъ вотъ шумятъ люди, суетятся, хлопочутъ изъ-за чего-то, куда-то спѣшатъ, такъ часто злятся, а тамъ… Какъ тихо тамъ… Тамъ ничего этого нѣтъ, конечно, и легко должно быть въ этомъ голубомъ эфирѣ, наполненномъ свѣтомъ и тепломъ солнца… Уйти бы туда; къ жизни ничего, ничего не привязываетъ…
Вѣра двинулась къ краю окна, точно желая броситься впередъ, полетѣть…
– И, вѣдь, все кончится, если вотъ броситься туда, – проговорила она. – He къ небу этому полетѣла бы я, а вотъ на этотъ мощеный дворъ, на эти камни и разбилась бы, а тамъ и кончено все… Но небо это приметъ ли меня тогда?… Самоубійца… Нѣтъ, нѣтъ, не надо этого!…
Дѣвушка отпрянула отъ окна, точно ее оттолкнулъ кто.
– Надо жить и терпѣть, и тогда уйдешь туда, въ это чудное небо…
„А развѣ на землѣ нѣтъ никакихъ уже радостей? – какой-то внутренній голосъ спросилъ Вѣру. – Ты посмотри какъ хорошо и тутъ, на землѣ этой! Сколько блеску, радости, жизни“…
Вѣра опять подошла къ окну и поглядѣла на широкій дворъ бабушкина дома.
Голуби цѣлыми стаями вились около конюшни; кудрявая дѣвочка, дочка кухарки, бросала имъ овесъ и весело смѣялась, а красавецъ кучеръ, поигрывая на гармоникѣ, любовался на эту дѣвочку и на ея мать, свѣжую бѣлую женщину красивую и здоровую.
Она вдова была, и въ домѣ говорили, что кучеръ зимою женится на ней по любви.
Красавица-баба давала кормъ курамъ и мѣшала что-то бѣлыми красивыми руками въ корытѣ, а сама смѣялась надъ какими то словами жениха и все поглядывала на него, да на дочку, – любовно ласково поглядывала, а жизнь ключемъ била въ этой сильной молодой красавицѣ и просилась наружу.
„Вотъ живутъ же, – подумала Вѣра, – наслаждаются и долго будутъ жить“…
Вѣра залюбовалась этой дворовой идилліей и какъ будто повеселѣла, тяжелыя думы прошли, забылись…
Кто-то хлопнулъ тяжело калиткою; цѣпная собака взвилась на дыбы, загромыхала цѣпью, и залилась яростнымъ лаемъ.
X.
Вѣра повернула голову по направленію къ калиткѣ и увидала вошедшаго на дворъ.
Это былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати трехъ-четырехъ, высокаго роста, стройный, одѣтый очень хорошо, но безъ того бьющаго въ глаза шика, который служитъ признакомъ франтовства и къ русскому человѣку не идетъ, несвойственъ русскому человѣку, какъ, напримѣръ, не пошло бы къ французу русское одѣяніе. На вошедшемъ была лѣтняя сѣрая пара, при бѣломъ жилетѣ и сшитая не по послѣдней очень уродливой, кстати сказать, модѣ, а такъ, какъ это шло къ фигурѣ, къ росту. Пальто, того же сѣраго цвѣта, молодой человѣкъ держалъ въ рукѣ, шляпа была у него мягкая, безъ претензіи на „рембрантовскую“ [1], но и не тотъ противный „котелокъ“, который едва прикрываетъ макушку и почти лишенъ полей. Свѣтлый галстукъ шарфикомъ очень шелъ къ чистому юношескому лицу молодого человѣка.
Кромѣ всего этого Вѣра замѣтила большіе, задумчивые глаза вошедшаго и румяныя полныя губы, опушенныя сверху темными усами.
Молодой человѣкъ попятился немного отъ загремѣвшей цѣпью и яростно залаявшей собаки, улыбнулся на свой напрасный страхъ и посмотрѣлъ на окна дома.
Что-то неотразимо милое и симпатичное было во взглядѣ его темныхъ глазъ, въ его доброй улыбкѣ. Добротою такъ и дышало все его красивое лицо, но въ тоже время, въ очертаніи бровей, въ разрѣзѣ губъ, въ сильной фигурѣ сказывалось и что-то такое, что ручалось и за силу его. Вѣра пододвинулась немного къ краю окна и попристальнѣе разглядѣла вошедшаго.
Онъ между тѣмъ, не обращая уже вниманія на неопасную собаку пошелъ по двору.
– Николаю Васильевичу, особенное наше почтеніе!… Здравствуйте, батюшка! – сказалъ замѣтившій его кучеръ и, бросивъ гармонику, пошелъ навстрѣчу.
– А, Игнатій, ты какъ сюда попалъ? – проговорилъ молодой человѣкъ.
– Живу здѣсь, сударь, на мѣстѣ-съ. Какъ отошелъ отъ Крючковыхъ послѣ смерти самаго, такъ сюда и поступилъ… Вы какъ изволите поживать?…
– Спасибо, живу понемногу… Ольга Осиповна дома?
– Дома-съ… Цыцъ ты, проклятый!… – крикнулъ кучеръ на собаку. – Вотъ дуракъ-то, на своихъ лаетъ!… Давно стало-быть, не были у тетеньки, коли собака не узнаетъ васъ, Николай Васильевичъ?
– Да, давненько… ѣздилъ заграницу, больше года тамъ прожилъ…
– Токъ-съ… Я пойду доложу о васъ, сударь… Да, вы никакъ пѣшкомъ пожаловали?
– Пѣшкомъ.
– То-то молъ, a то бы я ворота отперъ… Эй, Даша, поди доложи хозяйкѣ, Николай, молъ, Васильевичъ Салатинъ, пришли. Невѣста, сударь, моя… Женимся…
Кучеръ оскалилъ бѣлые, ровные зубы и указалъ на побѣжавшую съ докладомъ Дарью.
– Доброе дѣло, – усмѣхнулся гость.
– А вы еще не женились, Николай Васильевичъ?…
– Пока нѣтъ.
– Пора, сударь: одному-то скучно-съ.
Дарья вернулась и сообщила, что Ольга Осиповна „просятъ пожаловать“.
Вѣра прошлась по комнатѣ и опять сѣла на окно.
– Николай Васильевичъ Салатинъ, – проговорила она. – Салатинъ… Фамилію эту я не слыхала, кажется… Да, да, это родственникъ бабушки…
Вѣра имѣла привычку многихъ впечатлительныхъ людей – думать вслухъ, и привычка эта особенно въ послѣднее время вкоренилась въ ней. Дѣвушка очень часто по цѣлымъ часамъ разсуждала сама съ собою.
– Какой онъ красивый! – проговорила она. – И какой у него взглядъ хорошій… Вѣроятно, это очень добрый человѣкъ… А можетъ быть и нѣтъ! Добрыхъ мало, все больше нехорошіе, злые… И всѣхъ хуже я! – вдругъ рѣшила Вѣра и подошла къ зеркалу. Изъ зеркала на нее глядѣло хорошенькое личико, немного блѣдное, матовое, съ нѣжнымъ румянцемъ, съ задумчивыми глазами. Остриженные волосы вились, сбѣгали мелкими колечками на лобъ, воротничекъ сорочки плотно обхватывалъ красивую бѣлую шею.
Вѣра подошла поближе и оглядѣла всю фигуру свою.
– Похожа на мальчика, но если поглядѣть попристальнѣе, узнаешь женщину, – подумала она. – Узнали бы, лучше было-бы… А, пускай, будетъ такъ, какъ суждено… Мнѣ все равно, все равно…
Вѣра сѣла къ столу, взяла книгу, но не только открыла ее, а даже не взглянула на страницы и задумалась.
По лѣстницѣ раздались дробные шаги бѣгущаго человѣка.
– Пожалуйте къ бабушкѣ! – бомбой влетѣла толстая румяная горничная.
– Зачѣмъ? – спросила Вѣра.
– He знаю-съ. Должно быть, къ гостю: гость къ бабинькѣ пришелъ, Салатинъ Николай Васильевичъ, чай въ столовой кушаютъ… Пожалуйте-съ…
Горничная улетѣла, шумя накрахмаленнымъ платьемъ, и что то напѣвая.
Вѣра не вдругъ рѣшилась идти на зовъ бабушки, – какое-то чувство, не то робости, не то конфузливости, удерживало ее. Долго стояла дѣвушка въ нерѣшимости, долго оглядывала себя въ зеркало и поправлялась передъ нимъ, нѣсколько разъ бралась за скобку двери и возвращалась.
Но идти было надо и Вѣра рѣшилась наконецъ.
Салатинъ сидѣлъ за столомъ и пилъ чай, когда вошла Вѣра. Онъ привѣтливою улыбкою встрѣтилъ ее и, не дожидаясь, пока бабушка представитъ ему „внучка“, подалъ Вѣрѣ руку.
– Здравствуйте, молодой человѣкъ! – проговорилъ онъ. – Я уже слышалъ объ васъ отъ Ольги Осиповны и заочно знакомъ съ вами. Позвольте теперь познакомиться поближе: Никорай Васильевичъ Салатинъ – къ вашимъ услугамъ, родственникъ вашей бабушки, а слѣдовательно и вашъ…
Салатинъ крѣпко пожалъ руку Вѣры и ловкимъ движеніемъ, не вставая съ мѣста, подалъ ей стулъ, продолжая съ ласковою улыбкою глядѣть на нее и любуясь смущеніемъ „хорошенькаго юноши“.
– Каковъ у меня внучекъ-то, Коля? – спросила Ольга Осиповна у Салатина.
– Молодецъ мужчина!… Вамъ сколько лѣтъ, Вася?
– Пятнадцать…
– Совсѣмъ кавалеръ!…
Салатинъ замѣтилъ, что Вася очень застѣнчивъ, и, оставивъ его пока въ покоѣ, сталъ говорить съ бабушкою.
Говорилъ Салатинъ хорошо, – такъ и лилась у него рѣчь и не ломанная рѣчь, уснащенная множествомъ иностранныхъ словъ, а чисто-русская, образная, плавная, московская рѣчь. И голосъ у молодого человѣка былъ пріятный, звучный, симпатичный.
XI.
Салатинъ говорилъ о своемъ путешествіи заграницу, разсказывалъ много интересныхъ вещей о Франціи, Англіи, Германіи и не рисовался своими знаніями и наблюденіями, а разсказывалъ такъ, точно домъ свой описывалъ, точно про Замоскворѣчье говорилъ.
– Да, хорошо, тетушка, поѣздить по чужимъ краямъ, многому научишься и жить весело, а все же домой тянетъ, словно въ Москвѣ-то магнитъ!… На что бы, кажется, лучше въ Италіи, – прямо таки Богомъ благословенная страна, а я бросилъ ее, да вотъ и прискакалъ въ Москву!… И у всего-то русскаго народа эта кошачья привязанность къ родинѣ, къ домишку своему, право. Англичанинъ рыщетъ по бѣлу свѣту – и хоть бы поскучалъ о родинѣ. Нѣмецъ – тотъ, гдѣ хочешь, уживется и только толстѣетъ отъ чужихъ хлѣбовъ, а русскій все домой норовитъ!…
– Лучше все у нихъ, у заграничныхъ-то, Николаша? – спросила бабушка.
– Что лучше, а что и хуже. Много такого хорошаго, что и намъ бы не худо занять, a то есть и хорошіе, да намъ не по шерсти. Ну, много и худого, a живутъ вотъ всѣ чище нашего, насчетъ этого у нихъ строго, за то и не такъ хлѣбно, какъ у насъ. Въ Лондонѣ, напримѣръ, въ столицѣ англійской, богачей не пересчитаешь, а рядомъ съ ними бѣднота такая живетъ, что дѣти съ голоду мрутъ. У насъ бѣднякъ или лѣнтяй и денегъ насобираетъ, коли съ рукой пойдетъ, а ужъ кусокъ хлѣба-то въ каждой булочной, въ каждой лавкѣ дадутъ; ну, а у нихъ безъ церемоній прогонятъ и безъ денегъ хлѣба не дадутъ!…
– Любопытно все же поѣздить по свѣту, на людей поглядѣть, – замѣтила бабушка. – Вотъ когда умру, Вася съ тобой поѣздитъ, покажешь ему все…
Салатинъ съ улыбкой взглянулъ на Вѣру.
– Желали бы, Вася, поѣздить?
– Да… Вы такъ много интереснаго наговорили, что поневолѣ захочешь своими глазами на все это поглядѣть. Въ книжкѣ этого не вычитаешь.
– А вы читаете книжки?
– Да.
– Доброе дѣло. Если любите читать, я вамъ много книгъ буду давать.
– Только не зачитался бы очень, не свихнулся бы, – замѣтила бабушка. – Вонъ, Настасья отъ книжекъ то совсѣмъ какая-то изступленная сдѣлалась…
Салатинъ засмѣялся.
– Изступленная? – повторилъ онъ. – Я помню Настеньку, помню „модную барышню“… Чай, совсѣмъ невѣста теперь и похорошѣла, я думаю?
– Чего ужъ лучше!… Миликтриса Кирбитьевна [2] чистая, только невѣста то безъ мѣста, все еще въ дѣвкахъ сидитъ… Съ Васей очень ужъ дружна, и дружба эта мнѣ не по душѣ: не научитъ ничему путному эта вертячка…
– Вася, я думаю, отличитъ хорошее отъ дурнаго… Неправда ли, Вася?
Салатинъ снова обратился къ дѣвушкѣ и изъявилъ желаніе посмотрѣть жилище новаго пріятеля и родственника.
Николай Васильевичъ былъ сынъ очень богатаго фабриканта, нажившаго громадное состояніе исключительно упорнымъ трудомъ, неутомимою энергіею и, пожалуй, счастливо сложившимися обстоятельствами. Началось дѣло, развившееся въ громадное предпріятіе, съ пустяковъ, съ грошей. Салатинъ былъ просто-напросто землепашецъ. Обрабатывая землю лѣтомъ, зимою онъ ткалъ полотна вмѣстѣ съ женою и младшими братьями на ручныхъ станкахъ и сбывалъ ихъ въ Москвѣ то по лавкамъ, то по домамъ. Дѣло давало порядочно, и семья жила зажиточно, но до богатства было еще далеко. Какъ то, продавъ кусковъ десять очень добратнаго, хорошо отработаннаго полотна купцу, Салатинъ получилъ отъ этого купца заказъ на довольно значительное количество того же полотна, при чемъ купецъ далъ ему авансомъ рублей пятьсотъ для покупки новыхъ станковъ и вообще для расширенія дѣла. Честно выполнивъ порученіе, Салатинъ сталъ получать заказовъ все болѣе и болѣе, такъ что работалъ уже не въ пятеромъ, какъ бывало, а имѣлъ человѣкъ двадцать ткачей изъ своихъ односельцевъ, съ которыми разплачивался „по-божески“, и которые охотно работали на него, улучшая свое благосостояніе.
Это, впрочемъ, не радовало Салатина, такъ какъ на ряду съ благосостояніемъ крестьянъ росло и паденіе ихъ нравовъ.
Переходя въ лучшія избы, заводя картины, лампы, зеркала и самовары, крестьяне словно оставили въ старыхъ домахъ своихъ чистоту нравовъ, патріархальность и пріобрѣтали физіономію фабричныхъ, самый не симпатичный типъ на Руси.
Салатинъ, русскій человѣкъ въ душѣ, хорошій христіанинъ, вѣрный сынъ церкви, съ ужасомъ видѣлъ, что народъ, пріобрѣтая благосостояніе, становился менѣе религіознымъ, быть можетъ, потому, что сытая жизнь влечетъ его къ разгулу. Наблюдая все это, Салатинъ все больше и больше проникался намѣреніемъ прикончить фабрику и стать земледѣльцемъ, зная, что только въ „матушкѣ землѣ“ спасеніе русскаго человѣка…
Уѣздный городъ, близъ котораго было родное село Салатина, славился льняными базарами, и въ Филипповъ постъ [3] туда свозилось громадное количество льну, какъ гуртомъ, такъ и мелкими партіями. Покупателями льна были мѣстные фабриканты, въ рукахъ которыхъ и сосредоточивалась вся льняная торговля края. Въ числѣ крупныхъ продавцевъ льна былъ нѣкто Иголкинъ, купецъ стараго закала, милліонеръ и то, что называется „кряжъ“, то есть – съ желѣзною волею, съ упрямствомъ неописаннымъ и съ правомъ неукротимымъ. „Какъ хочу такъ и ворочу“, говоритъ про того человѣка простой народъ, опредѣляя его характеръ.
Иголкинъ скупалъ ленъ по губерніямъ: Ярославской, Вологодской, Костромской, и громадными партіями привозилъ его въ С., гдѣ и устанавливалъ цѣну. Одинъ разъ мѣстные фабриканты задумали „поддѣть“ Иголкина и сговорились всѣ до одного сбить цѣну до послѣдняго минимума: поломается-де и отдастъ, назадъ тысячи пудовъ не повезетъ, а купить здѣсь кромѣ насъ некому.
Такъ и сдѣлали.
Привезъ Иголкинъ громадную партію, назначилъ цѣну и ждетъ. He берутъ фабриканты. Онъ сбавилъ – не берутъ.
– А, стачку устроили! – догадался Иголкинъ. – Ладно же!…
Свалилъ онъ ленъ въ амбары, застраховалъ и живетъ въ С., по трактирамъ ходитъ, „гуляетъ“, а къ фабрикантамъ ни ногой. He идутъ и они къ нему, вполнѣ увѣренные, что купятъ, какъ хотятъ, что Иголкинъ сдастся и ленъ не повезетъ домой, ибо это равносильно полному разоренію.
Между тѣмъ, пошли снѣга, дороги испортились, и везти тысячи, десятки тысячъ пудовъ льну назадъ было немыслимо, да и некуда было везти.
– Ладно же! – сказалъ Иголкинъ и приказалъ позвать къ себѣ въ номеръ Салатина, которому продавалъ по маленькимъ партіямъ ленъ, любя трудолюбиваго и дѣловитаго мужика.
– Васюкъ, – сказалъ Иголкинъ Салатину, – купи у меня партію льна.
– А велика-ли партійка-то, Игнатій Емельяновичъ? На большую у меня силъ не хватитъ…
– Да всю купи, сколько есть: тысячъ десять пудовъ…
– Шутить изволите!… – улыбнулся Салатинъ.
– Я шучу пьяный въ трактирѣ, а коли о дѣлѣ рѣчь идетъ, такъ не шутятъ!… Толкомъ тебѣ говорю и желаю продать…
– Да, вѣдь, это выходитъ… это, вѣдь…
Салатинъ зажмурилъ глаза и сталъ считать.
– Это семьдесятъ тысячъ рублей денегъ! – помогъ ему Иголкинъ. – Ты такихъ денегъ и не видывалъ, a я тебя хочу человѣкомъ сдѣлать. Меня ваши идолы прижали, ограбить хотѣли, да не на того напали!… Бери весь ленъ, пиши векселя и работай!… Сколько хошь, столько и жду съ тебя денегъ, мнѣ это плевать, а ты тутъ торгуй и дѣло дѣлай; и со льномъ будешь, и съ деньгами, потому эти идолы ваши должны у тебя купить, имъ работать не съ чѣмъ, а ты изъ восьми рублей гроша не уступай и чтобы не на срокъ, a на наличныя… Идемъ въ трактиръ, пиши векселя!…
XII.
Салатинъ былъ слишкомъ уменъ, чтобы не понять всю выгоду этого съ неба свалившагося дѣла, а Иголкинъ зналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и дѣйствовалъ навѣрняка. Взялъ онъ векселя, устроилъ гульбу на прощанье и уѣхалъ, а Салатинъ сдѣлался обладателемъ громадной партіи товара.
Часть его была тутъ же продана на наличныя одураченнымъ фабрикантамъ, оставшимся, было, безо льна, а другую часть Салатинъ выдѣлалъ въ полотно, арендовавъ фабрику.
Иголкинъ получилъ свое сполна, а Салатинъ изъ мелкаго ткача сдѣлался фабрикантомъ и къ Крымской компаніи [4], взявъ громадный казенный подрядъ, былъ милліонеромъ, получилъ потомъ, за превосходно выполненный подрядъ этотъ, почетное гражданство и оставилъ сыну, скончавшись лѣтъ пять тому назадъ, доброе имя, громадное состояніе и превосходно поставленное дѣло.
Будучи человѣкомъ совсѣмъ неграмотнымъ, старикъ Салатинъ далъ сыну превосходное образованіе, и Николай Васильевичъ былъ кандидатомъ правъ. Онъ недавно вернулся изъ-за границы, гдѣ изучалъ фабричное дѣло и, вернувшись теперь въ Москву, началъ вводить уже значительныя реформы на своей фабрикѣ, поставленной на широкую ногу.
Старухѣ Ярцевой Николай Васильевичъ приходился родственникомъ по мужу и еще до отъѣзда за границу предлагалъ ей помѣстить въ дѣло мертво лежащіе капиталы. Тогда старуха отказалась отъ этого предложенія, но теперь у нея былъ внукъ и дѣло принимало иной оборотъ, Ольга Осиповна не прочь была вести переговоры съ племянникомъ и предложила ему почаще навѣщать ее и ознакомиться съ Васею, котораго, по ея мнѣнію, не худо было немного просвѣтить, научить уму-разуму, „отшлифовать“, какъ она выразилась и ознакомить съ дѣломъ.
„Вася“, видимо, пришелся по душѣ молодому Салатину и онъ отнесся къ „юношѣ“ по родственному, обласкалъ его, ободрилъ, обѣщалъ руководить его чтеніемъ и вообще взять на себя трудъ сдѣлать его достойнымъ милліоннаго наслѣдства…
И вотъ, когда Салатинъ ушелъ, что-то отрадное, свѣтлое овладѣло всѣмъ существомъ измученной Вѣры и хорошо, хорошо стало ей… забыла она недавнія муки и надежда воскресла въ ней…
Къ вечеру этого дня пришла къ Ярцевымъ Настенька. Ольга Осиповна, Вѣра и Завариха сидѣли за чаемъ, когда явилась „модная дѣвица“. Она, видимо, была очень ажитирована [5] и нетерпѣливо ожидала окончанія чаепитія, такъ плохо маскируя свое нетерпѣніе, что Ольга Осиповна обратила даже на нее вниманіе.
– Что ты, егоза, егозишь-то? – спросила старуха. – Вертишься, словно на шилѣ сидишь!… Небось, хочется съ Васей наверхъ забиться, да шушуканье свое завести?… Ой, ты, егоза, смутишь ты у меня мальчика, извертишь его!…
Настенька только плечами передернула, а старуха сейчасъ же и отпустила ее съ внучкомъ изъ за стола, не будучи въ силахъ отказать Васѣ въ удовольствіи поболтать съ Настенькою.
„Пусть ихъ, – думала старуха. – Ежели бы надолго эта вертячка завелась у насъ – я ее сократила бы; ну, а теперь Николаша съ Васей займется, такъ худого мальчику ждать нечего – тотъ наставитъ на умъ, научитъ, какъ жить надо“…
Дѣвушки, между тѣмъ, прошли наверхъ.
– Достала? – спросила Настенька, впиваясь въ Вѣру глазами и замирая отъ нетерпѣнія.
– Да…
– Гдѣ же?… Гдѣ деньги?… Давай скорѣй, скорѣй, a то войдетъ кто-нибудь…
Вѣра достала деньги и передала ихъ Настенькѣ, которая отъ волненія дрожала всѣмъ тѣломъ и сверкающими глазами смотрѣла на пачки билетовъ.
– Сколько тутъ? – спросила она, запихивая пачки въ картонъ изъ подъ шляпки.
– He знаю… Взяла первое, что попалось…
– А… а много въ сундукѣ такихъ пачекъ?
– Да, много.
Настенька закрыла картонку, обвязала ее платкомъ и поставила подъ кровать.
– Ни слова же объ этомъ! – повелительно обратилась она къ Вѣрѣ. – Слышишь? Погубишь и себя, и мать ежели проболтаешься, а мнѣ все равно: я скажу, что за молчаніе ты мнѣ деньги эти дала…
– Нѣтъ, я не скажу. Зачѣмъ же я буду говорить? Вѣдь, мнѣ стыдно, я украла эти деньги… Ты не напоминай мнѣ объ этомъ, Настя, забудь это… Мнѣ такъ сегодня хорошо, отрадно, что я хотѣла бы думать о чемъ-нибудь пріятномъ и хотѣла бы поговорить съ милымъ добрымъ другомъ… Настенька, будь доброю… Какъ хорошо на душѣ, когда знаешь, что у тебя въ сердцѣ только желаніе всѣмъ-всѣмъ дѣлать добро и всѣхъ любить…
– Ангелъ какой! – насмѣшливо замѣтила Настя. – Тебѣ хорошо, коровкѣ Божьей, такъ разсуждать: ты обезпечена, тебя ждетъ богатство, а ты пожила бы въ нуждѣ, попробовала бы униженій, настоящаго горя отвѣдала бы…
– Ахъ, я жила въ нуждѣ, Настя!… и, право, мнѣ тогда легче было, веселѣе… Какъ бы охотно я сняла съ себя этотъ обманъ!…
– Такъ за чѣмъ же дѣло стало? Иди вотъ сейчасъ къ бабушкѣ и объявись…
– Мамы боюсь, – шепотомъ проговорила Вѣра. – Я такъ стала ее бояться, что за страхомъ и любовь моя къ ней пропадаетъ!… Она въ Ярославлѣ была не такая. Она никогда не баловала меня, была со мною строга, но я и не думала ее бояться, даже когда маленькою была и она наказывала меня, иногда жестоко наказывала… А теперь я боюсь ее… Теперь она одно любитъ – бабушкины деньги… Какъ она смотритъ иногда на меня!… Я такихъ глазъ не видала и думаю, что… что люди съ такими глазами убиваютъ другихъ людей… Она не догадывается ли, что я открыла тебѣ нашу тайну…
– Ты думаешь? – тревожно спросила Настенька.
– Да… Очень ужъ страшно глядитъ она на меня…
– Сохрани Богъ сказать ей объ этомъ! – схвативъ за руку Вѣру, сказала Настенька. – He стала бы спрашивать, допытываться, такъ ты молчи…
– Конечно!… Я не знаю, что она сдѣлаетъ со мною, если узнаетъ!… А знаешь, когда я скажу всѣмъ, что я не мальчикъ, что я обманываю всѣхъ, что я дѣвушка?
– Когда?
– Когда я найду такого человѣка, который полюбитъ меня и который будетъ такой смѣлый, умный, сильный, что можетъ защитить меня. Тогда я скажу и не побоюсь мамы.
И Вѣра видѣла такого человѣка въ Салатинѣ…
Съ перваго раза увидала она это и съ перваго взгляда на него почувствовала къ нему неодолимое влеченіе.
Ее манили къ нему эти ясные глаза его, въ которыхъ свѣтились и умъ, и сила, и ласка, эта увѣренная рѣчь его: то задушевно ласковая, то добродушно насмѣшливая, то убѣдительная и твердая. Есть такіе люди, при взглядѣ на которыхъ вамъ хочется вѣрить имъ и любить ихъ, хотя вы не знаете еще, что это за человѣкъ, но въ то-же время убѣждены, что не ошибаетесь, что первое впечатлѣніе, произведенное имъ, такимъ человѣкомъ, есть то, что останется въ васъ навсегда.
Такимъ качествомъ обладаютъ люди только очень добрые, и доброта эта, какъ въ зеркалѣ, отражается въ ихъ глазахъ.
Вѣра душою, сердцемъ почувствовала, что Салатинъ будетъ ея другомъ и, не любя его еще, какъ женщина, полюбила, какъ человѣкъ. И ей хотѣлось кому-нибудь сказать объ этомъ, хотѣлось подѣлиться съ кѣмъ-нибудь той радостью, которая наполняла ее. Подѣлиться можно было лишь съ Настенькою, но не выслушала ее Настенька, мимо ушей пропустила задушевныя рѣчи Вѣры. He до того было „модной дѣвицѣ“, почувствовавшей въ рукахъ деньги, большія деньги…
Настенька на этотъ разъ очень поспѣшно оставила домъ Ярцевой и объяснила свой скорый отъѣздъ тѣмъ, что будто-бы поссорилась съ Васею; обидѣлъ онъ ее, капризничалъ…
Вѣра осталась одна.
– Читать буду!… – сказала она бабушкѣ, но не читала, а сѣла у своего любимаго окна, положила голову на руки и задумалась.
Въ послѣднее время дѣвушка часто сидѣла такимъ образомъ, и много-много думъ проносилось въ ея юной головкѣ…
XIII.
Въ такой же отдѣльной комнатѣ, въ нижнемъ этажѣ, сидѣла одна-одинешенька мать Вѣры.
Измѣнилась за послѣдніе дни Анна Игнатьевна, похудѣла, поблѣднѣла, морщинки глубже легли на ея красивомъ бѣломъ лбу, и тоже думы, но тяжелыя-тяжелыя гнѣздились въ ея головѣ…
Она пришла въ домъ матери искать не забвенія прошлому, не ласки и участія, не любви, а богатства. Съ обманомъ пришла и съ надеждою на скорую смерть этой матери, въ которой она давно уже потеряла мать, а видѣла лишь богачку, должную ей оставить крупное состояніе, должную дать ей независимость, положеніе, свободу… А мать такъ бодра еще, такъ еще здорова, что можетъ прожить много лѣтъ. Пріѣздъ „внука“ оживилъ ее, далъ ей новыя силы, и она жаждетъ еще жизни, чтобы увидать счастье этого „внука“…
Сколько, такимъ образомъ, ждетъ еще мукъ Анну Игнатьевну, сколько тревогъ!… Что испытываетъ она каждую минуту, думая, что вотъ-вотъ обнаружится обманъ, – и все пропало!… Вѣдь, тогда лично для Анны Игнатьевны все будетъ кончено. Ее вторично прогонятъ изъ этого дома, но уже навсегда. Дочку ея, быть можетъ, и пріютятъ, да что ей изъ того? He для дочки она задумала все это, а для себя; ей хочется жить, ей… Развѣ она жила до сихъ поръ?… Нѣтъ. Сперва нужда съ больнымъ мужемъ, вѣчная забота о кускѣ хлѣба, потомъ мимолетная связь съ отцомъ Вѣры, который безжалостно бросилъ ее и забылъ, насмѣявшись надъ нею и оставивъ ее на произволъ судьбы съ ребенкомъ… Долгіе годы новой нужды, заботы о кускѣ хлѣба, вѣчныя лишенія… А хотѣлось жить, наслаждаться…
И, должно быть, никогда не дождаться ей „настоящей“ жизни… Вотъ-вотъ обнаружится обманъ, откроется тайна!… Что-то очень ужъ дружна Вѣра съ этой хитрой Настенькою, у которой такіе хищническіе глаза… He открылась ли она ей?… Кое какіе намеки слышала Анна Игнатьевна, кой-какіе взгляды поймала… Что-то не ладно тутъ, да и Вѣра какая-то странная стала… А тутъ еще этотъ Салатинъ появился… Ловкій такой, умный, проницательный… Хочетъ онъ заняться съ Вѣрой, хочетъ образовать ее, будетъ къ себѣ возить и узнаетъ, конечно, тайну…
– Нѣтъ, это пытка! – съ тоскою воскликнула Анна Игнатьевна. – Такъ жить нельзя… Надо увезти куда-нибудь Вѣру, надо придумать что-нибудь, а то все пропадетъ и погибнетъ… Уйдетъ изъ рукъ счастье, a вѣдь, ужъ совсѣмъ близко оно…
Анна Игнатьевна дождалась поздней ночи, когда все спало въ домѣ крѣпкимъ сномъ и отправилась къ дочери наверхъ.
Надо было многое переговорить съ нею, надо было все выпытать отъ нея и дать инструкцію…
Вѣра спала, когда къ ней пришла мать.
Закинувъ руки за голову, лежала дѣвушка на своей кроваткѣ и спала крѣпкимъ, сладкимъ сномъ. Свѣтъ отъ лампады освѣщалъ личико дѣвушки, на которомъ играла улыбка.
Легкое одѣяло сбилось, открывъ часть груди, которая мѣрно и ровно подымалась.
„Скверная дѣвченка, какъ она неосторожна! – подумала Анна Игнатьевна, входя въ комнату. – Какъ я приказывала ей запирать за собою на ночь дверь!…“
Анна Игнатьевна подошла къ кровати, поглядѣла на дочь и разбудила ее легкимъ прикосновеніемъ.
Вѣра потянулась, открыла глаза и приподнялась на локтѣ.
– Ахъ, это ты, мама!… Что ты?… Развѣ ужъ пopa вставать?…
– Нѣтъ… Я пришла взглянуть – заперла ли ты дверь и убѣдилась, что для тебя приказанія мои ничего не значатъ: дверь не заперта…
– Прости, мама, я забыла сегодня… я…
– Нельзя этого забывать! – перебила мать. – Ты не ребенокъ, ты должна понимать…
Анна Игнатьевна сѣла на край кровати, поставивъ на ночной столикъ зажженную свѣчку.
– Я пришла поговорить съ тобою… Днемъ намъ почти нельзя, ты все съ Настенькою этой, дружба у васъ такая… Меня пугаетъ эта дружба…
– Почему, мама? – спросила Вѣра, боясь смотрѣть въ глаза матери.
– Потому, что она очень хитра, а ты глупа и неосторожна… Она можетъ вывѣдать отъ тебя тайну…
Вѣра потупилась и тревожно завертѣлась, точно камни подъ нею очутились вмѣсто мягкой пуховой постѣли. Это не ускользнуло отъ вниманія Анны Игнатьевны. Она испуганно взглянула на дочь, порывистымъ жестомъ взяла ее за руку и впилась въ нее глазами.
– Вѣра!…
– Что, мама?…
– Погляди мнѣ въ глаза… Прямо-прямо гляди на меня… Да не отвертывайся же, не потупляй глазъ!…
Вѣра употребила всѣ силы и остановила на матери взглядъ.
– Ты… ты не открыла Настенькѣ нашу тайну? – медленно, не спуская съ дочери испытующаго взгляда, спросила Анна Игнатьевна.
Вѣра слегка потянула изъ рукъ матери свою руку, опустила глаза, поблѣднѣла и едва слышно проговорила:
– Нѣтъ, мама…
– Лжешь!!…
Анна Игнатьевна до боли стиснула руку дочери.
– Лжешь!… Ты сказала ей… Сказала?… Да?… Говори же, говори, не мучь меня!… Да говори же, a не-то я тебѣ руки выверну, переломаю кости!… Н-ну!…
И Анна Игнатьевна, съ перекосившимся лицомъ, съ опустившимися зрачками глазъ, хриплымъ голосомъ повторила свое приказаніе, ломая руки дочери.
– Ой! – крикнула Вѣра. – Пусти, мама… Больно… Мама, не мучай меня, прогони меня, будь одна наслѣдницей бабушки, а мнѣ ничего не надо… Я не могу больше выносить этой пытки, у меня силъ не хватаетъ…
– Говори мнѣ сію минуту – знаетъ ли эта дѣвченка о нашей тайнѣ? – сдерживая бѣшенство сказала Анна Игнатьевна. – Говори!…
– Да… Да… она знаетъ… Мама, прости меня! – прошептала Вѣра. – He бойся, мама!… Настенька не скажетъ никому, никто не узнаетъ…
– Когда сказала? – глухо спросила Анна Игнатьевна.
– Недавно, мама… Прости меня…
– Говори – когда сказала и зачѣмъ?… Догадалась она? Выпытала?
Анна Игнатьевна задыхалась отъ волненія, хватала себя за грудь, искала глазами воды и, замѣтивъ на окнѣ графинъ, выпила нѣсколько глотковъ черезъ край. На нее страшно было глядѣть.
Успокоившись немного, она подошла къ трясущейся, какъ въ лихорадкѣ, дочери и заставила говорить ее.
Вѣра разсказала все, немного лишь измѣнивъ суть дѣла и не признавшись въ томъ, что она по собственной волѣ открыла все Настенькѣ.
– Настенька узнала сама, догадалась и заставила признаться, велѣла взять у бабушки денегъ…
Съ напряженнымъ вниманіемъ слушала Анна Игнатьевна этотъ разсказъ.
Долго-долго сидѣла она, не говоря ни слова.
Вѣра боялась поднять на нее глаза и, прижавшись въ уголъ, не смѣла нарушить зловѣщую тишину своимъ дыханіемъ.
А слезы такъ и душили ее.
Она не выдержала бы, наконецъ, зарыдала бы, какъ вдругъ ее поразилъ странный звукъ.
Она вздрогнула и взглянула на мать.
Анна Игнатьевна, схватившись руками за свои роскошные, но уже тронутые кое-гдѣ сѣдиною, волосы, не плакала, не рыдала, а какъ-то вскрикивала, содрагаясь всѣмъ тѣломъ, точно отъ невыносимой пытки, точно ее жгли на медленномъ огнѣ или потихоньку жилы изъ нея тянули.
– Мама!… – несмѣло окликнула Вѣра.
Анна Игнатьевна очнулась отъ этого оклика и быстро повернулась къ дочери.
– Успокойся, милая мамочка, не мучь себя!…
– Еще ты смѣешь говорить! – перебила Анна Игатьевна дочь. – Знаешь ли ты, что ты надѣлала?… Вѣдь, теперь все… все погибло! Насъ выгонятъ отсюда, мы будемъ болѣе нищими, чѣмъ были, если только насъ не посадятъ въ острогъ!… Ты отняла, ты украла у себя и у меня счастіе!… Пойми… счастіе!… О, какъ поплатишься за это… Я тебѣ не прощу этого, нѣтъ!… Вѣдь теперь эта проклятая дѣвченка, Настька эта, она будетъ заставлять тебя красть у бабушки каждый день, пока тебя не поймаютъ, воровку… Что ты сдѣлала?… Какъ ты смѣла сдѣлать это?…
Анна Игнатьевна опять зарыдала и вышла изъ комнаты. Вѣра тоже заплакала и долго не могла заснуть…
Она пролежала бы весь слѣдующій день, но мать часу въ десятомъ зашла къ ней и приказала вставать и одѣваться.
– Я должна идти куда-нибудь съ вами? – спросила Вѣра.
– Да.
– Я не пойду… Я боюсь васъ…
Анна Игнатьевна ничего не отвѣчала на это, вышла изъ комнаты, но скоро вернулась и холодно-сухо, но покойно сказала дочери:
– Ты не пойдешь со мною! я отдумала. О вчерашнемъ ты должна забыть… Настѣ не говори, что я все знаю. Я еще поправлю испорченное тобою и добьюсь того, что мы обѣ будемъ счастливы… Одѣнься и сойди внизъ…
Анна Игнатьевна теряла голову…
Все продано теперь, все рушилось и не богатство ждало ее въ этомъ домѣ, a – позоръ, горе, быть можетъ судъ…
Глухая ненависть закипала у ней въ груди на „модную дѣвицу“ Настеньку, но не менѣе того зла она была и на дочь.
Что было дѣлать?…
Порою Анна Игнатьевна, не владѣя больше собою, хотѣла идти въ комнату дочери и избить ее до полусмерти, мѣста живого не оставить, изтерзать, изорвать, а потомъ открыться во всемъ матери и сложить руки, ожидая удара судьбы…
Но сперва хорошо бы потѣшиться надъ Настенькою…
Отъ этой мысли у Анны Игнатьевны красные круги вставали передъ глазами, зубы стискивались…
Ужъ и потѣшилась бы она!… Вѣдь всего лишила ее эта дѣвченка, всего… Теперь ходитъ довольная такая, веселая; ожидаетъ великихъ и богатыхъ милостей…
– He дождется, не дождется! – думала Анна Игнатьевна, закипая ненавистью. – Думаешь, проклятая, что счастье себѣ нашла, а найдешь гибель!… За одно ужъ пропадать-то…
Эта жажда мести не давала покоя Аннѣ Игнатьевнѣ; и вотъ одинъ разъ вечеромъ, когда Фіона Степановна была у Ярцевой, и Настенька, по ея словамъ, домовничала, Анна Игнатьевна собралась привести свой планъ въ исполненіе.
Она быстро допила чашку чаю, отказалась отъ слѣдующей и встала.
– Куда ты? – спросила Ольга Осиповна.
– Пройдусь немного, голова что-то болитъ…
Она быстро одѣлась и вышла на улицу.
Черезъ полчаса извозчикъ подвозилъ ее къ уединенному домику Заварихи.
Анна Игнатьевна вошла въ калитку, заперла ее за собою, быстро вбѣжала по ступенькамъ крылечка и постучалась. Сама Настенька отперла ей дверь.
– Батюшки, Анна Игнатьевна! – съ удивленіемъ воскликнула она. – Вотъ неожиданность-то…
Настенька нѣсколько тревожнымъ взгядомъ осматривала нежданную гостью, словно чуя что-то, и не приглашала ее въ комнаты, не помогала ей снять кофточку.
– Что-жъ это вы такъ нелюбезно встрѣчаете меня? – спросила Анна Игнатьевна. – Даже и въ комнаты не приглашаете…
– Милости просимъ… Такъ неожиданно вы…
– Дѣло имѣю… У васъ никого нѣтъ?
– Никого…
– Ну, вотъ и поговоримъ…
Анна Игнатьевна вошла въ комнатку Настеньки, гдѣ дѣвушка работала передъ этимъ, и сѣла у окна; окно, выходящее въ садикъ, было открыто.
– Можно закрыть? – спросила Анна Игнатьевна. – Я простуды боюсь.
– Пожалуйста… Чѣмъ угощать васъ?… Намъ старушка одна прислуживаетъ, но ее теперь нѣтъ…
– Нѣтъ?…
– Да, нѣтъ, а я сама ставить самоваръ не могу, – руки испортишь…
Настенька показала свои бѣленькія выхоленныя руки.
– Варенья не хотите ли? – спросила она.
– Нѣтъ…
Анна Игнатьевна оглянулась кругомъ.
„Вотъ схвачу сейчасъ за глотку и повалю на кровать! – думала она. – Ротъ платкомъ въ одинъ мигъ закрою, руки этимъ вотъ полотенцемъ скручу… И не пикнетъ, – гдѣ ей!… Возьму вотъ аршинъ желѣзный и начну имъ молотить!… Косы повырываю, „маску“ всю ея смазливую исцарапую… Натѣшусь вдоволь, отведу душеньку, а дома Вѣрку изобью… Изломали мою жизнь, встали на дорогѣ, вырвали счастье, такъ вотъ же вамъ!“…
– Какое же у васъ дѣло, Анна Игнатьевна? – спросила Настенька, съ недоумѣніемъ и со страхомъ, глядя на странную гостью.
Анна Игнатьевна дрогнула отъ звука ея голоса.
– Дѣло?… Есть, есть дѣло…
Она сѣла съ Настенькой рядомъ, совсѣмъ близко.
„А что, если придушить ее?“ – мелькнула въ воспаленной головѣ Анны Игнатьевны мысль.
Она вся похолодѣла отъ этой внезапной мысли.
„Все и кончится!… Никто не будетъ знать нашей тайны… И никто не узнаетъ ничего… Изломать вотъ этотъ комодъ, захватить кой-какой хламъ и подумаютъ, что воры были… Либо ей жить, либо мнѣ“…
– Какое же именно дѣло? – спросила Настенька.
– А вотъ какое!…
Анна Игнатьевна бросилась на дѣвушку, повалила ее, завязала ей голову большимъ платкомъ, который лежалъ на подушкахъ кровати и стала крутить полотенцемъ руки.
Произошло это въ одинъ мигъ. Дѣвушка шатнулась, вырвалась, было, но очень сильная Анна Игнатьевна смяла ее и живо связала руки.
Глухой стонъ слышался изъ-подъ большаго ковроваго платка, который покрывалъ всю голову и лицо дѣвушки.
Анна Игнатьевна, прижимая ее одною рукою къ кровати, засунула другую подъ платокъ, отыскивая шею своей жертвы…
Вотъ и шея… Пальцы Анны Игнатьевны сжались…
Настенька собрала всѣ силы и рванулась. Платокъ соскользнулъ у нея съ головы.
Дикій, нечеловѣческій крикъ вырвался изъ груди дѣвушки и замеръ опять подъ платкомъ, подъ подушкою…
Началась борьба, страшная борьба за жизнь…
Настенька снова вырвалась.
– Спасите! – крикнула она.
Подушка заглушила этотъ крикъ.
– He убивай!… Охъ, не убивай!… Жить хочу, жить!… Да, вѣдь, не одна я знаю тайну-то вашу, не одна!…
У Анны Игнатьевны задрожали руки, и она выпустила свою жертву, но сію же секунду снова схватила ее и руками зажала ей ротъ.
– He кричи! – шепотомъ говорила она. – He кричи, не рвись – не трону больше… Сиди смирно, говори… Говори мнѣ… Закричишь, если рваться будешь – задушу, a то ничего, ничего… Говори… He одна знаешь?
Настенька глубоко вздохнула и блѣдная, какъ полотно, широко раскрытыми глазами смотрѣла на свою страшную гостью.
– Тетка знаетъ, – прошептала она.
– Проклятая!…
Настенька, дрожа всѣмъ тѣломъ, соскользнула на полъ и опустилась на колѣни; руки ея были крѣпко связаны полотенцемъ.
– He убивайте! – простонала она. – Никому, никому не скажу, никогда…
– А тетка?
– И ее умолю!…
– Поздно!… И про то всѣмъ скажешь, и про это вотъ… про то, что сейчасъ было… Погибла я… Я погибла, да и ты…
– Зачѣмъ?… Вмѣстѣ будемъ дѣлать…
Анна Игнатьевна встрепенулась.
– Вмѣстѣ?…
– Да… Все устроимъ… Много, вѣдь, у старухи денегъ, очень много, – хватитъ и вамъ, и мнѣ и теткѣ… безъ страшнаго грѣха, безъ крови…
– Настя!…
– Да, да, безъ крови… Зачѣмъ вы убьете меня?… Завтра-же, сегодня-же все узнаютъ и каторга, – зачѣмъ?… Счастье придетъ, а не каторга, деньги, богатство…
– Да, да, такъ лучше!…
Анна Игнатьевна подняла дѣвушку и посадила.
– А не скажешь, Настя?…
– Зачѣмъ?… Разсчету нѣтъ, – вѣдь и мнѣ деньги-то придутъ…
– И простишь?… Сегодняшнее-то простишь?…
– Прощаю… Рязвяжите меня, не бойтесь…
– Страшно, Настасья!… Закричишь, выдашь меня, все погубишь…
– Да зачѣмъ-же?… Я хочу богатою быть… Говорю, что всѣмъ хватитъ, а убьете, такъ сгинетъ все… Развяжите…
Анна Игнатьевна быстро развязала полотенце, бросилась передъ Настею на колѣни и стала цѣловать ея руки, на которыхъ такъ и горѣли яркими полосами знаки отъ полотенца.
– Настя, Настя, прости ты меня, помогай ты мнѣ, а я съ тобою пополамъ все раздѣлю, все пополамъ! – рыдала Анна Игнатьевна.
Настя сидѣла молча и тяжело дышала.
– Воды! – прошептала она.
Анна Игнатьевна заметалась по комнатѣ.
– Въ кухнѣ, въ ведрѣ! – еще тише прошептала Настя и тихо, тихо упала на подушки.
Около четверти часа возилась съ нею Анна Игнатьевна, приводя ее въ чувство.
Настя очнулась.
– Охъ, сколько грѣха съ деньгами-то! – проговорила она.
– Много, Настя!… Да, вѣдь, и радостей съ ними много…
– Много!…
– Ну, и возьмемъ, и возьмемъ… Забываешь все, Настя?
– Забываю…
– Такъ твоя теперь я, навѣки твоя!… Чуть грѣха не надѣлала, страшнаго грѣха, да за то теперь покойна… Поцѣлуй меня, голубка моя, и прости, не помни мнѣ лиха, – безъ ума, безъ разума дѣло дѣлала, голову потеряла…
Долго еще сидѣла Анна Игнатьевна у Насти и ушла, пріобрѣтя себѣ во вчерашнемъ врагѣ крѣпкаго, умнаго и надежнаго друга…
XIV.
Ольга Осиповна замѣтила пропажу денегъ.
Деньги у нея были не считаны; она никогда не знала, сколько у нея дома кредитныхъ билетовъ, бумагъ, купоновъ и звонкой монеты, какъ не знала хорошенько и вообще своихъ капиталовъ; но произведенный Вѣрою безпорядокъ не ускользнулъ отъ вниманія старухи, и она задумалась, встревожилась.
Кража была, несомнѣнно, дома, но кто совершилъ ее?
На испытанную прислугу думать было рѣшительно невозможно, – кто же ходилъ за деньгами, кто укралъ ихъ?…
Старуха вспомнила, что сквозь сонъ слышала чьи-то шаги и, словно-бы, видѣла Васю…
He онъ-ли?
Старуха похолодѣла отъ этой страшной мысли.
Неужели ея внучекъ воръ?…
Воръ!… Вора она такъ полюбила, къ вору такъ привязалась!… вору, негодяю, оставитъ она добро свое!…
А больше некому украсть, рѣшительно, некому… Да и видѣла Ольга Осиповна сквозь сонъ внука, несомнѣнно, видѣла.
Мудренаго нѣтъ, что и воришка онъ. Гдѣ онъ воспитывался? Какъ?… Шалая, до юныхъ лѣтъ, „отчаянная“ матушка его только, чай, франтила, гуляла, а о сынѣ и не думала; ну, и росъ онъ на свободѣ, безъ призора, съ дурными товарищами…
Тихонькій онъ, робкій, нѣжный, какъ красная дѣвица; да, вѣдь, не даромъ говорится что… въ тихомъ омутѣ черти водятся!…
При бабушкѣ онъ такой, а безъ нея можетъ и куритъ, и на билліардѣ играетъ, и всякими „художествами“ занимается?
Видала на своемъ вѣку Ольга Осиповна такихъ дѣтокъ купеческихъ, знавала…
Надо мамашеньку его допросить первымъ долгомъ.
Ольга Осиповна позвала дочь, заперлась съ нею въ своей горницѣ и разсказала о пропажѣ денегъ.
– И вы на Васю думаете? – съ притворнымъ негодованіемъ спросила Анна Игнатьевна.
– He на кого больше…
– Грѣхъ вамъ, маменька!…
– Всегда, голубушка, тотъ, у кого украдутъ, больше грѣшитъ, чѣмъ самъ воръ!… Воръ укралъ, одного обидѣлъ, а обокраденный на сто человѣкъ поклепъ дѣлаетъ!… Можетъ и грѣхъ, а только думать мнѣ больше не на кого…
– У васъ прислуга есть…
– Какая?… Которая во дворѣ, та не могла попасть въ горницы, а которая въ горницахъ, ту я знаю… Несчитанныя деньги лежали не запертыми; ключи у прислуги-то бывали пo цѣлымъ недѣлямъ, когда я хворая лежала…
– Можетъ и крали тогда! – замѣтила Анна Игнатьевна…
– Сроду не бывало!…
– А Вася такой ли, чтобъ воровать, маменька?… Похожъ-ли на вора?…
– Много ты знаешь!… Чай, своими нарядами занималась, а не воспитаніемъ его…
– Много пропало денегъ? – спросила Анна Игнатьевна.
– Почемъ я знаю?… He считано у меня… Очень много не могло быть…
– Такъ не лучше ли втунѣ все оставить?… Скандалъ пойдетъ, слѣдствіе…
– Слѣдствія я не желаю! Боже, сохрани отъ этого!… И денегъ мнѣ не жаль, а важно знать правду! – пойми это… Что если онъ, Вася, укралъ-то?… Что будетъ?… Кому я добро свое отдамъ?… Допросить его надо.
– Я допрошу…
– А не скажетъ если?
Анна Игнатьевна пожала плечами.
– Лучше я сама, – проговорила старуха.
– Вамъ почему-же скажетъ?
– Попугаю… Можно и посѣчь…
– Посѣчь?!.
– А что-же такое?… Отъ розги не умретъ, розга костей не поломаетъ, а правду узнаетъ…
– А если онъ не виноватъ?…
– Говорю тебѣ, что больше некому!… Онъ взялъ, онъ!… Признается, скажетъ, куда дѣвалъ деньги, всѣ продѣлки свои скажетъ; такъ, можетъ, еще исправить можно, человѣкомъ сдѣлать… Отдадимъ въ люди, въ хорошія руки отдадимъ и, можетъ, наставятъ на путь истинный, а такъ бросить, такъ гибель ему вѣрная… Позови его сюда, вмѣстѣ и допросимъ…
– А если не скажетъ?
– Подъ розгами скажетъ.
– Жестоко это…
Старуха разсердилась.
– Будетъ врать-то! – крикнула она. – Это у васъ у новомодныхъ все жестоко да жестоко, a пo нашему ничего… Насъ драли… Братьевъ, бывало, отецъ до полусмерти дралъ и меня не щадилъ, равно какъ и покойница маменька… Это по вашему, по модному не годится-то… Ступай что ли, а то я и безъ тебя обойдусь, – людей позову… Тебѣ же будетъ хуже, коли весь дворъ узнаетъ…
Анна Игнатьевна пришла въ отчаяніе.
Что было ей дѣлать?…
He послушаться, отказать матери; и, вѣдь, тогда суровая старуха, дѣйствительно, позоветъ прислугу и скандалъ сдѣлается достояніемъ улицы.
He послушаться совсѣмъ, не дать „сына“ на истязаніе?
Но тогда старуха прогонитъ их обоихъ и все кончится!… разлетится, какъ дымъ, весь хитро придуманный планъ… Надо послушаться…
Аннѣ Игнатьевнѣ нисколько не жаль дочку, нисколько! – пусть истязаетъ ее старуха, но, вѣдь, Вѣра все разскажетъ и опять-таки гибель неизбѣжна…
Анна Игнатьевна стояла у дверей, схватившись за ручку.
– Что же ты? – обратилась къ ней старуха. – Дразнишь меня что-ли?
Вдругъ счастливая мысль разомъ осѣнила Анну Игнатьевну, какъ это иногда бываетъ съ человѣкомъ въ самомъ затруднительномъ, безысходномъ положеніи.
Анна Игнатьевна вернулась къ матери и упала передъ нею на колѣни.
– Что ты? – удивилась старуха. – Чего тебѣ?… Дура, коли сына въ такомъ дѣлѣ защищаешь!… Я, можетъ, люблю его больше, чѣмъ ты и добра ему желаю, спасти его хочу…
– Онъ не виноватъ, маменька, не виноватъ!…
– Какъ?…
– He виноватъ… Это я его послала, я ему приказала… Для меня онъ у васъ деньги бралъ!…
– Ты приказала?… Для тебя бралъ?…
– Да, да, маменька… Простите, простите меня!…
– Да встань, безумная! разскажи въ чемъ дѣло-то, – наклонилась Ольга Осиповна къ дочери.
– He встану, пока не простите, голову себѣ объ полъ разобью!… Безъ гроша жила, великую нужду терпѣла…
– Ну?
– Ну, и дѣлала долги, брала подъ расписки, давала за рубль два, чтобы только получить, да не умереть съ сыномъ съ голоду… Вѣрили, зная, что у меня богатая мать, а проценты брали страшные… Теперь прознали, что я у васъ и явились за полученіемъ, стали грозить судомъ, расписки собрались предъявить…
– Ну?…
– Ну, и рѣшилась… Приказала Васѣ у васъ взять… Онъ плакалъ, не хотѣлъ, но я побила его, обѣщалась увезти его отъ васъ въ Ярославль, грозила новымъ голодомъ, холодомъ, ну, и согласился…
– Почему же не попросила у меня? Почему правду не сказала?…
– He смѣла…
– А сына воровать, такъ смѣла послать?
– Простите!… Васю пощадите, – не виноватъ онъ, одна я во всемъ виновата, съ меня и взыщите, какъ знаете… Что хотите сдѣлайте, я и слова не скажу, хоть подъ розги лягу!…
– И слѣдовало-бы тебя отодрать, слѣдовало бы съ тебя шкуру спустить! ну, да ужъ Богъ съ тобою… Встань!…
Анна Игнатьевна подползла на колѣняхъ къ матери, схватила ея руку и покрыла поцѣлуями.
– Сколько денегъ-то взяла? – спросила старуха.
– Тысячу триста рублей! – на-удачу сказала Анна Игнатьевна.
– Всѣ долги заплатила?
– Съ тысячу еще есть…
– Куда-жъ проживала такую прорву? Прихоти творила?… Носила шелки да бархаты?…
– He до шелковъ было… перебивались съ хлѣба на квасъ…
– Такъ куда-же денегъ столько дѣвала?
– Говорю, что за рубль два платила, a то такъ и больше… Дадутъ сто, а расписку на двѣсти возьмутъ…
– А ты и давала?
– Тяжело, вѣдь, было сына-то голоднымъ видѣть, опять же воспитать его надо было, обучить…
– Обучила наукамъ, а потомъ красть научила?… Хороша мать!… Лучше-бы ужъ сама забралась да грабила, пожалѣла-бы душу-то дѣтскую… „Горе соблазнившему единаго изъ малыхъ сихъ“! говорится въ писаніи…
– Знаю, да боялась сама идти… Вася къ вамъ больше вхожъ… Легче онъ меня, ловчѣе…
Ольга Осиповна задумалась, а дочь все еще стояла передъ нею на колѣняхъ и цѣловала ея руку.
– Встань!… – сказала старуха.
Анна Игнатьевна встала.
– Ладно, пусть на всемъ этомъ нехорошемъ дѣлѣ „крестъ“ будетъ! – заговорила старуха. – Васѣ не скажу ничего, чтобы въ конфузъ его не вводить! тебѣ дамъ еще тысячу, чтобы ты долги отдала…
– Маменька!…
– Постой, не перебивай!… Больше этого при жизни ничего не увидишь отъ меня, а послѣ смерти… ну, тамъ видно будетъ… Васю я въ люди отдамъ, – здѣсь порча ему одна – а ты… ты на отдѣльной квартирѣ жить будешь…
– Гоните опять изъ родительскаго дома, маменька?
– Боюсь, матушка, боюсь!… Вчера сына грабить посылала, а завтра придешь, да и задушишь старуху мать…
– Маменька!…
– Очень просто!… По нынѣшнимъ временамъ все можетъ быть, все… Ну, это пока мы отложимъ, a вотъ Васю надо, немедленно, въ люди отдать…
– Какъ вамъ угодно, – съ покорнымъ видомъ проговорила Анна Игнатьевна.
Въ ея разсчеты не входилъ такой планъ, это было даже не мыслимо, но противорѣчить теперь она находила лишнимъ и согласилась очень покорно.
Она потомъ обдумаетъ что-нибудь, устроитъ, благо все это обошлось такъ хорошо.
– Николаю Васильевичу Салатину отдамъ Васю! – продолжала старуха. – У этого парня человѣкомъ онъ станетъ, на утѣшеніе намъ выростетъ… Какъ думаешь?…
– Лучшаго воспитателя и руководителя трудно найти…
На этомъ пока и порѣшили.
Ушла Анна Игнатьевна отъ матери снабженная тысячью рублями.
XV.
Анна Игнатьевна обдумала новый планъ. Предстоящее сближеніе Вѣрой съ Салатинымъ, затѣянное бабушкою, совсѣмъ не улыбалось Аннѣ Игнатьевнѣ, – вѣдь, это вело къ обнаруженію тайны.
Надо было, во что-бы то ни стало, помѣшать этому сближенію, отдалить Вѣру отъ Салатина, а сдѣлать это было нелегко.
Долго ломала надъ этимъ вопросомъ голову Анна Игнатьевна и наконецъ обдумала планъ.
Дня черезъ три послѣ знаменитой сцены „покаянія“, Анна Игнатьевна вошла въ комнату матери, присѣла по обыкновенію въ уголкѣ робко, скромно и объявила, что ей надо поговорить о важномъ дѣлѣ.
– Что за дѣла такія? – спросила старуха.
Анна Игнатьевна кашлянула въ руку и начала.
– Когда я, живши въ Ярославлѣ, рѣшилась поѣхать къ вамъ, маменька, я дала обѣщаніе поѣхать на богомолье въ Югскій монастырь [6], – это въ Рыбинскомъ уѣздѣ, верстъ сто отъ Ярославля, – если вы примите насъ, простите, если я найду васъ въ добромъ здоровьѣ… Я хочу теперь исполнить это обѣщаніе, маменька…
– И Васю возьмешь?
– Конечно, маменька… Обѣщаніе дано за насъ обѣихъ.
– Надо исполнить, коли дано, этимъ не шутятъ… Поѣзжай…
– Очень вамъ благодарна, мамаша! – низко, низко, словно послушница-монахиня, поклонилась Анна Игнатьевна.
– Поѣзжай! – повторила старуха. – Скучно мнѣ безъ Васи будетъ, привыкла я къ нему, но коли дано обѣщаніе, такъ надо ѣхать…
Старуха задумалась.
– Поѣхать развѣ и мнѣ съ вами? – спросила она.
Анна Игнатьевна чуть не до крови прикусила губы, – это ужъ совсѣмъ не входило въ ея планъ.
– Какъ думаешь, Анна? – продолжала старуха.
– Какъ вамъ угодно, маменька…
Старуха опять задумалась.
– Нѣтъ, не поѣду! – рѣшила она. – Стара стала, хвораю все, а, вѣдь, ѣхать далеко… Далеко, вѣдь?…
– He слишкомъ, маменька… До Ярославля-то хорошо по желѣзной дорогѣ, а вотъ дальше на пароходѣ… сыро, конечно, ну, и качаетъ… Тамъ еще на лошадяхъ верстъ двадцать…
– Нѣтъ, нѣтъ, не могу… Куда мнѣ свои старыя кости трясти!… Хоть бы къ Преподобному Сергію [7] Богъ привелъ съѣздить, – и то хорошо… Долго ли же ты проѣздишь?
– Нѣтъ, мамаша, недолго… Самое большое недѣлю, a то такъ и менѣе.
– Пріѣзжай поскорѣй… Денегъ, чай, надо?
– Если позволите, мамаша…
– Ha этакое дѣло дамъ… He стѣсняй Васю, – слабенькій онъ. Поѣзжай ужъ въ первомъ классѣ, корми его хорошо… Триста рублей достаточно будетъ?
– Вполнѣ, маменька…
Планъ удался, и Анна Игнатьевна ликовала.
Вечеромъ она сообщила свой планъ новому союзнику своему – Настенькѣ.
Та вся такъ и засіяла.
– Ахъ, это очень хорошо, Анна Игнатьевна! – воскликнула она.
– Да, и я такъ думаю… Пріѣдемъ съ Вѣрою въ Ярославль и она заболѣетъ тамъ…
– Заболѣетъ?
– Притворно… Я напишу объ этомъ матери письмо, и буду жить тамъ, сколько мнѣ нужно… Можно-бы и здѣсь уложить Вѣру въ постель, но, вѣдь, тутъ и докторовъ пригласятъ, и Салатинъ придетъ навѣстить „больного родственничка“, а это, конечно, невозможно…
– Да, да, конечно!… Ну, а если старуха пріѣдетъ къ „больному“ внуку… и тамъ начнетъ докторовъ къ нему звать?… Ярославль не за морями.
– He поѣдетъ, слаба она, стара, а болѣзнь будетъ не очень опасная, не смертельная, но заразительная… Поняла?
– Да…
– А если… если Ольга Осиповна умретъ здѣсь безъ васъ? – спросила она. – Старуха, дѣйствительно, слаба становится, а тутъ еще вѣсть о болѣзни любимаго „внука“, разлука съ нимъ…
Анна Игнатьевна потупилась.
– Это будетъ скверно, – сказала она. – Лучше, еслибъ она при жизни, „изъ теплыхъ рукъ“… отдала деньги „внуку“, a то канитель…
– Да, Вѣра, вѣдь, законнымъ путемъ ничего не получитъ, – суду-то вы не скажете, что она мальчикъ…
– Да… Получу только я, какъ единственная дочь… Мнѣ она, конечно, оставитъ что-нибудь, а если нѣтъ духовнаго завѣщанія, такъ и все получу.
– И меня тогда „по шапкѣ“, Анна Игнатьевна? – усмѣхнулась Настенька.
Анна Игнатьевна снова потупилась.
– Я тебѣ клятву дала, что свою долю ты получишь! – проговорила она.
– Ну, клятва – это вещь… легкая, Анна Игнатьевна! – возразила бойкая, опытная въ житейскихъ дѣлахъ Настенька. – Клятвамъ нынѣ не вѣрятъ, а вы мнѣ… вы мнѣ, Анна Игнатьевна, векселекъ напишите…
– Ловка ты и опытная не по годамъ, дѣвка! – криво усмѣхнулась Анна Игнатьевна.
– Ужъ какая есть, не взыщите…
– А если мнѣ мамашенька то оставитъ „гребень да вѣникъ, да грошъ денегъ“, тогда что?… Замытаришь ты меня векселемъ-то…
– Да что-жъ мнѣ васъ нищую-то мытарить?
– А за то… за то, что тамъ было… въ твоемъ домѣ…
– Ну, вотъ!…
– Ты ужъ лучше такъ повѣрь! – продолжала Анна Игнатьевна. – Вѣдь, и тогда тайна-то моя у тебя въ рукахъ будетъ…
– Правда и то… Ладно, послушаюсь, авось, ничего особеннаго не случится…
Въ этотъ-же вечеръ объявила Анна Игнатьевна о своемъ рѣшеніи дочери.
Вѣра затуманилась.
– Что носъ повѣсила? – сурово спросила у нея мать. – Бабушку что-ли жаль?…
– Жаль, мама…
– Нѣжности какія!… Сама вановата, сама все надѣлала… Бабушка-то рѣшила отдать тебя въ науку Салатину.
Лицо дѣвушки вспыхнуло яркимъ румянцемъ.
– Николаю Васильевичу? – воскликнула она.
Краска эта не ускользнула отъ вниманія Анны Игнатьевны.
– Да, Николаю Васильевичу… Все тогда пропало… Ты что покраснѣла-то это?…
– Ничего, мама! – въ сильнѣйшемъ смущеніи отвѣтила Вѣра.
– То-то!… He влюбилась-ли еще съ большого ума въ парня-то?… На что другое, такъ мы дуры, а на это, такъ насъ хватитъ… Смотри у меня!… Надѣлала хлопотъ, надѣлала бѣды, такъ еще не надѣлай, ему не разболтай!…
Анна Игнатьевна подошла къ дочери и взяла ее за обѣ руки.
– Помни, Вѣрка, что тогда нѣтъ тебѣ пощады! – прошептала она, зловѣщимъ взглядомъ смотря на дочь.
Вѣра заплакала.
– Будетъ! – крикнула Анна Игнатьевна. – Такую „любовь“ задамъ, что небо съ овчинку покажется!…
Она толкнула дочь и ушла, рѣшивъ уѣхать какъ можно скорѣй, а до отъѣзда не допускать Вѣру до Салатина.
Дѣвушка и сама избѣгала Николая Васильевича.
Она полюбила этого ласковаго, „важеватаго“ красавца, полюбила первою любовью, которая, какъ вешній цвѣтокъ, распустилась въ ея юномъ сердцѣ…
Полюбила… влекло ее къ Салатину, но она смертельно боялась встрѣчи съ нимъ, совершенно не умѣя ему лгать, и бѣгала отъ него подъ разными предлогами, сгорая желаніемъ видѣть его, говорить съ нимъ, слушать его голосъ…
Страдала она ужасно!…
Страдала отъ тоски по немъ, страдала въ своей роли „самозванки“, страдала отъ страшной лжи…
Страдала и отъ того еще, что видѣла сближеніе Салатина съ Настенькою…
„Модная дѣвица“ добилась таки этого сближенія.
Врядъ-ли она сколько-нибудь нравилась этому молодому человѣку, – она была, что называется, „героиня не его романа“, но она сдѣлала такъ, что Салатинъ началъ интересоваться ею, и когда бывалъ съ нею, то не скучалъ.
He умѣя занять Салатина разговорами, (его трудно вѣдь было заинтересовать романами о похожденіяхъ маркизовъ Альфредовъ и виконтовъ Добервилей), Настенька отлично научилась „искусству слушать“. Она подсаживалась къ Салатину и предлогала съ видомъ страшно любознательной дѣвушки одинъ вопросъ, другой, третій, хорошо изучивъ вкусы молодого человѣка, его симпатіи и влеченія.
Онъ начиналъ ей отвѣчать, разсказывать, увлекался ролью ментора, лектора, – такая роль была въ его натурѣ, – а Настенька слушала съ напряженнымъ вниманіемъ и дѣлала видъ, что ловитъ каждое слово, что учится, просвѣщается, совершенствуется…
Это очень льстило молодому „развивателю“, и онъ очень охотно бесѣдовалъ съ Настенькою, самъ уже искалъ ее, даже скучалъ, когда ея не было.
Настенька торжествовала, влюбленная въ Салатина, а бѣдная Вѣра страдала все больше и больше. Страданія ея доходили до кульминаціонной точки.
День отъѣзда между тѣмъ наступилъ.
XVI.
Въ день, назначенный для отъѣзда, Вѣрѣ стало невыносимо тоскливо и грустно.
Помимо разлуки съ Салатинымъ, близость котораго, самое существованіе въ Москвѣ уже утѣшали ее – она грустила и по бабушкѣ, горячая привязанность которой глубоко трогала дѣвушку.
Вѣра знала, что уѣдетъ она согласно планамъ матери надолго, быть можетъ, никогда не увидитъ уже старую бабушку, слабѣющую все болѣе и болѣе…
Навсегда прощалась она мысленно и съ Салатинымъ.
Онъ полюбитъ тутъ Настеньку, женится на ней…
Тяжело, тяжело становилось дѣвушкѣ и какъ въ ссылку отправлялась она въ Ярославль, который когда-то любила.
Увы… не только протестовать, но и просить она не смѣла, запуганная матерью…
Въ день отъѣзда бабушка уѣхала утромъ помолиться въ Симоновъ монастырь [8], гдѣ былъ какой-то праздникъ. Анна Игнатьевна отправилась купить кое-что для дороги. Вѣра осталась одна.
Съ Настенькою простилась она наканунѣ, и „модная дѣвица“, счастливая своею любовью, полная радостных надеждъ, простилась съ Вѣрою ласково, обѣщала писать ей въ Ярославль и сообщать всѣ новости.
Осенній денекъ былъ теплый, солнечный, и въ саду, позлащенномъ уже осенью, дышалось легко, привольно. Тяжесть тоски словно стала легче въ измученной душѣ дѣвушки.
Она походила по дорожкамъ, нарвала букетъ цвѣтовъ на память о домѣ бабушки, – теперь и были въ саду только настурціи да печальныя иммортели [9], – и сѣла въ бесѣдкѣ подъ густыми липами, гдѣ любила, бывало, проводить время.
Вдругъ мимо забора звонко зашуршали резиновыя шины, и кто-то остановился у воротъ.
Щелкнула калитка, залился грознымъ лаемъ дворовый цѣпной песъ и сейчасъ замолчалъ, видно узнавъ знакомаго.
– Дома Ольга Осиповна? – раздался громкій звонкій голосъ.
Вѣра такъ и дрогнула вся, – она узнала Салатина.
– Никакъ нѣтъ, Николай Васильевичъ! – отвѣчалъ дворникъ. – Уѣхали въ Симоновъ монастырь…
– А Анна Игнатьевна?
– Онѣ въ городъ уѣхали, Николай Васильевичъ… Только, стало-быть, молодой хозяинъ нашъ дома…
– Вася?
– Такъ точно…
– Съ барышнею онъ что-ли?
– Никакъ нѣтъ, – одни… Въ саду прогуливаются… Прикажете позвать, сударь?
– Я самъ пройду въ садъ…
У Вѣры сильно-сильно забилось сердце.
Она оправила пиджакъ, – ахъ, и замучилъ ее этотъ пиджакъ! – пригладила волосы, которые отрасли у нея за послѣднее время и стала въ темный уголъ бесѣдки, держась за сердце, которое было готово выскочить изъ груди…
Салатинъ вошелъ въ садъ, обогнулъ клумбу съ зеркальнымъ шаромъ на пьедесталѣ и остановился.
– Вася, гдѣ ты? – крикнулъ онъ. – Вася!…
– Я здѣсь, Николай Васильевичъ! – отвѣтила дѣвушка, собравъ всѣ силы, чтобы быть покойною, что-бы голосъ не дрожалъ и не выдалъ ее.
– А, вонъ ты куда забрался!…
Салатинъ вошелъ въ бесѣдку.
– Что-жъ это ты, Вася, въ бесѣдкѣ тутъ сидишь, а?… Теперь не жарко и на солнцѣ, лучше надо имъ пользоваться… Скоро-скоро, Вася, минуютъ теплые ясные деньки и осень наступитъ!… Ну, здравствуй, дружище!…
Салатинъ пожалъ руку дѣвушки и сталъ рядомъ, снявъ шлапу.
– Пойдемъ въ садъ, Вася! – сказалъ онъ, закуривая папиросу.-Тамъ веселѣе, вольготнѣе…
– У меня голова что-то болитъ, Николай Васильевичъ… Я боюсь на солнцѣ…
– Ну, какъ хочешь, будемъ здѣсь сидѣть… Что-жъ это ты все куксишся, мальчикъ, а?… Кажется, такой важненькій, румяный былъ, а все киснешь… Балуютъ тебя бабы, Васюкъ, вотъ что! He пo мужски воспитываютъ тебя, ну, ты и разнѣжился… Надо за тебя приняться будетъ, надо мужчину сдѣлать, а не дѣвченку, какъ бабы хотятъ!… а?…
Салатинъ бросилъ папиросу, наклонился къ дѣвушкѣ, взялъ ее за руки повыше локтей и поставилъ передъ собою.
Вѣра такъ и затрепетала вся.
– Ишь, какой! – продолжалъ Салатинъ. – Рученки тоненькія, безъ мускуловъ, нѣжныя, да и весь, какъ барышня!
Вѣра склонила голову, и слезы градомъ-градомъ побѣжали у нея по щекамъ, по груди ночной крахмальной сорочки, поверхъ лифчика.
– Вася, что съ тобою? – воскликнулъ Салатинъ.
Дѣвушка не имѣла больше силъ впадѣть собою, зарыдала, рванулась было изъ рукъ Салатина, но покачнулась и упала-бы, еслибъ онъ не подхватилъ ее.
Она была въ его объятіяхъ.
– Вася!… Но что же это такое?… Вася!…
– He Вася я… не Вася… а Вѣра! – крикнула дѣвушка и забилась у него на груди въ рыданіяхъ.
– Господи!
Салатинъ положительно растерялся, не теряясь никогда въ жизни. Онъ не зналъ, что подумать; ему казалось, что все это во снѣ снится…
Но это не былъ сонъ.
Дѣвушка юная, прекрасная дѣвушка рыдала у него на груди… Шляпа упала съ головы Вѣры и Салатинъ видѣлъ эти шелковистые волосы, нѣжную тонкую шею, розовыя маленькія уши, а его руки обнимали гибкій стройный и нѣжный станъ начинающей формироваться дѣвушки…
– Боже, да это не сонъ! – воскликнулъ Салатинъ. – Это какая-то тайна…
– Да, это тайна!… – проговорила Вѣра, сдерживая теперь рыданія. – Это тайна, это страшная тайна и я… я погибла!…
– Но въ чемъ дѣло?… Что тутъ такое?…
– Я погибла, погибла!… – въ безумномъ отчаяніи повторяла дѣвушка.
– Нѣтъ! – произнесъ Салатинъ, все еще держа ее въ объятіяхъ. – Я начинаю понимать, я догадываюсь… Я не дамъ васъ въ обиду, я буду вашимъ другомъ… Успокойтесь…
Онъ посадилъ дѣвушку на диванчикъ бесѣдки.
– Я принесу вамъ воды…
– Нѣтъ, нѣтъ, не надо! – остановила его за руку Вѣра. – Тамъ испугаются, узнаютъ, сбѣгутся всѣ… Мнѣ лучше, я не буду плакать… He уходите отъ меня, не оставляйте меня одну ни на секунду…
Вѣра быстро утерла слезы, глубоко вздохнула, подняла шляпу и надѣла ее.
– Ничего, ничего, мнѣ хорошо… Я все, все разскажу вамъ… Только бы не помѣшали онѣ, только бы не вернулась мать!…
– Постойте! – прошепталъ Салатинъ. – Я придумалъ кое-что… Вѣдь вы „Вася“ въ глазахъ прислуги и вотъ я пріѣхалъ къ вамъ и беру васъ кататься… Поняли?… Мы такъ и скажемъ… Я повезу васъ къ себѣ… Или нѣтъ, не къ себѣ, а въ ресторанъ, – вѣдь, это такъ просто, такъ естественно, не правда-ли?…
– Да…
– Мы сядемъ въ кабинетъ, никто не помѣшаетъ намъ, и вы все разскажете мнѣ…
– Какъ вы добры!… Но, вѣдь, я погибну потомъ…
– He бойтесь, моя дорогая!… Васъ Вѣрою зовутъ, да?
– Да…
– He бойтесь, Вѣра… У насъ есть законы, есть права, и я буду вашимъ другомъ, защитникомъ… Клянусь вамъ честью, Богомъ, что васъ не смѣетъ никто пальцемъ тронуть!…
– Какъ вы добры! – повторила дѣвушка, съ восторгомъ и счастіемъ смотря на Салатина. – Я всегда смотрѣла на васъ, какъ на друга, меня влекло къ вамъ, но я не смѣла…
– Такъ смѣйте-же теперь!…
Салатинъ всталъ.
– Ѣдемъ! – воскликнулъ онъ. – Но не принести-ли вамъ воды?… Это освѣжитъ васъ…
– Нѣтъ, ничего… Тутъ вотъ садовая лейка, – я попью немного и умою лицо… Только бы насъ не задержали!…
– Да не бойтесь-же, не бойтесь!… теперь вы внѣ всякой опасности!…
Вѣра взяла садовую лейку, налила изъ нея воды въ пригоршни, выпила нѣсколько глотковъ, потомъ умыла лицо, вытерла его носовымъ платкомъ, поправила волосы гребешкомъ.
– Я готова! – сказала она, вся трепеща отъ волненія и прекрасная, какъ никогда.
Салатинъ не то съ недоумѣніемъ, не то съ восторгомъ смотрѣлъ на нее.
– Ѣдемъ! – сказалъ онъ и вышелъ на дворъ, ведя Вѣру за руку.
– Другъ! – обратился онъ къ дворнику, который мелъ дворъ, – когда вернется Ольга Осиповна или Анна Игнатьевна, такъ скажи, что мы съ Васею уѣхали кататься…
– Слушаю-съ… Къ чаю пріѣдете, Николай Васильевичъ?
– Къ чаю?… А не знаю, милый, не знаю… Такъ ты и скажи барынѣ, – уѣхали, молъ кататься, а можетъ-де и чай будутъ пить гдѣ-нибудь въ городѣ… Понялъ?…
– Такъ точно-съ!
– Ну, вотъ… Почему бы молодому хозяину твоему и въ трактирѣ чаю не попить?… He барышня, вѣдь, онъ!…
– Это дѣйствительно, Николай Васильевичъ…
– Ну, вотъ.
Салатина охватило какое-то особенное чувство веселаго задора, жизни и ожиданія чего-то новаго, чего-то свѣтлаго и радостнаго…
Онъ подсадилъ Вѣру въ пролетку, сѣлъ самъ и приказалъ кучеру ѣхать къ Москворѣцкому мосту…
XVII.
Кучеръ Салатина остановилъ лошадь у ресторана Тѣстова [10], со стороны Театральной площади, гдѣ входъ въ кабинеты.
– Ступай домой! – приказалъ ему Николай Васильевичъ. – Я пробуду тутъ долго…
Они поднялись на верхъ и заняли небольшой кабинетъ.
– Позавтракать прикажете, Николай Васильевичъ? – спросилъ знакомый слуга.
– Да, да… – все еще охваченный оживленіемъ, весело отвѣтилъ Салатинъ. – Водки намъ, милый, да побольше, – видишь, какого я гостя-то привелъ!…
Слуга засмѣялся, бѣгло взглянулъ на Вѣру и, оправляя скатерть, сказалъ:
– Кавалеръ настоящій-съ, пора и водку кушать…
Салатинъ не безъ умысла обратилъ этою шуткой вниманіе слуги на Вѣру – ему хотѣлось замѣтить, какое впечатлѣніе произведетъ переодѣтая дѣвушка.
Половой ничего не нашелъ особеннаго. Стройная, тоненькая, отъ природы не вполнѣ еще развившаяся Вѣра была похожа въ своемъ костюмѣ на хорошенькаго изящнаго мальчика, какіе часто попадаются среди превосходно выкормленныхъ, деликатно воспитанныхъ, холеныхъ съ пеленокъ купеческихъ юношей изъ богатыхъ родовитыхъ купеческихъ семей.
– Что изволите приказать? – спросилъ половой.
– Да чего-нибудь, все равно… Ну, дай намъ бульону по чашкѣ, котлетки какія-нибудь… Чего-нибудь сладкаго потомъ… Ты что любишь, Вася?
– Все равно, – отвѣтила дѣвушка. – Я пить хочу… Чаю, если можно…
– Конечно, конечно… Чаю, Павелъ!…
Половой ушелъ.
– Такъ вотъ, вы кто… вотъ на какую тайну я напалъ въ домѣ Ольги Осиповны! – заговорилъ Салатинъ, подходя къ Вѣрѣ, которая стояла у окна, и взялъ ее за обѣ руки. – Вижу и глазамъ своимъ не вѣрю!…
Вѣра опустила глаза, не отнимая рукъ.
– Вы ничего не подозрѣвали? – тихо спросила она.
– Ничего рѣшительно!… Я немного удивлялся на излишнюю застѣнчивость мнимаго „Васи“, на его нѣжность, на его дѣвичью бѣлизну кожи и румянецъ, но мнѣ приходилось и ранѣе видать такихъ изнѣженныхъ мальчиковъ, особенно воспитанныхъ женщинами… Но что же все это значитъ?… Говорите, милая дѣвушка моя, говорите, я сгораю отъ нетерпѣнія!…
По корридору послышались шаги.
– Потомъ, когда онъ уйдетъ! – проговорила Вѣра, отойдя отъ окна и разглядывая висѣвшую надъ диваномъ картину.
Человѣкъ принесъ чай.
– Мы чайку пока попьемъ, Павелъ! – обратился къ нему Салатинъ. – Я позову тебя, когда будетъ пора давать завтракъ.
– Слушаю-съ.
Когда половой ушелъ, Вѣра сѣла на диванъ рядомъ съ Салатинымъ и разсказала ему всю свою исторію до кражи денегъ у бабушки включительно.
Салатинъ слушалъ съ напряженнымъ вниманіемъ, наклонившись къ дѣвушкѣ и взявъ ее за руку; до чаю и не дотронулись. Только Вѣра сдѣлала нѣсколько глотковъ изъ налитаго стакана.
– Это ужасно! – воскликнулъ Салатинъ, когда Вѣра замолчала, вся блѣдная отъ волненія, со слезами на глазахъ. – Ваша мать жестокая женщина!…
– Она, вѣдь, хотѣла сдѣлать меня богатою!… – замѣтила Вѣра. – Она для меня старалась…
– Э, полноте!… Но не будемъ говорить объ этомъ… Надо теперь обдумать планъ нашихъ дѣйствій…
– Я погибла, если мама узнаетъ про то, что случилось…
– He бойтесь… Повторяю вамъ, что вы внѣ всякой опасности… Я все устрою, все сдѣлаю…
Салатинъ выпилъ залпомъ остывшій стаканъ чаю, закурилъ папиросу и принялся ходить по кабинету большими шагами.
– Я васъ не пущу пока въ домъ Ольги Осиповны! – сказалъ онъ, снова садясь съ Вѣрою.
– Да?…
– Да… Такъ будетъ лучше… Я помѣщу васъ пока къ одной знакомой старушкѣ, гдѣ вамъ будетъ отлично, а самъ буду дѣлать, что нужно…
– Но какъ-же бабушка, мама?…
– Матери вашей я скажу всю правду…
– Боже мой!…
– Да не бойтесь-же, дорогая, милая Вѣра!… Увѣряю васъ, что для васъ нѣтъ никакой опасности… Бабушкѣ я скажу вотъ что: мы поѣхали кататься, лошадь испугалась, понесла, вы выпрыгнули изъ пролетки и повредили ногу. Опасности никакой, – просто вывихъ, но вы въ лѣчебницѣ у моего знакомаго доктора и вамъ нуженъ покой, къ вамъ никого не пускаютъ… Вотъ и все…
– А Настѣ что вы скажете?
Салатинъ нахмурился.
– Этой барышнѣ придется сказать правду… Какъ опротивѣла мнѣ теперь!… Бръ!…
– Ей такъ хочется жить, – попробовала защитить Вѣра.
– He заступайтесь!… Жить каждому хочется; но у кого есть душа, у кого сердце, тотъ не будетъ идти къ своей цѣли, давя и губя другихъ… Она злая и вредная дѣвченка!… О, я ей намылю голову, я нагоню на нее холоду!…
– А она… она не будетъ мнѣ мстить?… He погубитъ меня?…
– Она подожметъ хвостъ, какъ наблудившая собака, которой показали хлыстъ!… Развѣ она не участница этой преступной затѣи?… Развѣ она не заставляла васъ брать у старухи деньги?
– А я брала… я крала у бабушки!… – Вѣра закрыла лицо руками.
– Перестаньте, дорогая!… Вѣдь, васъ угрозами, муками заставляли дѣлать это и вы грошикомъ не попользовавшись изъ этихъ денегъ… Нѣтъ, вы не виноваты, виноваты другія, безсердечныя, корыстолюбивыя!…
Вѣра съ мольбою во взглядѣ обратилась къ Салатину и взяла его за руку.
– Моя мама… мама не отвѣтитъ за это? – спросила она. – Она не попадетъ подъ судъ?…
– Нѣтъ… Надо замять это дѣло, оно будетъ на вѣки тайною отъ всѣхъ… Ho будемъ завтракать, a то подумаютъ, что мы дѣлаемъ тутъ фальшивыя монеты… За завтракомъ я сообщу вамъ мои дальнѣйшія планы…
Салатинъ позвонилъ.
– Завтракъ намъ! – приказалъ онъ вошедшему половому. – Вася, ты пьешь кокое-нибудь вино?
– Нѣтъ.
– Ну, стаканчикъ краснаго выпьешь со мною, – это ничего… Подавай, Павелъ… Водки дай, икры, еще чего-нибудь соленаго, – я проголодался и очень хочу ѣсть…
За завтракомъ условились, что надо дѣлать.
Они сейчасъ поѣдутъ на извозчикѣ въ Сокольники. По дорогѣ Салатинъ купитъ полный ассортиментъ дамскаго костюма у Мюръ и Мерилиза [11]. Погулявъ въ Сокольникахъ, они пообѣдаютъ тамъ-же и, когда станетъ темно, Вѣра въ укромномъ мѣстечкѣ, – ихъ тамъ много въ тѣнистой рощѣ, а особенно осенью, – Вѣра переодѣнется тамъ, а свой мужской костюмъ положитъ въ картонъ и Салатинъ повезетъ ее къ знакомой старушкѣ.
Что онъ скажетъ старушкѣ этой?…
– Да что-нибудь!… Пусть старушка думаетъ, что ей угодно, если она не повѣритъ, что это дѣвушка, которой надо дать пріютъ, защиту, которую надо на нѣкоторое время укрыть…
Чтобы мать и бабушка не безпокоились пока, Салатинъ пошлетъ имъ сейчасъ записку, въ которой скажетъ, что повезъ „Васю“ катать, Москву показывать, угощать обѣдомъ.
Бабушка будетъ очень рада, ну, а Анна Игнатьевна встревожится, напугается… такъ, вѣдь, это ничего – это будетъ какъ-бы подготовленiемъ къ тому, что она узнаетъ сегодня-же…
Лихачъ отъ Тѣстова домчалъ Салатина и Вѣру до Сокольниковъ.
– Я бы подождалъ васъ, сударь, – сказалъ онъ высаживая сѣдоковъ у павильона.
– Нѣтъ, милый, не надо, – мы, вѣроятно, ночуемъ тутъ у знакомыхъ…
Они поѣдутъ, но уже не мальчика повезетъ отсюда Салатинъ, а дѣвушку!…
Въ картонѣ, который несъ Салатинъ, былъ полный ассортиментъ дамскаго туалета, совершенно полный…
Салатинъ, дѣлая покупку у Мюра, такъ и сказалъ хорошенькой изящной продавщицѣ:
– Надо одѣть одну дѣвушку, которую выписываютъ изъ клиники, съ ногъ до головы; у нея нѣтъ рѣшительно ничего. Вамъ, конечно, извѣстно все, что нужно; вотъ вы и соберите, а ростъ и фигура дѣвушки вродѣ вашихъ, чуть-чуть по худощавѣе она…
– Можно передѣлать потомъ, – замѣтила продавщица.
– Да, да… Черезъ нѣсколько дней она сама пріѣдетъ къ вамъ…
____________________
Часу въ девятомъ вечера къ маленькому домику на Полянкѣ подъѣзжалъ извозчикъ, въ пролеткѣ котораго сидѣлъ Салатинъ съ очень хорошенькою дѣвушкою въ свѣтло-сѣрой фетровой шляпкѣ, въ клѣтчатой шотландской накидкѣ, поверхъ темно-синей юбки изъ шевіота, съ зонтикомъ въ рукахъ.
Сидѣвшій у воротъ дворникъ вскочилъ и подбѣжалъ помочь подъѣхавшимъ, взялъ картонъ изъ рукъ Салатина.
– Степанида Аркадьевна дома? – спросилъ Салатинъ.
– Дома-съ…
– He ложилась еще?
– Должно-быть, еще нѣтъ… Только что вотъ сидѣли тутъ за воротами съ Ивановной…
Салатинъ, подавъ руку Вѣрѣ, вошелъ въ маленькій чистенькій дворикъ и поднялся по ступенькамъ крыльца въ сѣни домика.
Тутъ жила вдова приказчика, который служилъ еще отцу Николая Васильевича. Приказчикъ этотъ очень ловкій господинъ, умница и неутомимый работникъ, былъ всю жизнь страстнымъ игрокомъ и не оставилъ своей женѣ ни гроша. Старуха умерла-бы съ голоду; но Николай Васильевичъ разыскалъ ее, обласкалъ, подарилъ ей этотъ домикъ, купленный на аукціонѣ, и выдавалъ старухѣ пенсію.
Степанида Аркадьевна, богобоязненная, кроткая и милая старушка, жила въ свое удовольствіе, что называется, и благословляла Салатина.
Съ нею жила такая-же старушка, служанка, Ивановна, да двѣ свободныя комнатки въ домѣ отдавала она жильцамъ, покрывая этимъ доходомъ всѣ расходы по домику.
XVIII.
Кругленькая, маленькая старушка въ темномъ платьѣ, съ косыночкой на головѣ, вошла въ прихожую со свѣчою въ рукахъ.
– Батюшки мои, Николай Васильевичъ! – воскликнула она, узнавъ Салатина и съ нѣкоторымъ изумленіемъ посмотрѣла на его спутницу. – Милости просимъ, батюшка, милости просимъ…
– Гостью къ вамъ привезъ, Степанида Аркадьевна!… – проговорилъ Салатинъ.
– Милости просимъ, милости просимъ…
Салатинъ помогъ Вѣрѣ снять накидку, а старушка отворила дверь въ маленькое чистенькое „зальце“, съ цвѣтами на двухъ окнахъ, съ чистыми половиками на крашеномъ полу, съ блестящими иконами въ образницѣ…
– Пожалуйте, батюшка, пожалуйте! я лампочку сейчасъ зажгу… – засуетилась старушка. – Ивановна!… Э, старая, заснула тамъ что-ли?… Самоварчикъ ставь!…
На кругломъ столѣ передъ диваномъ была зажжена лампа и при свѣтѣ ея Салатинъ впервые увидалъ Вѣру въ обновленномъ видѣ, увидалъ дѣвушку, а не „мальчика“, какъ было до сихъ поръ. Въ Сокольникахъ, гдѣ Вѣра переодѣлась, и на дорогѣ Салатинъ совсѣмъ не разсмотрѣлъ ее, такъ какъ осенній вечеръ былъ очень теменъ.
Салатинъ залюбовался дѣвушкою, глазъ не могъ оторвать отъ ея стройной, изящной фигуры, отъ ея нѣжнаго личика, которое пылало теперь румянцемъ отъ волненія, быть можетъ, отъ счастья.
Какъ не узналъ онъ при первомъ взглядѣ, что это дѣвушка?!…
Онъ недоумѣвалъ, даже сердился на себя, а между тѣмъ это было очень понятно: мужской костюмъ скрадывалъ ростъ дѣвушки, пиджакъ дѣлалъ ея плечи болѣе широкими, маскируя округленность бюста и талію.
– Садитесь! – проговорилъ Салатинъ, подавая дѣвушкѣ стулъ и сѣлъ самъ.
Старушка, извинившись, убѣжала хлопотать на счетъ чаю и слышно было, какъ она шепталась о чемъ-то въ сосѣдней комнатѣ со служанкою, хлопала дверцами шкафа, гремѣла посудою.
– Вамъ тутъ будетъ хорошо! – говорилъ Салатинъ. – Это премилая, пресимпатичная старушка и очень скромная, не сплетница… Впрочемъ, вѣдь, вамъ недолго придется жить тутъ…
– Недолго?…
– Конечно…
Вѣра вздохнула.
– Можетъ быть начнутся тревоги, мука, – проговорила она.
– О, нѣтъ!… Зачѣмъ все мрачныя мысли?… Думайте не о горѣ и мукахъ, а о счастіи, о радости…
Онъ взялъ ее за руку, но въ это время вошла Степанида Аркадьевна съ подносомъ, на которомъ были яблоки, груши, пастила и мармеладъ.
– Покушайте-ка передъ чайкомъ-то! – сказала она. – Словно знала, что гости дорогіе будутъ и какъ разъ сегодня на Болото [12] ходила, да и купила вотъ яблоковъ и грушъ… Покушайте-ка…
Старушка все посматривала на Вѣру, очевидно, очень заинтересованная спутницею своего молодого благодѣтеля, но деликатно и съ большимъ тактомъ не разспрашивала, заботясь лишь объ угощеніи.
Она поставила подносъ на столъ и побѣжала, было, опять, но Салатинъ остановилъ ее.
– А вы не хлопочите, не безпокойтесь! – сказалъ онъ. – Присядьте-ка, дорогая… намъ поговорить надо…
Поговорить было о чемъ.
Какъ бы то ни было, а Вѣрѣ придется нѣкоторое время пожить тутъ, а между тѣмъ документа у ней нѣтъ.
Это могло создать хлопоты, и затрудненія.
Собравшись обмануть мать, Анна Игнатьевна добыла при помощи выгнаннаго со службы полицейскаго чиновника подложный видъ, гдѣ былъ вписанъ ея сынъ Василій, прижитый съ покойнымъ мужемъ мѣщаниномъ Байдаровымъ. У Анны Игнатьевны былъ документъ и на имя дочери, въ видѣ метрической выписки, гдѣ Вѣра значилась такого-то года и такого-то числа крещенною, какъ незаконнорожденная дочь вдовы мѣщанина Байдарова, Матвѣевна по отечеству. Вѣра видала эту бумажку, знала ее, знала и тайну своего рожденія.
Бумага эта хранилась у Анны Игнатьевны въ завѣтной шкатулочкѣ, на самомъ днѣ ея, вмѣстѣ съ портретомъ курчаваго красавца, Матвѣя Ивановича Вертунова, отца Вѣры, владѣльца волжскаго парохода.
Салатинъ потомъ добудетъ этотъ документъ. Анна Игнатьевна отдастъ его дочери, конечно, но вотъ теперь-то у Вѣры нѣтъ никакого „вида“, и это можеть смутить старушку, которая пуще всего на свѣтѣ боится полиціи, мирового и всякаго рода суда и „волокиты“.
Наконецъ, Салатинъ не зналъ – въ качествѣ кого онъ отрекомендуетъ Вѣру Степанидѣ Аркадьевнѣ и хоть думалъ объ этомъ всю дорогу, но придумать ничего не могъ.
Ему не хотѣлось, чтобы старушка и одну минуту подумала что-нибудь нехорошее о Вѣрѣ…
– Поговоримъ, батюшка, поговоримъ, – отвѣтила старушка, присаживаясь и все поглядывая на Вѣру. – Ивановна тамъ самоварчикъ ставитъ, а мы пока и побесѣдуемъ…
Надо было что-нибудь сказать про Вѣру и въ эту критическую минуту, какъ это часто бываетъ, Салатинъ моментально придумалъ, что надо сказать.
– Рекомендую вамъ, Степанида Аркадьевна, дочь моего покойнаго друга-пріятеля Вѣру Матвѣевну Вертунову! – началъ онъ. – Вы должны, если любите меня, оказать ей великую услугу, выручить ее изъ бѣды, a я ужъ за это отблагодарю васъ…
И Салатинъ сочинилъ „исторію“.
Вѣру хотятъ выдать замужъ за немилаго, за постылаго, а она любитъ другого. Ее бить собрались, мучить, она и скрылась къ Салатину, какъ къ другу отца пришла. Скоро изъ Нижняго пріѣдетъ дядя Вѣры, который имѣетъ вліяніе на ея мать и все дѣло устроитъ, отдастъ дѣвушку за любимаго человѣка, и тогда все кончится къ взаимному благополучію…
– Такъ!… – проговорила старушка, выслушавъ разсказъ. – А „милый-то“, „желанный-то“, небось, ты?…
– Я?…
– Да ужъ вижу, вижу… не скрывай!… И она, красавица писаная, краснѣетъ вся, на тебя глядючи, да и ты глазъ съ нея не спускаешь…
И Вѣра и Салатинъ покраснѣли.
– Ничего, ничего, доброе дѣло! – продолжала старушка. – Пора тебѣ, батюшка, жениться, пора… и я рада-радешенька всякими способами помогать тебѣ… на груди, какъ птенчика, буду согрѣвать твою суженую, твою нарѣченную, а только…
Старушка озабоченно покачала головою.
– He затаскали бы меня, старую, по судамъ за это! – промолвила она. – Вѣдь, барышня-то… вѣдь, бѣглянка она, голубчикъ!…
– Нe бойтесь, милая Степанида Аркадьевна! – сказалъ Салатинъ. – Я все беру на себя, и вы ни въ какомъ случаѣ отвѣчать не будете… Вы домовладѣлица и завтра или тамъ послѣ завтра вида Вѣры Гавриловны никто, вѣдь, не потребуетъ у васъ, – она просто гоститъ у васъ, а тамъ будетъ и видъ… Даю вамъ честное слово, что васъ не ждетъ никакая непріятность…
– Да ужъ надѣюсь на тебя, на сокола…
– И надѣйтесь!… Ивановнѣ, знакомымъ, дворнику вы скажете, что Вѣра Матвѣевна…
– Родственница… – подсказала старуха. – Я и то цѣлое лѣто племянницу, сестрину дочь, изъ Калуги ждала.
– Ну, вотъ и отлично!… А помѣщеніе у васъ найдется?
– А свѣтелочка въ мезонинѣ-то?… Лѣтомъ тамъ жарко было, зимою холодно, а осенью лучше не надо… У меня тамъ и кровать, и комодикъ, и картиночки по стѣнамъ, – живописная горенка…
Старушка взглянула на Вѣру.
– Ну, ужъ и красавицу же ты нашелъ себѣ, батюшка! – проговорила она. – И парочка васъ будетъ!…
Старушка побѣжала, заслышавъ зовъ своей служанки.
Минуты двѣ Салатинъ и Вѣра молчали, не смотря другъ на друга.
– Пусть старушка считаетъ насъ женихомъ и невѣстою, – это располагаетъ ее къ вамъ, – произнесъ Салатинъ.
Вѣра промолчала.
– Вамъ не противна зта роль? – продолжалъ Салатинъ.
– Я вѣдь… я, вѣдь, привыкла уже быть самозванкою, – тихо-тихо отвѣтила Вѣра.
Салатинъ дрогнулъ, всталъ съ мѣста и взялъ ее за руки.
– Но это скоро кончится, вы не будете самозванкою…
Вѣра вздохнула, не отнимая рукъ.
– Богъ знаетъ, чѣмъ все это кончится… – съ тоскою промолвила она. – Мнѣ страшно что-то, жутко…
– Надѣйтесь… Знайте, что за горемъ за несчастіемъ всегда идетъ счастіе и радость, какъ за ненастьемъ – солнце и тепло… Вы много страдали, много терпѣли, пора вамъ думать о радости. Но какъ вы хороши, Вѣра, какъ вы прекрасны!…
Вѣра потихоньку потянула свои руки изъ горячихъ рукъ Салатина.
– Зачѣмъ вы отнимаете ваши руки? – спросилъ онъ. – Мнѣ хотѣлось-бы ихъ поцѣловать… Можно?…
– Нѣтъ, не надо…
– Почему?
– Такъ, не надо…
Она опять потянула руки, но Салатинъ наклонился и покрылъ ихъ поцѣлуями.
– День, одинъ только день знаю я васъ, какъ дѣвушку, но уже люблю, люблю!… Прекрасная… юная… ты, какъ мечта явилась мнѣ… ты… какъ свѣтлое видѣніе озарила меня и я люблю, люблю тебя!
– А я давно люблю! – прошептала чуть слышно Вѣра. – Завидовала Настѣ… ревновала… Но, Боже, не сонъ-ли все это?…
– Нѣтъ, это свѣтлая дѣйствительность! – воскликнулъ Салатинъ. – И она будетъ долго, долго!…
Вѣра вздрогнула, и лицо ея поблѣднѣло.
– А тамъ? – сказала она. – Тамъ что теперь?… Бабушка, мать… Настя?… Мнѣ страшно, страшно, дорогой мой, желанный, радость моя!…
Она заплакала.
– He бойся!…
Салатинъ всталъ и взялъ шляпу.
– Мнѣ пора туда!… – сказалъ онъ. – Я бабушкѣ сочиню сказку, а мамѣ твоей… He бойся, я все улажу…
Ивановна внесла самоваръ, сопровождаемая Степанидою Аркадьевной, которая шла за нею съ подносомъ.
– Ты куда же это, батюшка? – обратилась она къ Салатину. – А чай-то?…
– Угощайте мою невѣсту, милая старушка, а мнѣ пора… Завтра я буду у васъ, чѣмъ свѣтъ… Берегите-же гостью, покойте ее!…
Салатинъ подошелъ къ Вѣрѣ, поцѣловалъ ея руку, пожалъ руку Степаниды Аркадьевны и вышелъ, давъ Ивановнѣ на чай десятирублевую золотую монету.
XIX.
Въ домѣ Ольги Осиповны сильно безпокоились долгимъ отсутствіемъ Васи.
Когда посланный изъ ресторана Тѣстова принесъ записку Николая Васильевича, обезпокоилась только Анна Игнатьевна, все время боявшаяся сближенія Вѣры съ Салатинымъ, но, конечно, не обнаружила передъ матерью этого безпокойства, а напротивъ, радовалась вмѣстѣ съ нею, – пусть де „мальчикъ“ погуляетъ съ человѣкомъ, который въ самомъ скоромъ времени будетъ его воспитателемъ и руководителемъ; пусть привыкаетъ къ нему.
Съ наступленіемъ поздняго вечера стала безпокоиться и бабушка; безпокойство же Анны Игнатьевны перешло въ сильную тревогу.
– Куда-жъ это онъ его завезъ? – говорила старуха, каждую минуту посматривая на часы. – Знаетъ, что я въ девять часовъ ужинаю и спать ложусь, а не везетъ паренька, безсовѣстный!… Модники, путанники всѣ нонѣшніе-то, право… Вотъ, вѣдь, и хорошій Миколушка человѣкъ, степенный, а и онъ гулена, полунощникъ… Гляди, повезъ мальчика въ тіятеръ въ какой- нибудь, – къ чему, спрашивается?… Долго-ли мальчика испортить… Нѣтъ, видно и ему не слѣдуетъ отдавать Васю!… Отдамъ его какому-нибудь старичку изъ прежднихъ, ну, возрастятъ въ страхѣ, человѣкомъ сдѣлаютъ… А это что такое?… Это баловство одно…
По мѣрѣ того, какъ время шло, безпокойство старухи все увеличивалось, а Анна Игнатьевна сидѣла ни жива, ни мертва.
Отъѣздъ пришлось отложить, – онѣ опоздали ужъ сегодня.
Гдѣ же Вѣра?…
Быть можетъ, тайна открыта, быть можетъ все пропало?… и вотъ-вотъ явится Салатинъ грознымъ обличителемъ…
Съ полицейскими, быть можетъ, явится, чтобы арестовать Анну Игнатьевну, какъ уже арестовали, вѣроятно, ея самозванку дочь…
Вѣдь, Салатинъ хоть и богатъ, а не прочь наслѣдовать громадное состояніе Ольги Осиповны, у которой онъ, помимо дочери-то, единственный наслѣдникъ…
Радехонекъ будетъ, если тайна откроется и Анну Игнатьевну съ дочкою на „цугундеръ“ вздернуть [13]!…
Сильную тревогу било сердце Анны Игнатьевны, и не слышала она ворчанья брюзжащей старухи. Всѣ думы ея были далеко-далеко…
Вдругъ подъ окнами задребезжали колеса извощичьей пролетки и замолкли у воротъ.
– Они, должно быть!… – сказала старуха. – Взгляни-ка, Анна…
Анна Игнатьевна была уже у окна и прильнула къ стеклу, вглядываясь въ сумракъ ночи.
– Салатинъ… одинъ… – проговорила Анна Игнатьевна и сѣла у окна на стулъ; ноги не держали ее.
– Господи!… Что же это такое? – испуганно прошептала старуха, крестясь.
Загремѣлъ запоръ калитки, собака залаяла; послышались голоса…
У Анны Игнатьевны мелькнула мысль бѣжать… Бѣжать, куда глаза глядятъ… Въ Ярославль, въ Петербургъ… Паспортъ у нея есть, есть и деньги…
Она встала ужъ, двинулась, планъ побѣга зрѣлъ въ ея воспламененной головѣ, но въ эту минуту въ комнату вошелъ Салатинъ.
Лицо у него взволнованное, красное, но веселое, оживленное.
– Здравствуйте! – проговорилъ онъ. – Испугались, чай?… Ничего, ничего, – пустое дѣло…
Старуха такъ и кинулась къ нему.
– А Вася гдѣ?…
– Ногу повредилъ…
– Ногу?…
– Да, да, пустое дѣло… Выпрыгнулъ изъ пролетки, оступился, ну, и вывихнулъ… Я его къ знакомому доктору въ лѣчебницу отправилъ, ногу ему вправили, повязку сдѣлали и онъ шлетъ вамъ привѣтъ… Опасности никакой, ни-ни!… Если завтра нельзя еще будетъ, такъ послѣ завтра навѣрное, навѣрное пріѣдетъ онъ… Даю вамъ клятву, что опасности никакой…
„Да, для тебя!“ – съ тоскою подумала Анна Игнатьевна. – „Для тебя нѣтъ опасности, а я погибла!… Лѣчебница, доктора… Все кончено, – обманъ будетъ обнаруженъ…“
Салатинъ между тѣмъ весело успокаивалъ старуху, и веселый безпечный видъ его, данная клятва, что Вася живъ и почти здоровъ сдѣлали свое дѣло – Ольга Осиповна успокоилась и только журила Салатина за неосторожность.
– Виноватъ, но заслуживаю снисхожденія! – шутилъ онъ. – Идите, дорогая моя, почивать, будьте покойны, а меня Анна Игнатвевна чаемъ напоитъ, – я умираю отъ жажды съ этими хлопотами…
– Поѣшь сперва, голоденъ, чай, – предложила старуха. – Я тоже не ужинала…
– И поѣмъ!…
Салатинъ раздѣлилъ компанію съ дамами и сѣлъ ужинать, но ѣсть ему не хотѣлось. He ѣла ничего и Анна Игнатьевна, говоря, что она очень обезпокоена.
Старушка скоро ушла въ свою опочивальню, а Салатинъ съ Анною Игнатьевною перешли въ столовую, куда служанка подала самоваръ.
– Отпустите ее спать, – сказалъ Салатинъ. – Вы проводите меня…
Они остались вдвоемъ.
Весело кипѣлъ и бурлилъ самоваръ, стукали часы въ длинномъ „корпусѣ“ краснаго дерева, но, кромѣ этихъ звуковъ ни что не нарушало тишину стариннаго дома, да и на улицѣ было тихо, – шумъ города не доходилъ до этой отдаленной старо-купеческой „палестины“.
Анна Игнатьевна сидѣла, какъ на раскаленныхъ угольяхъ. Она вздрагивапа по временамъ, какъ отъ сильной физической боли; губы ея подергивало судорогою.
Она догадывалась, что не зря остался съ нею Салатинъ; она поймала два-три значительные взгляда его.
Онъ что-то знаетъ…
Анна Игнатьевна принялась лить въ чайникъ воду изъ самовара.
– Вы чаю не положили, – съ улыбкою замѣтилъ Салатинъ.
Ему хотѣлось немного помучить эту женщину за тѣ муки, которыя она причинила той, которая стала ему дороже всего на свѣтѣ…
– Вы, быть можетъ, хотѣли спать и я мѣшаю вамъ? – спросилъ онъ. – Я уйду…
– Нѣтъ, нѣтъ, ничего…
– Или вы взволнованы случаемъ съ вашимъ сыномъ?
– Да, конечно уж…
– А вы его очень любите?
– Онъ мой единственный сынъ…
– У васъ не было больше дѣтей?
– Нѣтъ…
Салатинъ закурилъ папиросу и сталъ разглядывать Анну Игнатьевну.
Дочь наслѣдовала ея бѣлизну и нѣжность кожи, ея правильный красивый носъ, но глаза у Вѣры были, должно быть, отцовскія, – свѣтлыя такія, ласковые; тѣмъ не менѣе она была очень похожа на мать, только нѣжнѣе, „деликатнѣе“, такъ сказать, сложеніемъ, а выраженіемъ лица лучше, милѣе, можетъ въ отца.
– Ваша дочь похожа на васъ, Анна Игнатьевна, – медленно, раздѣльно проговорилъ Салатинъ и, положивъ локти на столъ, устремилъ на свою собесѣдницу пристальный взгядъ.
Словно ударъ грома разразился надъ Анною Игнатьевной.
Она застыла, словно окаменѣла.
– Дочь? – чуть слышно прошептали ея блѣдныя губы.
– Да, дочь.
– У меня нѣтъ дочери…
Салатинъ сѣлъ къ ней поближе.
– Полно теперь притворяться, – я все знаю, – началъ онъ и не было въ его голосѣ злобы, насмѣшки, угрозы. – Да, я все знаю…
– Проклятая! – прошептала Анна Игнатьевна.
– He кляните ее… За что?… Она повиновалась вамъ, она много и сильно страдала, любя васъ и готовая для васъ, только для васъ на очень трудную и опасную роль… Она невиновата, что все открылось!…
Анна Игнатьевна опустила голову на столъ.
– Я погибла, погибла теперь! – простонала она. – И она погибла!…
– Нѣтъ… Все будетъ улажено, все будетъ забыто… Я беру на себя выпросить вамъ прощенье вашей матери, а внучку она полубитъ также, какъ любила внука…
– А Настька?… А ея тетка?… Онѣ все знаютъ…
– Такъ что-жъ?… Да, онѣ сообщницы ваши, а Настя еще и другимъ виновата… О, имъ слѣдуетъ молчать и беречь свою шкуру!… Вѣдь „потерпѣвшаго“ нѣтъ отъ этой затѣи вашей, вѣдь, жаловаться никто не будетъ, ну не будетъ и „дѣла“, не будетъ и суда… Матушку вашу я помирю съ вами, за это я вамъ ручаюсь…
– Какъ вы добры и благородны! – вырвалось у Анны Игнатьевны.
Салатинъ усмѣхнулся.
– Менѣе, чѣмъ вы думаете, Анна Игнатьевна…
– Но я ждала вашего гнѣва, преслѣдованія… Вѣдь, вы… вы наслѣдникъ мамы, еслибъ она выгнала меня на улицу и прокляла за… за прижитіе незаконной дочери…
– O, я достаточно богатъ и безъ такого наслѣдства. Я не охотникъ до случайныхъ богатствъ и наслѣдствъ… Кромѣ того…
Салатинъ тряхнулъ головою.
– Впрочемъ, объ этомъ мы поговоримъ послѣ… Дайте мнѣ чаю, – я дѣйствительно изнываю отъ жажды… Вы не бойтесь, – все кончится хорошо, очень хорошо…
– А моя мать?… Какъ и когда она узнаетъ правду?
– Я подготовлю ее къ этому.
– Вас… Вѣра въ больницѣ?
– Нѣтъ… Она здорова, счастлива. Она въ хорошихъ рукахъ… Ее очень любятъ, очень!…
Анна Игнатьевна быстро взглянула на Салатина и складка набѣжала у ней между черными бровями.
– Ужъ…
Салатинъ всталъ.
– Когда все уладится, – я буду просить руки вашей дочери, – сказалъ онъ, низко-низко поклонившись. – Ея честь, покой и доброе имя дороже для меня жизни моей!…
Анна Игнатьевна обняла молодого человѣка и заплакала у него на груди, какъ плакала нѣсколько часовъ тому назадъ ея дочь.
Это были хорошія слезы…
XX.
Салатинъ уѣхалъ изъ дома Ольги Осиповны совершенно успокоенный.
Онъ былъ увѣренъ, что Вѣра теперь внѣ всякой опасности.
Анна Игнатьевна не тронетъ ея – это навѣрное… Что же касается до Настеньки, ея тетушки, которымъ теперь не придется ужъ шантажировать дѣвушку, и которыя теперь, конечно, будутъ очень разсержены, то Салатинъ не боялся этихъ дамъ: онѣ испугаются и пикнуть не посмѣютъ.
Онъ сумѣлъ „нагнать холоду“ на этихъ корыстолюбивыхъ племянницу и тетеньку…
Сильный подъемъ духа чувствовалъ Салатинъ, выходя изъ дома бабушки на улицу, и его потянуло куда-нибудь „на народъ“, въ ярко освѣщенный залъ ресторана, въ какой-нибудь садъ съ народомъ, съ огнями, съ музыкою.
Домой ему не хотѣлось и чувствовалъ онъ, что не заснуть ему въ эту ночь, – очень ужъ „взвинченъ“ былъ онъ всѣмъ случившимся.
– „Внезапно пламенной струей,
Въ меня проникло наслажденье,
И нѣга страстная и жизни молодой
Необычайное, святое ощущенье!“ [14] -
декламировалъ онъ изъ Гетевскаго „Фауста“, идя по темнымъ улицамъ Замоскорѣчья и тщетно разыскивая извозчика, которыхъ въ поздній вечеръ не найдешь въ этой тихой богоспасаемой мѣстности.
Наконецъ, на углу Большой Ордынки, онъ нашелъ какого-то дремлющаго „Ваньку“, доѣхалъ до „Большой Московской“, взялъ тамъ лихача и приказалъ везти себя въ Паркъ къ „Яру“ [15].
Такъ и кипѣлъ весь Николай Васильевичъ, охваченный новымъ, не испытаннымъ еще чувствомъ. Холодный разсудокъ говорилъ ему, что Вѣра совсѣмъ чужая, что полюбить дѣвушку при первой же встрѣчѣ странно, смѣшно, что довѣриться такой незнакомой, невѣдомой дѣвушкѣ странно, но горячее молодое сердце не слушало голоса разсудка и билось, и кипѣло, и просилось вонъ изъ груди…
Пилъ Салатинъ очень мало, но сегодня ему хотѣлось съ кѣмъ-нибудь выпить, хотѣлось кутнуть, хотѣлось шалить, рѣзвиться, выкинуть какой-нибудь „фортель“.
– Да пошелъ же! – кричалъ онъ лихачу, который мчалъ его по безконечно длинной Тверской, ярко освѣщенной электричествомъ, но пустынной въ этотъ часъ ночи. – Пошелъ живѣе!…
– Стараюсь ваше сія-сь! – съ улыбкою оглядывался лихачъ. – По городу-то шибче этого не приказано, a вотъ, выѣдемъ за заставу, такъ утѣшу вашу милость…
– Ты женатъ?
– Такъ точно, ваше сія-съ…
– Ха, ха, ха… „Ваше сіясь“… Да какое же я „сіясь“?… Я не князь и не графъ. Я купецъ…
– Ужъ у насъ повадка такая, завсегда хорошаго сѣдока такъ зовемъ.
– А я хорошій развѣ сѣдокъ?
– По всѣму видно-съ… А вы холостые, ваше сія-сь?
– Холостой…
– Что-жъ это вы?… Женатому, конечно, безпокойнѣе, а все же хорошо, ежели супруга собою прекрасна и любитъ, – тепло тогда въ домѣ-то…
– Тепло?
– Такъ точно-съ!…
– А у тебя жена хороша?
– У меня, ваше сія-сь, баба гладкая и меня любитъ… Вотъ теперь можно и походчѣе… Н-нутко ты, призовый!…
Лихачъ выпустилъ своего „тронутаго“ нѣсколько ногами рысака и пролетка понеслась по правой сторонѣ шоссе, обгоняя тройки и одиночки.
Въ шикарномъ ресторанѣ было множество народу. Шло еще второе отдѣленіе концертной программы.
Всѣ мѣста въ залѣ были заняты, и неизвѣстный тутъ Салатинъ, незнакомый съ распорядителями и метръ-д’отелями, растерялся, всталъ среди зала, не зная куда идти и гдѣ сѣсть.
– Николай Васильевичъ! – вдругъ окликнулъ его знакомый голосъ.
Онъ оглянулся и увидалъ за однимъ изъ столиковъ хорошо знакомаго ему московскаго фабриканта Шмелева, мужчину уже очень зрѣлыхъ лѣтъ, но любящаго „пожить“. Шмелевъ сидѣлъ одинъ за бутылкою шампанскаго.
Салатинъ подошелъ къ нему.
– Какими судьбами, Николай Васильевичъ?… Вотъ неожиданно-то! – заговорилъ Шмелевъ. – Какъ это вы сюда попали?…
– На лихачѣ, Петръ Ильичъ, – съ улыбкою отвѣчалъ Салатинъ. – Что-жъ я, бракованный что-ли какой, что мнѣ, и повеселиться нельзя?…
– Да никуда не вытащишь васъ, бывало!… Вы одни?
– Совершенно…
– Очень радъ, садитесь, родной. Эй, Максимъ, стулъ сюда и стаканъ!… Пойло это употребляете, Николай Васильевичъ?
– Во благовременіи…
– Ха, ха, ха… Ну, а лучше ужъ ни время, ни мѣста не придумаешь… Я сижу тутъ одинъ, – гуляючи зашелъ, – знакомыхъ посматриваю, а вы какъ снѣгъ на голову!… Пожалуйте-ка…
Шмелевъ налилъ стаканы и чекнулся съ Салатинымъ.
– Максимъ, еще бутылку!…
– Позвольте теперь ужъ мнѣ спросить, Петръ Ильичъ…
– Нѣтъ, нѣтъ!… Вы у меня за столомъ мой гость…
– Но я тоже хочу угостить…
– А вотъ прослушаемъ „отдѣленіе“, да въ кабинетикъ и сядемъ… Цыганъ послушаемъ, или венгерочекъ, или пѣвичекъ Анны Захаровны… Хе, хе, хе… надо ужъ васъ посвятить во всѣ тайны сего мѣста!…
– Очень радъ… Ho мнѣ вдругъ ѣсть захотѣлось…
– Отлично!… Я дома поужиналъ, – я, вѣдь, живу тутъ на дачѣ, но какой-нибудь „деликатесъ“ съѣмъ съ удовольствіемъ и вамъ компанію сдѣлаю…
Салатинъ съѣлъ что-то, выпилъ передъ ѣдою рюмку водки, потомъ еще шампанскаго и у него въ головѣ зашумѣло, но это не былъ тяжелый мучительный „хмель мало пьющаго человѣка“. Нѣтъ, – это былъ тотъ пріятный, веселый „угаръ“, который охватываетъ крѣпкаго здороваго человѣка, которому хорошо, весело, который попалъ въ пріятную компанію и который уже „заряженъ“ радостнымъ настроеніемъ.
Шмелевъ наполнилъ стаканы и опять чекнулся съ Салатинымъ.
– He будетъ-ли? – усмѣхнулся Салатинъ. – Я, вѣдь, очень мало пью…
– А я тостъ хорошій предложу! – проговорилъ Шмелевъ.
– Напримѣръ?
– Напримѣръ, вотъ за эту очаровательную брюнетку, которая сидитъ съ какимъ-то старцемъ и все на васъ смотритъ да любуется вами…
– Нѣтъ…
Салатинъ усмѣхнулся и взялъ бокалъ…
– Выпьемъ не за эту брюнетку, а за блондинку одну…
– Ага! – засмѣялся Шмелевъ. – „Предметъ“, что-ли блондинка-то?
– Предметъ…
– Идетъ!… А имя какъ?
– Вѣра…
– За здоровье прекрасной Вѣры!…
Они выпили.
– Пора вамъ, Николай Васильевичъ, подругу себѣ облюбовать! – продолжалъ Шмелевъ. – Что вы это по бѣлу свѣту въ одиночествѣ-то бродите, да небо коптите!… Законнымъ бракомъ что-ли сочетаться надумали?
– Можетъ быть…
– Ну, дай вамъ Богъ… Богата?…
– Какъ вамъ сказать?… И да, и нѣтъ… Можетъ быть и очень богатою, но, вѣдь, я не ищу богатой невѣсты…
– Своего много? Хе, хе, хе…
– Хватитъ… Я ищу „человѣка“ и… и нашелъ…
– Поздравляю!…
– Но я боюсь, Петръ Ильичъ… Я ее мало знаю… очень мало… Страшно, Петръ Ильичъ!…
– Э, полно вамъ!… Судьба, батюшка, и найдетъ, и укажетъ, и подъ вѣнецъ поставитъ!… А невѣсту выбирай, милый мой, такъ… „вглядися въ очи ей, – коль очи свѣтлы, – свѣтла душа“!…
– Очи свѣтлыя!…
– Ну, такъ и шабашъ!… За свѣтлыя очи Вѣры!…
Они выпили еще.
– He очень она изъ ученыхъ? – спросилъ Шмелевъ.
– He очень… А вы развѣ врагъ образованія, Петръ Ильичъ?
– Ни чуть, голубчикъ! У самого двѣ дочки курсъ гимназіи кончаютъ и можетъ дальше пойдутъ, а только… только часто изъ очень то ученыхъ къ дому охладѣваютъ… А впрочемъ, милый мой, все отъ души зависитъ и коли душа хороша, а сердце доброе, такъ счастье обезпечено… Выпьемъ еще и пойдемъ цыганскій хоръ слушать, – очень хорошо въ такомъ разѣ фараончиковъ [16] послушать!…
Салатинъ согласился, но пить больше ничего не сталъ, – онъ и безъ вина былъ пьянъ, „безъ веселья веселъ!…“
Вышелъ онъ изъ ресторана въ четыре часа и отпустилъ своего лихача домой, такъ какъ Шмелевъ, живущий на дачѣ въ Петровскомъ паркѣ, домой его не отпустилъ и увелъ ночевать къ себѣ.
Салатинъ заснулъ крѣпкимъ сномъ и проснулся только въ десятомъ часу.
He дождавшись пробужденія Шмелева, онъ поскакалъ въ Москву, въ домикъ Степаниды Аркадьевны…
XXI.
Салатину казалось, что извозчикъ везетъ его изъ парка удивительно медленно и что дорогѣ не будетъ конца.
– Да пожалуйста хорошенько! – поминутно говорилъ онъ. – Я тебѣ на чай прибавлю, только поѣзжай…
– Хорошо ѣдемъ, баринъ! – отвѣчалъ извозчикъ. – Лошадка у меня исправная и не устамши, – на-починѣ вашу милость посадилъ…
Наконецъ они пріѣхали на Полянку.
Вотъ и домикъ Степаниды Аркадьевны.
– Какая-то она днемъ? – думалъ Салатинъ о Вѣрѣ. – Я, вѣдь, не видалъ еще ее днемъ въ женскомъ костюмѣ.
Онъ на ходу спрыгнулъ съ извозчика, сунулъ ему деньги и побѣжалъ къ калиткѣ.
Личико Вѣры мелькнуло въ окнѣ.
Степанида Аркадьевна вышла встрѣтить дорогого гостя.
– Ну, что, какъ? – спросилъ Салатинъ.
– Съѣли твою пташку! – смѣясь отвѣтила старушка. – Ничего, голубчикъ, ничего… все хорошо!… пожалуй!… Проснулась барышня, чѣмъ свѣтъ, и все къ окошку, все къ окошку! Чай теперь кушаетъ, внизъ сошла…
Салатинъ вошелъ въ залъ.
Вѣра стояла у чайнаго стола и смотрѣла на дверь; лицо ея такъ и пылало.
Она показалась Салатину еще лучше, чѣмъ вчера.
Они поздоровались.
– Были… тамъ? – тихо спросила Вѣра.
– Да…
Степанида Аркадьевна догадалась, что гостямъ ея есть о чемъ поговорить безъ свидѣтелей, и ушла, захвативъ съ собою самоваръ, который, по ея мнѣнію, надо было подогрѣть.
– Бабушка обезпокоилась было „несчастіемъ со внукомъ“, но я вполнѣ успокоилъ ее! – продолжалъ Салатинъ.
– А… мама?…
– Мамѣ я разсказалъ все…
Вѣра слегка измѣнилась въ лицѣ и хрустнула пальцами.
– И что-же?
– Ничего…
Салатинъ взялъ дѣвушку за руку.
– Успокойтесь, моя дорогая! – все кончится нашимъ взаимнымъ счастіемъ… Мама ничего не имѣетъ противъ васъ. Она будетъ рада и тоже счастлива… Милая вы моя, хорошая!…
Онъ вспомнилъ вчерашнія слова фабриканта Шмелева: „вглядися въ очи ей, – коль очи ясны, – ясна душа“.
Ясны и свѣтлы были очи этой милой дѣвушки, много пострадавшей, видѣвшей много горя и теперь счастливой, радостной…
Какъ цвѣтокъ раскрывается на встрѣчу яркимъ и горячимъ лучамъ вешняго солнца, зовущаго къ жизни, такъ теперь раскрывалась душа этой дѣвушки на встрѣчу грядущей любви, первой любви.
– Будешь моею? – тихо спросилъ Салатинъ.
– Возьми, если любишь…
– Люблю!…
Онъ привлекъ ее къ себѣ и поцѣловалъ.
– А не страшно тебѣ? – спрашивала Вѣра, не сопротивляясь его ласкамъ. – Ты не знаешь меня, милый… Я чужая тебѣ, я была… самозванкою, я чуть-чуть преступницею не стала…
– Ты свѣтлая и хорошая! – воскликнулъ Салатинъ.
– Спасибо, что вѣришь… Всю жизнь отдамъ, чтобы сдѣлать тебя счастливымъ…
Они отошли и сѣли въ уголокъ.
– Бабушка проститъ, думаешь? – спросила Вѣра.
– Надѣюсь… А если не проститъ, такъ Богъ съ нею!…
– Мнѣ было бы тяжело, – я очень полюбила ее, мнѣ жаль ее… А кромѣ того…
Она не договорила.
– Что? – спросилъ Салатинъ.
– Да, вѣдь, у меня ничего нѣтъ, мы нищіе…
– И тебѣ не грѣхъ это говорить? – съ упрекомъ воскликнулъ Салатинъ. – Я, вѣдь, не партію дѣлаю… Я, вѣдь, женюсь не по разсчету и мнѣ ничего не надо… У меня есть достаточно, но если бъ и ничего не было, такъ я не задумался-бы жениться на тебѣ. Бракъ по любви, по влеченію благословляется Богомъ, a мужъ при такомъ бракѣ становится энергичнымъ, предпріимчивымъ, трудолюбивымъ и является благосостояніе… Я даже счастливъ буду, если мнѣ придется сдѣлать для тебя все на мои средства… Съ какимъ бы восторгомъ я заботился о каждой вещицѣ, которая нужна тебѣ, съ какою любовью выбиралъ бы все это!…
– Милый, какъ ты меня любишь!…
– Очень, очень люблю, Вѣрочка!…
– За что?… Ты, вѣдь, совсѣмъ не знаешь меня…
– To есть хочешь сказать, что я не изучалъ тебя втеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ?… Надо ли это?… Мнѣ думается, что иногда можно изучить человѣка въ одинъ часъ. Я вѣрю, что судьба, соединяя двухъ людей, открываетъ имъ „умственныя очи“ и они видятъ все, какъ въ увеличительное стекло, и все узнаютъ… Тутъ именно судьба, моя милая Вѣра!… Сколько видалъ я дѣвушекъ и ни къ одной не влекло меня, – почему?… Мнѣ сватали невѣстъ, я знакомился съ ними и уходилъ съ закрытымъ для любви сердцемъ. A тебя я полюбилъ, лишь только узналъ, что ты дѣвушка… И люблю, люблю!… Буду всегда любить!…
Степанида Аркадьевна загремѣла въ сосѣдней комнатѣ посудою.
– Степанида Аркадьевна, я чаю хочу, я не пилъ его сегодня! – крикнулъ Салатинъ.
– Несу, батюшка, несу, готовъ самоварчикъ-то!…
– И ѣсть я хочу, Степанида Аркадьевна!… Нѣтъ ли тутъ порядочнаго трактира?… Я послалъ бы зачѣмъ-нибудь дворника…
– Ишь, привыкли вы къ трактирамъ-то, люди торговые!… Я и безъ трактира все приготовила… Пирожковъ вамъ изжарила, яичекъ сварила, грибковъ въ сметанкѣ нажарила…
На столѣ закипѣлъ самоваръ, а вокругъ его появилось множество всякихъ тарелочекъ съ закусками: горячіе пирожки съ морковью и яицами, сковородка жареныхъ грибовъ.
Никогда въ жизни не ѣлъ съ такимъ аппетитомъ Салатинъ.
– Ну, теперь къ бабушкѣ! – сказалъ Салатинъ, позавтракавъ и напившись чаю. – Часа черезъ два я буду у васъ…
Провожая, Вѣра перекрестила его.
____________________
Въ домѣ Ольги Осиповны было печально и смутно, именно – смутно.
Старушка все безпокоилась о „внукѣ“ и бранила Николая Васильевича на чемъ свѣтъ стоитъ, какъ за то, что онъ былъ виновникомъ „несчастія“, такъ и за то, что онъ не ѣдетъ съ извѣстіемъ о состояніи Васи…
– Обѣщалъ путаникъ чѣмъ свѣтъ пріѣхать, а до полдня и глазъ не кажетъ! – ворчала старушка. – Искалѣчилъ мальчика, оглашенный, и знать не хочетъ!… He отдамъ я ему Васю, ну, его къ нечистому!… Всѣ эти мужчины на одинъ ладъ, всѣ путаники!…
– Можетъ и Bacя такой будетъ! – замѣтила Анна Игнатьевна. – Лучше бы ему дѣвочкою родиться, мамаша…
– Да ужъ, пожалуй, что такъ… Строгость нужна, строгость, драть ихъ слѣдуетъ, пока выше коломенской версты не вырасли!… А мы вотъ не деремъ, – слабы стали… Будь-ка я прежняя, такъ я-бы Васю то на обѣ корки отодрала, чтобъ безъ спросу не уѣзжалъ, да посмирнѣе былъ, а я вотъ жду его не дождусь, и обнимать да цѣловать стану!… Размякло сердце у людей, не стало крѣпости да строгости, не стало!…
Анна Игнатьевна похаживала изъ комнаты въ комнату, забывъ причесаться, угрюмая озобоченная…
А тутъ еще Настенька пришла и нагнала на нее тоску своими причитаніями, и угрозами.
– Все теперь узнается, все! – съ тоскою говорила „модная дѣвица“. – И узналось ужъ… Вѣрка ваша теперь и про деньги выболтаетъ…
– Выболтаетъ!… – не безъ злорадства согласилась Анна Игнатьевна.
– Ну, и пущай!… Я отопрусь, на меня уликъ никакихъ нѣтъ. Ее же за клевету къ отвѣтственности притянутъ…
– Судьи правду узнаютъ!… – замѣтила Анна Игнатьевна.
– А узнаютъ, такъ и вамъ съ дочкою не поздоровится!… За это, милая моя, по головкѣ не погладятъ!… Посидите въ острогѣ съ доченькой-то…
– И тебя туда-же…
– За что?
– А хоть-бы за то, что ты Вѣру красть заставляла…
– А доказательство гдѣ?
– Найдутъ… Спросятъ: на какія деньги ты себѣ всякіе наряды да балаболки покупала?… Попадемъ, такъ всѣ попадемъ…
Настеньку душила злоба, и попадись ей теперь Вѣра, она кинулась-бы на нее съ кулаками, вцѣпилась-бы въ нее зубами…
Анна Игнатьевна ходила-ходила, слушала-слущала шипѣнье Настеньки… да и разсказала ей все, что сообщилъ вчера вечеромъ Николай Васильевичъ.
Настенька позеленѣла вся.
– А, вотъ оно что!… – проговорила она, стискивая руки.
– Да, голубушка, вотъ оно что… – сказала Анна Игнатьевна. – Наша пѣсенка спѣта…
– А Вѣра… Вѣра счастлива будетъ?…
– Должно быть, такъ…
– Нѣтъ!…
Настенька вскочила.
– He бывать этому, не бывать!… Если бабушка не растерзаетъ ее за это, такъ я… я задушу ее!…
– Образумься, глупая! – остановила ее Анна Игнатьевна. – Аль погибели своей хочешь?…
– И погибну, и погибну… а ей жить не дамъ, нѣтъ!…
„Модная дѣвица“ упала головой на столъ, зарыдала, забилась вся, но этимъ и кончилось все.
Мелкая, слабая натура „модной дѣвицы“ была не способна на какое-нибудь смѣлое рѣшеніе и за первымъ припадкомъ бѣшенства, злобы, безумія наступила реакція…
Настенька только струсила и упала духомъ. Она принялась умолять Анну Игнатьевну не губить ее, просила вымолить прощенье у Вѣры и даже обѣщала вернуть часть похищенныхъ денегъ, лишь-бы только не было суда, лишь-бы не привлекли ее къ отвѣтственности…
Успокоенная Анною Игнатьевной, она ушла домой и просила написать ей про окончаніе „исторіи“.
Часу во второмъ пріѣхалъ Салатинъ.
– Мамаша ждала васъ, считая секунды, и теперь прилегла уснуть. Она не спала всю ночь! – сказала ему Анна Игнатьевна. – Ахъ, еслибъ она спала долго-долго!… Если бъ она… не просыпалась никогда!…
– Господь съ вами! – воскликнулъ Салатинъ. – Вѣдь, она ваша мать…
– Я боюсь очень… Она будетъ способна на все, когда узнаетъ страшный обманъ… Она растерзаетъ меня!…
Въ комнату вошла горничная.
– Николай Васильевичъ! – сказала она, – Ольга Осиповна проснулась и зовутъ васъ…
– Я уйду! – шепнула Салатину Анна Игнатьевна.
– Куда?
– Куда-нибудь… Пріѣзжайте въ Александровскій садъ сказать мнѣ все, я буду ждать васъ тамъ…
– Хорошо, какъ вамъ угодно…
Салатинъ отправился къ старухѣ.
XXII.
На Ольгу Осиповну разсказъ Салатина произвелъ сильное, потрясающее впечатлѣніе.
Анна Игнатьевна хорошо сдѣлала, что ушла изъ дому; останься она, ей-бы не сдобровать.
– Гдѣ она?… Гдѣ… потаскушка-то эта? – съ бѣшенствомъ крикнула старуха, когда Салатинъ разсказалъ ей все. – Подайте мнѣ ее, подайте!…
Старуха схватила толстую палку, съ которою хаживала, когда у нея разыгрывался ревматизмъ.
– Позвать мнѣ eel… Эй, кто тамъ есть?… Анну ко мнѣ позвать!…
Салатинъ сказалъ, что Анна Игнатьевна ушла и ждетъ у него въ домѣ рѣшенія своей участи и милости матери.
– А, ушла она?… Ну, и хорошо сдѣлала, я-бъ на ней мѣста живого не оставила, я-бъ ее, можетъ, убила до смерти… Ушла?… Ну, и пусть… Навсегда ужъ теперь, на вѣки!… не хочу ее видѣть…
– Ольга Осиповна…
– He хочу! – дико вскрикнула старуха. – Будь она прок…
Старуха не произнесла страшнаго слова, остановилась и, взглянувъ на иконы, перекрестилась.
– He хочу проклинать ee! – проговорила она. – He беру на душу этого грѣха великаго и не лишаю ее материнской молитвы моей, но видѣть ее не хочу ни сегодня, ни во всю мою жизнь… He допущу и къ смертному одру моему!… He допущу!… Благословлю ее заочно, а къ себѣ не допущу… He было во всемъ роду нашемъ развратницъ и беззаконницъ! Она срамъ на весь родъ нашъ пустила и нѣтъ ей моей милости… Завтра-же духовную сдѣлаю, все добро свое распишу, а ей гроша не дамъ, тряпки не дамъ!… Если придетъ за кускомъ хлѣба, съ голоду умирая, и тогда не дамъ ей этого куска!…
Старуха въ изнеможеніи опустилась на кресло; костыль выпалъ изъ ея рукъ.
– Нѣтъ у меня и внучки! – проговорила она.
– Вѣра чѣмъ виновата? – робко спросилъ Салатинъ. – Ей не надо вашихъ денегъ, она проживетъ и безъ нихъ, но она нуждается въ вашей ласкѣ… Она любитъ васъ…
Салатинъ не говорилъ пока, что онъ женихъ Вѣры, приберегая это извѣстіе, какъ резервъ.
– Любитъ? – переспросила старуха. – Ха, ха, ха!… Очень любитъ!… Вмѣстѣ съ матерью обманно вошла въ домъ мой, самозванка!… дурачила, насмѣхалась… Хороша любовь!…
– Но, вѣдь, ее вынудили на это! – возразилъ Салатинъ. – Нѣжная, робкая, матерью запуганная, но горячо любящая мать, она не могла поступить иначе и страдала, очень страдала… А любитъ она васъ горячо, за это я головою ручаюсь…
Старуха поникла головою.
Вся жизнь ея послѣднее время была сосредоточена на любви къ внуку, на любви къ этому курчавому хорошенькому „мальчику“ – и вотъ нѣтъ теперь этого „мальчика“!…
И не умиралъ онъ, а нѣтъ его… Хуже чѣмъ умеръ…
Но, вѣдь, эта душа-то, которую такъ любила она, не исчезла… Вѣдь, и эти милые, кроткіе и ясные глаза живы… И голосокъ этотъ, который такъ любила она, можно слышать, и русые шелковистые волосы, можно ласкать… Есть кого любить и есть у кого на груди выплакать горе…
Старуха закрыла лицо руками и тихо заплакала.
Салатинъ не мѣшалъ ей.
– Нѣтъ Васи, нѣтъ!… – простонала старуха.
Салатинъ сѣлъ съ нею рядомъ, за руку взялъ ее, поцѣловалъ эту руку.
– Вѣра есть! – сказалъ онъ. – Есть хорошая, милая дѣвушка, которая горячо любитъ васъ, которая будетъ любить васъ вѣчно… He лучше-ли это, чѣмъ мальчикъ?… Мальчики балуются, мальчики, ставъ взрослыми и получивъ богатство, часто портятся и приносятъ только rope, а нѣжное женское сердце такъ способно любить!… Вѣра выйдетъ замужъ, но не перестанетъ васъ любить… Вы правнуковъ дождетесь и умрете, окруженная ими…
– Незаконная она! – прошептала Ольга Осиповна.
– Чѣмъ виновата она въ этомъ?…
– He вѣсть отъ кого родилась… Отъ бродяги, можетъ, отъ пьяницы… Мать гулена, а отецъ бродяга, – хороша природа!…
– Отецъ Вѣры былъ хорошій человѣкъ, купецъ честнаго рода…
– Воровка она…
– Полно вамъ, не грѣшите!… Она и единаго грошика не взяла себѣ изъ этихъ денегъ… Ее мучили, ее за горло мертвой петлей душили!…
– Да, а слава-то пойдетъ… За кого я отдамъ такую пригульную внучку?… Кто возьметъ ее?… Надо выдать за перваго встрѣчнаго, чтобы только взялъ… И возьметъ какой-нибудь шалыганъ ради бабушкиныхъ денегъ… Деньги промотаетъ, ее прогонитъ и она… она по стопамъ матушки своей пойдетъ…
– Ее возьмутъ и безъ денегъ! – тихо возразилъ Салатинъ.
– He ври, сударь!… Дай Богъ, чтобы и съ огромаднымъ приданымъ путный-то взялъ!… Кто она?… Незаконная дочка Анкина!… Та же Настька раззвонитъ вездѣ, что тутъ было. Разскажетъ всѣмъ, что за парня Вѣру-то выдавали, въ штанахъ водили, что воровала она у бабушки деньги… Никто не возьметъ изъ порядочныхъ и пропадетъ дѣвка, на черную дорогу выйдетъ…
Салатинъ всталъ.
– Бабушка! – заговорилъ онъ, – я буду имѣть честь просить у васъ руки вашей внучки…
– Ты?!
– Да, я… Смѣю думать, что я человѣкъ не опозоренный, что я чего-нибудь стою… Да, я прошу у васъ руки Вѣры… Я люблю ее!… Наше родство очень отдаленное, почти что и нѣтъ его…
– Николушка, да ты… ты не шутишь?… He обманываешь ты меня, чтобы я Вѣруньку эту простила?…
– Развѣ такими вещами шутятъ!…
– Да какъ же это такъ?… Когда же ты успѣлъ полюбить ее?…
– Полюбилъ… Знать, суждено такъ… Иную и долго видишь, и сватаютъ ее, и хороша она, а сердце не лежитъ, а иную увидишь и… и полюбишь!… Какъ зарыдала она у меня на рукахъ вчера, да разсказала все, да провелъ я потомъ съ нею весь день, а послѣ того увидалъ ее въ надлежащемъ для ея пола нарядѣ, такъ и свершилось все!… Обиженная она была, измученная, а сердце у нея отзывчивое, душа хорошая и собою такъ прекрасна она!… Полюбилъ, крѣпко полюбилъ и словно годы знаю ее и люблю!…
– Да, какъ-же это такъ-то, Николушка?… Господи, словно сонъ все это!…
– И мнѣ все это сномъ казалось, бабушка, вчера!… А теперь я вижу, что это дѣйствительность, хорошая дѣйствительность…
Салатинъ опустился передъ старухой на колѣни, взялъ ее за руки.
– И такъ, милая моя старушка, простите ее, примите и отдайте мнѣ! – сказалъ онъ. – Мы частыми-частыми гостями вашими будемъ, а еще лучше, если вы съ нами жить будете… Какъ заживемъ-то!…
– Худо-ли бы!… – промолвила старушка.
– Такъ въ чемъ же дѣло?… Черезъ полчаса она будетъ у васъ…
– Дѣвченка?…
– Милая дѣвушка, красавица!… Вѣдь, все тотъ же „Вася“, а только въ другомъ нарядѣ… Какъ вотъ на святкахъ рядятся… А?… Пришли святки, Вася нарядился барышней и пришелъ къ вамъ… Вы его журите, за ухо его, шалуна!… „Ахъ-де, ты такой-сякой, какъ ты смѣешь такъ шалить?… Вотъ я тебя, проказника!… Переодѣнься ступай!…“ Онъ уйдетъ, переодѣнется и придетъ къ вамъ прежнимъ Васею…
– Да, святки!… – съ глубокимъ вздохомъ проговорила старуха. – Какъ я отъ этихъ „святокъ“ жива осталась?… Сижу и ушамъ своимъ не вѣрю…
Салатинъ всталъ и взялъ шляпу.
– Такъ привезти? – сказалъ онъ. – И простите ее, и… и благословите?…
– Вези! – чуть слышно проговорила Ольга Осиповна.
– И… и ея мать?…
Старуха сдвинула брови.
– Какъ же безъ матери такое дѣло? – продолжалъ Салатинъ. – Ужъ дѣлать милость, такъ не на половину… Вспомните, сколько горя, обидъ, нищеты видѣла бѣдная Анна Игнатьевна!… А тутъ она развѣ мало страдала и терзалась?… Каждую, чай, минуту трепетала, за свою шкуру боясь, особливо послѣ того, какъ эта противная Настенька узнала, да начала изъ нея жилы тянуть!… Бабушка, я привезу и Анну Игнатьевну!…
– Пусть будетъ такъ, но только…
– Что?…
– Я ее изъ своихъ рукъ отдеру!… За все, за все!… И за обманъ наглый, и за гульбу, за дочку пригульную!… Въ кровь издеру, шкуру спущу!…
– О, нѣтъ, – воскликнулъ Салатинъ. – Этого не будетъ…
– He будетъ?… Такъ и не надо ее!…
– Бабушка, теперь не наказываютъ и каторжныхъ женщинъ! Это прошло, безвозвратно прошло… Бабушка, прощать надо совсѣмъ и вы простите вашу дочь… До свиданья, милая, хорошая моя!…
Салатинъ бѣгомъ выбѣжалъ изъ комнаты, а Ольга Осиповна долго-долго сидѣла, потомъ встала, подошла къ переднему углу и упала передъ иконами…
Долго и горячо молилась она.
XXIII.
Общественное мнѣніе…
Утверждаютъ, что у насъ въ Россіи нѣтъ общественнаго мнѣнія въ такой формѣ, въ какую оно вылилось на Западѣ. Быть можетъ это правда, но то, что считается у насъ общественнымъ мнѣніемъ, служитъ для очень многихъ тяжелымъ ярмомъ, и донынѣ съ этимъ нашимъ общественнымъ мнѣніемъ приходится считаться.
Оно выражается въ формулѣ: „что подумаютъ“, „что скажетъ княгиня Марья Алексѣевна“ – и въ этомъ видѣ является для иныхъ людей страшнымъ пугаломъ.
Пугало это стояло теперь передъ Ольгою Осиповной Ярцевой и не давало ей покою.
Старуха простила дочь, любила заочно новоявленную внучку такъ-же, какъ любила она до сихъ поръ внука, но ей не давала покою мысль о тѣхъ толкахъ, пересудахъ и сплетняхъ, которыя пойдутъ теперь по городу, когда узнается случившаяся „исторія“ въ домѣ Ярцевыхъ.
Вѣдь, всѣ будутъ толковать, всѣ!…
Прислуга разскажетъ о самозванномъ внукѣ лавочнику, лавочникъ – своимъ покупателямъ, а тѣ разскажутъ всему городу, и на внучку Ольги Осиповны Ярцевой, да ужъ кстати и на нее, будутъ сходиться смотрѣть, какъ на какое-нибудь чудище.
Старуха хорошо знала нравы родной Москвы.
– Нѣтъ, Миколушка, ты не привози ко мнѣ Вѣрочку, не привози! – сказала она Салатину, когда тотъ помирилъ съ нею дочь и привезъ ее, а затѣмъ собрался, было, ѣхать за Вѣрою.
– Какъ? – удивился Салатинъ. – Почему?…
– А вотъ потому…
И старушка сказала свои соображенія.
– Но какъ же быть, милая моя бабушка?
– А я придумала… Анна, вѣдь, ярославка, тамъ ее знаютъ, тамъ она жила съ дочкою. Ну, вотъ пусть и ѣдетъ туда… Я награжу Вѣрочку теперь же, купитъ она себѣ все, что нужно для приданаго, найметъ въ Ярославлѣ Анна квартиру хорошую, – тамъ ты и свадьбу сыграешь…
– А вы?
– А я ужъ тряхну своими костями старыми и съ ними поѣду… Попирую на свадьбѣ на вашей, погощу у васъ, коли не выгоните старуху-ворчунью, а тамъ, что Богъ дастъ… Стоскуюсь по Москвѣ по матушкѣ, такъ пріѣду скоро, a то, такъ и поживу тамъ у Анны, чтобы толки всѣ тутъ улеглись, чтобы языки досужіе звонить перестали…
– Хорошо! – согласился Салатинъ. – Мнѣ собственно все равно и вѣнчаться въ родномъ городѣ Вѣры я не прочь, но, вѣдь, вы захотите же увидать Вѣру теперь…
– Непремѣнно!… Сегодня даже хочу видѣть…
– И вамъ привезти ее?
– Я къ ней поѣду…
– Отлично, отлично, моя дорогая!… Какой это будетъ для нея сюрпризъ, бабушка!… Такъ ѣдемъ же сейчасъ, милая…
– Ѣдемъ… Прикажи-ка запрягать…
– Да, вѣдь, у меня лошадь тутъ…
– He поѣду я на вашихъ бѣшеныхъ скакунахъ на какихъ-то тамъ на резиновыхъ шинахъ заграничныхъ, – не желаю!… Всю жизнь ѣздила, какъ наши старики ѣздили, такъ стану я на старости какимъ-то еретическимъ людямъ вашимъ подражать!…
Салатинъ засмѣялся и пошелъ отдать приказаніе кучеру.
Къ подъѣзду подали допотопную пролетку съ поднятымъ верхомъ, запряженную старымъ-старымъ сивымъ конемъ, который въ самыхъ экстренныхъ случаяхъ шелъ легкой рысью, a то такъ предпочиталъ итти шагомъ, но не забылъ привычки гнуть лебединую шею и иногда рылъ копытами землю, больше же всего дремалъ, опустивъ голову и мечталъ о далекомъ прошломъ, когда онъ былъ красою замоскворѣцкихъ коней и поражалъ, бывало, на гуляньяхъ въ Сокольникахъ знатоковъ и любителей своими „статями“ и своимъ ходомъ.
Старушка, благословясь, влѣзла въ пролетку, подсаженная Салатинымъ.
У воротъ стояла кучка народа, заглядывая во дворъ и воюя съ дворникомъ, который грудью защищалъ ворота и калитку.
– Что за народъ! – спросила Ольга Осиповна у кучера.
– Такъ-съ… Зрящій…
– Да что за зрящій?… Зачѣмъ?…
– По глупости-съ… Узнали, что съ Васильемъ Матвѣичемъ случай какой-то, ну, и пришли смотрѣть… Болтаютъ разную ахинею, сказки размазываютъ… Куда прикажете Ольга Осиповна?…
– На Полянку! – отвѣтилъ за бабушку Салатинъ.
Древній рысакъ шевельнулъ ушами на посылъ кучера, подумалъ немного и тронулся, а изъ воротъ вышелъ такимъ молодцомъ, поощренный кучеромъ, что сосѣди даже и не узнали его.
– Слышалъ? – обратилась къ Салатину Ольга Осиповна, когда пролетка, гремя винтами и гайками, поѣхала по переулку. – Пронюхали ужъ!… Появись-ка тутъ Вѣрочка, такъ толпа цѣлая соберется!…
– Да! – усмѣхнулся Салатинъ и пожалъ плечами. Очевидно, истину или часть этой истины „улица“ знала.
Быть можетъ, тайну Настенька сболтнула кому-нибудь, быть можетъ, подслушала прислуга, но улица уже знала, что въ домѣ Ольги Осиповны дѣлается что-то особенное.
Салатинъ теперь вполнѣ одобрилъ планъ бабушки и окончательно рѣшилъ отпировать свадьбу въ Ярославлѣ.
Сивый конь между тѣмъ довольно исправно везъ пролетку, и она скоро остановилась на Полянкѣ у домика Степаниды Аркадьевны.
Вѣра первая увидала бабушку и бросилась встрѣчать ее.
– Вася… Вѣруня! – вскрикнула старуха, увидавъ внучку и приняла ее въ свои объятія.
Долго-долго рыдала дѣвушка не груди старухи, а та цѣловала ее, гладила ея курчавые волосы, всхлипывала и отъ волненія ничего не могла говорить.
– Маменька что-ли ейная? – тихо спрашивала у Салатина Степанида Аркадьевна, тоже со слезами на глазахъ.
– Бабушка…
– Такъ, такъ… Важная должно быть старуха, строгая.
– Очень даже… Вотъ она сейчасъ васъ примется отчитывать за укрывательство бѣглянки!…
– Ну?
– Непремѣнно. Полицію хотѣла пригласить съ собою, да я ужъ отговорилъ…
– Ну, будетъ тебѣ, соколикъ, пугать-то меня старуху!… Я не при-чемъ тутъ, я скажу, что знать не знаю, вѣдать не вѣдаю замысловъ вашихъ…
Салатинъ засмѣялся.
– Вы самоваръ-то идите ставить, да чтобы варенье всякое было…
Старушка побѣжала.
– Постойте! – остановилъ ее Салатинъ. – Шампанскаго надо будетъ, такъ вотъ пошлите дворника… Заживемъ, запируемъ, Степанида Аркадьевна, загуляемъ!…
Ольга Осиповна между тѣмъ вошла въ комнаты, поддерживаемая подъ руку Вѣрою.
– Ну, дай же ты мнѣ, обманщица негодная, посмотрѣть на тебя! – сказала Ольга Осиповна и, отодвинувъ отъ себя Вѣру, стала смотрѣть на нее.
– Дѣвка, какъ дѣвка! – говорила она, покачивая головою. – И лицо дѣвичье и поступь, и станъ, а я дура простоволосая за мальчишку столько времени ее считала!… Да что я? я старая карга, а, вѣдь, и другіе тоже!… Ну, обдумали вы съ маменькою штуку!…
– Простите, дорогая! – проговорила Вѣра, рдѣясь румянцемъ.
– Богъ проститъ… Теперь все кончено, все забыто, да и не ты и виновата… Вася, вишь… Ахъ, Господи, Господи!…
Старуха оглядѣла дѣвушку съ ногъ до головы.
– Пригожая! – промолвила она. – Въ мать, – та, вѣдь, тоже была красива…
Ольга Осиповна оглянулась на Салатина.
– Ты, соколъ, любишь ее что-ли?…
Салатинъ взялъ Вѣру за руку и повелъ къ бабушкѣ.
– Больше жизни! – воскликнулъ онъ. – Благословите насъ, дорогая…
– А ты не торопись! – сурово остановила его стаpyxa. – У нея мать есть, а я „съ боку припека“, мое дѣло впереди… Надо послатъ за Анной, да батюшку пригласить, да по формѣ все сдѣлать…
____________________
И сдѣлали все по „формѣ“.
Въ этотъ-же день Вѣра съ матерью и женихомъ уѣхала въ Ярославль, а на другой день уѣхала за ними и Ольга Осиповна, пригласивъ домовничать старуху-родственницу.
Черезъ нѣсколько дней, въ самомъ началѣ „большого мясоѣда“ [17] была отпразднована свадьба и „молодые“, слѣдуя новой модѣ, уѣхали въ Крымъ, гдѣ начинался осенній сезонъ. Уѣхала съ ними и Анна Игнатьевна, уѣхала счастливая, расцвѣтшая, помолодѣвшая на десять лѣтъ и хорошо „награжденная“ матерью.
Были слухи, что Анна Игнатьевна тоже выходитъ замужъ, но слухи эти не подтверждались, а изъ Крыма она съ молодыми въ Москву не вернулась, отправившись въ Петербургъ, гдѣ у нея были какіе-то знакомые.
Ольга Осиповна хотѣла, было, посѣлиться въ домѣ Салатина и ужъ намѣревалась отдавать свой домъ подъ квартиру, да соскучилась по родному углу и вернулась въ него доживать свой вѣкъ, а чтобы ей не было одиноко и скучно, такъ она взяла съ собою Настеньку, – „модная дѣвица“ сумѣла помириться со всѣми, прикинулась лисичкою, смирилась и живетъ до сихъ поръ у Ольги Осиповны, высматривая хорошаго женишка.
Деньгами ее старуха награждаетъ и свахи знаютъ, что за „модною дѣвицей“ будетъ хорошее приданое…
КОНЕЦЪ
ПРИЛОЖЕНИЕ Ванюшка и царевна
Жила-была в одной деревне крестьянка Марья. И был у нее сынок Ванюшка. Хороший вырос парень – красивый, здоровый, работящий. Вот приходит он как-то раз к матери и говорит:
– Матушка, а матушка.
– Чего, дитятко?
– Матушка, я жениться хочу.
– Так что ж, женись, Ванюшка, женись, ягодиночка. Невест-то всяких много: есть в нашей деревне, есть в соседней, есть в залесье, есть в заречье… Выбирай любую.
А Ванюшка отвечает:
– Нет, матушка, не хочу я жениться на простой-то крестьянке, хочу жениться на царской дочке. Удивилась Марья:
– Ой, Ванюшка, чего ты надумал! Не отдаст за тебя царь дочку-то. Ведь ты простой мужик, а она – шутка сказать – царевна!
– А почему не отдать? Я парень здоровый, работящий, красивый. Может, и отдадут.
– Ну что ж, пойди, Ванюшка, попытай счастья.
Собрала ему мать котомку, положила хлебца ломоть, – пошел Ванюшка свататься.
Идет лесами, идет горами – смотрит, стоит большущий дворец: стены золоченые, крыша золотая, на крыше петушок золотой сидит, крылечки все резные, окошки расписные. Красота! А кругом слуг – видимо-невидимо. Ванюшка и спрашивает:
– Тут царь живет?
– Тут, во дворце, – отвечают слуги.
– И царская дочка с ним?
– А куда она от отца-то денется? И она тут!
– Ну, так бегите к ней, скажите – пришел Марьин сын Ванюшка. Жениться на ней хочу.
Побежали слуги, – и выходит на крылечко царская дочка. Матушки, до чего же важная! Сама толстущая-толстущая, щеки пухлые, красные, глазки маленькие – чуть виднеются. А носик такой веселой пупочкой кверху торчит.
Поглядел Ванюшка на нее и спрашивает:
– Ты царская дочка?
– Конечно, я. Или не видишь?
– Я на тебе жениться хочу.
– Ну, так что за беда? Пойдем в горницу-то, побеседуем.
Входят они в горницу. А там стол стоит, самовар на столе и всякое-то, всякое угощение разложено. Ну, царь-то богато жил, – всего было много. Уселись они, Ванюшка и спрашивает:
– Ты невеста-то богатая? Платьев-то много у тебя нашито?
– А еще бы не много! Я ведь царская дочка. Вот утром встану, новое платье надену – да к зеркалу. Погляжусь на себя, полюбуюсь – да к другому зеркалу, в другом платье. Да потом третье надену – да к третьему зеркалу. А потом – четвертое…
Вот так целый день до вечера наряжаюсь да в зеркала гляжусь.
– До вечера, – Ванюшка спрашивает, – все наряжаешься? А когда же ты работаешь-то?
Поглядела на него царская дочка и руками всплеснула:
– Работать? Ой, Ванюшка, какое ты слово-то скучное сказал! Я, Ванюшка, ничего делать не умею. У меня все слуги делают.
– Как же, – Ванюшка спрашивает, – вот женюсь я на тебе, поедем мы в деревню, так ты сумеешь хлеб-то спечь? Печку-то растопить сможешь?
Пуще прежнего царская дочка дивится:
– Хлеб? В печку? Да что ты, Ванюшка! Ведь в печке дрова горят, а сунешь туда хлеб – он углем станет. Мне царь-тятенька сказывал – хлеб-то на елках растет.
– На елках? Ну, поглядел бы я, где это такие елки водятся. Эх ты! Ну, а скажи-ка мне, ты у отца-то набалована, есть-пить сладко привыкла? Чай-то как пьешь – в прикуску или в накладку?
Глядит на него царская дочь, головой качает:
– И не в прикуску, Ванюшка, и не в накладку. Я ведь царская дочка, а у нас, у царей, все не как у людей. Вон у меня в потолке крючочек, а с крючочка веревочка висит. Как я захочу сладкого чаю, – привяжут мне к этой веревочке целую сахарную голову. Голова висит над столом, болтается, а я пососу ее, да и пью, пососу, да и пью.
Ванюшка и глаза выпучил.
– Это, – говорит, – как же? Каждый день тебе сахарную голову к чаю надо? Да у нас в деревне так чай никто не пьет. Нет, видно, ты к нашим порядкам-то не приучена… Ну, а скажи-ка мне, хорошая ли ты рукодельница? Нашила к свадьбе перин, подушек, одеял?
Царская дочка только руками машет:
– Да что ты, Ванюшка! Стану я, царская дочка, на постели спать!
– А ты как же, – Ванюшка спрашивает, – без постели? На полу, что ли? Или на сеновал бегаешь?
– Нет, и не на полу, и не на сеновале. Я ведь царская дочка. У меня, Ванюшка, не постель, а целая комната пухом набита. Войду я в нее, – нырну да вынырну, нырну да вынырну… Так вот и сплю.
Ванюшка кусок в рот нес, у него и рука остановилась.
– Это что же, ты мне целую избу пухом набьешь? Да как же в такой избе жить-то станем? Ведь задохнемся! Ты, может, и привыкла, а нам с матушкой этак несподручно. Нет, видать, ты хозяйка-то плохая… Может, ты хоть грамотна хорошо? Так возьму я тебя в деревню, станешь наших ребят в школе грамоте учить.
– Ребят? Да что ты, Ванюшка! Опомнись! Стану я, царская дочка, ребят деревенских учить! Да я, Ванюшка, ребят терпеть не могу, заниматься с ними ни за что не стану. Да, по правде сказать, я, Ванюшка, и не шибко грамотна.
– Неграмотна? – Ваня спрашивает. – Чего ж ты экая выросла большущая, толстущая, а неученая?
– Да я, Ванюшка, две буковки-то знаю, расписаться могу. Знаю буковки “Мы” да “Кы”. Поглядел на нее Ванюшка:
– Это что ж такое “Мы” да “Кы”? У нас так в деревне и ребята не скажут, не то что взрослый человек.
– А это, Ванюшка, мое имя и отчество: “Мы” – Миликтриса, а “Кы” – Кирбитьевна. Вот две буковки-то и есть.
– Чего ж ты всех остальных-то не выучила? – Ванюшка спрашивает.
Царская дочка и губы надула:
– Экой ты, Ванюшка, неладный, все тебе не так да не этак! Я и то в нашей семье самая ученая. Царь-то, тятенька, у нас и вовсе малограмотный…
Сидит Ванюшка, лоб потирает, про угощенье и думать забыл.
– Да… – говорит, – должен я пойти домой, с матушкой посоветоваться, подходящая ли ты мне невеста.
– Пойди, Ванюшка, пойди, голубчик. А назавтра, верно, назад придешь: лучше-то меня нигде не встретишь.
Пошел Ванюшка домой. Приходит, рассказывает Марье:
– Ну, матушка, видел я царскую дочку. Такое, матушка, несчастье: целый день она наряжается да в зеркала глядится, работать ничего не умеет, говорит – хлеб-то на елках растет. Да чай-то пьет не по-нашему – целую сахарную голову сосет. Да спит-то не на постели, а куда-то в пух ныряет да выныривает. Да грамоте не знает. На что мне, матушка, такая невеста!
А Марья смеется и говорит:
– Ладно, Ванюшка, ладно, ягодиночка. Я сама тебе невесту найду.
Поискала мать в деревне – и нашла сыну невесту Настеньку. Хорошую такую девушку – умницу-разумницу, хозяйку исправную, рукодельницу работящую. Вот женился Ванюшка, да и зажил счастливо.
А царская-то дочка с того дня, говорят, каждое утро на крылечко выходила да по сторонам смотрела: где же Ванюшка? Куда ушел? Чего не возвращается?
А Ванюшка к ней не вернулся. Такая лентяйка да неумеха, да неученая, неграмотная – кому она надобна? Да как есть никому!
Так всю жизнь до старости она и просидела. Только вот сказка про нее осталась. Сказка-то по деревням шла, шла, до нашей деревни дошла, – а теперь вот и к вам пришла.
Об авторе Пазухин Алексей Михайлович
Пазухин Алексей Михайлович (11[23].02.1851-27.03. 1919), драматург, писатель. Родился в Ярославле. Отец – из старинного дворянского рода, мать – из купеческой семьи. Начальное образование получил дома, в 1861 поступил в Ярославскую гимназию. 8 лет работал учителем.
В 1881 переехал в Москву; стал постоянным сотрудником газеты «Московский листок», где вплоть до 1917 из номера в номер появлялись его рассказы, сценки, повести и романы.
Романы Пазухина (более 50), печатавшиеся в «Московском листке» и выходившие впоследствии отдельными изданиями, посвящены в основном купечеству («После грозы», М., 1898; «Драма на Волге», М., 1898; «Вторая весна», М., 1900; «Тайна Воробьевых гор», М., 1903; «Лунные ночи», М., 1906; «Заря новой жизни», М., 1911; «Ордынская красавица», СПб., 1913; и др.). Досконально зная купеческий быт, Пазухин, однако, не выступает в роли бытописателя; развитие действия в его романах, имеющих жесткую (как правило, мелодраматическую) сюжетную конструкцию, определяется любовной страстью или жаждой обогащения. В качестве высшей ценности утверждается счастливая семейная жизнь, а погоня за деньгами и чувственными удовольствиями порицается. Носителями соблазнов выступают обычно аристократы; резко негативное отношение к светской жизни выражено в романах «Московские коршуны» (М., 1896), «Дисконтер» (М., 1899), «Княгиня Бутырская» (М., 1903), «В вихре жизни» (М., 1912). Порой он обращался к изображению помещичьего («В тени тополей», М., б. г.; «Грядущая сила», М., 1915) или театрального («На сцене жизни», М., 1904) быта; писал также уголовные романы («На обрывах Поволжья», М., 1896). Однако первенствует в его романах любовная интрига, даже в произведениях на политические («На баррикаде», М., 1906; «Военная гроза», М., 1915; «Вокруг трона», М., 1917) и исторические («Ополченная Россия», М., 1891; «Купленная невеста», М., 1895) темы.
В Введенском народном доме и театре сада «Аквариум» (Москва), а также на провинциальных сценах шли пьесы Пазухина «Московская бывальщина» (М., 1885), «Два пути» (М., 1887), «Безбрачные» (М., 1903) и др. Ценный источник сведений о различных сторонах быта московского купечества, мелкого чиновничества, городских низов – очерки, сценки и рассказы Пазухина, объединенные в сборники «Злоба дня» (М., 1883), «Ландыши» (М., 1883), «Чудаки нашего века» (М., 1894), «На рубеже века» (М., 1900), «Матушка Русь» (М., 1901), «Шутки пера» (М., 1904).
Ист.: Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь. М., 1999. Т. 4.
Примечания
[1] ШЛЯПА «а ля РУБЕНС», «а ля «РЕМБРАНТ» – широкополая фетровая шляпа, вошедшая в моду в XVI веке, особенно в Нидерландах. Название получила потому, что встречается очень часто на картинах Рубенса и Рембрандта. (Примечание вычитывающего)
(обратно)[2] Миликтриса Кирбитьевна – героиня русской народной сказки “Ванюшка и Царевна“.
(обратно)[3] Филиппов пост – простонародное название Рождественского поста.
Последний многодневный пост в году. Длится он сорок дней (28 ноября – 6 января, включительно) и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Иногда этот пост называют Филипповым, в знак того, что он начинается на следующий день после дня празднования памяти апостола Филиппа (27.11 н.ст.; 14.11 ст.ст.).
(обратно)[4] Крымская война 1853-1856, также Восточная война – война между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. Боевые действия разворачивались на Кавказe, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Чёрном, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке. Наибольшего напряжения они достигли в Крыму.
(обратно)[5] Ажитировать – Приводить в беспокойство, волновать. (устар.)
(обратно)[6] Югская Дорофеева пустынь (Югско-Дорофеевская пустынь) – бывшая пустынь, мужской монастырь, находившийся на территории современной Ярославской области, в месте слияния рек Юга Черная и Юга Белая недалеко от Волги. Расстояние от Рыбинска – 17 км, от Мологи – 18 км.
(обратно)[7] Троице-Сергиева Лавра, в церковной литературе обычно Свято-Троицкая Сергиева Лавра – крупнейший православный мужской ставропигиальный монастырь России, расположенный в центре города Сергиев Посад Московской области, на реке Кончуре. Основан в 1337 году преподобным Сергием Радонежским.
(обратно)[8] Симонов монастырь, 1882 г.
Симонов Успенский монастырь – мужской монастырь, основанный в 1370 году вниз по течению Москвы-реки от Москвы учеником и племянником св. прп. Сергия Радонежского – свт. Федором, уроженцем города Радонежа на землях, которые пожертвовал боярин Степан Васильевич Ховрин, принявший иночество с именем Симон, от чего и происходит название монастыря). До наших дней сохранилась лишь малая часть построек Симонова монастыря.
(обратно)[9] Иммортель – (фр. бессмертный). Растение, у которого цветы сохраняют при высыхании натуральный цвет и вид; то же, что бессмертник.
(обратно)[10]
Отель «Континенталь», в этом же здании трактир Тестова (1908)
У Гиляровского в рассказе «Чрево Москвы» есть описание, как "испортился" «Трактир Тестова», став «Рестораном Тестова»:)
Можно почитать и тут:
(обратно)[11] «Мюр и Мерилиз» – российский торговый дом (1857-1922). Также называли его флагманский торговый центр в Москве на Петровке. Основали фирму «Мюр и Мерилиз» шотландцы Арчибальд Мерилиз и Эндрю Мюр. Они поселились в России в первой половине XIX века и в 80-х годах из Петербурга переехали в Москву.
(обратно)[12] Болото – местность в Москве; низменность напротив Кремля между правым берегом Москвы-реки и ее старицей (ныне Водоотводным каналом). До 2-й половины XVIII века из-за низких берегов эта местность затоплялась во время дождей и весенних паводков и действительно представляла собой болото. К осушению болота привело строительство Водоотводного канала в 1783-1786 годах. В старину здесь устраивались кулачные бои, на которые приезжал смотреть царь, а в XVII-XVIII веках Болото было местом публичных казней: здесь в конце XVII века отрубили голову Никите Пустосвяту – священнику-старообрядцу, который выступал против церковной реформы патриарха Никона. На этой площади сожгли в срубе Андрея Безобразова с волхвами, четвертовали Степана Разина и обезглавили Емельяна Пугачева… Местность в районе бывшей площади с начала XVIII в. называлась также Царицын луг (здесь, в частности, жгли фейерверки по случаю коронации Екатерины I). К началу XIX в. утвердилось название Болотная пл. Во второй половине XVIII – начале XX в. здесь стояли каменные и деревянные дома, лавки, лабазы (продуктовые склады) купцов. После осушения, с конца XVIII века, и вплоть до революции в 1917 году Болото было крупнейшим торговым центром Москвы.
Цены на мясо в Москве по данным 1854 года (в рублях серебром):
Пуд солонины (в ценах 1854 года) стоил 1 рубль 80 копеек (то есть, около 11 копеек за килограмм), пуд свинины – 1 рубль 60 копеек. Любимым лакомством москвичей были копченые окорока – по 3 рубля 50 копеек за пуд зимой и по 2 рубля 75 копеек летом.
Летом же, когда животные могли питаться подножным кормом, с Украины пригонялись гурты волов, из среднерусских губерний – бараны. Более всего ценились бараны ордынские – в 1854 году пара стоила 6 рублей, черкасские шли по 5 рублей, а русские (более мелкие) – по 4 рубля 30 копеек.
Рыба ценилась дороже, чем мясо. Путеводитель 1829 года сообщал читателям: «Рыбная провизия как-то: белужина, севрюжина, семга и прочая рыба, привозимая с Дона и Урала, и от города Архангельска, приходит в Москву несколько позже, чем мясная провизия».
Из-за высокой цены рыбу, как правило, покупали от случая к случаю. Путеводитель 1826 года отмечал: «Некоторые, и может быть немногие, запасаются ею в год».
Цены на рыбу в Москве по данным 1854 года (в рублях серебром):
Фунт белуги стоил 20 копеек, фунт осетрины – 27 копеек, семги – 20 копеек, севрюги – 13 копеек. Самым дорогим из рыбных продуктов, как впрочем, и всегда, была зернистая икра, стоившая 80 копеек за фунт.
Поскольку на Болоте находился один из самых крупных московских рынков, то круглогодично здесь шла оптовая торговля съестными припасами. Москвичи зимой и летом делали запасы сезонных продуктов. В каждом московском доме были подвалы и ледники для хранения съестных припасов.
Историк Москвы П.В. Сытин пишет, что Царицын луг был официально переименован в Болотную площадь в 1845 году. Вскоре был построен вдоль всей площади по проекту архитектора М.Д. Быковского длинный каменный корпус с полукружьями на концах.
Московские власти контролировали цены. Смотрители рынков должны были дважды в год предоставлять в Канцелярию Московского генерал-губернатора реестры цен на основные пищевые продукты и другие товары.
Летом из Саратовской и Астраханской губерний привозили арбузы и дыни. Из Астрахани прибывал и виноград. Лимоны и апельсины также были известны москвичам. Эти субтропические фрукты прибывали в Москву, как правило, весной из Петербурга, куда их доставляли долгим морским путем из Италии и Греции.
Дороговизна была неимоверная – ящик апельсинов «заграничной укупорки», содержавший 200-300 штук, в 1850-е годы стоил 15 рублей серебром. То есть, фунт севрюги равнялся стоимости трех-четырех апельсинов.
Но москвичи любили шикануть, и даже один из героев пьесы А.Н. Островского «Не сошлись характерами» говорит: «Как стану водку пить – так закушу апéльсиком» (совмещая в одном слове апельсин и персик, символизировавшие наслаждение гурмана).
Рынок на Болотной 1890-1900
(обратно)[13] Цугундер – Только в выражении: на цугундер (взять, тянуть и т.п.; разг.) – на расправу, к ответственности. «- В должишках запутались? На цугундер тянут?» А.Островский. (От нем. Zu hundert – к сотне (ударов); по-видимому, из старин. воен. арго, где употр. для обозначения приговора к телесному наказанию.)
(обратно)[14] Переводчик неизвестен. Такой перевод что-то нынче нигде не встречается.
(обратно)[15] Яр – название нескольких знаменитых ресторанов в Москве XIX – начала XX века. «Яр» – пользовался популярностью у представителей богемы, был одним из центров цыганской музыки. В 1836 году «Яр» открывается в Петровском парке, на Петербургском шоссе (ныне Ленинградский проспект) в загородном владении генерала Башилова. Владимир Гиляровский писал об этом: «Были еще рестораны загородные, из них лучшие – „Яр“ и „Стрельна“». В 1895 году «Яр» приобретает Алексей Акимович Судаков. В 1910 году по его поручению архитектором Адольфом Эрихсоном было выстроено новое здание в стиле модерн, с большими гранёными куполами, арочными окнами и монументальными металлическими светильниками по фасаду. В 1952 году здание было еще раз перестроено, теперь уже в стиле сталинского ампира, и в нем открылась гостиница «Советская» с одноимённым рестораном. А с 1980-х гг. в одном из залов ресторана находится театр «Ромэн».
Санкт-Петербургское шоссе с аэросанями в XXIII веке на открытке 1914 года из цикла «Москва в XXIII веке». Вид ресторана «Яр».
(обратно)[16] Фараончиками называли цыган.
А вообще-то это пошло от предания о библейском Моисее, о тех фараоновых воинах, что погибли в море, когда гнались за пророком, и превратились в русалок (не в наших, лесных, а именно в фараоновых, они и обликом от наших отличались). Эти фараончики обладали глухими хриплыми голосами.
Цыган же фараончиками стали звать за их "тёмность" и происхождение (ошибочное, как мы знаем сегодня): европейцы полагали, что цыгане происходят из Египта.
(обратно)[17] Время после Успенского поста (где-то в августе).
В Успенский мясоед к столу подают: лебедей, да потрох лебяжий, журавлей, цапель, уток, грудинку баранью с шафраном на вертеле, вырезку говяжью на вертеле, языки на вертеле, потрошки свиные, курятину заливную, отвары куриные, говядину, свинину заливную, юрмы, лосину, солонину с чесноком и с пряностями, зайчатину в латках, зайчатину с репой, зайчатину заливную, кур на вертеле, печень баранью просветленную с перцем и с шафраном, говядину вяленую, свинину вяленую, колбасы, желудки, ветчину, рубцы, кишечки, кур вяленых, карасей, кундумы, щи.
А на ужин в Успенский мясоед к столу подают: зайчатину печеную, буженину, квашенину, головы да ножки свиные, полотки, зайчатину соленую, свинину, ветчину.
(обратно)



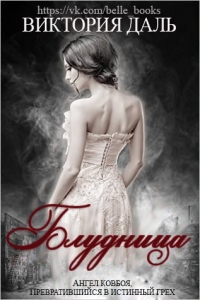
Комментарии к книге «Самозванка», Алексей Михайлович Пазухин
Всего 0 комментариев