Анастасия Туманова Огонь любви, огонь разлуки
В окна поезда, несущегося по железной дороге к польской границе 14 апреля 1879 года, светило мягкое весеннее солнце. Золотистые пятна весело скакали по бархатной обивке сидений, играли в пятнашки на полу, скользили по сомкнутым ресницам спящей в углу купе первого класса девушки. Она была очень молода, не старше восемнадцати лет. Ее темные вьющиеся волосы, выбившись из прически, в беспорядке лежали на сиденье. Звали девушку Софьей Грешневой, и сон ей виделся тревожный. «Аня, что с Катей? – бормотала она, мечась по жесткой вагонной подушке. – Аня, где Сережа? Маша, скоро начинать, твой выход… Занавес, дайте занавес… Я уезжаю… Не трогайте же меня, животное…»
«Животное», сидящее напротив, с явным интересом слушало Софьино бормотание, изредка усмехаясь или покачивая черной курчавой головой. Это был Федор Мартемьянов, костромской купец-пароходник тридцати двух лет, о немереном состоянии которого ходили легенды от Ярославля до Астрахани.
Семья Мартемьяновых стала самой богатой в Костроме при отце Федора, Пантелее Кузьмиче. Говорили, что в молодости Пантелей Мартемьянов ходил на стругах по Волге вместе с ватагой лихих людей, грабивших пароходы, и именно грабежом нажил себе немалое состояние. Каким-то чудом он миновал Сибири, отколовшись от ватаги за месяц до того, как ее всю разом накрыли в кабаке на Казанской ярмарке. Люди втихую поговаривали, что именно Пантелей и сдал властям товарищей – с тем чтобы единолично воспользоваться ватажной казной. Так или иначе, он объявился в Костроме с огромными деньгами, купил дом, три парохода и начал свое дело. Когда пароходов стало семь, Мартемьянов женился и за три года родил трех сыновей, младшим из которых был Федор.
Федор до сих пор не мог без мороза по коже вспоминать об отце: огромном сильном человеке с корявым, всегда хмурым лицом, которое совсем уж портил длинный шрам, пересекавший его от брови до подбородка и прячущийся в черной жесткой бороде. Отец иногда по целым дням не говорил ни слова, но его вид неизменно внушал ужас и семье, и работникам: собственные приказчики боялись у него воровать, неслыханное для России дело. Рука у Пантелея Мартемьянова была тяжелой, что не однажды испытывали на себе и люди купца, и близкие. Его жена, в девичестве – первая костромская красавица, статная и зеленоглазая, боялась не только разговаривать с мужем, но даже лишний раз взглянуть на него, дети в присутствии отца предпочитали прятаться по углам. В доме царили страх и тишина. Жена самого богатого в городе человека носила ветхие, рассыпавшиеся на глазах, несколько раз перешитые платья, не смея попросить у мужа денег на обнову, а самому ему порадовать супругу нарядами и в голову не приходило. Вся прибыль шла в торговый оборот, даже отдавать сыновей в гимназию Мартемьянов-старший не стал, мотивируя это тем, что он хоть и не учился грамоте, тем не менее умудрился нажить хороший капитал. «Кассу посчитать смогут – и ладно!» Сыновья молчали и учились грамоте у дьячка по псалтыри.
Федору было восемь лет, когда пьяный отец на его глазах начал дубасить мать поленом для растопки. Мать даже кричать не смела, стонала по-коровьи, тяжко, с закрытым ртом. Федор схватил со стола хлебный нож, кинулся на отца и успел довольно сильно расцарапать ему бок. После этого отец до полусмерти избил младшего сына вожжами. Две недели мальчишка провалялся один в каморе для прислуги: мать боялась входить к нему и только ночью, прокрадываясь на цыпочках, оставляла на столе еду и забирала отходное ведро. С этого времени Федор начал прямо обращаться в вечерней молитве к богу с просьбой о ниспослании скорейшей смерти тятеньке. К десяти годам мальчик убедился, что всевышний этим заниматься не намерен. В двенадцать начал подумывать о том, кто бы мог уходить тятеньку вместо бога. В шестнадцать сообразил, что кроме него, Федора, устроить это некому. А в восемнадцать, жарким душным летом, когда над городом висело желтое марево, он дождался отъезда старших братьев с товаром на ярмарку и поднялся в спальню родителей. Пьяный отец храпел, раскинувшись поперек огромной кровати, а мать, в очередной раз избитая в кровь, дрожала и всхлипывала на полу под образами.
– Что ты, Феденька? – одними губами спросила она, увидев лицо младшего сына, впервые в жизни вошедшего в спальню родителей.
– Выйдите, мамаша, – коротко сказал он. Но она не могла встать, и Федор, легко подняв мать на руки – легкую, как веточка, истаявшую от вечного страха, – вынес ее в сени. Спокойно вернулся назад, без колебания и суеты перевернул отца на спину, бросил ему на лицо тяжелую перину и навалился всем телом сверху. Через минуту дело было кончено.
– Скончавшись папаша. Удар приключился, – сказал он матери, скорчившейся в углу сеней. – Попа зовите, да Ваньке с Афанасием отпишите в Астрахань. Жара стоит, хоронить скорее надо.
Мать слабо ахнула, схватилась за голову и лишилась чувств.
Федор был убежден в том, что никто не поверит в смерть родителя от удара, и готовился отправляться в Сибирь с чувством исполненной жизненной задачи, но, к его изумлению, все прошло без сучка-задоринки. Вечно похмельный слободской доктор подтвердил удар от прилива крови к голове, жара и в самом деле стояла страшная, и первого купца Костромы похоронили в дикой спешке, не дожидаясь ни съезда на поминки дальней родни, ни даже возвращения старших сыновей. Те, впрочем, не особенно расстроились и вернулись домой смертельно пьяные и счастливые: после долгих лет страха и унижения им в руки падали огромный отцовский капитал и вольная воля. Но пользоваться всем этим они смогли без малого месяц.
Федор до сих пор не понимал, из каких мухоморов кухарка Егоровна сварила ту проклятую грибную лапшу. Может, если б мать, как всегда, приглядывала за кухаркой, любившей выпить, все сложилось бы по-другому и в их семье, и в его жизни. Но мать, после смерти супруга не встававшая с постели и не сказавшая никому ни слова, больше не занималась хозяйством, и Егоровна царствовала на кухне единовластно.
– Тьфу, глушня старая… Мыша, что ль, в лапше сварила? – поморщился Федор после нескольких ложек, брезгливо отодвигая от себя миску. – Ей-богу, никак невозможно такую пишшу принимать… Вы-то как хлебаете, не пойму?!
– Вона, граф какой выискался! – расхохотались братья, которые с утра рыбачили на Волге, притащили четырех осетров в полтора аршина каждый и с голодухи уже умяли по две миски. – Посиди с рассвета до полудня в кустах с бреднем – и тебе за счастье покажется! Хлебай давай да спущайся в контору, счета по «Святой Ефимии» проверить надобно!
– Воля ваша, не могу. – Федор встал из-за стола, вопросительно взглянув на старшего, Афанасия, бывшего теперь главой дома. Тот величественно кивнул – ступай, мол, бестолочь, – и Федор, не доев, ушел к себе.
Через полчаса у него дико скрутило живот. Некоторое время Федор терпел, валяясь на кровати и сдавленно хрипя сквозь зубы, но с каждой минутой ему было хуже и хуже. Когда же стало совсем невмочь, он кое-как дотянулся до кринки с молоком, стоящей на столе, сделал несколько глотков – и его тут же вывернуло на пол. Превозмогая страшную боль в животе и головокружение, Федор снова выпил молока – и опять оно вылетело из него. Он пил и пил – через силу, корчась от дикой боли, понимая, что бесполезно, что все равно помрет, что надо бы позвать попа и хоть перед смертью покаяться в грехе с папашей… хотя что же каяться в том, от чего никому плохо не стало… Но, слава богу, до попа и покаяния дело не дошло. Молоко в кринке кончилось, живот немного отпустило – и Федор, не посмотрев даже, во что превратился пол горницы, повалился вниз лицом на кровать и заснул – как провалился.
Он очнулся лишь утром от дикого воя матери, раздававшегося с первого этажа. Федор поднял тяжелую, словно чугунную голову с подушки, ужаснулся густой вони, наполнявшей горницу (следы вчерашних извержений его желудка за ночь никуда не делись), кое-как поднялся, ударом кулака распахнул ставни и, шатаясь, пошел вниз – узнать, что еще стряслось.
В доме уже суетился народ: бегали сразу два доктора – для богатых и попроще, из слободы, попов было человек пять, мельтешили какие-то старухи в черном, голосила дурниной пьяная Егоровна; мать, белая и страшная, с распущенными седыми космами, в разодранной рубахе, каталась по полу и беспрерывно выла. Оба брата Мартемьяновы умерли ночью, отравившись грибами.
Услышав робкое: «Федор Пантелеич, как распорядиться похоронами прикажете?» – Федор не сразу понял, что это обращаются к нему. С трудом сбросив с себя тяжелое оцепенение, он поднял еще гудящую голову и увидел, что все в горнице, кроме распластавшейся на полу матери, смотрят на него и чего-то ждут. Он с удивлением переводил глаза с одного лица на другое до тех пор, пока в ответ на его взгляд старший приказчик, старый верный Андроныч, не поклонился до земли, как кланялся лишь отцу. Только тогда Федор понял, что является теперь главой дома и хозяином всех мартемьяновских богатств. «Не было у бабы забот – купила баба порося…» – ошеломленно подумал он. Перевел дух и начал распоряжаться.
Ночью, когда Федор, смертельно устав от навалившихся хлопот, приготовлений к похоронам и бесконечных разговоров с приказчиками, подрядчиками, попами и докторами, сидел на постели и мучительно соображал: снять ли сапоги или же, не мучаясь, завалиться прямо в них, – за дверью чуть слышно поскреблись. «Кто там трется?» – удивился он. Наступила тишина, и Федор уже решил было, что это шляется кот, когда дверь приоткрылась, и в горницу, мелко переступая, вошла мать. С Федора мгновенно слетела дрема.
– Мамаша?! Вы пошто здесь?
Морщинистое, старое лицо матери, освещенное снизу дрожащей свечой, напугало его. А когда мать приблизилась вплотную и взглянула запавшими, блекло-зелеными глазами в его глаза, у Федора по спине пробежала дрожь.
– Да что с вами, мамаша?
– Феденька… – прошелестела она, хватая его руку своей сухой лапкой и тряся головой. – Феденька, скажи мне… Зачем ты братьев-то?.. Ведь кровь родная… И не забижали они тебя никогда… Ить Афанасий и тебя бы до денег допустил, не изверг же был вроде тятеньки… Зачем же, Феденька?
Несколько мгновений он ничего не понимал и сидел пень пнем, не в силах отвести взгляд от глаз матери. А потом вдруг горло сжала такая судорога, что он не только что-то ответить ей, но даже вздохнуть не смог. Так и вышел из горницы – молча, неловко оторвав от рукава слабые пальцы матери. С лестницы Федор услышал, как она мешком повалилась на пол и зарыдала, но возвращаться не стал.
До утра он проходил по высокому берегу над Волгой, слушая, как сильно плещутся в невидимой черной воде осетры, как ухает сыч в камышах, как кто-то пронзительно воет на том берегу, в степи, как гудят громады пароходов, перекатывавшихся через быстрину. Смотрел, как дрожат над обрывом низкие синие звезды, как закатывается молодой месяц; тянул носом сырой воздух, растирал в ладонях горькие шишечки полыни. Когда с востока поднялся розоватый свет и посветлела, став серебристой, широкая гладь реки, Федор почувствовал, что грудь отпустило. Чтобы убедиться, он несколько раз глубоко вздохнул, понял, что да, в самом деле, и дышит, и живет. Сорвав мокрый и тяжелый от росы лопух, Федор протер им лицо и пошел домой.
Матери он больше не сказал ни слова. Даже тогда, когда она осенью пришла проситься на постриг в монастырь, Федор лишь кивнул и придвинул к себе расходную книгу, прикидывая, сколько должен будет отдать денег в обитель. И когда полгода спустя получил письмо от игуменьи, уведомлявшее, что инокиня Илария, в миру Евдокия Евлампиевна Мартемьянова, лишилась рассудка и скончалась, он не поехал на ее похороны. Теперь из всей семьи Мартемьяновых остался только Федор.
В городе ходили слухи один другого страшнее. При встрече с Федором Мартемьяновым люди вздрагивали и отводили глаза, торопясь юркнуть в ближайший переулок, а те, кто не успел убежать, низко, в пояс, кланялись. Слухов Федор не опровергал, справедливо полагая, что если уж родная мать посчитала его убийцей братьев, то чего же ждать от чужих, но внутри постоянно чувствовал давящее тяжкое бешенство. Федор терпеливо ждал, что это пройдет само, но – не проходило. Когда же ему начало думаться, что скоро он в самом деле кого-нибудь убьет, Федор, забрав с собой ватагу приказных помоложе и поотчаяннее и бросив дела на Андроныча, отправился с пароходом «Апостол Павел» прочь из города на рыбные промыслы.
Домой Федор Мартемьянов вернулся лишь несколько лет спустя: повзрослевший, сильно раздавшийся в плечах, загоревший и прокоптившийся до черноты, страшно напоминавший своего папашу-ватажника в молодости. Костромичи только крестились, глядя на то, как владелец миллионного состояния, грязный и черный, словно последний бурлак, идет по сходням в цепочке грузчиков, разгружая с парохода кули с солью, рыбой и пушниной. Федор и не замечал, что в коммерческих делах твердо придерживается политики отца: всем заниматься собственноручно, никому не доверять, в долг не давать, самому не брать тем более, воров не отправлять в участок, а казнить лично. В городе его по-прежнему боялись, но Мартемьянова уже не беспокоило это, напротив, теперь он считал, что людские страхи ему лишь на руку, и не так уж ошибался. Мало кто решился бы повести с ним нечестные дела, а уж воровать у Мартемьянова осмелился бы только умалишенный. О тех годах, которые он провел вдали от родного города, ходили самые невероятные разговоры: что Федор ходил в бечеве с бурлаками, охотился на пушного зверя, в степях скупал лошадей у калмыков, сплавлял лес вниз по Волге и воровал лошадей в племенных табунах. Слыша эти сплетни, Мартемьянов только усмехался в свою цыганскую бороду и смотрел на говорящего черными, без блеска глазами так, что у того язык примерзал к зубам. Но лошади у Федора в самом деле были лучшими в городе. Мартемьянов их любил, знал в них толк и регулярно обновлял свой табун, на зависть всем окрестным конокрадам. Жил он один, держа лишь любовницу-актрису, да и то лишь для того, чтобы не озадачивать коммерческих партнеров, и, услышав как-то осторожный совет старика Андроныча завести себе «почтенную супругу», искренне удивился: «Зачем?!» Заслуженный приказчик не нашелся что ответить, а от взгляда молодого хозяина с ним чуть не случился сердечный приступ, хотя у Федора и в мыслях не было пугать старика. Больше к вопросу о хозяйской женитьбе Андроныч не возвращался.
Ведя обычную жизнь торгового человека, Мартемьянов ходил и в трактиры, и в публичные дома, и к цыганам, прекрасно играл в вист и баккара, помня наперечет, какая карта вышла и какая осталась, захаживал даже в театр, искренне пытаясь найти во всем этом хоть какое-то удовольствие, но – тщетно. По-настоящему хорошо он чувствовал себя только в одиночестве или в обществе своих лошадей и годам к тридцати перестал раздумывать, почему так получается. Богу виднее.
Сейчас, поглядывая на веселые пейзажи, пробегающие за окном вагона, Мартемьянов вспоминал, как год назад со своими людьми возвращался через Юхнов с Макарьевской ярмарки. В маленькой деревеньке Грешневке они остановились, чтобы перековать лошадей. А вечером, в грязном деревенском кабаке, выпивая с местным помещиком Сергеем Грешневым, который оказался беднее своих бывших крестьян, Мартемьянов и увидел Софью.
Федор к тому времени уже много выпил, но хмель, чудилось, напрочь вылетел из головы, когда, хлопнув тяжелой дверью, в кабак вихрем ворвалась девчонка – вся мокрая от дождя, испуганная и злая, с растрепанными каштановыми кудрями, с полными слез глазами. О том, что это – сестра Сергея Грешнева, что она прибежала, чтобы увести брата из кабака, где он пропивал последние вещи из дома, Мартемьянов узнал позднее. А тогда просто сидел колодой и смотрел на зеленые погибельные глаза, на смуглое сердитое лицо, на тоненькую фигурку в потрепанном платье, на босые грязные ноги, которые девушка тщетно пыталась спрятать под подолом… Что-то Федор тогда, кажется, говорил ей, что – не вспомнить, хоть убей – пьян был… Почему в руках Софьи оказалась гитара, для чего девушка взялась петь, когда слезы уже бежали по ее щекам, кто попросил ее об этом?.. Она запела «Что ты жадно глядишь на дорогу», и при первых же звуках нежного голоса у Мартемьянова мороз прошел по спине. В упор глядя на зеленоглазую барышню-оборванку, он чувствовал, как делается холодно в груди, как останавливается сердце, не мог отвернуться от смуглого, тонкого, заплаканного лица и со страхом понимал, что ничего подобного с ним не случалось никогда, и откуда ему знать, что теперь с этим делать?..
И все же он был сильно пьян. Иначе, конечно, не пошел бы медведем прямо к Софье, опрокидывая по пути табуреты и скамьи, не сгреб бы ее в охапку, не стал бы, не слушая ее испуганных криков, уговаривать ехать с ним – немедленно, сей же час, сию минуту, куда она пожелает, хоть в Москву, хоть в Париж… Девушка вырвалась, бросив ему в лицо, что он хам и пьяный мужик, и убежала. Мартемьянов не обиделся ничуть, поскольку никогда на правду не обижался, но про себя уже решил, что красивая босоногая дворяночка будет с ним, во что бы это ему ни обошлось.
Поговорив полчаса с пьяным в стельку братом Софьи, который даже не сделал попытки помочь сестре и после ее бегства так и остался сидеть за столом перед полупустым штофом водки, Федор понял, что все устроится очень легко. Грешневы были невероятно бедны. Их родовое имение, когда-то богатая и блестящая усадьба, пришло после смерти родителей в полный упадок. Темной и мрачной была история генерала Николая Грешнева, отца Софьи, и его невенчанной жены, черкешенки, привезенной офицером с Крымской войны. Фатима безмолвной тенью прожила в родовом имении генерала двенадцать лет, родила ему сына и трех дочерей, а в один из дней Грешнева нашли зарезанным в спальне. Тело самой Фатимы через неделю выловили в реке. Что случилось между ними, так никто и не узнал. Четверо детей остались сиротами. Состояние семьи перешло дальнему родственнику, взявшему на себя опекунство над детьми. Старшая сестра отправилась в Смольный институт, а брат Сергей – в Пажеский корпус. Младшие девочки, Софья и Катерина, остались в имении на попечении гувернанток. Заниматься делами и финансами было некому, несколько доходных деревень отдали за долги, а когда вернулся с армейской службы Сергей, с его страстью к карточной игре и пьянству деньги исчезли совсем. За два года он умудрился разорить и себя, и сестер: у Грешневых остался только фамильный дом, да и тот был заложен. Старшая, Анна, к тому времени окончила институт и, к ужасу всего петербургского бомонда, оказалась на содержании у сына собственного опекуна, молодого графа Ахичевского, который увез ее в Москву. Репутация, честное имя и надежда когда-либо выйти замуж за человека своего круга были утрачены для старшей графини Грешневой навсегда. Двери всех порядочных домов Москвы и даже Юхнова закрылись и перед самой Анной, и перед ее сестрами, тогда совсем еще девочками. На деньги, получаемые от своего любовника, Анна содержала брата и сестер. Софья и Катерина бегали в рваных платьях, жили впроголодь, вместе с деревенскими девками копались в огороде, собирали грибы в лесу, шили на продажу белье, прятали по углам от Сергея уцелевшие гроши и понимали, что мечтам о замужестве предаваться бессмысленно.
Услышав все это, Мартемьянов понял, что дело его сладится, и немедленно предложил Грешневу пятнадцать тысяч рублей за сестру. Тот не стал ломаться даже для вида, напротив, обрадовался, уверив купца, что Софья будет только счастлива. Мартемьянов и сам так думал и страшно удивился и растерялся, когда на следующий день посланный им за Софьей человек объявил, что платье барышни найдено на берегу Угры, а сама она, судя по всему, кинулась в реку. В тот же вечер младшая сестра Грешнева, пятнадцатилетняя Катерина, заперла пьяного брата в доме и подожгла усадьбу. Дом сгорел дотла, Сергея не спасли, Катерину забрали в Юхнов, в тюрьму, а Мартемьянов уехал из Грешневки: делать ему там было больше нечего.
Мысль о том, что Софья жива, появилась у него довольно быстро, потому что своему человеку, нашедшему на берегу Угры платье Софьи, он не поверил ни на грош. Не поверил, хотя не раз убеждался в крепости слова Владимира Черменского.
Федор познакомился с ним несколько месяцев назад, весной, в Костроме, в тот день, когда в конюшне Мартемьянова приказные поймали конокрада. Ловили чертова сына всем обществом очень долго: тот был ловким, как угорь, вывертывался из рук, уклонялся от ударов, прыгал, словно заяц, по двору и, наверное, сбежал бы, не огрей его один из приказчиков оглоблей. После этого конокрада избили до полусмерти, связанного бросили в конюшне, и Мартемьянов еще не успел решить, что с ним делать, а в его «кабунете» уже стоял Владимир Черменский, объявивший, что пойманный вор – его слуга и он готов отдать за его свободу все, что угодно.
Мартемьянову сразу стало понятно, что стоящий перед ним человек – не из простых. Он отличался правильной речью, свободными манерами дворянина и офицерской выправкой, серые глаза смотрели на Федора, которого боялась вся Кострома, спокойно и без страха – несмотря на то, что и он сам, и его слуга-конокрад оказались полностью в мартемьяновской власти. Но одежда на Владимире была бедная, денег у него, как догадался Федор, не имелось. Когда Мартемьянов полушуткой спросил, где его разбойник насобачился так махать руками и ногами, Черменский ответил, что он учил своего слугу сам и что это называется китайской борьбой. Федор заинтересовался: близился долгий конный путь на Макарьевскую ярмарку, в дороге могли случиться любые опасности, и была необходима хорошая охрана. И они ударили по рукам: конокрада по имени Северьян отдадут Черменскому живым и свободным, а за это оба, и хозяин, и слуга, должны сопровождать Мартемьянова и его обоз на ярмарку и попутно обучить людей купца «шанхайскому мордобою».
Именно Черменский поехал по приказу Мартемьянова забирать Софью из дома брата: Федор посчитал, что человек с «господским воспитанием» лучше выполнит столь щекотливую миссию. Владимир нашел платье девушки на берегу реки. Он же первым предположил, что Софья утопилась. И Мартемьянов ему не поверил. Сам не зная почему. Может, потому, что, несмотря на тяжелый хмель в голове, успел заметить там, в деревенском кабаке, жадный взгляд Черменского, устремленный на Софью. К этому позже подмешалось чисто житейское соображение насчет того, что утопленники обычно прыгают в реку в чем есть, не утруждая себя раздеванием, тем более в осенний холод. К тому же, как Федор потом узнал, из Грешневки бесследно пропала Марфа – верная девка семьи Грешневых, служившая у них без всякого жалованья и очень любившая Софью. Мартемьянов сложил это все в уме и сообразил, что наверняка Черменский и Софья невесть когда успели сговориться и попросту объехали его на кривой кобыле. Впрочем, Владимиру своих мыслей Мартемьянов высказывать не стал и, когда тот месяц спустя, уже после ярмарки, попросил расчета, не удерживал его. Но уверенность в том, что Софья Грешнева жива, уже укрепилась в Федоре. Когда весной, через полгода, Мартемьянов оказался по делам в Ярославле и услышал там о молодой актрисе Грешневой, имевшей бешеный успех в роли Офелии, он даже не был сильно удивлен. Просто убедился, что все-таки, видать, судьба, и начал думать, как сноровистее заполучить Софью. А думать Федор Мартемьянов умел.
…Дверь вагона открылась, и в купе, шатаясь, вошла заспанная Марфа: высокая, рыжая, рябая девка с широкими, как у мужчины, плечами. Неприязненно посмотрев на обернувшегося к ней Мартемьянова, она объявила сиплым басом:
– Так что грех вам, ваше степенство! Какой, прости господи, дрянью нас с барышней напоили? Я насилу-насилу с лавки сползла, а Софья Николавна и посейчас вон почивает! И куда нас черти несут? Обещано было – в Москву, а сами куда нас погрузили?!
Мартемьянов усмехнулся, глядя на насупленное рябое лицо Марфы. Ему показалось, что она его не боится, а такие люди всегда внушали ему уважение.
– За границу едем, милая, – спокойно ответил он. – Уж прости, но ни к чему мне Москва: сбежит там от меня Софья Николавна в первый же день.
– Знамо дело, – подтвердила Марфа, ничуть не удивившись и не испугавшись известию о «загранице». – До сих пор, побей бог, не пойму, как это вы ее уговорили с вами ехать?
Мартемьянов не ответил. Он и сам до последней минуты не был уверен, что задуманная им в Ярославле комбинация увенчается успехом, но… Софья здесь, и она согласилась ехать с ним без принуждения, по доброй воле. Может, все-таки есть какой-то бог на небе?
Марфа с минуту настороженно изучала темное, грубое, словно вырезанное из полена лицо купца. Затем свирепо объявила:
– Софья Николавна у меня – невинная девица, хоть и актерка! Вы уж примите во вниманье эту осторожность!
– Напрасно даже беспокоишься, – в тон ей, стараясь не улыбаться, произнес Мартемьянов. – Я бы на них женился, дак ведь не пойдут же… Они – благородные, а мы – из мужиков.
Он сказал это совершенно искренне, и Марфа, похоже, ему поверила. Помолчав, ворчливо пробурчала:
– Оно, жениться, понятное дело, неплохо бы. Но – не пойдет, это верно.
– Может, поможешь?
– Я Софье Николавне не враг! – вновь ощетинилась Марфа. – Она с вами от одного только горя и сердечного расстройства согласилась ехать, про то и сами расчудесно знаете! И вот что я вам скажу: вы ноги ее не стоите, хоть и видно, что при состоянии хорошем! И тот поганец, который ей голову заморочил, а потом обманул, тем более!
– А говорила – девица барышня… – не утерпел Мартемьянов, хотя и чувствовал, что шутка рискованная. И верно, Марфа тут же вскочила.
– Вот что, ваше степенство, зубья поберегите! Грех вам сирот обижать! Я, конечно, женшшина слабая, и заступиться за нас с Софьей Николавной некому, но ежель вы чего себе ненужного дозволите – как есть задушу!
– А силов хватит? – рассмеялся Мартемьянов.
Марфа покраснела и рванула к плечу нанковый рукав, выставляя крепкую, почти мужскую руку:
– А давайте, проверьте, коли не боитесь!
Мартемьянов недоверчиво покрутил головой, но все же подвинулся ближе к столику, по другую сторону которого основательно уселась Марфа. Они поставили локти на стол, крепко соединили ладони – и очень быстро Федор понял, что бороться придется всерьез.
Через минуту проснулась Софья. И в ужасе уставилась на происходящее, уверенная, что это – продолжение ее сна. Федор Мартемьянов и Марфа сидели возле стола одинаково красные, вспотевшие, оскаленные, с напрягшимися на лбу жилами и увлеченно мерились силой.
– Марфа, что ты делаешь, боже мой? – пискнула Софья. Та обернулась – и Мартемьянов немедленно уложил ее руку на стол.
– Не по совести, Федор Пантелеевич! – переведя дух, возмутилась она. – Еще чуть-чуть – и моя взяла бы!
Мартемьянов не ответил ей. Он молча, в упор, без улыбки смотрел на Софью. Марфа перевела взгляд с него на свою барышню. Сдвинула брови, опустила задранный рукав и шагнула к двери.
– Марфа… – окликнула ее Софья.
Та тут же остановилась.
– Прикажете остаться?
– Ступай, – велел Мартемьянов.
Марфа, казалось, не слышала, продолжая смотреть на Софью. Та, помедлив, кивнула, но ее смуглое лицо стало изжелта-бледным, и Марфа угрюмо предупредила:
– Я недалече буду.
Когда дверь за ней закрылась, Софья вновь посмотрела на Мартемьянова, и тот, чувствуя, как поднимается к горлу знакомая горячая волна, подумал: как же она хороша, даже когда пугается. Глаза зеленущие, громадные, как у лесной мавки[1], про которых еще бабка сказывала… Перекреститься хочется, в них глядя.
– Куда вы меня везете? – спросила она, и Федор видел, как дрожат ее пальцы, которые Софья безуспешно пыталась сжать в кулаки. – Я ничего не понимаю. В Москву? Почему я так долго спала? Почему ничего не помню?
– Через два часа в Варшаве будем, – пояснил Мартемьянов. – А через три дня – у австрияков.
– Но почему?!. – испугалась она. – Вы обещали – в Москву…
– Дела мои переменились, – соврал зачем-то он, хотя и подумал тут же: глупо, Марфа ей расскажет… – Да и вам полезно будет на Европы-то взглянуть.
– Но я вовсе не хочу… Господи… – Софья рванулась было к двери – и тут же села обратно. Сгорбилась, закрыла лицо руками. Каштановые полураспущенные пряди волос тяжело упали вниз, и Федор понял, что сейчас, глядя на них, просто задохнется. С огромным трудом совладав с собой, он подошел, тронул Софью за плечо и почувствовал, как она вздрогнула и сжалась.
– Не бойся, Софья Николавна, – спокойно сказал он, и один бог знал, чего ему стоило это спокойствие. – Я не ирод какой печенежский. Силком не возьму.
Софья подняла голову, и зеленые мокрые глаза заблестели прямо ему в лицо. К восхищению Федора, она ответила еще спокойнее, чем он:
– Мне от вас милости не надо. Я с вами поехала, слово дала, – значит, и все права ваши. Бояться мне нечего. Хуже, чем есть, все равно уж не будет.
– Молодец, матушка, – с искренним уважением проговорил Мартемьянов. – Только вот хуже-то завсегда может быть… Но не от меня. На том присягнуть могу. Ты сейчас, ежели желаешь, дальше спи, а нет – погоди, поесть тебе принесут. Я, коли нужон буду, здесь рядом, за стеночкой. И не бойся ничего. Христос свидетель – пальцем не коснусь супротив твоей воли.
Софья недоверчиво взглянула на него. Мартемьянов встал, коротко поклонился ей и, не оглядываясь, вышел. Дверь едва успела закрыться – и в нее тут же вихрем влетела Марфа:
– Ну что, барышня, что?! Не забидел этот лешак?!
– Уймись, Марфа… – со вздохом произнесла Софья, взобравшись с ногами на диван и обхватив колени руками. – С чего ты взялась с ним на кулаках мериться? Ведь и так понятно, что сильнее он…
– Кому это понятно?! – оскорбилась Марфа. – Мне – так ничего понятно не было! Это вовсе даже и в первый раз такой конфуз со мной, что мужик переборол! Но, ежели надо, я вас все равно очень просто от него отобью… Ишь, нечистый, какой-то дрянью напоил, дак даже я, как гренадер, спала, а уж вы-то…
– Незачем отбивать, – равнодушно прервала ее Софья. – Назвался груздем – полезай в кузов. Я сама согласилась – так чего ж теперь брыкаться…
– Так, может, и не надо было соглашаться, Софья Николавна? – осторожно спросила Марфа, усаживаясь рядом. – Что вам в Ярославле не жилось? Ведь и деньги у нас с вами завелись! И какая большая актрыса стали! И Афелью, и эту вашу… Дыздымону играли! Какие к вам люди ездили-то!
– Такие же, как этот, и ездили. Помнишь, как граф Игорьев содержание предлагал? И тот… из купцов который тоже… «без счету на булавки»… – по лбу Софьи скользнула горькая морщинка, и Марфа тоже нахмурилась.
– Ну, так это ж и понятно… Актрыса, известное дело… Завсегда этак-то было, вам и Марья Аполлоновна сказывала, помните?
– Помню, – сухо ответила Софья. И больше не сказала ничего. Молчала, искоса поглядывая на нее, и Марфа.
За окном спустились голубые весенние сумерки, из-за дальних пологих холмов встала золотистая щербатая луна, все спешащая и спешащая за поездом. Марфа давно храпела в углу вагонного дивана, а выспавшаяся днем Софья сидела у окна и смотрела на то, как луна пробирается сквозь легкие кучки ночных облаков. Устало и спокойно думала о том, что, наверное, поступила правильно. Рано или поздно все равно этим бы кончилось, не сидеть же до седых волос и ждать, пока явится жених как из французского романа… да и кто бы согласился взять ее замуж – бесприданницу, актрису?.. Как она могла всерьез мечтать о Владимире Черменском? Как могла поверить?.. Софья грустно усмехнулась, закрыла глаза и в который раз представила себе лицо Черменского – спокойное, твердое, сероглазое. Они были знакомы всего одну ночь, и черты этого лица постепенно стали стираться из памяти – может, и к лучшему… Владимир спас ее, когда она, задыхаясь от ужаса и отчаяния, упала в ледяную воду Угры… Лучше бы не спасал. Не было бы сейчас ничего – и слава богу.
Но он спас ее. И сказал, что таким способом ничего нельзя решить. И убедил Софью, что нужно жить, что бы ни случилось, и придумал, как и где ей скрыться от Мартемьянова, и дал письмо к знакомому антрепренеру, заявив, что из нее получится прекрасная актриса. Она тогда не поверила ему, потому что ни разу за всю свою нищую жизнь не была в театре даже зрительницей, а уж актрисой… Но выбирать не приходилось, и Софья в сопровождении верной Марфы украдкой на рассвете покинула Грешневку. Владимир не мог сопровождать девушку, но пообещал, что отыщет ее, как только закончит службу у Мартемьянова. Ни слова о любви не было сказано между ними, ни одного нескромного взгляда не было брошено, не прозвучало никаких клятв и обещаний… Но почему-то всю осень и зиму Софья вспоминала этот спокойный уверенный голос и серые глаза на темном от загара лице. Вспоминала – и на сердце делалось легче.
Первое письмо от Черменского пришло ранней весной, когда Софья уже играла в ярославском театре. Владимир писал о том, что долго искал ее, найти не сумел и, на свой страх и риск, явился в Москву, прямо в дом к Анне – старшей сестре Софьи. Явился, чтобы просить Софьиной руки. Крайне изумленная Анна без согласия самой Софьи, разумеется, ничего не стала обещать, но адрес младшей сестры Владимиру все же дала. Письмо было сумбурным, взволнованным и – полным любви. Всю ночь Софья читала и перечитывала его – первое любовное письмо в своей жизни, и впервые за долгое-долгое время чувствовала себя совершенно счастливой. Черменский уверял, что вскоре приедет за ней, но… прошла неделя, другая, третья – а его не было. Не было больше и писем. Сначала Софья волновалась, потом – недоумевала, затем – злилась на себя… а под конец наступило тоскливое безразличие: и он такой же, как остальные… Может быть, этим разочарованием все бы и закончилось. Но вчера вечером (а кажется – давным-давно…), когда Софья в своей уборной гримировалась перед выходом на сцену, к ней ворвалась актриса Маша Мерцалова, ее подруга, и таинственным шепотом сообщила, что в гостинице «Эдельвейс» Софью ждет интересующее ее лицо. Софья чуть не умерла от счастья, поскольку была уверена, что наконец-то приехал Черменский, и сразу после спектакля помчалась в «Эдельвейс». Но вместо Владимира в полутемном гостиничном номере ее встретил тот, кого она боялась больше смертного часа, – Федор Мартемьянов.
Вспомнив вчерашний вечер в «Эдельвейсе», Софья невольно передернула плечами. И подумала, что нужно все же отдать должное Мартемьянову: он не воспользовался ситуацией, когда она, перепуганная до смерти, не имеющая сил даже для того, чтобы закричать, смотрела на него, как зайчик на серого волчища. Спокойно, уверенно и по-деловому он объяснился ей в любви. На робкое заявление Софьи о том, что она-то его ничуть не любит, ответил, что это дело времени, а в крайнем случае, можно будет обойтись и одним его чувством. Между прочим заметил, что Владимир Черменский недавно схоронил батюшку и весьма занят свалившимся на него огромным наследством, а посему вряд ли нуждается теперь в невесте-бесприданнице и к тому же еще актрисе. Софью возмутило это заявление до глубины души, но возразить ей было нечего. Собрав все мужество, она поднялась, чтобы уйти, – Мартемьянов не стал мешать, сказав только, что ждет ее решения. Софья сломя голову помчалась домой, чтобы потребовать объяснений от Маши Мерцаловой, с которой они снимали один дом на двоих, и получила их сполна.
Марья Мерцалова была лет на семь-восемь старше подруги – прекрасная трагическая героиня, брюнетка цыганского типа с великолепными черными глазами. В середине сезона ей пришлось оставить сцену из-за беременности, которую уже не скрывали тугие корсеты. Марья помогала Софье готовить роли, давала кучу житейских советов о том, как вести себя с коллегами, поклонниками и антрепренером, деликатно намекала, что без сильного и богатого покровителя жизнь актрисы становится сплошным мучением, и искренне смеялась, глядя на негодующее лицо подруги: «Боже мой, молодая ты какая еще!»
Но в тот вечер, когда Софья вернулась из «Эдельвейса», Марья не смеялась. Спокойно, без капли смущения глядя на взволнованную подругу своими огромными цыганскими глазами, она созналась, что полгода назад, в Костроме, была любовницей Черменского, более того – они жили как муж и жена, и беременна Мерцалова именно от него. Софья не поверила. Марья невозмутимо предложила ей посчитать срок. Так же непринужденно созналась, что украдкой прочла письмо Черменского к Софье и все эти дни, как и подруга, ждала новых писем, которых не было. «Только месяц назад еще одно пришло. Я почтальона перехватила, у меня оно. Уж прости, что тебе не отдала, – боялась, повесишься еще по молодости…»
Вспомнив это, Софья медленно, горько вздохнула. С минуту прислушивалась к себе и, только поняв, что слез нет и не будет, достала серый лист плохой гостиничной бумаги с несколькими строчками, написанными знакомым, еще недавно таким дорогим почерком:
«Прости меня. В случившемся виноват лишь я один. Не буду писать об обстоятельствах, вынуждающих меня не видеться с тобой, но поверь, они имеются. Лучше нам не встречаться более, наши отношения не могут иметь никакой будущности. Ты прекрасная женщина и актриса, я уверен, ты будешь счастлива с более достойным человеком. Прости. Прощай. Владимир Черменский».
Да, сейчас она не плачет. А вчера, прочитав эти строки, Софья едва смогла дойти до своей комнаты и упасть лицом в подушку. Но уже через час встала с сухими глазами и набросала короткую записку к Мартемьянову, в которой соглашалась на все его условия. Возможно, это было слишком поспешное решение. Но Софья твердо знала, что должна поступить именно так – хотя бы для того, чтобы опять не броситься в реку, из которой теперь уже некому ее вытаскивать. В театре ей больше нечего делать, хорошей актрисой она себя никогда не считала и никакого удовольствия, выходя на сцену, не испытывала, играя роль так же, как выполняла любую другую работу. Никто, кроме разве что Марфы, не знает, что успешно дебютировать в роли Офелии она, Софья Грешнева, смогла лишь потому, что накануне получила письмо Черменского и всю ночь промечтала о счастье. Не приди это письмо – провалилась бы роль. А значит, вовсе Софья не актриса, что бы там ни писали газеты о ее таланте и великолепном голосе… Видеть Марью было теперь невыносимо, при мысли о поклонниках, которые осаждали Софью днем и ночью, к горлу поднималась волна тошноты. Нужно, непременно нужно уезжать отсюда.
Марфа, которая, как предполагала Софья, должна бы сопротивляться до последнего, посмотрев на бледное и решительное лицо своей барышни, только махнула рукой и пошла увязывать узел. Через час у дома остановился экипаж Мартемьянова, еще через час они сели в поезд, Мартемьянов предложил вина, Софья, которой было уже все безразлично, согласилась, выпила странно пахнущей терпкой жидкости и… намертво заснула.
Луна нырнула в черное облако и пропала. В купе стало темно, и стук колес, казалось, зазвучал отчетливей. Откинувшись на жесткую спинку дивана, Софья закрыла глаза. С горькой усмешкой подумала, что, видать, от судьбы все-таки не убежишь. А судьба, выходит, – этот самый «человек торговый» Федор Мартемьянов, при взгляде на которого у нее мурашки скачут по спине… но ничего уж тут не поделаешь. Все равно она с ним оказалась – не тогда, осенью, так сейчас… значит, так тому и быть. И пусть везет куда хочет. Теперь уже ничего не изменить. Вот только сестре, Анне, надо непременно написать. Она и напишет, как только окажется… хоть где-нибудь. Подумав о том, что с Мартемьянова станется увезти ее вовсе не за границу, а, к примеру, к себе в Кострому и запереть там в своем доме, как наложницу, Софья усмехнулась – теперь ее уже ничем не удивишь, не испугаешь – и почти тут же заснула под размеренный стук колес.
Такого отвратительного мая, как этот, пришедший в Москву в 1879 году, столица не видела давно. До сих пор на бульварных кленах и липах не распустилось ни одной почки, и раздетые деревья жалобно гудели на пронзительном ветру черными сучьями, которые беспрестанно поливал ледяной колючий дождь. Из-за обложивших небо туч темнело рано, небо наваливалось на город свинцовым брюхом, ветер свистел в подворотнях Грачевки, задирая подолы проституток и унося шляпы и картузы поздних прохожих, извозчики ежились, осипшими голосами орали на лошадей и требовали с пассажиров вдвое дороже «за непогодь».
В доме графини Анны Грешневой в Столешниковом переулке горели все окна: был в разгаре «приемный вторник» хозяйки. В гостиной сверкал паркет, отражая пламя бесчисленных свечей; сильно, немного больше, чем позволяли приличия, пахло духами, красные бархатные портьеры и такая же обивка кресел и диванов, казалось, источают тепло не хуже облицованной изразцами печи. Только что закончились танцы, несколько мужчин в офицерской форме покинули гостиную ради виста в соседней комнате, но большинство предпочло остаться и продолжить легкий, ни к чему не обязывающий флирт с дамами. Последних было, не считая хозяйки, шесть – очень молодые, очень веселые, очень нарядные, чрезмерно громко смеющиеся, с легкими вольностями в туалете вроде заниженного декольте или высоко поднятого рукава. Девушки непринужденно вели разговор с мужчинами, смеялись, просили принести пирожных или чаю, фланировали по гостиной, присаживались на диваны, на ручки кресел. Обстановка была дружеской, домашней и неуловимо фривольной, хотя назвать ее вульгарной не повернулся бы язык даже у самого яростного ревнителя приличий. Что и говорить, графиня Грешнева умела устраивать свои вечера. И, хотя ни один из ее гостей не рискнул бы рассказать в кругу семьи, что бывает на вторниках графини, слава о них не так давно загремела на всю Москву. Очень немногие принимались в этом доме. Среди гвардейской золотой молодежи теперь считалось высшим шиком небрежно обронить в разговоре с друзьями: «Вчера у Грешневой пили аи… Tres bien! Лучше вина были только дамы!» – и завистливые взгляды вместе с жадными вопросами возносили счастливчика на небеса. «Дамы» госпожи Грешневой действительно оказывались редкостными, хотя ни одну из них, включая хозяйку дома, не приняли бы в приличных домах Москвы. Впрочем, подобные вещи перестали беспокоить Анну давным-давно.
– Господа, господа, давайте играть в фанты! – зазвенел из-за фортепьяно голосок самой юной барышни, маленькой, розовой блондинки Колетты. – Кто не угадает – несет меня на руках за пирожными!
Дружный взрыв смеха приветствовал эту затею, даже картежники, выглянув из соседней комнаты, так и не вернулись к ломберному столу. Возле фортепьяно тут же собралась толпа молодых мужчин, Колетта запела шансонетку, безбожно коверкая слова, и было очевидно, что французского языка она не знает и этот прискорбный факт мало ее беспокоит. Хозяйка, наблюдавшая за происходящим от окна, чуть заметно нахмурилась и жестом подозвала одну из девушек:
– Одель, скажите Колетте, чтобы прекратила этот фарс. Подобное годится только для cabaret… И еще передайте, чтобы не смела больше пить. Пусть оставит в покое инструмент и потихоньку уйдет к себе.
– Да, мадам. Что, если корнет Кураев захочет уйти с ней? Изволите видеть, он…
– Она сама знает, что ей делать.
– Да, мадам. – Одель поспешно подошла к роялю. Через минуту слегка смущенная Колетта уже пробиралась к выходу из гостиной, а за ней решительно двигался молодой человек в форме Преображенского полка. Уже на пороге Колетта остановилась, неожиданно строго улыбнулась юноше и тихо, но четко произнесла:
– Нет, нет и нет! Извольте меня оставить!
– Но, Колетта!..
– Ах, да ради бога! У меня голова кружится… Это все вы с вашим шампанским! Завтра, завтра! – картинно поднеся руку к голове, она скрылась в темноте передней.
Обескураженный корнет вернулся в гостиную и был тут же встречен незаметным для других жестом хозяйки, поманившей Кураева в диванный уголок. Они говорили недолго, но юноша встал повеселевшим, лихо чмокнул запястье графини и поспешил к роялю, за которым уже царствовала Одель с модным в этом сезоне романсом «Ветка сирени». Романс требовал второго голоса, гости шумно и весело принялись звать графиню, обладающую неплохим меццо-сопрано, но Анна, сославшись на простуду, отказалась и снова вернулась к окну.
Это была молодая женщина со строгим лицом, к которому очень шла улыбка, но улыбалась графиня редко и потому выглядела старше своих двадцати трех лет. По Москве о ней ходили легенды, Грешневу сравнивали и с мадам Помпадур, и с Нинон де Ланкло, и даже с Таис Афинянкой, но очень немногие знали ее близко. Наверняка было известно лишь одно: Анна – действительно графиня и принадлежит к старинному, но впавшему в крайнюю бедность дворянскому роду, который уже давно преследуют несчастья.
Полгода назад, осенью, в Угру кинулась средняя из сестер Грешневых, Софья, проигранная пьяным братом в карты заезжему купцу, а младшая, Катерина, узнав о ее гибели, заперла хмельного брата в доме и подожгла его. Вспоминая сейчас об этом, Анна подумала, что Катя всегда вела себя как дикарка. В отличие от нее, Анны, которая успела закончить Смольный, и Софьи, получившей хорошее, хоть и несколько беспорядочное домашнее воспитание, младшая Грешнева была все детство предоставлена самой себе. Софья кое-как смогла выучить ее читать, считать и говорить по-французски, а Марфа научила весьма неплохо шить и вышивать, но и только. С утра до ночи Катерина, босая с марта по ноябрь, носилась по окрестностям Грешневки, пропадала в лесу, вместе с деревенскими купалась в Угре, собирала ягоды и грибы, дралась с парнями, которые боялись ее недобрых зеленых глаз, становившихся в схватке совершенно бешеными, и мечтала об одном: отправить на тот свет пропойцу брата, из-за которого пошла прахом вся жизнь сестер Грешневых. Что ей, наконец, и удалось.
Старшая сестра примчалась в Грешневку, когда уже ничего нельзя было исправить. Дом сгорел, то, что осталось от Сергея, похоронили, а Катерину забрали в участок. Анна кинулась к своему покровителю, Ахичевскому, тот использовал все имеющиеся связи, чтобы избавить Катерину от тюрьмы, и юную преступницу поместили в Мартыновский приют для девиц простого звания. Через несколько месяцев она сбежала оттуда, прихватив значительную сумму денег из кабинета начальницы, и с тех пор о младшей Грешневой ничего не было слышно. «Подумайте, какое кошмарное семейство, какие дикие страсти! – ужасались дамы в московских салонах. – Вот оно – черкесское наследие! Вот она – янычарская кровь! Что же вы хотите – испорченность у этих грешневских девиц в крови!» Мужчины вежливо соглашались и втихомолку мечтали о том, как вечером в театральной ложе или кабинете ресторана будут целовать руку старшей графини Грешневой, которая, несмотря на «испорченность» и «дурное наследие», единодушным мужским мнением признавалась первой красавицей Москвы. Петр Ахичевский любил вывозить свою камелию на люди, ничуть не скрывал и даже гордился связью с такой великолепной женщиной. Анна с успехом принимала друзей любовника в своем доме в Столешниковом переулке, где всегда было шумно, весело и многолюдно. Но месяц назад, в самом начале весны, случилось неизбежное: Ахичевский решил жениться. Его невеста, невзрачная девица из известнейшей аристократической семьи, лично приехала к Грешневой в дом и без обиняков предложила содержанке будущего мужа десять тысяч рублей – с тем, чтобы та никогда более с ним не виделась. Поразмыслив, Анна согласилась. Дом в Столешниковом переулке любовник великодушно оставил ей вместе со всей обстановкой, драгоценностями, выездом и солидной суммой денег. Сам он там больше не появлялся – но, несмотря на это, салон Анны процветал. Никто не знал, откуда в нем появлялись знаменитые «кузины графини Грешневой» – как их называли в узких кругах. Это были шесть-семь девушек, довольно образованных, умеющих танцевать, петь, играть на фортепьяно, поддерживать веселую беседу и даже разговоры о поэзии. И тем не менее они отличались от барышень света, любая шалость с которыми неизбежно вела к женитьбе. В салоне Анны Грешневой о подобных мужских ужасах и речи быть не могло. Гости прекрасно проводили время с веселыми, красивыми, умными «кузинами», но дать добро на продолжение связи имела право лишь сама графиня – и это стоило значительных денег. За два месяца существования салона уже три девушки покинули его ради предложенного содержания. Но на их место тут же пришли другие, такие же красивые и беззаботные. Хозяйка присутствовала на каждом вечере, танцевала, пила вино, беседовала с гостями или садилась с ними за карточный стол, но никого не выделяла. Они могли бы держать пари, что покровителя Анна Грешнева не имеет и, несмотря на свою молодость, ведет все дела и расчеты сама. Неоднократно делались попытки занять вакантное место возле графини, но каждый раз безуспешно. Наиболее романтичные из поклонников Грешневой уверяли, что мадам по-прежнему страдает из-за покинувшего ее ради богатой жены любовника. Циники и скептики возражали, считая, что при своем уме графиня вовсе не нуждается в советчике мужского пола, да и легкомысленный Ахичевский не потянул бы такой роли. Сама Анна, слыша это, не говорила ни «да» ни «нет» и прекращала сплетни одной лишь холодной улыбкой.
Время перевалило за полночь, но в гостиной были в разгаре танцы. За роялем теперь сидела Анита – черноглазая худая барышня, одетая в испанский наряд. Несколько пар вертелось на паркете в венском вальсе. В прихожей Одель повязывала шаль, готовясь уехать с немолодым полковником Времеевым, который тихо договаривался о чем-то с Анной. В зеленой комнате возобновился вист. Анна, проводив князя с Оделью, вернулась в гостиную и подошла к одному из гостей – седому человеку лет пятидесяти в мундире статского советника, с угольно-черными густыми бровями, из-под которых следили за происходящим вокруг узкие, карие, внимательные глаза. Над левой бровью неровной полосой тянулся шрам. Когда Анна приблизилась, гость не изобразил намерения подняться и прямо из кресла поцеловал узкую, унизанную кольцами руку хозяйки.
– Весело у вас, Анна Николаевна, – низким, тяжелым голосом сказал он.
– Вот непохоже, что вы веселитесь. – Анна присела рядом. – За весь вечер и не поднялись ни разу. Ну, что танцевать вы, Максим Модестович, не станете, я знала. Но что же вы в вист партию отказались сделать? И Колетта вас спеть просила – не осчастливили…
– Помилуйте, Анна Николаевна, я ведь не бас Бардини… – усмехнулся Максим Модестович.
– А вино? Вам не нравится мое бордо? Вы с одним бокалом весь вечер сидите…
– И достаточно, уверяю вас. Чрезмерное питие в моем возрасте и при моей должности смерти подобно. Вон и Владимир Дмитрич Черменский ничего не употребляет. Мы с ним ведем занимательную беседу о нашей доблестной армии, и, не поверите, этот юноша уверяет, что российские солдаты абсолютно ни на что не годны!
– Вы неверно меня поняли, Максим Модестович, – спокойно возразил молодой человек лет двадцати шести в форме капитана пехотных войск. – Я имел в виду не солдат, а офицерский состав. Я имел честь два года служить в Николаевском полку и, поверьте, знаю, о чем говорю. Пьянство, разврат и рукоприкладство на плацу – вот что составляет жизнь российского офицера в глубинке. И при этом – полная беззащитность и бесправие солдат. Если правительство не предпримет необходимых шагов…
– Помилуйте, друг мой, но ведь это всегда было… – пожал плечами Максим Модестович. – И при Павле, и при Николае Павловиче, и при обоих Александрах, и сейчас… И пьянство, как вы изволите утверждать, и разврат, и… м-м… рукоприкладство. Но тем не менее – победы над Наполеоном! И первая Крымская война, в которой с таким блеском участвовал ваш батюшка, генерал Черменский, с которым я имел честь быть знакомым! И вторая Крымская…
– При последней Крымской кампании я сам был в действующей армии. – В светлых серых глазах Черменского появилась откровенная ирония. – Уверяю вас, за происходящее в войсках было просто стыдно! Ничего позорнее Сан-Стефанского мира даже припомнить не в состоянии. А между тем мы могли бы добиться победы с куда меньшими потерями. Чего стоит хотя бы Плевна, которую Скобелеву не дали взять! У нас, к сожалению, не берегут солдат… Привыкли кидать шапки да орать: «За веру, царя и отечество!» А между тем…
– Владимир, ради бога… – чуть слышно сказала Анна, касаясь рукава молодого человека.
Черменский нахмурился, замолчал. Максим Модестович тихо рассмеялся:
– Аннет, Анна Николаевна… Ну, что вы… Вам ли не знать, что все, говорящееся в этих стенах, в них же и останется. Это лишь светская болтовня!
Анна вежливо улыбнулась, хотя взгляд ее, встретившийся с серыми глазами Владимира, выражал тревогу и озабоченность. Тот улыбнулся в ответ, посмотрел пристально.
– Скоро, скоро… – чуть слышно шепнула Анна и, извинившись, отошла к роялю. Черменский украдкой вздохнул, и Максим Модестович, внимательно наблюдавший за молодым человеком, заметил тень нетерпения, пробежавшую по его смуглому обветренному лицу, и брошенный им взгляд на часы. Но тем не менее Владимир спокойно продолжил отвечать на вопросы своего визави о второй Крымской войне.
Гости распрощались поздно. Анна сама вышла проводить довольно пьяного корнета Кураева, передала его с рук на руки ожидающему кучеру, вернулась в гостиную, с легким недоумением взглянула на пустое кресло Максима Модестовича – тот исчез не простившись – и облегченно опустилась в него.
– Слава господу… Хоть на сегодня все. Анита, что с тобой?
– Спит, – ответил вместо той Владимир Черменский, стоящий возле рояля и глядящий на спящую сидя девушку. Черная голова Аниты лежала на полированной крышке инструмента. Дыхание было тяжелым, хриплым.
– Странно она дышит… У нее не чахотка, случаем?
– Похоже, что да.
– Зачем же она… – Владимир нахмурился. – Она же весь вечер танцевала, пела… Ведь это, должно быть, вредно?
– Разумеется. Поэтому и пела. Ей надо спешить. Если она с умом возьмется за этого дурака Брагинского, тот быстро потеряет голову и повезет ее туда, куда нужно. В Крым, на воды, а еще лучше – на южное побережье Франции. Мы с Анитой очень торопимся. Обратили внимание на платье? Я заказывала ей сама, на свои деньги… Отнесите ее в мою спальню, Володя. И поскорее возвращайтесь.
Черменский молча поднял на руки спящую девушку и вышел с ней из комнаты. Вскоре он вернулся. Анна стояла у окна в пустой гостиной. Единственная лампа на столе освещала молодую женщину сбоку. Оконное стекло было залито дождем, и Анна задумчиво водила пальцем по извилистым следам капель.
– Не проснулась? – не оглядываясь, спросила она.
– Нет… Я старался быть осторожным.
– Вы осуждаете меня, Володя?
– Я – вас? – Владимир тоже подошел к окну. – Вы знаете, что нет. Даже если бы имел на это право… Я мало знаю о вашей жизни, но то, что мне известно… Немногие бы это выдержали, Анна Николаевна. Даже мужчины. Ваш покойный брат – не смог. А вы не только удержались сами, но и пытались вытащить сестер.
– И не смогла…
Черменский резко повернулся к ней. Анна встретила его прямым горьким взглядом.
– Итак?.. – преувеличенно спокойным голосом начал Владимир. – Вы пригласили меня сегодня, чтобы сообщить появившиеся новости о Софье Николаевне? Я верно понял?
– Да, все так. Вчера пришло письмо.
– Она?..
– Соня за границей, – вздохнув, прошептала Анна. – В Австрии, в Вене. Володя, она с Мартемьяновым.
Черменский ничего не сказал и даже не изменился в лице. Но в косо падающем свете лампы Анна увидела, как дернулся желвак на его скуле. Через мгновение Владимир медленно опустился в кресло, и его лицо полностью пропало в темноте. Несколько минут в комнате стояла полная тишина, нарушаемая лишь треском фитиля лампы и стуком дождя в окно.
– Анна Николаевна, я понимаю, что переступаю все границы воспитания, – наконец хрипло произнес Черменский. – Но… не могу ли я увидеть это письмо?
– Можете. – Анна положила на стол смятый лист бумаги. – Но, боюсь, это ничего не объяснит вам.
Владимир быстрым движением поднес листок к лампе и сразу же понял, что Анна имела в виду. Письмо состояло всего из нескольких строк: «Аня, я жива, здорова, нахожусь в Вене с Федором Мартемьяновым, о коем тебе рассказывала. Прости и не волнуйся, при первой же возможности напишу снова. Остаюсь твоя сестра Софья Грешнева. P.S. Нет ли новостей о Кате?»
Пробежав глазами эти строки, Черменский опустил письмо на стол и сквозь зубы проговорил:
– Не понимаю, – как ему это удалось?
– Я тоже, – со вздохом отозвалась Анна. – Видит бог, не знаю. Володя, вы же хорошо знакомы с этим Мартемьяновым, вы же, кажется, служили у него? Мы с вами никогда прежде не говорили об этом, я боялась быть назойливой, но… Если мои вопросы кажутся вам бестактными, вы, разумеется, вправе не отвечать. Вы находились в услужении у этого купца?
– Не совсем так, Анна Николаевна, – отрывисто ответил Черменский. – Честное слово, если бы не Северьян, я бы ему даже руки не подал.
– При чем тут ваш Северьян? – удивилась Анна. – Кстати, сделайте ему внушение, он не дает проходу моей Фекле на кухне, она все время жалуется… Северьян ведь ваш слуга… И по-моему, страшный разбойник!
– Совершенно верно. И конокрад в придачу, – невесело рассмеялся Владимир. – Только он мне, видите ли, не слуга, а друг. Я его отбил от мужиков в нашем имении, он пытался увести лошадей, а ребята его поймали, и… В общем, я подоспел в последний момент. Так и познакомились. Я тогда учился в юнкерском, он – просто бродяжничал… Но, когда я покинул имение отца, Северьян ушел со мной. И, честное слово, без него мне пришлось бы худо.
– Вы никогда не рассказывали об этом, – медленно произнесла Анна. – Зачем вам понадобилось уходить? Без денег, даже, кажется, без паспорта, не объяснившись с отцом? Уходить в никуда? Для этого должна быть очень весомая причина.
– Она имелась, поверьте, – помедлив, проговорил Черменский. – Когда-нибудь я непременно вам расскажу. В общем, мы с Северьяном отправились бродяжить. Мне было двадцать два, я чувствовал себя счастливым оттого, что больше не вернусь в армию, полковую службу я терпеть не мог, в академию поступил только из уважения к отцу… Мы занимались чем придется, ездили по России, работали грузчиками, матросами, потом я совершенно случайно попал в театр в Костроме, зацепился там на целый сезон… Не поверите, играл даже Рауля в «Разбойниках»! И, как меня убеждали, имел успех!
– Зачем же сцену оставили? – невольно усмехнулась Анна.
– По причине полной своей бездарности, – в тон ответил Владимир. – А если серьезно… Там, в Костроме, я и познакомился с Мартемьяновым. Его знает весь город, и, надо сказать, это довольно дурная слава. Огромное богатство, пароходы, племенные лошади, лавки, магазины… И при этом – замашки грабителя с большой дороги! Дикий, едва грамотный, и не дай бог, если что не по нему… Ходили слухи, что он отца и братьев на тот свет отправил из-за наследства… но не буду врать, не знаю, насколько это истинно. И вот Северьян, болван, решил увести у Мартемьянова какого-то призового ахалтекинца, он с ума по ним сходит.
Анна ахнула, поднеся руку ко рту.
– Но как же он решился?!
– Говорю же вам – болван… Он привык так жить – или пан, или пропал, и до сих пор все такой же… Разумеется, попался, его изметелили до полусмерти, к счастью, не убили… Я опять успел вовремя. И – согласился на предложение Мартемьянова. Он оставляет жизнь моему жулику, а я взамен учу его приказчиков китайской борьбе.
– Чему?..
– Китайской борьбе, – вежливо повторил Черменский. – Или, если вам угодно, в терминологии Северьяна – «шанхайскому мордобою». Он ведь оттуда, мой Северьян, из Шанхая, отец – китаец, мать – румынка, кажется, он сам не знает точно, поскольку почти ее не помнит…
– Кто бы мог подумать! Я уверена была, что он – цыган… Еще удивлялась, как вы его приручили…
– Северьян сам китайской борьбой владеет в совершенстве, в свое время научил и меня, и именно это нас спасло. Мы с ним перекрестились и пошли в услужение к Мартемьянову.
– Боже мой… – пробормотала Анна. – Русский дворянин, офицер российской армии – и в прислугах у мужика…
– Ну-у-у, Анна Николаевна… Я в тот момент о таких высоких материях вовсе не думал. Просто радовался, что сумел выручить Северьяна… да и возиться с мартемьяновскими молодцами было не так уж трудно. Северьян их кидал, как кули с мукой, через спину, да и я не отставал. Вместе с Мартемьяновым мы отправились на Макарьевскую ярмарку, на обратном пути остановились в Грешневке… и там я имел честь познакомиться с Софьей Николаевной.
Черменский отвернулся к черному окну. Перед глазами явственно, словно это было вчера, а не полгода назад, встало лицо купца Федора Мартемьянова – грубое, темное, с черными упорными глазами. И тот осенний день, когда у них захромала правая пристяжная и им пришлось задержаться в глухой деревне Грешневке на высоком берегу Угры, тоже помнился отчетливо. И стоял перед глазами душный, освещенный тусклым желтым светом кабак, где Мартемьянов начал карточную игру с местным помещиком, который был сильно пьян и играл из рук вон плохо. И никогда не исчезнет из памяти тот миг, когда распахнулась дверь и в кабак ворвалась мокрая от дождя, с полураспустившимися волосами, в заплатанном платье, с босыми ногами… – она, Софья. Десять лет пройдет, двадцать, пятьдесят, вся жизнь… не забыть. Не забыть этих вьющихся мокрых волос с запутавшимися в них желтыми листьями, этих зеленых глаз, этого смуглого нежного испуганного лица. Софья пришла, чтобы увести из кабака непутевого брата. Откуда девушке было знать, что все на свете перевидавший, не боящийся ни бога ни черта Федор Мартемьянов потеряет голову, едва ее увидев?
– Бедная моя… – словно угадав мысли Владимира, медленно произнесла Анна. – Она ведь в самом деле тогда кинулась в Угру…
– Мне ли не знать, когда мы с Северьяном ее вытаскивали, – сквозь зубы сказал Владимир. – До сих пор благодарю бога, что поспели. Но, к сожалению, все, что я сумел сделать, – это дать ей денег, письмо к моему бывшему антрепренеру и отправить в Калугу. Сопровождать Софью Николаевну я не мог… Не мог.
– Я понимаю, Володя, понимаю! – торопливо вставила Анна, слыша в голосе Черменского не прошедшее раскаяние. – Вы были тогда еще связаны своим словом…
– Да. И Мартемьянов к тому же мог что-то заподозрить. Он ведь, кстати, так и не поверил в то, что Софья Николаевна утопилась, хотя мы с Северьяном сделали все, чтобы его убедить. И продолжал ее искать. Так же, как и я.
– И не нашли.
– Неисповедимы пути актерские… – усмехнулся Владимир. – Театр из Калуги уехал, Софья Николаевна кинулась его искать, ездила по городам… А я искал ее. Не нашел, отчаялся и, набравшись наглости, явился в Москву, к вам. Надеялся, что вы меня вспомните, хотя обстоятельства, при которых мы познакомились…
– О да… – Анна даже вздрогнула. – До сих пор не могу спокойно вспоминать об этом. Я приезжаю в Грешневку – а дом пылает, Сергея нет, двое мужиков держат Катю и рассказывают мне, что Соня утопилась, а Катя спалила дом вместе с братом! К счастью, там были вы… и хоть как-то сумели мне все объяснить. Как же я могла не вспомнить нашего знакомства? Хотя, конечно, и была изрядно удивлена, когда вы прямо с порога попросили Сониной руки.
– Я боялся, что вы без этого и говорить со мной не станете. Мне ведь был нужен адрес Софьи Николаевны, я думал, что она пишет к вам…
– И не ошиблись! Но скажите, скажите – почему вы сразу же, немедля не поехали туда, к ней, в Ярославль?! Ведь все могло бы быть по-другому!
– Анна Николаевна, – вздохнув, ответил Владимир. – Я был готов выехать в тот же день, но случайно встретил на вокзале человека из имения отца. И узнал, что батюшка скончался. Что я мог поделать? Мне пришлось срочно ехать в имение наводить хоть какой-то порядок! Ведь других наследников нет…
– Но отчего же вы не писали к ней?! За полтора месяца – ни одного письма!
– Анна Николаевна, ну чем еще я могу вам поклясться? – устало спросил Владимир. – Разве что спасением души, которым нисколько не дорожу. Я писал к Софье Николаевне каждую неделю, и даже, кажется, чаще, послал пять или шесть писем… И еще имел нахальство ожидать на них ответов… которых так и не было.
– Но она получила лишь одно письмо! То, которое вы написали здесь, в моем доме, и я сама отправила его! Более не было ничего, и она, рассказывая мне об этом, чуть не плакала!
– Не знаю, Анна Николаевна. Ничего не понимаю, – медленно произнес Владимир. – Когда я приехал в Ярославль, Софьи Николаевны там уже не нашел. Не было и театра, труппа отправилась на гастроли. Случайно осталась некая актриса, моя знакомая, она жила в одном доме с вашей сестрой и все мне рассказала… Про ее дебют в роли Офелии, про бешеный успех, про сказочные рецензии в газетах… И… про Мартемьянова. Про то, как он увез ее.
– Стало быть, вы знали об этом? – изумленно спросила Анна. – Отчего же не сказали мне?
– Знал… – Черменский снова невесело улыбнулся. – Но, как дурак, надеялся, что сведения эти ложны. Маша Мерцалова, та актриса, могла что-то перепутать, не так понять, просто позавидовать… Я не в силах был в это поверить, Анна Николаевна! Если бы хоть кто другой, не Мартемьянов… Я ведь догадываюсь, какие предложения делались Софье Николаевне после такого успеха на сцене! Но Мартемьянов… Она же кинулась в реку, лишь бы не ехать с ним! Что же произошло, как она могла согласиться на это?
– Володя, бог свидетель, я знаю не больше вашего…
– Я был уверен, что они уехали в Москву! Сразу же помчался сюда, полетел к вам – и выясняется, что вы также ничего не знаете! И за всю весну – ни одного письма! Ни мне, ни даже вам!
– Володя, но он мог увезти ее силой, – осторожно проговорила Анна. – Вы же сами мне рассказывали, что этот человек не останавливается ни перед чем. Он мог просто поймать ее и…
– И перевезти контрабандой через границу, – с иронической усмешкой продолжил Черменский. – Прямо как в авантюрном романе. Боюсь, что такой кунштюк даже Мартемьянову не под силу.
Анна растерянно молчала, не зная, что возразить. Лампа, поморгав, погасла, в комнате стало темно, и Анна поднялась, чтобы зажечь свечи. Когда она вернулась к креслам, Владимир встал.
– Что ж, не буду более злоупотреблять вашим временем, Анна Николаевна. Скоро утро… вы устали. Честь имею.
– Володя, – мягко сказала Анна, становясь напротив и беря Черменского за обе руки. – Я хорошо понимаю ваше состояние. Но, поверьте, я хорошо знаю людей… и особенно Соню. Она… она не такая, как я.
– Анна Николаевна, мое уважение к вам…
– Оставьте, Владимир Дмитрич, этот светский тон! Он неуместен! – неожиданно повысила голос Анна, и Черменский растерянно умолк на полуслове. – Я прекрасно знаю цену себе! Да, я вынуждена была вести такую жизнь! Смерть родителей, нищета, сестры-девочки, опекун-мерзавец, Петька… тоже мерзавец… Но это все слова! А на деле – вот я, Анна Грешнева, бывшая содержанка, камелия, которую ни в одной приличной гостиной не принимают! Я ни о чем не жалею, я делала лишь то, что могла, и, наверное, ничего другого не оставалось… Даже отравиться в свое время не решилась, хотя хотелось безмерно… Но кто бы тогда о сестрах подумал?.. Однако, уверяю вас, не такова Соня. Ей впрямь лучше в реку головой, чем… И это не поза, не героизм – характер. И потому я прошу вас – не судите мою сестру и не делайте поспешных выводов. Если это возможно – подождите. Если нет – я вам не судья. Вы молоды, богаты, у вас еще все впереди: и счастье, и любовь.
– Сколько вам лет, Анна Николаевна? – вдруг спросил Черменский.
– Двадцать три… Вы удивлены? Да, я моложе вас.
– Признаться, удивлен. Я был уверен, что… Впрочем, дамам такие вещи не говорят.
– Володя, какая я дама? – отмахнулась Анна с невольной улыбкой. И тут же вновь стала серьезной. – Итак, ваше решение?
– Оно принято давно. Я уезжаю в Раздольное. И продолжу ждать вестей от Софьи Николаевны… или от вас. Обещайте, что, какими бы эти вести ни были, вы тут же сообщите их мне.
– Разумеется. – Анна протянула Черменскому руку. Он слегка сжал холодные пальцы молодой женщины, поднес их к губам, коротко поклонился и вышел.
Пройдя через сени на черную половину дома, Владимир остановился перед дверью в кухню, из-под которой выбивалась полоска света. Стукнув в нее, он негромко свистнул и позвал:
– Северьян!
Тишина.
– Северьян!
Снова тишина, на этот раз перемежаемая сопением.
– Северьян!!! Леший с тобой тогда, оставайся, а я ухожу!
– Да Владимир… черт… Дмитрич!!! – Северьян, встрепанный, лохматый, в распоясанных штанах, вырос на пороге кухни. Это был рослый и стройный парень, ровесник Черменского, с широким разворотом сильных плеч, иссиня-черной копной жестких курчавых волос и раскосыми глазами на скуластой смуглой физиономии. – Вот ну хоть бы минутку обождали, ей-богу!
– Минутку обожду, – усмехнулся в темноте Черменский. – Передай Фекле, что только ради нее, в благодарность за сегодняшние пироги. Живо!
Северьян исчез. Владимир вышел из дома в сырую темноту двора, разбавляемую только жидким светом из окна кухни, поежился, достал папиросы. Невольно вспомнил, невесело усмехнувшись, одну душную летнюю ночь пять лет назад, Раздольное, Янину… Молодая полячка была женой отца, а ему, Владимиру, естественно, приходилась мачехой, они тогда еще много смеялись над этим. Целое лето он лазил в окно ее спальни, ошалев от первой в своей жизни любви; целое лето ломал голову, что с ними станет, если о запретной связи узнает отец, требовал от Янины обещаний в вечной страсти, совершенно потеряв голову, уговаривал красавицу уехать с ним на Кавказ… Она только смеялась и откровенно признавалась, что, столько лет прожив в нищете родительского дома в Вильно, ни за какие коврижки не согласится бежать к диким горцам от богатого супруга. Неизвестно, чем бы закончилась эта горячечная любовь, если бы в одну из ночей Владимир не забрался в окно Янины в неурочное время и не застал у нее… Северьяна. Пока оба стояли друг против друга с одинаковым выражением изумления на лицах, за дверью послышались тяжелые шаги генерала Черменского – третьего и самого законного претендента на любовь красавицы полячки. Северьян опомнился первым, дернул Владимира за рукав – и они стремительно смылись через открытое окно. И в ту же ночь покинули Раздольное.
Владимир не мог знать, что через несколько лет Янина все-таки уйдет от отца, сбежит, оставив лишь коротенькую записку, с соседом-помещиком, что генерала Черменского из-за случившегося хватит удар… Все это выяснилось лишь нынешней весной, когда Владимир неожиданно встретил на вокзале Фролыча, старого управляющего Раздольным. Но разве мог Черменский рассказать о таком старшей сестре своей возлюбленной?.. Пусть уж Анна сама придумает какую-нибудь романтическую причину его ухода из отчего дома, женщинам это удается хорошо…
Черменский уже докуривал вторую папиросу, когда из дома выскочил Северьян, – одетый, довольный и на ходу жующий пирог. В тот же миг в кухне погасло окно, стало совсем темно.
– Фу-у, хоть в рай не просись! Спасибо, Владимир Дмитрич!
– Ты бы Феклу в покое оставил, – без особой надежды попросил Черменский. – Она на тебя графине жалуется.
– Это еще почему?! – поразился Северьян. – Вот зараза! На что же тут жаловаться-то?! Вот и поди ты с этим бабьем…
– Стало быть, есть на что. Да запахни грудь, застудишься на радостях… Идем, дон Гуан, утро скоро.
Они молча шли через пустынную Неглинку. Вернее, молчал Черменский, а Северьян, пряча под мышками озябшие ладони, допытывался:
– Ну, так что там с невестой вашей, Владимир Дмитрич? Нашлись аль нет Софья Николавна-то? Написали? Сами объявились?
– Слушай, сделай милость, отвяжись.
– Стало быть, не объявились, – вздохнул Северьян. – А чего ж мы с вами всю весну тут просидели? Или в Раздольном делов мало? Посевная идет, Фролыч старый совсем стал, за всем доглядеть не может, управляющие ваши – воры хужей меня, мужики ленятся… Владимир Дмитрич, я кого пытаю?! Что за новости-то были?!
Владимир понял, что отвязаться от Северьяна не удастся, и отрывисто сказал:
– Пришло письмо. Из Вены. Софья уехала с Мартемьяновым.
– В Вену?! Это где ж, у австрияков?! – поразился Северьян. И замолчал надолго. Только когда уже поворачивали на Трубную, длинно сплюнул на тротуар и задумчиво произнес:
– Стало быть, доброй волей поехала… Да вы бросьте переживать-то, Владимир Дмитрич… Сколь разов я вам говорил, что все до единой они такие. Я-то знаю, у меня поболе вашего этого добра имелось… Никакой радости, окромя гадости, вот прямо слово чести вам даю! Что кухарка, что графиня – одна храпесидия…
– Замолчи, – коротко перебил его Владимир, и Северьян, осекшись на полуслове, счел за нужное послушаться.
…Анна, оставшись одна, какое-то время сидела не двигаясь, глядя на бьющийся от сквозняка огонек свечи. Затем, нахмурившись, прислушалась к легкому шороху, донесшемуся из-за портьеры. Потом повернулась. Встала из кресла во весь рост, взяла тяжелый канделябр и негромко, гневно спросила:
– Кто здесь? Выходите немедля!
– Восхищен вашей доблестью, Анна Николаевна, – ответил из-за портьеры низкий насмешливый голос, в полосу света вышел собственной персоной Максим Модестович Анциферов, действительный статский советник министерства юстиции. – Любая женщина на вашем месте подняла бы дикий визг, а вы еще намереваетесь убить меня канделябром!
– Взывать к вашей совести, я полагаю, бессмысленно? – ледяным голосом спросила Анна, ставя на место подсвечник и возвращаясь в кресло. – Но извольте хотя бы объяснить, зачем вам это понадобилось! Разговор, который здесь велся, не мог быть вам интересен ни с одной стороны.
– Напротив, весьма увлекателен со всех сторон! – заверил Максим Модестович, опускаясь в кресло напротив Анны. – Во-первых, я счастлив был узнать, что Софья Николаевна жива и в добром здравии. Ходили ужасные слухи об ее утоплении. А вы их не опровергали.
– Да, потому что меня никто об этом не спрашивал! – отрезала Анна. – Не могла же я, согласитесь, бегать по Москве и кричать о том, что сестра жива? Наша семья уже давным-давно не интересует светское общество…
– Во-вторых, меня беспокоил этот молодой человек, – деловито продолжал Анциферов. – Я, признаться, подозревал, что он ваш любовник.
– Откуда такие домыслы? – холодно спросила Анна.
– Ну, как же, помилуйте… Регулярно, на протяжении всей весны бывает у вас на вторниках, вашими «кузинами» не интересуется, тратит целый вечер на то, чтобы рассуждать со старым пнем вроде меня о необходимости армейских реформ… и остается, когда прочих гостей вы уже спровадили благополучно. О чем же еще сии факты могут говорить?
– Не вижу, как это касается вас, – пожала плечами Анна.
– Это касается ВАС, – ничуть не смутившись, заявил Анциферов. – А стало быть, и меня.
– Я вас не понимаю, Максим Модестович, – глядя в сторону, сказала Анна. – Вы всегда давали понять мне, что отношения между нами – исключительно деловые. Да, я была крайне удивлена, когда в марте вы нанесли мне визит, представившись другом моего покойного опекуна, и предложили помощь.
– Кстати, совершенно бескорыстно… – вставил Анциферов, хотя в его темных глазах билась усмешка. Анна заметила ее и тоже усмехнулась.
– Не нам с вами, Максим Модестович, говорить о бескорыстии… Но вы пришли ко мне, выбрав очень удобный момент: я только что осталась без Петьки и была несколько растеряна… Деньги у меня, конечно, имелись, но я боялась, что не смогу правильно распорядиться ими и… кончу через несколько лет в борделе. Чем же вы смущены? Я неверно подбираю слова?!
– Более чем верно. – Анциферов, похоже, действительно был смущен. Поднявшись, он налил себе вина (Анна жестом отказалась) и далее сидел молча, изредка отпивая из бокала бордо, пока молодая женщина говорила:
– Ведь именно вы подкинули мне мысль об этих… «вторниках графини Грешневой». И вы рекомендуете мне девушек… ведь не самой же мне бегать по публичным домам, выискивая подходящих?.. И всякий раз ваш выбор оказывается великолепным, мне остается лишь довести до блеска и выставлять в гостиной. Поверьте, я искренне вам благодарна. И ваши проценты, о которых мы сразу же условились, вы получаете каждый месяц. Все точно, как в немецкой аптеке. Но я до сих пор не понимаю, зачем вы возитесь со мной. Не ради же этих процентов? В самом начале нашего знакомства я наивно предположила, что вас интересует собственно моя персона… но вы были очень любезны и разубедили меня. – Произнося последние слова, Анна почувствовала, что к ее скулам приливает кровь. Но в предутренней полумгле гостиной это нельзя было заметить.
– Так отчего же вы беспокоитесь? – почти мягко спросил Анциферов.
– Оттого, Максим Модестович, что имею представление о том, где лежит бесплатный сыр. Если б я точно знала, какую цену и когда должна буду заплатить за ваше покровительство… уверяю, никакого беспокойства бы не возникло.
– Никакой цены не будет, Аннет.
– Тогда, Максим Модестович, я просто в панике, – со вздохом сказала Анна.
– Вы мне совсем не доверяете?
– Господь с вами… Разве можно вам доверять?
Анциферов тихо рассмеялся, поставил бокал на стол и подошел к креслу, в котором сидела Анна. Она тревожно, снизу вверх посмотрела на него. Но Максим Модестович лишь поцеловал ей руку и наклонил голову.
– Что ж… пора и честь знать, скоро рассветет. Для меня, Анна Николаевна, это был очень удачный вечер. Я не только прекрасно провел время, но и убедился в важной для меня вещи.
– В том, что у меня нет любовника? – насмешливо поинтересовалась Анна. – Но, кажется, когда мы с вами говорили о делах, вы мне не ставили такого условия.
– Разумеется, нет.
– Стало быть, я могу?..
– Вы вольны распоряжаться собой по собственному разумению.
– Но к чему же тогда эти бдения за моей портьерой? Я решительно ничего не понимаю!
– Ах, Аннет, оставьте старику его причуды… – снова улыбнулся Анциферов. – Считайте, что это разжижение мозгов от древности.
– Не кокетничайте. Вам до древности еще очень долго.
– Вы меня успокоили. Прощайте, Анна Николаевна. Желаю доброй ночи… Вернее, утра.
Максим Модестович ушел. Анна осталась в кресле, обхватив руками колени, и до самого рассвета сидела неподвижно, молча, глядя на то, как плачет прозрачным воском тающая свеча в канделябре.
В Вене Федор Мартемьянов и его спутница очутились в конце апреля. У Софьи, за всю свою жизнь не бывавшей дальше уездного городка Юхнова, вскоре не осталось сил, чтобы удивляться и восхищаться. С широко открытыми глазами она бродила по узким, мощенным брусчаткой улочкам, замирала от восторга перед Венским оперным театром, похожим на причудливо украшенный торт в завитушках и виньетках, всплескивала ладонями перед старинными дворцами, замедляла шаги возле зеркальных витрин магазинов, любовалась непривычными пейзажами, пыталась разговаривать на европейских языках, которые учила давным-давно, в детстве, и которые, казалось, напрочь забыла. Но французские и немецкие слова неожиданно всплывали в памяти одно за другим, и Софья, к своему крайнему изумлению, обнаружила, что довольно сносно понимает речь окружающих. Но более всего девушку радовало то, что эти люди вокруг нее – совершенно чужие, ничего о ней не знающие и не интересующиеся, почему и в чьем обществе она находится здесь. На подобные вопросы Софья до сих пор не смогла бы ответить ничего вразумительного даже самой себе.
Уже через два дня после отъезда из Ярославля в виленской гостинице она осознала, что, уехав с Мартемьяновым, сделала величайшую глупость. Сообразив, что, поддавшись отчаянию, связала жизнь с чужим, страшным человеком, о котором ей ничего не известно, Софья схватилась за голову и заколотила в стену номера, призывая Федора. Тот пришел сразу же – спокойный и невозмутимый. Не моргнув глазом выслушал растерянную и испуганную Софьину речь о том, что она поторопилась с решением… была слишком взволнованна… но надеется, что господин Мартемьянов порядочный человек… если возможно, ей хотелось бы вернуться… разумеется, все расходы она готова возместить… При этих ее словах Федор заинтересовался:
– А вы о каких расходах, Софья Николаевна?
– Ну, как же… – чуть не плача, начала она. – Паспорт… Билет… Гостиница…
– Матушка моя, да нешто же это расходы? – искренне расхохотался Мартемьянов. Но, увидев стоящие в Софьиных глазах слезы, сразу посерьезнел. Встав, сделал было шаг к ней, но девушка отпрянула, и он поспешно вернулся на место. Помолчав, без капли обиды спросил: – Софья Николаевна, тебе годков-то сколько?
– Восемнадцать… исполнится летом…
– А я тридцать третий меняю. И кой-что в этой жизни нашей понимаю. Так что послушай меня в спокойствии и не полошись раньше срока. Ежели тебя совсем от меня воротит – так, что в одной гостинице со мной находиться не могёшь, – тогда, разумеется, езжай, и никаких разговоров о расходах я не приму. Так это? Говори, не обижусь – не девка красная, небось.
Софья молчала. Потому что подтвердить сказанное Мартемьяновым не могла. Да, он по-прежнему пугал ее – хотя за два дня пути Софья успела немного привыкнуть к этой неподвижной, словно вырезанной из соснового полена физиономии и черным, упорным глазам под густыми, сросшимися бровями. Но при одной мысли о том, что Мартемьянов обнимет ее или начнет целовать, от ужаса останавливалось сердце. При этом он почему-то не был отвратителен ей. Софья признавалась самой себе: даже в тот страшный вечер, в Ярославле, в гостинице «Эдельвейс», когда Федор приблизился вплотную и взял ее за плечи, Софью не стошнило и не возникло никакого омерзения – просто смертельный испуг и разочарование, ведь ждала она тогда не его…
– Вот ведь воспитание господское… – со вздохом произнес Мартемьянов на четвертой минуте Софьиного молчания. – Нешто не можешь в глаза сказать: выворачивает меня от тебя, Федор Пантелеевич, поди-ка ты прочь, свинячье рыло. А?! Ну, матушка моя! Хамом-то называла меня? И мужиком? Тогда, в кабаке вашем грешневском…
– Называла, когда нужда в том была! – вскипела Софья. – И если вы полагаете…
– Отлично даже полагаю! – усмехнулся он, но черные глаза его не смеялись. – И права ты, Софья Николаевна, была. Напился я тогда по-свински, да и от тебя ошалел изрядно. Ну что? Кто старое помянет, тому глаз вон? Можешь меня около себя наблюдать?
– Могу, – с сожалением проговорила Софья. – Но…
Мартемьянов снова встал. Софья поднялась тоже, и он взял ее за обе руки. Она отстранилась – Федор тут же разжал пальцы.
– Вот что, Софья Николаевна. Последнее мое слово тебе скажу. У меня такой, как ты, сроду не было и вперед уж не будет. И я за просто так от тебя не откажусь. Коли ты мне в первый раз не поверила, то я вдругорядь слово даю – а мое слово купеческое, его вся Волга, от Каспия до Ярославля, знает! Не дотронусь, пока сама не пожелаешь! Подожди месяц, до лета всего подожди! Ежели к июню совсем замучаешься – отпущу. И ни копейки не взыщу, лети на все четыре стороны, пташка божья. Но уж до лета потерпи. Я тоже знать должон, что не просто так счастье свое из рук выпустил.
– Как угодно, – сказала Софья устало.
Спорить с ним далее она просто не могла. Мартемьянов коротко взглянул на нее из-под мохнатых бровей и молча вышел.
Несмотря на его обещание, в первые дни пребывания в самой известной венской гостинице «Франц-Иосиф II» Софья находилась в постоянном напряжении и ни одной ночи не спала спокойно, каждый миг ожидая, что вот-вот откроется дверь номера и Федор войдет, как хозяин, спокойно и властно, и сделает с ней все, что захочет, а она… А она должна это стерпеть, и по возможности, без явной неприязни. Но как, Софья не очень-то представляла, боялась, злилась на себя, нервничала, плакала, однако… дни бежали, а ничего не происходило. Мартемьянов ни разу не вошел к ней.
В один из вечеров, вернувшись усталой и полной впечатлений из картинной галереи, Софья с изумлением увидела на столе в номере какие-то сафьяновые футляры.
– Марфа, что это?
– Федор Пантелеич в ваше отсутствие заходили, – ответствовала Марфа, сидящая в кресле возле окна с непроницаемым лицом. Софья подозрительно посмотрела на нее, но та упрямо любовалась в окно залитой закатным светом площадью. Софье оставалось только подойти к столу и один за другим открыть футляры. Через минуту она упала в другое кресло и простонала:
– Ма-а-арфа… Неужели это все настоящее?
– Да уж не будут они из самоварного-то золота дарить, не таковские, – сумрачно заметила Марфа.
Встав, она тоже подошла к столу, по которому были разбросаны длинные серьги с изумрудами, колье с голубым, загадочно мерцающим бриллиантом-капелькой, золотой браслет, густо усеянный искрами изумрудов и алмазной пылью, и несколько колец.
– Господи… Да что же мне с этим делать?!
– Там, в углу, еще и платья лежат, – ехидно заявила Марфа. – Говорила я вам – тратьте сами! А то этот ваш атаман ватажный невесть что накупит… Посмотрите, Софья Николавна, я без вас не стала лазить.
В углу номера, на диване, действительно стояли три круглые коробки. Распотрошив их, Софья и Марфа разложили на кровати изумрудно-зеленое муаровое платье, бледно-фиолетовое из тонкого шелка и роскошное, вечернее, из гладкого черного атласа, с таким декольте, какого Софья никогда в жизни не решилась бы надеть даже на сцену.
– А что, бонтонно… – ворчливо одобрила Марфа, разглаживая атлас и любуясь на игру закатного луча на черной переливчатой ткани. – Ты смотри, понимает что-то, медведь костромской!
Софья была полностью уверена, что наряды Мартемьянов выбирал не сам, а с помощью модисток, но положение от этого легче не становилось.
– Марфа, да что же мне теперь делать?!
– Как что? Пойтить поблагодарить да с божьей помощью завертываться! В тиятр ведь вечером собирались! Когда у вас этакие тувалеты были? Анна Николаевна и то такого сроду не нашивали!
Это было правдой. Софья никогда в жизни не имела не только таких великолепных платьев, но даже просто новых: до семнадцати лет она донашивала одежду Анны, еще и стараясь не слишком трепать, чтобы потом оставить Катерине. Первые собственные платья появились у Софьи только в нынешнем году, после успеха на сцене, когда у них с Марфой завелись какие-то деньги. Но и эти наряды, еще недавно казавшиеся девушке роскошными, взятые с собой в вояж и нынче аккуратно развешанные в гардеробе, выглядели обносками по сравнению с теми, что лежали сейчас на кровати. Про украшения и речи не было: таких драгоценностей Софья не видела даже у сестры.
– Марфа, ради бога, ну чего же ему надобно?! Я не понимаю, право, не понимаю…
– Вас ему надобно, чего ж еще… – последовала мрачная отповедь. – Хи-и-итрый, дух нечистый… Рано иль поздно своего дождется. Я его наскрозь вижу!
– Но отчего же он тогда не… не настаивает… Марфа! Ведь мужчины так себя, кажется, не ведут…
– Много вы, барышня, знаете, как мушшины себя ведут! Сколько каждому господь ума отсыпал – так и ведут! Этот – так очень даже правильно все делает…
– Но мне-то, господи, как же быть?! Я и так себя ужасно чувствую… Ты же видишь, каких денег все стоит?! Этот вояж, гостиница, рестораны, теперь еще и туалеты… Почему он ничего не требует взамен? Не просто так же он все это делает?!
– Такие просто так и в поле облегчиться не присядут… – «успокоила» Марфа. – Обождите, Софья Николавна, он своего добьется. Да и вы попусту в ипохондрию не влазьте… Чему быть – того не миновать, не этот – так другой, разницы никакой не имеется, а значит, и мучиться незачем. Надевайте лучше платье новое да бежите в свой тиятр.
– Я сначала пойду к нему, – твердо объявила Софья, вставая.
– Это зачем? – подозрительно осведомилась Марфа. – Назад все возвертать очень даже глупо будет. Стоило нам с вами тогда с насиженного места в Ярославле срываться, саржу да сукно мы и там нашивали! А раз уж вы этому ироду таку милость господню оказали, так уж пользуйтесь как есть! В своем праве, небось!
– В каком праве, Марфа, о чем ты?! Он меня пальцем не тронул!
– Так это уж не за горами… – Марфа вдруг подошла и обняла Софью за плечи своей могучей рукой. – Вы не надейтеся, Софья Николавна, вас оно не минет. Не мытьем, так катаньем своего добьется… а вы не мучайтесь! Доля наша бабская такая! Вот ежели б он вас тогда, в Грешневке, не за деньги покупал, а честь по чести замуж позвал бы – ведь пошли бы? Поплакали да пошли б?
– Да… – медленно сказала Софья. – Ты права. Пошла бы… Может быть, тогда удалось бы Грешневку спасти. И… Катю…
– Вот ви-идите! А какая разница, что по закону, что по греху? Все едино большого удовольствия не приобретете, это уж я вам как знающая говорю. Так что давайте обряжаться, скоро уж ехать вам.
Софья понимала, что Марфа права. Но и нарядиться сейчас в атласное платье и как ни в чем не бывало спуститься в ресторан она тоже не могла и, поразмыслив, решила все же к Мартемьянову зайти. Хотя бы поблагодарить – несмотря на то, что Софья предпочла бы, чтобы этих вещей в ее комнате не появлялось.
Мартемьянов находился у себя, и еще из коридора было слышно, как он ругается с коридорным:
– Да что ж ты, немчура, человеческого языка не понимаешь?! В тридцатый раз тебе, белоглазый, говорю: не надобно мне пива! От него в утробе бульканье одно! Да еще лохань такую приволок, хоть крестись в ней! Ты думаешь, я с этим полутораведром в пузе три часа в киятре высижу без последствиев?! Водки, сказано тебе, принеси! Ну, что ты хлопаешь лупками-то своими?! Тьфу, нехристь, что в лоб, что по лбу… Софья Николаевна?..
– Добрый вечер, Федор Пантелеевич, – сдержанно сказала Софья, проходя в номер мимо угодливо поклонившегося ей светловолосого парня в униформе гостиницы. – Что же вы на него кричите, если он не понимает по-русски?!
– А я по-ихнему не понимаю! – остывая, буркнул Мартемьянов. – Матушка, может, хоть ты ему растолкуешь, чтобы пива мне не носил? Нутро у меня этой ихней браги перекисшей не принимает! А он, болван, таскает и таскает, как нанялся, и ничего другого не приносит! Хоть бы уж корюшкой соленой али раками разжился, так и того нет!
– Чего же вы хотите? Водки? Или раков? – уточнила Софья, одновременно соображая, как по-немецки назвать корюшку и подают ли в Вене к пиву вареных раков.
– Да теперь уж ничего, – к ее облегчению, проворчал Мартемьянов. – Пошел вон, бестолочь, и чтоб не видал я тебя боле…
Последнее указание парень понял великолепно и тут же исчез. Глядя на сердитую и слегка смущенную физиономию Мартемьянова, разглядывающего действительно огромную глиняную кружку с пивом, оставленную на столе, Софья едва удерживалась от того, чтобы не улыбнуться. Но тут она вспомнила, зачем сюда явилась, и смеяться сразу расхотелось.
– Я, собственно, пришла вас благодарить… – неуверенно начала она. – Право, ни к чему было совершать такие траты, у меня и собственный гардероб вполне пристойный.
– Не понравилось? – огорчился Мартемьянов. – Ну-у, вот так и знал! Говорил-говорил этой дурище в кружевах в ихнем магазине, что, мол, барышня такого нипочем не наденет, воспитание не то, – куда там! Лопочет и лопочет, тащит и тащит шмотья-то, кидает и кидает передо мной… У меня аж в глазах мельканье сделалось, насилу ноги унес!
– О нет, платья прекрасные! – поспешно произнесла Софья. – Право, у вас замечательный вкус, но…
– Да говорю ж, что не я, а модистка выбирала, – с досадой повторил Мартемьянов. – Коли б я, так, верно, еще хужей было бы. Ну, а камешки-то? Не по виду, а по цене брал, уж точно не песочек волжский…
– Камни очень красивые, – со вздохом признала Софья. – Но, Федор Пантелеевич… К чему? Я ведь, кажется, не голой хожу.
– Думал – обрадуешься, – пожал широкими плечами Мартемьянов. – Сама ведь ты, матушка, ничего себе купить не желаешь. Я у твоей Марфы кажин день спрашиваю – нет, говорит, барышня денег не трогает, вся пачка в целости лежит…
– Потому что мне ничего не нужно. – Софья помолчала, глядя через плечо Мартемьянова в окно, на залитые золотисто-алым светом шпили собора Святого Штефана. – Вы поймите, Федор Пантелеевич, что я всю жизнь нищей прожила… и привыкла малым обходиться. За гостиницу платите вы, за стол тоже, платья у меня есть… А без бриллиантов, право, обойдусь.
– Но… что же, матушка, тогда тебе еще-то дарить? – растерянно спросил Мартемьянов, подходя вплотную к Софье и глядя ей прямо в лицо черными, упорными глазами. – Ты уж научи меня, потому как не разумею… Для вашей сестры набор известный – шмотья да брульянты… А чего ж другого надобно?
Глядя в его темное, нахмуренное, искренне озадаченное лицо, Софье хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Более глупого положения она и представить себе не могла. Она глубоко вздохнула и сказала то, что думала:
– Федор Пантелеевич, не дарите ничего. Я не хочу вас обидеть, но… если бы мне нужны были платья или украшения, я могла бы их иметь и в Ярославле.
– Да откуда?! – взвился Мартемьянов. – Знаю я, мать моя, кто к тебе в Ярославле езживал! У того графа Игорьева и половины моего дохода нет, то похвальба одна была, да он…
– Федор Пантелеевич, – холодно прервала его Софья. – Если вы помните, единственной моей просьбой к вам было – увезти меня как можно скорее из города. Вы и увезли… гораздо дальше, чем я рассчитывала. – В голосе Софьи прозвучала ирония, и Мартемьянов, почувствовав это, нахмурился, но промолчал. – Более мне ничего от вас не надобно. А впрочем, поступайте как знаете, я полностью в вашей воле. Если вам угодно выбрасывать деньги на ветер – это ваше право.
Мартемьянов молчал так долго, что Софья всерьез испугалась, что он обиделся. Ей этого вовсе не хотелось, и она скрыла облегченный вздох, когда Федор повернулся к ней и своим обычным спокойным, чуть насмешливым голосом спросил:
– Ну, а в тиятр-то твой едем, Софья Николавна? Али тоже побрезгуешь?
Он знал, что говорил: отказаться от первого похода в Венскую оперу было выше Софьиных сил, и даже общество Мартемьянова не могло испортить ей этого удовольствия.
Нынешним вечером в Венской опере давали «Севильского цирюльника» Россини. Совершенно случайно Софья попала на бенефис гениальной Паолины Лукка, лучшей сопрано Европы. Розину пела бенефициантка, графа Альмавиву – молодой Баттистини, Фигаро – Мазини. Сверкающий, как алмазное украшение, театр был полон, мелькали роскошные вечерние туалеты дам, фраки мужчин, лорнеты, бриллианты, веера… Отовсюду слышались воодушевленные разговоры. Поклонники, не смущаясь, напевали отрывки арий, предвкушали, как божественна будет Лукка, как неподражаем Баттистини, как непредсказуем в своих мелизмах Мазини, как великолепно возьмет певица верхнюю ля-бемоль… Ничего подобного в ярославском театре, среди зевающих купцов и взбалмошных, влюбленных в «душку-трагика» гимназисток, Софья не видела и ожидала начала представления с невольным трепетом, как в церкви – выноса причастия. Но то, что случилось потом, когда, шурша, взвился вверх тяжелый бархат занавеса, превзошло все ее ожидания.
Сестры Грешневы обладали прекрасными голосами. Анна обожала оперу и, приезжая в Грешневку, садилась за расстроенное фортепьяно и пела все, что ей удалось услышать в Императорском театре в этом сезоне. Голос сестры Софье нравился. Она знала все оперные партии и без труда могла воспроизвести их с напева Анны. Софья сама имела оглушительный успех в Ярославле, когда, играя Офелию, исполнила любимый романс сестры «Под вечер, осенью ненастной». Но каким мелким, смешным, ничтожным показалось ей собственное лицедейство на ярославских подмостках, когда на сцену вышла Паолина Лукка – великая Лукка! – и, прекратив мягким и величественным жестом шквал аплодисментов, от которых, чудилось, вот-вот рухнут в партер сияющие свечами люстры, начала арию Розины. Великолепное сопрано с прозрачными pianissimo заставило замереть огромный зал. Нежные, как весенние облака, звуки поплыли к покрытому позолотой и росписью знаменитому потолку Венской оперы, голос певицы набрал силу, заискрился, без малейшего усилия поднялся еще выше, в заоблачную даль, – и Софья почувствовала, что у нее сжимает горло.
– Софья Николаевна?.. – встревоженно (и на весь бельэтаж!) спросил Мартемьянов. – Что с тобой, матушка? Может, выйдешь воздуху примешь?
– Ох, молчите ради бога… – едва сумела прошептать она. Мартемьянов послушно умолк, но до конца спектакля смотрел не на сцену, а на Софью. Она, впрочем, не замечала этого – как и того, что мысленно повторяет вслед за Лукка арию за арией, а по щекам у нее бегут слезы.
«Никогда мне так не спеть! – восхищенно думала Софья, вместе со всеми в конце спектакля стоя и отбивая ладони в аплодисментах. – Она – не человек, ангел… Гений… Откуда берется такое? Слышать, видеть ее – счастье…»
– Господи всемилостивый, ну и мучение! – шумно вздохнув, пожаловался Мартемьянов, едва оказавшись на улице, темной и пахнущей цветущими каштанами. Спектакль только что кончился, от ярко освещенного театра отъезжали экипажи со смеющимися и громко разговаривающими зрителями, целая толпа еще стояла у дверей, ожидая выхода «божественной Паолины», и Софья тоже хотела дождаться ее. На сентенцию Мартемьянова она обернулась и с изумлением взглянула в лицо своего кавалера.
– Сущая, говорю, каторга! – недовольно косясь на освещенный театральный подъезд, повторил он. – Вот ей-богу, по мне, так ты, матушка, в Ярославле во сто раз лучше пела!
Софья только рассмеялась:
– Господь с вами, Федор Пантелеевич… Это же великая Лукка! Ее знает вся Европа, она с семи лет поет в опере, вместе с ней сам…
– И что с того, что великая? Мне – не по нраву! – уперся Мартемьянов. – У нас в Костроме Аграфена Репкина, дочь попа соборного, в церкви еще лучше пела! Да эти ведь еще не на человеческом языке поют, руками чего-то машут, бегают… В нашем театре сидишь – так хоть понимаешь, о чем речь, хоть и тоже потешно бывает. Я из-за тебя в Ярославле месяц из ложи не вылезал, ходил смотреть, так почти все понимал! А здесь…
Глядя на сердитую физиономию Мартемьянова, Софья едва сдерживала смех – и при этом ей неожиданно стало жаль его. Впервые она подумала о том, что ее покровитель почти неграмотен, вряд ли читал в жизни что-то кроме псалтыри и слушал музыку помимо церковной и кабацкой. Видимо, четыре часа оперы были для него и впрямь нешуточным испытанием.
– Вы со мной, Федор Пантелеич, не ходите больше, – серьезно и участливо сказала она, сама не замечая, что кладет ладонь на рукав Мартемьянова. – Зачем же такие страдания? Я Марфу буду брать, она прямо на первых тактах засыпает. Главное – разбудить в конце, а то уж в Ярославле конфузы случались…
– Да нет уж, матушка, – так же серьезно ответил Мартемьянов, не сводя глаз с тонкой руки Софьи, лежащей на его рукаве. – Я с тобой куда угодно пойду, хоть в оперу, хоть к чертям на вилы. И не такое терпеть приходилось – ничего, сдюжили… Хоть бы вот только понимать, о чем таком они воют…
Она расхохоталась и начала пересказывать Мартемьянову содержание «Севильского цирюльника». В театре давно погасли огни, уехала в карете окруженная толпой поклонников Лукка, разошлись последние гуляки, над Веной всплыла желтая луна, пятнами заиграв на лепнине театрального фасада и брусчатой мостовой, а Софья, воодушевленная вниманием Мартемьянова, говорила и говорила.
– Стало быть, граф – за девочкой волочится, а этот Фигаро на подхвате? Лихо… – одобрительно бурчал Мартемьянов. – А что же она, сердечная, голосила так под конец?
– Федор Пантелеевич!!! – ужасалась, хватаясь за голову, Софья. – Не голосила, а пела свою главную арию! Ведь так красиво, как же можно не понять… Ну, хотя бы это… – И Софья, увлекшись, запела по-итальянски, сперва – вполголоса, а затем все громче и громче. Арию Розины она знала прекрасно, потому что Анна в Грешневке повторяла ее очень часто. Софья всегда считала, что для этой арии у нее самой слишком плох верхний регистр, но сейчас девушка даже не думала об этом и опомнилась лишь тогда, когда из конца аллеи послышались восторженные крики «Браво!» и аплодисменты.
– Боже мой… – смущенно пробормотала она, увидев большую группу молодых людей, хлопающих и возбужденно кричащих ей что-то по-немецки. – Я совсем с ума сошла, право… Федор Пантелеевич, уже ведь ужас как поздно, Марфа беспокоится, едемте быстрей!
– Да, матушка, – коротко сказал он, поднимаясь и жестом подзывая фиакр, стоящий неподалеку. Экипаж подъехал, покачиваясь; молодой возница, улыбаясь, склонился с козел и поцеловал руку растерявшейся Софьи, свет маленького фонарика упал на лицо Мартемьянова, и от знакомого, пристального взгляда, устремленного на нее, у девушки пробежал мороз по спине. Мигом схлынуло все очарование минувшего вечера, рассеялись радостные впечатления, пропало восторженное возбуждение от искусства гениальной певицы. До самой гостиницы Софья ехала молча, сжавшись в углу экипажа и кутаясь, несмотря на теплую ночь, в кашемировую шаль. Мартемьянов, кажется, заметил перемену в ней, тоже молчал, глядя в сторону, и лишь перед дверями ее номера спросил:
– Завтра-то пойдешь снова в оперу, Софья Николаевна?
Она, помедлив, кивнула.
– А вы?..
Мартемьянов тоже кивнул, поклонился, прощаясь, и пошел к своему номеру. С чувством невероятного облегчения Софья юркнула в комнату и вздрогнула от ворчливого голоса, раздавшегося из потемок:
– Ну, чего, Софья Николавна? Все еще в девицах вы у меня?
– Марфа!!! – шепотом возмутилась она. – Как не стыдно пугать, я думала, что ты спишь давно!
– Когда это я спала, вас не дождавшись?! – возмутилась, в свою очередь, и Марфа. – Я в окне-то висю-висю, гляжу – нетути ни вас, ни Федора Пантелеича, ну, думаю, конец барышниной невинности, избавляться с божьей помощью поехали… А она, родимая, все еще на месте!
– Отстань, Марфа… – глухо произнесла Софья, прямо в платье и шали ложась на постель и глядя в потолок. – Не бойся, избавлюсь скоро.
– Так это уж знамо дело… – Марфа села рядом, помолчала. Грустно посоветовала: – Только вы уж, барышня, лучше б замуж за него шли. И ему в радость, и вам не в накладе. Да и приличнее так-то.
– Не хочу. – Софья по-прежнему смотрела в потолок. – Содержанкой быть позорно, спору нет, но… зато вольная. Захотела – ушла в чем есть, и ничем не вернет. А жена… Куда вырвешься?
Марфа шумно вздохнула:
– Так-то оно так… Ужинать будете? Я закажу…
– Как закажешь? – удивилась Софья. – Ты понимаешь по-немецки?!
– Ну, велика задача! Столкуемся, ничего! Обождите, я вниз, в ристарант спущуся! Да не засыпайте, покамест не принесу! Вот тоже, наказание, Федор Пантелеич по опёрам даму таскает, а накормить в голову не забрело! – ворча и рассуждая, Марфа вышла из номера.
Когда за ней закрылась дверь, Софья глубоко вздохнула и, не дожидаясь обещанного ужина, заснула – мгновенно и крепко.
Ночью она неожиданно очнулась. Стоял предрассветный час «между волком и собакой», луна давно закатилась, и в комнате не было видно ни зги, только в фиолетовом квадрате окна мигали холодные голубые звезды. Сидя на постели и поджимая под себя босые ноги, Софья пыталась сообразить, что ее разбудило и откуда точное ощущение того, что рядом что-то не так. Через минуту она поняла: не было слышно привычного храпения Марфы с соседней кровати. Зато вместо знакомых мощных рулад, от которых дрожали занавески и дребезжали оставленные на столе стаканы, из-за стены раздавались странные сдавленные звуки: словно кто-то пытался подавить приступ смеха. Софья озабоченно прислушалась, гадая, что бы это могло быть, и сразу же вздрогнула, сообразив, что звуки доносятся из номера Мартемьянова.
«Боже, уж не у него ли Марфа?!» – внезапно подумалось ей. Мысль эта была совершенно дикой, но Софья прижалась к стене и прислушалась с утроенным вниманием. Она долго слушала странные, то прекращающиеся, то вновь возобновляемые звуки. В конце концов Софья встала, перекрестилась, накинула шаль и на цыпочках вышла из номера.
В длинном гостиничном коридоре было темно, только в конце его мутно зеленело пятно лампы ночного кельнера. Прижимаясь к стене, Софья бесшумно проделала путь до соседней двери. В душе девушка надеялась, что номер будет заперт, но ручка подалась, и Софья, стараясь не дышать, вошла.
Глаза уже привыкли к темноте, и девушка сразу разглядела смутно белеющую постель и сброшенное на пол одеяло, а на постели – Мартемьянова. Марфы нигде не было, и Софья, ужасаясь собственной глупости («Ну что Марфа могла здесь делать?.. Только спросонья такое причудится…»), поспешно шагнула назад, к двери, но глухой протяжный стон заставил ее замереть. Стон повторился. Софья медленно-медленно обернулась и пошла обратно.
Сердце останавливалось при мысли о том, что Мартемьянов сейчас проснется и спросит ее, что, собственно, она здесь делает. Но Федор не очнулся даже тогда, когда Софья зажгла свечу на столе и в ее прыгающем желтом свете подошла к изголовью кровати. Как раз в это время он зашевелился; послышался хриплый горловой шепот:
– Акинфий Зотыч, кидай… Акинфий Зотыч, кидай, говорю, веревку… Держи, не пущай… Вода, сволочь, холодная, шевелись, сукин сын… Не тронь, Акинфий Зотыч, утянет, кидай веревку… Где Васька? Где Васька?! Пущай держится, лесины разойдутся… Пущай держится… Да кидай, кидай веревку, сукин ты сын, затрет бревнами… Я держусь, не бось, только до порога, за ради Христа, до порога дотяни, не дай затереть… Там я выберусь, Акинфий Зотыч! Что ж ты делаешь, что ж ты делаешь, песий сын, анафема, креста на тебе нет!!!
– Федор Пантелеевич! – испуганно позвала Софья.
Он не услышал, не очнулся; напротив, заметался сильнее, дергая расстегнутую рубаху на груди, и девушка, испугавшись, что Мартемьянов свалится с кровати и уж тогда непременно проснется, опустилась на пол, собралась с духом и громким шепотом сказала:
– Федор, я держу веревку, не бойся. Выбирайся.
– Крепше, сукин сын, держи… Примотай… лесины затрут… Васька где?!
– Я крепко держу. Васька здесь. Выбирайся с божьей помощью.
Мартемьянов вдруг оскалил зубы, как бешеный кобель, и Софья поняла, что он и впрямь силится выбраться откуда-то. Раздалось долгое хриплое рычание, черная встрепанная голова заметалась по подушке. Софья, в одну минуту забыв и о своем страхе, и о приличиях, поспешно положила руку на лоб Мартемьянова. Голова его была горячей, как печка. Софья не знала, что ей делать – растолкать ли Мартемьянова, чтобы он воочию убедился, что жив и здоров, или, напротив, не трогать. Неожиданно она почувствовала, что Федора трясет, как в лихорадке: даже кровать под ним, казалось, заходила ходуном. «Ой, господи…» – пробормотала Софья, подтягивая к себе сброшенное на пол одеяло. Она кое-как набросила его на спящего, но пользы от этого не вышло никакой: Мартемьянов продолжал дрожать, метаться по постели и хрипло ругаться сквозь зубы.
«Надо будить», – решила Софья. На всякий случай она встала – вдруг придется бежать без оглядки – и для очистки совести провела ладонью по встрепанным, черным, жестким, как просмоленная пакля, волосам Федора. Тот вдруг судорожно дернулся – к ужасу Софьи, уверенной, что теперь-то уж он точно просыпается, – и затих. Прошла минута, другая, третья. Мартемьянов не шевелился. Дрожащая от страха Софья нагнулась к нему, убедилась, что Федор дышит, облегченно вздохнула, села рядом на смятую постель и прислонилась спиной к стене, собираясь лишь перевести дыхание и немедленно покинуть номер.
Она очнулась от яркого света, бьющего в лицо. Открыв глаза, Софья осмотрелась и убедилась, что уже утро, и довольно позднее, что она в одной рубашке (шаль валялась на полу), лежит на кровати в номере Мартемьянова и что сам хозяин находится тут же, в двух шагах, – сидит в огромном кресле и глядит на нее.
Она вскочила с ногами на постель и молниеносно замоталась в одеяло. Мартемьянов в ответ на это даже не изменил позы и продолжал пристально смотреть на испуганную девушку.
– Федор Пантелеевич… – пролепетала она. – Я…
– Ну и крепко спала, матушка! – усмехнулся он. – Тут твоя Марфа на меня всех полканов спустила, когда тебя утром в комнате не нашла. На весь этаж вопила, а ты и не шелохнулась даже. Ладно, говорю, не буди, после сам снесу в нумер-то…
– Марфа?.. А… где она была? Я… я ее искала ночью…
– У меня? – усмехнулся он.
Софья покраснела. Взглянула прямо в лицо Мартемьянову и сухо произнесла:
– Вы ночью разговаривали во сне. Я услышала через стену, побоялась, что заболели, и зашла.
Мартемьянов сразу перестал улыбаться. Коротко взглянув на Софью из-под сросшихся бровей, опустил голову. Долго молчал. Ничего не говорила и растерявшаяся Софья.
– Вон оно как, значит… – наконец проворчал он. – Я-то думал, что уж кончилось это…
– А прежде было чаще? – осторожно спросила Софья.
Мартемьянов, помедлив, нехотя кивнул. Не поднимая глаз, пробормотал:
– И много чего наговорил? Сильно ты спужалась?
– Да, – честно призналась Софья.
Ей очень хотелось спросить, что это за Акинфий Зотыч, от которого Федор полночи требовал веревку, но своего вопроса она так и не задала, уверенная, что Мартемьянов все равно ничего не будет ей рассказывать. Молчание затягивалось, Мартемьянов по-прежнему глядел в пол у себя под ногами и вертел в пальцах какую-то щепку. Софья поняла, что надо уходить. Как можно осторожнее она протянула руку, пытаясь дотянуться до шали, валяющейся на полу, но Мартемьянов заметил этот маневр, и не успела девушка оглянуться, как он уже стоял рядом с кроватью, и его черные, без блеска глаза были совсем близко.
– Федор Пантелеевич!.. – только и успела прошептать Софья, возносимая с постели вверх. Он поднял ее легко, как соломинку, без всякого видимого усилия, и девушка снова подумала: какой же он горячий, так и несет жаром… Софья слабо уперлась в грудь Мартемьянова, но это было все равно что тыкать кулаками в каменную плиту. Федор, кажется, и не заметил усилий Софьи. От испуга и неожиданности она не могла даже закричать, хотя… если бы и могла… что толку? Это была последняя мысль Софьи перед тем, как Мартемьянов поцеловал ее, и стены гостиничного номера вдруг качнулись перед глазами, опрокинулись куда-то, и стало темно.
– …Ты что, злодей, мне с барышней изделал?! Что, я спрашиваю, сотворил?! Почему они без чувствий простертые?! Почему насилу дышат?! Кто мне слово давал, что сильничать не будет?! У-у, сволочь, вот как врежу сейчас промеж рог, а потом хоть под суд отдавай! И на каторгу пойду с радостью!
Софья с неимоверным трудом разлепила ресницы и сразу же увидела Мартемьянова, стоящего у двери. Напротив него, спиной к Софье, возвышалась Марфа и, уперев кулаки в бока, голосила на всю гостиницу. На Софью они не смотрели, и та, оглядевшись и убедившись, что находится уже в собственном номере, как можно повелительней сказала:
– Марфа, немедленно прекрати кричать! Сейчас сбежится вся обслуга… Федор Пантелеевич, пожалуйста, оставьте нас одних.
– Ой, отец небесный, Софья Николавна, живые-е! – заблажила Марфа, разом забыв про Мартемьянова и кидаясь к своей барышне. – Слава господу, а я уж, грешным делом, подумала, что уморил вас этот каторжник…
– Марфа, успокойся. Никто меня не трогал. – Софья посмотрела в сторону Мартемьянова, но увидела только, как захлопывается за ним дверь. – Тебя где ночью носило?
– А я-то понадеялась, что умаялись в тиятре-то и не пробудитесь… – после длительной паузы проворчала Марфа. – Что ж, носило… Мы тож люди грешные, как могём, устраиваемся…
– У тебя что же… – Софья с трудом сдержала смех. – Здесь уже предмет?
– Предмет – не предмет… а все утешение для души. Метрдотель тутошний, Карл Фридрихыч. Уж такой авантажный мужчина, что просто мое почтенье!
– О, господи… – пробормотала Софья, вспомнив важного и внушительного, как памятник отцу-императору, метрдотеля, неизменно кланявшегося ей в ресторане. – Как же тебе удалось?..
– Да долго ли умеючи… – отмахнулась Марфа. – Вы вот лучше скажите, как у Федор Пантелеича в нумере очутились?
– Тебя искала, – пожала плечами Софья.
– Меня?!. – возмутилась Марфа. – Да… Да что ж вы это себе вздумали, Софья Николавна? Нешто я себе такое дозволю? Да когда ж это я у вас кавалеров перебивала?!
– Некого перебивать было… – Софья, не глядя на насупленную физиономию Марфы, растянулась на постели. – Да ты не дуйся… Я б тебе его уступила с радостью.
– Нужон он мне, лешак! – отрезала Марфа. – Да и я ему без надобности, такие у него в Костроме, поди, на полкопейки пуд отпущаются… Ну, хоть с пользой время провели?
Софья не смогла даже рассердиться – только отмахнулась и повернулась лицом к стене. Разговаривать не хотелось, чувствовала она себя очень глупо, сильно болела голова, и, уже проваливаясь в тяжелую дрему, девушка успела подумать, что теперь-то Мартемьянов точно отправит ее назад в Ярославль: зачем ему нужна содержанка, которая от обычного поцелуя лишается чувств?
К вечеру Софья проснулась вполне здоровой и страшно голодной. Марфа, втащившая в комнату огромный поднос с едой, которой вполне хватило бы на взвод солдат, объявила:
– Федор Пантелеич спрашивают, изволите ли в тиятр идтить, Мифистофиля смотреть?
– Изволю, наверное… – неуверенно ответила Софья, разом вспомнив то, что произошло утром.
Как теперь ей держаться с Мартемьяновым, она не знала, хрупкое, с таким трудом установившееся равновесие последних дней было безнадежно нарушено, и даже в театр больше не хотелось, а думалось только об одном: забраться бы с головой под перину и лежать там как можно дольше. Марфа, кажется, почувствовала смятение своей барышни и, с грохотом опуская поднос на стол, проговорила:
– Софья Николавна, чем так мучиться, уж лучшей у него назад в Ярославль отпроситься. Наверное, и вправду не сварите вы с ним каши.
– Я не могу сейчас… – невнятно отозвалась Софья, впившаяся зубами в мягкий рогалик хлеба. – Я обещала, что только через месяц… Еще больше недели осталось. Надо додержаться, а там…
– Что – там? – Марфа пытливо смотрела в лицо Софьи. – Всамделе назад в Ярославль покатим? По сцене скакать?
– Марфа, это будет лучше, – помолчав, произнесла Софья. – Курам на смех такая жизнь.
Марфа шумно вздохнула, но ничего больше не сказала и решительно начала вытаскивать из гардероба новое вечернее платье. И Софья поняла, что ехать в театр все же придется.
При виде Мартемьянова Софьины дурные предчувствия выросли втрое. Ожидавший ее внизу Федор выглядел мрачным, как черт перед Пасхой, поздоровался с ней коротко, еще короче похвалил ее платье, хотя и непонятно было, как он умудрился его рассмотреть, даже не подняв на спутницу глаз. Она же, чувствуя себя крайне неловко с низким декольте, которое тщетно пыталась закрыть навязанной Марфой мантильей, даже не смогла поблагодарить за комплимент.
У подъезда гостиницы дожидался фиакр, на притихший город спускались прозрачные сиреневые сумерки, ветер шевелил молодую листву каштанов, из соседнего переулка доносилась монотонная мелодия шарманки, но вся эта идиллия так и не избавила Софью от тревоги.
И в театре, где сегодня давали «Фауста» со знаменитейшей Аделиной Патти, ангажированной дирекцией лишь на неделю, девушка не могла безмятежно, как вчера, смотреть на сцену и восхищаться. К концу первого акта она обнаружила, что совсем не воспринимает происходящее на сцене. Про Мартемьянова нечего и говорить. Перед поднятием занавеса Софья робко попыталась пересказать ему либретто, надеясь, что так ему легче будет перенести продолжение спектакля, Федор вежливо выслушал, но дело этим не поправилось. На сцену он даже не смотрел, от великолепных высоких нот Патти морщился, словно от зубной боли, и тоже явно думал не о страстях Фауста и Маргариты, хотя оба старались как могли: арии перемежались восторженными аплодисментами зала.
Едва дождавшись окончания второго акта, Софья твердо сказала:
– Федор Пантелеевич, пожалуйста, едемте в гостиницу.
– Что не так? – Федор, словно пробудившись ото сна, вздрогнул, сумрачно взглянул на Софью своими черными глазами. – Устала, матушка?
– Очень, – соврала Софья. – Поедемте, прошу вас…
– Как изволишь. – Он встал и, не глядя на Софью, начал пробираться к выходу. Она поспешила следом.
На улице уже стемнело. Желтый диск луны беспечно катился по фиолетовому небу вслед за фиакром, продираясь сквозь тонкие, словно нарисованные тушью ветви деревьев. Софья, окончательно уверившаяся в том, что Мартемьянову надоело с ней возиться и он завтра же прогонит ее с глаз долой, сидела в мерно покачивавшейся коляске и в уме подсчитывала, хватит ли у них с Марфой своих сбережений, чтобы добраться до России, или же придется телеграфировать Анне. Мысли о деньгах были привычными (полгода назад, в Грешневке, она ни о чем другом почти и не думала) и принесли, как ни странно, заметное умиротворение: Софья даже поймала себя на том, что улыбается. И как раз в этот момент экипаж тряхнуло, и лошади стали.
– Что случилось? – удивленно спросила Софья, поворачиваясь к Мартемьянову. Тот спрыгнул на тротуар, протянул ей руку и кивнул на освещенный подъезд какого-то ресторана в двух шагах.
– Зайдем, что ли, матушка? Я здесь уж бывал, еда хорошая, и вино приличное. Авось и тебе понравится.
– Федор Пантелеевич, – грустно улыбнулась Софья. – Я в этом еще меньше вашего понимаю, так что капризничать не стану. Куда посадите, там и ладно будет.
Мартемьянов усмехнулся в ответ – тоже без особой радости. Его сильная огромная рука осторожно сжала пальцы Софьи, помогая ей выбраться из экипажа, и улыбающийся швейцар распахнул перед ними тяжелую зеркальную дверь.
Ресторан оказался небольшим, чистым, изысканным: столы были покрыты белыми камчатными скатертями, на каждом горели свечи в причудливых, изображающих лозы винограда канделябрах, скользили официанты, высоко поднимая серебряные, уставленные приборами подносы. На крошечной эстраде играл венгерский оркестр. Никто вроде бы не обратил внимания на вновь пришедших, но стоило Софье обвести глазами зал, как к ним подошел степенный метрдотель с белой крахмальной манишкой, поклонился Софье, поприветствовал Мартемьянова, с которым явно уже был знаком, и широким жестом показал на свободные столы. Федор покачал головой и объявил, что им нужен отдельный кабинет. Несмотря на то что пожелание было высказано на чистом русском языке, метрдотель все превосходно понял и с многозначительной улыбкой, от которой Софью передернуло, пригласил гостей следовать за собой.
Кабинет был маленьким, с плотно занавешенным окном и канделябром на пустом пока столе. Прибежавший вслед за метрдотелем официант ловко и быстро зажег одну за другой свечи, и по стене метнулись черные тени. Затем он отодвинул стул для Софьи, подождал, пока та сядет, наклонился к Мартемьянову.
– Софья Николаевна, что взять-то? – спросил тот.
– Что сами желаете, – безразлично отозвалась она.
Мартемьянов что-то сказал официанту, и тот бесшумно исчез.
– Как вы с ними объясняетесь, Федор Пантелеевич? – поинтересовалась Софья. – Вы же не знаете языка… Неужели они здесь говорят по-русски?
– Ни черта не говорят, – хмуро ответил Мартемьянов. – Просто денег вперед даю, а дальше они и сами рады стараться. Что у нас в Расее, что здесь – одна волынка… Как же быть нам с тобой, матушка?
– Как прикажете, – спокойно произнесла Софья, встретившись взглядом с черными, блестящими в свете свечей, еще недавно так пугавшими ее глазами. Но сейчас, смотря в лицо сидящего напротив мужчины, она поняла вдруг, что совершенно его не боится. Была ли причиной внезапной перемены в ней минувшая ночь, когда Софья, сжавшись на краю развороченной постели, слушала хриплый, бессвязный бред и гладила горячую, взлохмаченную голову этого совсем чужого ей человека? Она не знала и думать о том не хотела – просто прямо смотрела на Мартемьянова и ждала его решения. Теперь ей было в самом деле все равно.
– Нет, Софья Николаевна, не могу, – наконец удрученно выговорил Федор, отводя глаза и с сердцем махая рукой на сунувшегося в дверь официанта.
Тот моментально исчез, а Софья удивилась:
– О чем вы?
– Да о том же все… Утром сегодня уж совсем решил было отпущать тебя. Я же все-таки человек живой, что бы ты там себе про меня ни выдумывала…
– Федор Пантелеевич, я… – начала было Софья, но Мартемьянов, нахмурившись, оборвал ее: – Оставь, матушка! Я ж знаю, за кого ты меня держишь. И, промежду прочим, правильно, и слава богу, что еще всего не знаешь… Вона, только одну ночь мою горячку послушала, а уж в омморок падаешь, так что ж потом-то будет?.. Лучше, знамо дело, тебя назад в Расею отправить, то я понимаю. Но… видит бог, не могу. Гляжу вот сейчас на тебя – и не могу. Глаза у тебя, Софья Николаевна, вовсе погибельные, зелень-трава болотная… Я такие у одной матери своей видал, и то только по молодости ейной.
– А потом? – решилась спросить Софья.
Мартемьянов потемнел, и было видно, что отвечать ему не хочется. Однако через силу, коротко, он сказал:
– Выплакала все… Папаша у меня анафема был, погубил ее. Ну, да гореть ему в геенне, не про него речь. Уж прости, матушка, но не отпущу я тебя. Духу не хватает. Слаб человек да грешен…
Софья пожала плечами, не особо удивившись. Помолчав, произнесла:
– Вы напрасно мне это говорите, Федор Пантелеевич. Я и так в вашей полной власти. И от слова своего не отказывалась.
– Это верно, – признал Мартемьянов. – Тебе бы мужиком родиться да купцом – большие дела бы вела! В нашем сословье слово – первое дело. Но как же нам с тобой быть-то дальше? Разве что другой месяц мне до тебя тож не касаться? Еще пообвыкнуть дать? Ты скажи, я выдюжу…
– Федор Пантелеевич, это смешно, – вздохнув, объявила Софья. – Содержанки таких условий ставить не могут.
– Ну так давай я женюсь на тебе!
– А вот это – действительно никогда, – со всей возможной твердостью сказала она. – Простите меня, но…
– Это ты меня прости, – глухо, с непонятной усмешкой отозвался он. – Незачем и спрашивать было.
Наступила тишина. Софья в полном смятении перебирала под столом край скатерти и молилась о том, чтобы вновь вошел официант. Но он не появлялся, только из-за неплотно прикрытой двери доносились приглушенные звуки скрипки и пьяные голоса: кажется, приехала какая-то веселая компания. Мартемьянов сидел опустив голову и не шевелясь, и его лохматая черная тень на стене была такой же неподвижной. В конце концов Софья поняла, что должна спасать положение. В голове был полнейший ералаш, но она храбро вздохнула и начала:
– Федор Пантелеевич, поймите, ради бога, что… Мой обморок с утра…
– Оставь, матушка, – по-прежнему глядя на скатерть, проворчал он. – Не стошнило тебя и то слава богу. Мы понимаем, чего уж…
– Ничего вы не понимаете! – вдруг вспылила девушка, и Мартемьянов резко поднял голову. Софья бесстрашно, в упор посмотрела на него. – Я вас не боюсь, Федор Пантелеевич. И вы мне не противны, – сказала она, отчетливо понимая, что говорит правду. – А обморок мой случился от неожиданности. Вы, разумеется, вправе мне не верить, но… я и сама не ожидала. Думаю, что во второй раз уже ничего подобного не случится.
– Во второй… – усмехнулся Мартемьянов. – А это, значит, первый был?
– Да.
– Со мной… первый? – изменившимся вдруг голосом спросил он, кладя огромные кулаки на стол и подаваясь вперед, к Софье. – Или… вовсе?
Софья почувствовала, как кровь приливает к лицу. Но, зная, что соврать Мартемьянову не сможет, она перевела дыхание и подтвердила:
– Вовсе… Меня до вас и не целовал никто. Вы же знаете, как я… как мы жили. Судите сами, откуда в нашей глуши дремучей кавалеры? К нам никто не ездил… Нас из-за… из-за Анны тоже нигде не принимали…
Мартемьянов встал. Поднялась навстречу ему и Софья.
– Ах ты, дитё… – не сводя с нее озадаченных глаз, пробормотал Федор. – Вон, стало быть, как… Так это что ж… Софья Николаевна! Ты мне одно скажи… Только правду, за-ради Христа! Хоть убей потом, но скажи! Тот твой… Черменский… он что же… не была ты с ним?! Не была?!
Упоминание имени Владимира болезненно резануло Софью по сердцу, и она с трудом удержалась от того, чтобы не попросить Мартемьянова замолчать. Но Федор имел право спрашивать, и Софья, собравшись с духом, ответила:
– Нет, не была.
– И не целовал он тебя?!
– Нет.
– Ради бога, правду говори! – Федор взял ее за плечи, с силой, причинив боль, притянул к себе, черные сумасшедшие глаза были теперь прямо перед лицом Софьи, и горячее, неровное дыхание обожгло ей щеку.
– Это же он тебе тогда утопиться не дал?! Ну?! Он?! Ты с ним всю ночь там, на берегу, просидела – так иль нет?!
– Да, так… – едва смогла выговорить Софья. – Но… Мы сначала разговаривали, после я заснула… а утром уже уехала… И… больше я его не видела никогда! И было всего два письма, и… и… да оставьте же меня, с ума вы сошли, Федор Пантелеевич, мне больно!!!
Он, наконец, опомнился и выпустил ее. Перепуганная Софья без всякой грации плюхнулась на стул и, морщась, начала растирать ладонью плечо. Мартемьянов, не замечая этого, стоял возле стола и наливал вина в свой стакан. Вино больше попадало на скатерть и на пол, чем по назначению, но наконец хрустальный стакан наполнился, и Федор залпом, жадно, как воду, выпил его содержимое. Налил еще и снова выпил. Потом покосился на Софью и отставил бутылку. Медленно покачал головой.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день… А я-то думал…
– Не могу знать, о чем вы думали. – К Софье частично вернулось самообладание, но плечи ее все еще болели, а руки дрожали, и она поспешила спрятать их под скатертью. – И какое это для вас имеет значение? Право, не понимаю…
Мартемьянов молчал; до Софьи доносилось только его тяжелое дыхание. В дверь снова заглянул официант, но теперь уже Софья махнула на него рукой. Придвинув к себе уже наполовину пустую бутылку вина, она налила полный стакан и, зажмурившись, выпила. Тут же, как минуту назад Мартемьянов, налила и второй, но опорожнить смогла только до половины. И не двинулась с места, когда Федор шагнул к ней. И не сказала ни слова, когда он поднял ее на руки – легко, без капли усилия – и понес к дверям.
Когда Мартемьянов нес ее на руках через главный зал ресторана, Софья от страха закрыла глаза и лишь слышала сквозь шум в ушах удивленные и веселые вопли видевших это безобразие людей. Потом ей в лицо пахнуло ночной свежестью: они были уже на улице. Но даже в фиакре, везущем их в гостиницу, Софья не решилась посмотреть на Мартемьянова, а тот, к счастью, и не настаивал, прижимая ее к себе так, что у девушки ныло все тело. В конце концов она решилась на жалобный писк:
– Федор Пантелеевич, да ведь я не денусь никуда…
– А кто тебя знает, – совершенно серьезно ответил тот. – Я, матушка, уж какую неделю боюсь, что вот проснусь утром, а тебя нету… Упорхнула пташка небесная от раба божьего Федора… Люблю я тебя, Софья Николаевна, вот что. Хоть режь, хоть казни – люблю, и все тут.
Софья не ответила: в горле стоял горький, твердый ком. Молчал и Федор. Не разговаривая, они доехали до гостиницы, поднялись на свой этаж, не глядя друг на друга, вошли в мартемьяновский номер, где, к облегчению Софьи, было темно, только подоконник пересекал голубой лунный луч. Федор ненадолго задержался у двери, запирая ее. Софья успела только сбросить шаль то ли на стул, то ли прямо на пол, а горячие руки уже снова стиснули ее, и из темноты совсем близко блеснули белки глаз и послышался хриплый, сдавленный голос:
– Софья Николаевна… Софьюшка… Ты не бойся. Слышь, не бойся, матушка моя… У меня девки-то нетронутые были, я ученый, мучиться тебе, даст бог, не придется… А не хочешь – вовсе не притронусь, уйдешь какой пришла… Ну, что ли? Скажи, как лучше-то тебе?
Боли больше не было. Отвращения тоже. Слезы не вставали в глазах, тошнота не подступала к горлу, и Софья была уверена, что обморока с ней уж не случится, хотя от выпитого в ресторане вина отчаянно кружилась голова. «А, что теперь… – словно сквозь сон подумала она, чувствуя, как пальцы Мартемьянова вытаскивают шпильки из ее прически, и освобожденные пряди волос щекочут лицо и плечи. – Теперь уж все равно. Стало быть, судьба… Пусть». И, отбросив назад тяжелые, не дающие дышать волосы, она сама обняла за шею стоящего перед ней мужчину и тут же задохнулась от его поцелуя, и луна в окне, опрокинувшись, полетела прочь.
…Глубокой ночью за окном совсем стихли шорохи. Небо еще было темным, но луна уже незаметно уходила за башни собора. Софья лежала на спине, запрокинув руки за голову, и остановившимися глазами следила за тем, как по стене скользит тающий лунный свет. Рядом было тихо, но она чувствовала, что Мартемьянов не спит.
– Соня… – наконец послышался хрипловатый шепот. – Заснула?
Она не ответила, но Федор уже поднялся на локте рядом с ней, и тень от его головы шевельнулась в лунном луче.
– Ты бы не молчала, матушка, а? – так же шепотом попросил он. – Ну, скажи, совсем, что ль, тебе худо было? Грешен, разумение утратил… Все вино это проклятое, немчиновское! Пьется, как квас, а соображение всякое напрочь теряется… Соня, да ты отзовись! Хоть ругайся, что ли… Жива аль нет?!
– Жива, – понимая, что молчать далее глупо, со вздохом произнесла Софья. – И я ведь это вино с тобой пила, Федор Пантелеевич. Наверное, тоже… соображение потеряла. Ничего. На части не развалилась, сам видишь.
Она сама удивлялась тому, что так спокойна. В душе было пусто, тихо и безмятежно. Единственным четким чувством оказалось облегчение от того, что теперь окончательно сожжены все мосты. Сильной боли, к ее изумлению, не было, хотя Мартемьянов на несколько мгновений действительно «утратил разумение» и она едва удерживала крик, опасаясь, что Марфа за стеной проснется и ринется ее спасать. Порванную, испачканную кровью, безнадежно испорченную рубашку Софья стянула и сейчас лежала в чем мать родила, равнодушно отметив собственное бесстыдство – подумать только, ни разу в жизни даже перед Марфой голой не показывалась, два часа назад в театре декольте мантилькой прикрывала, а сейчас…
Горячая, жесткая ладонь осторожно легла на ее плечо. Софья вздрогнула, только сейчас почувствовав, как замерзла. Но Мартемьянов понял ее жест по-своему и сразу же убрал руку. Софья невесело улыбнулась в темноте. Вслух сказала:
– Федор Пантелеевич, можно, спрошу тебя?
– Что, Соня?
– Акинфий Зотыч – это кто?
Рядом – молчание. Она не особенно рассчитывала на то, что Мартемьянов ответит, и задала вопрос, чтобы отвлечь Федора от своего голого плеча. Тишина затянулась надолго, луна успела уйти из комнаты, впустив вместо себя плотную предрассветную мглу, и Софья уже начала подремывать, когда рядом послышалось – тихо и недовольно:
– И дался он тебе, сукин сын… Хоть и грех про покойников плохо…
– Он умер? – открыла глаза Софья.
– Угу… Уж пять лет тому. Мы с ним лес сплавляли через пороги на Мсте, вовсе гиблое было дело, но уж если б вывернулись – в барышах солидных бы остались!
– Не вывернулись?
– Какое… Три баржи на порогах в щепу расколотило. Нас тогда с одним мальцом с баржи волной метануло… А месяц-то октябрь был, уж заморозки пали, вода ледянущая, а мы в полной сбруе. Пороги, Мста бурлит, как котел, стремнина самая, да еще бревна сплавные, толстенные, мимо нас несутся, того гляди, по башке вломят… Я уж с последних силов на баржу Зотычу кричу – веревку кидай! А он, собачий сын, не торопится! Мужики-то на баржах все его были, тож прикидываются, что не слышат, воду вычерпывают, лесины жердями отталкивают… Зотычу, вишь, моя погибель на руку была, капитал и навар с торга ему тогда доставались… Малой тот, Васька, через минуту на дно пошел, а я, не знаю уж как, за лесину зацепился… На комариный волос промеж баржами проскользнул, не затерло, бог зачем-то спас. И перемахнул на той лесине через пороги! Уж ниже по Мсте до берега добрался, бабы-прачки полудохлым выловили…
Мартемьянов замолчал и, сколько ни смотрела на него заинтересованная Софья, дальше не продолжал. Тогда она спросила сама:
– И более вы с ним не встречались?
– Еще как встретились… – сквозь зубы сказал Федор, и Софья, почувствовав холодок на спине, благоразумно не стала расспрашивать дальше. Зачем – и так понятно, куда этот Акинфий Зотыч делся… раз уже покойник.
– Что дрожишь, матушка? – чуть погодя хмуро произнес Мартемьянов. – Ништо… привыкай. Вот ежели, бог даст, приедем с тобой в Кострому, там про меня еще не того расскажут… коль не побоятся.
– Правду расскажут или выдумку?
– А всего напополам. И про меня… и про папашу моего. И про братьев с матерью… – Голос Федора тяжелел с каждым словом, и Софья, уже пожалевшая о том, что вообще решилась расспрашивать его, из последних сил не давала себе отодвинуться в сторону. Она надеялась, что вот-вот он замолчит, как замолчал, не закончив историю об Акинфии Зотыче, но Мартемьянов почему-то продолжал: – Папашу-то своего я сам… своими руками… Мне тогда еле восемнадцать сполнилось. Про то потом весь город говорил. А когда и братья тоже…
– И братьев ты?!. – невольно вырвалось у Софьи, и липкий пот покрыл спину.
Мартемьянов резко повернулся к ней, но она, сама не понимая почему, не отпрянула. Слушая его тяжелое дыхание, молча ждала. Только сердце колотилось о ребра так, что хотелось зажать его рукой.
– Братьев – нет, – наконец хрипло послышалось из темноты. – Афанасий с Ванькой сами… Грибы в лапше худые были. То ли спортились, то ли Егоровна спьяну мухоморов наложила… Я тогда тоже ел, меня всю ночь наизнанку вывертывало, но не помер, а они… Ну, да людишкам нашим много не надо, слухи сразу пошли.
– А почему же отца?.. – Софья словно со стороны слушала собственный спокойный, ровный голос, по которому нельзя было понять, что творилось у нее внутри, и ужасалась своей храбрости. – Из-за денег, Федор Пантелеевич?
– Из-за матери… Он, сволочь, всю жисть из нее кровь пил. При ней я его и задушил. Она слова не сказала. Ни доктору, ни попу… ни мне. А потом… когда Афоньку с Ванькой… – Он вдруг умолк, не закончив фразы. Софья в темноте, наугад, тронула его плечо и, как прошедшей ночью, почувствовала пробежавшую по нему судорогу.
– Мать после в монастырь ушла… с моего дозволения. И ума там лишилась.
– Она тебе не поверила? – вдруг поняла Софья. – Да? Она подумала, что и братьев – тоже ты?..
– Вестимо… Вот, так же, как ты, спросила: «Из-за наследства, Феденька?» Что я отвечать должон был?..
Снова наступила тишина. Софья боялась убрать руку с плеча Федора, хотя отдала бы сейчас полжизни за возможность спрыгнуть с кровати и убежать – в соседнюю комнату, под бок к Марфе. Темный гостиничный номер бог знает где… Развороченная кровать, собственная грязная рубашка на полу… Чужой, пугающий ее человек, которого она зачем-то гладит по плечу… Господи, да что же это за сон ей видится?!.
– Испугалась, Соня? – вдруг спросил он. – Ты прости… Бог свидетель, не хотел говорить. Столько лет в себе носил…
– И не исповедовался ни разу? – тихо спросила Софья.
Федор невесело рассмеялся:
– Ах ты, святая душа… Где? У нас, в Костроме?! Где любой поп за полбутылки всю исповедь в квартальной части перескажет?! Один раз, верно, хотел, сдуру, по молодости… Только не в Костроме, а за Уралом, в скитах, мы там лет с десяток назад лес торговали… Там до властей далеко бежать, да скитники их и не любили, своим разумением обходились. Был там один старец, Евстафий… Я у него в келье почти месяц жил, да по ночам-то во сне дурниной орал, вот он однажды не стерпел да спросить попробовал – чем страдаешь, мол, парень?
– А ты?..
– Чего я… Сначала думаю – может, сказать ему, авось отпустит хоть ненадолго… А потом решил, что ни к чему. Чего богу зря голову морочить? Исповедаются-то в грехах, а я папашу со спокойной совестью на тот свет отправил. И до сих пор это за грех не держу. Случись снова – еще раз бы его, змея, порешил и не задумался. Бог-то там, наверху, может, и по-другому на все это поглядит… Ну, да мне все едино в аду гореть, что за папашу, что за другое – без разницы.
Насчет «другого» Софья спрашивать уже не рискнула.
– Ну что, совсем застращал, что ли, тебя? – с досадой пробурчал Мартемьянов, словно угадав ее мысли. – Коль сукин сын да сволочь, так и скажи… Не помру, небось, всякое слушал. Да на правду и не обижаются.
– Не мне тебя судить, Федор Пантелеевич. – Против воли Софьи ее голос прозвучал резко, и Мартемьянов недоверчиво усмехнулся в темноте, но ничего не сказал. А Софья, переведя дыхание, вполголоса произнесла:
– Знаешь… моя мама убила отца. Она пленная черкешенка была, отец ее с войны привез. Мама так русский язык не выучила и ему ни одного слова за все время не сказала. Двенадцать лет с ним прожила – и убила, зарезала ножом. А сама утопилась. И никто не знает почему. Мне Никитишна, нянька моя, рассказывала, что мама Сергея, моего брата, очень любила, а отец его из имения в Пажеский корпус отправил. И мама… не простила. Анна, сестра моя, – камелия, ее весь уезд падшей женщиной называет, теперь вот и я такая же. А Сергей меня, сестру родную, тебе в карты проиграл – помнишь?
– Так, Соня… Я пьяным был вовсе, каялся уж тебе в том…
– А я не тебя виню. С тебя какой спрос, Сергей думать должен был… Хотя он о нас в жизни своей ни одной минуты не думал. А моя сестра младшая, Катя, его пьяного в доме заперла и подожгла. И не спасли.
– Я про то тоже помню…
– А я… в Угру с обрыва кинулась. Только чудом жива осталась. А этот-то грех страшней всякого считается… Выловили бы после баграми да за кладбищенским забором, как собаку, похоронили… А ты меня святой называешь. А то, что я вот тут с тобой лежу, – это что?! Кто богу не грешен, Федор Пантелеевич? Молись…
– Не могу, – хрипло, не сразу отозвался он.
«Я тоже», – подумала Софья. Но промолчала, потому что Федор медленно, словно боясь, опустил голову ей на грудь. Софья так же медленно положила ладонь на его курчавые, взлохмаченные волосы. И долго-долго не шевелилась, глядя на то, как светлеет стена возле кровати и как появляются на ней размытые тени ветвей и шпилей собора, пока не услышала мерное, спокойное дыхание спящего. Первый бледный луч уже скользнул через подоконник, когда Софья шепотом позвала:
– Федор Пантелеевич…
Ответа не было: Мартемьянов спал. Софья как можно осторожнее переложила его тяжелую, словно чугунную, голову на подушку, бесшумно поднялась с постели и подошла к окну, за которым уже проявлялся в рассветных лучах чужой, незнакомый город. Створки окна были открыты, на подоконнике бисерным налетом лежала роса. Софья собрала ее ладонями, протерла лицо, шею, жалея, что росы не хватит на все тело, ноющее словно после дня тяжелой работы, откинула назад перепутавшиеся волосы. Глядя на поднимающуюся над черепичными крышами ленивую золотисто-розовую зарю, вспомнила, как полгода назад вот так же смотрела на рассветные облака с берега Угры, и стоящий рядом человек с широкими плечами и спокойными серыми глазами на темном от загара лице обещал, что найдет ее, Софью, где бы она ни была. «Бог вам судья, Владимир Дмитрич», – подумала она. Хотела было улыбнуться, но горло сжала судорога, и Софья, опустившись на пол у окна, беззвучно заплакала.
Катерина Грешнева сидела, поджав под себя босые ноги, на разобранной постели в дешевой, полной клопов гостинице города Одессы. Из небрежно заплетенных черных кос неряшливо выбивались растрепанные пряди; зеленые глаза смотрели в стену. Взгляд Катерины был недевичьи жестким. Глаза ее, никогда не смеющиеся, не выражали ничего, и из-за этого младшая из сестер Грешневых казалась старше своих неполных шестнадцати лет. Сейчас ее, видимо, ничего не интересовало больше, чем замысловатая трещина на дешевых желтых обоях. В странном оцепенении Катерина думала, что трещина очень похожа на ее родную реку Угру, изображенную на карте. Размышлять о трещине, карте и Угре, разумеется, было глупо, но о Ваське, который только что проснулся и сидел на полу, держась за всклокоченную голову, мучимый жесточайшим похмельем, думать хотелось еще меньше.
– Сука, денег, говорю, дай… Похмелиться надо… – стонал он, раскачиваясь из стороны в сторону, как татарин на молитве.
– Обойдешься.
– Дай, говорю, хоть на похмель, помру же, ей-богу…
– Похороню.
– У, су-у-ука…
Катерина в упор посмотрела на сидящего на полу Ваську, встала и ударила его ногой в челюсть. Он завыл, опрокинулся на спину, перевернулся на бок и сделал было попытку подняться, но ему это не удалось. Катерина еще раз брезгливо взглянула на парня, сунула ноги в ботики, накинула на плечи шаль и вышла.
Вскоре она вернулась. Бросила на стол полкаравая серого хлеба и кольцо колбасы, аккуратно поставила деревянный, дурно пахнущий ковш с холодными кислыми щами.
– Похмеляйся. Жри.
Васька, еще сидевший на полу и осторожно трогавший челюсть, исподлобья, мрачно посмотрел на нее, но Катерина даже не заметила этого взгляда. Она снова взобралась с ногами на постель и уставилась в окно, за которым занималось серое, неожиданно холодное для крымского мая утро.
Полгода прошло с тех пор, как сгорел дом в Грешневке. О нем Катерина ничуть не жалела; как и о брате Сергее, которого она своими руками заперла в верхних комнатах перед тем, как поджечь родное жилище. Это было в тот же день, когда проезжий купец «купил» у Сергея среднюю сестру Софью. Соня бросилась в Угру. Катерина не знала, что сестру спасли. И отомстила как смогла. При воспоминании об этом на тонких губах девушки показалась хмурая улыбка, и наблюдавший за Катериной с пола Васька на всякий случай отодвинулся подальше. Она, заметив его движение, жестко усмехнулась. Вспомнила Мартыновский приют, куда ее удалось пристроить, минуя суд и тюрьму, благодаря покровителю старшей сестры. Серое, мрачное, сырое здание, бледные личики воспитанниц, работа от темна до темна, плохая еда… Катерина сбежала из приюта через несколько месяцев, прихватив с собой немалые деньги, похищенные из кабинета начальницы. Разумеется, сама бы она с этим не справилась, ей помог Васька – семнадцатилетний жулик с наглыми желтыми глазами и ухватками помойного кота. Они познакомились случайно в глухом углу приютского парка, куда Катерина забрела во время прогулки, а Васька забрался через забор с узлом после очередного «дела»: непролазные приютские кусты были прекрасным местом для «схорона» краденого. Катерина поклялась никому не говорить об узле в кустах, Васька, в свою очередь, пообещал «зайти вдругорядь». Через два месяца, в рождественскую ночь, они вдвоем ограбили кабинет начальницы приюта и бежали. Денег оказалось много, велик был риск того, что воров станут искать, и Васька предложил «подорвать в Одессу». Катерина согласилась. Через неделю в зимней, пасмурной, продуваемой морскими ветрами Одессе она с помощью Васьки утратила девственность и после долго еще удивлялась про себя, почему из-за такого пустяка всегда поднимается столько шума. Катерина не была влюблена в Ваську ни на грош, но понимала, что в новой рисковой жизни, в которую она ввязалась, у ее дружка гораздо больше опыта, а значит, имеет смысл пока придержать парня около себя. В самом деле, Васька, дитя московского Хитрова рынка, выросший на улице и с пяти лет стоявший «на стреме», пока взрослые воры работали, к своим семнадцати годам уже на полном основании считал себя «фартовым человеком». Украденные в приюте деньги Катерина сразу же разделила пополам, что Ваське очень не понравилось, но девушка настояла и позже убедилась в правильности этого решения. Со своей частью дружок поступил так, как было принято поступать настоящему «козырному»: за месяц он спустил все в ресторанах, притонах и публичных домах. Катерина ему не мешала. Она купила себе несколько приличных платьев, собачью ротонду на зиму, ботинки, салоп, несколько раз наелась до отвала в трактире – и на большее, хоть убей, у нее не хватило фантазии. До пятнадцати лет она жила в Грешневке почти впроголодь, вместе с сестрами считая каждую копейку, донашивая платья за Софьей, бегая до первого снега босиком, как деревенские девки, и считала невероятной глупостью бросать деньги на ветер, когда еще неизвестно, что будет завтра. Сейчас у Катерины оставалось около семисот рублей, деньги, на ее взгляд, огромные. Что с ними делать, она не знала и уже устала каждый день перепрятывать их в новое место – от Васьки. Тот злился, но настаивать, чтобы подружка поделилась с ним, не решался – после того, как однажды во время ссоры Катерина швырнула в него бутылкой, пролетевшей рядом с ухом. Бутылки Васька бы не испугался, поскольку в уличных драках видал и не такое. Но его привел в ужас сухой страшный блеск зеленых Катерининых глаз. Васька подозревал, что в случае необходимости подружка убьет его не моргнув глазом.
Поев и напившись с гримасой отвращения кислых щей, Васька почувствовал себя лучше. Он переместился с пола на кровать, обнял Катерину за плечи и потянул на себя, но та, не глядя, оттолкнула его локтем.
– Пошел… К шалавам своим иди.
– Эва… Взревновала, што ль, дура? – ухмыльнулся Васька.
Катерина не обернулась.
– Денег дай – пойду! – разозлился он. – Шалавам деньги нужны!
– Поди достань.
– Тьфу, зараза! Есть ведь у тебя!
– Есть не про твою честь. Скажи лучше, что делать будем?
– Сухари сушить! – окончательно вышел из себя Васька. – Что без денег делать-то можно? Только тараканьи бега устраивать! Воротимся в Москву, может?
Катерина не ответила. Она уже думала об этом. Но возвращаться ей было некуда. Дом сгорел, в Москве ее, кроме Анны, никто не ждал. Да Катерина и не была уверена, что сестра обрадуется ее появлению. Ведь покровитель Анны, Петр Ахичевский, год назад пристроил Катерину в Мартыновский приют и поручился за нее. Наверное, у него были неприятности после побега юной воровки, и они могли сказаться на Анне. Вдруг она теперь и знать не захочет свою младшую сестренку?.. Неожиданно за окном послышались резкие хлопки: один, другой, третий… Катерина, вздрогнув, очнулась от своих мыслей, повернулась к Ваське. Тот, перехватив ее взгляд, ухмыльнулся:
– Палят, кажись…
– Кто? – недоуменно спросила Катерина, вставая и направляясь к окну.
Гостиница имела дурную репутацию, в ней было полно сомнительных личностей – от уличных девиц и их «котов» до скупщиков краденого, – нередко случались драки с поножовщиной, но до пальбы на памяти Катерины еще не доходило. Выглянув в окно, она увидела, что во внутреннем дворе столпилось множество людей и бегают жандармы. Не успела Катерина сообразить, что бы все это могло означать, как Васька оттащил ее в сторону:
– Сполоумела, дурища? Пуля – дура, не глядит куда летит! Словишь еще желудя в печенку, так…
Договорить он не успел: из-за двери послышался нарастающий треск и грохот. Кто-то сломя голову мчался по коридору, и гнилые доски пола скрипели и трещали на весь этаж. Васька и Катерина только переглянулись – а старая щелястая дверь номера уже распахнулась, и на пороге вырос взъерошенный, тяжело дышащий парень лет двадцати пяти. Черные волосы его были всклокочены, а по грязной, разорванной почти до пояса рубахе расползлось алое пятно. Светлые глаза в упор, без удивления, без страха уставились на Катерину. Та так же молча смотрела на него.
– Урка али политический? – первым обрел голос Васька.
– Урка, – хрипло ответил парень. – Я – Валет…
– Какой масти будешь?
– Не знаешь Валета?! – удивился, едва переведя дыхание, пришедший. – Ты откеля вылупился-то, сявка подноготная?
Не ответив, Васька вскочил и распахнул окно: в комнату ворвался поток сырого, холодного воздуха.
– Сигай, фартовый! Там в переулки выход есть!
Валет бросился было к окну и тут же отпрянул. По его измазанному грязью и кровью лицу пробежала судорога:
– Высоко… Подбитый я, на подрыве не уйду…
Васька растерянно посмотрел на Катерину, но та, не замечая этого, в упор глядела на Валета. Всего мгновение. А затем отрывисто велела:
– Снимай сапоги.
Тот быстро, без возражений, стянул новые шевровые сапоги.
– Под кровать лезь.
И это было исполнено мгновенно. За дверью уже слышался нарастающий топот и крики: «Сюда бежал! В шашнадцатый!» Катерина сорвала со спинки стула свою рубашку, проворно вытерла капли крови на полу, схватила один из сапог и метнула его в окно. Прикрытая створка со звоном брызнула осколками, а Катерина вдруг толкнула Ваську так, что он мешком повалился на постель, и завопила как резаная:
– Ай, убивец, что ж твори-и-и-ишь?! Ай, поможите-е-е-е!!!
Тут распахнулась дверь, и в комнату ворвалась разгоряченная толпа жандармов. Их взглядам предстало разбитое окно, испуганный парень, лежащий на кровати в одном исподнем, и дико орущая девчонка с круглыми от ужаса глазами. Дрожащей рукой она показывала на подоконник, где в россыпи битых стекол валялся сапог.
– Ворвался, как варнак! И в окно! А потом вниз! Ужасти, напугал-то как… Ой, батюшки, спасите, ой, схороните, крещеные люди! – захлебывалась Катерина совершенно деревенским бабьим визгом, который виртуозно имитировала еще в Грешневке. Васька, у которого за подружкиными решительными действиями с трудом поспевали мозги, все же сумел в подтверждение затрясти головой и сесть на постели так, что одеяло свесилось до пола. Преследователи кинулись к окну, уверились, что их жертва наверняка смылась по крышам (в доказательство внизу, на жестяной крыше скобяной лавки, лежал второй сапог), и, ругаясь и обвиняя друг друга, гуртом вывалились в коридор. Ни Ваську, ни Катерину никто ни о чем не спрашивал, и Катерина сама, как ни пытался Васька удержать ее, выскочила за «служивыми»:
– Дяденьки, а кто это был-то? Скажите, страх как интересно!
– Вестимо кто, мазурик… – неохотно выговорил старый пристав, которого Катерина поймала за рукав рыжей от времени шинели. – Да сбежал, и бог с ним… Хоть не порешил никого боле, и тебя, дивчинка, не тронул.
– Нешто мог бы?! – всполошилась Катерина, убедительно хлопая ресницами.
– А то! Он со своеми молодцами ювелирный на Ришельевской брали, да неудачно малость, полиция нагрянула. Те-то попались, а энтот, Валет, вывернулся да дунул переулками. Завсегда уходит, подлец, прямо песочком скрозь пальцы вытекает! Планида, стало быть, у него такая счастливая…
– Ах, ужасти… Беда-то какая… Ах, пронеси, господи… – сокрушалась Катька в спину уходящим жандармам. Когда же коридор опустел, она вернулась в номер, быстро заперла дверь, подергала ветхую ручку, проверяя – надежно ли, села на корточки рядом с кроватью и негромко сказала:
– Чисто, вылезай.
Долгое время из-под кровати не доносилось ни звука.
– Эй, ты не помер там, фартовый? – забеспокоился Васька.
– Живой небось… – послышалось в ответ, и Валет, морщась от боли, вылез из-под одеяла. Теперь его рубаха была сплошь красной, из-под кровати вслед за ним протянулась кровавая полоса.
– Подстрелили тебя? – спросила Катерина.
– Не… осколки. Когда в витрину в ювелирном сигал.
Катерина принесла таз, воды в кувшине, методично изорвала на длинные лоскуты свою рубашку, подозвала Ваську:
– Помоги.
Тот нагнулся было, чтобы помочь Валету сесть на полу, но тот досадливо отстранил парня и сел сам, прислонившись спиной к кровати. Только сейчас Катерина заметила, что у нежданного гостя довольно привлекательная физиономия, которую не портили даже налет бледности и болезненная гримаса. Резко обозначенные скулы и слегка выдвинутая вперед нижняя челюсть придавали этому лицу жесткое выражение. Особенными были глаза вора: светло-серые, почти прозрачные, глядящие даже сейчас прямо, холодно и нагло. Но Катерина не смотрела в его глаза: сев на пол, она деловито задрала отяжелевшую от крови рубаху и принялась обмывать длинный, сочащийся кровью порез.
– Осторожней, шалава… – прошипел Валет, морщась от боли.
– Мать твоя шалава, – спокойно сказала Катерина, не отрываясь от дела. – Терпи. Или пошел к черту.
– Язык отстрелю, – с угрозой произнес Валет.
Что-то шевельнулось в его руке. Катерина опустила глаза и увидела длинный вороненый ствол пистолета. Она смотрела на него не отрываясь, потому что впервые увидела оружие так близко. Валет принял этот взгляд за испуг и чуть усмехнулся.
– Эй, ты, как тебя… Валет! – неуверенно встрял побледневший Васька. – Машинку убери, маруху мне не пугай! Мы тебя не звали! Ежели моя Катька снервничает – мало никому не будет!
– Тебя Катькой звать? – спросил Валет, даже не посмотрев в сторону Васьки. Та подняла глаза… и вдруг широко и нежно улыбнулась прямо в лицо вору. Тот всего на миг растерялся от этой улыбки… и тут же водопад ледяной воды из кувшина хлестнул ему в лицо, а пистолет, выбитый Катерининой ногой, улетел в другой угол комнаты, прямо в руки Ваське. Выругавшись сквозь зубы, Валет вскочил было, но отпрыгнувшая Катерина, держа в руках жестяной таз, очень спокойно предупредила:
– Прикусись. Ты – раненый, а нас двое, и машинка у нас.
В конце концов Валет понял, что девчонка права, и без единого слова, глядя в пол, сел на место. Катерина как ни в чем не бывало продолжила перевязку.
– Как уходить думаешь? – закончив, поинтересовалась она. – Коридором?
– Ага, сейчас… – хмыкнул, не поднимая глаз, Валет. – В окно утеку.
– Не боишься?
– Теперь уж нет. Свалили легаши, внизу ловить некому. Скажи своему коту, пусть машинку отдаст.
– Прыгай в окно, а я следом ее выкину.
Возражать Валет не стал. Поднявшись на ноги, он покачнулся – видимо, кружилась голова от потери крови, – но все же собрался с силами и шагнул к окну.
– Подержи, – не поворачиваясь к Катерине, приказал он. Она подошла, чтобы придержать створку окна… и в ее бок уперлось колючее острие ножа.
– А ежели так, девочка? – тихо, улыбаясь, спросил Валет. Васька в углу комнаты обратился в соляной столп. Катерина, подняв голову, посмотрела на Валета зелеными, ничего не выражающими глазами, и тот уважительно усмехнулся: – Что – взаправду не боишься?
– Нет.
– А ежели зарежу?
– Зачем?
– Да так… для забавы? – Валет больше не улыбался, и у наблюдавшего за этим Васьки похолодела спина. Да что ж за дура, зачем она его дразнит, лихорадочно думал он, пытаясь сообразить, что делать, и напрочь забыв, что в руках у него пистолет.
– Стало быть, дурак выходишь, – пожала плечами Катерина. Спокойно отвела от своего бока лезвие, чуть поморщилась, порезав ладонь, и широко распахнула скрипнувшую створку окна. – Тикай, голубь. Время дорого. Машинку следом отправлю.
Мгновение Валет стоял неподвижно, в упор глядя на Катерину и странно улыбаясь. Затем тряхнул встрепанной головой, спрятал лезвие, негромко сказал: «Ну, добро…» – и взвился на подоконник. Глухо ухнула внизу жесть крыши, заорала испуганная кошка. Катерина быстро взяла из рук Васьки пистолет и, примерившись, бросила его вслед Валету. Удар. Затем – короткий свист: Валет дал понять, что оружие попало по назначению. Потом наступила тишина. На всякий случай Катерина поприслушивалась немного, но из колодца двора и с крыш не доносилось более ни звука, и она, прикрыв окно, отошла в глубь комнаты. В ту же минуту Васька завопил:
– Да что у тебя, мозги расквасились?! Тетеря! Нашла перед кем фасон давить! Ить порезал бы он тебя в лапшу, а я бы опосля веничком собрал!
– Замолчи, – коротко произнесла она, ложась на развороченную постель и закидывая руки за голову. Порезанная ладонь слегка кровоточила, но Катерина то ли не замечала этого, то ли не обращала внимания. – Иди куда-нибудь, а?.. Слушать тебя тошно.
– Куда я пойду, дура?!. – опешил Васька.
Катерина приподнялась. Сунула руку под ворот висящего на стуле платья, вытащила семь радужных сотенных бумажек и, не вставая с постели, протянула их Ваське:
– Ты к шалавам хотел? Вот и ступай. И… чтоб не видела я тебя больше. С богом, прощай.
Васька с минуту медлил, напряженно вглядываясь в лицо лежащей Катерины и соображая: всерьез она говорит или издевается. Но смуглое лицо на подушке было безмятежным, зеленые глаза – закрытыми, и парень, выругавшись напоследок, сдернул с гвоздя картуз и быстрыми шагами вышел вон. Оставшись одна, Катерина отвернулась к стене и, не утрудив себя уборкой в комнате и вытиранием лужи на полу, тут же уснула.
Васька не явился ни через неделю, ни через десять дней. Уже сильно потеплело, в разбитое окно, которое никто не удосужился застеклить (Катерине и в голову не приходило попросить об этом, она попросту заткнула дыру подушкой), вплывал запах моря и цветущих деревьев. На одиннадцатый день Васькиного отсутствия она проснулась от жгучего солнечного луча, упавшего из окна на ее лицо. Вся маленькая грязная комната была полна солнцем, на улице звенели детские голоса, сладко пахло акацией, и даже унылые вопли точильщика: «Ножи-нож-ж-жницы заточаи-и-им…» гармонично вплетались в картину южного весеннего утра. Катерина встала, оделась и, не задумываясь, куда и зачем отправится, вышла из гостиницы.
Дойдя до угла, она взяла пролетку и уехала за город – туда, где кончались даже одноэтажные нищие развалюшки, сложенные из песчаника и обломков бревен, где начиналась желтая степь, белые утесы, поросшие полынью, море и тропа вдоль обрывистого берега. Катерина рассчиталась с извозчиком и пошла дальше пешком. Новые ботинки, надетые в первый раз, немилосердно жали, и она, едва дождавшись, когда пролетка скроется с глаз, сбросила обувь и, взяв ботинки в руки, привычно зашагала по твердой, каменистой, прогретой почве босиком. Степь, только начинающая зацветать голубыми и золотистыми шариками гусиного лука, была пустынной, только далеко-далеко, на большаке, виднелась какая-то повозка, запряженная совсем уж крошечными коняшками; когда ветер дул в сторону Катерины, слышалась заунывная песня возчика, но и она заглушалась непрерывным треском саранчи и птичьим стрекотанием. Небо, прозрачно-синее, с чуть заметной полоской облаков у кромки горизонта, куполом опрокидывалось над степью и морем. Пронзительно, отрывисто кричали чайки, падая из этой высоты прямо в воду и тут же поднимаясь вверх. Вслушиваясь в идущий со всех сторон весенний гомон и запрокидывая голову, чтобы ощутить на лице горячее прикосновение солнца, Катерина вдруг почувствовала, что улыбается. Этого не случалось так давно, что она даже испугалась и остановилась на минуту, чтобы убедиться: да, в самом деле…
Вокруг не было ни души. Белые глыбы утесов уходили к морю, между ними вилась чуть заметная тропинка, и Катерина, прыгая, как коза, цепляясь за стебли прошлогодней полыни, спустилась к самой воде. Походив босиком по мокрой полосе песка, на которую с шелестом накатывали короткие волны, она решила, что вода теплая, и захотела искупаться. Перед тем как раздеться, Катерина еще раз осмотрелась: никого. Только кричали чайки и высоко-высоко, едва различимой точкой в режущей глаза синеве парил ястреб. Катерина сбросила платье, оставшись в одной рубашке, пристроила одежду между двумя камнями и пошла к воде.
Короткий свист, раздавшийся за спиной, не напугал ее. Катерина лишь досадливо передернула плечами: все-таки принесло кого-то… Не выходя из моря, куда она уже зашла по колено, Катерина обернулась. Возле залитого солнцем, выщербленного утеса стоял, широко расставив ноги и улыбаясь, Валет. Солнце светило ему в спину, а Катерине – в лицо, и она, щурясь, не сразу узнала нежданного зрителя. А узнав, без удивления спросила:
– Ты откуда здесь?
– За тобой шел, – спокойно, не скрываясь, пояснил он и шагнул ближе. – Был у гостиницы, видал, как ты на коняшнике укатила, следом поехал. Потом бачу – куда-то тронулась на своих двоих, думаю – зачем? Пошел следом, а она – купаться! Не холодно? Даже наши еще не лезут…
– Нет. Теплая вода.
Валет подошел вплотную. Казалось, он вовсе не замечает того, что Катерина в одной рубашке. Сам он был одет как совсем не бедный городской мещанин: в летнюю пару английского сукна, из-под которой виднелась тонкая полотняная сорочка, с мягкой шляпой в руке. О грязном, перепачканном кровью, взъерошенном босяке, ворвавшемся десять дней назад в гостиничный номер Катерины, напоминали только наглейшие серые глаза на темном от еще прошлогоднего загара лице.
– Зачем приходил, чего хотел? – немного удивилась Катерина.
– На тебя посмотреть, – без улыбки ответил он.
Катерина нахмурилась. Пожала плечами.
– Ну… смотри.
Сказала – и снова пошла в море. На глубине оно было вовсе не таким теплым, как у берега, но охоты купаться все-таки не отбивало. Катерина уже зашла по шею и обеими руками закручивала, чтобы не намочить, на затылке косы, когда услышала за спиной плеск воды и, обернувшись, увидела в двух шагах Валета.
– Слушай, девка, холодно! Куда тебя несет? Застынешь!
– Холодно – вылезай, – пожала она плечами и, вся вытянувшись, легла на воду.
Валет тут же двумя сильными гребками догнал ее, и дальше они поплыли вдвоем.
Плавала Катерина хорошо, с детства привыкнув бултыхаться вместе с деревенскими в Угре, которая, закладывая излучину возле Грешневки, имела там довольно сильное течение. Сейчас же плыть по спокойному, соленому, гладкому морю под жарким солнцем показалось ей до смешного легко, и она, почти не устав, уплыла так далеко, что берег за ее спиной превратился в едва различимую полоску. Валет не отставал, хотя поглядывал на Катерину с беспокойством:
– Слушай, утонешь ведь с непривычки!
– Сам не утони.
– Дело говорю, поворачивай! Обратно завсегда труднее!
– Сам поворачивай.
– Я-то выплыву, а ты?
– Я тем более.
– Да вертайся ж, скаженная, говорят тебе!
– Отвяжись! – Катерина безмятежно гребла вперед, солнце и соленые брызги обжигали лицо, вода опять казалась теплой. Берега уже не было видно вовсе, в ушах шумело, но усталости она по-прежнему не чувствовала и не сомневалась, что без труда вернется обратно. Валет, больше не пытаясь образумить ее, молча плыл рядом.
Она не сразу поняла, что случилось. Правая нога вдруг куда-то пропала: Катерина перестала ее чувствовать. Это было настолько четкое ощущение, что она с беспокойством посмотрела вниз и убедилась, что нога на месте. Но что-то все же произошло: правая, а почти сразу за ней и левая ноги перестали слушаться хозяйку, и, едва осознав это, Катерина с головой ушла в глубину. Спохватившись, девушка с силой ударила руками по воде, выскочив чуть не до пояса, но ноги не оживали, и снова голубая безмятежная вода накрыла ее с головой.
На этот раз она бы не выплыла сама, но жесткий удар под лопатки вытолкнул ее на поверхность. Выплевывая воду и почти ничего не видя, Катерина едва разглядела рядом с собой мокрую, встревоженную физиономию Валета:
– Чего ты, Катька? Ноги свело?
Она не смогла ответить, но Валет все понял и сам.
– Ша-а! Ша, говорю, не полошись только! Слякаешься[2] – наверняка утопнешь! Я ж здесь, с тобой, все путем! Вот, за плечо держись, погребли обратно! Тока не пихайся, слободно на мне виси. И дыши! Все, заворачиваем, держись!
Обратной дороги Катерина почти не помнила. От давно не испытываемого ужаса судорогой свело горло, она едва могла дышать. Страшно ей было не того, что она чуть не утонула, а этого необъяснимого отсутствия обеих ног. «Как же мне теперь ходить? – словно сквозь сон думала Катерина, цепляясь за скользкое, мокрое плечо Валета, сосредоточенно «режущего» сквозь волны к берегу. – Что ж со мной будет? Милостыню теперь только просить на паперти…» Солнце било в глаза, и без того воспаленные от морской соли, но зажмуриться Катерина боялась и из последних сил помогала Валету свободной рукой, расталкивая ставшую внезапно плотной и холодной воду. Берег уже был ясно различим, когда Валет, Катерина резко почувствовала это, начал терять силы.
– Холера, ведь потонем… – пробормотал он.
– Не бросай меня… – попросила Катерина. Валет повернул к ней изумленное лицо, и она, поняв, что ничего подобного ему в голову не приходило, разом воспрянула духом. И начала уговаривать его – такими словами, которых никогда в жизни не произносила вслух: – Миленький, родненький, сердечко, ну еще немножко… Вон уж берег виден, сейчас потихоньку доберемся, ты не рвись, не рвись… Мальчик мой хороший, давай понемножечку, я тебе помогу, мы вместе… мы… Вот так, еще маленько, ненаглядный мой, еще немножечко, яхонтовый… У нас получится, уж близко совсем, не спеши, я тоже плыву… Руками плыву же…
Валет смотрел на нее совершенно дикими глазами, но молчал, сохраняя силы, и, яростно оскалив зубы, разрезал сильными гребками воду. Катерина не почувствовала сведенными судорогой ногами дна и завопила от страха, когда Валет вдруг встал. Она упала бы, не поймай он ее на руки. Шатаясь, Валет вышел из воды, без всякой нежности сбросил Катерину на полосу гальки и повалился рядом. Несколько минут они лежали не шевелясь, словно выброшенные на берег медузы. Сверху палило солнце, пронзительно кричали чайки, но Катерина не слышала их: в ушах по-прежнему шумела вода.
Все же она первая пришла в себя и, морщась от боли во всем теле, уселась. Испуганно уставилась на свои ноги, в которых не виделось ничего необычного. Катерина осторожно потрогала правую ногу ладонью и чуть не взвыла, не почувствовав собственного прикосновения.
– Да что ты ее мацаешь, рази так надо… – послышался сиплый, недовольный голос рядом, и Валет, с трудом поднявшись на руках, сел напротив. Он взял в ладони Катеринину ногу и начал тереть. Тер он сильно, не жалея, это было видно по напрягшимся желвакам на его скулах, но прошло несколько долгих минут, прежде чем Катерина слабо, а затем все сильней и сильней начала ощущать этот массаж. Вскоре она зашипела от боли:
– Да потише ты… Оторвешь!
– Ну вот, оживела! – с удовлетворением сказал Валет и тут же взялся за другую ногу. Наконец, Катерина, морщась, смогла сама подтянуть обе ноги к груди и усесться. Несмотря на жару, ее колотило от озноба, и, как ни старалась она стискивать зубы, они все равно выбивали барабанную дробь. Валет, заметив это, усмехнулся, встал и отошел к брошенной на камни одежде, вернувшись с маленькой плоской фляжкой.
– Пей давай.
– Это вино?..
– Метакса. Пей, зараз прошибет.
Что такое «метакса», Катерина не знала, но послушно хлебнула темной, показавшейся ей маслянистой жидкости и чуть не задохнулась от неожиданной горечи. Но Валет замахал рукой – пей, мол, – и она через силу сделала еще несколько глотков. По телу пошла теплая живая волна, озноб отпустил, зубы перестали стучать. Валет, взяв у Катерины фляжку, двумя большими глотками допил остатки, с шумом выдохнул и растянулся вниз лицом на песке:
– Да, мать, впору свечку ставить…
– Что это такое было? – спросила Катерина, все еще с подозрением глядя на свои ноги. – Они вдруг куда-то делись…
– Известное дело, судорога. Вода-то весенняя, поверху теплая, а внизу еще холодно, вот ноги и схватило. Я тебе сколько разов говорил: «Вертайся!» – а ты?!
Катерина молча потянулась к нему и, прежде чем Валет догадался о ее намерениях, закрыла ему рот поцелуем. Спроси ее в тот миг, зачем она это делает, Катерина не смогла бы ответить. Самой поцеловать Ваську ей ни разу не пришло в голову за все полгода их знакомства, да и его ласки особенной радости тоже не доставляли. Не было большого желания заниматься этим и теперь, но она не знала, как еще поблагодарить своего спасителя. Растерявшийся сначала Валет очень быстро пришел в себя, ответил на поцелуй, и вскоре Катерина обнаружила, что она лежит на песке, что в спину колются ракушки, что небо и море загородил склонившийся над ней мужчина с серыми холодными глазами и что его руки очень уверенно путешествуют по ее телу. Протестовать не было смысла, и Катерина не стала это делать. К ее удивлению, ей оказались очень приятны прикосновения твердых, теплых, соленых от морской воды губ Валета. С Васькой она такого не испытывала и сейчас даже не замечала, что отвечает на эти поцелуи все сильнее и сильнее, обхватив мужчину обеими руками и чувствуя, как напрягаются под ее пальцами его твердые мускулы плеч и спины. А потом по всему ее телу медленно поползла незнакомая горячая судорога, и Катерина, словно со стороны слыша собственный низкий, звериный стон, прижалась к Валету намертво.
– Как ты это сделал? – спросила она, когда к ней вернулась способность говорить.
Оба лежали на гальке у самой воды, чудом не укатившись в море: Катерина – на спине, Валет – ничком, его встрепанные черные волосы оказались сплошь засыпаны песком. Вокруг по-прежнему не было ни души, сверху тревожно кричали чайки, раскалившееся добела солнце отражалось от утесов.
Валет, не поднимаясь, повернул к ней еще усталое, но довольное лицо.
– Понравилось, что ль?
– Да, – честно призналась Катерина. – Что это такое?
Валет пристально, без улыбки посмотрел в глаза Катерины, и она не поняла, что значит его долгий, напряженный взгляд. Наконец, мужчина отвернулся. Глядя в сверкающее море, спросил:
– Годов тебе сколько?
– Шестнадцать.
– Этот шкет из гостиницы тебе кто?
– Васька? – Катерина даже не сразу сообразила, о ком он говорит. – Никто.
– Почему ты с ним?
– Так надо было. – Внезапно Катерина умолкла. И тут же сказала, глядя на живот Валета: – У тебя кровь.
– От холера… – без испуга произнес он, проследив за ее глазами и заметив, что десятидневной давности царапина разошлась и по коже его ползет узкая лента крови. – Ничего. Это пустое, зараз кончится.
Катерина придвинулась и, прежде чем Валет успел остановить ее, ловко и быстро, как животное, зализала царапину. Несколько раз он вздрогнул от боли, но не отстранился. Затем обнял Катерину за худые смуглые плечи и притянул к себе. Она не сопротивлялась. Подняв к Валету лицо, заинтересованно спросила:
– Почему ты там, в номерах, в меня ножом тыкал? Я ведь тебя сдавать не собиралась, напротив…
Катерина задала вопрос лишь потому, что ей действительно было интересно: никакого логического объяснения тому поступку Валета она не нашла, хотя несколько дней кряду думала об этом. И сейчас, внимательно глядя в его глаза, она с изумлением заметила, что вор покраснел.
– Ну… Ни к чему оно, конечно, было… – отворачиваясь от ее пытливого взгляда, проворчал Валет. – Ты смотри, не кажи никому. Тогда вот, ей-богу, в самом деле убью!
– Но почему?! – еще больше удивилась она.
– От дура… – натянуто рассмеялся Валет. – Да меня вся Одесса знает, опозоришь по всей стати… Я тогда и так со страху вскрученный был, шобла легашей на хвосте висла, а тут еще девчонка сопливая моей же машинкой мне в рыло тычет… Ежели кто из урканов узнает – со стыда помру.
Катерина пожала плечами, так ничего и не поняв, но серьезно пообещала:
– Хорошо, я никому не скажу. Да я ведь тут и не знаю никого.
Валет, приподнявшись на локте, внимательно взглянул на нее.
– Ты по-господски говоришь. Не из простых, что ль?
– Я по-всякому говорить могу. Но ты прав. Я графиня.
– Угу… соломенная! – ухмыльнулся Валет.
Катерина не настаивала на своем, но, когда он минуту спустя, гладя ее перепутавшиеся, жесткие от соли волосы, попросил: «Расскажи, откель взялась-то на мою голову», спокойно и без утайки поведала все. Начиная с поджога батюшкиной усадьбы и заканчивая ограблением Мартыновского приюта. Валет выслушал, ни разу не перебив, и если бы Катерина посмотрела на него, то заметила бы, как напряжено его жесткое лицо. Но она не смотрела. А закончив, сразу же, без перехода, заявила:
– Слушай, я есть ужасно хочу.
– Мидию схряпчишь? – спросил Валет, расколов о камень сизую раковину и протягивая Катерине перламутровые створки. В Грешневке она могла питаться даже подгнившей морковью, но сейчас, покосившись на моллюска, в ужасе отшатнулась. Валет захохотал, съел мидию сам, за ней – вторую и третью, мимоходом заметив, что еще бы посолить, и цены б им не было, и, быстро вскочив на ноги, начал одеваться: – Дойдем до города – в ресторан двинем!
В ресторан Катерине, никогда прежде там не бывавшей, вовсе не хотелось, но спорить она не стала и попросила Валета:
– Помоги крючки застегнуть.
До ресторана они не добрались: едва оказавшись в городе, Катерина, как голодная собака, прямо пошла на запах съестного, приведший ее к дверям крошечной и грязной греческой таверны, где подавали жареных бычков, макрель, помидоры, картошку, хлеб и дешевое молдаванское вино «фетяску». Валет, который сам был голоден не меньше, не стал спорить, и, к великой радости хозяина, они наперегонки умяли почти все, что готовилось на огне. Ела Катерина жадно, руками и ножом, лишь изредка спохватываясь о том, что надо бы потише чавкать, и тут же забывая об этом. Валет изредка взглядывал на нее через стол своими светлыми глазами, ел не торопясь, иногда перекидываясь греческими фразами с пузатым хозяином, хлопочущим у жаровни с коптившейся рыбой.
– Ты грек? – невнятно (рот был забит) спросила Катерина.
– Я – всего понемножку, – отшутился Валет. – Да ты не спеши так, не отыму небось. Натрескаешься – пойдем тебе платье купим.
– Зачем? У меня в гостинице есть…
– Вот такие же? – ухмыльнулся Валет, глядя на простое черное саржевое платье, все в разводах от морской соли: Катерина натянула его прямо на непросохшую рубашку.
– Не нравится? – удивилась Катерина, считавшая свой наряд великолепным.
– Нравится. Только моя маруха пошикарней одеваться должна.
Катерина подняла голову, в упор посмотрела на Валета. Подумала и улыбнулась.
– Хорошо. Как хочешь. Только я их носить не умею.
– Сумеешь, – уверенно произнес Валет. – Коли взаправду графиня – так кровь скажется. А в гостиницу лучше и вовсе не возвертайся, чего там тебе делать-то?
В гостинице у Катерины оставались вещи и пять рублей денег, но она решила забрать их позже и не спорить сейчас с Валетом, который, как ей подумалось, к возражениям не привык. К тому же, когда Катерина ела, она не могла заниматься чем-то другим.
Прямо у таверны Валет взял извозчика и приказал отвезти их в «чистую» часть города. Катерина увлеченно смотрела из пролетки на проплывавшие вдоль тротуаров белые и розовые домики за ажурными оградами, а ее спутник не менее увлеченно болтал с молодым «коняшником» о каких-то общих знакомых – Мойше со Слободки и Феньке Безногой с Мозгляковской. Но на Арнаутской, перед огромной зеркальной витриной с изысканной надписью «Салон моды мадам Вотье», он сразу же велел:
– Стой, Семка, нам сюда.
– Обождать?
– А обожди на всякий случай. Катька, руку давай, вылазь.
Катерина, уже примерившаяся было выпрыгнуть из пролетки без всякой помощи, спохватилась в последний момент и чинно протянула руку стоящему на тротуаре Валету. Они встретились глазами и одновременно рассмеялись. Расхохотался, глядя на них, и черномазый Семка на облучке:
– Валет, цигарку выплюнь, некозырно!
– Да иди ты, халамидник… Докуришь?
– А давай…
В большом магазине оказалось прохладно и пусто. Катерина, никогда раньше в таких местах не бывавшая и все свои платья купившая на толкучем рынке, даже растерялась и уже хотела шагнуть назад к высоченным стеклянным дверям, но Валет удержал ее за локоть и обратился к одной из модисток, расправляющей складки роскошного фиолетового атласа на манекене:
– Эй, Маруська, мадам-то где?
– Они с посетительницей в заднее зало ушёдши, новую материю глядеть… – отозвалась та. – А тебе чего приспичило, босяк? Рыбой с папиросами тута воняешь на все заведение… Уй, просю пардону, вы с да-а-амой, Сергей Назарыч! Что изволите посмотреть, мадемуазель? Мы только что получили новые фасоны из Вены и Баден-Бадена, просто уму сущее помраченье!
Катерина едва сдержала смех и, тут же почувствовав себя свободнее, непринужденно улыбнулась присевшей перед ней в книксене модистке.
– Маруська, ты мне из вот этой хайломызки должна благородную даму изделать, – озабоченно сказал Валет. – Так, чтобы ее спокойно к Фанкони можно было отвезти и еще куда.
– Ой, а молоденькие каки-ие… – всплеснула руками Маруська, посмотрев на Катерину. – Ну, таким все к личику будет, особливо французское… Сергей Назарыч, вы свои зенки наглые отселева уберите, подите займитесь чем-нибудь. Вы нам тута не нужные, правда же, мадемуазель? Позвольте вам сначала муар цвета «бразильский изумруд» любезно предложить, как раз к вашим глазкам подойдет… Извольте со мной идтить, ось сюда просю, на козеточку… Валет, да уберешься ты иль нет, биндюжная морда?!
Катерина, героически стараясь громко не хихикать, уселась на крошечный пуфик и принялась разглядывать платья, которые модистка одно за другим разворачивала перед ней. Девушке здесь понемногу начало нравиться все: и наряды, и тишина, и прохлада, особенно сильно чувствующаяся после жаркой улицы, и стакан ледяного лимонада, который специально принесли для нее, и слабый запах лаванды и каких-то знакомых горьковатых духов. Может, такие были у Анны? Нет, духи сестры, легкий аромат вербены, Катерина помнила прекрасно, это не они. Но больше никто из ее окружения не пользовался духами… Катерина не любила подобных загадок. Нахмурившись, она даже перестала слушать оживленное стрекотание Маруськи, почти не видной под ворохом принесенных платьев. Неожиданно из задней комнаты послышался приближающийся разговор на французском и перестук каблучков. Повинуясь неизвестно какому чувству, Катерина быстрым движением сорвала с манекена шляпу с широкими полями и надела на голову, закрыв лицо. В тот же миг из соседней комнаты вышли хозяйка салона, маленькая, юркая, похожая на змейку мадам Вотье в черном узком платье и ее гостья.
– Хорошо, отошлите прямо на дачу. И тот сиреневый креп-жоржет тоже.
– Как прикажете, всегда с большим удовольствием, графиня… Мари! Мари! Заверните покупки мадам Ахичевской!
Услышав это имя и голос гостьи – негромкий, резковатый, невыразительный, – Катерина быстро отвернулась к окну. От подступившего воспоминания потемнело в глазах. Мартыновский приют, рождественские праздники, сверкающая елка в зале, съехавшиеся гости и покровители, молодая княжна Александрин, дочь главной попечительницы княгини Лезвицкой… Княжна некрасива, у нее блеклая кожа и рыбьи, навыкат, глаза, голос невыразителен, тих, отрывист… Рядом с ней – молодой синеглазый красавец Петр Ахичевский, на которого Катерина глядит не отрываясь. Девушка знает, что Ахичевский – любовник старшей сестры Анны, который уже несколько лет содержит ее, что только благодаря его хлопотам она, Катерина, сейчас не в тюрьме, а здесь, в приюте. Княжна что-то возмущенно выговаривает своему спутнику, Ахичевский серьезно слушает, но синие глаза его смеются. Он встречается взглядом с Катериной и улыбается ей. Она хочет улыбнуться в ответ и, как всегда, не может. К сердцу подступает тревога. Почему эта блеклая княжна держит его под руку, почему она так близко от него, почему он улыбается ей? Что будет с Анной, если вдруг Ахичевский надумает жениться? Знает ли сестра об этой снулой рыбе Лезвицкой? И, если да, может ли что-нибудь сделать?.. Катерина закрыла глаза, отгоняя воспоминания. Зло подумала, что, видимо, оказалась права тогда. Стало быть, эта селедка ржавая теперь – мадам Ахичевская… Стало быть – Анну побоку… Ну, Петр Григорьич, ну, Петька, сволочь…
– Вам совсем ничего не нравится? – расстроенно спросила Маруська, глядя на то, как мрачнеет и без того темное, обветренное лицо клиентки. – Так обождите, я еще принесу…
– Постой. – Катерина поймала ее за руку. – Скажи-ка лучше, ты эту даму в сером платье знаешь?
– А то! Самая что ни на есть дорогая клиентка наша! Они с ихней матушкой не местные, московские, здесь только дачу каждый год нанимают на Фонтане!
– Графиня Ахичевская?
– Точно так, графиня Александра Германовна Ахичевская, урожденная Лезвицкая, прошлогодь замуж вышли и об этот год не с маменькой, а с супругом приехали…
– Так Ахичевский тоже здесь?!. – невольно вырвалось у Катерины.
– А вы им знакомые?! – удивилась Маруська. – Тоже из Москвы будете?!
Но Катерина уже пришла в себя, вздохнула, улыбнулась и повернулась к разбросанным по козетке платьям. Сердце колотилось как бешеное, отчаянно, выдавая ее, дрожали руки, и Катерина поспешно спрятала их под складку платья. Как тесен мир, кто бы мог подумать… Не загородись она шляпой, пройди Ахичевская на два шага ближе – и встреча лицом к лицу была бы неминуема, княжна наверняка бы узнала юную воровку Грешневу, обокравшую минувшей зимой приют… и что тогда? Участок, суд, тюрьма?.. Но дрожала Катерина вовсе не от страха. «Ну, Петька, погоди…» – шептала она про себя, одновременно с улыбкой глядя на зеленое платье и кивая Маруське. От подступившей к горлу удушливой ярости трудно было дышать. Анна, сестра… Там, в Москве, одна, без денег, без покровителя… как она теперь живет, что с ней? Ей уже двадцать три, это много. Не постарела ли она за минувшие полгода? Как Петька мог, как осмелился бросить ее?! Ну, мерзавец, держись…
Валет, похоже, что-то заметил, когда Катерина, сопровождаемая Маруськой, едва видимой под горой коробок, вышла из недр магазина. Но ничего не сказал, шикарно, не взглянув на счет, расплатился и пропустил девушку впереди себя к выходу.
Ночью Катерине не спалось. Она лежала в своей любимой позе, закинув руки за голову, и смотрела на то, как в темном оконном проеме снуют тусклые звездочки южных светляков. Огромный номер гостиницы «Аркадия», одной из лучших в Одессе, тонул в темноте, только широкий подоконник был залит лунным светом, и коробки с платьями возле окна выставляли в серебристую полосу круглые бока. На улице, в зарослях акации, монотонно попискивала сплюшка. Пахло цветущими каштанами, и от этого сладковатого, чужого запаха уходили последние остатки сна. К тому же после злополучного купания до сих пор болело все тело. В конце концов Катерина встала и бесшумно, как кошка, принялась ходить по комнате от стены к стене. Тень девушки то проявлялась в лунном луче, то выплывала из него. Катерина не заметила, что Валет открыл глаза сразу же, как только она встала, и сейчас, приподнявшись на локте, внимательно следит за ее перемещениями по номеру.
– Катя… – наконец окликнул он ее.
Она молча обернулась. Валет сел на постели, протянул руку. Катерина, помедлив, опустилась рядом с ним.
– Чего ты мечешься? – тихо спросил он. – Я уж давно смотрю… Болит, что ль, чего?
– Нет. Я думаю.
– Чем бабе думать-то? – усмехнулся Валет, но, увидев в полосе лунного света сумрачное, замкнутое лицо подруги, осекся. Чуть погодя снова заговорил: – Ты весь день такая. С самого магазина. Што тебе там так не понравилось-то? Вроде бы сама все выбирала…
Катерина молчала, вытянув ногу и наблюдая за тем, как ее тень шевелит пальцами в лунном свете. Не отрываясь от этого занятия, спросила:
– Ты согласен мне помочь?
Про себя Катерина уже загадала: если Валет запнется хоть на секунду или задаст вопрос – она ни о чем ему не скажет. Но тот сразу же, ни минуты не медля, кивнул:
– Говори, мать.
…Выслушав ее, Валет некоторое время молчал. Катерина пристально наблюдала за ним, ловя малейшую тень неуверенности или испуга, но его жесткое лицо было спокойным: он думал.
– Это невозможно? – наконец, не выдержав, спросила она.
– Чего ж тут невозможного-то? Дачу бомбануть… Я еще шкетом сопливым такое обмастрячивал… Тока на што тебе это?
– Он Аню, гад, бросил! – оскалилась в темноте Катерина. – Я его застрелила бы с радостью, только не умею!
– Ну-у, Катя, ты тоже забрала… – покрутил головой Валет. – Кабы всех мужиков за такое стрелять, кто б вам остался детей делать?
– Он с Аней шесть лет прожил! Как с женой! – Катерина сама не заметила, что повысила голос, и Валет положил руку ей на запястье. Она вздрогнула, умолкла. Вполголоса закончила: – Ты его жену видел? Там, в магазине?! Вобла костлявая! Такой никакие тряпки французские не помогут! А Аня моя…
– Красивая она? – вдруг заинтересовался Валет. – Как ты?
– Что ты, лучше в тысячу раз! – искренне и гордо сказала Катерина. – Вот она – настоящая графиня, даже Смольный успела кончить! За кого угодно могла бы замуж выйти, хоть за великого князя… если б приданое имелось. Только его не было. И вовсе… ничего не было. Она со старым Ахичевским сошлась для того, чтобы нас, малявок, прокормить. А потом в его сына влюбилась и с ним жила, а он…
– Он на ней все равно не женился бы, – убежденно произнес Валет. – Кто ж своих содержанок в жены берет?
– И пусть бы не женился! Пусть бы так жил! Не на эту же выдру ее менять! И знаешь что – если не хочешь помогать, так и скажи, я сама справлюсь!
– Справишься ты… – присвистнул Валет. – Думаешь, что коли один раз в Москве подфартило, так теперь всю жисть вывозить будет?.. Малая ты еще.
– Поможешь? – свирепо спросила Катерина.
– Сказал ведь уже. – Валет снова растянулся на постели, движением сильной руки заставил лечь и Катерину. Луна ушла из окна, скрыв все в темноте. Катерина почти уснула, когда Валет вдруг медленно проговорил:
– А ежели я тебя брошу? Катька, а? Что, застрелишь?
Катерина честно подумала несколько секунд. Затем сонно ответила:
– Нет. Зачем?.. Люблю я тебя разве?..
– А ежели полюбишь? – не унимался Валет.
Катерина молчала. Валет ждал, пытаясь разглядеть в наступившей тьме ее лицо, но ответа все не было, и наконец он догадался, что подружка спит. Валет смущенно усмехнулся, притянул спящую девочку к себе, уткнулся лицом в ее длинные теплые волосы и тоже заснул.
Пару недель спустя Петр Григорьевич Ахичевский, интересный брюнет тридцати двух лет, один сидел в большом зале казино «Империал» на Ришельевской улице и праздновал свою неожиданную свободу. Вчера жена получила телеграмму из Москвы, сообщающую о том, что ее мать, княгиня Лезвицкая, заболела и желает видеть дочь. Александрин была раздосадована и удивлена, поскольку еще месяц назад, когда они собирались в Крым, мать выглядела здоровой и веселой и чуть не поехала с ними – к ужасу обоих супругов. К счастью, княгиню задержали дела благотворительности, до которых Наталья Романовна была большая охотница, она осталась в Москве, на даче в Кунцево, и вот… Александрин с недовольным выражением на лице, еще более портившим ее, собрала саквояж и пустилась в обратный путь. Мужа она с собой не звала – понимая, видимо, что тот не поедет и даже не потрудится изобразить огорчение по поводу болезни тещи и разлуки с женой. Супруги Ахичевские не любили друг друга, это был старый добрый брак по расчету, о чем знали не только они сами, но и вся Москва. Оставшись один, Петр немедленно перебрался с дачи в город, в гостиницу, в первый же вечер отправился в казино, проиграл около пятисот рублей, нимало не расстроился и сейчас, сидя за столиком в ожидании заказанного ужина, благодушно раздумывал: продолжить ли отдых здесь, поехать ли в театр, к девицам или в кабаре. Ахичевский любил брать от жизни все и умудрялся делать это даже в стесненном положении женатого человека.
В казино уже было довольно много народу, слышались оживленные голоса, женский смех, звон бокалов. Женщин, впрочем, оказалось немного, в основном кокотки, но Ахичевский все же машинально рассматривал их лица, ища хорошеньких. От этого приятного занятия его отвлек подошедший официант с бутылкой аи на серебряном подносе.
– Чего тебе, братец? – удивился Ахичевский.
Старый официант слегка улыбнулся, поставил бутылку на стол и тихо сказал:
– Дама вон из-за того столика вам презентовать изволили.
– Мне? Которая же?
Официант отошел в сторону, заинтересованный Ахичевский посмотрел за дальний столик у стены с драпировкой, где действительно сидела одинокая женщина в атласном фиолетовом платье и такой же шляпе с вуалеткой. Он поклонился, тщетно пытаясь разглядеть лицо дамы. Та в ответ подняла бокал с вином, из-под короткой вуалетки блеснули белые зубы. «Кокотка? – напряженно размышлял Ахичевский. – Непохоже… Какая-то знакомая? Здесь, одна, без кавалера… Не может быть. Но кто же это? Шлет вино, интригует… Однако интересно!»
– Братец, сделай-ка милость… – окликнул он собравшегося отойти официанта. – Передай той даме, что я прошу позволения присесть за ее столик.
– Сделаем-с… – Старик скользящей походкой метнулся к дальнему столику, склонился к фиолетовой шляпке. Ахичевский ждал, нарочно не глядя в ту сторону и рассматривая на свет вино в бокале. В горле приятно щекотало предчувствие пикантного приключения, о котором будет так забавно рассказать друзьям по возвращении в Москву. А то они его уже отпели и похоронили как женатого… Вот уж нет! Надобно понимать, что семья и любовные интриги суть предметы разные. Не смешивать их и получать от каждого свой процент удовольствия – вот рецепт простого жизненного счастья. Как жаль, что Анна не согласилась сохранить отношений… Ахичевский часто ловил себя на мысли, что скучает по бывшей любовнице. Они расстались в начале весны, но уже несколько раз за минувшие три месяца Петр хотел нагрянуть без предупреждения в Столешников и в самый последний момент отказывался от этого. В своем последнем письме Анна сухо, четко и откровенно просила не искать с ней встреч после женитьбы, и Ахичевский считал необходимым уважать ее желание, хотя и не понимал причин подобной резкости. Ему казалось, что любовнице не в чем его упрекнуть: все эти годы он был неизменно внимателен к ней, давал очень достойное содержание, платил по счетам. А женитьба? – что ж… Все равно когда-то пришлось бы решиться на такую неприятность, Анна и сама должна была это понимать… В конце концов, он не повел себя мелочно: оставил Анне дом в Столешникове, украшения, туалеты… Чего ж еще? То, что любовницу может глубоко ранить его уход, что женщина остается одна, без средств к существованию, без надежды как-либо устроить свою жизнь, что после женитьбы покровителя ей уготован только выход на панель, Ахичевскому и в голову не приходило. Возможно, пришло бы, задумайся он об этом хоть на мгновение. Но анализировать последствия своего поведения Ахичевский не любил: от сего занятия у него болела голова и начиналась ипохондрия.
Официант, наконец, вернулся и заговорщическим шепотом сообщил:
– Они, ваша милость, дозволяют!
– А скажи-ка, братец, что это за дама?
– Никак-с не можем знать. В первый раз в нашем заведении видим-с.
– А на твой взгляд – не мамзель ли?
– Сомнительно будет, – важно заявил старик. – Выглядят благородно вполне. У нас на гулящих взгляд наметанный-с, небось не спутаем. Никак не уличные, только очень уж молоденькие.
«Стало быть, порядочная женщина… Странно. Может быть, истеричка? – весело размышлял Ахичевский, поднимаясь из-за стола и идя через зал к столику пригласившей его дамы. – В крайнем случае спасусь бегством. Знакомых здесь, кажется, нет, до Александрин не дойдет… Как она всегда бывает скучна со своими репримандами!»
– Добрый вечер, мадемуазель, – поздоровался он, останавливаясь возле столика. – Сердечно благодарю за приглашение. Имею ли честь быть с вами знакомым?
– Конечно, Петр Григорьевич. – Дама подняла голову, снова улыбнулась, блеснув зубами, откинула вуалетку – и Ахичевский чудом сдержал удивленный возглас. На мгновение ему показалось, что перед ним сидит Анна – такая же, какой она была в юности, когда только вступила с ним в связь. Но память тут же перевернула страницу, видение юной Анны исчезло, и Ахичевский пробормотал:
– Боже мой… Катерина? Ты?! В самом деле ты?!
– О, как вы удивлены! – рассмеялась Катерина, непринужденно откидываясь на спинку стула. – Не ожидали меня встретить?
– Признаться, нет… Как ты изменилась, однако!
– Вы на меня не в обиде? – светски спросила Катерина, пододвигая Ахичевскому свой пустой бокал, и тот машинально наполнил его.
– За что же?
– За то, что я обокрала приют, – напомнила она. – Вы ведь являлись моим поручителем перед княгиней. У вас не было неприятностей?
– Были, разумеется, – рассмеялся Ахичевский. – В качестве компенсации пришлось жениться на княжне Лезвицкой… Ты ведь с ней знакома, кажется? Помнишь, на рождественском балу в приюте она по-французски убеждала меня не любезничать с тобой, а я, право же, не мог тогда удержаться? Всегда питал неистребимую страсть к зеленоглазым брюнеткам!
«Господи, да он шутит! Смеется!» – молнией пронеслось в голове у Катерины.
Едва сдержав прыгнувшую к горлу ярость, она как можно равнодушнее спросила:
– А что же Анна? Как она на это согласилась?
– Ты не знаешь? – слегка смутился Ахичевский. – Ты не писала к ней?
– Нет, – пожала плечами Катерина. – Не видела смысла.
– Твоя сестра весьма умная женщина, – помолчав, произнес Ахичевский. Катерина впилась в него глазами, ища в лице хоть каплю сожаления или грусти, но оно было таким же безразличным, как и голос. – Анна сама отказала мне от дома, и… ее, вероятно, можно понять.
– На какие же средства она живет? – Катерина сдерживалась из последних сил.
– Что?.. Право, не знаю. Во всяком случае, ко мне за поддержкой она не обращалась, хотя я, разумеется, мог бы… Впрочем, Катя, о чем мы говорим? Расскажи лучше, как ты очутилась здесь. Ты одна в этом городе?
– Конечно, – взяла себя в руки Катерина. Она даже сумела широко улыбнуться Ахичевскому и тут же, словно смешавшись, опустить ресницы. – То есть была одна… до сих пор. Вы не поверите, как я обрадовалась, увидев вас. Хотя бы одно знакомое лицо… Долго не решалась обратиться к вам, но потом подумала… мы с вами, в сущности, почти родственники…
– И очень правильно сделала, что обратилась! – горячо произнес Ахичевский, весьма заинтригованный Катерининым незамысловатым ресничным маневром. – Я как раз пребываю в одиночестве, скучаю, буквально не с кем перекинуться словом…
– А что же супруга?..
– Она в Москве, я один как перст, всеми брошен и оставлен.
– Надо же, какая удача… – словно забывшись, пробормотала Катерина. Синие глаза Ахичевского посмотрели на нее в упор, и девушка как можно натуральнее сконфузилась: – Ах, это вовсе не то, что вы подумали… Мне не нужно денег, у меня они есть.
– Еще приютские? – откровенно расхохотался Ахичевский.
– Да, – обезоруживающе улыбнулась Катерина. И все-таки не удержалась от шпильки. – Не волнуйтесь, еще одна девица Грешнева вам на шею не сядет.
– Катрин, как ты можешь… – Ахичевский был смущен и, желая скрыть это, поспешно спросил: – Не сочти за нахальство, но мне всю весну страшно хотелось узнать, как тебе удалось устроить твою авантюру.
– Мой грабеж, вы имели в виду? – отказалась от обиняков Катерина. – Извольте, поведаю эту новеллу… Только закажите еще вина, ужасно хочется пить.
Принесли вина. Катерина, вопреки собственному заявлению, пила мало; лишь изредка прикасаясь губами к краю бокала, она непринужденно рассказывала историю своего первого «дела». Рассказывала так, как все происходило на самом деле, начиная со знакомства с сидящим на заборе Васькой и заканчивая лунной ночью в кабинете начальницы приюта, разлитыми по столу чернилами и спрятанной в тайник под часами пачкой денег. Риск был велик, но Катерина знала, что Ахичевский весьма неглуп и легко уличит ее в обмане, начни она сочинять. Говоря, девушка улыбалась, словно пересказывая занимательный роман, и осторожно следила за реакцией собеседника. Но и он вел себя так, будто слушал газетную историю: поднимал брови, смеялся, всплескивал руками и откровенно забавлялся.
– Браво, девочка, браво… Право слово, все грешневские барышни страшные авантюристки, это, видимо, кровь!
– Голь на выдумки хитра, Петр Григорьевич. – Катерина снова начала злиться и, чтобы потушить зарождающийся пожар, как следует отхлебнула из бокала. – Это все нищета, а не кровь… Ай, какая гадость, тьфу!..
Она крайне неизящно закашлялась и совсем уж по-извозчичьи сплюнула на пол белым сухим вином, которое пила первый раз в жизни и которое показалось ей отвратительной кислятиной. Проделав этот пассаж, она покосилась на Ахичевского, но тот наблюдал за ней с искренним восхищением.
– А знаешь, Катрин, ты просто божественна в своей непосредственности! Поразительная смесь неиспорченной натуры и утонченности… В Анне этого не было даже в молодости… Прости, я не помню, сколько тебе сейчас лет?
– Восемнадцать, – на голубом глазу соврала Катерина, прибавив себе два года в уверенности, что Ахичевский никогда не интересовался у Анны возрастом ее сестер.
– Вот как? – Он явно обрадовался. – И что же, этот твой Ринальдо Ринальдини бросил тебя здесь, в Одессе?
– Я сама его бросила, – беспечно ответила Катерина. – Вообразите, самый обычный босяк! Он мне помог – и на том спасибо, но более он мне не нужен.
– Умница, умница… Каковы же твои дальнейшие планы, леди Кэт? – Катерина непонимающе посмотрела на него, и Ахичевский, улыбнувшись, пояснил: – Была такая предводительница карибских пиратов в минувшем столетии. Ее не повесили лишь потому, что в момент пленения она оказалась беременна.
– Ах, как предусмотрительно! – восхитилась Катерина. – Надо и мне иметь в виду… на будущее. При жизни моей все, что угодно, может случиться!
Шутка была на грани фола, но Ахичевского она ничуть не шокировала:
– Право, Катрин, ты великолепна… Какое счастье, что тебя не изуродовали нашим отвратительным женским пансионным образованием! Анне оно только испортило характер, а ты – нетронутый девственный цветок из дикого леса… Просто шармант! – Словно забывшись, он сжал пальцы девушки – тонкие, длинные, еще по-детски хрупкие. Осторожно посмотрел на Катерину, но та невинно улыбалась, и Ахичевский, осмелев, поднес ее руку к губам.
– Вот вы меня о планах спрашиваете, Петр Григорьич, – жалобным голоском начала она, когда ее рука снова очутилась на свободе, – а я, право же, не знаю, что и делать в этом городе. Сами сказали – из дикого леса… Я даже не обижаюсь, ведь так это и есть… Дальше Юхнова никуда не ездила, Москву только через приютский забор видела… По Одессе вот вторую неделю гуляю и, не поверите, боюсь в рестораны заходить! Сегодня первый раз решилась, и такая удача, встреча с вами!
– Теперь я буду твоим чичероне, – покровительственно заявил Ахичевский. – Поскольку оба мы скучаем – поможем друг другу, не так ли?
– А как же супруга ваша, Петр Григорьевич? – опять не утерпела Катерина.
– Ах Александри-ин… – кисло улыбнулся Ахичевский. – Она, видишь ли, отбыла в Москву, к больной матери, пришла какая-то нелепая телеграмма…
Катерина, сама придумавшая эту аферу с телеграммой, которой дал ход Валет, сочувственно покивала головой… и вдруг, ахнув, вскочила из-за стола:
– Ох, боже мой! Какая же я глупая, ведь мне нужно быть в моей гостинице!
– Зачем?! – поразился Ахичевский. – Уже так поздно, какие могут быть встречи!
– Платье должны принести! Ах, ну и дура же я, сама попросила мадам прислать вечером, и вот… Вы меня обо всем заставили забыть! Прощайте!
– Катрин, подожди, но когда же…
– Завтра, завтра! Здесь же! Я обещаю! – Последние слова Катерина выпалила, уже скрываясь в полутьме гардеробной. Проводив глазами тонкую фигурку в фиолетовом атласе, Ахичевский мечтательно закрыл глаза и подумал, что таких, как он, вероятно, очень любит Фортуна. Неудивительно, ведь и она тоже Женщина… Из-за этих греющих самолюбие мыслей Ахичевский не обратил внимания на то, что почти одновременно с Катериной из-за соседнего столика поднялся и, небрежно бросив на скатерть ассигнацию, тронулся к выходу высокий молодой человек с загорелым лицом и светлыми холодными глазами.
Извозчик ждал Катерину и Валета у дверей казино. Валет помог своей даме взобраться в пролетку, легко вскочил сам, коротко велел: «К порту» – и всю дорогу молчал. Ничего не говорила, глядя на него, и Катерина, хотя девушку так и распирало от радостного возбуждения. Когда же впереди показалась полоса парапета, черная громада ночного моря и пересекающая его лунная дорожка, она выпрыгнула из экипажа, дождалась, пока выберется и Валет, отошла в непроглядную темноту под ветвями каштанов и лишь тогда спросила:
– Что тебе не понравилось?
Валет ответил не сразу. Из потемок были смутно видны лишь белки его глаз. Чуть погодя красный огонек папиросы осветил все лицо.
– Ох, рисковая ты девка… А если б он легавых свистнул? Мол, вот она, воровайка из Москвы…
– Не свистнул бы. Ему интересно было. А свистнул бы – убежала. Как ты говорил? Бутылкой – в лампу и тикать…
– Угу… А ты, стало быть, всамделе графиня?
– Я же тебе говорила, – улыбнулась Катерина. – Не поверил все-таки?
– Вот сейчас только и поверил… – пробурчал Валет. – Когда смотрел, как ты фраера работаешь. Так сколько ж тебе лет-то на самом деле, не пойму?
– Шестнадцать, Сережа, шестнадцать. Я тебе не врала.
– Зачем фраера кинула, что тебе восемнадцать?
– Мог бы испугаться. Чем старше барышня – тем спросу меньше.
– Это верно… – согласился Валет, затягиваясь папиросой. – Ну, а сколько, на твой прикид, взять можно на той хате?
– Много, – уверенно сказала Катерина. – Они богатые, я точно знаю. Если жена уехала, то, верно, все свои драгоценности оставила, не таскать же их по железной дороге взад-вперед…
– Угу… В сейфе оставила.
– А сейф – твоя забота, – сердито напомнила она. – Или передумал? Если так, то говори сейчас, я не взыщу. Одна справлюсь.
– «Одна-а»… – сердито передразнил ее Валет. – Малявка, а туда же… Дала наводку гретую – ну и сиди молчи, так нет – в самое дело суется! В кого ты лихая такая, а?
Она пожала плечами. Валет выбросил погасший окурок, сплюнул на невидимую землю, обнял Катерину. Она молча прижалась к нему, вдыхая соленый запах моря и крепкого мужского пота.
– Лихая… – медленно повторил Валет, зарываясь лицом в растрепавшуюся, пахнущую духами прическу Катерины. – Мы с тобой, девочка, еще таких делов по Одессе наворотим… только б боженька в доле был.
Катерина знала, что времени у нее очень мало. Явившись в Москву, графиня Ахичевская неизменно должна была узнать, что мать ее в добром здравии и полученная телеграмма – чья-то нелепая шутка. Скорее всего, Александрин поторопится вернуться к мужу в Одессу, а значит, в ее, Катеринином, распоряжении только несколько дней. Катерина, до пятнадцати лет прожившая в бедной уездной Грешневке, никогда не бывавшая в обществе, с трудом представляла себе, как можно соблазнить опытного взрослого светского мужчину, и сама удивлялась, почему у нее все так замечательно получается. Вспоминая об этой эскападе много лет спустя, она удивлялась собственной наглости. Вероятно, помогло то, что, играя перед Ахичевским роль роковой соблазнительницы, она бессознательно копировала манеры старшей сестры, на которую к тому же была очень похожа. Катерина имитировала негромкий смех Анны, ее манеру улыбаться, опуская глаза, чуть приподнимать брови, слушая собеседника, в ее речи то и дело проскальзывали Аннины обороты, страшно знакомые Петру. Иногда он ловил себя на странном ощущении, что беседует с Анной – юной, семнадцатилетней, такой, какой он встретил ее шесть лет назад в доме отца, и ему приходилось напоминать себе, что это – не Анна, а ее младшая сестра Катрин. С каждым днем Ахичевский становился все настойчивее: он тоже понимал, что надо спешить. Они успели посетить несколько ресторанов, кафешантан, кабаре, казино, где Катерина, неожиданно для себя самой, выиграла в рулетку почти тысячу рублей и играла бы дальше, не утащи ее Петр от стола насильно. Его будоражила эта девчонка-авантюристка, годившаяся ему почти в дочери, от смеси невинности и испорченности бросало в жар, и Ахичевский уже признавался самому себе, что почти влюблен.
Желая форсировать события, Катерина в один из вечеров, когда они с графом сидели в кафешантане, намекнула ему, что все еще невинна, и жалобно пояснила, что и целоваться-то толком не умеет, стыдно признаваться, но чего уж тут поделаешь… Услышав это, Ахичевский чуть с ума не сошел и предложил немедленно, сию же секунду ехать в первую попавшуюся гостиницу – избавлять несчастную девочку от бремени девственности.
Катерина, скроив кокетливую, неопределенную гримаску, принялась лихорадочно соображать. С самого начала девушка предлагала Валету именно этот вариант: она как можно дольше удерживает Ахичевского в гостинице, а Валет в это время спокойно и без нервов «чистит» дачу. Но Валет почему-то уперся как ишак и, сколько ни пытала его Катерина, на столь удобный способ не соглашался. Устав с ним ругаться, она спросила в упор:
– Хочешь, чтоб я погорела, а ты чистым вывернулся?
– Дура!!! – взорвался Валет так, что на них обернулась вся веранда: переговоры проходили в летнем ресторане. – Как я вывернусь, когда на пару работаем?! Тебя возьмут – ты меня и сдашь! Ла-а-адно, знаю я вас, бабьё-то, потому и не работал с вами сроду… Значит, так. Ты его напоишь, потом по-тихому меня впустишь, я «медведя» грохну – и тикаем… А фраер еще тепленьким до утра проспит.
– Но зачем я-то тебе там?! – не сдавалась Катерина. – А если у меня что-нибудь не выйдет? Вдруг он не заснет?! Ведь это ужасный риск, зачем, не понимаю! Я могла бы его держать в номерах хоть до рассвета, а ты тем временем…
Договорить она не успела, потому что Валет грохнул обоими кулаками по столу так, что все, что на нем стояло, зазвенело, опрокинулось, разлилось и посыпалось на пол. Подлетел услужливый официант, начал устранять непорядок. Катерина, ничуть не испугавшаяся, но очень удивленная, стерла салфеткой с платья плеснувшееся на него красное вино, аккуратно присыпала пятно солью, подождала, пока официант ускользнет, и лишь после этого повернулась к мрачно смотрящему в пол Валету:
– Ты что взбесился? Испугался, не хочешь связываться – так и скажи. Я уже говорила – не взыщу.
– Дура ты дура и есть, – глухо произнес Валет, не поднимая глаз. – Вот нутром чую – погорю я с тобой ясным пламенем… Катька, я ж не дурак. Может, оно, как ты говоришь, и лучшей будет. Но не могу я, чтоб он тебя за титьки мацал! Душа не стерпит!
– Что?!! – поразилась Катерина, которой и в голову не приходило, что Валет может ревновать.
Вор молчал. Она закрыла лицо руками и начала рыдать. Валет долго и изумленно наблюдал за этим процессом, затем протянул руку, отнял ладонь Катерины от ее лица и убедился, что подруга не плачет, а безудержно и искренне хохочет. Смуглое лицо Валета залилось темной краской, он вскочил было из-за стола, но девушка, все еще смеясь, повисла на его рукаве, заставляя сесть обратно, и, когда вор нехотя подчинился, едва смогла выговорить:
– Господи… Сережа… И ты туда же… Какие вы, оказывается, телята все… Даже не думала…
– Это кто тебе тут телята, шалава?!. – зарычал он.
– Да вы… все… Ох, не могу… Мужчины… И чего Аня столько лет мучилась, когда все так просто, не понимаю, право… Ладно, не злись, это я по глупости… Хорошо, сделаем, как хочешь, только не бесись, на нас уже весь ресторан смотрит… Налей мне вина, а то не уймусь! Ох, ну, умори-и-ил…
Вина Валет налил и вообще сразу же успокоился: дальше операцию разрабатывали уже без эмоций и по-деловому. Они обсудили даже самые мелкие детали, и поэтому на следующий день, услышав горячечное предложение Ахичевского немедленно, сию минуту ехать в номера, Катерина начала художественно «кобениться»:
– Петр Григорьевич, я, конечно, буду рада очень… С вами – куда угодно, вы ко мне так добры все это время… Я вам так благодарна, но… но… Видите ли, номера – это же вульгарно… Там бывают одни только… уличные женщины!
– Боже, Катя, кто тебе сказал такую глупость?! Ну, хорошо, поехали в «Палас»…
– Ах, но это же совсем то же самое… Вот если бы… Нет, вероятно, это сущее нахальство с моей стороны… – И она намертво замолчала, опустив ресницы.
Ахичевскому понадобилось добрых полчаса уговоров и расспросов, после чего Катерина, отчаянно смущаясь, созналась в том, что очень хочет побывать на их даче.
– Это только мечта моя, Петр Григорьич, вы не подумайте… Я прекрасно понимаю, что мне там не место… Но так хотелось бы взглянуть! Петр Григорьевич, я же в жизни ничего, кроме нашего медвежьего угла, не видела, да еще вот эти номера гостиничные, а вы, верно, как великий князь живете…
В конце концов, Ахичевский догадался, что девочке хочется лишиться девственности в красивой и изысканной обстановке, а не на казенном матраце в номерах. Мысленно усмехнувшись тому, какие же одинаковые все женщины, он покровительственно согласился:
– Ну, это легко устроить.
– Да разве можно?! – всплеснула руками Катерина. – Ой, Петр Григорьевич, да как же… А если кто узнает, расскажут Александре Германовне… Ой, я и так перед ней виновата!..
– Рассказывать некому, соседей нет, прислугу я отпущу… Ну же, Катрин, не мучай меня более… Я буду только счастлив видеть такую красавицу у себя!
Катерина поняла, что дело сделано. Еще немного поломавшись для приличия, она дала согласие прибыть на дачу Ахичевского завтра же вечером, в десять часов.
– Отчего не сегодня?
– Ах, Петр Григорьевич, мне, право, неловко вам говорить, но… Обычные маленькие женские неудобства. Завтра, полагаю, уже все закончится.
Он понял и больше не настаивал.
На следующий вечер Катерина, в роскошнейшем вечернем платье цвета «закат в Палермо» с открытой спиной, с персидской шалью на обнаженных плечах, подкатила на извозчике к утопающей в отцветающих каштанах и акации даче Ахичевских. Было душно: со стороны моря шла гроза. В потяжелевшем, густом, словно кисель, воздухе одуряюще пахло цветами. Туча была еще далеко, гром безмолвствовал, но зарницы одна за другой вспыхивали над портом бледно-сиреневыми полосами, и от этих всплесков призрачного света Катерине стало тревожно.
– Катя, ежели боишься – откажись, – тихо проговорил Валет, сидящий рядом с ней в пролетке. – Нельзя на такое дело без куража идтить. Ништо, фраеров много, нищими не останемся.
– Я не боюсь, Сережа. Просто зябко отчего-то… – Катерина повернула к подельнику худое скуластое лицо с полуприкрытыми глазами. Спросила, глядя мимо него: – Сережа, ты меня не бросишь?
– Ша, Семка, заворачивай, – решительно сказал Валет извозчику. – Хряем до хаты, дело рвется.
– Ничего не рвется! Семка, стоять! – тут же вскочила Катерина. – Как сговорено, так и сделаем! Где ридикюль?
– Держи свой рыдикуль… – Валет протянул подружке черную сумку мешочком. – Значит, правильно все помнишь? Как клиент засыпает – зажигаешь свет вон в том окне. И я работать иду. Ежели света не будет – сидю здесь и не полошусь. Но ежели и тебя долго не будет…
– Тем более сидишь здесь, – со всей возможной жесткостью произнесла Катерина. – А не усидишь – погорим по всей стати. Откажись, Сережа, если не потянешь.
Извозчик на козлах заржал было, но под тяжелым взглядом Валета осекся. Катерина вышла из пролетки.
– С богом, Катя, – сказал Валет.
Она кивнула, опустила вуалетку на шляпе и быстрыми шагами пошла к темнеющей в глубине сада даче, где горело одно-единственное окно. Мужчины молча провожали Катерину глазами.
– Ох, лиха маруха, цимес! – присвистнул извозчик, когда тонкая фигурка исчезла за буйно разросшимися у калитки кустами шиповника. – Иде такую взял, Валет?
– В море выловил, – отрывисто отозвался тот. – Завернись, Семка, неспокойно мне. Курить есть?
– Держи. Да не дрипайся, бог не фраер, вытянет, не впервой…
Ахичевский встретил Катерину внизу, в обширных сенях. Он был, как всегда, безукоризненно одет в светлый летний костюм с белоснежной сорочкой, в манжетах блестели запонки.
– Вы куда-то собирались выезжать? – изобразив глупый вид, осведомилась Катерина. Сама она, впервые в жизни надевшая вечернее платье с открытыми плечами, чувствовала себя в нем очень неловко и с искренней досадой недоумевала, как могут порядочные женщины натягивать на себя такое бесстыдство.
– Нет, всего лишь жду тебя, – рассмеялся Ахичевский. – Мой друг, ты… ты великолепна! Боже мой, боже мой, какое же поразительное сходство…
Катерина почувствовала вдруг такую острую брезгливость, что лишь колоссальным усилием воли удержала себя от того, чтобы не повернуться и не уйти прочь. Чтобы скрыть подступившее к горлу отвращение, она широко улыбнулась прямо в лицо Ахичевскому и спросила:
– А почему так темно в доме? Вы все-таки опасаетесь?..
– Нет, Катрин, нет… Опасаться, право, нечего. Мы одни, и у нас вся… сколько угодно времени впереди. Ты, кажется, хотела посмотреть дом?
– Да, да, с удовольствием! Вы не поверите, ведь я даже у Ани в гостях, в Москве, никогда не была! Соня была, а я – нет! О, mon ami, как же здесь красиво!
Последние слова вырвались у нее совершенно искренне. Богатая, выстроенная в стиле позднего классицизма, похожая снаружи на древнегреческий портик дача показалась Катерине великолепным дворцом. Ахичевский провел ее по всем комнатам, включая столовую, спальни и великолепную бальную залу с натертым паркетом. Гостья ахала, восхищалась и всплескивала руками, старательно не замечая прикосновений Ахичевского к ее обнаженным плечам и мимолетные поцелуи в шею и висок на каждом пороге.
– А что же там? – «наивно» поинтересовалась она, указывая на высокую полуоткрытую дверь, за которой не было света. – Туда нельзя?
– Отчего же? Но, я думаю, тебе будет неинтересно, это всего лишь мой кабинет…
– Ах, покажите, покажите непременно! У вас там, наверно, книги? Я очень люблю их, у нас в Грешневке это единственное удовольствие было… – лихо соврала Катерина, прочитавшая за всю жизнь две-три книги под отчаянным давлением сестер.
Ахичевский, благосклонно улыбнувшись ее капризу, отворил тяжелую дверь.
Это был действительно обычный рабочий кабинет с книжными шкафами, большим, крытым зеленым сукном, заваленным бумагами столом, монументальной чернильницей и пресс-папье. В углу стоял массивный металлический ящик. Катерина подумала, что это, вероятно, и есть сейф. Чтобы не сделать заметным свой интерес, она обошла весь кабинет, восхитилась чернильным прибором в виде прядущей чугунной старушки («Каслинское литье, моя милая, единственная в своем роде вещь!»), перелистала книги, посмотрела в окно и лишь потом покосилась на сейф:
– Какая странная штука… Это такой гардероб?
– Ка-а-атя, боже мой… – захохотал Ахичевский. – Это сейф, здесь хранятся важные бумаги… И прочие пустяки.
– Но это же неудобно! Он такой некрасивый, просто портит вам общий вид! Похож на гроб, и… Он запирается на ключ?
– Нет. Вот на этих ручках… – Ахичевский показал ручки с рядами цифр, – набирается некая комбинация цифр, известная лишь владельцу, и – вуаля! Дверь открывается сама.
– Ци-и-ифры… – разочарованно протянула Катерина. – Но как же это можно запомнить? Я, например, всю жизнь мучилась с арифметикой, для меня три цифры подряд запомнить – мука, а здесь…
– А здесь даже четыре! – откровенно веселился Ахичевский. – Но я, видишь ли, не мучаюсь. Просто набираю год рождения своей супруги – и все.
– Нет, не уговаривайте, скучно, скучно и скучно! – отрезала Катерина и вышла из кабинета.
Ахичевский, посмеиваясь, отправился за ней.
В диванной комнате был накрыт ужин на двоих, горели свечи в бронзовых канделябрах, стояло шампанское в ведерке со льдом. Ахичевский взял в руки запотевшую бутылку, пустил пробку в потолок, Катерина тихо взвизгнула и засмеялась:
– Аня говорила, вы в гусарах служили?
– Точно так! – Ахичевский подал ей бокал, в котором вихрем вертелись пузырьки. – Ну – пьем за нашу встречу?
– За нас, – подтвердила Катерина, поднося бокал к губам. Валет предупредил, чтобы она не вздумала ничего пить, и шампанское, стоило Ахичевскому отвернуться на мгновение, тут же отправилось в кадку с фикусом. Возвращая пустой бокал на стол, Катерина загадочно улыбнулась: – А у меня для вас подарок, Петр Григорьевич. Может, это и неприлично – делать подарки мужчинам, но вы были так добры ко мне, что я позволила себе… Вот. Только не смейтесь надо мной.
Она извлекла из сумочки бутылку вина, и, взглянув на этикетку, Ахичевский не смог скрыть удивленного возгласа:
– Цимлянское шестьдесят пятого года?! Бог мой, где ты умудрилась найти его?
– Это мой секрет, – заявила Катерина, до последнего боявшаяся, что невзрачная бутылка с полустертой этикеткой не произведет на Ахичевского никакого впечатления. Но Валет, вручивший ее подружке два часа назад, уверил, что «понимающий человек», увидев такое, упадет в обморок от радости.
– Сам-то где взял? – подозрительно спросила Катерина.
– Маманя моя мастрячит у себя в слободке. С того и живет, а чего? К ней малинщики со всей Одессы за товаром ходят, и еще ни одного конфуза не было.
Наблюдая за Ахичевским, осторожно открывающим бутылку, Катерина отчаянно боялась, что «малинка»[3] будет обнаружена, но он, кажется, ничего не заметил и бережно разлил творчество Валетовой мамаши по бокалам.
– Этот бокал – за тебя, – негромко сказал Петр, становясь за спиной Катерины и откровенно, долго целуя ее худое плечо. – За то, что ты так нежданно появилась на моей дороге… И за все удовольствия этого появления.
Катерина улыбнулась, пригубила вино, удовлетворенно проследила за тем, как Ахичевский выпивает свой бокал до дна, и подумала про себя, что полдела уже сделано. Словно в подтверждение этих мыслей, за окном глухо заворчали раскаты первого грома.
– Будет гроза, – произнес Ахичевский, подходя к окну. – Все небо в тучах… Тебе придется остаться до утра!
– В самом деле? – улыбнулась Катерина, поднимаясь ему навстречу.
Ахичевский взял девушку за плечи, притянул к себе. В следующую минуту они уже целовались, и платье цвета «закат в Палермо» ползло с плеч Катерины, а сама она, запрокинув голову, томно постанывала и мысленно прикидывала, через какое время начнет действовать «малинка». Придется изменять Сереже или, даст бог, нет? Самой Катерине это было безразлично, но она беспокоилась, что опытный в постельных делах Валет все поймет и устроит совершенно ненужный скандал.
До грехопадения оставались сущие мгновения. Катерина уже была раздета и лежала в позе готовой к потрошению курицы на роскошно взбитой кровати, Ахичевский тяжело дышал сверху. Готовясь к неизбежному, Катерина поглядывала на себя и Петра в огромное зеркало на стене, вяло думала о том, до чего же все это по-свински выглядит даже с самым авантажным мужчиной, соображала, сумеет ли как следует застегнуть потом крючки на платье, и время от времени извергала из себя страстный стон. Внезапный удар грома потряс весь дом, пламя свечей задрожало, в открытое окно ударил, дернув кисейную занавеску, порыв ветра… и тут Ахичевский вдруг тяжело опустился на подушку. Катерина резко поднялась на локте, взглянула в лицо лежащего рядом мужчины. Он спал. На всякий случай Катерина проверила его дыхание. Оно было ровным и спокойным.
– Спасибо, господи, – мрачно произнесла Катерина, встала и начала одеваться. Нужно было торопиться.
С той минуты, как Ахичевский показал ей сейф, у Катерины возникла дикая мысль справиться с «медведем» самой, без Валета. Она знала, что жена Ахичевского – ровесница Анны, об этом упомянул между двумя бокалами шампанского сам Петр Григорьевич несколько дней назад. Стало быть, год рождения у них один, пятьдесят шестой… Тысяча восемьсот пятьдесят шестой… Один – восемь – пять – шесть… А вдруг пройдет?!
– Только попробовать! – пообещала в зеркало самой себе Катерина. И устремилась в кабинет Ахичевского.
Там было темно, и Катерине пришлось возвращаться за свечой. Торопясь, она прихватила весь тяжелый канделябр, и это оказалось к лучшему: в комнате с занавешенным окном сразу же стало светло как днем. Сейф черной громадой стоял в углу. Катерина обогнула стол и приблизилась к нему. Как живого погладила по холодному металлическому боку:
– Медведь-медведь, отдай денежки по-хорошему…
«Медведь», разумеется, молчал. Катерина пожала плечами и медленно, с нажимом передвинула первую шашечку замка. Вторую. Третью. Четвертую. Ничего не произошло. Катерина, скрывая от себя самой подступившее разочарование, без особой надежды потянула за массивную ручку – и та неожиданно подалась. Графиня Ахичевская действительно была ровесницей куртизанки Анны Грешневой.
– Ну дура-ак… – пробормотала Катерина. И придвинула поближе канделябр, чтобы удобнее было потрошить внутренности «медведя».
Первой девушка вытащила довольно большую, вполаршина в поперечнике, окованную серебром шкатулку, которая оказалась заперта. Она была такой тяжелой, что Катерина сразу подумала о драгоценностях графини. Отодвинув шкатулку в сторону, девушка снова нырнула в сейф и извлекла три увесистых пачки ассигнаций. Пересчитывать было некогда, она расстелила на письменном столе свою персидскую шаль, положила на нее шкатулку, деньги, опять полезла в сейф и извлекла стопку каких-то бумаг. Перелистав их, Катерина ничего не поняла в казенных фразах, но на всякий случай кинула и бумаги поверх шкатулки, завязала шаль узлом и с трудом, шепотом чертыхаясь, поволокла награбленное из кабинета.
За окном уже бушевала гроза, ветер метался по саду, трепля и выворачивая листья деревьев, парусом надувал занавеску. Катерина, испугавшись, что шум разбудит Ахичевского, торопливо притворила окно, сунула в сумочку бутылку с «малинкой»… и, нащупав что-то в ридикюле, села прямо на стол. Подумала и вытащила большой «смит-и-вессон».
Пистолет принадлежал Валету, и девушке стоило больших трудов упросить любовника отдать ей оружие на время операции. Он уверял, что это вовсе ни к чему, что с пистолетом нужно уметь обращаться, что Катерина, если начнет стрелять, то в лучшем случае промажет, а в худшем – подстрелит сама себя. Но Катерина настояла на своем, и сейчас, сжимая во вспотевшей руке тяжелый пистолет, она медленно подошла к постели, на которой лицом вниз спал Ахичевский.
О том, сможет ли она выстрелить в спящего человека или нет, Катерина даже не задумывалась. Никаких сомнений у нее не было. И мысль об этом появилась у девушки с самого начала, сразу же, как она услышала скрипучий голос жены Ахичевского в модном магазине. Беспокоилась Катерина лишь об одном: удастся ли ей сделать смертельный выстрел? До сих пор стрелять из пистолета, да еще такого тяжелого, девушке не приходилось. Мельком она подумала, что, может быть, не связываться со «смит-и-вессоном», а попросту ударить Ахичевского по голове канделябром или пресс-папье из кабинета. Но это показалось ей еще более ненадежным, и Катерина, приставив вороненое дуло к черноволосому затылку, глубоко вздохнула, опустила палец на курок… и внезапно отлетела в сторону, отброшенная мощным ударом сзади. Пистолет, вылетев из руки, с грохотом упал на пол. Катерина вскочила как кошка; даже не посмотрев на того, кто ее ударил, метнулась к окну, схватилась за подоконник… и замерла, остановленная чуть слышным свистом. Медленно обернулась. За ее спиной стоял Валет.
– Ты откуда? – изумленно спросила она, от неожиданности даже не рассердившись. – Я тебя не звала, все сама сделала…
– Зачем? – не отвечая ей, Валет резко кивнул на простертого на постели Ахичевского. – Я спрашиваю, зачем грохнуть собралась? Из-за сеструхи своей?!
Катерина, внезапно утратив способность говорить, молча кивнула головой.
– Рехнулась?! Было б за что! И я дурак, что машинку тебе сунул… От говорил мне батька, что все бабы дуры и для дела не годятся…
Она не могла даже возражать: в горле стоял ком. Неудача с пистолетом разом отняла силы, холодное напряжение, не отпускавшее девушку весь вечер, ослабло, и Катерина почувствовала себя выпотрошенной и измученной. Валет, моментально почувствовав перемену в подружке, умолк, шагнул к ней, взял за плечи, два раза сильно тряхнул.
– Держись, Катька, уж все! Тикаем! Где слам?
– Вон… в шали.
Валет поднял узел, присвистнул:
– Густо… Рыжье?
– Наверное… Я сейф открыла.
– Сама? – поразился Валет. – Как?!!
– Он мне цифры назвал.
– Прямо сам?! Да-а… таких и вправду стрелять надо… Лады, линяем по-скоренькому, пока голубь наш не встрепенулся… Не мацал он тебя?
– Не успел… Твоя «малинка» сработала. – Катерина, путаясь в подоле падающего с плеч платья, едва поспевала за шагающим по коридору Валетом. Шел он легко и быстро, словно не нес тяжелый узел, в который еще засунул столовое серебро и часы Ахичевского. У дверей кабинета Катерина остановила подельника, тенью метнулась за тяжелую дверь и через несколько минут снова появилась оттуда.
– Теперь – все. Бежим!
– Забыла, что ль, чего?
– Да.
Посмотрев в ее лицо, Валет не стал больше ни о чем спрашивать и торопливо пошел к выходу. А она напоследок еще раз заглянула в кабинет, чтоб убедиться, что листок веленевой бумаги с размашистой, украшенной несколькими кляксами надписью «За Аню, сволочь!» лежит на видном месте, и лишь после этого, по-деревенски подоткнув подол «заката в Палермо», помчалась по темной галерее вслед за подельником.
Сад уже поливало дождем, старые каштаны шумели, раскачиваясь под резкими порывами ветра, несколько прошлогодних сухих листьев, промчавшись по воздуху, мазнули Катерину по лицу. Придерживая одной рукой юбку, а другой защищая голову от хлынувших сквозь ветви деревьев струй, она бежала босиком (туфли так и остались в спальне) за высокой фигурой Валета, маячившей уже у выхода из парка. Прическа Катерины давно растрепалась, и волосы перепутанной массой мотались по спине и обнаженным плечам. Страшный удар грома вдруг потряс сад, вспыхнула синяя ветвистая молния, осветив неживым светом каждую мокрую травинку, и хлынуло как из ведра. Катерина кинулась бежать опрометью, с ужасом подумав, что такой грохот не только спящего – мертвого разбудит. Впереди, за оградой, уже видны были спины лошадей и мокро блестящий верх пролетки. Катерина подбежала к экипажу – и сразу же жесткие, сильные руки втянули ее внутрь, послышался дикий крик извозчика: «Пошли, холеры дохлые, ну-у-у!!!» – пролетку тряхнуло, и она полетела.
– Все, Сережа… Все, кажется… – бормотала сотрясаемая нервной дрожью Катерина, сжавшись на груди подельника.
– Все, девочка, все, – ободряюще подтверждал Валет, крепко обнимая ее одной рукой, а другой нащупывая в кармане фляжку. – Держи вот, тяпни для здоровья, хорошая штука…
– Тоже твоя мать готовила?
– А то… Давай-давай, все глотай, до конца, за наше счастье… Ух, молодец ты, Катька, каких не знаю! Сроду у меня такой марухи не было! Этакое дело в неделю обстряпали! Мы теперь с тобой в Бессарабию подадимся, и все концы в воду! А то и за границу! Хочешь в Бухарест? Или в Варшаву? Можно и в Париж!
– Не… Не хочу. – Катерина вдруг отстранилась, с силой упершись руками в грудь Валета. Спросила зло, в упор: – Зачем не дал застрелить его? У меня ведь другого случая не будет!
Валет ответил не сразу. В темноте пролетки Катерина не видела его лица. Чуть погодя вспыхнула красным светом спичка: Валет зажег папиросу, затянулся, выпустил дым. Невнятно, не выпуская папиросы изо рта, сказал:
– Катька, вот что… Слухай сейчас, повторять не буду. Жисть наша рисковая, и в ней всяко случиться может. Но ежели можно греха на душу не брать – не бери. Боженька не фраер, он все видит. Передумает помогать – и на пустяке погоришь. Не я придумал, умные люди говорят.
Катерина дернула голым плечом, но, взглянув на серьезное лицо Валета, выхваченное из темноты светом папиросы, промолчала. Дождь шумел, упругие струи хлестали по верху пролетки, и страшно, нечеловечески хотелось спать.
Мартемьянов с Софьей покинули Вену в конце мая. По желанию последней они поехали в Париж – к тому времени уже летний, золотисто-розовый, с прохладной тенью от каштанов на бульварах, с ленивыми солнечными бликами на медленно текущей воде Сены, с веселыми толпами на улицах и площадях. Марфа, которую возмущала безалаберность местных жителей и невозможность с ними объясниться, бурчала по вечерам в гостинице:
– Не мужики, а, прости господи, дурачье какое-то… В Вене-то херры поприличней были, сурьезные мужчины, а эти… И чего все время хихикать, и чего зубы скалить? Человеческого языка не понимаешь – так молчи, как порядочный, умным притворяйся, а не закатывайся! За титьки честную девушку хватаешь – не ржи как дурак! Понимай, что она и зуба лишить смогёт, не поглядит, что француз! Мы этих французов с ихним Наполеоном и допреж били, и сейчас не сильно вспотеем в случае чего!
– Это кто тебя там за титьки хватал, Марфа?! – хохотал Мартемьянов. – Ты мне покажь, я из него душу-то вытрясу!
– Благодарствую, еще сами управляться в силах, – церемонно ответствовала Марфа, пряча в сонных глазах усмешку. Она только недавно перестала подталкивать свою барышню к замужеству – после того как Софья, окончательно выведенная из себя Марфиными нравоучениями, в довольно резких выражениях заявила, что быть женой Мартемьянова не собирается и более не желает ничего об этом слышать. Марфа смирилась и речи о свадьбе не заводила, хотя и вздыхала время от времени, ворча, что сейчас-то, грех бога гневить, все хорошо, а вот чего дальше ждать? Софья сама постоянно думала об этом, но следовать советам Марфы и потихоньку откладывать деньги на черный, неизбежно грядущий, день отказывалась. Впрочем, она подозревала, что Марфа все-таки отщипывает понемногу от выдаваемой Мартемьяновым «на булавки» солидной пачки денег, к которым Софья практически не прикасалась, поскольку не знала, на что их тратить. Единственной настоящей ее радостью в Париже было наличие в гостиничном номере огромного рояля.
Играла Софья дилетантски, уроки в свое время ей давала Анна, но подобрать аккомпанемент к романсу или арии могла без особого труда. Вернувшись из оперы, где по-прежнему бывала почти каждый вечер, она сразу же шла к роялю и пыталась воспроизвести по памяти женские партии и вокализы. Кое-что давалось ей без напряжения, некоторые арии требовали долгих упражнений, и Софья в этом случае не рисковала продолжать, зная, что без руководства опытного учителя очень легко навсегда испортить голос. Любила она вспоминать и русские оперы, особенно обожаемого ею Чайковского, романсы, просто русские песни, так легко ложившиеся на фортепьянную музыку. Эти занятия долго забавляли ее, но однажды Софья, закончив великолепную арию Татьяны для колоратурного сопрано, зачем-то подошла к открытому на бульвары окну и в замешательстве отшатнулась, увидев внизу, на тротуаре, довольно большую толпу парижан, которые, заметив ее, разразились восхищенными воплями и аплодисментами. Только сейчас сообразив, что ее пение в полный голос и бурные изъявления восторга под окнами могут раздражать других обитателей гостиницы, Софья решительно захлопнула окно и поклялась самой себе в дальнейшем петь исключительно вполсилы. Обещанию этому она оставалась верна почти неделю, а потом явившаяся с кухни Марфа, хохоча, поведала о том, что хозяин гостиницы теперь говорит своим постояльцам, что у него остановилась известнейшая европейская оперная певица.
– Даже и имя ваше новое назвал, христопродавец… – закатывалась Марфа, и от ее гренадерского смеха дрожали стеклянные безделушки на полках. – Полина Лукова какая-то, что ль… Вот ведь выдумал, французский жулик, а эти верят!
– Лукова?! Паолина Лукка? Я?! – перепугалась Софья, совсем не разделявшая Марфиного веселья. – Да что ж это за бесстыдство?! Я немедленно иду к нему!
Но владельца гостиницы, толстенького, низенького, делового, как воробей на базаре, месье Клоссена не так-то легко было сбить с намеченного пути. Когда рассерженная Софья ворвалась в контору и потребовала прекратить бессовестные выдумки, оскорбляющие престиж госпожи Лукка и ее, Софьино, достоинство, он только приподнял брови в глубоком недоумении и заявил, что не видит никакого повода для расстройства. Госпожа Лукка вряд ли вообще когда-либо узнает об этом, а гостинице столько прибыли, mon dieu[4]!
– И, кстати, мадам Мартемьен, отчего вы прекратили занятия? Мои гости этим опечалены, я сам просто убит… Вас не устраивает качество рояля? Может быть, в апартаментах не тот резонанс?
– Да поймите же, месье Клоссен… – От волнения Софья забывала свой и без того плохой французский и сбивалась на родной язык, что, кажется, еще больше забавляло хозяина. – Я не певица, не профессионалка, это просто развлечение, и вы не должны…
Месье Клоссен выбрался из-за конторки, подошел к возмущенной «мадам Мартемьен», с чисто парижской галантностью взял ее руку и поднес к губам. Софья умолкла на полуслове и испуганно посмотрела на него.
– Я умоляю вас не прерывать ваших упражнений, – с чарующей улыбкой попросил хозяин. – У меня уже сейчас в полтора раза больше постояльцев, чем обычно, и все в восторге от вашего пения! Если вы патриотка своей страны, я стану говорить, что вы известнейшая русская прима! Так прикажете сменить рояль?
– О, нет, ради бога! Оставьте этот! – взмолилась Софья, поспешно спасаясь бегством.
В своем номере, слегка успокоившись и придя в себя, она поняла, что, несмотря на авантюрную выходку хозяина, все складывается довольно удачно. Теперь она может петь как хочет и сколько хочет с личного разрешения владельца гостиницы. Этим разрешением Софья пользовалась, впрочем, умеренно: не более часа в день. В остальное время, свободное от ресторанов и оперы, она предпочитала гулять по Парижу, второму большому городу в ее жизни, который вскоре знала как свои пять пальцев. В модные магазины Софья по-прежнему не заходила, – чем, кажется, всерьез обижала Мартемьянова.
– Не пойму я, матушка, тебе что, вовсе ничего не нужно али гордость свою таким манером выставляешь? – бурчал он.
– Какая гордость, Федор Пантелеевич… – отмахивалась, ничуть не лукавя, Софья. – Когда б я гордая была, то разве бы тут с тобой сидела? Но мне ведь и в самом деле ничего не нужно. Гардероб есть, бриллианты тоже, сам же покупал…
– Угу… И не носишь ничегошеньки.
– Ну как же не ношу? И в ресторан вчера надевала, и в оперу… Кстати, составишь мне нынче компанию? В «Гранд-опера» дают «Сивиллу»…
– ОПЯТЬ?! – При упоминании оперы Федор менялся в лице. – Помилосердствуй, матушка, сил моих боле нет… Да сколько ж можно?! Нет, я лучше уж тебя одну слушать буду.
– Да что же мне делать, господи?! – расстраивалась Софья. – Марфу брать никак нельзя, она там храпит на весь партер, это ведь прямое оскорбление артистам!
– Ну и оставь ее здесь! Одна езжай, ложу бери, а я тебя опосля встречу… И чем тебе оперы нравятся, не пойму, хоть режь… Видать, барином надо было родиться, чтоб в этом горлодрании каку-то радость находить!
– Глупости, – решительно возражала Софья, хотя и чувствовала, что Мартемьянов в чем-то прав. – Мой брат покойный оперы не понимал и не признавал, так же, как и ты, а был потомственный дворянин!
– Сволочь он был потомственная, братец твой… – ворчал Федор.
– Не смей! – вскидывалась Софья, хотя он и тут оказывался прав. – Его уж на свете нет, так и помолчи!
– Думаешь, ежели помер, враз ангелом стал?! – не сдавался Мартемьянов. – Нет уж, матушка, не верю я в такие карамболи… Эдак получается, что и у господа бога справедливости не дождешься! Забыла, значит, как твой братец тебя за пятнадцать тысяч, как кобылу призовую…
Но на этом месте она, как правило, вылетала из комнаты, хлопнув дверью на весь этаж.
Через несколько минут являлась Марфа с выпяченной нижней губой и раздувающимися ноздрями, хватала со стола брошенную Софьину шаль, испепеляла Федора взглядом и довольно громко бурчала:
– И до чего же у некоторых совсем совести не стало! Сироту несчастную забижать!!! Связался черт с младенцем, тьфу! И не совестно вам, Федор Пантелеич?! Ведь вроде мужик-то с головой и в годах, а такой моветон допущает!
– Плачут барышня, что ль? – хмуро спрашивал он.
– Много чести – реветь из-за вас! – отрезала Марфа. – В расстройстве полном за рояль сели, слезы сглотнули да музицируют! Сей же час, говорю, к ней подите, повинитесь!
– Слушай, отстань, лист банный! – рычал Федор. – В чем виниться прикажешь, когда я правду говорил?!
– Ах, пра-авды вам захотелось?! – вскипала Марфа, швыряя ни в чем не повинную шаль на пол. – А не подумали, что будет, коли ОНА вам правду кажный день говорить станет? Про вас? Али про себя? Али про всю вот эту жизню вашу?!
– Да пошла ты прочь, чертова кукла!!! Учить меня вздумала! – вскакивал, чуть не переворачивая диван, Мартемьянов.
Нисколько не пугаясь, Марфа мерила его презрительным взглядом:
– И пойду!!! Очень-то надобно оставаться! Тьфу, босота костромская, навязался на нашу с Софьей Николавной голову… – И, задрав подбородок, выходила из комнаты.
Такого рода стычки случались у Федора с Софьей довольно часто – с тех пор как они провели в Вене свою первую ночь и Мартемьянов рассказал Софье кое-что о себе. Уже через день после этого Софья заметила, что покровитель переменился к ней. Теперь он уже не стремился каждую минуту находиться рядом: временами Софье казалось, что Федор даже избегает ее. Да, она по-прежнему постоянно чувствовала на себе его упорный, пристальный взгляд, но теперь Мартемьянов хмурился и отводил глаза, стоило ей обернуться, и целый месяц они почти не разговаривали, хотя по ночам Федор приходил к Софье исправно. Немного обеспокоенная, она поделилась своими наблюдениями с Марфой. У той, как всегда, на все имелся ответ:
– Так это ж дело обычное, барышня, житейское… Они, кобелячье племя, как до своего дорвутся, так уж больше и не люди. Он с вас свое взял – что ж теперь из себя андела небесного кроить? И так уж, поди, измучился характер в поводу удерживать… Все теперь, кончились наши с вами деньки золотые!
– Так что ж это будет, Марфа?! – испугалась Софья.
– Я думаю, ничего особенного. Как у всех, – деловито сказала Марфа. – Вы не переживайте, Софья Николавна, ежели он чего себе дозволит, так я ему!.. Да и деньги у меня имеются, в случае чего соберемся с вами – и домой, в Расею, в Ярославль, Гольденбергу вашему, антрыпрынеру, на радость… Вот, поди, счастлив-то будет свою Афелью из заграниц обратно заполучить!
Софью рассуждения Марфы ничуть не утешили. Нет, ее вовсе не пугала возможность опять оказаться на подмостках провинциального театра – скорее, она этому радовалась. Но поведение Федора, тем более непонятное, что никаких причин для такой перемены Софья не видела, с каждым днем беспокоило ее все сильнее. Когда же они уехали из Вены в Париж, стало еще хуже. Любой возникший между ними разговор Мартемьянов умудрялся свести к Софьиной родне.
Софья никак не понимала, какой резон он находит в том, чтобы время от времени напоминать своей любовнице, что ее брат был пьяницей и мерзавцем, старшая сестра – падшая женщина (Федор, впрочем, употреблял слово похуже), младшая – воровка, а сама Софья – содержанка «у разбойника с большака», как покровитель величал себя. Как ни сердилась Софья, она не могла не видеть, что собственные выходки не доставляют Мартемьянову никакого удовольствия, и, говоря ей это, он злится гораздо больше нее. Софья обижалась молча, но один раз Федор все же довел ее до слез. Полноценной истерики она не устроила: это были всего лишь несколько уроненных на клавиши рояля слезинок. Но при виде их Мартемьянов моментально согласился ехать в оперу (Софья из мстительных соображений приняла его согласие), вечером геройски отсидел, не задремав ни на минуту, четыре часа в ложе рядом с любовницей… а затем целых три дня молчал как каменный, словно позабыв русский язык. Она не знала, что и думать; даже Марфа, казалось, пребывала в недоумении. Все достигло своего апогея в один из теплых июньских вечеров, когда Софья и Федор сидели в ресторане гостиницы.
Мартемьянов был особенно молчалив и сумрачен в тот день. Софье он еще не сказал ничего обидного, но она, видя его неподвижное, темное лицо с опущенными глазами, ждала неприятностей с минуты на минуту. Как и прежде, никаких внешних причин для дурного настроения Федора не было. В открытые окна ресторана заглядывали первые, робко зажигающиеся звезды, пахло вином, жареной дичью и незнакомыми Софье духами, из-за столиков слышался женский смех, негромкий разговор на уже ставшем привычным французском. Месье Клоссен, заложив большие пальцы за проймы жилета, прогуливался по залу, болтая с гостями, на крошечной эстраде играл такой же крошечный оркестр из фортепьяно, скрипки и аккордеона. Возле столика Софьи и Мартемьянова владелец гостиницы задержался особенно долго, выказывая свое восхищение «прекрасной мадам Мартемьен». Та вежливо выслушала поток изысканных комплиментов, улыбаясь и одновременно поглядывая на Федора, который даже не потрудился ответить на приветствие хозяина.
К середине ужина Мартемьянов был уже довольно сильно пьян, чему Софья крайне удивилась, потому что видела его таким только один раз, во время их знакомства в грешневском кабаке. Все эти месяцы за границей Мартемьянов пил не пьянея и даже хвастался Софье, что может «выхлестать на спор» полведра водки и затем на своих ногах дойти до постели. Она верила, потому что, действительно, сколько бы Федор ни выпил, он всегда выглядел трезвым: только в глазах появлялся холодноватый блеск. Сейчас же он еще не выпил и половины своей обычной порции, а его черные глаза уже недобро сверкали из-под сросшихся бровей, и движения стали неловкими. Софья едва успела поймать опрокинутый Федором пустой бокал уже в его полете со стола. Мартемьянов даже не взглянул на это. Софья уже выдумывала предлог, чтобы поскорей уйти из ресторана, когда к их столику вторично подошел месье Клоссен.
– Очаровательная мадам Мартемьен… рискну обратиться к вам с покорнейшей просьбой. О, нет, не только от себя! Мои друзья и гости просят вас!
– О чем же? – растерялась Софья, оглядывая небольшой уютный зал и видя, что и в самом деле все, включая дам, смотрят на нее и улыбаются.
– Если только эта просьба не покажется вам бестактной… и не помешает вашему отдыху… И ваш уважаемый супруг не станет возражать… Не могли бы вы исполнить для нас тот чудесный романс, который разучивали вчера? Мы никогда не слышали такой завораживающей музыки! И такого божественного голоса! Mon dieu, весь первый этаж стоял на лестнице! Служащих невозможно было прогнать работать! Утром мне не давали покоя вопросами! Мы все, все вас просим – медам, месье, просите же мадам Мартемьен!
Маленький зал зааплодировал, мужчины даже встали. Софья автоматически поклонилась, улыбнулась – так, как когда-то улыбалась, выходя на крики «Браво!» навстречу толпе поклонников. Аплодисменты стали сильнее, понеслись крики: «Силь ву пле, мадам Мартемьен!» Машинально Софья взглянула на Мартемьянова.
– Им чего надо-то? – хмуро спросил он.
– Они хотят, чтобы я для них спела, – объяснила Софья.
– Хм… Обойдутся.
– Почему? – Софья подумала, что Мартемьянов, вероятно, усмотрел какое-то оскорбление для нее в этой просьбе, и поспешно объяснила: – Они, видишь ли, вчера слушали, как я учила романс, им понравилось. И вот теперь все… Я не думаю, что это оскорбительно…
– А, так ты сама хочешь, матушка? – В голосе Федора ей послышалась насмешка, и Софья пристально взглянула в его лицо, но он уже отвернулся к окну, коротко сказав: – Делай, как знаешь.
Софья пожала плечами. Встала, встреченная новым взрывом аплодисментов, и пошла на эстраду к оркестру.
Пианист, маленький, пожилой польский еврей, похожий на разочарованную жизнью обезьяну, обнаружил некоторые познания в русском языке, на каком он и выразил «блестящей пани Зофье» свое восхищение, а также осведомился о тональности, в которой она привыкла петь. Романс оказался ему незнаком, и Софья в двух словах объяснила особенности аккомпанемента, после чего привычно, как в театре, подошла к краю эстрады, взяла дыхание и запела.
Это был романс Чайковского «Средь шумного бала», который очень любила Анна. Софья прежде не пела этой вещи, но вчера ей вздумалось ее, наконец, выучить, чем она и занималась прилежно около часа, сама не зная, что произвела такой переполох в гостинице. Романс прекрасно ложился на ее голос, позволяя демонстрировать всю красоту кантилены, и слова Софье нравились, что для нее всегда было не менее важным, чем музыка.
Средь шумного бала, случайно, В тревоге мирской суеты Тебя я увидел, но тайна Твои покрывала черты…Допев до конца, Софья коротко поклонилась, обернулась к пианисту, чтобы поблагодарить за превосходное сопровождение, – и не услышала собственного голоса в поднявшейся буре аплодисментов. Хлопанье и крики неслись даже в открытые окна с улицы, где уже собралась приличная толпа. Софья, подбадриваемая месье Клоссеном, вынуждена была подойти к одному из окон, раскланяться и ловко поймать букетик фиалок и большую чайную розу, еще обрызганную водой и, видимо, только что купленную. Вернувшись на эстраду, Софья первым делом нашла глазами Мартемьянова.
Он сидел за столом, тяжело навалившись на него грудью, огромные кулаки были стиснуты на белой скатерти, глаза мутно, мрачно блестели из-под бровей, и Софья отчетливо поняла, что нужно уходить отсюда. Но в ресторане поднялся такой ажиотаж, что об этом нельзя было и думать. Молодые мужчины выстроились перед эстрадой, словно воинское подразделение, и наперебой умоляли «несравненную мадам Мартемьен» не покидать их в столь прекрасный вечер. Месье Клоссен кричал, что лично встанет на колени и будет умолять мадам Мартемьен осчастливить их еще и еще. Когда же в этом гвалте послышались и женские голоса, Софья поняла, что просто так ее не отпустят и нужно что-то придумать. С трудом дождавшись относительной тишины и призвав на помощь все свои познания во французском, она поблагодарила за великолепный прием, созналась, что очень утомлена сегодня, но из уважения к парижанам готова исполнить еще одну вещь. Но только одну, а потом просит извинить ее: она очень, очень устала!
Ее сбивчивая речь была принята добродушным смехом и аплодисментами. Старый пианист спросил, какое произведение пани решила исполнить. Услышав о том, что Софья собирается петь «Мельника», он рассмеялся и попросил разрешения перевести слова для парижской публики, поскольку без понимания смысла коротенький романс терял всю свою прелесть. Это было произведение для мужского баса, но Софья, дурачась, иногда пела его в высокой тональности для Мартемьянова, который всякий раз хохотал, слушая его. И сейчас она выбрала «Мельника» умышленно, надеясь хоть так привести Федора в сносное расположение духа и удержать от скандала, который, как чувствовала Софья, был недалеко.
Старый пианист, комически тараща глаза и гримасничая, донес до зала перевод романса, после чего послышался взрыв смеха. Софья дождалась вступительного аккорда, решительно подбоченилась и запела:
Возвратился ночью мельник. «Женка! Что за сапоги?» «Ах ты, пьяница, бездельник, где ты видишь сапоги?! Иль мутит тебя лукавый? Это ведра!» – «ведра?.. Право, Вот уж сорок лет живу, – ни во сне, ни наяву Не видал до этих пор я на ведрах медных шпор!»Допевая последние ноты, Софья взглянула в зал и поняла, что ее старания оказались напрасными и катастрофа свершилась: Федор через весь ресторан шел прямо к ней. Под удивленные и негодующие возгласы в зале он, сильно качнувшись, поднялся на эстраду, взял Софью за руку выше кисти и довольно грубо потащил за собой. При этом он, не глядя на нее, довольно громко рыкнул сквозь зубы:
– Вот потаскуха же… Вслед за сестрицей подхватилась…
– Федор Пантелеевич, да что с тобой, господи? – тихо, чтобы не пугать удивленных людей в зале, спрашивала Софья. – Что ты делаешь, мне больно…
Она благоразумно не сопротивлялась, поскольку это было все равно что остановить на ходу паровоз. Но, когда Федор особенно сильно дернул ее, Софья, вдруг разозлившись до темноты в глазах, уперлась изо всех сил, громко выругалась очень крепким русским словом, слышанным от самого же Мартемьянова, и вырвала руку.
Он медленно, как медведь, повернулся к ней. Софья увидела его физиономию с шальными блестящими глазами… и вдруг ахнула от изумления. И, не помня себя, крикнула на весь зал:
– Федор, да что с тобой?! Ты же не пьян!
Всего на миг во взгляде Мартемьянова мелькнуло замешательство, но Софья успела заметить это, а он – понять, что она заметила. В следующее мгновение Федор опустил глаза. Хрипло разрядился сквозь стиснутые зубы длинной, бешеной матерной тирадой и, грохоча сапогами, вышел из ресторана прочь, оставив Софью посредине зала.
В ресторане воцарилась мертвая тишина. Мужчины и женщины смотрели на Софью, которой понадобилось все самообладание, чтобы как можно непринужденнее улыбнуться, извиниться, объяснить, что ее супруг недооценил воздействие на организм абсента и кальвадоса, и пообещать, что завтра она непременно, непременно еще споет для таких прекрасных ценителей русского музыкального искусства, а сейчас вынуждена их покинуть. Ее более не задерживали, проводив очень теплыми аплодисментами и словами благодарности. Месье Клоссен лично довел Софью до ее номера, поминутно извиняясь за причиненные неудобства и выражая надежду, что супруг мадам завтра переменит свое мнение.
– Это навряд ли… – задумчиво произнесла Софья по-русски, но месье Клоссен, кажется, понял, заговорщицки подмигнул ей – мол, все обойдется, – поцеловал ее еще дрожавшую руку и открыл дверь в темные апартаменты, откуда доносились феерические раскаты Марфиного храпа.
Мартемьянов вернулся глубокой ночью – к крайнему удивлению Софьи, уверенной, что он не появится, по меньшей мере, до утра. Сама она так и не смогла заснуть, безуспешно пытаясь найти хоть какое-нибудь объяснение сегодняшнему поведению Федора. Ни страха, ни злости, ни отвращения Софья не чувствовала. Было лишь досадно, что эту несуразную бурлацкую выходку наблюдали только что восхищавшиеся ее пением французы; и непонятно, отчего Федору, почти трезвому, приспичило изображать пьяную ревность. Лежа в постели с заброшенными за голову руками и глядя в фиолетовое ночное небо за окном, Софья привычно прикидывала, хватит ли у них с Марфой средств, чтобы в случае чего добраться хотя бы до Польши, а оттуда написать Анне. В это время дверь медленно открылась, и знакомая огромная фигура качнулась внутрь.
– Спишь, что ли, Соня? – прошептал невидимый в темноте Мартемьянов.
С минуту Софья раздумывала, не прикинуться ли в самом деле спящей, но затем все-таки отозвалась:
– Так же сплю, как ты пьян был. Что с тобой?
– Ничего… А чего ж не спишь-то? Перепугал, что ль?
Софья промолчала, поскольку не знала, что сказать. Мартемьянов сбросил сапоги, тяжело ступая, подошел к постели, сел. Молчание затягивалось. Софья, вовсе не желающая демонстративно хранить ледяное безмолвие, мучительно искала слова, но они не находились.
– Отчего ничего не говоришь, матушка? – наконец вполголоса спросил Федор. – Ну, ругалась бы уж хоть, виноват ведь кругом…
– Тебе зачем это понадобилось, Федор Пантелеевич? – грустно поинтересовалась Софья. – Ведь нисколько пьяным не был.
– Ну, не был… – проворчал он. – Хоть и крепкая эта штука, какую они хлебают, а все не водка наша.
Софья села на постели, обхватив руками колени. Глядя в окно, проговорила:
– Что тебе за радость меня мучить? Я уже сколько дней понять не могу… Если надоела – скажи как есть, соберусь и уеду в чем была. И даже добром вспоминать тебя стану. Все-таки то, о чем я просила, ты исполнил.
– Соня, что ты? – с испугом спросил он, поворачиваясь к ней. – Мне без тебя теперь никак невозможно! Ты что же это себе решила?..
– Не обессудь, но тогда я вовсе ничего не понимаю, – устало сказала Софья, снова вытягиваясь на постели. – Тем, что сегодня было, ты меня не напугаешь, братец мой и не такое себе позволял… Но дня ведь не проходит, чтоб ты меня моей жизнью и семьей не попрекнул! А к чему это? Я ведь, кажется, из себя принцессу крови не ломаю. Хоть и дворянка, а незаконнорожденная, отец же на матери так и не женился, хорошо, имя нам свое дал. Я ведь тебе сама об этом и рассказала. И никто не виноват, что так случилось. Повернись судьба по-другому – и Анна счастливо бы жила, и Серж, и мы с Катей… Но так уж вышло. И не изменить ничего. Я – твоя содержанка, камелия, да… И ты меня не силой взял, я добровольно пошла к тебе. Но об этом отлично помню и сама, знаю свою теперешнюю цену, и иллюзий у меня не имеется. Я даже и обижаться не могу, когда ты мне это повторяешь, – не за что. На правду-то только дураки обижаются, сам говорил.
– А что ж тогда ревела давеча? – не глядя на нее, сквозь зубы буркнул Мартемьянов.
За окном низкие звезды проглядывали сквозь вырезные листья каштанов на бульваре, где-то на площади Пигаль играл аккордеон, на крыше гостиницы орали коты. Луна не появлялась, и в комнате по-прежнему было темно.
– Не знаю, право, как объяснить тебе… – Софья задумалась, перекинула с груди на подушку щекочущую шею прядь волос. – Ну, например, если человек – урод, или инвалид, или просто очень некрасив… Он же смиряется с этим в конце концов и живет как умеет… И радуется, наверно, чему-то, и, может быть, даже счастлив – бог милостив… Но если кто-то рядом станет постоянно, изо дня в день, ему напоминать о его увечье – он, пожалуй, решится и в петлю влезть.
– В какую еще петлю? – снова забеспокоился Мартемьянов, поворачиваясь к ней. – Ты что, ума лишилась, мать моя?!
– Да я же к слову, Федор Пантелеевич. – Софья успокаивающе тронула его за плечо и с удивлением заметила, что он вздрогнул. – Сам же спрашивал – отчего реву…
– Так пошто ж тут реветь-то? – помолчав и снова отвернувшись, негромко спросил он. – Сонюшка, да ты б лучше взяла чего потяжельше – да по башке бы мне стукнула! Не бось, не убьешь, мало ль по ней стучали-то… Али сама б припомнила кое-чего! Я-то святой разве?! Ты ж много чего про меня знаешь, я тебе, на свою голову-то дурную, рассказал…
– Почему «на свою голову»?! – поразилась Софья. – Я, кажется, не давала тебе повода сожалеть… И не воспользовалась ни разу…
– Да, может, я того и боюсь, – неожиданно сознался Мартемьянов. – Что… воспользуешься.
– Но каким же образом?! – еще больше растерялась Софья. То, что у Мартемьянова могут быть подобные мысли, ей и в голову не приходило.
– Да хоть таким же, как и я вот… – мрачно ответил он, опуская голову к самым коленям. – В глаза-то бы уже сто разов могла ткнуть. Я ведь, Соня, не совсем дурак…
– Это я знаю.
– Я ведь все свои слова до единого, до последнего помню. Даже то, что десять лет назад сказывал. И не от пустой башки тебе всю эту гадость говорю. Говорю так-то, а сам вижу… Как ты вся темная становишься, глаза зеленущие блестят, слезы наворачиваются… и жду: вот сейчас ты мне каждое слово припомнишь! Можешь ведь, вся масть козырная на руках, ежели пожелаешь, так приложишь, что не враз встану!.. А ты – молчишь… Уходишь, на пианине своей барабанишь, мне – ни слова, уж хоть бы ругалась – и того нет… Рылом, видать, не вышел даже для брани твоей.
– Ах ты, сукин сын… – подумав, неуверенно сказала Софья в темноту.
Мартемьянов оценил ее старание: из потемок блеснули в усмешке зубы. Затем послышался шорох: Федор придвинулся ближе. Вскоре его голова привычно опустилась на грудь Софьи. Она молча погладила его, глядя в окно, на низкие звезды.
– Жалеешь ты, что ль, меня? – с бесконечным удивлением пробормотал Мартемьянов. – За что, Соня? Ты ж про меня все знаешь, как есть…
– Стало быть, не все, – без улыбки произнесла она.
– Ну да, – согласился он, обнимая ее сильной, жесткой рукой. – И слава богу. Кабы ты, матушка, только ведала…
– Не ведаю и ведать не желаю, – полушутя-полусерьезно перебила его Софья. – Захочешь – расскажешь, нет – жилы тянуть, уж верно, не стану. Мне над тобой власти не надо, Федор Пантелеевич, зря ты этого боишься. Уж совсем не человеком надо быть, чтобы чужой исповедью пользоваться. Но и ты меня, если можешь, пожалей. Уж коли вместе живем, так лучше, чтоб по-человечески все было. А надоем – бросишь, и дело с концом. Не мучайся попусту.
– Прости меня, Соня, – хрипло сказал Мартемьянов, тычась курчавой головой в ее плечо. – Вперед уж не буду, прости…
Она снова погладила его по голове, по спине, по крутым буграм твердых, словно чугунных мускулов, напрягшихся под ее рукой. Приподняв голову, снова посмотрела на звезды. И подумала вдруг совсем о другом: о том, что где-то там, на севере, за сотни верст отсюда он, Владимир, тоже, наверное, видит эти звезды. Видит и думает… о чем?
Наутро Софья проснулась поздно. Стоял розовый солнечный день, в распахнутое окно заглядывали листья каштанов, которые шевелил теплый ветерок, по стене скакали зайчики света. Мартемьянова рядом не было. За стеной громко распевала Марфа: «Ой, опять не видать мне прекрасной доли…»
– Я душой сам не свой, сохну, как в неволе… – подпела ей Софья.
Через минуту Марфа выросла на пороге комнаты с платьем в руках.
– Одеваться изволите? Полдень скоро… Этот черт жареный, мусью Клоссен, уж два раза забегал, самочувствием интересовался! Цветы принесли, и с карточками, стоят в гостиной, ароматничают, аж в голове круженье! Вы вчера им такое столпотворение учинили, что просто мое почтение! Только и разговору на кухне!
– Ты уже и по-французски говорить стала?
– Велика наука… Жевузем[5], да авек плезир[6], и мерде[7] на всякий случай… А еще к вам какая-то дама просилась, стрекотала-стрекотала, как кузнечик, я понимать-то так скоро не могу, говорю – обождите, проснутся барышня… Так она и ждать уселась внизу в ристаранте, карточку вот свою оставила… Прикажете просить?
– А где Федор Пантелеевич? – опасливо поинтересовалась Софья.
– На телеграф умотавши с утра. Говорит – по делу надобно…
– Какое у него настроение?
– Обнакновенно… По матери не выражались, но и не так чтоб очень уж сияли… Это правда, что они вас вчера за волосья из ристаранта выволокли? – вдруг угрожающе засопела Марфа.
– Господь с тобой! – рассмеялась Софья. – Как видишь, все волосья на месте… Да, он вышел из себя, был немного пьян, но…
– Немного?! Да на кухне мне таких страстей понарассказали! Вы ему спуску-то не давайте, Софья Николавна, вот что я вам посоветую! В случае чего, сейчас кидайтесь узлы увязывать да ревите, как корова недоеная, это самое первое дело! Нечего втихомолку по углам всхлипывать, все едино никто не видит! А то много себе воли забрал, собачий…
– Марфа, где карточка? – поспешно перебила ее Софья.
Та положила на одеяло белую карточку с золотым обрезом и, ворча что-то по поводу безнадежного барышниного добросердечия, от которого одни убытки, принялась расправлять на стуле платье. Софья же с недоумением прочла:
– «Мадам Паола Росси, преподавательница искусства бельканто…» Ой, господи… Чего же ей может быть угодно от меня?
– Уж третий час дожидается, – сообщила Марфа.
– Ну, так зови скорей… Постой, сперва умыться, причесываться… И подай платье! Право, ничего не понимаю…
Мадам Росси оказалась невысокой пухленькой итальянкой в старомодном, но дорогом шелковом платье. Она бодрым шагом вошла вслед за Марфой в апартаменты и довольно фамильярно протянула Софье обе руки, обильно украшенные кольцами. Большие, очень блестящие глаза, обрамленные мохнатыми ресницами, красивой формы, но тоже несколько большой рот и обаятельная улыбка почему-то показались Софье знакомыми, но подумать об этом она не успела, потому что гостья с удовольствием уселась в предложенное кресло и затараторила по-французски, время от времени вставляя итальянские слова.
Мадам Росси начала с того, что вчера в ресторане милейшего папаши Клоссена, ее старого друга, имела честь слушать пение мадам Мартемьен. Она опытный человек в мире вокального искусства, но была восхищена и поражена таким чудным тембром, такой божественной кантиленой, таким феерическим диапазоном – ведь у мадам две с половиной октавы, не правда ли? – такой прекрасной постановкой голоса – cara miа[8], это большая редкость, поставленный от природы звук! И вот она здесь, чтобы иметь смелость предложить свои услуги. Мадам Мартемьен необычайно одарена от природы, но даже столь прекрасный голос нуждается в некоторой огранке – исключительно с целью уберечь его от срывов и неумелого использования, ведь это такой нежный инструмент! О, она уверена, что мадам согласится взять у нее несколько уроков – за смешную цену, benintesо[9]! Она имеет свою школу в Неаполе, половина солистов знаменитого Сан-Карло – ее ученики, здесь, в Париже, она ненадолго, только по приглашению своей бывшей ученицы, дебютирующей вскоре в «Гранд-опера», но ради мадам Мартемьен готова задержаться в этом городе. Allorа[10], нельзя позволить пропасть такому великолепному голосу, ведь мадам Мартемьен при своих вокальных данных и красоте может украсить Ла Скала и Сан-Карло – не говоря уже о дикой России. Пусть мадам ее простит, но ведь это так, veramente[11]!
Пока длился сей страстный монолог, Софья пристально вглядывалась в живое, смуглое лицо гостьи. Когда же она, наконец, исчерпала все свои доводы и умолкла, с выжидающей улыбкой глядя на Софью, та вздохнула, улыбнулась в ответ и тихо спросила по-итальянски:
– Tuo nome e signora Paola Giellini, vero[12]? Помните Россию, Смоленскую губернию?
С лица мадам Росси пропала улыбка.
– Санта Мадонна… – пробормотала она, в свою очередь вглядываясь в лицо Софьи. – Санта Мадонна, сан Дженаро… Синьорина Греш-не-ва?! Но… Но… которая же из трех?
– Софья. София – помните? Вы были учительницей пения у Анны, но я тоже…
Договорить она не успела: мадам Росси извергла пронзительный вопль «Diavolo!!!», который был слышен, вероятно, даже в предместье Сен-Жермен, и стиснула Софью в объятиях. Примчавшаяся на этот звук Марфа застала обеих женщин обнимающимися и перебивающими друг друга сразу на трех языках: русском, французском и итальянском.
– София… Санта Мадонна, София, как, однако, шутит судьба! Да, вот теперь я узнала, действительно узнала! Ах, какая встреча, какая удивительная встреча!
– Отчего же вы теперь – синьора Росси?
– Ах, всего лишь вышла замуж… София, София, ну кто бы мог подумать?! Как поживает ваше семейство? Как сложилась ваша судьба? Я покидала вас в тяжелое время…
– Чаю выпить изволите? – неприязненным басом осведомилась Марфа, стоящая в дверях.
– Si! – повернувшись к ней, хором ответили мадам Росси и Софья.
Бывшая учительница музыки в доме Грешневых и ее бывшая ученица проговорили несколько часов. Софья поведала грустную историю их семейства, не скрывая, рассказала, как погиб Сергей, кто теперь Анна, кем стала Катерина и во что превратилась она сама, Софья. Мадам Росси ахала, всплескивала руками, поминутно поминала Мадонну и святого Януария и несколько раз даже принималась плакать. О себе она рассказала, что, вернувшись в родной Неаполь с довольно приличным капиталом, заработанным в доме генерала Грешнева – мир праху его, прекрасный был человек и такой щедрый! – она открыла небольшую музыкальную школу для девушек из хороших семейств. Школа получила известность даже за пределами Неаполя, из нее вышли несколько знаменитых оперных певиц. Затем синьора Джеллини стала женой владельца небольшого оперного театра Пьетро Росси и теперь, не бросая своей школы, вела класс вокала для певцов театра мужа. Тот часто находился в разъездах, и синьора Росси сама заправляла делами театра: была и режиссером, и антрепренером, и хормейстером. В Париж она приехала, чтобы посмотреть на дебют одной из своих учениц, и вот – санта Мадонна, встреча, как в романе!
– Я всегда говорила, что вы, София, станете великолепной певицей! – с гордостью, словно в этом была ее заслуга, повторила мадам Росси. – Я помню, как вы повторяли все упражнения Анны без малейшего труда! Нет, я ничего не могу сказать, ваша сестра была очень прилежной ученицей, но то, для чего ей требовалась неделя занятий, вы воспроизводили в ту же минуту!
– И вы слышали меня вчера? – осторожно спросила Софья.
– Да! И слышала и видела! Этот ужасный человек – ваш покровитель?
– Он не такой плохой, поверьте. Просто… – Софья пожала плечами. – Так уж сложились обстоятельства.
– О, вы влюблены в это чудовище?! – с очаровательной бесцеремонностью поинтересовалась мадам Росси. – Сие меняет дело, но все же, София…
– Не влюблена ни на миг, – отрезала Софья, посмотрев на итальянку таким взглядом, что та мгновенно сменила тему.
– София, дорогая, мое предложение по-прежнему в силе! Вы просто не имеете права пренебрегать своим талантом! Вам, как вы говорили, приходилось петь на сцене?
– Да, я играла в театре, пела немного, но… это были провинциальные спектакли и соответствующий репертуар. Оперу я не пела.
– А что же мне рассказывал этот старый аферист Клоссен?! Не поверите, он уверял, что вы известнейшая российская примадонна!
– Ах, месье Клоссен… – рассмеялась Софья. – Это все неправда. Он просто привлекает внимание к своей гостинице…
– Хороший способ, – одобрительно кивнула мадам Росси. – Скажите, София, ваш покровитель согласится оплачивать уроки вокала для вас?
– Не… не знаю. Вероятно, да… – При мысли о том, что ей придется просить у Мартемьянова денег, у Софьи мгновенно испортилось настроение. Мадам Росси почувствовала это и, придвинувшись ближе, доверительно сказала:
– Напрасно вы расстраиваетесь, cara mia[13]. Единственная польза от мужчин в том, что они оплачивают женские капризы. Ну и, разумеется, без них не сделаешь ребенка… к сожалению.
Это сожаление так явно было написано на смуглом, живом, большеротом лице мадам Росси, что Софья невольно рассмеялась и пообещала поговорить с «чудовищем». Итальянка радостно всплеснула руками и попросила Софью проследовать к роялю.
После того, как Софья спела по просьбе преподавательницы свой вчерашний романс, затем – арию Розины и напоследок – партию Амнерис из «Аиды», мадам Росси одобрительно покачала головой:
– Да, мне вчера не показалось… Великолепный диапазон, больше двух октав! Небольшая тремоляция в верхнем регистре, но это можно исправить… Нижние ноты загнаны в глубину, будем выводить… Кто вам ставил эти партии?
– Никто… – смутилась Софья. – Мадам Джеллини… то есть Росси… Я в этом году первый раз за границей и в оперу тоже попала впервые… Все, что я знаю, мне или пела Анна, или я слышала сама в театрах.
– То есть вы хотите сказать, что запомнили арию Амнерис, одиножды прослушав ее в «Гранд-опера»?!
– Дважды, – поправила Софья. – Я слушала «Аиду» два раза, и вот…
– Cara mia, вы с каждой минутой все больше меня поражаете, – сообщила мадам Росси. – Вам непременно надо приехать в Неаполь, непременно! Хотите, я сама буду просить об этом вашего покровителя?
– О, нет, не стоит! – При мысли об этом Софье стало дурно. – Я все сделаю сама. Он иногда бывает… непредсказуем.
– О, мадонна, бедная девочка… – Мадам Росси участливо потрепала Софью по руке. – Allora, я полагаю, что ваше положение мы сможем исправить…
– Каким же образом? – Софье стало смешно. Но мадам Росси, напротив, приобрела крайне серьезный вид.
– София, вам ведь приходилось уже вести независимую жизнь?
– Да, и крайне нищую…
– Обещаю, что более вы такой жизни вести не будете. У вас редкий талант, хотя вы и сами этого не понимаете. У вас великолепная красота, magnifica[14]! Вас ждет блистательная карьера – с моей помощью и при условии, что вы станете стараться. Очень скоро вы сами будете содержать себя и сможете отказаться от покровительства этого… м-м… варвара.
Как ни пыталась Софья сделать вид, что полностью верит заманчивым обещаниям, все-таки что-то скептическое, наверное, проскользнуло в ее лице, потому что мадам Росси нахмурилась. Но лишь на мгновение. В следующую минуту она уже заговорщицки улыбнулась, наклонилась вплотную к Софье и поведала:
– Вот вы не верите, bambina mia[15], а я клянусь святым Дженаро: никогда в жизни не видела под окнами этого старого жулика Клоссена таких толп народу! В Париже знают толк в опере, уверяю вас! Ну, так что же? Как говорят у вас в России – на руках?
– По рукам, – поправила Софья. – Благодарю, мадам Росси. Завтра я извещу вас о своем решении.
Мартемьянов появился в гостинице к вечеру, уставший, но в сносном настроении: к радости Софьи, уверенной, что после их ночного разговора Федор, как всегда, будет злее черта. Софья, целый день думавшая о предложении мадам Росси и даже обсудившая его с Марфой, уже давшей добро на переезд в Неаполь, так и не приняла еще решения. Да и глупо было что-то решать, зная, что последнее слово все равно останется за Мартемьяновым. Когда он вошел в комнату, Софья как раз сидела за роялем и наигрывала какую-то канцону, в который раз спрашивая саму себя, хочется ли ей вовсе ехать в Италию? Восторги бывшей гувернантки ничуть ее не воодушевили, она знала, что подняться до высоты итальянского бельканто не сможет никогда, и подозревала, что это предложение мадам Росси сделала под влиянием не столько Софьиного неземного голоса, сколько мыслей о богатстве ее покровителя, который станет оплачивать занятия.
– В ресторан-то спустимся, матушка? – От знакомого низкого голоса, внезапно раздавшегося за спиной, Софья вздрогнула и сфальшивила в аккомпанементе. – Нехай лягушатники увидят, что я тебя вчерась ночью не придушил, как этот твой Ателла…
– Что ж так пугаешь, Федор Пантелеевич? – упрекнула Софья, вставая ему навстречу. – И как тебе удается так ходить? Как кот по крыше, услышать нельзя…
– Да много чему выучиться-то пришлось… Чего делала целый день? Нешто так с роялью в обнимку и сидела?
Софья вздохнула как можно глубже, прямо посмотрела в лицо Мартемьянова и выпалила:
– Федор Пантелеевич, у меня просьба к тебе.
– Ну, слава богу, наконец-то, – помолчав, без улыбки произнес он. – Говори, Сонюшка. Чего хочешь?
Софья, героическим усилием преодолев замешательство, начала излагать подробности сегодняшней встречи с итальянкой. Мартемьянов слушал не перебивая, его некрасивое лицо не выражало ни недовольства, ни радости, черные глаза спокойно блестели из-под бровей. Когда Софья закончила, он некоторое время молчал, постукивая огромными грубыми пальцами по полированной крышке рояля и глядя в распахнутое окно. Софья поспешно добавила:
– Если это невозможно, Федор Пантелеевич, то я…
– Все возможно, Соня, – перебил он. – Наверное, этак-то и лучше даже… Марфа знает?
– Конечно, – подтвердила Софья, слегка озадаченная его словами. – Отчего же лучше?
– Оттого, что мне до дома надо. Уж какую телеграмму получаю от Андроныча, что без меня дело шатается… Воры ведь кругом, ни черта не боятся, а меня уж два месяца нету, некому сполох навести! Я как раз сейчас ехал, думал, как тебе сказать. Ведь не захочешь, поди, в Кострому-то катиться?
– Куда велишь, туда и покачусь, – сухо ответила Софья. – Так, значит… мы возвращаемся в Россию?
– Я возвращаюсь, – уверенно возразил Мартемьянов. – Есть у меня пара мыслишек, коли их проверну как хочу – царицей станешь. Не думай, мне тебя в Кострому волочить никакой радости нет. Уж ежели в России с тобой будем жить, так в столицах, и я костьми ляжу, а до этого доберусь. Ты, коли хочешь, оставайся пока здесь. Поезжай в Италию, пой, ежель желание имеется… А я, как управлюсь, ворочусь за тобой.
Удивленная до глубины души Софья во все глаза глядела на него. Она не могла и подумать о том, что Федор согласится оставить ее одну за границей, и сейчас боялась поверить собственным ушам.
– Федор Пантелеевич, но как же… И ты меня одну отпустишь?!
– Не одну, а с Марфой, – поправил он. – Это все равно что полк охраны дать. И денег вам оставлю, сколь потребуется, голова о том болеть не будет.
– Но… – Софья все еще не могла успокоиться. – Но что будет в случае, если это какая-нибудь авантюра? Если у меня ничего не выйдет? Если эти итальянцы – мошенники, в конце концов? Все же я не видела мадам Джеллини десять лет, а люди с годами меняются… и обычно к худшему.
– Верно мыслишь, матушка, – с одобрением заметил Мартемьянов. – Всегда знал, что ты моей породы… Так я ж тебя и не одну отпущаю, а с Марфой. Она баба умная, вперед тебя все наскрозь разглядит… – Он неожиданно усмехнулся. – Вот ей-богу, ежели бы от тебя до смерти не ошалел – на Марфе бы твоей женился!
– А женись, Федор Пантелеевич, – в тон ему посоветовала Софья. – Я ей в приданое весь свой гардероб с бриллиантами отдам и к ней в приживалки пойду.
Мартемьянов расхохотался так, что из соседней комнаты примчалась испуганная Марфа.
– Мать, ты за меня замуж пойдешь? – сквозь смех спросил ее Федор.
Марфа подозрительно осмотрела его с ног до головы, взглянула на грустно улыбающуюся Софью за роялем, насупилась и объявила:
– Грех вам, Федор Пантелеич… Умный вроде мужик, а такие глупости шутите.
– Вот горе-то, и эта несогласная… Так всю жизнь, видать, бобылем и прохожу! Ну да ладно, знать, судьба. – Мартемьянов потер ладонью лицо и тут же стал серьезным. – Вот Софья Николаевна в Италию рвется петь учиться, а мне в Кострому, дела утрясывать, надо. Поедешь с ней, что ль?
– А вы как думали? Одну отпущу?!
– Как тебе эта мадам нонешняя показалась? Я-то ее не видал…
– Стриг черт кошку, – подумав, ответила Марфа. – Визгу много, а шерсти мало… Но и вреда большого, думаю, не будет. Ништо, съездим, посмотрим, что там за опера такая.
– Ну, коли так, то и я спокоен. Спасибо, мать, иди шмотья увязывай.
Марфа демонстративно посмотрела через его плечо на Софью.
– Ступай, Марфа, собирай вещи, – подтвердила та, и верная девка молча ушла.
– Вот оторва, – снова засмеялся, провожая ее глазами, Мартемьянов. Тяжело поднялся, подошел к Софье, по-прежнему сидящей за роялем, обнял ее. Долго стоял молча, неподвижно, пока она, чуть не задохнувшаяся от его горячего дыхания, обжигающего ей шею и плечо, не спросила удивленно:
– Да что ты, Федор Пантелеевич?
– Боюсь я все-таки тебя оставлять, Соня, – серьезно сказал он. – Не того боюсь, что стрясется чего… Того Марфа не допустит…
– Чего же в таком случае? – улыбнулась она. – Опасаешься, что влюблюсь там в кого-то?
– Всяко быть может.
– Не может, – подумав, медленно произнесла Софья.
– Отчего ж?
– Знаешь сам.
Федор вдруг резко, с силой развернул ее к себе. Софья невольно охнула от боли, но не вырвалась. Взглянула на Мартемьянова снизу вверх в упор, с вызовом.
– До сих пор по нему сохнешь, матушка?.. – хрипло спросил он.
Софья пожала плечами. Отвернулась. С минуту Федор молча стоял рядом с ней. Затем, так ничего и не сказав, повернулся и вышел. Большая дверь бесшумно закрылась за ним. Подождав, пока его шаги затихнут на лестнице, Софья медленно опустила голову на клавир оперы «Аида» и тихо заплакала.
Жара в это лето держалась в Москве до последнего, лишь в конце августа с севера приползли тяжелые тучи. Плотно обтянув сизым кольцом окраины и монастыри, они нагнали холодной тени на солнечные, сухие улицы, заставили потемнеть красные, желтые и рыжие кроны лип и кленов на бульварах. В переулках засвистели холодные сквозняки, и полил бесконечный дождь: в один день началась осень.
Глубокой ночью в Столешниковом переулке на крыльце дома графини Грешневой Владимир Черменский прощался с хозяйкой. Лицо молодого человека было мрачнее черного, затянутого тучами неба. Анна, кутаясь в шаль, стояла рядом с Черменским, держа руку на его рукаве, и взволнованно говорила:
– Владимир Дмитрич, я уверена, что здесь какое-то недоразумение. Софья очень молода, на нее могло найти помраченье, ее могли обмануть, запутать, ввести в заблуждение. Я умоляю вас не делать скорых выводов! Подождите хотя бы, пока я напишу к ней сама, пока объясню…
– Анна Николаевна, – сдержанно перебил ее Черменский. – Ни вы, ни я не имеем права влиять на решения Софьи Николаевны. Разумеется, ее поступкам есть объяснение, и вы их как старшая сестра непременно получите… но мне, боюсь, дожидаться уже нечего.
Анна вздохнула, понимая, что Черменский прав.
– Когда вы уезжаете?
– Вероятно, уже завтра. Мой адрес вам известен. Если во мне будет необходимость – напишите, пожалуйста. Я же, со своей стороны, более вас беспокоить не буду.
– Напрасно вы так, Володя. Впрочем… у вас есть на это право, – опечаленно сказала Анна. – Если будете в Москве – сделайте милость, зайдите в гости.
– Непременно. Честь имею, Анна Николаевна. – Черменский поцеловал руку молодой женщины, коротко поклонился, подождал, пока та скроется в доме, и зашагал, перепрыгивая лужи, через двор к флигелю, где жила прислуга. Остановившись у закрытой двери, он постучал и сердито крикнул:
– Северьян!!! Оставь Феклу в покое, выходи!
Северьян с испуганной физиономией как ошпаренный вылетел из флигеля, держа в руках смятую рубаху:
– Да чего ж вы так орете-то, Владимир Дмитрич?! У меня баба чуть с кровати не сверзилась! Этак-то можно всякой мужской силы лишить…
– Лишишь тебя, жеребца, как же… Идем.
– Да что стряслось-то?! От Софьи Николавны вести, что ль, худые?
Северьян был прав. Черменский приехал в Москву в начале августа, сразу же отправился в особняк в Столешниковом и узнал от Анны, что никаких известий от Софьи за все лето не появилось. Еще около двух недель Владимир находился в Москве, утрясая свои дела в земельном сообществе, и уже собирался домой, однако сегодня вечером неожиданно получил записку от графини Грешневой, в которой она просила молодого человека незамедлительно посетить ее. Владимир, бросив все, на извозчике прилетел в Столешников, но у Анны опять было полно народу, и молодому человеку пришлось просидеть до ночи, дожидаясь ухода последних гостей, прежде чем удалось поговорить с хозяйкой.
Графиня выглядела расстроенной и сбитой с толку. Она объяснила Владимиру, что сегодня наконец получила долгожданное письмо от сестры. На конверте стоял парижский штемпель, но Софья сообщала, что более в Париже ее не будет, так как она отправляется в Неаполь. Письмо датировалось июнем и, очевидно, долго блуждало, прежде чем попасть по адресу. Это послание сестры Анна уже не дала прочесть Владимиру, да тот и не решился попросить, понимая по выражению лица графини Грешневой, что там содержатся какие-то интимные подробности. Анна дала понять, что между Софьей и ее неожиданным покровителем из торгового сословия завязались какие-то странные отношения, которые, похоже, не скоро закончатся.
– Владимир Дмитрич, клянусь вам, я сама в растерянности, – удрученно говорила графиня. – Софья пишет, что уехала с этим купцом от отчаяния, что вы обманули ее, что ею было получено лишь одно ваше письмо да еще какая-то ужасная записка, в которой вы просите ее не искать с вами встреч…
– Вздор! – защищался Черменский. – Как я мог не искать с ней встреч, если уже год только этим и занимаюсь?! Анна Николаевна, право, я столько раз говорил вам…
– Володя, я верю, слово чести! Но… ничего не понимаю.
Владимир тоже ничего не понимал. И сейчас, шагая по темной Неглинке, даже не мог вразумительно объяснить наседающему на него Северьяну, что, собственно, произошло. Тот, впрочем, догадался сам:
– Не выгорело, стало быть, наше с вами дело, Владимир Дмитрич? Так она с Мартемьяновым по заграницам и мотается?
– Выходит, брат, так, – сквозь зубы сказал Владимир.
Северьян сочувственно вздохнул, но, посмотрев на лицо Черменского, комментировать ситуацию не стал.
Путь их в номера Солодовникова в Колокольниковом переулке, где Владимир обычно останавливался по приезде в Москву, лежал через Грачевку – темную, бесфонарную, со странными звуками, доносящимися из подворотен. В этих звуках мешались возня, женский смех, мужское ворчание, хлопанье дверей, приглушенный визг и звон битой посуды: здесь находились публичные дома и по ночам шла нелегальная торговля водкой. Северьян, который пропадал тут почти безвылазно все время, которое они с Черменским провели в Москве, шагал по Грачевке, как по собственной вотчине, вертя головой, изредка отвечая на приветствия бесформенных, скользящих вдоль стены теней или сам окликая кого-то. Владимир не обращал на это внимания до тех пор, пока товарищ не остановился около едва различимой в стене двери, контуры которой с трудом высвечивались тускло мигающим красным фонариком.
– Владимир Дмитрич… Может, изволите зайтить?
– Ты что, рехнулся? – удивился Владимир. – Феклы тебе мало? Иди один, коль охота есть, а меня уволь. Я спать хочу.
– Влади-и-имир Дмитрич… – заныл Северьян. – Я ж вас одного не пущу, сами знаете… Места тут пакостные, не ровен час башку проломят… Ежели из-за угла да гирькой, да без упреждения, так и шанхайский мордобой не поможет!
– Ну, так в чем же дело? Идем к Солодовникову?
– Ва-а-аша милость… Да вы хоть о своем здоровье подумайте!
– При чем тут мое здоровье, дурак?!
– Да как же ни при чем, когда вы все лето, аки схимник святой, в Раздольном прожили?! У меня просто сердце напополам раздиралось! И Фролыч расстраивался, а ему это по годам вовсе вредно… Ваша Анисья-ключница уж как перед вами с самого Иванова дня задом крутила, уж как титьками трясла, а титьки-то – чудо господне! У меня просто сапогом валяным все торчало, не знал, куда спрятать, чтоб людей не пугать, а ваша милость… Такую бабу все лето обижали! С вас за это на том свете спросится…
– Ну уж не обижал я ее… – буркнул Владимир.
Северьян обрадовался:
– Взаправду?! И сколь разов не обижали?! И как это я не видал?
– Вот забыл тебя позвать свечу подержать! – разозлился Владимир. – Идем отсюда, говорю!
– Ну, Владимир же Дмитрич, ну в последний раз! – взмолился Северьян. – Уезжаем ведь завтра, сами сказали, а у меня тут…
– Так у тебя здесь тоже предмет? – наконец-то понял Черменский. – Так бы и говорил сразу, кобель… Ну, черт с тобой, идем. Только живо. Там тоже уже, верно, все заканчивается, и барышни твои устали…
Владимир знал, что говорил: несколько лет назад, когда друзья вместе бродили по Крыму, Северьян пристроился ненадолго вышибалой в публичный дом в Одессе, и они оба были там своими людьми. Да и во время службы в полку Черменскому часто доводилось посещать с компанией других офицеров местечковые «заведения». В московских домах терпимости он не бывал и менее всего собирался знакомиться с ними сейчас, но еще меньше хотелось спорить с Северьяном, который, едва войдя в полутемную комнату, освещенную двумя керосиновыми лампами, заорал:
– Эй, девки, как работы идут?! Авдотья Лукинишна, доброй ночи!
– Какая ночь, бешеный, утро скоро… – лениво отозвалась «мадам» – еще не старая особа в бархатном платье, раскладывавшая на буфете обтерханные карты. – Девицы все по кабинетам заняты, тебе каку надобно-то? Посиди обождь, какая ослобонится, тую и заберешь. Или вон Манька спит, поди растолкай. До ней сегодня приказчики из армянского магазина приезжали, вчетвером совсем уходили девку… Тебе вина-то дать, али погодишь пока?
Владимир удивленно посмотрел на Северьяна.
– Так у тебя здесь никого? Зачем выдумывал?
– Да вы садитесь, Владимир Дмитрич, осмотритесь, – не отвечая на вопрос, усмехнулся Северьян. – Скоро и девки повылезут, сами выберете… Девки-то здесь знатные, не за кости же крашеные Лукинишна по три рубля берет! Довольны будете.
Владимир, пожав плечами, опустился в одно из кресел у стены. Мадам посмотрела на нового «клиента» с интересом; крякнув, поднялась было, но Северьян сделал ей чуть заметный знак, и она села на место, но продолжала тем не менее пристально разглядывать Черменского блестящими, как у мыши, глазами. Тот не обращал на нее внимания, осматриваясь по сторонам. Когда глаза привыкли к тусклому свету, Владимиру стало видно, что они находятся в довольно большом зале с плюшевыми, плотно задернутыми занавесями, буфетом и креслами вдоль стен, в одном из которых, вольготно раскинувшись, спала богатырским сном довольно увесистая девица в залитом вином голубом платье. Желтые ее кудри развились и неряшливо висели по сторонам бледного, как сырое тесто, лица с рябинами и прыщами. Вскоре появилась еще одна, костлявая, худая еврейка с растрепанной головой, хрипло поздоровалась с Северьяном, вопросительно посмотрела на Черменского, подошла было, но Владимир качнул головой, девица облегченно плюхнулась на стул у буфета и закурила длинную пахитоску. Несколько мужчин, выйдя из задней комнаты, по стенке пробрались к выходу. Еврейка широко, не стесняясь гостей, зевнула, спящая девица пробормотала во сне: «Ох, ваше благородие, да сапог-то сымите с меня…» Мадам переложила пикового короля к тузу и удовлетворенно вздохнула, испугав ползавшую по бутылке мадеры муху, которая с жужжанием взвилась к закопченному потолку. Это были скучные предутренние часы самого заурядного публичного дома, и Владимир никак не мог взять в толк, зачем Северьян затащил его сюда. Он уже собирался снова спросить об этом, когда товарищ вдруг вытащил из-за голенища сапога свернутую трехрублевку, встал и громко позвал:
– Марья Аполлоновна! Сыграйте, что ли, чего повеселей, пошто ж киснуть-то?
Только тут Владимир заметил, что в зале находится еще одна женщина. Она сидела у дальней стены спиной к ним за закрытым роялем, опустив голову на руки, и не то дремала, не то просто отдыхала. Что-то знакомое показалось Владимиру, когда он посмотрел на эту прямую узкую спину, черный узел тяжелых волос на затылке, длинную шею. Услышав окрик Северьяна, женщина не повернулась, лишь подняла голову и медленно взялась за крышку рояля.
– Не трогал бы хоть сегодня Марью-то, лешак… – сипло проворчала из-за буфета мадам. – Она и так, как скаженная, целую ночь пробарабанила, господа танцевать желали, весь паркет каблуками раздолбили, да ты тут еще разошелся…
– Ну хоть самую малость, Марья Аполлоновна! Уважили б знакомого-то старого! И не даром вам будет! – не унимался Северьян, и Владимир с удивлением посмотрел на него. Но тот не замечал взгляда Черменского, не сводя глаз с женщины за роялем, так и не обернувшейся к нему. Казалось, она не слышала ни слов Северьяна, ни возражений мадам. Справившись с крышкой рояля, пианистка опустила руки на клавиши и заиграла романс «Ночи безумные».
Северьян, помолчав с минуту, ухмыльнулся и мотнул головой:
– Марья Аполлоновна, да ведь такое только на похоронах слушать! Давайте уж военное, что ль, али камаринского! А может, сами сплясать изволите? «Барыню»! Пройдитесь, сделайте радость!
– Замолчи, свинья, – вдруг резко сказал Владимир.
Северьян всем телом повернулся к нему, и в раскосых глазах блеснула незнакомая злая искра. Но Владимир не заметил этого, вскочив и быстро подойдя к роялю. Женщина обернулась на шаги Черменского, и в лицо ему плеснула тьма больших, усталых и измученных глаз.
– Маша? Ты?!! – не веря глазам, спросил он.
– Господи… Черменский… Володя… – прошептала она, невольно поднося руки к лицу и глядя на него сквозь пальцы. – Вот так и знала… Я еще неделю назад поняла: если этот твой каторжник появился, стало быть, и ты поблизости.
– Маша! Но… как ты здесь?.. – Не находя слов, Черменский обвел рукой полутемную залу. – Что ты здесь делаешь? Как… как такое могло получиться?!
– Да вот получилось, – отрывисто произнесла она, отворачиваясь в сторону. Неловким движением взяла с крышки рояля скомканный платок, поднесла его к губам и хрипло, тяжело раскашлялась. Владимир молча, потрясенно смотрел на нее.
С Марьей Мерцаловой, трагедийной актрисой, на которой держался весь репертуар костромского театра, он познакомился два года назад. Высокая, стройная, с великолепной фигурой, тяжелой черной косой, звучным низким голосом и «совершенно макбетовскими», по словам антрепренера Чаева, глазами, она блистала на сцене в ролях Медеи, королевы Гертруды и Химены, играла в пьесах Островского и всякий раз имела бешеный успех, несмотря на молодой возраст: они с Черменским были одних лет. Даже дремучее провинциальное купечество, понимавшее в шекспировских трагедиях два слова через третье, орало и топало сапогами в партере и бельэтаже, отбивая ладони: «Ура, Мерцалова! Ура, Марья Аполлоновна! Еще! Бис! Браво!» Мерцалова имела множество поклонников из состоятельных кругов общества; время от времени сходилась с кем-нибудь из них близко, у нее водились бриллианты, дорогие туалеты. Когда Черменский оказался в костромском театре, он, как и все, восхищался красотой и талантом Марьи Аполлоновны, но влюблен не был ни на минуту и не замечал откровенного внимания к нему самой актрисы до тех пор, пока ему не открыл глаза на это все тот же Северьян: «Совесть-то есть у вас, Владимир Дмитрич? Прямо не по-христиански так-то над женщиной издеваться! Уж весь тиятр об этом говорит, статистки хихикают, а вы из себя прынца датского ломаете! Да если б на меня такая хоть краем глаза взглянула, я б от счастья подох… Грех вам, ей-богу!»
Вскоре Владимир и Мерцалова стали встречаться в номерах городской гостиницы, но жить с Марьей, как многие актерские пары, невенчанными мужем и женой Черменскому не хотелось. К счастью, Мерцалова, казалось, была полностью довольна сложившимися между ними легкими, необременительными для обоих отношениями. Любовники расстались внезапно, даже не попрощавшись, когда в один из майских вечеров перед самым началом представления в уборную к Владимиру ворвался театральный сторож и выпалил, что Северьяна час назад поймали в конюшне «у этого кромешника» Федора Мартемьянова. Черменский, забыв о спектакле, полетел выручать друга и на несколько месяцев попал в кабалу. Предположить такого поворота событий он не мог, и переговорить с Марьей ему так тогда и не удалось.
Следующая встреча с Мерцаловой была такой же случайной, как и расставание. Это произошло полгода спустя в привокзальной гостинице Калуги ветреным осенним вечером. Владимир к тому времени уже закончил службу у Мартемьянова и вместе с Северьяном ездил из города в город в поисках Софьи. Мерцалова же только что порвала с очередным поклонником, осталась совсем без денег и направлялась в Ярославль в надежде на ангажемент. Бывшая любовница показалась Черменскому в тот вечер очень подавленной. Когда он проводил Марью в ее дешевый номер с протекающей крышей и отставшими от стен обоями, та, в упор глядя на него черными огромными глазами, в которых дрожали слезы, попросила его остаться. И Владимир не смог ей отказать.
Наутро Черменский ушел, не дожидаясь, пока Марья проснется. Ушел, оставив ей записку самого банального содержания, какие, вероятно, писали сотни мужчин до него. В нескольких строках на плохой гостиничной бумаге он просил прощения, брал вину за произошедшее на себя, уверял, что недостоин любви такой женщины и что более встреч у них не будет. Черменский понимал, что поступает малодушно, поскольку Марья, несомненно, все еще любила его, но… Он уже не мог забыть зеленых отчаянных глаз Софьи Грешневой, тоненькой девушки с мокрыми каштановыми кудрями, вытащенной им из ледяной воды Угры. Владимир ничего не рассказал Мерцаловой о Софье, но про себя точно знал: больше ему и Марье незачем быть вместе.
Их последняя встреча случилась этой весной, в Ярославле, куда Черменский примчался после того, как не получил ответа ни на одно из своих писем к Софье. Но театральная труппа, с которой играла мадемуазель Грешнева, уже покинула город, и в нищем переулке, где снимали дома и комнаты актеры, Владимир нашел только Мерцалову, за неделю до его приезда разрешившуюся мертвым младенцем, измученную, больную, почерневшую, изменившуюся настолько, что он не сразу узнал прежнюю «богиню и царицу грез». Марья опять была без денег, опять ждала ангажемента. Она рассказала Черменскому о том, что Софья Грешнева, с таким блеском дебютировавшая несколько месяцев назад в роли Офелии, уехала в Москву с поклонником из купцов, неким Федором Мартемьяновым. Услышав его имя, Владимир чуть ума не лишился. Первое, что пришло ему в голову, – купец увез Софью силой, добровольно поехать с ним она просто не могла. Мерцалова пыталась убедить Черменского, что молодая актриса сама приняла решение, но Владимир не поверил этому. И сразу же уехал из Ярославля в Москву, к сестре Софьи, не расспросив свою бывшую пассию более ни о чем.
И вот Маша сидит перед ним в полутемном зале плохого борделя, опираясь спиной на крышку рояля, глухо кашляет в платок, смотрит неморгающими, черными, блестящими глазами, молчит, а по впалой щеке медленно ползет одинокая слеза. Владимир машинально протянул руку, смахнул ее. Мерцалова не отстранилась, но болезненно поморщилась.
– Оставь, Володя… Что уж теперь…
– Почему ты здесь? – снова спросил он. – Как это возможно, Маша?
– Все под солнцем возможно, Владимир Дмитрич, – без улыбки проговорила она.
– Но… когда мы виделись в последний раз… Ты, кажется, ждала ангажемента. Собиралась ехать в Тулу… Что произошло?
– А ты не помнишь, какой меня застал? – криво усмехнулась Мерцалова. – Ну да, где же тебе заметить это было… Взглянуть как следует, и то не удосужился, ничего, кроме Соньки Грешневой, в глазах не стояло, видела я… А я, Володя, после родов так и не оправилась толком. Всю весну и половину лета в доме провалялась, еле с постели поднималась, ходить едва-едва могла, а уж о том, чтобы ехать куда-то… Меня хозяйка из одного божьего добросердечия на улицу не выкинула, да и ты, слава богу, милостью своей не оставил… Не забыл бумажек-то, как уличной, кинуть…
Ему кровь бросилась в лицо: Владимир вспомнил о тех ассигнациях, которые он положил на крыльцо рядом с молча глядящей на него женщиной, перед тем как прыгнуть в пролетку. Но… чем же еще он должен был помочь ей тогда? Что сделать?
– Маша, зачем ты так говоришь?.. У меня в мыслях не было никогда…
– МЕНЯ в мыслях у тебя никогда не было. Только и всего, – спокойно, без упрека, без гнева произнесла она, не сводя с него сухих, лихорадочно блестевших глаз. – Да уж что теперь, Володя… Я тебе не счета выписываю, не беспокойся. Видит бог, никогда не думала, что дурой такой окажусь. За свою собственную глупость и расплатилась. Сполна.
Она снова закашлялась, судорожно прижав к губам платок. Умолкнув, поспешно спрятала платок в рукав, но Черменский успел заметить на нем темные пятна.
– У тебя чахотка? – По спине пробежал мороз.
Мерцалова равнодушно кивнула.
– У меня ведь и раньше это случалось, только ты не знал. Ты вовсе ничего не знал, ни к чему тебе было… А тут… Лето-то совсем холодное оказалось, дожди да дожди, да с Волги все ветры дули. А я в доме нетопленом валяюсь. Денег-то только-только на еду хватало, а уж на дрова – и думать было нечего. Хозяйка тоже не топила… Ну да ее грех судить, я и так у нее почти что даром жила, а ей ведь вертеться приходилось, вдова, да два сына в гимназии… Я ей, уезжая, почти весь свой гардероб в уплату оставила, у меня-то хорошего много было. Промерзлась за это лето проклятое так, как зимой в Устюге во время сезона не мерзла! По ночам шесть платьев на себя наворачивала и тряслась в них, как шавка под мостом… И вот… Приехала в Москву…
Она вдруг умолкла, закусив до белизны губу, отвернулась к окну, и Владимир понял: Маша отправилась туда в надежде отыскать его.
– Да, – коротко ответила она на вопросительный взгляд Черменского. – Говорю же, наша сестра последний разум теряет, когда влюбляется. И ведь знала, что не найду тебя, где искать-то? Приехала – ни знакомых, ни денег… С поезда сошла с двумя гривенниками в кармане! На извозчика до театрального агентства не хватило, пешком через полгорода шлепала! И – никуда не взяли, разумеется… И тоже ведь как судить: только начну монолог читать или петь – кашель проклятый душит! Антрепренеры все как один руками машут: не надобно, не надобно… Конечно. Куда им, еще ведь и хоронить за свой счет придется!
– Маша, что ты такое говоришь…
– А ты думаешь, с этим долго живут? – с таким же жутким безразличием спросила она, по-прежнему глядя в окно, за которым уже светало. – До осени вот дотянула как-то, и то удивляюсь. Спасибо Лукинишне, не оставила добротой своей.
Владимир машинально посмотрел на мадам, по-прежнему сидящую у буфета и непринужденно слушающую их разговор. Поймав взгляд Черменского, она добродушно улыбнулась, показав желтые, щербатые зубы, и сунула в рот новую папиросу. Худая еврейка дала женщине огня.
– Она меня на улице нашла, – кивнув на мадам, пояснила Мерцалова. – Сижу на скамейке напротив театра Корша, реву в три ручья, есть хочется, грудь болит, идти некуда… В реку кинуться и то невозможно, до нее еще добраться надо, а сил нет. И денег – ни копейки! Мышьяка в аптеке купить не на что! Так, думаю, и буду здесь сидеть до ночи, и околею на лавке, как собака… Нет, смотрю, женщина подходит, рядом садится, папироску сует… Поговорили, увела она меня к себе, и я, как на кровать повалилась, так два дня и спала без просыпа, точно грузчик портовый. Проснулась, удивилась – жив курилка…
– Я их со своими барышнями работать не нудила, – сиплым голосом встряла в разговор Лукинишна. – Мы ведь тоже разумение имеем. Видно же, что дама благородная, образованная, а гуляет по обстоятельствам вынужденным… Да и с ихней болестью нашим ремеслом-то заниматься никак несподручно. Ей же богу, только на рояли играли каждый вечер, боле – ни-ни! Предложения, конечно, разные делались, и господами серьезными внимание проявлялось, вот и Северьян Дмитрич интерес сильный имели…
Владимир не сразу понял, о ком говорит мадам, а сообразив, резко, всем телом повернулся. Но «Северьяна Дмитрича» нигде не было видно. Марья, проследив за бешеным взглядом Черменского, горько усмехнулась:
– Кто бы подумать мог, Володя, а? Твой Северьян уже вторую неделю в моих преданных поклонниках… Не поверишь, какие деньги сулил! Мне таких даже князь Вальцев в Калуге не обещал! Я уж, грешным делом, решила, что Северьян от тебя ушел да московский банк ограбил…
– Да как у него только наглости хватило…
– Ну-у, уж этого твоему разбойнику не занимать! – усмехнулась она. – Полные закрома, хоть лавку открывай…
– Убью я этого сукина сына… – пробормотал Черменский.
– За что, Володя? – равнодушно спросила Мерцалова. – Мерзавец он, а все же прав: коли я здесь, так и ломаться незачем. Такая же, как Манька, которая вон колодой спит после приказчиков… четырех… Как Голда вот… Но, не поверишь… не могла. С Северьяном твоим – нет. Лучше уж, думала, кислоты серной глотнуть, только не это…
– Но… Ведь это он меня сюда привел! Чуть ли не силой! Зачем?! – Владимир все еще ничего не понимал. Мерцалова рассмеялась, закрыв глаза, и от этого тихого смеха ему стало холодно.
– Господи-и… Какие же вы, мужики, одинаковые, когда до своего дорваться не можете… Всех я вас насквозь вижу… Что граф, что князь, что купец, что вот этот босяк твой… Спрашиваешь – зачем?.. Да давеча я уж совсем не сдержалась, что-то нехорошее сказала ему… так вот он в отместку… Думаешь, очень мне было надобно, чтоб ты меня здесь увидел? Вот такую?
Черменский молчал. За семь лет, которые они были знакомы с Северьяном, Владимиру не раз хотелось придушить своего бандита, но никогда еще это желание не казалось таким сильным.
Мерцалова коротко взглянула на него, усмехнулась.
– Ну и лицо у тебя сейчас, Володя… Вот, побей бог, не пойму, как это ты на сцене мог играть? И ведь неплохо получалось, какой Рауль был, какой Лаэрт! А на лице все написано, все-все мысли твои… Что с него взять-то, с Северьяна твоего? Он ведь на меня еще в Костроме поглядывал, но там ты поперек дороги стоял, да и я тогда… Ну, вспомни, кто у меня в поклонниках был! Какие лица влиятельные в ногах валялись! Сам губернатор букеты возил! А теперь, видишь, дорога свободна, подъезжай, кому не лень… Хоть приказчик армянский, хоть вор переулошный.
Она снова закашляла – хрипло, надсадно. Владимир, тяжело дыша, дождался окончания приступа, еле вытерпел, пока Мерцалова спрячет платок и жадно выпьет стакан воды, сердобольно поданный Лукинишной, и сказал:
– Едем отсюда сейчас же!
Мерцалова посмотрела на него с искренним удивлением.
– Куда, Володя?
– Ко мне. Здесь близко, в Колокольников, в номера. А завтра уедем в Раздольное. Всего на несколько дней, я отдам распоряжения… и мы отправимся в Крым. Тебе нужен хороший воздух и тепло.
– Володя, Володя, что ты, господи, Володя… – Смеясь и кашляя, она махнула на него рукой. – Да мне уже ничего не поможет, хоть в Карлсбад на воды меня вези… Все уже, Володенька, я сезон закрыла… И знаешь что – ступай. Северьяна не трогай, я ему даже спасибо сказать могу… За то, что хоть повидала тебя напоследок.
– Маша, я не уйду.
– А куда ты денешься! – с неожиданной злостью произнесла она, снова отворачиваясь к окну. – Гостиницу ту с клопами в Калуге помнишь? Номер мой загаженный? Помнишь, как я тебя раз, один раз в жизни остаться просила?!
– Но я же тогда остался…
– Остался… На ночь! А письмо свое помнишь, которое мне вместе с чаем на подносе подали?! Ведь даже смелости не хватило в лицо все это сказать! Как будто я бы тебе на шею кинулась и завыла, что отравлюсь-повешусь, как девка обрюхаченная! Испугался!
– Но, Маша… – начал Черменский… и умолк. Она была права, кругом права, и от стыда у него даже спина стала горячей. С трудом, не поднимая глаз, он сумел выговорить: – По крайней мере… это было честно.
– Да! – с презрением бросила она. – Знаю! Ты уже тогда по этой Соньке с ума сходил! И тоже мне сказать не мог, тоже побоялся! А ведь я с той ночи понесла!!!
Он поднял голову и встретился взглядом с полными слез глазами Мерцаловой.
– Ну, что ты так глядишь, Владимир Дмитрич?.. – тихо спросила она. – Да, все так. Твой тот младенец был. Коли не веришь, по пальцам сочти. Хотя, ладно… Может, и не твой. Может, Вальцева. Теперь-то уж какая разница… Ступай, Володя, утро уже. Я спать хочу.
Было действительно утро. Комната заполнилась блеклым серым светом, усталые девицы в ночных пеньюарах лениво бродили по комнате, кто-то грел щипцы, кто-то громко зевал, толстая Манька в кресле проснулась и, тупо, как животное, глядя в угол, грызла конфеты. Мадам куда-то ушла. На Мерцалову и Черменского никто не обращал внимания.
– Маша, идем. – Владимир старался придать своему голосу больше настойчивости, однако смотреть на Марию он не мог и понимал, что оттого пропадает всякая убедительность. – Ты устала, больна, но это пройдет. Мы уедем и постараемся все исправить. Ты красивая женщина, актриса… Ты еще будешь играть, поверь… У меня есть кое-какие знакомства в Москве, я смогу достать тебе если не ангажемент, то прослушивание, а с твоим талантом…
– Оставь, Володя, – глухо сказала она. – Нет уже ничего. Ни таланта, ни красоты. Каждый день, как божьей милости, смерти жду. Ступай, ради Христа. Неужто ты думаешь, что я смогу… Ты ведь меня не любил никогда и сейчас не любишь. Как собачку подзаборную, из жалости берешь. А уж этого я, прости, выдержать не смогу. Лучше уж в самом деле с твоим Северьяном… А позови-ка вот его!
– Маша!
– Ну, ладно, шучу… А как Софья отыщется – куда меня денешь? Снова денег сунешь да спровадишь по провинциям мотаться?
– Она не отыщется, – машинально ответил Черменский. – Софья за границей… с Мартемьяновым. Уже четвертый месяц.
– За границей?! – непритворно удивилась Мерцалова… и замолчала. Владимир долго ждал; затем осторожно тронул ее холодные пальцы. Она убрала руку. Глухо проговорила: – Прости меня, Володя.
– Маша, за что?! – взмолился он. – Это я должен…
– Прости меня, – твердо повторила она. – За что – не могу сказать… не взыщи. Боюсь, проклянешь меня тогда, а мне и так скоро к богу. Просто прости. И… уходи, пожалуйста. Нет больше моих сил.
– Поедем, – в последний раз попросил он, вставая.
Поднялась и Мерцалова. Прямо, упорно глядя в его лицо сухими глазами, произнесла:
– Нет.
– Я приеду завтра.
– Нет.
– Я приеду завтра, – с нажимом повторил он. И, не оглядываясь, вышел из комнаты. Мерцалова проводила его взглядом; улыбнулась. Села на место и медленно начала перебирать ноты на крышке рояля. Вернувшаяся к буфету мадам посмотрела в лицо Мерцаловой и истово несколько раз перекрестилась.
Выйдя на серую от рассвета, грязную улицу, Черменский первым делом огляделся. Рядом никого не было, Трубная площадь оказалась пуста. Но когда он, ежась от утреннего холода, зашагал в сторону Колокольникова переулка, знакомый голос осторожно окликнул сзади:
– Владимир Дмитрич…
Черменский не стал поворачиваться и ударил сразу, навскидку, как когда-то сам Северьян учил его. Наука пошла впрок: мастер «шанхайского мордобоя» отлетел на тротуар, ударился о выступ стены, зашипел от боли и сразу вскочил на ноги. Потрогал челюсть, выплюнул на землю длинный сгусток крови и удовлетворенно отметил:
– А знатно-таки вы насобачились! Уже и не хужей меня… За что так, ваша милость?
– Коль не понимаешь – тебе же хуже. Сгинь с глаз. – Злость вышла вместе с сильным ударом, и сейчас Владимир испытывал только непреодолимое отвращение и стыд. Северьян, заглянув в его лицо, сразу же перестал скалиться и с недоумевающей физиономией зашагал рядом.
– Владимир Дмитрич?..
– Уйди. Не доводи до греха.
– Да в чем дело-то?.. – растерянно спросил Северьян. – Марья Аполлоновна, что ль, чего нажаловалась? Так врет она, я ее ничем не обидел…
Владимир остановился. Северьян тоже. И, не сделав попытки освободиться, только поморщился, когда Черменский взял его за плечо и довольно жестко «приложил» спиной о щелястый забор.
– Ну скажи мне, сукин сын… Какого черта ты мне ее в Костроме сватал, если сам… Ты же меня почти силой на ней жениться заставлял! Вспомни, ты к Мартемьянову в конюшню залез, чтоб жеребца племенного увести, продать, а деньги мне на свадьбу кинуть! Неужто врал тогда?!
– Сроду я вам не врал, Владимир Дмитрич! – огрызнулся Северьян. – И лучше б вам всамделе на ней жениться было! У меня б тогда сразу сердце успокоилось… и прочее хозяйство тож… Я б к вашей законной супруге не то что подкат устроить – посмотреть бы на нее лишний раз побоялся! Крест на том поцелую! А так… Вам вроде без надобности было… Не то чтобы жениться, даже жить с ней – и то не схотели, а ведь этакой-то красоты свет допреж не родил… Я таких баб ни в Крыму не видал! Ни в Кишиневе! Теперь у вас одна Софья Николавна в мозгу, а мне что же – не попробовать даже?!
– Да ты рехнулся, болван! Наглость твоя вперед тебя родилась? – рявкнул Черменский на всю Трубную площадь. – Кто ты – и кто она?!
– Да кто она, в господа бога душу мать?! – в голос заорал и Северьян, заставив испуганно шарахнуться в сторону бредущую вдоль забора сонную проститутку. – Графиня?! Княжна?! Богородица Пречистая?! Актерка!!! У меня таких до черта было! Со мной в Ростове купчиха-миллионщица жила, кажин день свечу в церкви ставила за совсехстороннее удовольствие! Я в Твери губернаторскую дочку от невинности с божьей помощью избавил! Чуть сбежать со мной не подхватилась, хорошо, с папашей ейным вовремя удар сделался! А тут… Что вы думаете, я Марью Аполлоновну обидеть хотел? Сам перепугался, когда ее тут, на Грачевке, за роялью увидал! Два часа подойти боялся, думал – обознался… Хотел по-хорошему все решить, денег бы ей дал не меньше вашего! А она мне… – Северьян закрыл глаза, сглотнул. На его скулах комками заходили желваки. – Ведь она не рассердилась даже, ваша милость! Если бы заверещала или там приложила по морде чем… еще полбеды. Все они так-то по первости. А она смотрит на меня, улыбается, как будто весело ей… плечом этак дергает и говорит: «Скотина ты, Северьян… Выпороть бы тебя, да некому».
– Вот это правда хорошо б, – подтвердил Владимир, в упор глядя на Северьяна.
Тот побледнел от бешенства. Не отводя глаз, процедил сквозь зубы:
– Так что ж… Ваше дело господское. Прямо здесь портки-то спущать, али до фатеры погодите?!
Владимир шагнул в сторону, освобождая Северьяна. Не сводя глаз с его обозленной физиономии, спокойно и холодно сказал:
– Ну, во-первых, я с тобой не справлюсь. Во-вторых, руки пачкать не хочу. – Северьян вспыхнул, словно его в самом деле прилюдно вытянули кнутом, но промолчал, а Владимир, уже сходя с тротуара на улицу, закончил: – В-третьих, тебя учить – что мертвого лечить. Пошел вон. Право, видеть тебя не могу.
Северьян стиснул зубы, шумно выдохнул. С минуту стоял неподвижно, наблюдая за тем, как Черменский, не оглядываясь, идет вниз по улице. Когда же Владимир скрылся за углом, Северьян снова вздохнул, потер кулаком лоб и неслышной, как у зверя, походкой, чуть раскачиваясь, пошел следом.
В Колокольниковом Северьян перестал прятаться и уже в открытую зашагал рядом с Черменским, но тот, казалось, не замечал этого, лицо его было серьезным, словно он производил в уме какие-то расчеты. Северьян перевел дух, засвистел, поглядывая по сторонам, заметил даже вслух, что неплохо бы взять пару бубликов у кривой Гапки на углу, но Владимир не ответил. Они вошли в темноватые, грязные номера Солодовникова, поднялись на второй этаж и уже приблизились к ободранной двери их комнаты, которую снимали на двоих, когда Северьян осторожно позвал:
– Владимир Дмитрич…
Черменский, не оборачиваясь, негромко велел:
– Иди спать.
– Не в охоту… У Феклы выспался…
– Тогда дай мне. – Дверь закрылась перед носом Северьяна.
– Владимир Дмитрич!!! – завопил тот, со всей силы ударяя в облупившиеся доски кулаком. – Да какого ж черта?!. Ну скажите хоть, пошто серчаете?! Я ведь ее у вас не уводил, так за что же?!
Ответа из-за двери не было. Северьян с досады выругался так, что мальчишка-коридорный, появившийся с лестницы с ведром, испуганно юркнул обратно, плеснув на половицы грязной водой. Переведя дух и взъерошив обеими руками жесткие волосы, Северьян сел на пол у стены, потянулся, обхватил руками колени и закрыл глаза. И через минуту уже спал, крепко, спокойно и бесшумно.
– …Владимир Дмитрии-и-и-и-ич!!!!!
От истошного вопля, раздавшегося под окном, Владимира словно пружиной сбросило с постели. Только что ему снились припортовые грязные улицы Кронштадта; по ним они с Северьяном как-то улепетывали от орды пьяных матросов, одного из которых за минуту до того Северьян воткнул головой в бочку с соленой килькой. Не сразу поняв, где он находится, Черменский сжал было кулаки, но тут же сообразил, что это не Кронштадт, а Москва, что за окном – сумерки, снова дождь и что он проспал до самого вечера. Орал во дворе, призывая Владимира, разумеется, Северьян, в голос которого почему-то вмешивались отчетливые бабьи подвывания. Мгновенно вспомнив минувшую ночь, Машу, ее сухие, полные безразличия глаза, ее безнадежный кашель и все то, что она рассказала ему, Черменский наспех оделся и вылетел из номера, забыв закрыть дверь.
Северьян стоял посреди двора, шатаясь, как пьяный, и такого лица у него Владимир не видел даже в тот миг, когда там, в Кронштадте, матросы все же догнали их и взяли в кольцо. Его скуластая физиономия была серой, как стена, глаза зажмурены. Владимир схватил его за плечи, с силой встряхнул:
– Что? Что, сукин сын?!
Северьян дернул встрепанной головой вправо – и Владимир увидел стоящих у забора немилосердно зареванных Маньку и Голду, девиц Авдотьи Лукинишны. В другое время он посмеялся бы: настолько потешно выглядели долговязая, худая еврейка в собачьей рыжей горжетке на плечах и толстая Манька в надетой наизнанку ротонде и летней соломенной шляпе, стоящие рядышком в обширной луже и заливающиеся одна зубодробительным фальцетом, другая – густым басом. Но сейчас его по спине продрал холод.
– Маша? Марья Аполлоновна?.. – хрипло спросил он.
Голда в ответ набрала воздуху и пронзительно заголосила на одной ноте, а Манька часто-часто закивала головой.
– Они… Всё уж, ваше благородие, отмучившись… Мышьяка наглотавшись…
– Как? Когда?! – Владимир не слышал своего голоса. В горле колом встало что-то липкое, холодное.
– Да ить почти что сразу, как ваша милость ушёдши… Сперва ничего, даже чаю попили, на господина ротмистра крикнули, который Феньке черный глаз сделал, так что ихнее благородие разом протрезвели да по стеночке убрались… а потом рыдикуль свой бисерный взяли и на улицу… Вернулись быстро да у себя заперлися. А нам и невдомек зачем, мы все с устатку, мадам ругается, что доходу мало, потом дохтур на осмотр пожаловал… Уж после полу-у-у-удня… – Тут Манька вновь залилась слезами, и продолжать пришлось, после душераздирающего сморкания, Голде.
– Я вам так скажу, господин, что ежели б не мадам, так мы и совсем в голову б не взяли! С чего бы Марье эти глупости устраивать, когда и так скоро на тот свет, без вспомоществования? И мышьяк очень даже не сахарный, и пена пойдет, неавантажно вовсе… А Авдотья Лукинишна вдруг говорят: «Отчего чахотошной нашей не слышно? То, бывало, спит и даже во сне кашлем на весь дом заходится, а тут третий час ти-и-ихо…» Я, как порядочная, пошла к им в комнату взглянуть, а там… там…
Дальше обе девицы заговорили вместе, перебивая друг друга:
– Они и лежат без движенья…
– И платок весь изгрызенный, чтобы, значит, не кричать…
– Черная вся…
– Письмо оставили до вас, а нам откеля знать, где ваша милость проживает…
– Всю Грачевку обегали, чтобы, значит, обнаружить…
Дальше Владимир не слушал. Удивленная Манька не успела еще закрыть рот, а голос Черменского уже гремел за забором, на всю улицу:
– Извозчик! До Трубной! Да сколько нужно, черт, столько и дам, гони!
– Владимир Дмитрич!!! – очнулся Северьян. – Обождите!!! Я с вами!
Но пролетка с Черменским уже, грохоча, скрывалась за углом.
…Хоронили Мерцалову через три дня, в дешевом гробу, за кладбищенской оградой. Черменскому так и не удалось добиться разрешения на пристойные похороны, поскольку для этого требовалось медицинское заключение о сумасшествии покойной, а объявлять Машу умалишенной Владимир не захотел. За гробом шли только он и заплаканные проститутки из дома Лукинишны: Северьяна не было. Все эти дни он где-то пропадал, в номерах не появлялся, и впервые Владимир не беспокоился о нем. Оставленное Марией письмо было коротким и сумбурным, и за три дня Черменский успел выучить его наизусть.
«Володя, ты только не грусти. Право, для меня это лучше и уж в любом случае быстрее. Так нелепо сложилась жизнь, что в самом бездарном водевиле не увидишь. Прости за то, что наговорила тебе вчера, я была совсем обезоружена твоим появлением, хотя, конечно, и могла это предполагать… Ведь вы с Северьяном неразлучны, где он, там, разумеется, и ты. Ему скажи, пусть тоже зла не держит. Не будь он твоим Санчо Панса, авось и осчастливила бы разбойника… право, не велик труд. Ей-богу, спала с подлецами и похлеще, один князь Вальцев чего стоил… Ну да бог и с ним тоже, пусть живет и здравствует. И ты, если сумеешь, прости меня. Я грешна перед тобой, но, бог свидетель, лишь потому, что любила тебя страшно… хоть это нисколько и не оправдание. Не могу написать подробнее. Пусть уж этот грех на душе останется. Может быть, бог поймет, если он есть. Одно лишь скажу: о Соне Грешневой не думай плохо, она с этим толстосумом только из-за нашего бабьего горя поехала… и постарайся с ней встретиться. Она все расскажет. Наверное, Соня тебя любит, хотя я, прости, не верю: молода девочка слишком. Видит бог, по-другому я никак не могла поступить… Прошу тебя лишь об одном: не оставь моего сына. Он жил в Орловской губернии, на воспитании в мещанском семействе, ему уже девять лет. Весной я писала туда и попросила отправить Ивана в Петербург, к моей матери. Ей я послала деньги, тысячу рублей. Но мать уже стара, я не была у нее несколько лет и больше года не писала, и она мне тоже. Кто знает, как она сейчас живет… Я не прошу твоей опеки над Иваном, это уж запредельное нахальство, но хотя бы посмотри, сносно ли они с мамашей живут и здоровы ли оба. Я была плохой дочерью и еще худшей матерью, но что уж теперь поделать… Прощай. Остаюсь твоя Марья Мерцалова. Теперь уж, кажется, навсегда». И под аккуратными строками той же рукой, но уже дрожащей, неверной, кривыми буквами было выведено: «За-на-вес!»
На поминки, собранные в доме мадам, Владимир не пошел; как не захотел и взять на память что-либо из небольшого имущества Маши. Ее платья, сумочку, платки, бисерный кошелек и несколько театральных афиш разобрали проститутки. Уйдя с кладбища, Владимир долго бродил по городу, не замечая ветра и мелкого, то начинающегося, то заканчивающегося холодного дождя. В голове было, казалось, пусто, как в вытряхнутом мешке. Только одна горькая мысль не давала Владимиру покоя: как его угораздило вчера послушаться Машу и уйти? Почему он не настоял на своем, не забрал ее с собой, не увел из борделя? Прошла бы ночь – и Машино отчаяние бы отступило, она не сделала б этой непоправимой глупости… Но в глубине души Черменский понимал: спасти ее было нельзя. И никогда теперь уже не узнать, что произошло между ней и Софьей, в чем вина Мерцаловой перед ним, что такое она не смогла открыть ему даже на пороге смерти. Неважно. Теперь уже неважно. Маши нет, и этих черных, больших, сухих и горячих глаз ему более не увидеть никогда.
Ветреный багровый закат застал Владимира на набережной Москвы-реки. Страшно хотелось есть, и нужно было, хочешь не хочешь, возвращаться в номера. Утром Владимир намеревался отправиться в Раздольное, проверить хозяйство, отдать необходимые распоряжения – и трогаться в Петербург искать Машиного сына. По крайней мере, хотя бы это он может и должен сделать для нее. Подумав так, Черменский неожиданно успокоился и, развернувшись, торопливо зашагал от набережной в сторону Манежа.
Комната в номерах была пуста. Сквозняком распахнуло створку узкого, давно не мытого окна, и ветер шевелил лежащую на полу газету. Владимир поднял ее, положил на стол. Вздохнув, вытащил из-под кровати саквояж, но в это время из-за двери раздался осторожный старческий кашель.
– Яков Данилыч, ты? Входи! – позвал Владимир, узнав хозяина номеров.
Солодовников, еще крепкий, сухой, как кусок пеньки, дедок с пушистой бородой, аккуратно выбрался из-за двери.
– Так что, съезжаете, Владимир Дмитрич? – осведомился он.
– Съезжаю, Данилыч. И то пора, полмесяца сидели.
– Стало быть, домой, в имение?
– Да.
– А фармазона своего нам оставляешь? – серьезно спросил старик, поглядывая из окна на двор.
Владимир удивился:
– Какого фармазона? Северьяна? Да ведь его третий день не видно… Я дожидаться не могу, хотел сам тебя просить, чтоб ты его, как вернется, в Раздольное направил…
– Да зачем же мне трудиться, когда он в конюшне сидит?! – несказанно изумился Солодовников. – Из уважения к вам, конечно, и сбегать могу, но он же меня, дух нечистый, не послушает! Он и так, кроме вас, над собой укорота не обожает… а тут и вовсе! Злой, как слепень прихлопнутый, мужики через него в конюшню третий день заходить боятся!
– Да что он там делает? – растерянно спросил Владимир.
– Ругается не по-христиански, вот что! – наябедничал Солодовников. – Со скотиной возится. Один… Мужиков не пущает: вам, говорит, не на лошадях, а на жужелках ездить… Ежели ты его оставить тута надумаешь, так я его на жалованье возьму, слышь, Владимир Дмитрич? Лошадник стоящий, куда моим тюхам… Ты подумай…
– Его на жалованье нельзя, – задумчиво произнес Владимир, идя к двери. – Моему Северьяну, Данилыч, шлея под хвост попадет – и только ты его и видел. Вместе с лошадьми.
– Охти, грех какой! – всполошился старик, освобождая дорогу и пропуская Владимира в коридор. Тот, размышляя о чем-то, некоторое время стоял на лестнице, затем быстро зашагал вниз.
В конюшне было уже темно, лишь сквозь щелястую крышу пробивались тусклые лучи садящегося солнца. Шумно дышали, фыркали кони, лягал перевернутую тачку рыжий длинноногий жеребенок, размеренно хрумкала сено хромая кобыла. Пахло соломой, мышами, колесной мазью. Войдя, Владимир сначала не увидел ничего, кроме прячущихся в сумраке стойл и меланхоличных лошадиных морд. Затем услышал возню у дальней стены: кто-то тер скребницей старого спокойного каурку, матерясь при этом – монотонно, без выражения, на одном дыхании.
– Северьян! – вполголоса позвал Черменский. – Это ты разоряешься? Мне Солодовников жалуется… Да оставь каурого, дыру сделаешь! Поди сюда!
Тишина. Короткий стук брошенной на пол скребницы, недоумевающий всхрап каурки. Шуршание соломы: Северьян сел на пол у стены. Помедлив, Владимир подошел сам, опустился рядом. Некоторое время оба молчали. Северьян, опустив голову, вертел в губах сухой стебелек.
– Схоронили? – наконец глухо спросил он.
– Утром.
– Мне… уходить от вас, Владимир Дмитрич?
– Рехнулся? – опешил Черменский. – Куда ты пойдешь?
– Расея большая…
– Не выдумывай. Я уезжаю в Раздольное, ты со мной? Или Солодовникову тебя оставить?
– Нужон я ему… – Северьян еще ниже опустил голову. – Владимир Дмитрич… пошто она так сделала-то? Из-за… меня? Али из-за вас?
– Боюсь, что я более твоего виноват, – помедлив, ответил Черменский. Это было сказано искренне, но Северьян, блеснув из полутьмы белками диких глаз, вызверился:
– Врете, ваша милость! Кабы вы с ней не свиделись там… Кабы я вас в этот блядушник не затащил… Ну что, скажете, нет?! Без этого она еще, глядишь, до зимы бы дотянула… А может, и боле… А тут совсем, видать, тоска нашла, она и… вот…
Отчетливо понимая, что Северьян прав, Владимир тем не менее не мог это подтвердить. Минуту спустя он медленно выговорил:
– Оставь… Маша была на краю. Любого пустяка хватило бы. Не ты, так…
Договорить он не успел: Северьян хрипло взвыл сквозь стиснутые зубы и повалился навзничь на истоптанную лошадьми солому, ударив по ней кулаком. Сенная труха взметнулась столбом, испуганно шарахнулся каурый. В дверь заглянула удивленная рожа работника, но Владимир показал кулак, и рожа исчезла.
– Владимир Дмитрич! Вот ей-богу!.. Кабы я знал!.. Я, видит бог, даже издаля взглянуть не зашел бы! Кто ж знать мог, что Марья такое учудит! Я когда ей сказал, что вас приведу, она не испугалась даже! Улыбалась только, я думал – пустяк ей, потому и обозлился, чуть на стену с этой злости не влез… Я же… У меня ведь такого сроду не было… Я же и в мыслях не держал… И не хотел вовсе… И вот как мне теперь-то?!. Владимир Дмитри-и-ич… Вон, на стене, вожжи висят, сымите да отдерите меня как сидорову козу… ей-богу, слова не скажу, чтоб мне воли не увидеть…
Владимир молчал. В горле стоял крепкий ком, не дающий говорить, и он сожалел только об одном: что не может сейчас, как Северьян, выть в голос, колотя кулаками по соломе. Слез не было, лишь скулы сводило от отчаяния. Так ничего и не сказав, он похлопал Северьяна по спине, и тот, судорожно вздрогнув всем телом, как животное, затих.
Только через полчаса, когда солнце давно село и в конюшне уже было темным-темно, Владимир снова услышал сиплый, еще неровный голос:
– Письмо-то ее читали вы? Что там?
Владимир медлил с ответом, и Северьян угрюмо предупредил:
– Вы уж скажите, не то еще грех на душу возьму, попру его у вас. Писарь в слободе за пятак прочитает…
При мысли о том, что Машино письмо будет читать какой-то слободской пьянчужка, Владимира передернуло.
– Изволь, я прочту. Но ведь темно.
– У меня спички есть.
– Здесь же сено…
– Ну и спалю Солодовникову его халупу! – огрызнулся Северьян, пружинисто вскакивая и доставая спички. – Все равно не годится никуда, в щели вон дивизия с пушками пройдет! Как он тут скотину зимой держать собирается – в толк не возьму… Читайте, ваша милость!
И Владимир прочел вслух письмо Марии при прыгающем, то и дело гаснущем свете спичек, которые Северьян зажигал одну за другой. Он прочел все от начала до конца, не сумев даже пропустить Машины строчки, касающиеся Северьяна: тот в упор смотрел на Владимира сумрачно блестящими из потемок глазами и, несомненно, заметил бы любую запинку. Закончив, Черменский обернулся к Северьяну, но последняя спичка погасла, и лица друга он не разглядел.
– Стало быть, и хлеще меня подлецов видала… – мрачно послышалось из темноты. – А кто этот князь Вальцев, ваша милость?
Владимир в двух словах рассказал ему о калужском предводителе дворянства, который, влюбившись в актрису Мерцалову, заплатил газетам за отвратительные рецензии и антрепренеру – за то, чтобы с Марьей разорвали контракт. После этого актриса была вынуждена согласиться на ухаживания князя, а через два месяца уже надоела ему и уехала – без денег и ангажемента.
– Может, я в Калугу съезжу, зарежу его? – без особой надежды спросил Северьян.
– Поздно, брат, – невесело усмехнулся Владимир. – Да и не поможет.
– Ваша правда… – Северьян лег на спину, оттолкнул морду потянувшегося к нему жеребенка, поскреб взлохмаченную голову. – Как же мы с вами теперь-то? И что это она про Софью Николавну писала? Знала, что ль, чего про нее? Иль про Мартемьянова? А коли знала, отчего не говорила?
Владимир ничего не сказал. Вздохнув, Северьян замолчал тоже. Через несколько минут Черменский вполголоса спросил:
– Спишь?
Ответа не было. Владимир осторожно поднялся и, стараясь не споткнуться обо что-нибудь в темноте, пошел к выходу из конюшни.
Капли дождя монотонно барабанили по стеклам. В маленькой гостиной с диванами и креслами, обитыми зеленым штофом, горела лампа, и ее желтый свет весело дробился в бегущих по окнам извилистых лентах воды. За овальным столом находились четыре девушки в простых домашних платьях и с аккуратными прическами. Они сидели скромно, как пансионерки, и не сводили глаз с Анны, которая, стоя перед ними, негромко говорила:
– Итак, mesdames, выбор вина всегда остается за кавалером. Но, если предложат выбрать вам, выбирайте сухое красное вино к мясу и белое – к рыбе. Еще лучше будет выбрать крюшон или фруктовую воду: вы должны сохранять ясную голову при любых обстоятельствах. Можно спросить кагор, но в дорогих местах его вряд ли подадут. Если же кавалер будет настаивать на вине – один бокал на весь вечер. Запомните, mesdames, это крайне важно.
– Мадам, – робко спросила одна из девушек. – А это чего – «сухое вино»?
– Во-первых, Манон, не «это чего», а «что такое» или «что означает», сколько можно повторять?.. Вы обязаны говорить, как воспитанная барышня, иначе наши уроки не имеют никакого смысла. Если не знаете, как сказать, просто молчите. Во-вторых, сухое вино обычно кисло на вкус и дамам не нравится. Поэтому очень легко просидеть с одним бокалом целый вечер. А сладкое вино заказывать вульгарно, поскольку…
В этот момент из сеней донесся слабый звон. Почти сразу же быстрым шагом вошла горничная и доложила:
– Действительный статский советник Анциферов.
– Проси в диванную, – с небольшой запинкой приказала Анна. В лице она не изменилась, но немного побледнела, и сидящая ближе всех к ней Манон осторожно спросила:
– С вами худо, мадам?
– Не «с вами худо», а «вам дурно»… – машинально поправила Анна. – Я сожалею, mesdames, но урок наш окончен. Жду вас завтра, в те же часы. Оревуар.
– Оривуяр, мадам, – нестройным хором ответили девушки и заспешили к дверям.
Через несколько минут Анна быстрым шагом вошла в диванную, где уже ждал ее Максим Модестович. Увидев молодую женщину, он поднялся из глубокого кресла и привычно поцеловал протянутую ему руку.
– А вы, как всегда, очаровательны, Аннет. Дрессировали новых девиц?
– Что случилось, Максим Модестович? – едва переведя дыхание и не поддерживая шутливого тона Анциферова, спросила Анна. – У меня сегодня неприемный день, и вам это известно…
– Разумеется, Аннет. Но… – Максим Модестович неожиданно умолк на полуслове.
Побледневшая Анна молча ждала, глядя на его спокойное, никогда ничего не выражающее лицо с неровным шрамом над бровью. По спине холодными коготками проползло предчувствие беды.
– Скажите, ma cherie[16], как давно вы получали известия от своей сестры?
– От Сони? Последнее письмо пришло две недели назад, еще в августе, из Парижа, она жива и здорова. А…
– О нет, я имел в виду Катерину Николаевну.
– От Кати нет ничего с весны. – Анна взялась обеими руками за спинку стула. – Боже мой… неужели появились новости, Максим Модестович?
– Да. – Анциферов старательно откашлялся. – И, боюсь, нерадостные.
– Она жива?!
– Слава богу. Она арестована в Одессе.
– Арестована?.. – машинально переспросила Анна, судорожно сжимая спинку стула. – Но… За что же?
– За кражу ценностей и бумаг государственной важности, за сопротивление властям и убийство жандарма при задержании.
– Господи… – Анна покачнулась, и Анциферов, поспешно подойдя, заставил ее сесть на диван.
– Вам дурно, Аннет? Приказать подать воды?
– Нет, нет, я… Все хорошо, простите… Но… боже мой, как это возможно? Какие государственные бумаги? Зачем они ей?! Как… как все это могло произойти?!
– Вероятно, косвенной причиной преступления являлись вы, – медленно проговорил Максим Модестович, разглядывая свои отполированные длинные ногти.
Анна выпрямилась. Холодно произнесла:
– Извольте объясниться, сударь. Вы хотите сказать, что я могла толкнуть Катю на преступление? Родную сестру, которую к тому же не видела больше полугода?!
– Бог с вами, ma cherie, я совсем не это имел в виду, – поморщился Анциферов. – Просто в свете произошедших событий можно было предположить…
– Да говорите же прямо и по-русски, черт возьми! – взорвалась Анна. – Довольно издеваться надо мной!!! Что с Катей, где она, что можно для нее сделать?!
Анциферов изумленно посмотрел на нее. Затем серьезно сказал:
– Простите, девочка моя. Я не подумал, что мучаю вас. Просто дело в том, что эту… м-м… операцию Катерина Николаевна действительно устроила ради вас. Скорее даже, ради вашей чести. Пострадавшее лицо – тайный советник Ахичевский Петр Григорьевич.
– Как? Петька?.. – ахнула Анна, падая в кресло. – Но… Но… Боже мой!
– Ваш бывший покровитель тоже выставил себя в неприглядном свете, – отвернувшись к залитому дождем окну, холодно продолжил Максим Модестович. – Как мне стало известно, он встретился с Катериной Николаевной в Одессе, в ресторане, будучи один: его супруга уехала в Москву к заболевшей матери, которая, кстати, оказалась здорова как бык. Каким образом удалось выманить госпожу Ахичевскую из Одессы, до сих пор неясно. Сама она говорит о полученной из Москвы телеграмме, но последняя утеряна, и найти ее не представляется возможным. Так или иначе, Ахичевский остался в Одессе без супружеского надзора, видимо, скучал, и тут – счастливый случай… – Анциферов выразительно умолк. Анна испуганно смотрела на него.
– Петр… и Катя? Но… это же невозможно! Они ведь встречались и раньше, я знакомила их, Петр помогал избавить ее от суда в прошлом году… Боже, как он посмел, ведь Катя еще ребенок!!! Ей всего шестнадцать, она…
– Ахичевский уверяет, что Катерина Николаевна соблазнила его, как очень опытная putain[17], – заметил Анциферов.
– Перестаньте, – с отвращением оборвала собеседника Анна. – Как можно ему верить?
– Я тоже не поверил бы. Но чем-то же нужно объяснить тот факт, что Катерина Николаевна пришла поздним вечером к нему на дачу, где более никого не было.
– Нужно как следует выяснить, кто кого соблазнил! – отрезала Анна. – У Кати нет никакого опыта, она до пятнадцати лет жила в деревне, не видела ни мужчин, ни молодых людей, кроме крестьян, у нее не было даже детских влюбленностей, а Петька – опытный Казанова, кому это знать, как не мне, он…
– Аннет, я понимаю ваши чувства, – вежливо, но решительно перебил ее Анциферов, и Анна, опомнившись, умолкла. – Но тем не менее у них было тайное свидание, во время которого Катерина Николаевна довольно мастерски опоила своего кавалера «малинкой»…
– Pardon – чем?..
– Это когда в вино добавляют снотворное. Старый трюк, хорошо известный и у нас, на Грачевке, в публичных домах дурного пошиба, – любезно пояснил Анциферов. – Так вот, когда Петр Григорьевич уснул, его дама очень ловко взломала сейф, взяла оттуда деньги и драгоценности мадам Ахичевской – между прочим, фамильные бриллианты рода Лезвицких, их, по легенде, носила супруга Стефана Батория!.. По крайней мере, госпожа Ахичевская на этом настаивает… Да, а еще в сейфе хранились бумаги, которые по ценности превосходят все сокровища польских королей. Если б не они, возможно, следствие бы и не началось, господин Ахичевский вовсе не был заинтересован в обнародовании своего… кобелячества. Его супруга, говорят, собирается требовать развода…
– Сомневаюсь, – пробормотала Анна. – Она всегда знала ему цену.
Анциферов с интересом посмотрел на нее.
– Вы знакомы с Александрой Ахичевской?
– Очень мало. – Анна прямо и холодно взглянула на него. – Прошлой весной вот в этой самой комнате она заплатила мне десять тысяч – с тем чтобы Петр никогда более не показывался у меня.
– Ах, вот как было дело? То-то вся Москва возмущалась, что он так легко отказался от женщины, подобной вам… Выходит, это вы все решали?
– Разумеется. И право, не делайте вид, что вы об этом не знали, все равно не поверю. Итак, Петька дал ход делу?
– Аннет, он был вынужден, – мягко произнес Максим Модестович. – Если б Катерина Николаевна не прихватила невесть зачем эти совершенно ненужные ей бумаги, Петр Григорьевич, уверяю вас, не обратился бы в полицию. Ведь дело практически семейное, теперь фамилия Ахичевских у всех на устах, а случившаяся история стала анекдотом… Тем более что ваша сестрица оставила Петру Григорьевичу записку, где весьма прямо сообщила, что это сделано с целью отомстить за вас.
– Катя… Ах, глупая, бедная, зачем… – простонала Анна. И тут же, внезапно подумав о чем-то, отняла руки от лица и недоверчиво посмотрела на Анциферова. – Максим Модестович, но вы, кажется, говорили о сейфе? Если там хранились такие важные документы, то это, вероятно, была не дамская коробка для булавок?
– О нет. Весьма надежный крупповский сейф с шифром.
– Но в таком случае это какое-то недоразумение… Катя все же не взломщик с Хитрова рынка, как она могла сама… одна?..
– Не «сама» и не «одна», Аннет, – помолчав и глядя прямо в испуганные, полные слез глаза Анны, ответил Анциферов. – С ней, так сказать, в доле был очень известный в Одессе вор Сережа Валет. Он одно время гастролировал и здесь, в Москве, так что я по долгу службы с ним немного знаком. Весьма серьезный господин с дли-инным послужным списком… Вместе их и повязали неделю назад в номерах на Ближних Мельницах, причем они отстреливались до последнего, и в результате был убит жандарм.
Анна схватилась за голову. Долго сидела молча, неподвижно. Ничего не говорил, словно обратившись в статую, и Анциферов. В окна стучал дождь, изредка звонко падала капля воска с накренившейся свечи. Где-то в глубине дома пела горничная: «Маруся отрави-и-илась…»
Анна вдруг выпрямилась, и Анциферов успел лишь заметить, каким бледным, до серости, стало ее лицо. В следующий миг она упала на колени и сдавленно прошептала:
– Максим Модестович, ради Христа…
– Аня, девочка, в чем дело?! – вскочил Анциферов. – Господь с вами, что вы делаете, встаньте немедленно! Аня! Анна Николаевна!!! Я… Поднимайтесь немедля, или я тотчас покину ваш дом!
– Максим Модестович, я вас умоляю… – не слушая его, не поднимаясь с колен, не замечая бегущих по лицу слез, хрипло говорила Анна. – Вы влиятельный человек, чиновник высшего ранга, вы имеете вход к государю, для вас нет невозможного… и вы имеете какие-то виды на меня… Не возражайте, я кое-что понимаю в мужчинах… Я никогда не поверю, что вы хотели использовать меня для обучения проституток хорошим манерам, это смешно и годится лишь для романов… Максим Модестович, я сделаю все, что вы прикажете, выполню любой ваш каприз! Если нужно, я готова убить или быть убитой… Ради бога, помогите Кате! Сделайте все, что нужно! Я… я на все для этого готова… Я продам дом, украшения, ведь взятки в России решают многое, и… Максим Модестович, не оставьте Катю, она ребенок, она слишком тяжело жила, она не должна погибнуть!..
Анциферов вздохнул, наклонился и легко, как куклу, поднял молодую женщину с колен. Довел до дивана, усадил, сел рядом сам и молча обнимал Анну все время, пока она, содрогаясь, рыдала на его плече.
Наконец, истерика кончилась. Слез у Анны больше не было, но отчаянно болела грудь, и справиться с дыханием она не могла. Зубы ее дробно стучали о край стакана с водой, который принес Максим Модестович, и молодая женщина не сразу сумела сделать несколько глотков. Кое-как отпив половину, она скорчилась в углу дивана и, давя горькие тройные всхлипы, вырывающиеся из горла, старалась собраться и вслушаться в то, что говорит ей Анциферов.
– К сожалению, когда в банальную уголовщину вмешиваются высокие чувства, все значительно осложняется. Как мне удалось узнать, ваша сестра до смерти влюблена в своего подельника… и, похоже, взаимно. Сейчас они сидят по разным камерам, и во время допросов каждый клянется следователю, что все провернул в одиночку – и ограбление дачи Ахичевских, и кражу документов, и, самое главное, убийство казенного человека в момент задержания. Пробовали дать им очную ставку – так она превратилась в сущий семейный скандал. Они с Валетом орали друг на друга благим матом, требуя – один от другого – ухода, так сказать, «в темную несознанку». Следователь, мой бывший университетский товарищ, в растерянности, он привык, что подельники все благополучно валят друг на друга, облегчая работу следствию, а тут… просто криминалистический нонсенс! Узнав об этом, я вспомнил о вас. Возможно, у вас сохранилось какое-то влияние на сестру…
– Вы хотите сказать… – медленно, все еще борясь с дыханием, начала Анна, – что этот человек… Валет… он готов все взять на себя?
– Да, как ни удивительно. К сожалению, ваша сестра готова к тому же… и со всем пылом юности.
– Он намного старше ее?
– Лет на десять.
– Но… как, где они могли познакомиться? Откуда такая… страсть? Боже мой, ничего, ничего не понимаю…
Анциферов молча пожал плечами. Анна глубоко вздохнула и одним резким движением поднялась с кресла.
– Когда я смогу выехать в Одессу?
– Сегодня вечером, если успеете собраться. – Максим Модестович тоже встал. – Я поеду с вами. По службе я могу пользоваться курьерским поездом, мы сэкономим время.
Анна обернулась уже с порога. Молча, внимательно посмотрела на Анциферова, кивнула и скрылась за дверью.
В Одессе стояло спокойное, теплое начало южной осени. Воздух пах морем, подпорченной рыбой, перезрелыми фруктами, жареными семечками и каштанами, которые вместе с раздавленной колючей кожурой валялись на мостовой улиц и тротуарах. Было жарко, на улицах мелькали летние белые наряды дам, на прибрежных дачах еще копошилась жизнь, по стенам домов и заборов из песчаника ползали ленивые солнечные пятна, и не хотелось уходить из этого теплого рая под угрюмые своды здания сыскной полиции. Анна, которой ни разу в жизни не приходилось посещать подобные места, на мгновение застыла перед тяжелой дверью, распахнутой для нее Анциферовым. Но, сразу же справившись с собой, опустила голову и вошла, не замечая пристального, безотрывного взгляда Максима Модестовича.
В темноватом кабинете с высоким потолком их встретил следователь – худой нескладный человек с выцветшими бакенбардами и усталыми глазами. Он осторожно поздоровался со своим бывшим университетским товарищем, назвав его «ваше превосходительство».
– Юрка, ты что, свихнулся? – сердито произнес Анциферов. – Познакомься с дамой, это Анна Николаевна Грешнева, старшая сестра твоей подследственной. Анна Николаевна, это Юрий Аполлинариевич Козинцев.
– Рад знакомству, госпожа Грешнева, извольте присесть. – Юрий Аполлинариевич отодвинул для Анны стул. Та села и сразу же спросила:
– Господин Козинцев, я могу увидеть сестру?
– Собственно, я хотел просить вас об этом, – пожал острыми плечами под мундиром следователь. – Возможно, вы сумеете повлиять на ее показания, у меня ничего не получается. На любые вопросы она отвечает молчанием, рот открывает только для того, чтобы повторить в который раз, что все сделала сама. Но я в это не могу поверить, барышня шестнадцати лет, из приличной семьи, – и грабеж, убийство… Вот с Валетом мне приходилось встречаться и ранее, он-то как раз на многое способен. Он и сам не отказывается ни от чего, но вот ваша сестрица…
– Ах, разумеется, он совратил ее, этот человек, использовал, вы же должны понимать! – торопливо проговорила Анна. – Ради бога, позвольте мне поговорить с Катей!
– Ее сейчас приведут.
Анна, держа дрожащие пальцы крепко сцепленными под мантильей, принялась ждать. Вскоре дверь кабинета открылась, впустив огромного жандарма и худую, черноволосую, похожую на цыганку женщину в грязном, измятом вечернем платье. Волосы падали ей на лицо, и она не убирала их. Анна удивленно посмотрела на женщину, затем перевела недоумевающий взгляд на следователя. Тот вздохнул, скомандовал:
– Грибков, свободен, обожди там… Катерина Николаевна, здесь ваша сестра.
Черноволосая женщина медленно повернулась. Белый луч из высокого зарешеченного окна упал на ее худое скуластое лицо, высветил зеленые глаза, упрямые жесткие губы. Без капли изумления она спросила:
– Аня? Ты здесь? Зачем?
– Катя! Господи, Катя! – Анна бросилась к ней, обняла, для чего-то торопливо ощупала с головы до ног, несколько раз неловко поцеловала, прижала к себе. – Катя, девочка моя маленькая, как же это вышло? Почему?!
– Аня, это все правда, что они говорят, – так же спокойно сказала Катерина, и Анна, отстранившись, испуганно взглянула ей в лицо, так изменившееся за последние полгода, которые сестры не виделись. Из угловатой девочки-подростка Катерина превратилась в молодую женщину с худым, осунувшимся лицом и неласковым взглядом.
– Откуда это платье? – зачем-то спросила Анна. – Это муар, оно дорогое…
– Купила во французском магазине, – пожала плечами Катерина. Сильно декольтированное платье упало с одного плеча, обнажив его, но она этого даже не заметила, и платье на ней поправила Анна. – Меня в нем и повязали.
– Господи, ты разговариваешь, как… как воровка с Хитрова…
– Аня, я и есть воровка, – устало, словно в сотый раз объясняя простую вещь бестолковому ребенку, произнесла Катерина. – Воровайка. И я тебе чистую правду говорю: я все сделала сама. Сережа лишь помогал, без него бы у меня ничего не вышло.
– Ну, вот видишь! Ты же сама говоришь, что без него…
– А он без меня вовсе не пошел бы на такое дело. Это я его уговорила. Он согласился, потому что любит меня.
– Катя! Ради бога! Тебе шестнадцать лет! Что ты понимаешь в мужчинах, в любви! Этот каторжник воспользовался твоей наивностью и…
– Ничем он не пользовался, – вдруг отрезала Катерина, и ее глаза недобро сузились. – Аня, я все равно больше ничего не скажу. Я господину следователю уже говорила: пусть отпустит Сережу, я покажу, где рыжье Ахичевских и листы. Все цело, кроме денег, их мы в Кишиневе прогуляли. А нет – пусть хоть на части режут.
– Катя!!! – в отчаянии вскричала Анна, до сих пор не могшая поверить, что эта чужая худая воровка с жестким взглядом – ее девочка, маленькая Катя, которую они с Софьей надеялись устроить в жизни, выдать замуж, сделать так, чтоб хотя бы она одна из всех их жила счастливо… Что с ней стало, почему она столь сильно изменилась, как теперь разговаривать с сестрой, какими словами ее убеждать?..
– Ну, хочешь, я сама переговорю с этим твоим… с Сергеем? – схватилась Анна за последнюю соломинку. – Он же все-таки взрослый мужчина и должен понять, что…
– Не нужно. Тебе и не позволят, – уверенно возразила Катерина. Анна резко обернулась в поисках Анциферова, но его не было.
– Не извольте беспокоиться, Анна Николаевна, – сказал сидящий за своим столом Козинцев. – Максим Модестович как раз сейчас беседует с Валетом. Я уверен, у него все получится лучше, чем у вас.
Впервые по замкнутому лицу Катерины пробежала тень тревоги. Закусив губу, она посмотрела на сестру и тут же отвернулась к окну.
– Катя… – прошептала Анна. – Что с тобой стало? Почему, скажи мне, почему?..
– Так уж вышло, Аня, – равнодушно ответила Катерина, глядя в окно. И больше не сказала ничего.
Когда Валет, щурясь от света из зарешеченного окна, вошел в кабинет в сопровождении конвоира, он увидел сидящего за столом массивного человека со спокойным холодным лицом, которое портил шрам над бровью. На незнакомце был мундир статского советника. Скроив на всякий случай безразличную нагловатую усмешку, вор обеспокоенно подумал, что, кажется, дела плохи совсем, если их с Катей работой интересуется такой козырь.
– А Аполлинарьич где? – тем не менее нахально спросил он, разваливаясь на стуле перед человеком в мундире. – Не заболевши, случаем?
– Здоров и тебе того же желает, – чуть насмешливо отозвался тот. – Но, видишь ли, ты мне нужен…
– Это зачем же?
Человек со шрамом не ответил. Помолчав немного и поизучав физиономию Валета из-под тяжеловатых век, он спросил:
– Кого из московских фартовых знаешь?
– И господь с вами, никого вовсе не знаю… – голосом казанской сироты привычно затянул Валет. – Дальше Ростова не хрял с Одессы, от спросите кого хочете…
– Болдогу знаешь? Сивого? Арапку? – словно не слыша его, продолжил человек со шрамом.
– От ей-богу, первый раз слышу…
– И с Арапкой ты сам был, когда его в Черкасске с кассой брали?
– Та не, то не я был, спутали…
– И про Туза с Москвы, для которого ту кассу несли, ты не слышал?
Смуглое лицо Валета с затянувшейся ссадиной во всю скулу, приобретенной во время ареста, на миг застыло. И тут же снова расцвело наглейшей улыбкой:
– Ну, воля ваша, от ничего не пойму, что вы такое толкуете…
– Ну, не поймешь, и не надо. А теперь послушай… – Анциферов перегнулся через стол, поманил к себе Валета, тот послушно придвинулся, и Максим Модестович негромко сказал ему несколько слов. Смуглая физиономия Валета стала серой, в светлых глазах забился неприкрытый страх. Он отпрянул назад.
– Лепишь, дядя… Откуда знать можешь?!
Анциферов молчал.
– Чем докажешь? – нервно спросил Валет.
– Ты был с Арапкой, когда его брали с воровской кассой, – не отрывая взгляда от своих ногтей, бесстрастно повторил Анциферов. – Дружка повязали, а ты в окно выхлестнулся, успел. Он тебе… – снова несколько тихих слов через стол, от которых Валет изменился в лице.
– Где сейчас Арапка-то? – хрипло спросил он.
– Умер на каторге два месяца назад.
– А Сивый?
– На Хитровом, в «Пересыльном», случая ждет.
– Кассу-то он… Тузу сбросил? Успел? Я ж не знаю…
– Успел.
Вор отвернулся, уставился в стену. Сквозь зубы процедил:
– От меня чего хочете?
– На этот раз, Валет, ты крепко вляпался.
– Да уж знаю, – настороженно отозвался тот.
– В каторгу пойдешь.
– И первый раз, что ли?..
– Маруху твою тянуть за тобой нельзя.
Валет, явно не ожидавший такого поворота разговора, растерянно наморщил лоб.
– Это… Катьку, что ль? Та, понятное дело, нельзя, я ж и кажу Аполлинарьичу, что ее на волю пущать надо, она пигалица, ни к чему не привязанная… А вы… из-за нее стараетесь?
– Она, как ты знаешь, тянет все на себя, – словно не услышав последнего вопроса, продолжал Анциферов.
– Да дура она, дура-девка, и всех делов! – взорвался Валет. – Вы меня слухайте, я ж как на духу… Моя работа была, спросите кого хочете по Одессе, я сроду с бабами не работал!
– Ну, на этот раз сработал, – без улыбки заметил Анциферов. – Валет, делай, что хочешь, но девочку твою надо вытащить.
– А я что могу, на шконках сидючи?! – вызверился Валет. – У этой козявки упрямства на сто ишаков хватит! Уперлась, зараза!
– У тебя будет с ней свидание.
Валет осекся на полуслове. Недоверчиво посмотрел на Анциферова:
– Лепите? Кто даст-то?
– У тебя будет с ней свидание, – невозмутимо повторил тот. – И ты скажешь ей, что… – Тут Анциферов почти вплотную приблизился к вору и несколько минут говорил шепотом. Валет внимательно слушал. Затем медленно кивнул.
– Что ж… Цекаво придумано. Только ведь не поверит она… Хоть малявка, а не дура.
– Должен так сказать, чтоб поверила. Учить мне тебя? Знаешь сам ведь, как с девками надо.
– Да, но как с ней, с Катькой, до сих пор не понял, – неожиданно произнес Валет. – Но вы правильно сказали, это проканать может. Ну… ведите, что ль.
– Сейчас пойдешь. – Анциферов вышел из-за стола. – Только смотри, без выкрутасов, там будет ее старшая сестра, не напугай.
– Сестра… – проворчал Валет. – Слышал, как же. Из-за нее-то вся эта бодяга и замесилась. Как она Катьку до таких делов допустила?
– Ну, это уж не твое собачье… Кстати, Валет… Жандарма-то Катерина уложила?
Валет, уже вставший, прямо посмотрел в глаза Анциферова и отчеканил:
– Я. От хоть крест на том поцелую.
– Эк она тебя зацепила-то, – заметил на это Максим Модестович и, открыв дверь, крикнул в коридор: – Жуляченко, забирай! В четырнадцатый, к Козинцеву его!
Катерина уже полчаса сидела неподвижно на жестком стуле в кабинете следователя, глядя в серую стену. Анна оставила попытки поговорить с сестрой и сидела так же без движения, с закрытыми глазами. Только по тому, как судорожно ее пальцы сжимали край мантильи, можно было догадаться, что она изо всех сил старается не плакать. Следователь за столом, шурша бумагами, изображал занятость, но его бесцветные осторожные глаза то и дело останавливались то на одной, то на другой сестре Грешневой.
Дверь открылась, вошел Максим Модестович. Анна поднялась ему навстречу, он успокоил ее коротким жестом и крикнул в открытую дверь:
– Жуляченко, запускай, и – свободен пока!
В кабинет вошел Валет, и младшая Грешнева вскочила, как подброшенная пружиной. Никто не успел ничего ни заметить, ни понять – а оба подследственных уже стояли, намертво обнявшись. Катерина выла низким грудным звуком, захлестнув руки на шее Валета, а тот судорожно комкал спутанные волосы девушки, крепко прижимая ее к себе. На лбу вора билась сизая вздувшаяся жила.
– Боже мой… – пробормотала Анна, отворачиваясь. – Боже мой…
Козинцев смущенно крякнул, привстал было, но Максим Модестович чуть заметно отрицательно качнул головой. В это время Валет с огромным трудом отодрал от себя Катерину и, в упор глядя на Анциферова, хрипло сказал:
– Мне с ей одному надо остаться.
– Да что ж такое делается!.. – не выдержала Анна, но Максим Модестович, подойдя к ней, тихо проговорил:
– Аннет, это будет лучше всего… Валет, у тебя полчаса. Юрка, вставай, пошли в соседний кабинет! Жуляченко, будь у дверей, и не дай бог чего… Головой отвечаешь!
Последней вышла Анна, испепелив Валета убийственным взглядом, которого тот даже не заметил. Дверь закрылась. Катерина подняла глаза – зеленые, мокрые и счастливые.
– Сережа… Господи, как ты это сделал? Целых полчаса, счастье какое… Но почему, почему?! Ах, ладно, об этом потом… Сережа, послушай меня, я уже все решила! Я – женщина, мне только шестнадцать, я дворянка, мне суд мало даст, может быть, даже до каторги и не дойдет, ради бога…
– Катя, помолчи. – Валет, не замечая стульев, сел прямо на пол, и Катерина немедленно сделала то же самое, не отпуская его руки и глядя в упор уже встревоженными глазами. – Ты недавно в такие дела полезла, а я в них всю жисть кувыркаюсь. Казенного человека замочить – не шутка, это, Катя, каторга. И ты у меня туда не пойдешь.
– Пойду!.. – отчаянно выкрикнула Катерина, но ладонь Валета решительно зажала ей рот.
– Катя, слушай и молчи, времени мало. Мне-то каторга эта нипочем, я с нее уже бегал и вдругорядь убегу, не лиха наука. А ты сможешь?.. Вот то-то.
– Я тебе не верю, – тихо произнесла Катерина, не сводя с любовника глаз. – Сережа, я не верю тебе…
– А ты верь. И не мешай, – спокойно улыбнулся Валет. – Катя, да пойми, что, коли ты сядешь, – мне не жисть.
– А мне без тебя?! – заголосила она, снова заливаясь слезами. И опять Валет зажал ей рот.
– Катя, молчи, ради бога, послушай меня… Жив не буду, коли не вырвусь к тебе! Знаешь, кто этот седой, который нам свиданку дал?
– Да мне какое дело?!
Валет притянул девушку к себе, торопливо зашептал ей на ухо. Катерина слушала, постепенно переставая плакать и глядя на любовника широко открытыми глазами.
– …и он мне обещал, – закончил Валет, – что при первой же остановке этапа – подорву. Это можно, я точно знаю. Уж не пойму, с какой радости он с нами возится… Сестрица твоя, что ли, при нем состоит?.. Катя, ради бога, сделай, как я говорю, не топи нас обоих-то!
– Но… Сережа…
– Катя! – нахмурился Валет, мгновенно почувствовав нотки сомнения в ее голосе. – Ты понимаешь, что тебя отмажут вчистую?! Будешь сидеть, как в раю на облаке, и меня дожидаться!
– Где, Сережа?!
– Да к матери моей пойдешь, на Костецкую! Там и посидишь до зимы, а после уж я к тебе прибуду! Катя, маленькая, сделай так, как прошу…
– Не верю я вам… – горестно прошептала Катерина, вцепляясь в Валета, как обезьянка, цепкими сильными пальцами и прижимаясь головой к его плечу. – Ой, не верю совсем… Все ты врешь, обманешь меня…
– Что ты, Катя… Что ты, девочка… Да когда я тебя обманывал? Увидишь, двух месяцев не пройдет, опять вместе будем! В Бессарабию уедем с тобой! Али в Польшу! А хочешь – в Америку через окиян! Ну?..
Дверь кабинета открылась, вошли Максим Модестович и Козинцев. Валет вскочил с пола, заставляя подняться и плачущую Катерину. Сумрачно сказал:
– Согласная она.
– Сережа, нет!..
– Согласная, – с нажимом повторил он, и Катерина с горьким всхлипом прижалась к его груди. – Зараз все подпишет. Аполлинарьич, да подсовывай ей быстрей бумажки-то, пока не передумала! Она ж у меня буйная! И я тож подпишу!
Козинцев немедленно кинулся к своему столу, зашуршал бумагами. Вошедшая Анна застыла у двери и молча наблюдала за тем, как Валет насильно, за обе руки подтягивает упирающуюся Катерину к столу, как Козинцев указывает место подписи, как сестра берет перо, роняет его, поднимает, плачет, бросает на стол, снова берет… и, всхлипывая и икая, быстро-быстро подписывает бесконечные листы протоколов. Вслед за ней подписал и Валет – спокойно и безразлично, словно выполняя привычную, надоевшую работу. Он же в двух словах объяснил Козинцеву, что «слам с дела» – драгоценности Ахичевских и пресловутые государственные бумаги – находится в доме на Костецкой, у матери Валета. Туда немедленно понесся курьерский экипаж.
– Что ж, прощайтесь, – удовлетворенно складывая в папку бумаги, произнес следователь. – Катерина Николаевна Грешнева освобождается под ответственность статского советника Анциферова… А ты, Валет, с божьей помощью отправляйся в камеру дожидаться суда.
– Сережа!.. – кинулась к нему Катерина, чуть не снеся с ног вошедшего жандарма, и, повиснув на шее любовника, заголосила благим матом на всю тюрьму, как деревенская баба по покойнику. Но Анциферов мягко взял ее за плечи:
– Катерина Николаевна, я сожалею, однако свидание ваше окончено…
Катерина повернулась к нему – и из мокрых, сузившихся зеленых глаз ударило таким лютым бешенством, что Максим Модестович невольно отшатнулся.
– Я вам не верю ни на грош!!! – процедила она. – И жизнью своей клянусь – если Сережа не вернется, я вас убью! Убью! Клянусь! Где б вы ни были!
– Охотно верю, – невозмутимо проговорил Анциферов. – Постараемся до этого не довести. Жуляченко! Забирай…
Валет в последний раз поцеловал полубесчувственную Катерину, передал ее с рук на руки Анциферову и повернулся к Жуляченко:
– Пошли, Павло… Муторно мне что-то.
– А ты, Сережа, помолись, – пробасил огромный конвойный, пропуская арестанта впереди себя. Когда Валет проходил мимо Анны, по-прежнему стоящей возле стены у двери, она коснулась его плеча и вполголоса сказала:
– Спасибо, храни вас господь…
Светлые глаза вора в упор взглянули на нее. Но Валет сразу же опустил голову и, ничего не ответив, вышел впереди конвойного в темный коридор. Тяжелая дверь закрылась за ним.
Через час прибыл курьер – слегка поцарапанный Валетовой мамашей, но счастливый донельзя: все украденные с дачи Ахичевских ценности, завернутые в роскошную персидскую шаль, оказались целыми и невредимыми.
– Шаль отдайте мне, – сухо потребовала Катерина. – Она моя собственная, не с дела. Не могу же я в этом, – она повела обнаженными плечами, – ехать через всю Одессу.
– Катя, о чем ты? – испуганно спросила Анна. – Мы немедленно отправляемся в Москву, ко мне…
– Аня, я не поеду, – спокойно, как о давно решенном, отозвалась Катерина. – Я остаюсь здесь ждать Сережу.
– Но, девочка моя… – начала было Анна, однако Катерина, не слушая ее, руками кое-как привела в порядок волосы, взяла со стола следователя шаль, набросила ее на плечи и, решительно утерев последние слезы, двинулась к выходу.
– Катя! Да что же это, подожди!!!
Катерина остановилась. Устало сказала:
– Не плачь, Аня. Спасибо тебе, но… ничего уж не поделаешь. Прощай.
Она вышла в коридор, и сразу же вслед за ней выскочил Анциферов, плотно прикрыв за собой дверь.
– Вот так…
– Что вам еще угодно? – ледяным голосом поинтересовалась Катерина, поворачиваясь к нему. – Теперь, добившись своего, вы снова отправите меня в камеру?
– О нет, – заверил Максим Модестович. – За что же? Вы полностью свободны, Катерина Николаевна… Позвольте только еще один вопрос – из чистого любопытства, поверьте. Жандарма при аресте застрелили все-таки вы?
– Разумеется, – холодно ответила она, глядя в глаза статского советника.
– Вы далеко пойдете, девочка моя, – чуть ли не одобрительно произнес Анциферов. – Но, умоляю вас, – будьте осторожны.
– Могу и вам посоветовать то же, – в тон ему заметила Катерина. – Если вы меня обманули – вам не жить.
– М-да… – улыбнулся Анциферов. – Валета где-то можно понять… Прощайте, Катерина Николаевна.
Она молча, быстро прошла мимо него: кисть взметнувшейся шали мазнула Анциферова по лицу. Максим Модестович проводил девушку взглядом и не спеша вернулся в кабинет, где Анна, сидя возле стола следователя и закрыв лицо платком, беззвучно плакала.
– Аннет, клянусь вам, я сделал все, что было в моих силах, – подойдя, вполголоса проговорил Анциферов. – Задерживать вашу сестру далее мы не имели права, и…
– О, что вы, Максим Модестович… Я… я очень вам благодарна… Вы спасли ее от тюрьмы, и… Скажите, это правда? – Анна вдруг перестала плакать и подняла на Анциферова измученный взгляд. – Правда, что вы устроите побег этому… молодому человеку?
Анциферов переглянулся с Козинцевым. Пожал плечами.
– Все возможно, Анна Николаевна. Но не забывайте, что мы находимся с вами в стенах законности, и разговоры такого рода…
– О да, я понимаю, простите… – Анна испуганно умолкла и, спрятав в сумочку совершенно мокрый платок, встала. – Я могу теперь покинуть вас?
– Если желаете, я провожу вас в гостиницу.
– Не трудитесь, я возьму извозчика. Благодарю вас, господин Козинцев.
– Не за что, сударыня, – коротко поклонился следователь.
Анна вышла. Некоторое время она еще стояла в полутемном коридоре, прислонившись спиной к стене и закрыв глаза. Затем выпрямилась, перекрестилась и торопливо пошла к выходу.
Ночью в небольшой гостинице около вокзала было тихо. Анна сидела в своем номере перед стаканом давно остывшего чая, опираясь локтями о стол и устало опустив голову на руки. Окно было открыто, и посвежевший к ночи ветер слегка шевелил кисейную занавеску. Пахло морем, какими-то поздними цветами. Два зеленых светляка тускло освещали колючую ветку акации, прильнувшую к ставню. Из черной массы платановых деревьев монотонно гукала какая-то птица. Анна вяло думала о том, что уже полночь, что нужно идти спать, что завтра утром – поезд… но подняться из-за стола и раздеться не было сил. Давно растрепавшиеся волосы отдельными вьющимися прядями сбегали по плечам и спине, но вынуть уцелевшие шпильки и причесаться Анна не могла. Страшная опустошенность и тоска не давали даже шевельнуться; от гуканья птицы в черных ветвях становилось еще хуже, и если бы Анна была в силах сделать это, то давно запустила бы в нее стаканом.
Послышался негромкий стук в дверь.
– Прошу, – негромко сказала Анна, даже не задумавшись, кто бы это мог быть так поздно и в чужом городе. Дверь открылась, вошел Анциферов в вечернем костюме с белой грудью, заметно уставший и пахнущий вином.
– Черт бы его побрал, Юрку Козинцева, – сообщил он с порога. – Затащил все-таки, подлец, в ресторан, насилу я вырвался там от цыганок. В мои годы такие развлечения опасны для здоровья… Почему вы не спите, Аннет? Я проходил по коридору, случайно увидел у вас свет… Завтра рано вставать!
– Я знаю, Максим Модестович. Не спится, да еще птица эта проклятая… Сделайте милость, присядьте. Заказать в номер вина?
Анциферов покачал головой, подошел к окну, поднял с пола туфлю Анны и запустил ею в заросли платанов. Послышалось возмущенное хлопанье крыльев, и гуканье прекратилось.
– Туфли из магазина Лемма на Кузнецком мосту, – меланхолично сообщила Анна. – Сто пятьдесят рублей. И куда теперь девать вторую?
– Сочту за честь купить вам новые, – заверил Максим Модестович, садясь за стол напротив и внимательно всматриваясь в лицо Анны. – Вы очень бледны, однако… Вам дурно?
– Нет… Просто тяжело. Максим Модестович, я вам очень благодарна за…
– Оставьте, Аннет, право, – поморщился Анциферов. – Будем надеяться, что ваша сестрица скоро придет в себя от любовной горячки и догадается вернуться к вам.
– Этого не будет, – убежденно произнесла Анна. – Я знаю Катю, Максим Модестович, она не вернется. Наверное, и к лучшему. Что я смогу ей предложить, как устроить в жизни? Мы с Соней когда-то надеялись выучить Катю, удачно выдать замуж… Смешно… Но кто бы мог подумать?! В ее шестнадцать лет, и вдруг – такая страсть… Ведь она готова была за этим Валетом следовать в огонь и воду, на каторгу, на эшафот – куда угодно… Если б я, родная сестра, встала на ее пути – она бы убила меня не задумавшись! Как страшно… Никогда не думала, что такое бывает в жизни. Не в романах французских, а на самом деле…
– А вас, Аннет, подобные чувства миновали? – не сводя с нее глаз, поинтересовался Анциферов.
– Представьте, да, – слабо усмехнулась Анна. – Кому, как не вам, знать, при каких обстоятельствах я распрощалась со своим девичеством… Вы ведь были другом моего покойного опекуна?
– Всегда считал это большим свинством с Гришкиной стороны, – встав и отойдя к окну, проговорил Максим Модестович.
– Право?.. Что ж, возможно. Ему было пятьдесят три года… По крайней мере, опытный мужчина. Мне едва исполнилось семнадцать, я только что вышла из Смольного, вся в воздушных мечтах и фантазиях… Ох, вспомнить жутко, каким эфирным созданием я была. Что ж… Денег, к его чести надо сказать, давал, сколько требовалось.
– А как же его сын? – не поворачиваясь от окна, спросил Анциферов. – Ведь с Петром вы прожили более шести лет…
– Да. И каждый день считала деньги и ждала конца. Всю жизнь, представьте, я считаю деньги! За дом, проценты по закладным, за дрова, за вспашку в Грешневке, за керосин, Соне то, Кате другое… Петька обо всем этом, разумеется, не знал и не думал. Он вовсе мало о чем в жизни беспокоился, и… Впрочем, при его деньгах это можно было себе позволить.
– Разве он не любил вас?
– Не знаю… По крайней мере, шесть лет у меня хватало сил на то, чтобы его забавлять. Вы же помните, Максим Модестович, нас с ним вся Москва видела в театрах, ресторанах, кафешантанах… Сижу вот, в перьях страусовых и бриллиантах, с Петькой в «Стрельне», цыгане орут, пляшут, музыка гремит, я улыбаюсь, пью вино… а в голове так и крутится иголкой: «Завтра по закладной выплачивать, даст денег или нет?» До любви ли тут, до страсти, Максим Модестович? Вы ведь всё понимаете…
Анциферов отошел от окна, сел за стол напротив Анны. Подняв голову, она внимательно посмотрела в его темные глаза. Медленно произнесла:
– Когда-нибудь вы объясните мне, Максим Модестович?..
– Извольте, Аннет, но что же? – пожал он плечами.
– Почему вы принимаете во мне такое участие? Почему тогда, весной, когда я кружила по пустому дому и старалась не думать о том, что скоро окажусь на панели, вы пришли ко мне? Почему помогали все это время? А сейчас спасли Катю? Ведь все же не настолько громкое дело кража Петькиных государственных бумаг, чтобы вам пришлось этим заниматься по долгу службы. И Катю, и ее Валета прекрасно поймали без вас и так же без вас отправили бы на каторгу обоих. Значит, вы специально следили за судьбой Катерины, видимо, специально хлопотали о нужных сведениях, и со своим старым однокурсником связались из-за этого, не мог же он вызвать вас для собственной надобности…
– Я всегда знал, что вы умная женщина.
– Я не привыкла к бесплатным пирожным, Максим Модестович, – вздохнув, продолжила Анна. – Если я… Если вы хоть немного симпатизируете мне, то скажите… не мучайте. Весной вы ушли от этого разговора, помните? – но у меня дня не было, чтоб я не подумала, чем мне придется расплачиваться с вами.
– Аннет, вы меня ставите в крайне неловкое положение.
– Полно… Вы же не в салоне княгини Лезвицкой. Со мной можно без церемоний. – Анна встряхнула головой, несколько чудом оставшихся в волосах шпилек вылетели, окончательно освободив прическу, и вьющиеся пряди хлынули через спинку стула к полу. – Назовите вашу цену, Максим Модестович… просто ради моего спокойствия.
– Никакой цены нет, моя девочка. – Анциферов остановился за спинкой ее стула, незаметно прикоснулся к пушистой каштановой волне. – Я люблю вас.
Анна не обернулась, не пошевелилась. Помолчав немного, спокойно спросила:
– Зачем вы шутите так со мной? Это достойно скверных мальчишек из кадетского корпуса.
– Нисколько, Аннет. – Голос Анциферова за ее спиной был таким, как всегда: ровным, низким, чуть хрипловатым. – К моему большому сожалению, это святая истина.
Наступило молчание, теперь уже ничем не прерываемое: на улице все спало. Анциферов, подойдя к открытому окну, стоял, задумчиво постукивая пальцами по влажному от росы подоконнику. И не обернулся, услышав горький смешок Анны:
– Боже мой, только этого мне недоставало… Простите, Максим Модестович. Я вовсе не желала вас обидеть, но…
– Что вы, Аннет… Еще раз повторяю, вас это ни к чему не обязывает. Вы не можете отвечать за пробудившиеся чувства старого осла.
– И… давно это с вами? – еще надеясь свести все в шутку, поинтересовалась Анна.
– Семь лет, – просто ответил Анциферов. – Я впервые увидел вас вместе с Ахичевским, вашим опекуном, как раз после вашего выхода из института. Вы совершенно верно сказали: эфирная зеленоглазая нимфа неземной красоты и с неземной же печалью в глазах. Я еще подумал тогда: какая Гришка сволочь, растлил сущего ребенка… Вы были мне представлены, но, вероятно, не помните об этом…
– Вообразите, нет. Меня тогда многим представляли.
– Да, я думаю. Гришка рад был продемонстрировать свое приобретение… Когда он с божьей помощью помер, у меня мелькнула грешная мысль завоевать вашу благосклонность, но вклиниться между папашей и сынком я не успел. Вас передали по наследству… – Анна вздрогнула, и Анциферов, словно почувствовав это, обернулся от окна и внимательно посмотрел на нее. – Я обидел вас, Аннет?
– Ничуть, – со вздохом произнесла она. – Меня уже давно нельзя обидеть. Знаете, в дни этого… перехода по наследству, как вы верно выразились, я была уверена, что отравлюсь. У меня даже имелся мышьяк. Я купила его в аптеке и держала в шкатулке с пудрой. Но смалодушничала. Подумала о сестрах. Что бы с ними сталось?..
Максим Модестович снова пристально поглядел на нее, но ничего не сказал. Чуть погодя начал медленно шагать по комнате. Походка его была совершенно бесшумной, черная тень маячила на освещенной лампой стене, то увеличиваясь, то уменьшаясь.
– Этой весной, когда вы пришли ко мне… так сказать, с деловым визитом… Отчего вы сразу не признались, что заинтересованы во мне? Вы же помните, я предположила это…
– И не ошиблись. Вообще, женщины в таких вещах, кажется, крайне редко ошибаются. Но, Аннет, мне не хотелось, чтобы вы… Видите ли, весть о том, что великолепная камелия Петьки Ахичевского свободна, разлетелась по Москве с фантастической скоростью. Я не сомневаюсь, что до моего визита вам уже были сделаны некоторые предложения… И их оказалось, наверное, не менее десяти.
– Двенадцать, – поправила Анна.
– Ну вот, а я стал бы тринадцатым. И, поскольку число несчастливое, отправился бы вслед за предыдущими кандидатами.
– Не знаю, – медленно сказала Анна. – Возможно, что…
– «Возможно», Аннет, меня не устроило бы, – спокойно перебил ее Анциферов, останавливаясь возле стола. – Я действительно люблю вас. И я предпочел стать вашим другом и поверенным, чем одним из кандидатов. Более того, мне удалось сделать так, что вы перестали нуждаться в любого рода покровителях. Согласитесь, это была удачная мысль…
– Сделать из меня «мадам»? О да, – серьезно подтвердила Анна.
– Ну… Не швейную же машинку было вам покупать, как в душеспасительных романах…
Анна расхохоталась. Анциферов внимательно посмотрел на нее, убедился, что смех этот не отдает истерикой, и продолжил:
– Я и предположить не мог, что наше с вами… м-м… предприятие так быстро пойдет в гору. О ваших вторниках говорит вся Москва, ваши девушки пользуются сказочным успехом, две даже, если не ошибаюсь, уже умудрились весьма удачно выйти замуж за границу… Браво, Аннет, браво. Я вам теперь не нужен.
– Не кокетничайте, Максим Модестович. Уничтожить меня очень легко. И тем более вам. – Анна обернулась к нему со спокойным, усталым лицом. Улыбнувшись, произнесла: – Предложение мое по-прежнему в силе. Я всегда к вашим услугам, Максим Модестович. Я помню любое добро, сделанное мне… может быть, потому, что очень мало видела его в жизни. Вы упомянули о любви… Я, к сожалению, урод, лишенный всяких женских чувств, но… вас я в самом деле могу назвать своим другом. И благодарность моя вам безмерна. Если это сможет возместить…
– Нет, Аннет. Да и не нужно. Благодарю вас за искренность. Поверьте, я тоже очень мало ее видел в своей жизни. И… ложитесь спать. Вам нужно будет рано встать. Увидимся утром, моя девочка.
Анна поднялась было со стула, но Анциферов жестом остановил ее. Подойдя, взял холодную руку женщины, поцеловал и вышел из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Анна глубоко, тяжело вздохнула, закрыв лицо руками. И сидела неподвижно до тех пор, пока не погасла, превратившись в лужицу растопленного воска, свеча в канделябре. Небо за окном уже светлело. Как сомнамбула, Анна встала из-за стола, прямо в платье навзничь повалилась на неразобранную кровать и уснула.
Осень в Питере хуже, чем зима в Москве. Сия сентенция принадлежала Северьяну, но Черменский полностью с ней согласился. Они приехали в Северную Пальмиру сумрачным сентябрьским утром и были встречены пронзительным ветром с набережной и колючей, почти ледяной крошкой, сыплющейся из низких облаков. Изредка, как насмешка, сквозь эти свинцово-серые полосы проглядывал узкий, словно лезвие, солнечный луч, который быстро скользил по золоту церковных крестов, цеплялся за Адмиралтейскую иглу и, легкомысленно попрыгав по сизой воде залива, исчезал без следа. Прохожие кутались в пальто и шали, пересекали улицы и проспекты бегом, и даже нахохленные извозчики на вокзальной площади не спешили к приезжим с криками: «Вась-сиясь, с ветерком куда прикажете!»
– И чего вам, Владимир Дмитрич, в Раздольном не сиделось? – уныло спросил Северьян, натягивая на уши картуз и передергивая плечами. – Сейчас как раз озимь сеять надо, а без вас эти тюхи много ли насеют? От Фролыча толку никакого, совсем сдал старый. И так, ежели б мы с вами все лето вместе с мужиками косами не промахали, вовсе без хлеба бы остались, и без сена… Опять одни убытки к зиме схлопочем…
– Вот и оставался бы, я тебе предлагал. – Владимир тщетно пытался раскурить на ветру папиросу. – Посмотрел бы за мужиками, а я б тут и один управился.
– Вы ж знаете, я вас одного только в нужник отпущаю, – совершенно серьезно сказал Северьян. – Да вдвоем и быстрей оно будет… Вот только что мы с тем мальцом делать станем, ежели чего не так?
Владимир и сам не знал, что можно будет сделать, «ежели чего не так», с сыном Маши, которого он никогда в глаза не видел. Но не выполнить последнюю просьбу любившей его женщины казалось немыслимым, и Черменский успокаивал себя тем, что разберется на месте. Возможно, и делать ничего не придется: Маша писала, что сын находится у ее матери, а то, что почти год не было писем… да российскую почту только ленивый не ругал. Денег ведь Маше не прислали обратно – значит, пришли по назначению.
Северьян в который раз учуял мысли Черменского.
– Мне вот все одна мысль покоя не дает: откеля у Марьи Аполлоновны такие деньги знатные взялись? – задумчиво проговорил он, шагая вслед за Владимиром по проспекту. – Тыща рублей – шутка ли? Ни на каком бенефисте ей бы столько не отвалили! И сама рассказывала, что нищая всю весну и лето сидела… А тут такой капитал! Может, перепуталось у ней в голове что-то с расстройства-то?
Владимир не отвечал. Он сам не раз думал об этом, но Маши уже не было на свете, а больше никто не мог открыть ее тайну.
Посовещавшись, они взяли извозчика и отправились в Колтовскую слободу – туда, где кончались монументальные каменные особняки с колоннами и длинные, как кишки, доходные дома. Здесь мостовые переходили в обычные грязные улочки, поросшие травой и лопухами, среди которых шныряли куры и ободранные кошки, а из-за заваливающихся заборчиков выглядывали такие же заваливающиеся деревянные одноэтажные домики и лавчонки с покосившимися вывесками. Добравшись до места, Владимир рассчитался с извозчиком, а Северьян тем временем поймал за драную рубаху пробегающего мимо мальчишку с грязным поросенком под мышкой:
– Стой, зеленые ноги!.. Ну-ка, скажи, где тут дом майорши Мерцаловой?
– А на што вам? – спросил мальчишка, зябко потирая одну о другую босые ноги и изо всех сил сжимая извивающегося поросенка. – Они померши еще летом!
– Вон куда… – растерялся Северьян. – А дом кому отошел?
– Андрей Кирилыч Севостьянов купили у наследников.
– У каких наследников?! – возмущенно заорал Северьян. – Откуда они взялись-то?!
– А мне почем знать?! – так же возмущенно заголосил в ответ мальчишка. – Пустите уж, дяденька, я эту заразу с утра по огородам ловлю, ежели не принесу – с меня хозяйка три шкуры сдерет… Ай, холера, сволочь треклятая, стоять! Стой!!! А, чтоб твою мать через задницу да по суху, сто-о-о-ой!!!
Какое там… Вырвавшийся на волю поросенок с победным визгом стремительно брызнул в заросли сирени. Мальчишка не успел, впрочем, и до половины довести отчаянную матерную филиппику, а метнувшийся молнией Северьян уже держал заходящегося в истерике беглеца за заднюю ногу. Все произошло в считаные мгновения. Даже Владимир, хорошо знавший великолепную реакцию Северьяна, немного удивился, а о мальчишке и говорить было нечего: он так и застыл с вытаращенными глазами и разведенными в стороны руками.
– Держи животную! – сердито буркнул Северьян, тыкая поросенка в руки мальчишке. – Только мне и дела, что за твоей скотиной по кустам сигать…
– Ну, вы, дядя, право слово… – восторженно выдохнул тот, прижимая вновь обретенную «скотину» к животу. – Вот сроду такого не видал! Вы не с цирка случаем?!
Северьян, побывавший в свое время и в цирке, и в пересыльной тюрьме, и в цыганском таборе, только неопределенно хмыкнул и обернулся к Черменскому. Тот поспешил продолжить расспросы:
– Парень, Севостьянов – это кто?
– Они портновскую мастерскую держут в переулке – вон, третий дом отселева. Сопроводить?
– Ладно, сами… Беги, не то опять хрюшку упустишь.
Портновская мастерская оказалась длинным хмурым строением с грязными, сто лет не мытыми окнами и залитым помоями крыльцом, которое мыла, сопя и шепотом ругаясь, замурзанная девчонка лет пятнадцати с рыжей растрепанной косой, в подоткнутой выше колен юбке. Северьян хлопнул девчонку по заду, вынуждая принять естественное положение. Та в ответ немедленно хлестнула его грязной тряпкой, целясь по физиономии, и попала бы непременно, окажись на месте Северьяна кто-либо другой. Но он успел отпрыгнуть и восхитился:
– Ух ты, какая скорая-то! Чуть не убила! Что ж ты на посетителей рваниной машешь?
– Не мы таки, жисть така, – послышалось в ответ. – Тебе чаво надоть, купец?
– Хозяина надоть.
– Почивают.
– Буди.
– Сам и буди, коль жить надоело.
Северьян пожал плечами, набрал воздуху и, прежде чем Черменский успел остановить его, завопил так, что за забором зашлись заполошным кудахтаньем куры, а девчонка, утопив в ведре тряпку, зажала грязными кулаками уши.
– Андрей Кириллы-ы-ыч!!! Андрей Кириллы-ы-ы-ыч!!! Выйди на ча-а-ас!!!
В доме затопали ноги и захлопали двери. Первыми высыпалась, словно взвод солдат на построение, дюжина разновозрастных подмастерьев в живописных обносках, с одинаково испитыми и чумазыми физиономиями. Парни молча встали возле крыльца, с изумлением разглядывая нежданных посетителей. Следом вылетела высокая толстая тетка с красным лицом и неубранными тусклыми волосами, в надетой навыворот плюшевой кофте, немедленно принявшаяся орать на весь переулок:
– Ето хто тута разоряется с утра, как бусурман?! Ето кому глотки своей не жалко?!
– Тебе, теть, и не жалко, – вежливо подсказал Северьян.
Подмастерья дружно хрюкнули, тетка стала совсем уж свекольного цвета, и неизвестно, чем бы все закончилось, не вмешайся Владимир:
– Прошу извинить, но нам нужен Андрей Кириллович Севостьянов. По очень важному делу.
Тетка подозрительно посмотрела на Черменского. Оценив приличный костюм и офицерскую выправку, сменила гнев на милость, буркнула: «Сей минут будут…» – и уплыла в дом. Через некоторое время на крыльце появился хозяин лавки: высокий и худой жердеобразный старик с черненькими, злыми глазками, небольшой, аккуратно подстриженной бородкой, в исподней рубахе навыпуск и подшитых кожей валенках на босу ногу.
– Кому меня надобно? – сипло, без всякого волнения спросил он, вглядываясь в лицо Черменского. – Извините, ваше благородие, признать вас не умею.
– Мы с вами незнакомы, – сухо произнес Черменский, подходя вплотную. – Я здесь по поручению Марьи Мерцаловой, дочери Ольги Агафоновны Мерцаловой.
– Та-а-ак… И что же вам угодно?
– Мне угодно узнать, где находится Иван Мерцалов, сын Марьи Аполлоновны. Как мне сказали, Ольга Агафоновна умерла…
– Точно так. Еще на Петровых, я сам, на свои средства, и хоронил, – степенно подтвердил Севостьянов, пристально вглядываясь в посетителя. – Как уговорено было.
– С кем уговорено?
– Да с нею же самой. У нас уговор был давний, вам вся улица подтвердит, и в стряпчей конторе подписано, честь по чести…
Владимир, чувствуя недоброе, потребовал подробностей, и выяснилось следующее. Мать Маши, майорская вдова Мерцалова, после смерти мужа жила на его крошечную пенсию, от дочери письма и деньги приходили крайне редко, а годы Ольги Агафоновны были уже преклонными. Когда этой весной из Орловской губернии приехал девятилетний сын Маши, внук майорши, которого она до сих пор в глаза не видела и даже не знала о его существовании, Ольга Агафоновна всерьез испугалась и пошла советоваться о том, как быть, к соседу – уважаемому всем переулком портному Севостьянову. Тот внимательно выслушал вдовицу и предложил вот что: Мерцалова оформляет завещание, по которому ее домишко отходит после ее смерти Севостьянову, а он, в свою очередь, берет на себя заботы о мальчишке, его содержание и образование до достижения им совершеннолетия. Майорша подумала – и согласилась. Бумаги были оформлены в стряпчей конторе, малолетнего Ваньку Севостьянов забрал в ученики. Ольга Агафоновна радовалась, что так удачно пристроила внука и сама не осталась внакладе. Она была уверена, что дочь-актриса больше никогда не появится у родной матери, а значит, старый, стоящий копейки дом ей не нужен.
– Понятно, – коротко проговорил Владимир, выслушав старика. Стоящий рядом Северьян от возмущения сопел и рвался в бой, но Черменский взглядом удерживал его. – Можно ли, в таком случае, видеть мальчика?
– Ваньку-то? Никак невозможно.
– Отчего же?
– Оттого, что, прости господи, поросюком неблагодарным оказался. – Хозяин оскорбленно поджал тонкие губы в оборочку. – Я его, байстрюка, облагодетельствовал, в свой дом как сына родного принял, на все готовое, одел-обул, в ученье взял, а он, шельмец, через месяц сбежал! И не показывается! На Сенной, поди, у людев карманы чистит, видали мы…
– Видал, стало быть… – все-таки встрял нехорошим голосом Северьян, и по его побелевшим скулам Владимир понял, что удерживать друга дальше бесполезно. – Видал, чем малец занимается, и назад домой не привел?!
– Здоровья не хватит всех босяков по Питеру собирать, – отрезал Севостьянов. – У меня и так двенадцать душ кормятся!
– Он у тебя не даром кормился, – не выдержал и Владимир. – Спрашивать о тысяче рублей, с ним посланной, надо думать, бесполезно?
– Какой-такой тыще?!! – виртуозно изумился Севостьянов. – Да мы этаких деньжищ отродясь в руках не держивали, а уж дочка-то Ольги Агафонны – тем более! У ней они и вовсе взяться ниоткуда не могли!
– Почем знаешь, что от Марьи Аполлоновны деньги были? – снова влез Северьян. – Да не пихайте вы меня, Владимир Дмитрич!!! По роже евонной видно, что денежки прибрал, а мальца сбагрил с глаз подале!
Но тут разозлился и Севостьянов. Он весь откинулся назад, выпятив тощий живот, и его глазки обратились в узкие щелочки:
– Ты на меня не лайся, шаромыжник! Видали мы таких! И уж извиняйте, ваше благородие, но только я в толк не возьму – с каких таких прав вы мне тут допрос чините? Вы Мерцаловым сродственник какой? Нет? Ну так я вам и ответ держать не обязан! Завещание Ольги Агафонны чин чином обстряпано, и свидетели есть, на то бумага имеется, а за мальчишкой по городу бегать я не подписывался! Он сам понимать был должон, какое ему счастье на голову упало! Отказался – его право! Желаю здравствовать!
Со скрипом развернувшись на кожаных пятках валенок, Севостьянов ушел в дом и хлопнул дверью.
До конца переулка Черменский мрачно молчал, но уже возле Колтовки все-таки сорвался:
– Ну когда ты перестанешь соваться в каждую дыру, а?! Что ты в него вцепился, как клещ, ведь по морде этого Севостьянова видно, что он со своим не расстанется! Еще заранее все обстряпал, у вдовы завещание выбил, дом к рукам прибрал! Разве такого на твои наскоки возьмешь?!
– Бубну об забор ему надо было прямо там выбить, только и делов… – упрямо бурчал, пиная сапогом комок грязи, Северьян. – Разом бы все рассказал, как на духу…
– «Бубну»! Забыл, что ты беспаспортный?! В части давно не сидел?! А у меня денег нет сейчас тебя вытаскивать!
– Помню…
– А раз помнишь, так и молчал бы! Если б мы стали с этим Севостьяновым по-хорошему разговаривать, возможно, он рассказал бы, где мальчик, а теперь… Бегать нам с тобой по всему Питеру и каждого бродягу допрашивать! Попробую вечером вернуться, денег этому упырю, что ли, дать…
– Ну, знаете что, ваша милость!.. – взвился возмущенный до глубины души Северьян… и тут сзади послышался тоненький писк:
– Эй, дяденьки, стойте, подождите-е-е!
Владимир и Северьян одновременно обернулись. По переулку за ними неслась, быстро перебирая босыми голенастыми ногами, рыжая девчонка, полчаса назад чуть не ударившая Северьяна тряпкой.
– Да что ж вы!.. Я голосю-голосю, а вы и не слышите! – Она остановилась, споткнувшись, и упала бы, не поймай ее Владимир.
– Спасибочки вам… Ой, не трожьте, барин, я грязная, замурзитесь… Я ведь это… Того… Андрей Кирилычу вы не верьте, он, змеюк, все не так сказал, как было… А вы Ваньке кто?
Владимир, к которому непосредственно обратилась девчонка, на мгновение запнулся, не зная, что ответить. И этим воспользовался Северьян.
– Я ему отец, – спокойно произнес он, изо всех сил не замечая изумленного взгляда Черменского.
Девчонка всплеснула черными ладонями и тут же прижала их к щекам. Ее синие, неожиданно большие глаза в рамках рыжих ресниц стали еще больше.
– Охти мне… – пробормотала она, ошалело разглядывая Северьяна. – Вот счастье-то како… Ить и вправду похожи… Вот счастье-то Ваньке подсыпало…
– Ты знаешь, где он? – быстро спросил Северьян.
– А то! Еще б мне не знать! Да ступайте со мной, господа, все покажу! Как вас зовут-то, сударь?
– Северьян… Дмитрич… – говоря это, Северьян несколько смущенно покосился на Владимира, но тот уже ничему не удивлялся.
Девчонка улыбнулась во всю ширь, блеснув с грязной мордочки белыми зубами, и размашисто, почти бегом, зашагала по улице, то и дело оглядываясь через плечо: идут ли «господа» за ней.
– Ты с ума сошел? – вполголоса спросил Владимир.
– Так что извиняйте… – виновато отозвался Северьян. – Дак где ж мне другое отчество-то брать? Мой папаша почтение засвидетельствовать сроду не появлялся и посейчас, верно, в Шанхае где-нибудь кирпич кладет, а может, помер… Я его в глаза не видал… А коли б и видал – все едино, ихние имена крещеному человеку сроду не выговорить… Ну, коль вам так неудобственно, хотите – Иванычем буду! Надобно же человеку хоть какое-то прозванье иметь…
– Да хоть Сарафанычем! Зубы мне не заговаривай! Ты зачем в его папаши записался?!
– Не вас же туда было записывать, – резонно заметил Северьян. – Вон, и девка говорит, что на меня похож… Да надо было сразу нам с вами и Севостьянову этак сказать, авось по-другому бы вел себя, кровохлеб… И потом, какая разница? Все равно придется шкетенка с собой забирать, так хучь папаша, хучь дядька, хучь с Зацепы сват…
Никакой логики в беспорядочных умозаключениях друга Владимир не усмотрел, но вылетевшего слова было не вернуть, и, поразмыслив, он решил, что, возможно, хуже от этого не станет.
Найти Ваньку оказалось не так-то просто. Рыжая девчонка, назвавшаяся Наташкой, привела их обратно в город, где неутомимо принялась таскать по грязным кабакам, трактирам, дешевым меблированным комнатам, пятаковым ночлежкам, закоулкам и трущобам вокруг Сенной площади, залитым помоями и заполненным грязными, злыми, голодными обитателями. Опасности, впрочем, не было: Наташку тут все знали. В каждом трактире, в каждой занюханной ночлежке она деловито вопрошала: «Ваньку актеркина не видали, православные?» Выяснялось, что видали Ваньку многие, но точно указать его местонахождение не брался никто. Понемногу Черменскому стало понятно, что сын Марьи прибился к шайке уличных воров, состоящей из разновозрастных мальчишек, которые стаей налетали на прохожих, вырывали из рук поклажу, сдирали одежду, которую можно было сдернуть, и стремительно уносились прочь.
– В «расстойной», кажись, дрыхает… – уже перед сумерками заявил им весь покрытый коростой пацан лет шестнадцати с изъеденным сифилисом лицом.
– Далече это? – кисло осведомился Северьян (даже он подустал).
Наташка довольно хихикнула:
– Што вы, Северьян Дмитрич, рядушком! Чичас мы переулочками-переулочками – и вылезем! Только б не убег куда…
Ванька не «убег». Хозяин ночлежки «Расстойной», кривой дед с замызганной плешью, узнав Наташку, тут же за ногу сдернул мальчишку с верхних нар, спровоцировав тем самым водопад сонной матерщины и протестов.
– Чего разоряисси, шалавино отродье? – строго спросил хозяин у сидящего на полу и почесывающегося постояльца. – К тебе тута господа пришли, цельный день по всему Питеру ишшут. Поди, чего важного упер?
– А че надо-то? – зло и испуганно буркнул мальчишка, вставая и пододвигаясь ближе к открытому в переулок окну. Северьян заметил этот маневр и незаметно переместился так, чтобы в случае надобности успеть поймать Ваньку. Владимир же, не отрываясь, смотрел в лицо мальчика.
Только обладая очень хорошим воображением, можно было назвать Ваньку похожим на Северьяна. Мальчишка оказался точной копией своей матери, и даже многодневная грязь, расцвеченная коростой в альянсе с поджившими и свежими ссадинами, не могла скрыть золотистой смуглоты скуластого лица и больших черных, сумрачно блестящих глаз. Он был страшно худым и костлявым, сквозь прорехи в полуистлевшей рубахе виднелись торчащие ребра и ключицы, грязные черные волосы свалялись войлочными комками, и из них торчал разнообразный мусор – от подушечных перьев до остатков еды. Смотрел Ванька недоверчиво и нагло, но за этой миной уличного «рыцаря тумана» отчетливо просматривался страх. На Наташку мальчишка поглядел с неприкрытой ненавистью, и та поспешила затараторить:
– Ванька, они не легавые, спасеньем души своей клянуся! Это… это… это от матушки твоей, из Москвы присланные! Они вот папаша твой!
Ванька, разом утратив нахальную гримасу, вытаращил глаза на Северьяна. Тот деловито кивнул в знак подтверждения и сразу приступил к делу:
– Ты пошто от хозяина подорвал? Бил крепко?
Ванька молча кивнул.
– Что, и не потерпеть было?
– Сам бы потерпел, а я бы поглядел, – сквозь зубы процедил Ванька. – Ты видишь, что у меня трех зубьев нету? Шкуру на спине показать тебе? Клочьями три раза слезала! Волосья, сволочь, клоками драл! А когда меня его хозяйка кипятком обварила… уже спасу не было терпеть…
– Чего к бабке не пошел? – ровным голосом спросил Северьян. На скулах его бешено дергались желваки.
– А толку? – пожал костлявыми плечами Ванька. – Она уж не в рассудке была, под себя ходила… И пошто меня вовсе мамаша сюда прислала, не пойму? – Он с тоской, протяжно хлюпнул носом, вытер его кулаком. – Я под Орлом гусей пас, у дьячка грамоте выучился… хорошо было!
– Так ты грамотный?
– А то!
– И цифирь разумеешь?
– Есть немного…
– Владимир Дмитрич, он ведь тебе в хозяйстве сгодится! Гли, грамотный, умней меня!
– А ты вовсе откуда взялся? – без ехидства, с искренним удивлением спросил Ванька, глядя на Северьяна. – Я думал, тебя и нету совсем…
– Так не от святого ж духа ты народился? – невесело хмыкнул Северьян. Владимир молчал, понимая, что вмешиваться незачем. Из угла напряженно блестела синими глазами Наташка.
– Знамо дело, не от святого… – серьезно согласился Ванька. – Тебя мамаша сюда послала?
– Она умерла.
Услышав это, Ванька не изменился в лице, лишь нахмурился, не сводя с Северьяна блестящих глаз, и Владимир подумал, что мальчишка, вероятно, никогда не видел своей матери. Маша отправила его на воспитание едва родив, боясь потерять выгодный ангажемент. Владимиру было это известно.
– Ну, что ж… царствие небесное, коли так. А ты чего с меня теперь хочешь? – по-деловому спросил Ванька. Настороженность из его глаз не исчезала.
– Забрать тебя отселева хочу, – помедлив, сказал Северьян.
– Куда? – так же помолчав, поинтересовался Ванька.
– Под Смоленск. У Владимира Дмитрича именье там. – Северьян посмотрел на Черменского, и тот понял, что продолжать придется ему. Он шагнул вперед, ближе к Ваньке, и произнес:
– Мы с твоим отцом служили вместе. В Николаевском пехотном, на Кавказе. Сейчас он управляющий в моем имении в Смоленской губернии.
– Что, и доход большой? – заинтересованно, по-взрослому спросил Ванька.
– Слава богу, что хоть не в убыток пока, – честно ответил Владимир. – Но, думаю, все прокормимся. Так что, поедешь?
Ванька молчал, недоверчиво глядя то на Черменского, то на Северьяна. Грязная физиономия его отражала бешеный мыслительный процесс. Наташка из угла делала мальчишке знаки, сопровождая их отчаянными гримасами – соглашайся, мол, – но Ванька угрюмо отворачивался и продолжал думать. Черные блестящие глаза упорно мерили двух стоящих перед ним мужчин.
– Ванька, да пошто ж ты глупой-от такой!!! – не выдержала, наконец, Наташка и, подбежав к мальчишке, тряхнула его за плечо. – Такое же в жизни однова случается, ехай, ехай, дурак, с родителем, они пропасть не дадут, все при ком-то будешь! Хужей, чем у Андрей Кирилыча, ведь не будет, а? А я тебе, может статься, и напишу как-нибудь…
– Дура неграмотная… напишет она, – басом проворчал Ванька. В упор посмотрел на Северьяна и отчеканил: – Вот что, батя, или кто ты мне там… Я без нее никуда не поеду.
– Ай, дурной, с ума сбесился… – всплеснула руками Наташка. – Северьян Дмитрич, Владимир Дмитрич, да не слушайте вы его, малой он, не разумеет…
– Не поеду, я сказал! – отрезал Ванька и отвернулся. Северьян взглянул на Черменского. Тот, в свою очередь, на Наташку.
– Тебе лет сколько?
– Четырнадцать, сударь…
– Давно у Андрей Кирилыча?
– Второй год-с…
– Родные есть?
– Как же-с, вот как раз Андрей Кирилыч родня и есть… Как мамка померла, они меня забрали в услуженье, как есть благодетель мой… Они меня поначалу хотели в приют определить, так ихняя супруга, Домна Никифоровна, воспротивились. Пусть, говорят, останется, по хозяйству будет. Известно, прислуге платить надо, а я за харчи готовая, и спать не на улице, и то ладно…
– Они ее замордовали хуже каторжной, – вклинился Ванька. – Она им и в магазине служит, и моет, и стирает, и дите качает. А когда я от бития ухватом чуть не помер, Наташка со мной две недели возилась. И лошадиной мазью лечила, а то б точно подох. Не поеду я без нее никуда.
Наташка схватилась за всклокоченную рыжую голову. Решительно уселась прямо на грязный пол, поджав под себя босые ноги, усадила рядом Ваньку и что-то жарко зашептала ему на ухо, дергая за рукав драной рубахи. Он слушал, молчал, хмурился с каждым словом Наташки все больше и больше. Закончив, наконец, свою речь, девчонка отвернулась к стене и закрыла лицо руками. Ванька покосился на нее, шумно вздохнул, посмотрел на Северьяна, на Черменского и, видимо, так и не решив, к кому из них обращаться, уставился в пол и проворчал:
– Тут, стало быть, дело такое… Она…
– Ой, молчи! Молчи, дурак! Молчи-и-и! – тоненько запищала Наташка, но Ванька отмахнулся и закончил:
– Тяжелая она.
– Приехала кума, да не ведала куда… – ошарашенно пробормотал Северьян, косясь на Черменского. – Это кто ж тебя, девка, осчастливил?!
– Они… – пролепетала Наташка, не отнимая от лица ладоней. – Андрей Кирилыч…
– Чего?! – заорал Северьян так, что сразу на нескольких нарах прекратился храп, и две-три встрепанные головы медленно поднялись, хлопая опухшими глазами. – Этот кровохлеб?!
– Они, они-с, не сумлевайтесь, – уверила Наташка. – Еще летом, после Петровых дней, когда их супруга на богомолье в Новопречистенский монастырь отбывши… Видит бог, я не виноватая, я тока-тока младенца укачала и рядом с ним на половике-то прикорнула, вдруг чую в потемках – хапают за ноги, а там и выше… А голосить-то боюсь, потому как ребенок пробудится, я же его не затем три часа качала… И вот вам крест святой, кабы не борода – ни в жисть бы на Андрей Кирилыча не подумала!
Северьян медленно повернулся к Черменскому, скулы у него были белыми.
– Ваша милость, я его зарежу, – спокойно произнес он.
– Ай, не берите греха на душу, Северьян Дмитрич, – так же спокойно отозвалась с пола Наташка. – Дело-то житейское… Вот только выгонют они меня сразу же, как обнаружится. Я уж и место себе приискала в полтиннишном заведении…
– Врет она, – буркнул Ванька. – Ей там мадам сказала, что малявок не берет, потому – бездоходные.
– А вот и нет! – накинулась на него Наташка. – Сказала – примет, коль младенца пристрою! Я его при церкви оставлю! А может, и сам помрет, чего ему на свете-то мучиться?! Кабы меня мамка во младенчестве подушкой задушила, я б ей только в ножки поклонилася!..
Неожиданно снаружи раздался страшный грохот: кто-то, ворвавшись с улицы, опрокинул в сенях то ли тазы, то ли жбаны. Дверь распахнулась, и в полутемную, грязную, пахнущую тухлятиной ночлежку ворвалось совершенно неожиданное существо.
Это оказалась девушка лет двадцати, с остриженными до плеч черными, мелко вьющимися волосами, напоминавшими барашковую шапку, худенькая, с угловатой мальчишеской фигурой. На незнакомке было очень приличное летнее пальто в сборку, из-под которого виднелось черное барежевое платье, в руках – огромный зонтик, кончающийся металлической острой спицей, а через плечо висела холщовая солдатская сумка. Головной убор, похоже, потерялся во время бега, от которого девушка все еще задыхалась.
– Шухер, урки, – легаши!!! – звонко, на всю ночлежку выкрикнула она, и сонная тишина сразу взорвалась как бомба. Владимир даже не успел заметить, чья рука распахнула окно, выходящее во двор, и сорвала рваную занавеску с потайной дверцы за буфетом, а в образовавшиеся дыры уже ловко и быстро, словно вспугнутые мыши, убегала «каторга»: несколько черных, обритых личностей, до этого мирно и крепко почивавших на верхних нарах. В окна кинулись и проститутки, и нищие, и обычная «босота», в планы которой не входила встреча с полицией. Владимиру ничего не грозило, но рисковать Северьяном и Машиным сыном, обнаруженным с таким трудом, он не собирался.
– Мадемуазель, каким образом предпочтительнее, на ваш взгляд, рвать когти? – изысканно обратился он к незнакомке, зная по опыту, что куртуазным обращением легко можно расположить к себе проститутку. И в ту же минуту понял, что ошибся: уличной эта девица явно не была. На Владимира уставились два черных, смеющихся, ничуть не испуганных глаза, а маленькая, неожиданно сильная рука дернула его за запястье:
– За мной! Ардальоныч, открывай темную!
– Вот завсегда убытки от вас, Ирина Станиславовна! – не удержался старик-хозяин, тем не менее ловко отпирая крошечную дверь под нижними нарами, за которой открылось что-то, напоминающее крысиный лаз. Девушка бесстрашно нырнула в эту дыру, сразу же за ней молнией последовал Северьян, потом юркнули попискивающая от страха Наташка и Ванька. Замыкал шествие Владимир, и как только дверца за ним захлопнулась, наступила тьма египетская.
– Ваша милость! – обеспокоенно воззвал из потемок голос Северьяна. – Спички есть? Тьфу ты, зараза, пошла прочь… Не крысы, а лошади!
– У меня есть, – отозвался, гулко отрезонировав от стен, голос девушки.
Действительно, вскоре впереди задрожало красное световое пятно. Когда же и Владимир, наконец, отыскал в кармане спички и зажег одну, стало видно, что они стоят в длинном, сыром, уходящем в темноту переходе. Под ногами хлюпала вода.
– Уходим, живо! – скомандовала девушка. – Здесь недалеко, вылезем в Петровом переулке! Дети! Идите рядом со мной! Господа, пожалуйста, побыстрее, я не могу себе позволить из-за вас погореть!
Северьян отчетливо хмыкнул, но шагу прибавил. Владимир последовал его примеру.
Идти оказалось в самом деле недалеко. Темный коридор с низким потолком и торчащими из стен бревнами и обрывками цепей напомнил Черменскому одесские катакомбы, где они с Северьяном в свое время прятались от полиции в компании греческих контрабандистов. Владимир опасался лишь того, что за ними может быть погоня, но, видимо, об этом потайном ходе знали немногие. Через несколько минут звонкий голос идущей впереди девушки предупредил:
– Осторожнее, господа, ступеньки, они скользкие!
Полдесятка ступенек, стертых и осклизлых от сырости, вели наверх. Тьма рассеивалась голубым лучом света, выбивающимся из-за полуприкрытой двери. Девушка поднялась первой, толкнула дверь и пригласила:
– Сюда, пожалуйста.
Беглецы один за другим выбрались из подземного хода. Оказавшись наверху, Владимир осмотрелся и убедился, что они находятся на заднем дворе какого-то длинного, желтого, унылого дома с облупившейся штукатуркой. Обширная помойная яма рядом с ним источала крепкий аромат. Девушка непринужденно сбила комки липкой грязи с каблучков, огорченно присвистнула сквозь зубы, посмотрев на безнадежно испорченное пальто, весело оглядела своих спутников и сообщила:
– Это номера Лабазникова, господа. Дешево, но очень уж по-свински. Есть выход на Сенную, если угодно делать ноги далее. Кстати, ваши морды мне незнакомы. Фартовые или фраера?
Владимир не успел и рта открыть, а Северьян уже расцвел наглейшей из своих улыбок, засвистел сквозь зубы «Загулял мальчонка» и пошел прямо на девушку, скаля зубы. Она тоже улыбнулась. Нежно проговорила:
– Осади назад, родимый, дырку сделаю.
Тот улыбнулся еще шире и шагу не убавил.
– Прекрати, болван! – крикнул Черменский, и Северьян остановился как вкопанный. Правда, в следующий момент Владимир увидел, что это было сделано вовсе не по его приказанию: в грудь Северьяна уперся серебристый ствол небольшого пистолета, а девушка улыбалась все так же безмятежно, лишь острые скулы слегка побледнели.
– Назад, – спокойно, без гнева велела она, и Северьян счел нужным послушаться.
Владимир поспешно подошел.
– Успокойтесь, сударыня. Северьян не очень удачно пошутил, только и всего.
– Сударь, я спокойна, как дохлая лошадь! – отчеканила она. – Так какой же масти будете?
– Чистопородной фраерской, – в тон ей пояснил Владимир.
Девица посмотрела недоверчиво:
– Что вы, в таком случае, делали у Ардальоныча?
– Заходили за нашим парнем. – Черменский кивнул на Ваньку, настороженно поглядывающего то на него, то на девушку. – Никто не предполагал, что будет облава. Благодаря вам оторвались очень вовремя. Позвольте представиться: Владимир Черменский, капитан Николаевского пехотного полка.
– Ирэн Кречетовская, – улыбнулась девушка, пряча пистолет в сумочку. – Поручик Герман, к вашим услугам.
– Простите?.. – не понял Черменский.
Девушка недоумевающе нахмурилась, сдвинув широкие черные брови, которых никогда не касался пинцет для выщипывания.
– Поручик Герман… Вы что – не читаете «Петербургских сплетен»?!
– Мы московские, – поспешил объяснить Черменский. – Сюда, в Питер, прибыли только утром, и…
– А, ну тогда, разумеется, ясно. Я – репортер «Петербургских сплетен», поручик Герман – мой псевдоним. У меня, видите ли, контракт с редакцией, серия репортажей из наших трущоб, как раз сегодня я заканчивала интервью с Васькой Резаным, он беглый каторжник и был… м-м… весьма не расположен к беседе, но мы все же договорились… И, как назло, облава! Где вот я теперь найду Ваську, позвольте вас спросить?!
– Вероятно, у нас в Москве, – в шутку предположил Владимир. – Он сменит одну столицу на другую, только и всего. Подобные джентльмены часто так делают.
– Все может быть… – задумчиво произнесла девушка, изящным движением зонтика откидывая от своих ботиков останки дохлой кошки. – Но вот только мне-то что теперь делать?
– А идемте в трактир! – неожиданно предложил уже пришедший в себя Северьян. – Вон, кажись, вывеска. Я со вчера не жрамши, да и мелюзга, поди, голодная…
Голодными, как оказалось, были все, и через несколько минут компания расположилась за огромным столом, покрытым беленой скатертью и увенчанным пузатым самоваром. Ванька и Наташка ели наперегонки, как два щенка, только что не рыча и не отталкивая друг друга; не отставал от них и Северьян. Утолив первый голод, эти трое повели негромкую беседу. О чем они говорили, Черменский не слышал, потому что его внимание было поглощено госпожой Кречетовской. За все годы жизни в Москве и бродяжничества по России ему не попадалось подобного экземпляра женской породы.
Ирэн сидела напротив него и азартно хлебала деревянной ложкой из чашки горячие щи. В этом поглощении пищи не наблюдалось ни капли жеманства или нарочитого народничества, так часто виденного Черменским у столичных эмансипэ, – просто обычный здоровый аппетит. Черные кудряшки растрепались и стояли буйным нимбом вокруг головы девушки, глаза блестели, большой, как у лягушонка, но странным образом не портивший ее рот без умолку говорил, чему не мешали даже щи. Непринужденно, словно они были знакомы давным-давно, Ирэн рассказывала о своих приключениях на петербургском «дне» и в редакции родной газеты, называя редактора «этот ретроград», а беглых каторжников – «мои мерзавцы». Владимир слушал и одновременно думал: как такая девушка могла попасть на репортерскую ниву.
Разумеется, в газетах служили женщины. Несколько лет назад, еще в Костроме, Черменский, по совету одного из друзей-актеров, отнес свои путевые заметки в редакцию местной газетенки: страшно нужны были деньги. К его величайшему изумлению, эти записки, сделанные небрежным почерком в потрепанной записной книжке, в редакции приняли и издали серией очерков, выплатив довольно неплохие деньги, впятеро превышавшие ожидаемую Владимиром сумму. В редакции он видел служащих женщин, немолодых и некрасивых, они сидели за кассами и «рединготами». Репортеров среди них не было, да, насколько мог предполагать Владимир, редактор и не решился бы взять женщину на столь трудную должность. Нет, на «редакторскую даму» Ирэн решительно не походила. Курсистка? Нигилистка?.. Он не раз видел этих стриженых, неряшливых барышень, часто курящих, еще чаще носящих круглые синие очки, ведущих умные разговоры об отсутствии в Солнечной системе бога, о политике, народе и образовании. Веселая, красивая Ирэн ничуть не походила и на них.
– Прошу прощения, вы – нигилистка? Эмансипэ? – не выдержал он.
– Боже, неужели похожа?! – бросив ложку, завопила Ирэн так, что все посетители трактира обернулись на их столик. – У меня что – грязные руки? Или ногти?!
– Нет, что вы, напротив… – растерялся Владимир.
– Да не рыцарствуйте, где уж тут «напротив»… – уныло сказала Ирэн, глядя на свои узкие ладошки, все перепачканные в трущобной грязи. – Но, уверяю вас, это не из политических убеждений… Просто такой уж выдался сегодня день. Нет, я, слава богу, не нигилистка. Правда, есть грех, курю, но тут уж папенька виноват. Приучил.
– Кто же ваш папенька, если не секрет?
– Какой секрет, его весь Петербург знает… У нас династия! – неожиданно похвасталась она. – Станислав Кречетовский – неужели не слышали?!
– Позвольте, как же… – Владимир действительно начал что-то припоминать. – Уголовная хроника, если не ошибаюсь?
– Не ошибаетесь, – удовлетворенно подтвердила девушка. – Если бы вы знали, какие личности бывали у нас в доме на Мойке! Ужас, ужас…
Так же весело и непринужденно, как старому знакомому, она рассказала Владимиру о своей жизни. Отец Ирэн, известнейший в Петербурге журналист, репортер уголовной хроники в одной из ведущих редакций, рано овдовел и дочь, как мог, воспитывал сам. Ирэн еще до гимназии выучилась читать, отец не ограничивал ее допуска к своим книжным шкафам, и девочка таскала с дубовых застекленных полок все подряд, начиная со специальной литературы по криминалистике и юриспруденции и заканчивая романами Дюма и Эжена Сю. Станислав Кречетовский, обожавший единственную дочь, не баловал ее, но и не считал нужным запрещать ей множество вещей. В итоге Ирэн, к ужасу прислуги, ела что хотела и когда хотела, ложилась спать когда ей заблагорассудится, ни разу, впрочем, не проспав на занятия в гимназию, читала все, что попадалось под руку; девочку не гнали из взрослой компании, когда у отца были гости, и не прерывали, если ей вдруг хотелось высказать свое мнение. А оно у Ирэн имелось всегда, поскольку отец внушил дочери, что наличие собственных мыслей по любому вопросу отличает умного человека от слабовольного глупца. Свою работу Кречетовский любил до фанатизма, в его источниках информации числились и полицейские агенты, и профессиональное ворье, и нищие, и уличные девицы, и скупщики краденого. Вся эта разношерстная компания постоянно толклась в большой квартире на Мойке, оставляя после себя запах крепких папирос, помойки и дешевой помады для волос, потому Ирэн чувствовала себя среди обитателей городского «дна» как рыба в воде. В четырнадцать лет девочка попыталась написать свой первый очерк под леденящим душу названием «Бриллиантовая чахотка» – о рабочих гранильных мастерских, которые из-за минеральной пыли и крошки, попадающих в легкие во время работы, редко доживают до тридцати лет. Отец прочел и одобрил этот опус, предложил его, скрыв подлинное имя автора, в одну из петербургских редакций – и он был напечатан. С того дня жизнь Ирэн оказалась определена. Окончив гимназию, девушка поступила на должность репортера в «Петербургских сплетнях». Отец не делал дочери никакой протекции, но фамилия Кречетовских была известна всему газетному Петербургу, и первые пробы пера Ирэн тоже пришлись читателям по вкусу. Как и отец, девушка предпочитала работать с криминальными новостями, поскольку с детства знала, понимала этот мир и не затруднялась в разговорах с его обитателями. Да и питерские уголовники хорошо знали Станислава Кречетовского, который за всю свою журналистскую карьеру ни разу не написал ни слова неправды в угоду власти или редакции, никогда не открывал имена своих источников информации и никого из них не «сдал» полиции. Среди «деловых ребят» ценились такие вещи, и ни один босяк с Сенного рынка не рискнул бы тронуть дочь Кречетовского, столь решительно пошедшую по стопам батюшки.
– Кто вас выучил обращаться с оружием? – полюбопытствовал Владимир.
– Папа, разумеется, – невнятно, с набитым ртом отозвалась Ирэн. – Он меня с двенадцати лет возил на стрельбища Семеновского полка, его старый друг там служит в капитанах. Попадаю в копейку с двадцати шагов! Не из «смита-и-вессона», разумеется, из «герсталя». Но можно и из «бульдога». Папа считает, что без этого иногда трудно бывает работать… Впрочем, мне ни разу еще не пришлось воспользоваться пистолетом. Только пугала.
– Вам не страшно бродить по трущобам?
– Страшно там жить, – серьезно, без капли кокетства сказала Ирэн. – А репортажики… Пф! Вот у меня есть знакомая фельдшерица, живет в Гороховом, к ней весь Сенной бегает лечиться – вот это, доложу я вам, действительно героиня! Сутками возиться с коростой, гнойными язвами, сифилисом, отмороженными пальцами… Вот чего бы я никогда в жизни не смогла! Когда я писала очерк о Марии Тихоновне, то полдня просидела в ее кабинете, наблюдая, – и дважды лишалась чувств! Представляете, это я-то! Как институтка! А она с этим работает каждый день, вот что ужасно… Но я, видит бог, добьюсь от властей решительных действий! Пора уже, наконец, раскидать по камешку эти вонючие дебри в середине города…
Владимир в глубине души был уверен, что никакие репортажи и статьи, даже блестяще написанные, не заставят городские власти разобрать трущобы: слишком много народу заинтересовано в их сохранении, слишком крупные взятки даются и слишком медленно проворачиваются любые новые начинания в генерал-губернаторских приемных. Но разочаровывать юную подвижницу Черменский не решился.
Неожиданно он заметил, что Ирэн внимательно смотрит на карман его куртки, откуда высовывался край кожаной записной книжки с вложенным в нее карандашом. Заметив, что Владимир перехватил ее взгляд, девушка без тени смущения улыбнулась:
– Ба-а-а! Мы с вами, кажется, коллеги?
– Я дилетант, Ирина Станиславовна, – усмехнулся Черменский. – Было дело, печатался как-то ради денег, но с тех пор много воды утекло.
– О чем писали? – поинтересовалась Ирэн, в черных глазах которой зажегся острый огонек.
– О разном… – уклонился Владимир. И, не желая продолжать разговор о собственных приключениях, обратился к Северьяну с Ванькой, уже давно перешедших на подозрительный шепот: – Эй, золотая рота! Северьян! Вы о чем там совещаетесь?
Северьян повернулся – и по его сумрачной физиономии Черменский понял, что разговор велся вполне серьезный.
– Владимир Дмитрич, – глядя прямо в лицо другу, медленно произнес он. – Вы как знаете, а только я уж решил. Спалю я ночью этого Андрей Кирилыча.
– Как – спалишь? – не сразу понял Владимир.
– По-тихому. Красного петуха под крышу пущу – и все. Будет вперед знать, как сирот забижать… и младенцев им делать.
– Послушай, но… – начал Владимир. И умолк, вдруг поняв, что ему не хочется ни спорить с Северьяном, ни привычно удерживать его от очередной авантюры. К тому же сидящий напротив Ванька смотрел на Северьяна с такой отчаянной надеждой в черных, как у Маши, глазах и так счастливо переглядывался с Наташкой, что Владимир подумал: разочарование этих двоих в случае отказа Северьяна от своих намерений будет огромным.
– Но… Как мы с тобой это провернем?
– Да долго ли умеючи-то, ваша милость… – По широкой ухмылке Северьяна было заметно, что он полностью оценил это «мы с тобой». – Я еще утром посмотрел, там как раз за евонной лавкой овражек небольшой, весь рогозом зарос. Ежели из этого овражка по потемкам подобраться да петушка запустить, никто и не заметит. Как всегда: я делаю, вы на шухере…
– Там полон дом народу, – озабоченно напомнил Черменский. – Подмастерья, ученики, женщины… Не дай бог, кто-нибудь не успеет выбраться!
– Ну, можно и крикнуть… Проснутся, повыскочут…
– Может быть, лучше днем?..
– Тогда ничего не выйдет, – упрямо мотнул головой Северьян. – Днем схватятся быстро, потушат, а что на пустяк силы тратить? Нет, Владимир Дмитрич, ночью – оно вернее. С божьей помощью и лавка, и дом в угольки перекинутся. Я б еще и вдовы майорской, Мерцаловой, хатку бы подпалил. Для надежности. Чтоб этому ироду вовсе зимовать негде было. Богадельня при монастыре за счастье станет, зуб даю!
Владимир видел, что друг немного рисуется, но не спешил окорачивать его: Ванька и Наташка смотрели на Северьяна с таким восхищением, что вмешиваться было бы просто свинством. Оставалось только согласиться:
– Ну, гляди… Загремим в полицию – так вместе.
– Ой, дяденьки, не надо в полицию-ю… – вдруг заблажила почтительно молчавшая до сих пор Наташка. – Что с Ванькой-то станется, ежели вы и Андрей Кирилыча спалите, и сами погорите?..
– Обещаю, милая, что в таком случае я вас не оставлю, – неожиданно послышался звонкий, веселый голос, и Ирэн, о которой все забыли, с негромким смехом облокотилась обоими локтями на стол. – Как хотите, господа, а я иду с вами! Бог свидетель, это же будет сенсация! Если повезет, успею прямо ночью сдать в набор! Вас, надеюсь, не затруднит устроить поджог пораньше? Кстати, а кто этот Андрей Кирилыч? Совратитель малолетней прислуги? И какое отношение он имеет к этим молодым людям?
Владимир и Северьян, застигнутые врасплох, переглянулись. А затем Северьян хлопнул себя по коленям и расхохотался на все заведение:
– От сколько на свете живу – таких барышнев не встречал! Владимир Дмитрич, вы им чичас расскажите, что сами захочете, и пусть с нами идет! Ладно уж, за ради ейных черных глаз все до полуночи обтяпаю!
Спустившаяся на Петербург ночь была холодной и ветреной: к радости Северьяна, уверявшего, что ветер огню хорошая помощь. По тревожному, еще желтому на западе небу мчались черные длинные клочья. Над Адмиралтейством вставала ущербная луна, почти не видимая за набегающими облаками. Со стороны залива поднималась большая дождевая туча.
– Ты ее дождись, – показывая на эту черную громаду, вполголоса проговорил Владимир. – Луна скроется, в потемках спокойнее будет.
– Да не учите вы кота сметану тырить, ваша милость… – блеснул зубами Северьян. – Тучку-то вашу долго дожидаться, сейчас вон облако набежит – и с божьей помощью… Ага, вот оно… Ну, с богом, что ли!
Две тени поднялись из неглубокого, заросшего высокими сорняками оврага и бесшумно двинулись к чернеющему в темноте забору севостьяновского дома. У самого забора они разделились. Северьян скользнул к длинной кишке лавки, в которой не светилось ни одного огня, а Владимир пошел к соседнему дому, принадлежавшему ранее вдове: после длительного совещания в трактире было решено для полноты мести все-таки спалить и его.
«Ваньке мы его все равно не отсудим, хоть тресни впополам! – резонно заметил Северьян. – А коли так – пропадай, моя телега! Пусть теперича этот живодер золу на пепелище ситечком сеет!»
Дом стоял пустой и черный, с закрытыми деревянными ставнями. Выглянувшая на мгновение из туч луна блеснула на стекле чердачного окна и тут же скрылась. Владимир почти беззвучно перемахнул через забор, радуясь, что за минувшие полгода не утратил навыков бродяжьей жизни, ловко приземлился в мокрые от росы заросли лопухов и мальвы, нащупал в кармане спички.
Пакля, торчащая между отсыревших бревен, занялась не сразу: Владимиру пришлось дважды обойти вокруг дома, прежде чем последний нехотя загорелся, подожженный с четырех углов. Затем Черменский вытащил из кармана припасенный заранее увесистый камешек, вложил его в коробку со спичками, поджег всю коробку и, размахнувшись, швырнул горящий комок в окно чердака. По тонкому звону разбитых стекол он убедился, что попал, и метнулся к забору.
Северьян тоже давно управился: угол лавки Севостьянова весело полыхал, выбрасывая к черному небу снопы искр. Самого Северьяна Владимир нашел на склоне оврага, где тот курил самокрутку и удовлетворенно любовался собственным творением. Рядом, вытянув шею, весь подавшись к горящему дому, сидел Ванька, и в его глазах бились оранжевые отблески огня. При взгляде на физиономию мальчишки Владимиру захотелось перекреститься: никогда еще он не видел на детском лице такой исступленной ненависти. Пристроившаяся неподалеку Наташка вздыхала, по-бабьи подперев кулачком щеку, и, судя по шевелящимся губам, молилась. Ирэн в длинном мужском макинтоше с капюшоном, делавшем ее совершенно неузнаваемой, сидела, подвернув под себя ногу, и бешено строчила в блокноте при свете луны.
– Что ж, господа, мне пора, – деловито сказала она, ставя точку и выпрямляясь. – Меня на соседней улице ждет извозчик, надо успеть кинуть материал в набор. Встречаемся на Московском вокзале, как уговорились.
– Вы едете в Москву?! – Владимир решительно не помнил никакого уговора.
– Я же говорила! – пожала плечами «поручик Герман». – Если репортаж выйдет в печать, на меня опять напишут жалобу, следовательно, месяц я без работы – это раз. А во-вторых, я смогла узнать, что мой Васька Резаный действительно «подорвал» в Москву! Воображаю, как он будет счастлив встретиться со мной на Хитровом рынке! Так что спешу откланяться! Ваши имена, разумеется, не упоминать?
– Разумеется…
– Мое упомяни!!! – вдруг заорал Ванька и, сорвавшись с места, к общей неожиданности, рухнул на колени перед журналисткой. – Мадамочка, до конца дней за тебя бога молить стану, пропиши, что я, я, Иван Северьянов Мерцалов, самолично эту гниду поджег!!! Сделай милость божью, век твой буду!!!
Кречетовская растерялась. Но в ту же минуту взяла себя в руки, опустилась на землю рядом с дрожащим, как в лихорадке, мальчишкой и серьезно произнесла:
– Прости, но это никак не могу. Истина в нашем деле всего дороже. Раз совру – кто мне после поверит? Понимаю тебя, брат, но… прости.
Ванька, стиснув зубы, отвернулся. Подошедший Северьян сочувственно опустил руку на его плечо.
– Да не мутись ты… И так всем понятно будет, что твоя работа, кому еще-то? Ой, мать честная, а чего ж мы молчим?! – вдруг с искренним испугом перебил он сам себя. – Сейчас ведь наш Севостьянов со всеми домочадцами в рай отправится! Или не в рай?.. А, все едино… КАРАУЛ, ПРАВОСЛАВНЫЕ, ГОРИ-И-И-И-ИМ!!!
От дикого северьяновского вопля шарахнулась в сторону, всплеснув ладонями, Наташка и зажмурилась Ирэн. Тут же по всему переулку зашлись истерическим брехом собаки, закудахтали всполошенные куры, захлопали двери и ставни. Из окон уже охваченного пламенем дома Севостьянова начали с криком выметываться полураздетые фигуры, узкий переулок наполнился звоном, визгом и топотом бегущих ног.
– Ну, вот и слава богу, – удовлетворенно сказал Северьян, быстро вскакивая с земли. – Владимир Дмитрич, пора ноги делать. Тут через забор – и сразу соседняя улица, спуск начинается.
Владимир был с ним полностью согласен. Через несколько минут вся компания стояла по ту сторону довольно высокого забора, перелезть через который не составило труда ни мужчинам, ни Ваньке, ни Ирэн. Последняя, подобрав юбку вместе с полами макинтоша и ничуть не постеснявшись мелькнувших в воздухе панталон, перемахнула через него с изяществом завзятой домушницы. Одна Наташка долго барахталась наверху, сердитым шепотом поминая Пречистую Богородицу, пока Северьян не перехватил девчонку поперек туловища, как котенка, и не снял с забора, аккуратно поставив в примятый куст полыни.
– Дитю ничего?.. Сколь месяцов-то?
– Кажись, четвертый, да что ему сделается, спасибочки вам…
Ирэн сразу же как ветром сдуло: Владимир успел заметить только мелькнувший за угол макинтош. Вскоре оттуда донесся скрип рессор и перестук копыт удаляющегося экипажа. Северьян проводил госпожу Кречетовскую долгим, задумчивым взглядом, перевел его на Черменского, потер измазанную сажей скулу. Неожиданно усмехнулся:
– Скажите на милость, и что в вашей личности бабы находят? По-моему, ничего соблазнительного… Тут мучишься-мучишься с ними, шалавами, на портянки треплешься – никакого толку, а вам только глазом моргнуть…
– Да уж тебе-то жаловаться, кобель… – нахмурился Черменский. – Ты о чем, не пойму?
– Ха! Не понимают они! Да о барышне вот, которая с ливольвертом да с карандашиком! Готово дело, ваша навовсе!
– Закрой рот, дурак, – без улыбки посоветовал Владимир, показав глазами на Ваньку с Наташкой.
Северьян, спохватившись, умолк, жестом велел детям двигаться за ними, но уже через несколько шагов снова не выдержал:
– Владимир Дмитрич, вы у меня, никак, опять постриг приняли? Говорю вам, для здоровья вредно… Барышня-то, взгляньте, какая, ажно у меня душа зашлась! И благородная, и видно, что не дура, хоть и с придурью… Да придурь-то выйдет, как рожать начнет, у ихней сестры завсегда так… Обратите внимание, ваша милость, не внакладе будете! Вона, она аж в Москву за вами подхватилась, а вы…
– Заткнись, – сказал Владимир. Сказал спокойно, даже не обернувшись, но Северьян умолк на полуслове, быстро, внимательно посмотрел на Черменского и больше не открывал рта до самой гостиницы.
На другой день Владимир проснулся довольно поздно, разбуженный доносившимся из гостиничного коридора ржанием Северьяна:
– Ох, прости господи, ну и дает наш поручик… Давай, Ванька, сделай милость, дальше читай… Тьфу, уморила прямо насмерть, ну и баба…
– Так я ж и читаю, бать… Обожди, непонятно тут… «вла-де-лец портняж-ной лав-ки… впол-не заслуженно но-ся-щий зва-ние «жи-во-дера пер-вой гиль-ди-и»… Так это Андрей Кирилыч?! Ну да, вот прописано: «Се-востья-нов А.К.»…
– Ну, дальше, дальше, дальше! Что про вас с Натахой сказано?!
– «Си-ро-ты, об-ре-ченные на ка-торж-ный труд, без за-щи-ты и по-мо-щи…» Наташка, слышь? Ты – сирота каторжная!
– Грех тебе, бессовестный! Ничего не так там прописано! Северьян Дмитрич, велите ему не насмешничать!
Сообразив, в чем дело, Владимир вскочил и быстро начал одеваться.
Северьян с детьми сидели на только что вымытом полу, нисколько не тяготясь сыростью половиц и чуть не сталкиваясь головами над свежим выпуском «Петербургских сплетен». Поскольку грамотным из всей компании был один Ванька, и тот читал последний раз полгода назад, чтение фельетона продвигалось медленно, с ошибками и спотыканием, – до тех пор, пока из-за двери не вышел Черменский. Появление Владимира компания встретила радостными воплями, немедленно всучив ему в руки измятые, еще пачкающиеся типографской краской листы.
Он начал читать и сразу же почувствовал перо опытного мастера. Фельетон Ирэн был выдержан в спокойном, непринужденном, местами насмешливом тоне, только усиливавшем драматичность повествования. Кречетовская рассказала и о Ваньке, сироте, обобранном и измученном «благодетелем», и о пятнадцатилетней девочке, беременной от того же «благодетеля», и о присвоенном им же незаконно доме вдовы Мерцаловой, и о том, как пресловутый дом вместе с лавкой Севостьянова благополучно сгорел нынешней ночью, и о том, кто принимал участие в этом «деянии, достойном Робина Гуда».
– Мазурик? – подозрительно спросил Северьян про последнего.
– Вроде того, – не стал вдаваться в объяснения Владимир. – Ну, вот… «По сведениям из заслуживающих доверия источников, акт мщения воплотил отец малолетнего Ивана Мерцалова, С.Д.Ч-й, и его родной брат В.Д.Ч-й, прибывшие в Северную Пальмиру для защиты интересов сироты. Мать мальчика, известная провинциальная актриса Мария Мерцалова, этой весной умерла от чахотки, поручив сына заботам отца и дяди».
Тут Владимир умолк в полной растерянности. Судя по вытаращенным глазам Северьяна, тот был изумлен не меньше.
– Ва-а-аша милость, Владимир Дмитрич… Видит бог, я ей такого не говорил… Это она сама, шалава, меня в ваши братья записала, без моего ведома…
– Господи, Северьян, да какая разница… – рассмеялся немного оправившийся от удивления Владимир. – Кстати, в самом деле, какая у тебя фамилия? Мы с тобой семь лет вместе, а я и не спрашивал никогда…
– Какое фамилие, ваша милость?! – завопил Северьян. – Нам такие роскоши вовсе без надобности… Обходился же до сей поры!
– Все равно надо будет тебе паспорт делать, раз ты теперь у меня человек семейный… Мою фамилию возьмешь?
– Вас Фролыч в Раздольном проклянет, – убежденно произнес Северьян.
– Уломаю, ничего.
– Тогда как прикажете… – Северьян все еще не мог прийти в себя и растерянно скреб встрепанный затылок. – Ну, барышня… А еще говорит, истина всего дороже… Брешет, как все газетчики!
– Да не так уж и брешет. – Владимир посмотрел на все еще сидящих на полу и напряженно глядящих на них детей и усмехнулся. – Наталья, дуй за самоваром, Ванька – за бубликами. Нам на поезд скоро. Надо когти рвать, пока в полиции не догадались, кто эти братья-разбойники…
Московский поезд уходил вечером. Уже сидя в вагоне, Владимир увидел бегущую по перрону Ирэн в том же бесформенном макинтоше и с саквояжем в руке. Увидев Черменского, девушка помахала рукой в черной перчатке и через минуту уже стояла в дверях купе, едва справляясь с дыханием и возбужденно тараторя:
– Ну, господа, чудом не опоздала! До последнего ругалась в редакции! Уволили, разумеется, в очередной раз, ну да это не беда! Главное, что фельетон уже вышел! Этот ваш Севостьянов с обеда скандалит у редактора, обещает, что до министра дойдет! Над ним теперь полгорода смеется, да еще и с супругой чувствительные неприятности – после Натальиной-то беременности… И лавка, и дом сгорели дотла, а вас уже ищет полиция! Ох, слава богу, поезд отправляется! Владимир Дмитрич, у вас есть папиросы?
– Крепкие…
– Это ничего, я привыкла. Огня?.. Спасибо, Северьян. Где дети?
– Спят в соседнем купе.
– Вы и Наталью все-таки взяли с собой?
– Разумеется. Это было Ванькиным условием. И к тому же после вашего фельетона ей просто некуда идти. Не к благодетелю же назад? Воображаю, что скажет мадам Севостьянова…
– Да, это так, – серьезно согласилась Ирэн, взяв наотлет папиросу и глядя на Владимира в упор черными блестящими глазами. – Что вы намерены делать в Москве, Владимир Дмитрич?
– Ничего. Вернее, зайду к некоторым знакомым и сразу уеду в имение.
– Что будете делать с детьми?
– Еще не знаю. Разберемся. Ваньке хорошо б продолжать ученье, хотя бы пока в той же церковно-приходской. Наташке нужно думать о будущем младенце… да и в имении дела найдутся.
– Не хотите ли остаться в столице?
– Право, не думал об этом. Мне там, собственно, нечего делать.
– Но вы ведь журналист…
– Шутите, Ирэн? – невольно рассмеялся Владимир. – Я такой же журналист, как актер, как матрос, как портовый грузчик… Так сложилась жизнь, что всем пришлось заниматься понемногу. О карьере борзописца я никогда не помышлял.
– И напрасно, – пожала плечами Ирэн. – У вас такая интересная жизнь, вы столько видели… Если бы вы только согласились показать мне ваши записки…
– Право, там в самом деле нечем хвастаться. Обычные личные записи, – отшутился Владимир. – А костромскую газету с моим дебютом мы с Северьяном благополучно скурили еще год назад. Идите отдыхать, Ирэн. У вас был трудный день, и ночь вы не спали.
– Да, да, верно… – растерянно сказала девушка, видимо, только сейчас вспомнив о своей бессонной ночи. Папироса в пальцах Кречетовской еще дымилась. Ирэн рассеянно загасила ее о каблук сапожка и, не попрощавшись, вышла из купе.
– Владимир Дмитрич, не гневите бога, – вполголоса произнес Северьян, когда легкие шаги журналистки полностью заглушились перестуком колес. – Нельзя так с женщинами обращаться, ей-богу, не по-человечески это.
– Вот тебя только позабыл спросить…
– Позабыли – значит, спросите! – отрезал Северьян. – Такая барышня шикарная, просто глаз радуется! Да забудьте вы уже за Софьей страдать, не ваша, бросьте! Так вышло, что теперь… Ну, коль не желаете, я сам тогда…
– Слушай, я тебе морду все-таки набью! – рассвирепел Владимир. – Опять начинается?! Ты хоть какие-нибудь края видишь, паршивец?! И если ты, сукин сын, хоть на шаг к Кречетовской подойдешь, я тебя просто пристрелю! Мало тебе того, что…
Владимир вовремя осекся, но Северьян, очевидно, тоже вспомнил о Маше. Его физиономия потемнела, и он огрызнулся – зло и уже без всякой скабрезности:
– Очень прямо надо!.. Я и помолчать могу. Только и вы уж не дурите… Такие бабы на дороге не валяются, дело вам говорю.
– Спи, – коротко велел Владимир, отворачиваясь к окну. Ответа не последовало, и, обернувшись через некоторое время, он с облегчением увидел, что Северьян в самом деле заснул – так, как он делал это всегда, быстро и крепко.
Черменский вздохнул, взял со стола папиросы и вышел из купе. В тамбуре вагона Владимир закурил и, выпустив струю дыма, уставился в черное окно.
Наверное, не стоило так говорить с Северьяном; тем более что он был прав. Мысли о Софье Грешневой в самом деле следовало выбросить из головы, и Черменский знал, что приложил бы для этого все усилия – если б только мог понять, что произошло. Анна во время их августовской встречи в Москве уверяла Владимира, что Софья очень долго ждала его писем и его самого. Если это правда, то что, черт возьми, случилось? Почему Софья не получила ни одного его письма? Откуда взялась записка, якобы присланная им, Владимиром, в которой он отказывался от всяких встреч с ней? Почему Софья так внезапно уехала из Ярославля, бросив начинающуюся блестящую карьеру актрисы? Почему, наконец, выбрала в спутники Мартемьянова, из-за страха перед которым год назад кинулась в реку?! Что знала обо всем этом Маша? Вопросов было много, ответов – ни одного. И получить их не у кого. Хотя объяснение случившемуся напрашивается само собой. Они с Софьей были знакомы лишь одну ночь. Не могла же девушка полюбить его за такое короткое время… Анна, правда, утверждала обратное, но, наверное, она ошибалась, женщины часто романтизируют действительность и готовы что угодно принять за любовь… А вот он, Владимир, умудрился вляпаться всерьез, и до сих пор, больше года спустя, в памяти живы и четки воспоминания о той холодной ночи, об обрывистом береге Угры, о девушке, вытащенной им из ледяной воды, о зеленых, полных слез и отчаяния глазах, которые все еще видятся ему по ночам. Чем взял Софью Мартемьянов, как она могла решиться уехать с ним?.. Неужели дело в деньгах, как сказала когда-то Маша? Признать это было бы легче всего, но что-то в глубине сердца Владимира никак не желало мириться с таким простым объяснением. И та же Маша в своем последнем письме, которое сейчас лежало вложенным в его записную книжку, говорила о том, что Софья любит его, и о какой-то собственной вине… Но что теперь пользы строить предположения, мучиться, думать? Что он, Владимир, знал о Софье, о ее мыслях, мечтаниях, о ее душе? Что было между ними, кроме долгого ночного разговора возле костра? Даже поцеловать Софью ему ни разу не пришлось… Прав Северьян: ничего не вернуть. Владимир никогда не узнает, что творилось в сердце Софьи, отчего она не ответила на его письма, и какая нить связала ее с Мартемьяновым и надолго ли. Нужно перестать думать о зеленоглазой девушке с темными кудрями, ворвавшейся однажды дождливым вечером в его душу и до сих пор не покинувшей ее. Нужно перестать… Да. Если бы еще только знать – как…
Два часа спустя, когда весь вагон уже спал, к дверям купе, которое занимали «братья Черменские», приблизилось привидение в длинном макинтоше, со свечой в руке. Оно передвигалось очень ловко, бесшумно ступая узкими босыми ногами и шепотом ойкая, когда воск свечи капал ему на пальцы. Дверь купе, к радости привидения, была не заперта, и оно осторожно проскользнуло внутрь. Прикрыв ладонью огонек свечи, осмотрело двух спящих мужчин. Медленно прокралось к столику и аккуратно взяло с него потрепанную кожаную записную книжку. Перелистало, удовлетворенно вздохнуло, спрятало ее под мышкой и уже шагнуло было к двери, когда с одного из диванов поднялась всклокоченная голова. Ровным, слегка насмешливым шепотом Северьян поинтересовался:
– Дверью промахнулись, барышня?
Ирэн (это, разумеется, была она), опустив свечу, молча, без страха посмотрела на парня. С минуту, казалось, думала о чем-то. Затем жестом пригласила Северьяна выйти из купе. Тот без единого звука вскочил на ноги и босиком пошлепал в коридор. Владимир на диване напротив даже не шевельнулся.
– Как тебе удается так спать? – почти восхищенно спросила Кречетовская, глядя в скуластое лицо Северьяна. – Ведь ты спал, не правда ли?
– Вполглаза… Привык.
– И что, даже после сильной усталости?..
– Подыхать буду – а проснусь, жисть такая моя, – объяснил Северьян. Почесав обеими руками встрепанные волосы, усмехнулся: – Вы мне зубы не заговаривайте, барышня. Чего нужно-то было?
– Только вот это, – ответила Ирэн, показывая записную книжку. – Северьян, милый, я понимаю, что так поступать непорядочно, но… другой возможности у меня не будет. Я должна знать…
– Чего это вам знать понадобилось? – разом напрягся Северьян.
– Как можно больше о… Владимире Дмитриче. Мне кажется, ты понимаешь, что я имею в виду.
Северьян поскреб затылок, проворчал:
– Скорая вы какая… Ну а ежели ему того не надобно?
Кречетовская пожала плечами и слабо улыбнулась.
– Что ж… Значит, завтра Владимир Дмитрич выскажет мне все, что думает о моем воспитании… вернее, о его отсутствии… и прервет наше знакомство. В любом случае он ничего не потеряет, верно?
– Хм… Ну, верно, – неуверенно подтвердил Северьян.
– Так позволь мне прочесть это, – решительно сказала Кречетовская, кладя маленькую ладонь на его плечо. – Надеюсь, мне удастся вернуть книжку на место до… вашего пробуждения. Если же нет… Клянусь, Северьян, я все возьму на себя. Буду уверять, что ты спал, словно владимирский тяжеловоз…
– Поверит он вам, как же, – мрачно буркнул Северьян. Он все еще колебался, переводя узкие глаза с лица девушки на кожаную книжку, которую она сжимала в руке. Ирэн молча ждала, без жеманства, без заискивания, прямо глядя в его лицо. Наконец, Северьян шумно вздохнул. Медленно выговорил:
– Может, оно и впрямь лучше будет… Я ему тыщу разов повторял, так не слушает… А чего дожидаться?.. Дело ясное, не воротится она, так жить-то все едино как-то надо… Ладно, барышня, делайте как знаете. Не видал я вас. Могу я раз в сто лет поспать по-людски, могу или нет?!
Ирэн широко улыбнулась, блеснув из темноты зубами. Приподнявшись на цыпочках, ласково взъерошила ладонью жесткие, курчавые волосы стоящего перед ней парня:
– Северьян, милый, спасибо! Я твоя должница!
– Ла-а-адно… на том свете угольками сочтемся… – проворчал изрядно смущенный Северьян, шагая к двери купе. – Бежите уже к себе, пока полвагона не разбудили. Ох и будет мне завтра на орехи…
На другой день Владимир проснулся рано: солнце едва встало и, красное, словно заспанное, спешило за вагоном, продираясь сквозь голые ветви осеннего леса за окном. Монотонно стучали колеса, из-за запертой двери был слышен голос служителя, разносящего по купе утренний чай. Владимир встал, оделся, нашел в кармане папиросы. Северьян, к его крайнему изумлению, еще спал, накрывшись с головой своей чуйкой; причем не только спал, но и храпел, чего за ним сроду не наблюдалось. Владимир даже забеспокоился, не заболел ли он (чего тоже не случалось никогда в жизни), и уже хотел подойти пощупать лоб друга, когда дверь купе медленно приоткрылась, и вошла Кречетовская. Забыв поздороваться, Черменский удивленно посмотрел на нее. Ирэн слегка покраснела.
– О, простите, Владимир Дмитрич… Доброе утро… Я, разумеется, должна была постучать, но… но я полагала, что вы еще спите, и…
– Что-то случилось? – встревожился он.
– Нет… ничего. Просто я принесла ваше имущество.
Ирэн протянула Владимиру записную книжку в кожаном переплете. Машинально он взглянул на столик, где вчера ее оставил. Там, разумеется, было пусто. Владимир молча перевел взгляд на Ирэн.
– Я представляю, что вы теперь думаете обо мне, – серьезно произнесла она, кладя книжку на диван рядом с ним и жестом отвергая предложенную папиросу. – Поверьте, я… не всегда так веду себя. Для меня это был героический поступок.
– Каков же его смысл? – невесело усмехнулся Владимир. – Мы мало с вами знакомы, интересен вам я быть никак не могу…
– А вот в этом вы ошибаетесь, Владимир Дмитрич, – тихо возразила Ирэн, садясь рядом. – Если б вы были мне неинтересны, я бы не стала так по-свински себя вести, честное слово. Вы, вероятно, не поверите, но я первый раз в жизни без спросу взяла чужие личные записи.
– Для чего вам это было нужно? – Голос Владимира, против его намерений, прозвучал резко, но Ирэн, ничуть не обидевшись, грустно улыбнулась:
– Единственно для того, чтобы узнать вас ближе. Мне всегда говорили, будто я хорошо разбираюсь в людях. И мне показалось, что, даже если мы подружимся, вы вряд ли расскажете то, о чем я здесь прочла. Это было… очень увлекательное чтение. И я рада, что не ошиблась: у вас в самом деле незаурядный талант. У меня в Москве много знакомых в редакциях. Хотите быть моим протеже?
Владимир молчал, не зная, что ответить. Благодарил про себя бога за то, что его каракули в книжке не оказались личными в полном смысле слова: это был своего рода путевой дневник, где наспех описывались их с Северьяном похождения в течение последних пяти лет. Ни о Софье, ни о других женщинах там не говорилось; правда, довольно подробно обрисовывались обстановка и нравы нескольких крымских борделей, но вряд ли такие подробности могли шокировать «поручика Германа», виновато поглядывающего на него из-под полуопущенных ресниц.
– Что ж… Что сделано, то сделано, – помолчав, сказал Черменский. – Были б вы мужчиной – тогда бы…
– …вы дали мне в морду, – закончила Кречетовская. – Это само собой разумеется. Но как же вы обойдетесь с беспардонной журналисткой?
– Право, не знаю, – честно ответил Владимир. – Просто вперед буду лучше прятать свои письма.
– А вот письма ваши меня не интересуют, – довольно холодно произнесла Ирэн, поднимаясь. – До такого я, к счастью, еще не докатилась. Записку, которая вложена в книжку, я не открыла, на этом могу поцеловать крест. Еще раз прошу извинения, через два часа – Москва, встретимся в ресторане.
Не глядя больше на Владимира, она быстро вышла из купе и прикрыла за собой дверь. Черменский проводил девушку глазами, озадаченно усмехнулся. Положил записную книжку на стол. Посмотрел на диван напротив и негромко велел:
– Перестань храпеть, артист. Поднимайся немедленно.
Храп прекратился, но Северьян из-под чуйки не появлялся.
– Вылезай, говорю, паршивец! Какого черта, я спрашиваю, тебе это понадобилось?
– А-а-а-уав… – раздался протяжный зевок, и из-под ворота чуйки выползла сонная физиономия. – Доброго утра, ваша милость… Вы чего, поднявшись уже? Который час-то?..
– Так ты, стало быть, всю ночь спал?!
– Ага-а…
– И ничего не видел?
– Ну да…
– И сейчас тоже ничего не слышал?
– Конечно… А вы о чем, Владимир Дмитрич? – Из раскосых, черных, еще заспанных глаз Северьяна на Владимира глядела сама святая невинность. С минуту они рассматривали друг друга. Затем Черменский отвернулся к окну. Невесело усмехнулся:
– Ну, спал – и спал, черт с тобой… Права Маша-покойница была, пороть тебя некому.
Наступило молчание, нарушаемое лишь стуком колес. Северьян исподлобья посмотрел на Владимира, вздохнул, поскреб волосы, сделав их окончательно похожими на воронье гнездо. Разминая в пальцах незажженную папиросу, сказал:
– Простите, Владимир Дмитрич… Грешен, чего уж. Но только они просили очень. И барышня хорошая такая… Ей-богу, на мой взгляд, гораздо лучше, чем все остальные-то…
– Какие «остальные», дурак?
– Которые от вашей милости с купцом за границу улепетнувши, – бесстрашно ответил Северьян, перемещаясь, впрочем, на всякий случай ближе к двери. – И не смотрите на меня так, не боюсь! Вы про то и сами знаете! А такие, как эта Кречетовская, повторю, на дороге не валяются, вдругорядь уж не попадется! Не сердите бога, ваша милость, вот что я вам скажу…
– Заткнись. Доведешь ты меня когда-нибудь до преступления. – Владимир встал и, прихватив со стола так и не зажженную папиросу Северьяна, вышел из купе. Друг проводил его внимательным взглядом. Заметил, что спички остались на столе, взял их и, как был босиком, выскочил следом.
Владимир стоял у окна в коридоре, с папиросой во рту. Северьян подошел, дал огня, вытащив из-за уха вторую папиросу, закурил сам. Тронул Черменского за плечо.
– Чего попусту мучиться, Владимир Дмитрич, зарой да забудь, – негромко произнес он, впервые за семь лет назвав Черменского на «ты». – Я ж с тобой не спорю, всяко, конечно, быть-то может. Вот и Марья Аполлоновна писали, что Софья тебя тож любила… Но ведь нет же ее, Софьи-то! И когда будет – неведомо! И искать ты ее не поедешь, потому – невесть где она, заграница большая, больше Расеи, поди. Да и не одна она там. И ведь не силом, верно, через границу-то Мартемьянов ее увозил… Может, она через год возвернется, может, через пять. Чего ж тебе – дожидаться, как девице у окна? А ну как она замужней да детной воротится? Тогда что? Да ведь и не обещала она тебе ничего… И ты ей тож.
Все это было правдой. Но говорить Черменский не мог и молча смотрел в окно, на бегущие мимо серые деревеньки и облетевшие деревья. Северьян стоял рядом, все еще держа друга за плечо, и оба они не видели, как из соседнего купе за ними наблюдает внимательный черный глаз «поручика Германа».
– Allora, allora, Sofia cara, lavorare! Cantare[18]! Ра-бо-тать!
Мелодичный и в то же время ужасно требовательный голос синьоры Росси вернул Софью к действительности, но молодая женщина еще целую минуту не могла отойти от окна, за которым чудное, золотисто-розово-белое неаполитанское утро переходило в день. Прозрачное, как стекло, небо наливалось ясной синевой, Везувий стоял весь окутанный палевой дымкой, край залива пестрел парусами лодочек и баркасов, со стороны недалекого рыбного рынка слышались вопли торговок, кто-то в соседнем доме громко и фальшиво пел оперную арию, внизу на улице играли дети, пронзительно кричали чайки, пахло рыбой, зрелыми фруктами и морской солью, и от этих запахов у Софьи шла кругом голова.
– София, вернитесь же к нам! – послышался мягкий голос Марко.
Теперь стоять спиной к роялю было просто невежливо, и Софья, подавив вздох, отошла от окна.
– Простите, – извинилась она. – Там так красиво…
Итальянцы понимающе переглянулись, рассмеялись. Марко гордо, как ребенок, заявил:
– Napoly e la bellissima in mondo[19]!
Синьора Росси шутливо дернула его за ухо, что-то укоряюще проворчала на непонятном Софье диалекте, но на двадцатитрехлетнего тенора оперного театра «Sette fiori di Napoli» это не произвело никакого впечатления. Черные, огромные, словно у удивленного ребенка, глаза Марко в упор смотрели на Софью.
– Давайте работать, – поспешно сказала она и быстрым шагом вернулась к роялю.
Марко последовал за ней.
– «Questo e un sonno…»[20] – начала Софья, одновременно думая, как точно передают ее состояние слова песни: это сон… Просто сон, который скоро кончится, и она окажется дома, в Грешневке, или в Ярославле, или… да где угодно еще. Но только не здесь, в этой теплой, фиолетово-золотой сказке с запахом винограда и моря. Так не бывает.
Стояло начало осени – теплый, ласковый, полный красок средиземноморский сентябрь. С того дня, как Софья приехала сюда, шел уже третий месяц. Сначала они с Марфой жили в гостинице, но синьора Росси, услышав об этом, чуть не лишилась чувств, заявила, что платить за гостиницу в Неаполе означает выбрасывать на ветер бешеные деньги, и в тот же день нашла сдающийся внаем голубой домик, увитый виноградом и уставленный кадками с геранью и глициниями, недалеко от театра и квартиры самой синьоры Росси. Марфе домик понравился, она лихо договорилась с хозяйкой о плате на своей чудовищной смеси русского, немецкого и французского языков, которой оперировала во всех европейских городах, разобрала вещи, развесила в огромном старинном шкафу Софьин гардероб и объявила:
– Чему быть, барышня, того не миновать! Значит, опять мы с вами в актрысы попали? Роялю-то проверьте, мадам Росси велели, сказали – ежели фальшивит, так она своего мастера пришлет!
Рояль в одной из комнат не фальшивил ни капли, и Софья с удовольствием распевалась на своих любимых романсах, когда с улицы послышались вопли: «Bravissimo! Magnifico! Ancora, ancora!!!»[21] Уже понимая, в чем дело, она подошла к окну – и испугалась, увидев заполнившую маленькую площадь пеструю итальянскую толпу. Здесь были мальчишки и солдаты, продавцы рыбы и газет, торговки сигаретами, синьорины под белыми зонтиками, цыганки с загорелыми лицами, молодые люди в широкополых шляпах и еще много другого народу, жизнерадостно оравшего «Bravo!» и машущего Софье руками, платками и газетами.
– Grazia, signore[22]! – Софья поспешно захлопнула окно. Повторялась парижская история, и она с досадой подумала о том, что петь дома придется только вполголоса, а синьора Росси уже говорила, что такое пение – напрасная трата времени.
На второй день Софьиного пребывания в Неаполе синьора Росси привела ее в театр своего мужа. Это было белое здание с колоннами в стиле позднего классицизма, чьи окна выходили прямо на синий Неаполитанский залив, с ажурной чугунной оградой, так же, как и все вокруг, густо оплетенной виноградом. Они пришли утром, когда в театре, по представлениям Софьи, не должно бы никого оказаться, но, едва войдя, она услышала прекрасный тенор, воодушевленно исполняющий куплеты герцога Мантуанского из «Риголетто». Куплеты перебивались женским смехом, музыкой рояля, громким мужским речитативом и завываниями настраиваемой скрипки. Софья изумленно посмотрела на синьору Росси.
– Com e bambini, diamine[23]! – пожаловалась та. – Совершенно нельзя оставлять одних! Эй, Марко, Тонья, Джемма, синьор Фьероне! Io sono arrivato![24]
Куплеты герцога смолкли, женский смех тоже прекратился. На мраморной лестнице, ведущей из гардеробной наверх, к зрительному залу, послышался приближающийся топот, и на ступеньках показалось несколько молодых людей и девушек. Они радостно закричали, приветствуя свою преподавательницу, но, увидев рядом с ней Софью, умолкли.
– Знакомьтесь, это новая студентка, София, она русская! – гордо представила Софью синьора Росси, и итальянцы восторженно зашумели.
Первым по ступенькам спустился молодой человек невероятной красоты, с такими огромными черными глазами, каких Софья не видала и у цыган. Забыв обо всех правилах приличия, она в упор разглядывала юношу. Тот, застыв на ступенях лестницы, так же пристально смотрел на нее.
– Дети, дети! – засмеялась синьора Росси. – Amore, sеntimenti – все потом, сначала познакомьтесь! София – это Марко Гондолини, наш тенор, о-о-очень талантливый, но крайне легкомысленный… Марко, не спорь, кому, как не мне, это знать! Это София, ОЧЕНЬ ПОРЯДОЧНАЯ СИНЬОРИНА, русская графиня, так что не вздумай!..
– Синьора Росси!!! – в два голоса возмущенно завопили Марко и Софья.
Остальные участники труппы, облепившие лестницу и наблюдавшие за церемонией представления, расхохотались.
– О-о-о, я знаю, что говорю! – заверила синьора Росси, но ее черные, похожие на вишни глаза смеялись. – А теперь марш-марш работать! Марко, скверно, скверно, я все слышала! Где верхнее си-бемоль, с которым мы так мучились до отъезда? Где пианиссимо? Где дыхание?! Опять пил в кабаках всю неделю, бессовестный мальчишка, я тебя уволю! Через две недели – спектакль, и что я покажу неаполитанцам? Осипшего герцога?! Меня закидают помидорами, синьор Росси со мной разведется, театр продадут с молотка, а вы все пойдете петь по дворам под шарманку, e basta!!![25]
Марко, ничуть не испуганный этим гневным пророчеством, скорчил веселую рожицу, галантно предложил Софье руку и повел ее в верхние помещения театра, где шла утренняя репетиция.
Несмотря на свой кошмарный итальянский и некоторую скованность, она быстро перезнакомилась со всей труппой – очень жизнерадостной и болтливой. Через полчаса у Софьи уже болела голова от беспрерывной, трескучей, едва понятной ей речи, смеха и вопросов, на которые надо было как-то отвечать. Синьора Росси не мешала молодежи знакомиться, она лишь отвела в сторону исполнительницу первых партий, великолепную брюнетку, колоратурное сопрано Джемму Скорпиацца, и вполголоса начала что-то обсуждать с ней. Через две недели актриса должна была исполнять партию Джильды в «Риголетто».
Театр супругов Росси существовал всего лишь третий год, но уже успел сделаться достопримечательностью города. Не такой официальный и помпезный, как старейший в Италии оперный театр Сан-Карло, почти любительский театр «Семь цветов Неаполя» привлекал зрителей молодостью и красотой актеров, исполнением всех новинок, появляющихся в Европе, несомненным талантом ведущих исполнителей и яркой свежестью постановок: академических канонов супруги Росси не признавали. Год назад во время постановки «Аиды» Джемма Скорпиацца заметила, что у пленной эфиопской царевны Аиды не могло быть богатых туалетов, принятых в классических постановках и ставящих Аиду на один уровень с ее соперницей, египетской принцессой Амнерис. Синьора Росси согласилась с этим, и в ее спектакле Джемма вышла на сцену в простом черном хитоне, великолепно подчеркивавшем точеную фигуру певицы, – чего, собственно, та и добивалась. Зал, пораженный необычным нарядом актрисы, сначала озадаченно притих, потом отреагировал несколькими неуверенными свистками, а после – разразился бурными аплодисментами и воплями «Браво!», и Джемму после представления поклонники выносили из театра на руках. Не зависящий от меценатов, существующий исключительно на собственные средства, театр «Неаполитанских цветов» мог позволить себе все, что угодно, – лишь бы приходили зрители. А они приходили охотно. Кумирами неаполитанской публики были Джемма Скорпиацца и Марко Гондолини, оба очень молодые, лишь недавно оставившие стены консерватории. Джемме даже предлагали ангажемент в Ла Скала, но она отказалась, предпочтя ведущие партии в маленьком театре Росси коротеньким выходам в знаменитом миланском театре. Марко же и вовсе ни за что не покинул бы родной Неаполь, пригласи его хоть Ла Скала, хоть «Гранд-опера». У него был прекрасный тенор di forza[26] редкой теплой окраски, который Софья с удовольствием слушала всю репетицию, но синьора Росси потихоньку сказала ей, что Марко – ее постоянная головная боль.
– Не поверите, cara mia, – это просто черт какой-то! Как же сказать по-русски… сейчас вспомню, momento… А – бальбес! Каждый день – новая девчонка! Каждый день – поклонницы, цветы, вино, кабаре, бог знает что еще… это же вредно для голоса! Он сын моей покойной сестры, я обещала Карле, что устрою его будущее, – но, помилуйте, как же с ним можно что-то устраивать?! Вот сейчас опять жду премьеры и дрожу! Он может прямо накануне впутаться в какую-нибудь поножовщину, уличную драку, прийти в театр с разбитым лицом… и, черт возьми, спеть лучше всех! Если б не его божественный голос, он бы просто стал жиголо, mamma mia!
Что такое «жиголо», Софья не знала, но, изо дня в день наблюдая за ведущим тенором, начала догадываться, что имела в виду синьора Росси. С первого же дня Марко начал неприкрыто ухаживать за Софьей. Потоки изысканных комплиментов, сделанных мягким, интимно пониженным голосом, сменялись охапками цветов, за ними следовали конфеты, за конфетами – опять комплименты, предложения прогуляться вечером на берег залива, осмотреть Везувий, посетить, наконец, ночные рестораны, которыми славится Неаполь и хозяева которых все как один – лучшие друзья Марко… Неискушенная в вопросах кокетства Софья не знала, что и делать. Марко нравился ей, как нравились все эти очень молодые, очень веселые, очень талантливые люди, вдруг окружившие ее, но подавать юноше надежду Софье не хотелось. Она попробовала было осторожно пожаловаться синьоре Росси, но та только рассмеялась:
– Ах, гадкий мальчишка, опять он влюблен!.. Но, София, его можно понять, вы так прекрасны! Получайте же удовольствие от вашей молодости!
Разговоры с самим Марко давали еще меньше результатов: он только улыбался, показывая великолепные зубы, и нахально притворялся, что не понимает Софьиного итальянского. Марфа, которой юноша не нравился, сердито бурчала:
– Навязался, кобель итальянский, на нашу голову, как будто дома этого добра не хватало! Софья Николаевна, вы себя блюдите! От такого хорошего не жди, одни «аморьки» в голове, а толку – с гулькин нос! И не женится, в случае чего, нипочем! Вот Федор Пантелеич приедет, башку ему отвернет, не разобрамшись, как куренку, а отвечать кому?!
– Марфа, господь с тобой, успокойся! – ужасалась Софья, в красках представляя себе нарисованную Марфой перспективу. – Я ничего ему не позволю!
Каждое утро Софья теперь приходила к синьоре Росси, в ее небольшой домик с черепичной крышей и буйно цветущими глициниями на окнах. Ставни домика всегда были открыты, и из окон неслись фортепьянная музыка и пение: с утра до вечера синьора Росси занималась с учениками. Софье она отдала самые ранние утренние часы – после того как выяснилось, что обе они – жаворонки. Теперь каждое утро Софья поднималась на рассвете, наспех съедала приготовленный Марфой завтрак, одевалась и бежала по еще пустым, влажным от росы тротуарам в дом синьоры Росси. Иногда молодая женщина останавливалась посреди дороги, запрокидывала голову, смотрела в пронзительно-синее неаполитанское небо, вдыхала соленый свежий воздух, чувствовала на лице теплые лучи поднимающегося солнца, слышала восхищенный комплимент проходящего мимо чумазого мальчишки-газетчика и чувствовала, что счастлива. Еще никогда она не ощущала такой свободы, еще ни разу ей не приходилось так долго не думать о деньгах и о том, что она будет есть завтра, – и впервые в жизни Софья делала то, что ей нравилось до дрожи в груди. Бесконечные и довольно нудные голосовые упражнения, мелизмы, фиоритуры не утомляли ее ни на миг, тренировки дыхания, диафрагмы, гортани, которыми без устали занималась с ней синьора Росси, казались забавными и ничуть не сложными, любая песня или романс давались Софье без всякого труда. И, видя восторженные глаза синьоры Росси из-за рояля, Софья понимала, что и учительница крайне довольна результатами.
– София, скажите… – спросила однажды задумчиво синьора Росси после того, как Софья без труда исполнила сложнейшую арию Джильды, с которой накануне до слез билась Джемма Скорпиацца. – Вы не думали о том, чтобы остаться в Неаполе? Я предложила бы вам ангажемент на весь следующий сезон!
– Но… – растерялась Софья. – Синьора Росси, я, право, польщена, но это невозможно! Вы же знаете, я несвободна…
– Ах, вы об этом вашем чудовище? – поморщилась синьора Росси. – Но, bambina mia, вы ведь не влюблены в него?
– Нет, но…
– А все остальное – че-пу-ха! Мадонна сантиссима, я смогу вам платить такие деньги, что вам не понадобится никакое содержание! Более того, после дебюта у вас появятся поклонники из лучших семей Неаполя! Титулованные особы! Поверьте, я знаю что говорю! Вам не придется в чем-то себе отказывать! Ну же, ну, София, соглашайтесь! Нельзя ведь, в самом деле, терпеть возле себя такого варвара с его дикими выходками – и при вашей-то красоте, при вашем таланте!!! При вашей молодости, наконец! А в России вы просто пропадете! Как это говорится… закопаете в песок свой талант!
– В России тоже есть опера… – робко возразила Софья.
Ответом был довольно пренебрежительный смех:
– Девочка моя, о чем вы? В России? Опера?! Ну да, ну да, этот ваш Чайкоффски… Глинка… Я не слышала, но, говорят, просто ужасно. Средние и нижние регистры, тяжелые ноты, о бельканто нет даже речи… А «Князь Игорь» написан алхимиком, да еще и не окончен! Пф!
Софья, уязвленная подобным отзывом о ее любимом Чайковском, довольно резко напомнила, что именно арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» месяц назад аплодировали парижане под окнами ее гостиницы. Но синьору Росси это не смутило.
– В России невозможно сделать оперную карьеру, дитя мое! Поверьте мне, я давным-давно верчусь в этом мире и Россию знаю не понаслышке! Вам надо остаться здесь и петь у меня, только тогда вы состоитесь как певица!
– Благодарю вас, синьора Росси… Я обязательно подумаю… – пролепетала Софья, сбитая с толку столь бурным напором.
По тени недовольства, скользнувшей по лицу итальянки, она поняла, что синьора Росси раздосадована таким туманным ответом, но дать слово остаться Софья не могла. Она понимала, что Мартемьянов на это не согласится никогда, не стоит и просить.
Сразу после урока с синьорой Росси Софья отправлялась в театр на репетицию. Разумеется, она не принимала участия в спектаклях: для ведущих партий у нее еще не хватало умения, а петь в хоре ученице категорически запретила синьора Росси, боясь «переломления» голоса. Но Софье нравилось следить за ходом репетиции, слушать дуэты, речитативы и арии, смеяться в кулак, наблюдая темпераментные споры солистов, проходящие на таких накаленных тонах, что если бы Софья не понимала по-итальянски, то решила бы, что на сцене вот-вот случится убийство. Все это было ей знакомо еще по театру в Ярославле, но здесь, среди молодых, красивых, не думающих о деньгах артистов, выглядело гораздо легкомысленнее и веселее. Впрочем, закулисные интриги имели место и тут. Софья убедилась в этом, когда несколько раз заметила на себе неприязненный взгляд красавицы Джеммы Скорпиацца, примадонны театра. Молодая женщина осторожно спросила у Марко, что могли бы означать такие взгляды. Марко громко расхохотался и объявил, что Джемма не без оснований опасается того, что Софья получит ангажемент в театре и сместит ее с первых партий.
– Я – Джемму?! – поразилась Софья, искренне восхищавшаяся великолепным колоратурным сопрано итальянки, красотой ее кантилены, серебристым, воздушным верхним регистром и бесконечным дыханием. – Марко, ради бога, скажите как-нибудь синьорине Скорпиацца… Я сделала бы это сама, но боюсь быть неверно понятой… Я еще плохо говорю по-итальянски… Скажите, что я никогда не останусь в Неаполе, что я связана обязательствами перед своим… впрочем, неважно… Я не смогу принять ангажемента, я же не профессиональная певица, и… и… и я скоро возвращаюсь в Россию!
– Но почему, синьорина София? – огорченно спросил Марко, заглядывая ей в лицо своими громадными глазами с длинными, как у девушки, ресницами. – Вам не нравится у нас? Я знаю, что синьора Росси уже предлагала вам…
– Да! Но я не могу! Прошу вас, Марко, объясните это Джемме!
Он долго вздыхал и уверял, что сердце его разбито навсегда, но с Джеммой, видимо, тем не менее поговорил, потому что та стала чаще улыбаться Софье и даже однажды экспромтом спела с ней сцену Аиды и Амнерис, слушать которую сбежалась под окна театра половина Неаполя: оперу здесь любили все, от аристократов до рыбных торговцев.
В театре в то время полным ходом шла репетиция «Травиаты». Софья никогда прежде не слышала этой оперы Верди и, очаровавшись прелестными мелодиями, простодушно поинтересовалась у синьоры Росси, кто написал такую красивую музыку. Итальянка сначала недоверчиво посмотрела на ученицу своими вишневыми глазами; затем, поняв, что она действительно не шутит, схватилась за голову, провозгласила, что учиться бельканто и не знать при том Верди – преступно, преступно! – и помчалась за либретто и клавиром «Травиаты».
– Но хотя бы «Даму с камелиями» вы читали? – воинственно спросила она у смущенной Софьи. – Нет?!. О, mamma mia, как же так?! Я знаю, что эта вещь переведена на русский…
– Синьора Росси, я сожалею, но мы жили в такой глуши…
– О да, я помню, несчастное мое дитя… – смягчилась та. – Вы читаете по-итальянски? Нет? По-французски? Benissimo, у меня есть французский роман!
Поздним вечером, вернувшись после спектакля (давали «Риголетто») и еще не остыв от впечатлений, оставленных пением Марко и Джеммы, Софья поняла, что заснуть все равно не сможет. Отослав ворчащую Марфу («Вот как хочете, а я вас до света нипочем будить не стану! Взяли моду – спать не ложиться за полночь! Вот Федор Пантелеич приедет, я ему пожалуюсь ужо!»), она уселась с ногами в огромное кресло и открыла «Даму с камелиями» c намерением прочесть хоть несколько страниц.
Софья читала всю ночь и лишь под утро, когда бледный рассветный луч подобрался под занавеску и размытым пятном улегся на полу, медленно закрыла книгу. Сердце бухало, как чугунная баба, забивающая сваи, и молодая женщина, сама не замечая, сжимала руки у горла. Слез, медленно ползущих по щекам, она тоже не замечала и не понимала, почему никак не удается вздохнуть всей грудью. История красавицы-куртизанки Виолетты Валери, день за днем гаснущей от чахотки и от любви к тому, с кем она никогда не сможет связать свою жизнь, потрясла Софью. Воспоминания, казалось, так надежно похороненные в глубине души, вдруг нахлынули с новой силой, и серые спокойные глаза человека, поцеловавшего ей руку на обрывистом берегу реки год назад, опять встали перед ней. Горло сжала судорога, и Софья, повалившись головой на ручку кресла, беззвучно зарыдала. Книга с ее колен упала на пол.
Успокоившись, Софья долго еще сидела не двигаясь, бездумно глядя на то, как солнечный луч ползет по полу, взбирается на стол, на стену, на рояль, наливается ярким светом, становится четким и золотым. А когда всю комнату наполнил чистый, сильный свет утра, Софья поднялась, умылась и засела за чтение либретто «Травиаты».
Через час она входила в комнату для занятий синьоры Росси.
– Девочка моя, что с вами? – поразилась итальянка, увидев лицо Софьи. – Вы дурно спали?
– Я вовсе не спала, я читала… Синьора Росси, можно ли мне это спеть? Не в театре, нет, я понимаю, насколько партия сложна, но… мне хочется уметь ее петь. Можно ли?
Софья старалась задать вопрос спокойно, но голос ее все-таки дрогнул, и синьора Росси внимательно посмотрела на нее.
– Признайтесь, София, вам оказалась близка эта история?
– Да… более чем, – коротко сказала Софья. – Вы полагаете, я смогу спеть Виолетту?
– Разумеется, – пожала плечами синьора Росси. – Я и прежде вам говорила, что все партии для лирико-драматического сопрано – ваши.
– Но Виолетту, кажется, поют колоратурные сопрано…
– И напрасно, я всегда так считала! Да, это традиция, и первая ария со всеми своими завитушками в верхнем регистре, безусловно, в их исполнении великолепна… Но потом!.. Потом же им не хватает голоса! И сил! И даже просто темперамента! Мне всегда хотелось услышать Виолетту – лирико-драматическое сопрано, и вы, моя девочка…
– А как же поет Джемма?.. Ведь она выдерживает всю партию до конца…
– Allora, beninteso, выдержать, при большой работе, можно… Джемма, конечно, великолепная певица, она очень старается, но для Виолетты ей не хватает… – Синьора Росси задумалась, подбирая правильное русское слово, и, наконец, медленно произнесла: – Джемма – это ребенок, дитя. Она мало видела несчастья в своей жизни. Она не может почувствовать… Вы понимаете?
– Да, но… – Софья глубоко вздохнула и твердым голосом сказала: – Синьора Росси, я хочу спеть Виолетту только для себя. Исполнять ее на сцене я НЕ БУДУ! У меня нет опыта, я никогда не пела в опере, я не хочу ссоры с Джеммой, и, в конце концов, через месяц я уеду в Россию!
– О-о-о-о… – страстно простонала синьора Росси, воздевая к потолку руки и закатывая глаза. – Мадонна, но почему?! Allora, bene, bene, bene… Поступайте как знаете. Я помогу вам выучить партию, а дальше… Надеюсь, вы передумаете.
Партию Виолетты Софья выучила за неделю. Для дуэтов приглашался Марко, который готовился петь Альфреда с Джеммой во время премьеры, и через несколько дней он и синьора Росси уже в два голоса твердили, что подобной Виолетты им еще не приходилось слышать. Софья тоже чувствовала, что выходит хорошо: ни одна нота не давалась ей с трудом, фиоритуры и группетто первой арии вскоре полились легко и непринужденно, переходы по регистрам получались словно сами собой. Марко, разумеется, не держал языка за зубами: скоро вся труппа театра знала, что русская ученица синьоры Росси учит партию Виолетты и уже добилась невероятных успехов, bellissima! Однажды на урок пришла Джемма, вежливо попросив разрешения послушать. Синьора Росси нахмурилась, но позволила. Софья предчувствовала недоброе и не ошиблась: посередине урока, во время исполнения Софьей последней арии уже умирающей Виолетты, Джемма вскочила, закрыла лицо руками и бросилась вон из комнаты. Марко, провожая девушку глазами, рассмеялся. Софья кинула на него испепеляющий взгляд и помчалась вслед за Джеммой.
Софья нашла итальянку возле спуска к мосту: та лежала ничком на каменной, поросшей мхом скамье, закрыв лицо руками, и рыдала так, что пожилой торговец апельсинами, сидящий на тротуаре в двух шагах рядом со своим ослом и корзиной, сокрушенно качал головой и вздыхал.
– Джемма! Господь с вами, разве можно так… – взволнованно сказала Софья, садясь рядом и обнимая девушку за узкие плечи. – Это же просто смешно! Вы с двенадцати лет на сцене, вы опытная певица, вас знает публика, боготворит весь Неаполь, вас в Ла Скала приглашали…
– Ах, нет… София, нет… Вы, ради Мадонны, простите меня, это было глупо, но…
– Я вас понимаю, – как можно тверже произнесла Софья. – Я уже обещала вам, что никогда не буду петь в театре!
– Неправда! Вы не можете! – Джемма вдруг выпрямилась и гневно посмотрела в лицо Софьи черными, мокрыми, прекрасными глазами, от которых, казалось, так и пахнуло жаром. – У вас самое лучшее сопрано из всего, что я слышала! А я очень много слышала, да! Вы должны петь на сцене! Преступно пренебрегать таким талантом! Но… Но… но я никогда не смогу петь в одном спектакле с вами, никогда, никогда! Лучше умереть! После вас меня просто освищут! Неаполь знает толк в опере!
– Джемма, – мягко проговорила Софья. – Хотите, я поклянусь своей жизнью, что…
– Не клянитесь, не сердите бога! – пылко закричала итальянка.
– Ну, тогда просто пообещаю. Я беру уроки у синьоры Росси только потому, что мне нравится петь, и все! Я не желаю карьеры оперной певицы! В России я целый сезон проработала в театре, имела, кажется, успех – и ничуть не жалею о том, что бросила сцену! Право, я всегда чувствовала, что это не мое призвание, а уж соперничать с вами мне и в голову не могло прийти…
Джемма недоверчиво смотрела на нее. Когда Софья умолкла, она убежденно произнесла:
– Мой отец всегда говорил, что господь бог наш плохо разбирается в людях. Он почему-то дает самые лучшие свои дары…
– Дуракам, – любезно подсказала Софья.
– Si! Тысяча дьяволов!!! Вы просто дура, София! Вы сами не понимаете, чем хотите пренебречь!
– Но тем лучше для вас!
– Возможно… – Джемма задумалась.
Софья осторожно коснулась ее руки:
– Ну же, голубчик… Вы верите мне?
– Что же остается? – грустно улыбнулась Джемма. На ее скулах выступил кирпичный румянец, еще заплаканные глаза заблестели, и Софья в который раз подумала: как же они красивы, эти итальянки…
– Тогда пойдемте, успокоим синьору Росси. Наверное, она думает, что мы здесь выдираем друг у дружки волосы…
Джемма прыснула. Софья улыбнулась ей и протянула руку. Старый продавец апельсинов, о котором обе в пылу выяснения отношений совсем забыли, облегченно и шумно вздохнул, поднялся с земли, держась за поясницу, подошел к певицам, подал каждой по большому оранжевому плоду и, подняв вверх палец, назидательно сказал:
– Ragazze, ни один мужчина этого не стоит! Тем более синьор Гондолини!
Тут уж расхохоталась и Софья. Джемма же просто сложилась пополам и схватилась за кудрявую голову.
– Святая дева, этот человек подумал, что мы ссоримся из-за Марко! – давясь смехом, выкрикнула итальянка и вдруг, склонившись к Софье, прошептала: – А наш тенор ведь совсем потерял из-за вас голову! Неужели он вам ни капли не нравится?
– Ничуть, – ответила Софья, надкусывая апельсиновую кожуру.
И это была чистая правда.
– …Что ж, великолепно, София, – грустно произнесла синьора Росси, закрывая крышку рояля. – Вы сделали то, что хотели, партия Виолетты – ваша, и мне более нечему вас учить. Хотя, признаюсь, я с удовольствием бы еще потянула деньги из вашего покровителя. Надеюсь, сегодня вечером вы придете в театр? Джемма впервые поет «Травиату», и вам, вероятно, будет интересно послушать…
– Непременно приду, – заверила Софья, торопливо складывая ноты. Ей хотелось убежать до того, как синьора Росси в тысячный раз начнет уговаривать ее остаться в Неаполе и принять ангажемент. Но та, к ее удивлению, даже не сделала такой попытки и лишь велела:
– Марко, проводи синьорину Софию!
– О, незачем… – попыталась возразить Софья, но Гондолини уже вскочил и улыбнулся ей своей белозубой, обезоруживающей улыбкой. Он был на пять лет старше Софьи, но почему-то казался ей мальчишкой. Размышляя, отчего бы это, Софья спустилась по лестнице вниз, пересекла тихое, завитое виноградом и цветущими глициниями патио с фонтаном, где позеленевшая бронзовая дева лила из кувшина чуть заметную, вяло журчащую струйку воды, и вышла на солнечную улицу. Марко шагал следом.
– Напрасно вы меня провожаете, – проговорила Софья, останавливаясь и ожидая, пока он поравняется с ней. – Только перейти площадь – и все…
– Для меня дорого каждое мгновение рядом с вами, – очень серьезно сказал Марко, на ходу протягивая руку к свесившейся из-за чьего-то забора виноградной грозди и отщипывая несколько янтарных ягод. – Вы скоро покидаете нас, это правда?
– Да… вероятно, – медленно ответила Софья.
Мартемьянов и в самом деле должен был вернуться со дня на день, он даже задерживался, и Софья невольно начала беспокоиться. Денег, впрочем, еще оставалось достаточно, да и Марфа давала понять, что ее «кубышка» полным-полна: вполне можно прожить в Италии еще месяца два. Но молодая женщина уже начала скучать, кроме того, ей хотелось увидеть сестру. За прошедшие полгода Софья отправила Анне лишь два письма, и те были очень коротки. Понимая, что поступает не очень хорошо, что Аня волнуется, что они никогда ничего не скрывали друг от друга и что сестра не осудит ее, Софья, тем не менее, не могла написать ей длинное письмо и привычно рассказать обо всех своих мыслях и сомнениях. Думалось, что сделать это при встрече, с глазу на глаз, будет гораздо легче, и Софья считала дни до того, как приедет в Москву, в голубой дом в Столешниковом переулке, и кинется на шею Ане. Возможно, уже есть новости и о Кате, тоже пропадавшей почти год… Да, воистину, в гостях хорошо, а дома лучше. Пора в Россию.
– Вы не слушаете меня, София? – вдруг донесся до нее обиженный голос.
Очнувшись от своих мыслей, Софья обнаружила, что они уже пересекают площадь и Марко, все это время очень страстно говоривший о чем-то, оскорбленно смотрит на спутницу горящими черными очами.
– Вы правы, не слушаю… Простите, просто задумалась.
– Мадонна! Я всю дорогу упрашиваю вас не покидать Неаполь – и, похоже, бесполезно?!
– Да, Марко, – устало произнесла Софья. – Я хочу домой.
– Но зачем?! В России холодно, нет оперы, нет апельсинов, ужасные законы и варварские обычаи!
– Это вам синьора Росси рассказала? – улыбнулась Софья. – Наверное, вы отчасти правы… Но это моя страна, и я, честное слово, скучаю.
– А мы все так надеялись… – огорченно проговорил молодой человек, в который раз делая попытку взять Софью за руку, но она, тоже в который раз, осторожно высвободила пальцы. Тогда Марко вздохнул и просто пошел рядом. – Синьорина София, я ведь уже целый месяц – ваш партнер по «Травиате». Я восемь лет в опере, я точно знаю – у вас редкий талант… Пожалуйста, прошу вас, спойте со мной хотя бы один спектакль! Я клянусь, вы увидите, как умеет Неаполь ценить таланты! Вам устроят такую овацию, что вы не захотите покинуть сцену никогда!
– Марко, это невозможно. – Софья ускорила шаг, хотя и понимала, что ведет себя невежливо. – Мало того, что я просто не хочу… но я к тому же связана словом.
– Словом?! – изумился Марко. – Кому же вы дали его?
– Джемме. Я пообещала, что никогда…
Закончить она не успела: Марко расхохотался – на всю площадь, искренне и заразительно, показывая прекрасные белые зубы. Парни, сидящие под навесом крошечного кафе в двух шагах, дружно улыбнулись, помахали ему и поклонились Софье.
– Мадонна… Одна оперная певица дает слово другой… Прошлогодний снег… – еле смог успокоиться Марко. – Неужели Джемма вам поверила?!
– Надеюсь, что да.
– А я?! – вдруг возмутился Марко. – Я все это время мечтал спеть с вами «Травиату» и разделить ваш успех, а теперь…
– Вы его разделите с Джеммой.
– Ну-у, София! Нельзя же так! – Марко, казалось, и впрямь был расстроен. – Нельзя, ей-богу, так обращаться с чужими надеждами! Что мне сделать, чтобы вы согласились? Только один спектакль! Только одна «Травиата»! Вы – и я! София!!!
– Марко, умоляю, перестаньте, на нас смотрят…
– Пусть!!! Это мой город, я могу здесь делать все, что вздумается! И я сейчас встану на колени! Донна София!!! – неожиданно Марко, к ужасу Софьи, действительно упал на колени прямо в желтую площадную пыль, взметнув ее столбом. – Клянусь, что не встану, пока не услышу вашего согласия!
– Да что же это! Марко!!! Немедленно поднимитесь, как вам не стыдно?! – перепугалась Софья, видя, как из всех окон высовываются любопытные лица, как несколько матрон в черных платьях с удовольствием перевешивают свои монументальные бюсты через перила балконов и жизнерадостно подбадривают юношу, как рыбный торговец заинтересованно останавливает своего ослика, как со стороны фонтана резво приближается пузатый хозяин сапожного магазина, на ходу громко призывая жену, детей, тещу и соседей… Не прошло и минуты, а возле коленопреклоненного Гондолини уже собралась небольшая толпа. В довершение ко всему, парни из кафе, прибывшие на место комедии первыми, обменялись между собой короткими веселыми фразами и моментально встали на колени рядом с Марко.
– Grazia, amici! – прочувствованно поблагодарил их тот и дрожащим голосом обратился к Софье: – Вы видите?! Все эти господа просят вас петь в Неаполе!
– О, да, просим, просим, донна София! Мы все вас умоляем! – нестройным хором подтвердили «господа», умирая со смеха и протягивая загорелые руки к Софье. Она стояла в кольце парней, глядя на смуглые, черноглазые, белозубые физиономии, слушала их страстные мольбы, перемежаемые безудержным смехом, и не знала, плакать ей или смеяться.
– Signori, per favore, basta, basta, basta…[27] Господа, да пропустите меня, наконец! – наконец сумела она взять себя в руки. – Марко, вы просто площадной комедиант! Вам место не в опере, а в бродячем цирке! Вечером увидимся в театре!
И, вырвавшись из смеющегося и бурно жестикулирующего кольца неаполитанцев, Софья бегом кинулась через площадь. Марко что-то кричал ей вслед, но слова его слились с дружным смехом толпы, и Софья не стала останавливаться.
Когда она прибежала домой, выяснилось, что приехал Мартемьянов. Еще внизу, снимая ботинки, Софья услышала его низкий, тяжелый голос, расспрашивающий о чем-то Марфу в верхних комнатах, и почувствовала, как подскочило сердце. «Вот… – подумала она, разом опуская руки и прислоняясь к стене. – Вот и все. Слава богу». Радости Софья не испытывала – просто пришло облегчение, которое бывает, когда долго ждешь чего-то и наконец это происходит. Она вздохнула, медленно перекрестилась и начала подниматься наверх.
– …а на что их тратить, эти деньги, когда Софья Николавна только на уроки и бегала! – еще не открыв двери, услышала она фискальный доклад Марфы. – У нее, ей-же богу, одно оперное оранье на уме, а чтоб пойти платье купить – того нетути! Вот все и осталось! Из гостиницы и то съехали, чтоб дешевле было! Да и то, своим домом-то лучшей…
– Не ябедничай, Марфа, – оборвала ее Софья, входя в комнату. – Здравствуй, Федор Пантелеевич. Как твои дела торговые?
– Слава богу, – машинально ответил Мартемьянов, поворачиваясь к ней. – Ну, здравствуй, что ли, Соня…
Софья молча подошла, дала себя обнять, прижалась к широченной твердой мартемьяновской груди, услышала привычные тяжелые, частые удары его сердца. Словно не было этих трех месяцев без Федора…
– Что ж так долго не ехал? – сама не зная зачем, спросила она. – Я уже волноваться начала.
– Сама ведь сказала – дела… Да ты и не ври, что скучала. Мне уж Марфа рассказала, как ты тут своим пеньем весь ихний Неаполь на уши поставила…
– Марфа, тебе не совестно? – возмутилась Софья.
– И ни чуточки! – отозвалась, уже шагая за дверь, Марфа. – Как же-с, сама слышала, как эти итальянцы ее уговаривают в своем театре петь да навовсе здесь остаться…
– Ты уже и по-итальянски понимаешь?
– Да уж не страшней французского, чего надо – очень даже разумеем! А этого вашего Марко другой раз помоями оболью, чтоб не шлялся под окнами! Ишь, моду взял, похабник, – чужих порядочных женщин в соблазн вводить…
– Марфа!!! – завопила Софья, но та уже скрылась за дверью.
– Что еще за Марко объявился? – грозно спросил Мартемьянов, пряча усмешку в черных глазах.
– Это наш тенор, он за мной ухаживает, – пожала плечами Софья.
– Так это правда, что тебя в театр здешний уже зовут?
– Да. Но я не пойду. Мы ведь возвращаемся в Россию, не так ли?
– Возвращаемся, – подтвердил Мартемьянов.
– К тебе?
– Да нет уж, – со странной улыбкой произнес Федор. Не замечая удивленного взгляда Софьи, медленно прошелся по комнате, остановился у открытого окна. – Мы с тобой, матушка моя, в Москву едем.
– В Москву? – растерялась она, все эти месяцы героически готовившаяся отбыть навеки в Кострому. – Но… как же твои дела? Пароходы? Торговля?..
– Да ведь я же не пузом вверх все эти три месяца пролежал, Соня, – усмехнулся он, глядя в окно. – Как раз вот дела все и утрясал, в Костроме – продавал, в Москве – покупал… Знакомств-то у меня в Первопрестольной немерено, дела встанут да пойдут, и там с голоду не пропадем. Али не хочешь?
– Ты меня, Федор Пантелеевич, не спрашивай. Как скажешь, так и будет.
– И не рада? – не оборачиваясь, пробормотал Мартемьянов. – Сестра ведь у тебя в Москве. Я думал, ты захочешь с ней-то рядом жить…
– Конечно, захочу. И… я рада, правда, – как можно убедительнее проговорила Софья, хотя от неожиданности этого известия еще не успела решить, радоваться или нет. – Когда мы едем, уже завтра?
– Можно и завтра. – Мартемьянов, наконец, отошел от окна, шагнул к столу, на котором лежал толстый кожаный бювар, набитый бумагами, зачем-то открыл его и начал сосредоточенно рыться в шелестящих листах. Софья озадаченно следила за его действиями до тех пор, пока он не вытащил несколько документов и не позвал ее:
– Соня, поди-ка, глянь.
– Я? – окончательно растерялась она. – Федор Пантелеевич, да я же не понимаю в этом ничего…
– Ништо, поглядь, поглядь.
Недоумевающая Софья подошла вплотную к столу и воззрилась на бумаги. Купчая… Еще одна… Какая-то дарственная… И вдруг, увидев вписанную в казенные строки свою фамилию, Софья почувствовала, как по спине холодной стайкой промчались мурашки. Может, почудилось? Нет… Имение Грешневка в Калужской губернии Юхновского уезда… тысяча десятин земли… приобретено в собственность господином Мартемьяновым… Передано по дарственной девице Софье Николаевне Грешневой… с правом продажи и передачи по наследству, а также… Далее она читать не стала, опасаясь, что сходит с ума. Опустила дарственную на стол. Подняла взгляд на Мартемьянова.
Тот по-прежнему стоял рядом. В упор смотрел на нее своими черными глазами, в которых, как и всегда, не было никакого выражения. Софья понимала, что должна что-то сказать, но в горле встал такой крепкий ком, что дышать и то удавалось с трудом.
– Соня, ну? – наконец почти испуганно спросил Мартемьянов. – Что ж ты бледная такая? Худо, что ль, сделал? Думал, порадуешься…
– Федор… Господи… – сглотнув в конце концов саднящий комок, пролепетала Софья. – Господи милосердный, ты… выкупил Грешневку?!
– Ну, выкупил… – настороженно глядя на нее, подтвердил он. – Чин по чину, все бумажки обстряпаны, комар носа не подточит, и земля при ей, тыща десятин, и лес… Все на тебя, в пожизненное владение, как было! Соня, да что с тобой?! Ты гляди, в омморок не свались! Я, что при таком случае делать, не знаю, а Марфа убежавши куда-то…
– Я… не свалюсь, – слабым голосом пообещала Софья, у которой действительно все плыло перед глазами и было только одно четкое ощущение: что она лишается рассудка. О том, что произошло, она никогда даже не мечтала. Грешневка… Милое родное имение, маленькое, запущенное, с одной стороны – лес, с другой – Угра, с третьей – непролазные болота с утками… Грешневка, невозвратно ушедшая за долги больше года назад, после того, как Катерина устроила там пожар, в котором сгорел брат… Господи, неужели это может быть?..
– Федор Пантелеевич, ты не бойся, я… я в здравом уме, – заверила Софья, едва восстановив дыхание. – Да как же ты сумел?..
– Матерь божья, а что тут уметь?! – поразился Мартемьянов. – Плати деньги, и все! Да и деньги-то не великие: имение в запустении, дом сгорел, одни головешки лежат… Но землица вся осталась! Дом-то я без тебя не почал строить, ить не знаю, что ты захочешь – как было али по-другому. Вот поедем с тобой, так сама и командовать станешь, потому ты теперь там хозяйка!
Софья улыбнулась. Всхлипнула. Решительно вытерла пробежавшие по щекам мокрые дорожки и сказала:
– Федор Пантелеевич, но я же не приму… Не могу.
– Вот тебе раз, почему? – искренне изумился Мартемьянов. – И что ты за баба за такая, Соня?! Сама ведь рада до смерти, вижу!
– Рада… Правда… Но… Это очень… очень большие деньги…
– Больших денег там, я ведь говорил уже, и в помине нет, – нахмурившись, возразил он. – И принять, матушка, примешь, никуда не денешься. Я, когда из этой Италии назад в Расею ехал, всю голову себе сломал – думал, что бы тебе подарить, чтоб уж наверняка не отказалась, не цацки да не тряпки, а такое, чтоб душа развернулась! И ты, ежели хочешь знать, принять обязана! Потому мне это прямое оскорбление, что моя баба от меня подарков брать не желает! Кто меня в Москве уважать станет, ежели узнает?!. А что ты смеешься-то?! Вот и понимай вас, бабье… Токмо что ревела ревмя, теперь хохочет. Соня, ну? Сонька… – Он вдруг решительно подошел и сграбастал смеющуюся Софью в охапку. На нее пахнуло знакомым жаром, крепким запахом чего-то соленого, совсем близко оказались черные, без блеска, глаза. – Ах ты, Со-оня моя… Соскучился я как, ты бы знала… Да не смейся, пошто смеешься? – Он закрыл ей рот поцелуем, понес на кровать у стены.
– Федор Пантелеевич… Федор, господь с тобой, что ты делаешь… Бессовестный… Средь бела дня! Марфа сейчас придет! – пыталась отбиваться Софья, но от радости и внезапно накатившего приступа смеха у нее не было сил бороться, да и кто мог противиться желаниям Мартемьянова?..
Обнимая широкие, с упругими буграми мускулов плечи любовника, привычно запуская пальцы в его жесткие курчавые волосы, она думала о том, что уже завтра поедет домой, в Россию. И не в гостиницу, не в съемную квартиру, не в очередной чужой угол, по которым моталась больше года, а в свой родной дом. Пусть и дома еще нет никакого, но сад… Их старый сад, где вперемежку с грушами и яблонями зеленеют клены, вязы и дубы, где наверняка цела липовая аллея, по которой сестры носились детьми с обручами и крокетными мячами, и пруд, заросший «кубышками» и камышом, со старой цаплей, стоящей посередине в ипохондрическом раздумье… И можно будет написать Ане, чтобы она тоже приехала, и Катя, конечно, отыщется и вернется к ним, и все они заживут, как раньше, боже, какое счастье!.. Как хорошо, что Федор сделал это, как он боялся, что она не обрадуется, смешно… Как он все-таки любит ее…
Софья сама не поняла, как умудрилась уснуть. То ли это произошло от излишнего волнения, то ли напор изголодавшегося Федора оказался очень уж страстным, то ли ежедневные ранние подъемы сделали свое дело, но в какой-то миг она словно провалилась в колодец, едва успев подумать, что неприлично засыпать вот так, едва встретившись с любовником, не расспросив его толком ни о чем, не поблагодарив даже как следует за Грешневку… Но в объятиях Федора было тепло и спокойно, и на его твердом плече так удобно лежалось, и ей так хотелось еще хоть немного помечтать о своей Грешневке, неслыханным чудом вернувшейся к ней… Грешневку и увидела Софья во сне – такую, какой та была в ее далеком детстве, когда еще были живы родители. Залитый солнцем дом, поднятые кисейные занавеси, круглая комната с натертым паркетом, лезущие в окна ветви цветущей сирени и яблони… и Черменский. Во сне Софью ничуть не удивило его присутствие и то, что он обнимает ее за плечи, как жену, и целует в губы, и подводит к открытому окну, из которого сладко пахнет сиренью… И серые глаза, полузабытые, которых она не видела уже год, очень близко, и так хорошо от этого… Что он говорит ей?
– Arancie! Per favore, signori, arancie, lemo-o-one!
Софья вздрогнула и открыла глаза. Было уже довольно поздно, низкое солнце висело в окне, как медный пятак, залив пол и стену мягким предзакатным светом. На улице, под самым окном, надрывно вопил продавец фруктов и в том же регистре икал его осел. Комната была пуста, на кресле лежало приготовленное Марфой вечернее платье, на которое Софья довольно долго с недоумением таращилась, пока не вспомнила, что сегодня – премьера в театре синьоры Росси. Посмотрев на часы, Софья убедилась, что до выхода из дома еще больше двух часов, и прилегла обратно на постель. Но тут же вспомнила про Грешневку и вскочила. Против воли на лице ее опять появилась счастливая улыбка. Софье вдруг нестерпимо захотелось еще раз посмотреть на казенные бумаги, где черным по белому было написано, что имение, давно и, казалось, безвозвратно утраченное, принадлежит ей – ей, законной хозяйке, Софье Николаевне Грешневой.
– Федор! – закричала она. Ответа не было, и не слышалось даже Марфиного ворчания: очевидно, Софья одна во всем доме.
Кожаный бювар с бумагами по-прежнему лежал на столе. Софья неуверенно посмотрела на него. Разумеется, она знала, что лазить в чужие бумаги неприлично, и ни разу в жизни подобного не делала. Но… Ведь это же не чужие бумаги, а теперь, получается, ее собственные, и купчая, и дарственная… А ничего другого она смотреть не станет; мало ли, что у Федора там, лучше не заглядывать, волнений меньше. Софья покосилась на дверь, подошла к столу, осторожно взяла в руки бювар… и сразу, не рассчитав тяжести, с грохотом уронила его на пол.
– Ах, господи, незадача… – вырвалось у нее. Она упала на колени и стала поспешно собирать разлетевшиеся по полу бумаги. Один измятый листок улетел далеко под кровать, и Софье пришлось довольно долго извлекать его из пыльного угла. Ругаясь сквозь зубы, молодая женщина положила лист бумаги на край стола, разгладила ладонью, мельком взглянула на косые строки, написанные синими чернилами… и вдруг ахнула, поднеся ладонь к губам, и неловко схватила листок обеими руками.
Эти косые торопливые строчки Софья узнала бы из тысячи – ведь сколько раз она перечитывала единственное письмо Владимира, полученное ею, сколько раз видела во сне его почерк… Даже не подумав, о чем, собственно, Черменский мог писать Мартемьянову, она кинулась к окну и начала читать. И первые же строки заставили ее покачнуться и неловко прислониться к подоконнику.
«Любезная Софья Николаевна…»
«Я умираю…» – подумала она, закрывая глаза.
Наступающие сумерки были теплыми, почти душными, но ее начал бить озноб, и руки задрожали так, что письмо только чудом удержалось в них. Даже перевести дыхание не удавалось, и ей приходилось дышать какими-то прерывистыми толчками, превозмогая стиснувшую горло судорогу. Стоя у окна, Софья дочитала письмо Черменского до конца. Отчетливо понимая, что близка к обмороку, посмотрела на дату. Девятое марта 1879 года.
Словно во сне, Софья вернулась к столу, возле которого были разбросаны бумаги. Она села прямо на пол, начала брать в руки один лист за другим и вглядываться в них. Вскоре на краю стола неровной стопкой лежало пять писем Черменского к ней. Все они были датированы мартом – апрелем 1879 года. Софья тогда жила в Ярославле и, репетируя Офелию, мучилась и гадала, отчего больше не пишет Владимир, отчего, прислав одно письмо, сумбурное, неловкое и полное любви, он больше не написал ей ни строчки, за исключением той страшной непонятной записки, что произошло, почему он переменился к ней?
Стало быть, Черменский все-таки писал. Не вставая с пола, Софья прочла все пять писем. Первые были переполнены любовью через край, и Софья, читая эти несмелые слова, не замечала, что плачет навзрыд, и даже сердилась, не понимая, что такое, горячее и мокрое, обжигает лицо, и быстро вытирала слезы рукавом, потому что из-за них милые строки расплывались в бесформенные сизые пятна. Владимир писал о том, что неожиданное известие о смерти отца заставило его отложить поездку в Ярославль и вернуться в Раздольное, что в имении очень много дел, что пришлось разогнать управляющих и с грехом пополам всем заняться самому, что он с ума сходит от нетерпения, но не может допустить, чтобы его будущая жена, если, разумеется, Софья Николаевна окажет ему такую честь, приехала в этот несносный бардак… Но уже в четвертом письме проскальзывало некоторое недоумение. Владимир очень осторожно спрашивал, отчего Софья не отвечает на его письма. Возможно, он взял на себя слишком большую смелость, самонадеянно полагая, что имеет право писать к ней в подобном тоне; возможно, Софья Николаевна обижена и возмущена… Дочитав до этого места, Софья застонала сквозь зубы, и на письмо Владимира хлынул целый водопад слез. С трудом успокоившись, она вытерла глаза, кое-как перевела дыхание и продолжила чтение.
Последнее письмо было самым коротким. В нем Владимир очень вежливо просил извинить его за беспардоннейшее нахальство, с которым он смел бомбардировать Софью Николаевну своими глупыми признаниями, и обещал, что более не обеспокоит ее до тех пор, пока не получит хотя бы краткого ответа, которого он, тем не менее, ждет с нетерпением. Дочитав письмо, Софья еще раз сверху донизу перерыла все бумаги в бюваре, пристально всматриваясь в каждую воспаленными от слез глазами, но более ничего не нашла.
Софья не помнила, сколько времени просидела на полу, обхватив колени руками и глядя невидящими глазами на то, как красный луч перетекает через подоконник на пол и заливает комнату тревожным светом. Сумерки перешли в вечер, за окном цокали копыта лошадей, скрипели рессоры экипажей, орали ослы, звонко перекрикивались дети, голосили торговцы, слышались песни, смех, брань, – а она все сидела в оцепенении, казалось, не думая ни о чем. Из этого состояния Софью вывел громкий стук в дверь внизу и отчаянные крики на итальянском:
– Откройте! Отоприте! София, дорогая, вы дома? О-о-о, Мадонна сантиссима, санто Дженаро, ради всего святого, откройте!!!
«Это синьора Росси… – равнодушно подумала Софья, не вставая с пола. – Сегодня же премьера, почему она здесь?»
Прошло довольно много времени, прежде чем она сообразила, что открыть дверь, кроме нее, некому и что синьору Росси, судя по тесситуре ее воплей, сейчас хватит удар. Софья поднялась, держась за край стола, и медленно-медленно, словно на ватных ногах, поплелась к дверям.
Синьора Росси ворвалась в дом, подобно урагану, – крича, плача, бранясь, размахивая руками и поминая всех святых Неаполя. Марко, вошедшего следом, Софья даже не сразу заметила: так много шума произвела хозяйка труппы.
– Что случилось, синьора Росси? – словно со стороны, услышала молодая женщина собственный глухой и равнодушный голос. Ее совершенно не интересовало, что привело в такое исступление славную итальянку, но не выслушать синьору Росси не представлялось возможным.
– О-о-о, София, моя дорогая, я умираю! Я просто умираю, я сейчас умру! Все! Все, это конец, это конец всему! Я разорена, театр прогорел, можно распускать труппу и ехать на Сицилию разводить оливки, Неаполь мне не простит… София, ради святой девы, спасите нас! Марко! Проси немедленно, гадкий мальчишка, становись на колени, умоляй! И я сейчас встану тоже! София, на вас последняя надежда!!!
– Синьора Росси, что с вами? – Софья сделала колоссальное усилие, чтобы придать голосу заинтересованность. Ей это не удалось, но итальянка ничего, кажется, не заметила. В глазах синьоры Росси стояли настоящие слезы.
– София, это конец! Пропала Джемма!
– Джемма? Как это возможно? Сегодня же премьера…
– Именно! Именно!!! А этой паршивой девчонки нигде нет! Нет дома, нет у тетки, нет у другой тетки, у крестной, у кузин… А их у нее девять штук, и к каждой пришлось зайти! Боже мой, в день перед премьерой артисты должны репетировать и отдыхать, а не носиться по городу в поисках примадонны! Теперь у всей труппы сядут голоса, а эта бандитка так и не найдена!
– Наверное, что-то произошло? – Софья попыталась изобразить беспокойство. – Может, она больна?
– Люди болеют дома, в больнице или у родственников! – провозгласила с отчаянным жестом синьора Росси. – А ее мать даже не знает, где она, и рыдает с самого утра! Бессовестная девчонка сбежала с каким-нибудь кавалером, не дождавшись собственного дебюта, проклятье, проклятье!!! София, ради Христа бога нашего, спасите нас, меня, спасите всю труппу!!!
– Но… – Софья никак не могла понять, что от нее требуется. – Но, синьора Росси, я тем более не знаю, где Джемма, мы не подруги, я не…
– София… – Синьора Росси взяла ее за обе руки, стиснув их с такой силой, что Софья невольно поморщилась. – Ради бога, девочка моя, вы одна это сможете… Вы знаете всю партию Виолетты, вы великолепно ее исполняете… Спасите нас, выйдите сегодня на сцену! Поймите, три месяца репетиций, билеты проданы, в кассе аншлаг, в зале – вся дирекция Сан-Карло, провала мне просто не простят! Неаполь так ждал этой премьеры…
Наконец, Софья поняла, что от нее хотят. И убежденно сказала:
– Никогда. Ни за что в мире. Простите, синьора Росси, при всем моем уважении к вам…
– Марко-о-о!.. – простонала, закатывая глаза, хозяйка труппы. Итальянец кинулся к Софье, как пуля. Сейчас его темные глаза не смеялись.
– София… Я ваш раб, я сделаю все, что вы прикажете, я прыгну в Везувий… спасите нас! – хрипло и страстно попросил он, покрывая поцелуями безжизненную руку Софьи.
– Синьора Росси… – Софья тяжело вздохнула, не отнимая у Марко руки и даже не замечая его действий. – Но, поймите, нас же освищут… Джемма – любимица Неаполя, все придут слушать ее, а вы им подсунете никому не известную иностранку… которая месяц назад не знала, что такое «Травиата». Первая ария написана для колоратурного сопрано, она сложная… В меня начнут бросать помидоры после первых же нот!
– Я вас закрою грудью, – быстро пообещал Марко.
Софья только устало улыбнулась. Вздохнула. Вяло подумала: а пусть. Что теперь-то бояться?.. Хоть напоследок синьоре Росси приятное сделать…
– Хорошо. Я сейчас переоденусь и…
– Мадонна, София, вы согласны?! – просияла синьора Росси, с восхищением глядя на Софью еще заплаканными глазами. – О-о, девочка моя, как вы великодушны… Presto, presto, presto[28], живее собирайтесь… Как вы бледны сегодня, еще нужно успеть загримироваться! Марко, болван, пошел прочь, София из-за тебя не может переодеться! Стереги экипаж! София, позвольте, я вам помогу…
Перед тем, как покинуть комнату, Софья еще раз оглядела оставленный кавардак, но решила ничего не убирать. Подойдя к рассыпанным по столу бумагам, она вытащила из стопки купчую и дарственную на Грешневку, быстро, двумя движениями порвала их. И вылетела из комнаты.
Когда Софья в сопровождении возбужденно переговаривающихся итальянцев уже выходила из дома, в калитке показалась Марфа с огромной корзиной овощей.
– Вы куда это без шали с голыми плечами на ночь глядя? – ворчливо спросила она. – И бледные совсем? В тиятр свой? А Федор Пантелеич с вами?
– Нет. Я не знаю, где он, – коротко ответила Софья.
Итальянцы уже ушли вперед, к экипажу. Марфа, проводив их глазами, пробурчала:
– Ишь, поскакали, как поджаренные, никакой солидности… Что за народ тараканий! А вы чего зареванная, барышня? Опять этот ирод, что ль, разговорами своими довел?!. Вот паскудник, не успел явиться – сейчас расстроил! Как без него тихо-спокойно было!
– Перестань, Марфа. И… Я оставила там небольшой беспорядок наверху… Сделай милость, не убирай, пусть будет все как есть… до прихода Федора Пантелеевича.
Софья старалась говорить ровно и сдержанно, но голос все-таки дрогнул, и Марфа пристально посмотрела ей в лицо. Помолчав, кивнула:
– Слушаюсь, барышня.
Софья отвернулась от нее и быстро, почти бегом направилась к экипажу за оградой, откуда уже звали ее истошными голосами итальянцы.
Синьора Росси всегда немного преувеличивала, но на этот раз ее слова соответствовали истине: маленький театр сиял и был полон народу, вся улица оказалась перегорожена экипажами, толпа возбужденно переговаривающихся людей штурмовала двери, шум и гвалт стоял как на конном базаре. Софья, Марко и хозяйка труппы с трудом пробились к черному ходу и поднялись в уборные, где их встретили взволнованные артисты. Заговорили все сразу, вразнобой, перебивая друг друга, и Софья, у которой страшно болела голова, смогла только понять, что Джемма так и не обнаружена.
– Чертова девчонка… – пробормотала синьора Росси. – Будем надеяться, святой Дженаро нас не оставит… София, гримируйтесь! Марко!!! Немедленно переодеваться, тебе сейчас петь! Синьор Фьероне, приготовьтесь петь второй акт с синьориной Софией, она наша последняя надежда!
Немолодой баритон, который должен был исполнять роль отца Альфреда, ничуть не удивился, звучно чмокнул Софьину руку и пророкотал, что за двадцать лет на оперной сцене привык ко всему на свете и что ему приходилось слышать, как примадонн заменяют их собственные горничные – и, слава Мадонне, все оставались живы! Синьору Росси это почему-то не успокоило, она продолжала носиться по уборной, задевая манекены и кушетки, и причитать, что большего ужаса в жизни у нее не случалось и она своими руками задушит Джемму, если у той хватит наглости хоть когда-нибудь появиться в театре! За хозяйкой труппы толпой бегали певицы, хористки и костюмерши, в воздухе висело облако пудры и духов, и от шума звенели лампы. Софья и Марко между тем быстро гримировались каждый в своем углу: первый звонок уже был дан, а еще требовалось хоть немного распеться.
Софья двигалась, говорила и распевалась в каком-то полусне. Мельком молодая женщина подумала, что, обладай она даже Джемминым голосом и опытом, она непременно провалилась бы сегодня: такими чужими казались тело и голова, столь вялыми и неловкими движения. Что ж… Одно хорошо: что после первой же арии, самой трудной и самой красивой, написанной для серебряного, хрупкого колоратурного сопрано, темпераментные неаполитанцы закидают сцену тухлятиной, освищут самозванку, спектакль прекратится, и она, Софья, спокойно уйдет домой собирать вещи.
Если б Софья не была так подавлена, она заметила бы, что Марко, стремительно загримировавшийся и тоже начавший распеваться, не разделяет общей истерики и выглядит во всем театре самым спокойным, хотя и закатывает для виду глаза, поминая Мадонну, когда синьора Росси в очередной раз вихрем проносится мимо него. Но молодая женщина не обращала на своего партнера никакого внимания, поглощенная гримом и безуспешными попытками распеться во время облачения в костюм. Но, наконец, белое платье Виолетты было надето, белокурый парик синьора Росси запретила надевать, своими руками распустив Софьины каштановые кудри по ее обнаженным плечам, ладонью, по-католически, перекрестила Софью, себя, Марко и скомандовала:
– Дети, на выход! Святой Дженаро и Мадонна с нами!
Занавес еще был опущен, но на сцене, в декорациях роскошного дома парижской куртизанки, уже сидели хористы и исполнители второстепенных партий. Из-за тяжелой ткани занавеса доносились крики и аплодисменты зала.
– Синьора Росси! – сердито сказал Марко, уже усевшийся для мизансцены на бархатном диване. – Вы должны выйти и объявить, что Джеммы нет, что Виолетту поет другая актриса… Вы должны!
– Должна, – спокойно согласилась хозяйка труппы. – Но, мальчик мой, меня же убьют!
Марко, вспыхнув, вскочил… и тут дали занавес.
Софья не знала, в какой момент публика догадалась, что Виолетту поет не Джемма. Возможно, что и в самые первые минуты: перепутать роскошную черную гриву Джеммы с каштановыми пушистыми волосами Софьи было трудно. Но ни свистков, ни негодующих криков молодая женщина не услышала. Она, как требовала роль, перемещалась по сцене, окруженная толпой поклонников, улыбалась, кланялась, пела – и вяло думала про себя: хорошо, что хоть на все репетиции ходила и, по крайней мере, помнит мизансцены… Все-таки как в воду глядела бедная Джемма: отобрали у нее премьеру… Сонное, безразличное оцепенение по-прежнему не проходило: Софья то и дело напоминала себе, что она на сцене, что исполняет чужую, незнакомую роль, что если зал и молчит до сих пор, то только от изумления, и что, начав арию, нужно быть готовой в любой момент спасаться бегством за кулисы – хорошо бы в уборной осталось открытым окно… Словно сквозь плотный туман к Софье пробились начальные аккорды ее арии – первой арии Виолетты, украшения всей оперы. Софья надела на лицо улыбку, вышла на авансцену, взяла дыхание и запела так, точно была одна в своей комнате.
Зал молчал, и удивление Софьи росло с каждым мгновением. Теперь уже не было сомнений, что публика догадалась: арию поет не Джемма Скорпиацца. Уже остались позади и красивые высокие ноты, и фиоритуры, и группетто, ария подходила к концу – а зал все безмолвствовал, и Софья, наконец, поняла, что ей сказочно повезло: добрые неаполитанцы не хотят убивать нахальную иностранку, она сможет уйти со сцены с достоинством, спокойным шагом. Ария закончилась, Софья ослепительно улыбнулась, оркестр смолк… и наступила мертвая тишина. Она стояла мгновение, два, три… Софья, понимая, что надо бежать, не могла сделать ни шагу и все еще улыбалась, когда грянули аплодисменты.
Это была не просто овация – это было извержение Везувия. Весь партер стоял, галерка ревела и топала ногами, из партера летели цветы и апельсины, аплодировал даже оркестр.
– Ancora, ancora, ancora!!![29] – в едином порыве орал зал. – Ancora, russa! Bravo, bravissimo, ancora!!![30]
Софья умоляюще оглянулась на Марко, понимая, что повторить арию Виолетты она просто не сможет: слишком велико было напряжение связок и нервов. Юноша понял. Легко и быстро он выбежал на авансцену, набрал воздуху в легкие и завопил, требуя внимания, так оглушительно, что Софья зажала уши, а из зала понеслись доброжелательные советы тенору поберечь голос для оставшихся трех действий. Добившись относительной тишины, Марко объяснил, что несравненная синьорина Скорпиацца больна, что еще более несравненная русская певица из уважения к неаполитанцам согласилась ее заменить, но умоляет не требовать повторения арий: сегодня она поет «Травиату» впервые и опасается сорвать голос в первом же акте. Такое фамильярное обращение с почтеннейшей публикой повергло Софью в ужас, но, видимо, для Неаполя это было в порядке вещей: в зале послышался добродушный смех, аплодисменты, и оркестр продолжил играть.
В антракте на певицу налетела синьора Росси – плача, смеясь, причитая, молясь и целуя Софью одновременно:
– Блестяще! Блестяще, bambina, весь Неаполь у ваших ног! Видите?! Видите, как прекрасно может быть лирико-драматическое сопрано даже в колоратурной партии! Работа и еще раз работа – и любая роль ваша! Вы слышите, что творится в зале?!
– Слышу, – машинально сказала она, думая о том, как ловчее выдернуть руку у Марко, который начал ее целовать с пальцев и уже подбирался к обнаженному плечу. Даже оттолкнуть тенора у Софьи не было никакой возможности, потому что второй ее рукой с такой же методичностью занимался толстенький синьор Фьероне.
– Прекрасно, девочка, прекрасно, прекра-а-асно! – басил он. – Сейчас мы с вами сорвем такие аплодисменты, каких Неаполь еще не слышал! Ого, мы им покажем! Лично я уже почти в ударе!
Софья робко напомнила было, что репетиций с баритоном – отцом Альфреда – у нее не было ни одной, да и мизансцены она помнит плохо, но в это время в гримерку налетели артисты и почти весь хор. Шум и визг поднялся невероятный, в висках у Софьи начали взрываться бомбы, и, закрывая глаза, она устало подумала – да ну их всех к черту… Будь что будет, хуже уж, верно, не получится.
Второй акт прошел довольно спокойно, дуэт Виолетты и отца ее возлюбленного, где последний упрекает смертельно больную куртизанку за то, что она ломает жизнь и карьеру его сына, публика встретила восторженно, и Софья даже поймала себя на том, что сдерживает смех, глядя на сердитую и разгневанную мину добрейшего синьора Фьероне. После третьего акта – бала, на котором обманутый Альфред в гневе бросает в лицо Виолетте деньги – плату за любовь, – в зале опять поднялось столпотворение. Публика уже откуда-то узнала имя русской дебютантки, и крик стоял страшный:
– Со-фи-я! Со-фи-я! Виолетта! Марко! Гондолини! Альфред! Марко, София! Браво, брависсимо, ancora!!!
Софья пренебрегла и благодарностью, и приличиями и спаслась со сцены бегством: она сильно устала, все мучительней болела голова, а впереди был труднейший последний акт, в котором Виолетта умирает на руках любимого, требующий предельного эмоционального накала. «Еще немного – и домой…» – подумала она, с закрытыми глазами падая в скрипучее кресло в уборной. И почти сразу же вслед за ней ворвался Марко. Подняв голову, Софья с некоторым изумлением наблюдала за тем, как итальянец запирает дверь на щеколду изнутри.
– Марко, что вы делаете?
– София! – Марко оставил дверь в покое и, вихрем перелетев всю уборную, упал на колени перед Софьиным креслом. – София, поверьте, вы… вы великолепная певица! Неаполь такого еще не слышал! Что творится в зале! Джемма, бедная… Кто теперь захочет ее слушать? Я, право, не мог предполагать…
Спохватившись, Марко сразу умолк, но Софья, сдвинув брови, уже поднялась из кресла во весь рост.
– Марко!!!
– Si?..
– Марко, как это понимать?! Где Джемма?! Не смейте отворачиваться, говорите, или… или я вам в морду дам, мерзавец!!!
Последние слова Софья, забывшись, выкрикнула по-русски с абсолютно Марфиной интонацией, но Марко, кажется, отлично все понял и, вскочив на ноги, на всякий случай отошел к окну, с сожалением покосившись на запертую им же самим дверь.
– Не кричите, вы сорвете голос, у вас еще целый акт, – торопливо напомнил он.
– Где Джемма?! Отвечайте немедля, или… или я сейчас уйду домой и не буду петь последний акт! Клянусь, я именно так и сделаю!!!
– София, успокойтесь! – Марко, видимо, всерьез испугался и, подойдя к Софье, с силой взял ее за обе руки. – С Джеммой все хорошо, она здорова, но… ее похитили.
– Бог мой, кто?!
– Я. То есть мои друзья. Джемма сейчас находится у моей кузины в Санта-Лучии. Завтра она уже получит свободу.
– Но… но зачем?!.
– Я хотел вашего дебюта в «Травиате», – вздохнув, сознался Марко. – Я мечтал спеть с вами эту вещь. Я еще никогда не слышал такого голоса. Я… я всю свою жизнь буду теперь вспоминать об этом.
– Господи… – простонала Софья, вновь падая в кресло. – Марко, как вы могли… Бедная Джемма, она так боялась… так плакала… Она… Она никогда не простит мне… Даже не поверит, что я ни при чем, что я не знала… Марко, вы… вы… – Она в смятении искала подходящее итальянское слово, но, как на грех, в голову лезли только русские: очень подходящие, но для него непонятные.
– София, простите меня, – огорченно произнес Марко.
– За что? Черт возьми, за что?! – в голос закричала Софья, ударив кулаком по ручке кресла так, что та затрещала. – Пусть Джемма прощает, если сможет, вы сломали ей карьеру! Марко… Марко, как вы могли, ведь Джемма – ваша партнерша, вы дружны с детских лет, она… Она же влюблена в вас! Вы не могли этого не знать, не могли не видеть! Как же вы испорчены, ведь это предательство, неужели вы не понимаете?! Это подло, синьор Гондолини! Господи, господи, как я устала от подлости людской… И подлость бессмысленная, ведь завтра я уезжаю из Италии, никогда больше не буду здесь петь, и…
– София, вы должны меня простить, вы не можете уехать, я люблю вас!!!
– Боже… – прошептала Софья, закрывая глаза. – Боже, как смешно… Как глупо… Никому не нужно… Марко, как вы можете так шутить…
– Это не шутки, клянусь вам! София! – Марко уже сидел на полу возле ее ног, и Софья с изумлением увидела, что его глаза полны слез. – Я люблю вас, я… прошу вас быть моей женой!
– Ма-а-арко… Опомнитесь, мальчик, вы – католик, я – православная, что скажет ваша семья?
– Не знаю… Но я упрошу отца… А если он не согласится – уеду с вами в Россию! И приму вашу веру! София, я не могу жить без вас, поверьте…
Тут Софья разрыдалась. О том, что это – истерика, и она, и ее партнер догадались слишком поздно.
– Марко… Марко, боже мой, о чем вы говорите… – вырывалось у Софьи сквозь стиснутые зубы вперемежку с рыданиями. По лицу ее катились слезы, дыхание рвалось, и где-то на задворках сознания она понимала: четвертому акту конец.
– Ведь я – содержанка, Марко… Не понимаете?.. Как же сказать по-итальянски… Ах, Марфа даже знает это слово, а я – нет… Я – как Виолетта, такая же куртизанка… Мой патрон – обычный подлец… Есть человек, которого я люблю, но… но… Но что он теперь думает обо мне?! Он вправе бросать мне в лицо плату за любовь, как… как ваш Альфред… Вы не можете жениться на мне. Я не имею права войти в церковь в белом платье, вас проклянет семья… Джемма. Господи, как же вы могли, Марко, как вы могли…
– Вы любите кого-то? Вы несвободны? – отчаянно допытывался Марко, сжимая руку Софьи. – Мадонна, кто он? Русский? Он ваш муж? Жених? Почему вы не с ним?
– Это уже не имеет значения… Все пропало, все похоронено… Марко, мальчик, оставьте же меня, у нас с вами последний акт… Мы должны… то есть не должны подвести труппу… Завтра бегите к Джемме, падайте ей в ноги, сознавайтесь во всем, она простит вас… ведь она вас любит… А меня здесь уже не будет.
– София, я люблю вас… – упрямо повторял он, покрывая поцелуями ее горячую, мокрую от слез руку. – Я люблю вас, не уезжайте, умоляю, не надо…
«Синьорина София, синьор Гондолини, на сцену, на сцену!!!» – раздался из-за двери взволнованный голос. Софья встала, как-то разом взяв себя в руки и успокоившись. Одновременно с ней вскочил и Марко.
– Выйдите, я должна переодеться, – повелительно проговорила Софья.
Красное платье Виолетты для последнего акта лежало на кушетке. Марко машинально посмотрел на него, перевел взгляд на белое, застывшее лицо Софьи, неловко вытер ладонью глаза, молча открыл дверь и шагнул за порог.
Весь последний акт прошел для Софьи в каком-то жару. Голова уже не просто болела: она кружилась, словно Софья неслась на ярмарочной карусели, в глазах рябило от ярких костюмов, декораций, блеска фальшивых камней. Виолетта умирала в своем доме в окружении друзей. Тут же был охваченный раскаянием отец Альфреда, и сам Альфред – Марко держал Софью на коленях во время ее последней арии. Софья чувствовала невероятную, чугунную усталость, но, понимая, что должна держаться, что идут последние минуты ее мучения, собрала остаток сил. Вступил оркестр. В зале стояла мертвая тишина: куртизанка покидала этот мир на руках возлюбленного. Глядя на Марко, Софья видела его огромные, черные, полные слез глаза – и думала о другом. Перед глазами неотрывно стояло серое осеннее утро, обрывистый берег Угры, высокий человек с широкими плечами и спокойным взглядом. «Где бы вы ни были, Софья Николаевна, я найду вас». Он сдержал свое слово. Он ни в чем не был виноват перед ней. Он любил ее… Софья с ужасом почувствовала, что у нее перехватывает дыхание. «Прочь!» – скомандовала она видению – и оно исчезло. Софья взяла последнюю, чистую, звенящую, взлетевшую к потолку театра ноту – и упала на руки Марко, содрогаясь от сухих, бесслезных рыданий, которых, к счастью, не было видно никому в зале. Четвертый, последний акт закончился.
Маленький театр супругов Росси трясся от овации. Вся авансцена была забросана цветами, а они все летели и летели – розы, камелии, гиацинты, лилии, астры… Марко собрал их полную охапку, поднес Софье, поцеловал ее руку. Она молча, неподвижно стояла на краю сцены, равнодушно глядя на орущую толпу людей у своих ног: не было сил даже улыбаться. Наконец, дали занавес, но публика не унималась, она кричала во все горло, требуя выхода русской артистки, и Софья поняла, что ей придется еще несколько раз выходить, улыбаться, кланяться, принимать цветы… Но это было уже выше ее сил, и она, швырнув охапку цветов прямо на пол, опрометью кинулась в свою уборную.
К счастью, маленькая комнатка оказалась пуста. Смятое белое платье Виолетты для первого акта еще валялось на полу. В углу, на вешалке, висела Софьина одежда. Молодая женщина заперла дверь, быстро переоделась и распахнула окно.
На улице было темным-темно, желтая луна висела над театром, запутавшись в ветвях лимонных деревьев. На Софью пахнуло свежестью, горьким запахом осенних цветов, близкого моря. Высунувшись по пояс в окно, она огляделась. Никого не было видно. Опустив на лицо капюшон накидки, Софья взобралась на подоконник. Посмотрела вниз. Было довольно высоко, но прямо рядом с окном вилась крепкая виноградная лоза. Софья подергала ее: та казалась крепкой. «Убьюсь, и слава богу», – подумала молодая женщина, выскальзывая за окно и хватаясь обеими руками за лозу как раз в тот момент, когда запертая дверь затряслась от ударов. Криков «Откройте, София, вас вызывают! На сцену, на сцену, вас требует публика!!!» Софья уже не слышала.
Она спустилась довольно удачно, лишь ободрав слегка локоть о стену и ловко приземлившись в кучу прелых листьев. Вокруг было темно, слева ярко светился подъезд театра. Софья поправила капюшон и неслышными шагами устремилась к ограде.
Через четверть часа она стояла у калитки своего дома. В верхнем этаже, к удивлению Софьи, не горело ни одного окна, и она с облегчением подумала, что, вероятно, Мартемьянов так и не возвращался. Перебежав весь исполосованный лунным светом двор, Софья толкнула дверь, вошла. И сразу же увидела Марфу, стоящую с лампой в руках в дверном проеме кухни. Посмотрев в лицо верной служанки, молодая женщина со вздохом спросила:
– Что еще случилось, господи?
Зеленая керосиновая лампа светила тускло, но, тем не менее, не могла скрыть того, чего Софья прежде никогда не видела: Марфа была заплакана.
– Ужинать хотите, барышня? – запнувшись, спросила она. – Что там ваш спектакель-то? Кончился? Что-то опять бледные вы, будто не смотрели, а сами пели… Так что же, ужин подать?
– Нет. – Софья вздрогнула при одной мысли о еде. – Иди наверх, собирай вещи, мы уезжаем. Да что с тобой?
Марфа вдруг поставила лампу прямо на пол. Грузно ступая, подошла к Софье и бухнулась ей в ноги. Софья отродясь не видела от Марфы подобной демонстрации и поэтому, разом забыв о своей тоске, заверещала на весь дом в самом настоящем паническом ужасе:
– Марфа, что ты делаешь?!! Встань, что ты, бог с тобой!!! Что стряслось?!
– Софья Николавна, за-ради Христа… – Марфа выпрямилась и уставилась на свою барышню полными решимости глазами. – Как велите, так и будет! Вещи собирать – соберу в момент! Только, бога ради, не ехайте вот так! Поговорите хоть с человеком, ить не чужой! Первый раз, за всю жисть первый раз вас прошу! Ить, ежели он застрелится с вашего отъезду, так грех на вас будет! И на мне, что не отговорила!
– Марфа, ты с ума сошла! – Софья прислонилась к стене, закрыла глаза. – О чем ты просишь, ты же ничего не знаешь!
– Знаю, барышня, знаю! – прижав руки к груди, страстно заверила Марфа. – Все я знаю!
– Откуда?! – поразилась Софья. – Ты… ты тоже видела письма?! Но ты ведь неграмотная…
– Есть грех… Так он мне сам рассказал все как есть.
– Кто – Федор?!. – растерянно прошептала Софья. В глазах у нее потемнело, она неловко схватилась рукой за перила лестницы и села прямо на ступеньку рядом с Марфой. – Воля твоя, Марфа, ты врешь… Как он мог тебе рассказать? Когда?!
– Да вот сегодня и рассказали… Они ведь вернулись, как вы уехали, полчаса не прошло, сразу наверх поднялись. Я – ничего, мету себе парадное, думаю, что на ужин варить, ведь и борща путевого заделать не из чего… и вдруг слышу, наверху – хрясь! Тресь! Бух! «Марфа!!!» Я метлу швырнула и – бегом наверх! А там весь ваш бардак, как вы велели, нетронутый, я даже и не поднималась, потому как приказано было… Смотрю – а Федор Пантелеич посредь горницы стоит, прямо на бумажках этих раскиданных, и лицо у него такое, что мне аж в поджилки вдарило! Ну, думаю, убьет меня сейчас и за упокой службы не закажет! Где, кричит, Соня?! В тиятре, отвечаю, как положено, где ж ей быть, с итальянцами ускакавши… Он где стоял, там и сел. Сидит, молчит, вроде думает себе чего-то… И я соляным столбом у дверей стою, дохнуть боюсь, про себя соображаю – как бы ловчей убежать, пока греха надо мной не сотворилось… Слышу вдруг – спрашивает, тихо так: «Марфа, как думаешь, ведь без тебя она отсюда не уедет? Зайдет домой хоть за тобой-то?» Это, говорю, очень даже сомнительно, чтоб без меня барышне отбыть, а чего опять натворили-то, ваше степенство?
– Стало быть, он тебе рассказал… – пробормотала Софья.
– Еще бы! – возмутилась Марфа. – Попробовал бы не рассказать, нечисть бессовестная! Видела я, с каким вы лицом нынче в театр уходили, я такого у вас, почитай, уж полгода не видала, с тех самых пор, как из Ярославля уехали! – Марфа искоса посмотрела на свою барышню. – Софья Николавна, я уже сказала: я с вами куда угодно, хоть в осиное гнездо, и с одного только вашего слова: планида у меня такая назначена. Но… сделайте мне божескую милость, подымитесь наверх-то.
– Так он дома?! Федор – дома?! – только сейчас сообразила Софья.
– А где ж ему быть? – пожала плечами Марфа. – Вас дожидает.
– Но… Я же смотрела, когда вернулась… Там нет огня…
– Нет – стало быть, без надобности им. Подымитесь, Софья Николавна. А я вещи вязать пойду.
– Отчего ты просишь за него, Марфа? – со странной усмешкой спросила вдруг Софья, поворачиваясь к служанке и пристально глядя в ее лицо. – Уж не влюблена ли ты, часом?
Марфа сурово выпятила нижнюю губу:
– Вот и грех вам, Софья Николавна! Когда это я себе дозволяла в ваших кавалеров влюбляться? Слава богу, свое место знаем… Но – человек ведь все-таки, хоть и сволочь… Жалко.
Софья снова усмехнулась, но ничего не сказала. Медленно, держась за перила, поднялась и пошла наверх. Когда ее усталые шаги смолкли, Марфа шумно вздохнула, перекрестилась и уселась на лестнице. Лунный лучик проворно взбежал по ее юбке и устроился на коленях.
– Да пошел ты, шалопутный… – сиплым басом сказала ему Марфа. Лучик не послушался, и она осторожно накрыла его ладонью. Пробормотала: – Сволочи вы все, ох сволочи, да где ж других-то взять?..
В комнате было темно, но в открытое окно светила луна, и пол казался затянутым серебристым газом, в котором чернели так и не поднятые никем листки бумаги. Софья вошла, остановилась на пороге. Сначала ей показалось, что в комнате никого нет.
– Федор Пантелеевич… – вполголоса позвала она.
– Да, Соня, – спокойно ответил он.
Мохнатая тень шевельнулась в углу, и Софья увидела Мартемьянова, сидящего в кресле. Он не поднялся ей навстречу, и Софья, ступая то по лунным пятнам, то по шуршащей бумаге, подошла к столу и села напротив.
Некоторое время в комнате стояла тишина. Софья не знала, что ей говорить, от усталости и навалившегося безразличия ко всему хотелось просто лечь на постель лицом вниз, уснуть и больше не просыпаться. Но время шло, Мартемьянов тоже молчал, и надо было что-то делать.
– Откуда у тебя письма? – спросила она, словно со стороны слыша собственный ровный голос. – Ты их перехватывал? Еще там, в Ярославле?
– Не я, – сразу же, словно только этого вопроса он и ждал, отозвался Мартемьянов. – Актриска ваша, Марья. Фамилью уж не помню.
– Мерцалова.
– Вроде того. Она еще тогда тебя ко мне в гостиницу привела, помнишь? Она на тебя-то сильный зуб имела; видать, тоже в этого Черменского влюблена была, да без надобности ему оказалась, только что младенца ей состряпал… А жили вы с Марьей в одном доме, смежные комнатенки снимали… Она почтальона-то и ловила, пока ты свою Офелию репетировала, все пять писем прибрала, ни одно до тебя не дошло. Я ей за них тысячный билет отдал.
– Они распечатаны… Ты читал их или Марья?
– Сначала она, а потом уж и я…
Софья в упор посмотрела на Федора, но в темноте не было видно его лица, и до нее доносилось лишь тяжелое дыхание.
– Не поверишь – знать хотел… Я ведь отродясь так говорить-то не мог, как в этих письмах, не обучен был… да и не учился сроду ничему. Только в тиятре и слыхал, как господа про любовь говорят, да все смешно мне казалось. А тут он к тебе писал… Я-то думал, что, может, и сам тебе так-то скажу, а тебе понравится… Не вышло. Не лезет из меня такое, и все тут. Видать, мало прочесть, родиться еще правильно надо было. Генеральским сыном, а не атамана ватажного выблядком…
– Но… – Софья протянула руку и взяла с подоконника последнее письмо Черменского, переданное ей Марьей Мерцаловой. В темноте невозможно было читать, и Софья начала тихо говорить наизусть: «Прости меня. В случившемся виноват лишь я один. Не буду писать об обстоятельствах, вынуждающих меня не видеться с тобой, но поверь, они имеются. Лучше нам не встречаться более, наши отношения не могут иметь никакой будущности. Ты прекрасная женщина и актриса, я уверен, ты будешь счастлива с более достойным человеком. Прости. Прощай. Владимир Черменский».
– А это еще что такое? – помолчав, спросил Мартемьянов.
– Ты не знаешь, как же так? Это его последнее письмо. Мне его отдала Мария… зачем-то.
– Понятно зачем. Только… Чего ж это он тебе здесь «ты» говорит, когда до сих пор «вы» было?
– Не… знаю…
– В конверте она тебе отдала? И адрес твой, и имя твое прописаны там были?
– Н-нет… – Софья почувствовала, как идет кругом голова. – Только письмо… Маша, кажется, говорила, что оно упало в снег, и конверт размок…
– Ну-ну, говорила она… Оторва. Да к тебе ли это вовсе писано, Соня? Ведь, кажись, он и по имени тебя тут не зовет? Мало ль кому наш брат такие-то писульки пишет…
Софья закрыла лицо руками, и наступила тишина. Лунный свет переместился в сторону кресла, Мартемьянов отодвинулся от него. Софья не заметила этого маневра, хотя уже и отняла руки от глаз, и молча смотрела на пол, туда, где лежали брошенные ею бумаги. Изумленно думала: почему она не чувствует ни гнева, ни ненависти, ни отвращения – всего того, что разрывало ее во время спектакля? В душе остались только пустота и смертельная усталость.
– Зря документ-то порвала, Соня, – наконец сказал Мартемьянов. – Рви не рви, а дело сделано: Грешневка все едино твоя теперь.
– Я не приму.
– Так и я назад взять тоже не могу: бумаги обстряпаны, твоя она. Хочешь – продай, хочешь – подари. Когда ехать-то думаешь?
– Куда? – спросила Софья, подняв голову. – Куда мне ехать, Федор Пантелеевич?
– Куда? – удивился он, вставая. – Да под Смоленск! К Черменскому своему! Нешто не на крыльях полетишь теперь, матушка моя?!.
Софья услышала, как дрогнул его низкий, тяжелый голос. Почему-то подумала, что ему ничего не стоит убить ее одним ударом кулака. И снова словно со стороны услышала собственные слова:
– Шутишь, Федор Пантелеевич? Я? К нему? После того, как полгода в твоих камелиях жила? После того, как ты меня… как девку продажную…
– Он тебя всякой возьмет, – убежденно произнес Мартемьянов.
– Возьмет?.. – повторила Софья, отворачиваясь к окну. – Не знаю. Может, и возьмет, да только я-то не возьмусь… Из купеческих содержанок в дворянские жены – такого даже в романах не напишут. Погубил ты меня, Федор Пантелеевич. Поиграл – и выбросил…
– Я – выбросил?! – загремел вдруг на весь дом Мартемьянов. – Я – поиграл?!. Соня!!! Да ты что говоришь такое! Да я за тебя грех на душу взял и еще сто возьму! Не задумаюсь даже! Коли нужда бы была – убил бы его, Черменского твоего! Об одном жалею – письма эти растреклятые не спалил сразу же! Не попадись они тебе в руки…
– Да, – спокойно подтвердила Софья. – Жаль, что не спалил. Может, лучше было бы.
– Прости меня, Соня, – хрипло выдавил он, отворачиваясь к стене.
– За что, Федор Пантелеевич? Ты ведь не жалеешь ни о чем.
– Не жалею, – согласился Мартемьянов.
– Сам говорил – убить за меня можешь…
– Говорил. И убью.
– Может, меня и убьешь? – вдруг спросила Софья, поднимаясь и подходя к нему. – Вот я сейчас встану и пойду от тебя куда глаза глядят… а ты догони да убей меня. У тебя денег много, ты от суда откупишься… А мне легче станет.
– Не смогу, – помолчав, медленно, словно нехотя сказал Мартемьянов. – Тебя – не смогу. Думал уж. У меня, кроме тебя-то, и нет больше никого. Тебя убью – с кем останусь? Одна дорога – за тобой следом. А там уж вместе не быть. Мне – в ад на сковородку, тебе – к престолу божьему…
– В аду вместе будем, Федор, – усмехнулась Софья. – Блудницам туда же дорога, запамятовал?
– Да какая из тебя блудница… – отмахнулся он. – Нет, Соня. Прости. Коль захочешь уйти теперь – что ж… Сам, дурак, и виноват, лучше концы прятать надо было. Отпущу, слово даю.
– Не пойду. – Софья подошла к окну, оперлась руками о мокрый от росы подоконник, вдохнула свежий ночной воздух. – Некуда мне уходить, Федор Пантелеевич. Судьбу ты мне пополам разорвал… и не задумался даже. Что ж… Тебя в жизни рвали – и ты рвешь. Другим не будешь. И ничего уже не изменить.
– Стало быть – со мной, Соня? – хрипло спросил он, подходя сзади и беря ее за плечи. – Простишь, что ли, меня?
– Не прощу. Не обессудь, Федор Пантелеевич, не прощу. Давай уж без этого попробуем дальше жить. Может, и выйдет.
Мартемьянов ничего не сказал, но Софья почувствовала, как вздрогнули его тяжелые, горячие руки на ее плечах. Она не пыталась освободиться. Сухими глазами смотрела на белый лунный диск, запутавшийся в ветвях сада, пыталась думать о том, что завтра ее уже здесь не будет, что через несколько дней она вернется в Россию, встретится с сестрой, станет играть в театре, возможно, петь… Но мысли не шли, а в висках билось монотонно и тяжело: «Прощай, Владимир Дмитрич… Не судьба нам. Не поминай лихом».
Примечания
1
Славянские мифические существа, имеющие много сходств с русалками.
(обратно)2
Испугаешься (укр.).
(обратно)3
Вино, смешанное со снотворным.
(обратно)4
Бог мой! (фр.)
(обратно)5
Я вас люблю (фр.).
(обратно)6
С удовольствием (фр.).
(обратно)7
Дерьмо (фр.).
(обратно)8
Дорогая моя (ит.).
(обратно)9
Разумеется (ит.).
(обратно)10
Итак (ит.).
(обратно)11
В самом деле (ит.).
(обратно)12
Ваше имя – синьора Паола Джеллини, не так ли?
(обратно)13
Дорогая моя (ит.).
(обратно)14
Великолепная (ит.).
(обратно)15
Дитя мое (ит.).
(обратно)16
Моя дорогая (фр.).
(обратно)17
Проститутка (фр.).
(обратно)18
Ну, ну, дорогая София, работать! Петь! (ит.)
(обратно)19
Неааполь – самый красивый в мире! (ит.)
(обратно)20
Это сон (ит.).
(обратно)21
Браво! Великолепно! Еще, еще!!! (ит.)
(обратно)22
Спасибо, синьор! (ит.)
(обратно)23
Как дети, черт возьми! (ит.)
(обратно)24
Я приехала! (ит.)
(обратно)25
И всё (ит.).
(обратно)26
Лирический тенор (ит.).
(обратно)27
Синьоры, пожалуйста, довольно, довольно… (ит.)
(обратно)28
Скорее, скорее, скорее (ит.).
(обратно)29
Еще, еще, еще! (ит.)
(обратно)30
Еще, русская! Браво, брависсимо, еще! (ит.)
(обратно)

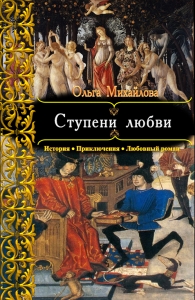
Комментарии к книге «Огонь любви, огонь разлуки», Анастасия Туманова
Всего 0 комментариев