Ольга Клюкина Сапфо, или Песни Розового берега
…Не хочу вина молодого,
И не в нем утомленье духа, —
Ты мне древнего дай, рокового,
Что, как страсть, благородное, сухо.
София ПарнокГлава первая АПОЛЛОНОВЫ ДЕТИ
С холма, на котором в тени оливкового дерева сидели три женщины, открывался вид на морской залив.
В лучах закатного солнца море казалось розовым и напоминало необъятную чашу вина, разбавленного водой. От одного этого вида можно было слегка захмелеть.
Сапфо попыталась сквозь приятную вечернюю дремоту вспомнить, кто из поэтов первым назвал море «винно-цветным», но не смогла.
Кажется, все-таки Гомер. Но, может быть, кто-то и до него, еще раньше?
Впрочем, она не очень старалась, потому что в глубине души всегда была убеждена, что самые лучшие строки, мелодии, скульптуры, вазы на самом деле создавались не людьми, а богами, и потому не так уж важно, кто первым из смертных произносит слова, или в чьей руке оказывается резец.
Почти что не важно…
Наверное, именно поэтому Сапфо никогда не возражала тем, кто говорил, что у нее есть «дар божий».
Все правильно, ведь не ее же собственный дар, а божий — подаренный щедрыми богами.
Вот только за что? И почему он достался именно ей, обыкновенной женщине, родившейся на острове Лесбос?
Это для Сапфо всегда оставалось непостижимым и таинственным.
Впрочем, почему-то находились завистливые люди, не понимавшие, почему Сапфо с такой спокойной улыбкой, слегка склонив голову, обычно молча выслушивала в свой адрес самые горячие похвалы, никогда не прерывая говорящих. И потом еще даже упрекали ее в излишней гордости.
Мол, эта женщина не обладает ни каплей природной скромности и нарочно делает все возможное и невозможное, чтобы молва о ней, подобно искрам на ветру, разносилась по всему свету.
И чуть ли не сама, своими собственными губами, раздувает костер славы, который вот уже много лет подряд не только не гаснет, но разгорается все ярче и ярче.
Ну и пусть — все равно тех, кто ее искренно любит, всегда было и есть гораздо больше.
Таких людей даже не надо далеко искать — сейчас достаточно просто слегка повернуть голову в сторону подруг, сидящих рядом на холме.
— Как же нам повезло, что мы родились в таком благословенном месте, как остров Лесбос, — первой подала голос женщина по имени Дидамия, тоже не отрывавшая взгляда от морского горизонта и сосредоточенно думавшая о чем-то своем.
— Повезло, наверное… — эхом отозвалась Сапфо.
— Да нет же, я говорю совершенно точно, — с готовностью пояснила Дидамия. — Недавно я видела у одного мореплавателя карту мира — ее составил кто-то из великих мужей, а остальные, особенно торговые люди, срисовали для себя и уже начали вовсю пользоваться. Так вот, там ясно видно, что вокруг нас и лежащих за морем стран, по краям земли, совершенно ничего нет, кроме безводных, кишащих змеями песчаных пустынь, непроходимых болот и холодных морей. А Лесбос находится как раз в самом центре мира.
— Представляю, какой там, на краю, мрак и ужас, — тут же передернулась, как от озноба, третья из подруг по имени Филистина — на редкость чувствительная, белокожая красавица. — Зато мы, благодаря нашим богам, можем наслаждаться солнцем, морем, цветами. Но вдруг все же там, среди пустынь, тоже живут какие-нибудь люди? А среди них — есть несчастные, корявые от холодов или ужасающей жары женщины и маленькие девочки?
— Не знаю, — пожала плечами Сапфо. — А вот моя Сандра уверяет, что на самом краю земли живут народы, которые не менее счастливы, чем мы, хотя они тоже ничего не знают о нас.
— Она имеет в виду страну Гипербореев? Лежащую там, откуда дует северный ветер Борей и куда никто из местных до сих пор не смог попасть? — деловито уточнила Дидамия (у нее очень сильно была развита тяга к знаниям в самых различных областях — от медицины до географии и астрономии). — Конечно, я тоже слышала и читала, что пока только Аполлон Дельфийский видел народ, пребывающий в вечном блаженстве, у которого вообще не случается никаких несчастий…
— Нет, — сказала Сапфо. — Сандра рассказывала, что видела во сне, или не знаю точно, как называются ее странные видения, неведомых людей, которые живут в тех краях, где солнце только-только начинает свое ежедневное восхождение на небо. Она говорит, что там у женщин тоже есть роскошные одеяния, богатые украшения, повозки и многое другое, как и у нас.
— Ты слишком уж веришь тому, что говорит твоя Сандра, — неодобрительно заметила Дидамия. — Конечно, я не спорю, что она иногда умеет предсказывать будущее, а порой прочитывать прошлое, но вовсе не стоит все ее прорицания толковать буквально, ведь все же Сандра не настоящая пифия, и тем более — не ученый, не…
— Ах, иногда, когда Сандра начинает рассказывать свои очередные фантазии или вещие сны, у нее бывает такое лицо, что я просто ее боюсь, — вдруг перебила на полуслове подругу Филистина. — Ты только не обижайся на мои слова, Сапфо, я ведь тоже очень люблю Сандру, но это правда.
Сапфо с интересом на нее посмотрела — нет, Филистина сейчас нисколько не шутила и была совершенно серьезна и даже печальна.
— Правда, Сапфо, я никогда тебе раньше не говорила, но в такие минуты я обычно стараюсь просто незаметно уйти, чтобы не видеть глаз нашей Сандры. Они похожи на два факела, зажженных ночью, — продолжала Филистина. — Мне кажется, что в такие моменты глаза у Сандры даже становятся ярко-желтого цвета, хотя обычно они у нее темные и какие-то туманные. Ты не замечала?
— Замечала, — улыбнулась Сапфо. — Кстати, Сандра видела во сне, что у тех мужчин и женщин, про которых я сейчас говорю, тела и лица покрывает желтая кожа и очень большие веки, так что для взгляда остаются лишь совсем узкие щелки.
— Наверное, они сощуривают глаза оттого, что находятся слишком близко к солнцу и им трудно на него глядеть, — тут же выдвинула научное предположение Дидамия. — И цвет лица желтый по той же причине. Хорошо еще, что солнце не обугливает их кожу и не прожигает насквозь души, как, я слышала, уже приключилось с некоторыми варварами из далекой Ливии, где живут только лишь черные, как уголь, людоеды.
— Погоди, это как? Так, что ли? — вдруг засмеялась Филистина, оттягивая пальцами края век к вискам, и Дидамия тут же последовала ее примеру, воскликнув:
— Ну, конечно, я всегда знала, что Сандра просто любит иногда над нами пошутить! Ха, да ведь через такие узкие щелочки ничего толком и не видно, все сразу же расплывается.
— Я же говорю — бедные! Ведь даже если они и живут у подножия дома солнца, то все равно не могут ясно видеть вокруг себя всего, что на радость людям сотворили вечные боги. Ах, как же это грустно… — снова вздохнула Филистина, и Сапфо невольно улыбнулась, оглянувшись на подругу.
Она знала, что настроение у Филистины имело странное свойство меняться в течение дня и двигаться почти точь-в-точь по ходу движения солнца на небе.
Утром Филистина всегда просыпалась веселой, пела песни, аккомпанируя себе на лире, и щебетала, как птичка, после полудня она становилась спокойной и уравновешенной и высказывала самые свои мудрые замечания, вечером на женщину нападала неизменная печаль, а ночью она запросто могла и всплакнуть в подушку, в которую для более крепкого сна были зашиты ароматные листья лаванды.
Но зато новое утро Филистина всякий раз встречала в таком превосходном настроении, что нередко начинала тихо петь, еще лежа в постели, и чаще всего это были песни на стихи Сапфо.
А так как сейчас был уже вечер, то робкие вздохи Филистины не могли Сапфо слишком сильно удивить.
Причем природная скромность не позволяла этой загадочной голубоглазой женщине с очень светлой кожей, напоминающей паросский мрамор, навязывать свои печальные мысли окружающим, и она была готова подолгу терпеливо дожидаться, когда о причинах ее затаенной грусти кто-нибудь спросит сам.
— О чем ты сейчас думаешь? — привычно спросила Сапфо у подруги, снова переводя взгляд на море, — в него сейчас словно невидимой струйкой кто-то подливал вино, и море на глазах меняло цвет, становилось все более алым и даже приобретало какой-то неуловимый кровавый оттенок.
Может быть, к непогоде, к сильной буре?
Или просто потому, что неудержимо приближалась осень, перекрашивая в пурпурный цвет листья на деревьях, по-новому расцвечивая траву, небо, море?
Сапфо улыбнулась про себя, вспомнив, что подобная краска для тканей и шерсти как раз изготавливается из одного вида мелких, пурпуроносных улиток, то есть другими словами — берет свой цвет из моря.
«Надо будет как-нибудь обсудить это с Дидамией, — подумала Сапфо, — Но только не сейчас. Нет, не сейчас…»
А потом, без всякого перехода, Сапфо вспомнила о своей Сандре, которая в такие вечера чаще всего была с ней рядом.
Почему-то Сандра, крайне чувствительная к движениям ветров, перемещениям небесных светил и вообще ко всем переменам в природе и жизни, сегодня с утра была в отвратительном настроении — уединилась от подруг, не желая ни с кем разговаривать (даже с Сапфо!), отказалась от еды и прогулок.
Увы, наверняка Сандра появится теперь в обществе не раньше чем через два или три дня, а все это время будет сидеть взаперти и находиться во власти терзающих ее душу непонятных, тревожных видений.
Сапфо знала, что в такие дни лучше всего оставлять подругу в покое и не досаждать ей.
Но как же Сандра, бедняжка, сама в эти периоды мучилась и изводилась — появлялась потом похудевшей, бледной, со странным, решительным блеском в глазах.
Лишь терпеливое, мудрое время и заботливое внимание подруг постепенно возвращали Сандру к прежней жизни.
Сапфо часто думала про себя: если боги кого-то щедро наградили, то Сандру; похоже, все-таки наказали, заставив улавливать любые, в том числе и самые грозные предупреждения небесных правителей.
Впрочем, порой ведь и счастливые тоже — нет смысла все видеть в чересчур мрачном свете.
— Пока я смотрела на море и говорила с вами про другие страны, почему-то вдруг снова вспомнила про нашу маленькую Тимаду, — сказала Филистина, поворачиваясь к Сапфо. — Наверное, тот ужасный человек, который стал причиной ее гибели, до сих пор спокойно продолжает плавать на своем корабле по морям, останавливаясь то на одном, то на другом острове и соблазняя молоденьких девушек. И он вовсе не догадывается о том, что пепел от маленькой Тимады давно развеялся в воздухе и лишь остатки его хранятся на дне погребальной амфоры. Но даже если до него донеслась частица пепла по ветру и просыпалась на его голову, — тот ужасный человек все равно навряд ли догадался, что это — все, что осталось от красоты нашей маленькой Тимады…
— Не волнуйся — боги накажут его по заслугам, — сразу же сделалась серьезной Дидамия, которая, кстати говоря, слыла одной из самых лучших наставниц в школе для девочек. — Как уже наказали и саму Тимаду за ее неразумность и невоздержанность. Разве не так?
Филистина на это ничего не ответила и только посмотрела на подругу с молчаливым упреком. Но даже черные ресницы, обрамляющие очень светлые, ясные глаза Филистины, сразу же сделались похожими на колючки — она терпеть не могла, когда кто-нибудь пренебрежительно отзывался о Тимаде.
Ведь добрая память да горстка пепла — все, что теперь осталось от этой девушки, родившейся, судя по всему, вопреки воле богов и слишком рано оставшейся без матери. Она совсем недолго была счастливой, обретя любимых подруг в кругу Сапфо, и потому чересчур несправедливо, слишком жестокосердно…
— Да нет, я просто имею в виду общую идею справедливого возмездия, — сразу же постаралась смягчить свой приговор Дидамия. — Лично я почему-то нисколько не сомневаюсь, что от соблазнителя Тимады тоже уже остались лишь кости, начисто обглоданные рыбами. Ты когда-нибудь видела такие кости, похожие на детские игрушки, — их порой после сильной бури выбрасывают волны на берег?
— Да, — еле слышно ответила Филистина.
— Они напоминают, что каждый человек — лишь игрушка в руках богини судьбы Тихэ и всегда находится под присмотром всемогущего Зевса, которого нельзя напрасно гневить, — продолжала Дидамия, следуя своей учительской привычке пояснять другим порой самые очевидные вещи и все расставлять по своим местам. — Там вот, на берегу, однажды я нашла чьи-то начисто отполированные волнами останки и сказала сама себе, что это все, что осталось от мореплавателя, соблазнившего несмышленую Тимаду. С тех пор лично я, Филистина, стала совершенно спокойно вспоминать об истории с Тимадой и советую тебе тоже как можно скорее последовать моему примеру.
— Нет, не могу, — покачала головой Филистина, и на ее ресницах блеснули слезы. — Я пробовала — не получается.
— Наверное, потому что ты слишком любила нашу маленькую Тимаду? — участливо заметила Сапфо.
— Не знаю… Я не задумывалась об этом. Но особенно я почему-то никак не могу забыть, как заразительно Тимада умела смеяться. Помните, ее порой было слышно на другом конце леса? Иногда, когда кто-нибудь из наших девочек начинает вдруг чересчур громко смеяться, я вздрагиваю и потом долго не могу успокоиться. Но с тех пор, хотя прошло уже много лет, я все же никогда и ни у кого не слышала такого смеха. Да, Дидамия, — никогда и ни у кого. Нет, пожалуй, еще только у Фаона, когда он был совсем малышом…
И проговорив это, Филистина чуть ли не с вызовом, снизу вверх посмотрела на Дидамию, которая заметно выделялась среди подруг высоким ростом, физической силой и крупным, почти мужским телосложением. Но было кое-что, чего Дидамия точно не могла спокойно переносить, — это укоризненный взгляд и особенно — слезы хрупкой Филистины.
Сапфо знала, что между этими двумя совершенно разными женщинами были очень непростые, запутанные отношения — то они буквально не могли жить друг без друга, то без видимой причины начинали ссориться, и от этого сами же — страдать.
Причем Дидамия обычно оказывалась в худшем положении: она что есть сил пыталась разыскать причины и следствия случившейся враждебности, разобрать по полочкам все обиды, но Филистина только упорно молчала или плакала, и приходилось дожидаться благословенного утра, когда подругам все же удавалось загладить очередную трещину.
— Да, ведь Тимада сама была еще совсем ребенком, — поспешила на выручку Сапфо. — Девочкой, которая родила ребенка, но при этом в душе все равно не успела превратиться в женщину. Оказывается, такое тоже бывает. Ведь ей тогда было всего шестнадцать… нет, даже пятнадцать с половиной лет…
И все три женщины на некоторое время замолчали, каждая по-своему вспоминая о злополучной истории, когда-то наделавшей в школе Сапфо так много шума.
Тело Тимады — сей прах. До свадебных игр Персефона Свой распахнула пред ней Сумрачный, брачный чертог…[1] —про себя вспомнила Сапфо первые строки своего давнего стихотворения, которыми она когда-то оплакала Тимаду — последнее, что можно было для нее сделать.
Ведь «маленькая Тимада», как называли эту девушку подруги, до последнего момента скрывала свою беременность и даже пыталась от нее как-то избавиться при помощи специальных отваров из трав и ядовитых, но, к счастью, не смертоносных грибов.
Но потом все же призналась, и первым человеком, который узнал о трудном положении девушки, была как раз ее лучшая подруга — Филистина.
Правда, сначала Тимада без устали твердила всем о том, что случайно повстречала в лесу лучезарного бога Аполлона, который ею страстно овладел, и потом навсегда исчез, наградив девушку поистине неземным наслаждением и богоравным наследником.
И лишь в горячечном бреду, во время родов, Тимада все же проговорилась, что случайно встретилась в лесу с каким-то заезжим мореплавателем, и этот мореплаватель стал ее первым и последним в жизни любовником, и отцом ребенка, и навряд ли он когда-нибудь сам об этом узнает или хотя бы даже случайно вспомнит о мимолетной встрече на залитой солнцем поляне.
Но как бы ни были сердиты некоторые женщины на беспечность Тимады, все же никто не был готов к тому, что это веселое, доброе, неугомонное создание так неожиданно погибнет во время родов.
Девушка, словно жертвенное животное, буквально истекла кровью, которую ничем невозможно было остановить, и угасла прямо на глазах у повивальных бабок и Филистины — то смеясь сквозь слезы, то впадая в продолжительное забытье — видимо, ее организм был еще не готов к такому нелегкому испытанию, как материнство.
Впрочем, юная мать еще успела своей лучшей подруге Филистине, постоянно державшей Тимаду за тонкую, смуглую и невозвратимо слабеющую руку, рассказать и про моряка, и даже дать имя новорожденному мальчику — она попросила непременно назвать его Фаоном.
Филистина так и не успела уточнить, почему подруга выбрала именно это имя — может быть, именно так звали того проклятого моряка, про которого сама Тимада, даже стоя на пороге подземного царства, не проронила ни одного дурного слова, или в честь какого-то другого неизвестного мужчины?
Впрочем, теперь Филистина и про себя, и вслух называла отца Фаона не иначе как «тот самый ужасный человек» и больше ничего не хотела о нем знать.
Упитанного младенца, на которого Тимада только всего один раз успела полюбоваться, сразу же передали пожилой молочнице по имени Алфидия — эта добрая женщина круглый год жила за городом в небольшом добротном доме на краю буковой рощи и держала у себя молочных коз.
А когда Тимада в схватке за жизнь все же оказалась побежденной, женщины пришли к мнению, что мальчик-сирота до своего совершеннолетия должен оставаться на их общем попечении, но вполне может пока жить в доме у Алфидии. Она ни за что не хотела расставаться с ребенком, называя его «своим ненаглядным сынком», и уверяла, что Фаона на старости лет ей наконец-то послали всемогущие боги, как особую награду за безропотно переносимую бездетность.
Сапфо решила, что появление Фаона никак не будет мешать привычному течению жизни ее школы, которая на летнее время тоже перебиралась за город, в это тихое, благодатное место на каменистом берегу, омываемом волнами Эгейского моря.
Но она еще тогда объявила свое решение, что Фаон может жить в женской «колонии» лишь до своего шестнадцатилетия, а потом должен покинуть не только ее пределы, но и, желательно, вообще остров Лесбос — ведь на самом деле не известно, где находится родина его отца, а это может подсказать только собственное сердце.
И тогда все без исключения нашли такое решение справедливым и наилучшим — не было никого, кто бы нашел хоть что-то возразить.
И еще Сапфо порой задумывалась, а правильно ли она поступила, когда в порыве печали написала в прощальном стихотворении о Тимаде такие слова:
Сверстницы, юные кудри отсекши острым железом, Пышный рассыпали дар над девственной урной[2].Имела ли право она назвать погребальную урну — девственной, если Тимада только что родила ребенка?
Ведь с точки зрения очевидного это было совершенно неправильно, не правдиво!
Но, с другой стороны, Тимада, увы, не успела испытать ни волнений замужества, ни радостей материнства, ни даже по-настоящему глубоких, сладких мук любви, и потому ее душа действительно навсегда осталась девственной, и даже скорее душой маленькой девочки.
И подруги тогда поняли поэтическую мысль Сапфо, которая показалась им правдивей самой настоящей правды, и скорбным хором подхватили эту песню, не захотев изменить в ней ни слова.
И еще Сапфо запомнила, что маленькая Тимада почему-то жила так, словно и впрямь постоянно куда-то сильно торопилась: и ходила почти что бегом, и ела очень быстро, и вино пила большими глотками, и смеялась взахлеб, как будто наперед знала, что ей на земле отпущено погостить совсем немного времени.
Или маленькую Тимаду заранее оповестил об этом кто-то из добрых богинь?
— Нет, я была не права, что от Тимады остался лишь пепел, — вдруг светло улыбнулась Филистина. — У Фаона ведь и глаза точь-в-точь такие же, как у матери. Похожи на две воробьиные ягоды — спелые черешни. Но зато волосы почему-то другие, совсем светлые, словно в них навсегда застыла морская соль…
Но она тут же пожалела о том, что вспомнила вслух про мальчика.
— Хорошо, что ты мне напомнила, я как раз собиралась поговорить с ним об отъезде в Афины, — задумчиво, как бы мимоходом, проговорила Сапфо. — Пожалуй, я сделаю это завтра утром.
Сейчас Сапфо глядела в сторону далекой белой скалы, возвышавшейся над морем словно клык огромного чудовища, а после печального разговора про Тимаду ей вспомнилась совсем другая скала, которой никому из смертных нельзя увидеть при жизни.
Сапфо подумала: интересно, как же она выглядит?
Известно, что по пути в царство Аида душа каждого человека должна непременно пролететь мимо Белой Скалы у входа в подземные чертоги, и только после этого полета умерший окончательно теряет память о своей прежней жизни.
Существует даже старинная поговорка: «Прыгнуть с Белой Скалы», что означает — потерять память о прошлом, забыть все, что с тобой было раньше.
Странно, неужели маленькая Тимада тоже больше не вспоминает о своих оставшихся на земле подругах?
— Ах, — сразу же обмерла Филистина. — Но… почему — Афины? Какие еще Афины? Ведь этот город находится так далеко отсюда, почти что на краю света.
— Ты преувеличиваешь, Филистина, — улыбнулась Сапфо. — И потом, ты, наверное, забыла, что маленькая Тимада прибыла на Лесбос из Афин — ведь этот город является ее родиной, а значит, отчасти и родиной Фаона. И потом — там до сих пор живет и, насколько я поняла, процветает отец Тимады, которому пришла пора взглянуть на своего внука.
— Ах, я вижу, это ты обо всем позабыла, Сапфо, — с упреком посмотрела на подругу Филистина. — Но я-то прекрасно помню, что за ужасный человек — этот твой отец Тимады, который поддался на уговоры мачехи и отправил дочь на Лесбос, к каким-то своим дальним родственникам, и не слишком-то интересовался ее дальнейшей судьбой. И даже когда Тимада умерла, он не ответил на твое письмо, не захотел признавать Фаона, и все это время даже ни разу не пытался узнать, как мальчик живет, и жив ли вообще… И потом, Сапфо, я поняла, что ты передумала куда-либо отправлять Фаона. Мы все, все так считали.
— Нет, почему я должна передумать? Просто я ждала писем из Афин. И вчера наконец-то их получила.
— Каких писем? — как-то сразу заметно поникла Филистина и еще больше стала похожа на цветок, который к вечеру крепко сжимает нежные, трепетные лепестки, пряча себя от чужих глаз.
— Во-первых, от отца Тимады, старого Анафокла, за это время успевшего потерять на войне двух сыновей. Очевидно, это заставило его сделаться гораздо мудрее. Я на всякий случай написала ему еще разок, не слишком надеясь на ответ, но Анафокл ответил, что теперь живет мечтой увидеть Фаона и обещает осыпать его чистым золотом, сделать знатнейшим человеком в Афинах и оставить внуку, единственному теперь мужчине в их семье, богатое завещание.
— И ты веришь старческим бредням? — возмутилась Филистина. — Какое золото можно ожидать от человека, который за все эти годы не подарил своему родному внуку даже глиняной свистульки и, можно сказать, вовсе бросил Фаона на произвол судьбы!
— Ты права, Филистина, я тоже не слишком верю словам Анафокла, разумом которого, похоже, заправляет его вторая, а может быть, уже и третья, или пятая жена. И я вовсе не собираюсь отправлять нашего Фаона куда глаза глядят, — пояснила Сапфо. — Поэтому я написала письмо также и своим друзьям, которые обещали в случае чего радушно принять у себя мальчика, найти ему в Афинах лучших учителей, а если понадобится — то на время полностью взять на себя все заботы о сыне Тимады.
— Но почему, Сапфо, ты думаешь, что они это сделают лучше нас? — спросила Филистина дрожащим от обиды голосом. — Я почти уверена, что дед Фаона выжил из ума и зовет внука, потому что теперь сам нуждается в поддержке. И будет вполне справедливо отомстить ему за дочь тем…
— Ни ты, ни я не знаем, и не можем знать, что движет человеческими поступками, — прервала подругу Сапфо. — И потом, мальчик не может жить всю жизнь только среди женщин. Это, Филистина, не пойдет ему на пользу. Ведь Фаон не случайно родился мужчиной и должен сам как следует испытать свою судьбу. Думаю, он уже на днях, получив необходимые рекомендательные письма, отплывет с Лесбоса на попутном корабле.
— В какой-то степени я даже завидую Фаону, — откровенно призналась Дидамия. — Лично я хотела бы быть на его месте… при условии, конечно, если бы я тоже когда-то родилась мужчиной. Ведь говорят, что Афины не по дням, а по часам становятся настоящим центром наук, искусств и школой политики — недаром этому городу покровительствует богиня мудрости. Именно в Афинах можно подняться на холм Мусейдон, который считается домом, где незримо живут музы. А представь, если Фаон к тому же действительно получит громадное наследство? О, какие перед ним откроются возможности!
Сапфо только молча кивнула, а про себя подумала, что сама она навряд ли захотела бы жить в прославленном городе, названном в честь мудрой, совоокой богини Афины, которую она конечно же от всей души уважала и почитала, но…
Но Афина, похоже, все-таки была неспособна до конца понимать поэтов!
Однажды, по преданию, Афина в гневе бросила на землю флейту только потому, что при игре на этом инструменте у нее некрасиво искажалось лицо.
И почему-то в одном этом невольном жесте Сапфо видела для себя что-то чуждое и даже слегка враждебное.
Нет, Дидамия права, что Лесбос — самое лучшее место во всем мире.
— …Да, и политики, — все больше расходилась Дидамия. — Настоящие мужчины не умеют жить без политики, и наш Фаон тоже может оказаться в центре борьбы, прославиться как оратор или известный полководец. Может быть, ему даже придется воевать с иноземцами, с варварами…
— Ах, нет, только не это, — побледнела еще больше Филистина.
— Не волнуйся, как бы ни сложилось, Фаон в скором времени начнет жить в Афинах нормальной жизнью, когда официально станет эфебом, — успокоила подругу Дидамия. — Когда Фаону исполнится восемнадцать лет, его, как и всех его сверстников, внесут в гражданские списки, и два года он будет служить в военном отряде, находясь на полном государственном обеспечении. А после первого года службы принесет клятву на верность городу и станет настоящим мужчиной.
— И потом — он там будет не один, мои друзья о Фаоне прекрасно позаботятся, — прибавила Сапфо.
— Ах, — в который раз вздохнула за сегодняшний вечер Филистина, но теперь она закрыла лицо руками и не смогла сдержать подступивших к горлу рыданий.
Ведь Филистина почти что совершенно успокоилась насчет дальнейшей судьбы Фаона, считая, что Сапфо мысленно переменила свое давнее решение, и потому сейчас к такому повороту событий оказалась совершенно не готова. Так сложилось, что как раз в тот момент, когда Фаону исполнилось ровно шестнадцать лет, его «матушка» — добрейшая молочница Алфидия — серьезно и, как потом оказалось, неизлечимо заболела.
Сапфо показалось неразумной жестокостью лишать Алфидию в этот тяжелый момент поддержки самого любимого на свете человека, которым стал для старушки Фаон, и потому отъезд юноши, разумеется, пришлось отсрочить.
Когда же спустя примерно полгода Алфидия скончалась, а Сапфо и не заговаривала о Фаоне, Филистина подумала, что сына маленькой Тимады просто-напросто негласно решено оставить на привычном месте.
В самом деле, ну кому может помешать этот красивый, веселый мальчик, своей улыбкой, порывистыми жестами и стремительной походкой так похожий на Тимаду?
Но, оказывается, Сапфо совершенно ни о чем не забыла, а просто ждала каких-то писем.
И вот они пришли. И, оказывается, должны мигом переменить судьбу Фаона.
Сейчас Филистина буквально кляла себя в душе за то, что затеяла на холме этот разговор про Тимаду, «того самого ужасного человека» и Фаона.
А следовательно — сама же во всем виновата. Она простодушно думала, что, если бы не ее болтливость, может быть, все как-нибудь бы и обошлось?
Сапфо могла забыть о письме, а потом бы вмешались боги, а потом бы она сама тоже что-нибудь придумала…
Когда-то Филистина своей рукой вложила в затвердевшие губы Тимады обол — монетку, чтобы подружка могла уплатить Харону за перевозку в страну мертвых.
А теперь вот и Фаон должен навсегда уплыть от нее тоже.
Пусть и не в подземную страну, откуда никогда никто не возвращается, но тоже куда-то очень, очень далеко, и вполне возможно, что больше Филистина сына Тимады никогда не увидит.
А уж если он действительно ввяжется там в борьбу против тирании, или отправится воевать…
Филистина почувствовала, что кто-то гладит ее по волосам, и с надеждой подняла голову.
Нет, это была не Сапфо. Сейчас ее пыталась утешить сильная, теплая рука Дидамии, на которой в лучах закатного солнца поблескивали серебряные кольца и браслеты, а та, от кого больше всего зависела судьба мальчика, наоборот, сидела отвернувшись и пристально смотрела на море, слегка сдвинув брови.
Филистина по опыту знала, что если сейчас она попытается просить за Фаона, то ничего хорошего из этого все равно не выйдет.
Сапфо никогда не меняла своих решений, и тем более публично.
Но вот если попробовать поговорить с ней наедине, а еще лучше — как-нибудь между делом, нежась на общем ложе или на залитой солнцем лужайке, распевая веселые песни…
— Я пойду погуляю, — резко встала Сапфо и быстро, не оглядываясь, пошла по склону вниз, по направлению к буковой роще.
Подруги и не думали двигаться за ней следом — слова «пойду погуляю» для них привычно означали, что сейчас Сапфо необходимо побыть одной.
Все знали, что свои стихи Сапфо обычно сочиняла во время пеших прогулок, — она сама рассказывала, что тогда нужные слова словно сами собой откуда-то появляются в такт шагам.
Да и ритм знаменитых стихов Сапфо был такой, словно она поднималась в гору, а потом неожиданно выходила на ровное место и переводила дыхание.
Тот, кто не знал образа жизни Сапфо с ее ежедневными пешими прогулками, удивлялся необычайной естественности ее поэзии.
Говорили: стихотворения Сапфо легкие — как само дыхание.
Или — они похожи на стук влюбленного сердца, которое то бьется ровно, то словно падает в глубокую сладкую бездну.
Сапфо, как всегда, улыбаясь выслушивала эти комплименты и домыслы, а про себя думала: нет, ее стихи скорее похожи на быстрые шаги…
Загорелые ноги, обутые в легкие сандалии, без устали топают по холмам и рощам, вышагивая слово за словом.
Строфы, которые повсеместно стали называть «сапфическими», состояли из трех одиннадцатисложных стихов и заключительного короткого, адонейского стиха, и похоже было, словно Сапфо случайно вдруг спотыкалась на пути, но потом снова переводила дыхание и выходила на ровное место.
Вот и сейчас, спускаясь с холма в долину, заросшую виноградником, она почти моментально забыла разговор про Тимаду и ее сына Фаона, а также про все свои бывшие и предстоящие заботы.
Сначала Сапфо слышала только звук своего сердца, сильно и по-прежнему молодо бившегося в груди, но потом к нему начали незаметно присоединяться слова:
Я негу люблю. Юность люблю. Радость люблю…[3] —стучало в груди у Сапфо, шагающей сейчас по своей любимой дорожке вдоль виноградников, которая то плавно поднималась вверх, так что становился виден край моря, то снова спускалась в долину.
Вечно юный, лучезарный бог солнца — Гелиос — уже возвращался на своей колеснице на покой, но все равно продолжал рисовать на небе неповторимые, пронизанные розовым светом картины.
Сапфо могла подолгу смотреть на облака буквально каждый день — небесные шедевры солнечного бога всякий раз были совершенно разными и завораживающими.
Да, Гелиос, как и все великие боги, был настоящим творцом и учил вечной неутомимости, щедро демонстрируя людям пример безграничной творческой свободы и смелости.
Вот чему хотелось, если и не научиться — какой смертный может сравниться с небожителями? — то хотя бы приблизиться!
…Радость люблю И солнце…[4] —прибавилось к стихотворению еще одно слово.
«А можно ли, например, и в Гелиоса быть влюбленной так же, как в мужчину, или в прекрасную женщину?» — задумалась Сапфо, чувствуя, что сейчас, при виде золотистых верхушек деревьев и сияющих над головой облаков, ее переполняет не только признательность, но и настоящее, эротическое чувство к тому, кто постоянно дарит наслаждение созерцать красоту природы.
Да, конечно же, можно, если не обманывать себя и спокойно признать свой жребий, — любить безответно и беззаветно, не ожидая за это никакой награды.
Жребий мой — быть В солнечный свет И в красоту Влюбленной…[5] —целиком сложилось в голове у Сапфо новое четверостишие.
Но Сапфо тут же испугалась своих чересчур смелых мыслей.
Что это ей приходит в голову: тягаться с богами в творчестве, влюбляться в самих богов?
Это ли не гордое безрассудство?
Сапфо ведь помнила древнейшую историю о фракийском поэте Фамириде, который захотел вступить в состязание с Музами в пении и игре на кифаре и даже самонадеянно объявил, что в случае победы возьмет одну из Муз себе в жены.
Тоже, наверное, захотел совершенного искусства, вечной любви… А что из этого вышло?
Фамирид был не только побежден и ослеплен Музами, чтобы навеки забыть о любых сравнениях, но они в наказание лишили поэта самого главного — дара пения и игры на кифаре.
Нет, все что угодно — но только не это!
Сапфо подумала, что лучше бы у нее отняли жизнь, чем властную, неотвязную музыку, которая каждый день вдруг в какой-то прекрасный момент начинала звучать где-то в глубине души так же властно и отчетливо, как шелест деревьев, рокот волн, голоса людей и птиц…
Где-то совсем близко послышался шум ручья, и Сапфо захотелось немного перевести дух и умыться.
Она чувствовала, как от быстрой ходьбы разгорелись ее щеки, и даже ступни ног, которые так приятно было бы сейчас немного подержать в прохладной воде.
Но подойдя к ручью, Сапфо вздрогнула от неожиданности, потому что буквально в нескольких шагах от нее, повернувшись спиной, стоял незнакомый мужчина.
Он был стройным и очень загорелым, и оттого тело незнакомца казалось вырезанным из темного дерева, причем с величайшей искусностью, и к тому же оно блестело на солнце, как отполированное.
Мужчина повернулся к Сапфо, и только теперь она узнала в профиль Фаона.
Но, великие боги, как же он вырос за это лето!
Хорошо известно, что могучие деревья и буйно растущие молодые побеги таят в себе некую божественную силу, и не зря с самых древних времен справляется множество культовых праздников, когда эта тайная сила восхваляется и громко превозносится людьми.
Но разве не такая же священная сила заключена и в буйно растущем молодом человеке, который вдруг неожиданно для всех превращается в мужчину?
«Нет, не такая же, — растерянно подумала Сапфо. — Гораздо большая…»
Фаон сосредоточенно смотрел в воду, держа в руках небольшой трезубец, — он охотился на рыб и не обращал ни на что вокруг никакого внимания.
Сапфо подумала, что с этим трезубцем юноша очень похож на родного сына морского бога — Посейдона, на время покинувшего свою родную стихию и нашедшего себе развлечение в ручье.
Филистина оказалась права — у Фаона были светлые волосы, лежащие на голове мягкими волнами и похожие на морскую пену в штормовую погоду.
В разгоряченном воображении Сапфо, которая вот уже целый час занималась сочинительством, один за другим с необыкновенной скоростью замелькали различные образы.
Нет, когда Фаон вот так пристально смотрел в воду, он скорее даже напоминал ей прекрасного Нарцисса, который никак не мог оторвать взгляда от своего отражения в ручье.
Да если бы Фаон сейчас на ее глазах действительно превратился в цветок, то это почти наверняка был бы именно нарцисс, и мягкие волосы юноши, слегка вздыбленные ветром, стали бы белыми капризными лепестками.
Тогда что же, получается, что Сапфо сейчас выступает в роли нимфы Эхо, которая, будучи отвергнутой Нарциссом, подглядывала за ним из-за всех кустов и потом от горя превратилась в каменную скалу?
Впрочем, забавно: ведь от нимфы Эхо потом, после ее метаморфозы, навечно остался голос, живущий в горах.
Когда-нибудь и от нее, Сапфо, тоже останется всего лишь один голос.
Только голос — ее стихи.
Весь вопрос только в том, как долго этот голос будет звучать после неизбежной смерти? Будут ли помнить люди ее стихотворения и петь песни?
Да, об этом тоже можно будет попробовать написать несколько строк. Например…
Но продолжить Сапфо не пришлось, потому что в этот момент Фаон издал громкий, победный крик и вонзил в воду свой трезубец. Однако, видимо, дно в этом месте ручья оказалось неровным, так что юноша не удержался на ногах и с шумным плеском упал в воду.
Сапфо выскочила из своего укрытия — как бы мальчишка не утонул! Но он, смеясь, уже вставал на ноги.
— Все в порядке? Я гуляла, но услышала какой-то шум… — проговорила Сапфо.
— О, здесь мелко, — тряхнул волосами Фаон, и с них во все стороны полетели мелкие серебристые брызги. — Это хорошо, потому что я совсем не умею плавать. Я купаюсь только в ручье, да и то захожу по колено.
— Почему же ты не научишься? В моей школе даже маленькие девочки учатся плавать в море. Тебе наверняка известна пословица о самых необразованных людях: «Он не умеет ни писать, ни плавать»…
— Я несколько раз пробовал, но меня сразу же как будто кто-то хватает за ноги и тянет под воду, — по-детски пояснил Фаон.
А Сапфо снова подумала про себя: так и есть, отец к себе тянет, Посейдон. Вон какой сынок у него уродился, красавчик с трезубцем — настоящее украшение подводного царства!
Может быть, и правда, не моряка, а самого морского бога в роковой для себя день встретила маленькая Тимада на берегу, попытавшись потом укрыться от ненасытного прелюбодея в лесной чаще?
На теле Фаона сейчас была только одна белая повязка, прикрывающая бедра.
Но теперь повязка намокла, и Сапфо невольно обратила внимание, что Фаон не только ростом стал похож на настоящего мужчину, нет, вовсе не только широкими, загорелыми плечами…
Этот мальчишка был так бесстыдно, откровенно красив, что простые капли воды на его пупке казались сверкающими алмазами, а повязка — сотканной из тончайшего, почти прозрачного шелка, не скрывающего, а подчеркивающего прекрасную наготу юности.
И еще Сапфо снова невольно бросился в глаза странный контраст в наружности Фаона: светлые волосы, а под ними — темные, лучистые глаза и очень черные, словно тщательно прорисованные углем брови на округлом, почти совсем детском лице.
Нет, его мать, Тимада, была совсем не такой — она была очень смуглой, хрупкой и какой-то опасно-звонкой, как чересчур сильно натянутая струна кифары.
— А я даже немного испугался, — весело засмеялся Фаон, и на его щеках обозначились небольшие ямочки. — Когда ты неожиданно выбежала из кустов, мне сначала показалось, что ко мне на помощь явилась сама Артемида, богиня охоты…
— Да? Я действительно похожа на богиню? — тоже смеясь, спросила зачем-то Сапфо, тут же сама удивляясь, какое глупое бахвальство сорвалось у нее с языка. — Скорее уж тогда на наяду — нимфу ручьев и речек.
Она ведь сама учила девочек, что никто из смертных не должен себя сравнивать с богами, чтобы не навлекать напрасно гнева небожителей.
— Нет, все же на богиню, — серьезно кивнул Фаон и посмотрел на Сапфо с уважением. — Ты самая красивая и умная из всех, кого я когда-либо видел. Ты — и еще Филистина. Для меня вы обе — все равно как богини.
Фаон знал, как много сделала для него эта необыкновенная женщина, которую он нередко видел в одиночестве блуждающей по холмам и долам, и был хорошо осведомлен о том, что Сапфо не только его добрая покровительница, но еще и прославленная поэтесса.
Но самой Сапфо простые слова юноши показались сейчас почему-то очень мудрыми.
А что, ведь она и вправду сейчас, подобно Артемиде, возвращалась домой с настоящей охоты!
Вот только добыча ее не дикая лань, а несколько удачных строчек, которые сразу же нужно будет записать на пергаменте.
И кто скажет, что такая добыча хоть чем-то хуже или чем-то легче?
— Хорошо, что я тебя встретила, — сказала Сапфо, стараясь не смотреть на Фаона чересчур пристально, но чувствуя, что ей очень трудно оторвать взгляд от его совершенного и почти что обнаженного тела. — Наконец-то я получила письмо из Афин. Мои друзья с радостью примут тебя в своем доме. Не говоря уже об Анафокле, который тоже находится в нетерпеливом ожидании встречи. Тебе, Фаон, пора собираться в путь!
— О! Спасибо, спасибо! — воскликнул Фаон.
Всего несколько стремительных шагов по воде, и он уже крепко сжимал руки Сапфо в ладонях, не зная, как выразить свою благодарность:
— Ты так добра ко мне, Сапфо! Я никогда не забуду, как много ты для меня сделала! И теперь — снова, снова…
Сапфо почему-то неприятно кольнуло в сердце проявление столь бурной радости юноши.
Разве ему так уж плохо здесь живется? Значит, втайне Фаон всегда мечтал поскорее уехать с острова Лесбос?
Вот она, обычная неблагодарность, словно тайная капля яда, хранившаяся в душе каждого, даже самого верного из мужчин!
Несмотря на то что Фаон только что искупался в холодном ручье, у него оказались на редкость горячие руки, от которых буквально исходил нетерпеливый жар юности.
— Тебе так сильно хочется покинуть Лесбос? — строго спросила Сапфо, высвобождаясь из этих почти что объятий. — Или просто не терпится поскорее пожить взрослой жизнью?
— Да… Нет, не знаю, — сразу же сам смутился своего порыва Фаон и затем проговорил простодушно: — Вообще-то мне везде жить одинаково хорошо. Как ты скажешь — так я и сделаю. Ведь вы с Филистиной лучше знаете, что мне надо. А моя Эвриклея говорила, что ты — вообще самая умная.
Кто так говорил?
— Ну, моя добрая воспитательница, — немного покраснел Фаон. — Я в шутку называл ее так же, как звали преданную кормилицу Одиссея. Вообще-то имя ее было — Алфидия, но старушке очень нравилось, когда я ее называл своей Эвриклеей.
Сапфо с удивлением, совсем новыми глазами посмотрела на Фаона: надо же, оказывается, все это время у мальчика была жизнь, о которой она не имела ни малейшего представления — со своими радостями, печалями, шутками, заботами. Только сейчас она поняла, каким горем для Фаона наверняка стала смерть доброй воспитательницы, заменившей обоих родителей, его личной «Эвриклеи».
И потом — по всей видимости, юноша неплохо знал деяния великих героев и в душе даже мнил себя Одиссеем!
— Ладно, не буду сейчас тебе мешать, может быть, в ловле рыбы тебе еще улыбнется удача, — сказала Сапфо, отворачиваясь и торопясь покинуть Фаона. — Приходи завтра ко мне; и мы обо всем обстоятельно поговорим. А я постараюсь тем временем подготовить рекомендательные письма.
— Хорошо. Как скажешь — так я и сделаю, — снова, как послушный ученик, ответил Фаон, и Сапфо подумала, что ведь он, по сути дела, совсем еще ребенок, который теперь должен уезжать неведомо куда, на материк, к чужим людям.
Ребенок, который уже пережил много настоящего горя.
Но теперь должен отправляться в дорогу, чтобы стать настоящим мужчиной, и это не подлежит дальнейшему обсуждению.
— По утрам я обычно читаю в садовой беседке, — на прощание сказала Сапфо. — Там нам никто не помешает обсудить все подробности отъезда.
— Да-да, я приду, приду, — торопливо кивнул Фаон, и несколько брызг от его волос упали Сапфо на грудь.
Сапфо могла поклясться чем угодно, что эти капли почему-то показались ей кипящими, и она даже вздрогнула от совершенно необычного, странного ощущения.
Всемогущие боги, наверное, она просто сегодня слишком сильно переутомилась!
И действительно, отойдя от ручья и снова скрываясь от взгляда Фаона в кустах орешника, Сапфо почувствовала, что ее совершенно покинули силы.
Пройдя немного по тропинке, заросшей по краям дикой спаржей, женщина снова спустилась к воде, слегка ополоснула себе лицо и плечи и присела на траву.
Но странное, беспокойное настроение почему-то все равно не проходило, а, наоборот, как будто бы только все больше усиливалось.
Сапфо подумала: может быть, она слишком строго сейчас разговаривала с этим мальчиком, который и так был сиротой и вырос без отца и без матери?
Вела себя, как старая, строгая учительница, даже спрягала за спину руки.
А ведь, наверное, старая Эвриклея нередко баловала, ласкала и целовала своего любимчика — и, скорее всего, это было на редкость приятно делать.
Или наоборот — вела себя сейчас чересчур вольно?
Смеялась, как будто Фаон был ее любимой подружкой! Но ведь он почти еще ребенок и многое может истолковать совсем неправильно.
Конечно, гораздо разумнее было бы сразу же, прямо сейчас, обо всем переговорить с Фаоном и потом просто передать ему с кем-нибудь рекомендательные письма.
Зачем тратить на подобные, текущие дела столько драгоценного времени? Почему она внезапно для себя самой перенесла разговор с Фаоном о неминуемом отъезде на завтрашний день?
Сапфо посмотрела в воду, почти гладкую в этом месте ручья, и все же нашла силы признаться себе в главной и единственной причине, по которой не захотела сейчас продолжать разговор с юношей.
После длительной ходьбы Сапфо ощущала себя чересчур усталой, растрепанной и неумытой, и она почему-то вдруг сразу же отчетливо вспомнила про это, когда Фаон внезапно подбежал к ней и чересчур близко заглянул в лицо.
Сапфо подумала: какие же сущие пустяки вдруг стали ее волновать! Что с ней происходит?
Или вовсе не пустяки?
Просто ей зачем-то захотелось соответствовать фантазиям этого милого мальчика и показаться в его глазах настоящей богиней.
Уже ночью, перед сном, Сапфо все же не выдержала и решила навестить Сандру.
Может быть, удастся уговорить подругу хотя бы немного поесть?
Сапфо взяла киаф (небольшую вазу с одной длинной ручкой), до краев наполненный медом, завернула в салфетку немного свежеиспеченного хлеба.
Все знают, что если мед в нужных пропорциях смешать с водой и добавить в этот напиток чуть-чуть вина, то получается прекрасное успокоительное, снотворное средство.
А в такие периоды, которые сама Сандра называла «обрывами» и куда она всегда «падала» неожиданно даже для себя самой, не говоря об окружающих, бедняжку больше всего мучили постоянные бессонницы.
Вот и сейчас, зайдя в комнату Сандры, Сапфо сразу поняла, что ее подруга снова не спит.
Несмотря на то что светильники были потушены, в комнате казалось не слишком темно из-за яркого лунного света, легко проникавшего в помещение через распахнутые настежь окна.
Да, Сандра сейчас действительно не спала, а сидела, обхватив руками колени, на своем ложе и неотрывно смотрела на звездное небо.
Если бы в подобной позе Сапфо застала Дидамию, то ее бы это нисколько не обеспокоило: это бы просто значило, что Дидамия узнала от кого-нибудь о новых астрономических открытиях афинских или вавилонских ученых и теперь самолично старается, напрягая свой деятельный, пытливый ум, отыскать на ночном небе новое созвездие или планету.
Но во взгляде Сандры, повернувшей к окну свое узкое лицо с черными, гладко зачесанными назад волосами, было что-то звериное, волчье — в нем прочитывалась такая неизбывная, жуткая тоска, что Сапфо невольно внутренне содрогнулась.
Боги, каких призраков или смутные картины сейчас видит ее любимая подруга, глядя на лунный диск? Что-нибудь из прошлого, или из скорого будущего?
И вообще — нужно ли человеку так много знать из того, что, может быть, нарочно, для его же спокойствия, до поры до времени скрыто от понимания?
— Ты не проголодалась? — тихо спросила Сапфо, и Сандра вздрогнула, но тут же очнулась от своего оцепенения.
— Нет, — качнула она своей точеной, гордо посаженной головой, и Сапфо с облегчением узнала в своей подруге прежние, любимые черты — теперь она была снова близко, совсем рядом и даже улыбалась в темноте. — Я знала, что ты придешь. Спасибо, о, спасибо тебе, моя Псаффа… Я тебя ждала и мысленно сейчас звала, Псаффа…
Сандра с самого начала знакомства придумала для Сапфо свое собственное имя — Псаффа — нежное, как сонное дыхание на губах, и всегда называла подругу только так.
— А я почувствовала, что ты все равно не спишь, — сказала Сапфо. — Тебе следует выпить медового напитка и постараться отдохнуть, а то тебя снова до утра будут мучить ужасные кошмары…
— Да, наверное, конечно, — как-то неопределенно ответила Сандра, поближе пододвигаясь и обнимая Сапфо.
Через раскрытое окно из сада доносился запах какой-то ароматной травы, который особенно сильно почему-то становился ощутим после полуночи, а днем словно бы исчезал среди благоухания других многочисленных трав и цветов.
Сапфо все время хотела и всякий раз забывала узнать: как по-научному называлась эта таинственная трава — в народе ее назвали «дурманкой»?
Она чем-то напоминала ей загадочных женщин, которые днем ничем будто бы не выдавали своей хорошо скрываемой страстности, но зато ночью…
А если быть еще точнее, то горьковатый, травяной запах, порой доносившийся даже от очага, неизменно напоминал Сапфо о Сандре.
Ведь Сандра вовсе не была какой-то особенной красавицей и не слишком уж выделялась внешне среди подруг, но зато ночью, как никто другой, становилась вызывающе прекрасной и смелой.
И об этом по-настоящему знал только один человек в мире — Сапфо, потому что Сандра сама словно бы никого больше вокруг себя и не видела.
Сандра смотрела на остальных женщин каким-то сонным и чуть ли не слегка подслеповатым взглядом, как будто у нее в глазах исчезали зрачки, и те отвечали взаимностью — они настолько почитали дар Сандры — прорицательницы, а также лекаря, что побаивались лишний раз, без особой надобности, заговаривать со своей необыкновенной подругой.
Сапфо старалась, насколько возможно, переводить отчуждение многих женщин от Сандры в шутку: мол, кто же по собственной воле хочет лишний раз встречаться с врачом, вспоминать обо всех своих перенесенных или знать о будущих болезнях?
Но зато и сама Сапфо, даже если находилась в полном одиночестве, временами ощущала направленный на себя непонятно откуда влюбленный взгляд темных глаз Сандры.
Взгляд, который совсем молоденькие девушки находили «мрачным», «тяжелым, как камень», или «каким-то медузогоргонным».
— Тебе снова грустно? — просто спросила Сапфо.
— Ты же знаешь — мне всегда грустно, — отозвалась в темноте Сандра; от ее волос тоже как будто сейчас исходил запах той же таинственной, горьковато-дурманящей травы. — Мне всегда грустно, что я не могу и никогда не смогу стать тобой, моя Псаффа. Да, порой мне хочется целиком, без остатка, залезть в твою душу и вообще оказаться внутри твоего тела, и я даже пытаюсь сделать это. Но всякий раз потом у меня остается такое чувство, что я — просто песчинка на дне твоего океана и способна занять в тебе лишь совсем маленькую, невидимую частицу… И поэтому приходится начинать бесплодные попытки все снова и снова…
— Нет, Сандра, не песчинка — я ведь много раз говорила, что очень тебя люблю, — сказала Сапфо.
— Но это не то, все равно — не то! — горячо прошептала Сандра и до боли сжала обнаженное плечо подруги. — Неужели ты меня не понимаешь? Иногда мне хочется, чтобы во мне не только текли твои мысли, но и вся твоя кровь, лимфа, слезы… И чтобы у меня были такие же волнистые волосы, в которых только я одна замечаю появление серебряных нитей, и даже пусть лучше мне достанется та морщинка с твоего лица, которая пробегает между бровями, когда ты бываешь чем-нибудь недовольна…
— Но боги для чего-то сделали нас разными, — задумчиво ответила Сапфо. — Значит, так и надо. Мы должны слушаться воли богов.
— Я понимаю, ты всегда нарочно так рассудительно отвечаешь, — прошептала Сандра. — Но мне все равно, что ты говоришь, потому что я одна знаю, что ты на самом деле чувствуешь, Псаффа. О, так, как умеешь чувствовать ты, больше не дано никому из смертных! И даже мне, даже мне самой…
За окном громко стрекотали цикады, и этот звук то и дело врывался в тихий разговор двух женщин.
Да, все же эти летние певцы не зря считались существами, которые находятся под покровительством Аполлона и муз.
Лично Сапфо была убеждена, что цикады не просто стрекочут, но тоже постоянно сочиняют и произносят стихи, правда, на своем, непонятном для людей языке.
Причем эти цикады — настоящие, истинные поэты, их совершенно не заботят ни количество слушателей, ни слава, ни почести.
Они поют просто потому, что не могут не петь.
Но, может быть, это вовсе не песня, а вопль отчаяния по уходящему времени?
Существует легенда, что однажды Эос — богиня розовой зари, которую зовут еще «розоперстой», влюбилась в красивого мужчину по имени Тифон. Она его похитила, сделала своим супругом и даже выпросила для своего любимого у Зевса бессмертие. Но забыла о малом — попросить для Тифона вечной юности. Эос и глазом моргнуть не успела, как Тифон сделался дряхлым, сморщившимся стариком, обреченным к тому же на вечную безотрадную старость. Поэтому Эос не могла придумать ничего лучшего, чем превратить Тифона в цикаду и выпустить его на одну из лужаек, где он в молодости предавался с богиней веселой, любовной возне.
Сапфо задумалась: сколько же тысяч поколений беспечно стрекочущих цикад, должно быть, сменилось с тех пор?
Странно представить, что среди них есть одно вечное, бессмертное существо, которое властно задает всем вновь нарождающимся песням одну и ту же надрывную тему: о медовых радостях любви и краткосрочности человеческой жизни, о неумолимости времени, с которым порой бессильны справиться даже всемогущие боги…
Кстати, однажды Сандра сказала странную фразу — она и теперь никак не выходила у Сапфо из головы, — подруга вдруг принялась уверять, что имя поэтессы с Лесбоса останется в памяти людей и через сто, и через тысячу, и даже через многие тысячи лет…
Конечно, она нарочно так говорила, чтобы лишний раз польстить и доказать свою огромную любовь к Сапфо — любовь, которую порой не так-то легко было выносить и не каждый бы, признаться, добровольно взялся нести на своем сердце такой груз.
Что же касается посмертной славы, то Сапфо больше разделяла горькое, простодушное признание поэта Архилоха, правдиво сказавшего в одной своей песне, что «благодарность мы, живые, питаем лишь к живым»[6]…
Но Сандра тогда делилась своей очередной фантазией так убежденно, так неистово!
Как будто бы придет время, когда имена всех подруг и даже многих ныне цветущих греческих городов и великих мужей полностью сотрутся из человеческой памяти, а имя Сапфо и многие строчки ее стихов сохранятся, их переведут на самые разные языки, и они даже будут по-прежнему волновать сердца влюбленных.
Впрочем, Сапфо сразу же запретила Сандре снова когда-нибудь говорить на эту тему, потому что в тот раз, блестя глазами, подруга и так уж зашла слишком далеко.
Сандра вдруг сказала, что наступит время, когда даже имена великих греческих богов люди будут помнить нетвердо, и чуть ли не станут путаться в их именах и деяниях, но зато, услышав имя «Сапфо», всякий скажет, что речь идет о поэтессе и причем конкретно — о великой поэтессе с острова Лесбос.
Нет, это как-то слишком неправдоподобно — вот до какого исступления могут довести человека вечные душевные «обрывы», в какие зашвырнуть темные бездны!
Еще Сандра тогда сказала:
«Как бы я хотела навеки остаться рядом с тобой, моя Псаффа, в этих легендах, но я знаю точно, что этого не произойдет. Имя мое тоже навсегда исчезнет, а тебя будут окружать какие-то совсем другие созвучия, имена, клички, которые иногда доносятся до меня невнятно, словно гул далекой грозы, еще не обрушившейся на землю. Знаю, это глупо, но я все равно ничего не могу с собой поделать — я жестоко ревную тебя даже к этим чужим именам, к никогда не увиденным лицам, даже просто к пустым звукам…»
Это была чистая правда — Сандра ревновала и сердилась, даже если кто-нибудь из женщин тоже в шутку называл ее подругу «Псаффой», усматривая в этом скрытое посягательство на свою единственную и главную драгоценность.
И, приговаривая, что особенно сильно она все же ревнует Сапфо к некоторым чересчур хорошо знакомым женщинам, а также и к мужчинам, и ко всем, всем без исключения, Сандра под конец своего признания внезапно горько и безутешно заплакала.
Нет, все же опасно себя доводить до такого состояния! Наверное, каждый такой «обрыв» способен унести у человека несколько лет и без того чересчур быстротечной жизни.
Сапфо протянула подруге киаф с медом, и та приняла его, но зачем-то высоко подняла сосуд над головой.
Было непонятно, зачем она это делает, и Сапфо догадалась лишь тогда, когда ей на обнаженные плечи, вроде как бы случайно, пролилась струйка меда.
— О, извини, — пробормотала Сандра. — Сейчас я это исправлю…
И, быстро поставив сосуд на пол, Сандра провела своим горячим, упругим языком по плечу, а потом и по груди Сапфо, стараясь добраться до соска, спрятанного под тканью хитона.
— Нет, не сейчас, — слегка отстранилась от подруги Сапфо.
— А помнишь, как хорошо ты написала: «Опять меня мучит Эрот, расслабляющий члены, — сладко-горькое и непреоборимое чудовище»[7], — жарко проговорила Сандра, продолжая по-звериному облизывать Сапфо плечо и стараясь незаметно положить подругу на ложе. — Только ты одна в этом мире способна меня понять. О, ты знаешь, каким непреоборимым может быть чувство, настоящее чудовище…
Сапфо почувствовала, как по ее телу пробежал знакомый, сладкий озноб — да, Сандра как никто умела доставить поистине неземное наслаждение и знала тысячи самых неожиданных способов, как совершенно незаметно в любой момент разжечь страстное желание.
Но только не сегодня. Нет, только не этой ночью.
Сандра снова властно положила свою руку, а потом и лицо на грудь Сапфо, но тут же отдернулась, как будто в нее плеснули кипятком.
— Что? Что такое? Что у тебя с сердцем, Псаффа?
— Ничего.
— Нет, я же чувствую — с ним происходит что-то необычное! Такого никогда раньше не было! Оно так стучит, как будто вот-вот вылетит из груди. Твое сердце сегодня — как настоящий ястреб, который к тому же собрался меня заклевать…
Сапфо неожиданно вспомнила слова Филистины: сейчас, когда в широких от удивления глазах Сандры отражалась луна, было похоже, что у нее в зрачках действительно загорелись два неистовых, желтых факела, и от их пронзительного свечения сразу же становилось как-то особенно не по себе.
— Боги, опять начинаются твои фантазии…
— Нет, расскажи мне все, теперь я должна узнать все по порядку: как ты провела без меня сегодняшний день, с самой первой минуты, о чем и с кем разговаривала, кого встречала или хотя бы только вспоминала или видела во сне — я хочу услышать абсолютно все, и тогда я, может быть, пойму, что с тобой происходит, — нахмурилась Сандра. — Только не пропускай ничего, это может быть очень, очень важно…
Но Сапфо в ответ лишь упрямо качнула головой.
— Но я прошу тебя, давай сделаем так: ты не будешь обращать внимания, что я смотрю на тебя, и начнешь говорить, обращаясь к тому собеседнику, о котором я пока совсем ничего не знаю, — с необычной горячностью продолжала Сандра. — Нет, ты можешь вслух беседовать сразу же со многими, и даже по очереди подражать их манере разговора, а я буду словно хор из многих, далеких голосов, который будет тебе подсказывать, как дальше тебе нужно себя вести, и тогда в какой-то момент я сумею понять и предупредить, с кем из них тебе, моя Псаффа, лучше никогда в жизни больше не встречаться…
— Нет уж, я раньше никогда не слышала подобных песен… — пробормотала Сапфо, немало озадаченная странным предложением подруги.
— Это не важно! Когда-нибудь наступит время, когда люди поймут, что такие песни очень даже помогают разобраться в самом себе и со стороны увидеть то, что происходит в человеческой судьбе. Я знаю, знаю — тогда тысячи, многие тысячи людей будут нарочно собираться вместе и рассаживаться вокруг двух или трех человек, стараясь как следует расслышать, о чем они будут говорить между собой, — продолжала вдохновенно сочинять Сандра.
— Так много женщин — и вместе? — невольно поразилась Сапфо, которая при всем воображении не могла представить многоглазой толпы из женщин, потому что привыкла жить в окружении избранных и только самых дорогих лиц.
— Но… почему-то мне привиделось, что зрителями будут одни только мужчины. Женщины ведь и так гораздо лучше знают свое сердце, — несколько смутилась Сандра. — А мужчины будут не жалеть отдавать за возможность разобраться в себе даже деньги.
— О, нет, только не это! Неужели ты хочешь, чтобы за нами подглядывали тысячи жадных мужских глаз? — содрогнулась Сапфо. — Я думаю, великие боги не допустят такого позора.
— Но ведь сейчас мы с тобой совсем одни, Псаффа…
Нет, определенно бывали моменты, когда Сандра становилась просто несносной — она была готова с головой, поистине с мужским нетерпением залезть в чужую душу, и это всегда не слишком-то приятно.
И какие все же забавные глупости Сандра снова навыдумывала нынешней ночью!
Разве можно птицу заставить петь, поставив клетку посередине переполненного зала?
Или насильно принудить поэта выкладывать все, что у него скопилось на сердце, до тех пор, пока его рука сама не потянулась к лире?
— Нет, Сандра, такие странные песни — точно не для меня. Я слишком хочу спать, — сказала Сапфо, вставая с ложа, которому сегодня не суждено было сделаться разгоряченным. — Мы обо всем поговорим с тобой после.
— Как? Неужели ты так и уйдешь? — воскликнула Сандра, хватая подругу за руки. — Но, Псаффа, нет! Ложись, я убаюкаю тебя сейчас на своих коленях, и ты увидишь самые приятные сны, какие только может людям надуть в ушко вездесущий Гипнос…
Но почему-то в который раз, даже после этих простых, заботливых слов подруги, Сапфо снова сделалось не по себе.
Ведь бог сна — крылатый юноша Гипнос, чтобы ему не было слишком скучно, часто любит летать вместе со своим братишкой-близнецом Танатосом — богом смерти.
— Я слишком сегодня устала, — проговорила Сапфо, отворачиваясь, чтобы не видеть несчастного выражения лица Сандры, и быстро выходя из комнаты, наполненной лунным светом и тревожными, совершенно непонятными песнопениями цикад.
Уж месяц зашел. Плеяды Зашли… И настала полночь. И час миновал урочный… Одной мне уснуть на ложе![8] —вспомнила Сапфо строчку из своего давнего стихотворения. Бедный, вечный старичок Тифон, стрекочущий и прыгающий где-то среди полуночной травы на четырех тонких лапках, — ну почему ты именно сегодня надрываешься изо всех сил?
Глава вторая АЛКЕЙ И ЭПИФОКЛ
Утром Сапфо немного дольше обычного занималась своей прической.
Ей неожиданно захотелось сотворить на голове что-нибудь такое, чтобы ее от природы красивые, темные, густые волосы сразу же привлекли к себе внимание любого, с кем ей сегодня доведется встречаться.
Сапфо придумала собрать их на затылке в пучок, но оставить два черных, блестящих локона, которые спускались бы из-за ушей у лица, подчеркивая белизну щек и шеи.
Локоны были хорошо завиты, но даже завитые доходили почти что до пояса и напоминали необычное, дорогое украшение.
Сапфо еще раз посмотрела на себя в зеркало — она знала, что красива от природы, но относилась к своей внешности совершенно спокойно.
К тому же про якобы «неземную красоту» поэтессы не уставали повторять подруги, и ей можно было вовсе об этом не думать.
Да, боги подарили Сапфо при рождении многое, о чем только может мечтать всякая женщина: стройную фигуру, нежную белизну кожи, которую летом не портил загар, выразительные карие глаза.
Но если можно было бы каждую черту лица Сапфо рассмотреть отдельно и совершенно спокойным, бесстрастным взглядом, то в них не нашлось бы ничего слишком уж необычного и удивительного: да, небольшой, правильной формы нос, карие глаза, четко очерченные губы, высокая шея…
Пожалуй, изнеженная, трепетная красота той же златокудрой, голубоглазой Филистины, казалось, гораздо сильнее была способна поразить чье-либо воображение.
Но все же всякий, кто был знаком с Сапфо и беседовал с ней хотя бы один раз, потом непременно утверждал, что никогда до этого не встречал женщину более привлекательной и прекрасной наружности.
А некоторые, и особенно — Сандра, даже говорили, что красота Сапфо вовсе не обычного свойства, а отмечена знаками всевышних богов.
Как бы то ни было, но почему-то внешность Сапфо запоминалась надолго буквально с первого взгляда, она казалась сильной и притягательной, как магнит.
Мало того, у людей, соприкоснувшихся с Сапфо, нередко складывалось устойчивое впечатление, что именно эта молчаливая, и меру веселая, но безмерно загадочная женщина знает секрет абсолютного счастья и покоя, который при настойчивом желании может постичь любой.
А точнее, тот кто будет иметь счастливую возможность постоянно находиться рядом с Сапфо: слушать ее смех, видеть, как она танцует, вышивает, поет, или даже просто ест и спит.
Не говоря уже об избранных, кого Сапфо одаривала своей любовью.
Наверное, именно поэтому в школе Сапфо постоянно появлялись новые ученицы самых разных возрастов, уверенные, что, чем дольше им посчастливится побыть рядом с этой неподражаемой, талантливой и абсолютно счастливой, с их точки зрения, женщиной, тем больше и у них самих появится шансов когда-нибудь тоже достичь совершенства и настоящей женской мудрости.
Однако подобное ощущение полной внутренней гармонии было совершенно обманчивым: в душе у Сапфо, как и у любого другого человека, постоянно кипели самые разные страсти — она умела раздражаться, печалиться, возмущаться — но с годами научилась это хорошо скрывать от окружающих.
Точнее, наоборот: Сапфо научилась все свои эмоции честно, без остатка выплескивать в стихотворения и песни, которые потому-то и получались буквально заряженными искрометными, живыми чувствами и поражали слушателей — как мужчин, так и женщин — тем, что совпадали с их самыми, казалось бы, затаенными мыслями и переживаниями.
Но сама Сапфо, как женщина и человек, при этом словно оставалась немного в тени и со своей знаменитой, тихой улыбкой наблюдала за тем восхищением, которое вызывало у окружающих ее неукротимое творчество.
Впрочем, некоторые мужчины были абсолютно уверены, что Сапфо черпает свою мудрость и глубокомысленные суждения (ими не так уж часто отличались женщины и даже самые образованные гетеры) из какого-то особого, тайного учения философской школы, доступного пока только посвященным.
И вся загадка лишь в том, что никто про эту самую школу и, главное, таинственного наставника Сапфо — разумеется, мужского пола! — просто ничего не знает.
Поэтому при встречах с Сапфо многие мужчины старались поскорее завести разговор о разбросанных по материку и греческим островам всевозможных ученых студиях, знаменитых мудрецах древности, начинали цитировать расхожие афоризмы, рассуждать об истине, о свойствах материи, категориях счастья и обо всем, что могло бы заставить поэтессу проговориться о своем секрете.
Сапфо с удовольствием включалась в такие ученые беседы, но у всякого, кто пытался выведать и понять ее философские воззрения, неизменно оставалось чувство, что эта непостижимая женщина все равно скрывает от окружающих какую-то главную тайну, хотя, казалось бы, и говорит совершенно открыто обо всех своих взглядах, симпатиях и антипатиях.
Наверное, у Сапфо действительно была такая тайна — ее творчество, — которую невозможно было до конца ни объяснить словами, ни тем более изложить по пунктам на восковой табличке.
Она ведь и сама до конца пока не знала, что это такое: мучительный, счастливый недуг, награда или кара?
Как назвать посланный ей великими богами поэтический дар?
Сапфо еще раз поправила необычную прическу, придала форму локонам и под конец украсила тяжелый пук волос на затылке небольшим букетом свежих фиалок.
Нынешним летом, причем совершенно для себя незаметно, Сапфо ввела в школе для девушек настоящую моду на украшения в виде живых цветов.
Почему-то теперь уже мало кто из постоянных слушательниц школы Сапфо стремились украшать себя золотыми заколками для волос, подвесками из драгоценных камней, бронзы или слоновой кости, как это было принято у столичных красавиц: в загородном доме, где на самые жаркие летние месяцы располагалась «женская колония Сапфо», с недавнего времени все почему-то взялись наперебой украшать свою одежду и волосы живыми цветами.
А Филистина однажды и вовсе сотворила такую заколку для своих волос цвета спелой пшеницы из простого дубового листа и нескольких желудей, что от ее прелестной головки невозможно было оторвать восхищенных взглядов.
Одна только Дидамия не поддавалась, как она говорила, на «цветочные глупости» — эта женщина любила во всем определенность, твердость и потому по-прежнему предпочитала надевать на себя только те украшения, которые имели несомненную материальную ценность — в основном из благородных металлов.
Кое-кто даже усматривал в своеобразной моде, появившейся в школе Сапфо, особый тонкий намек на демократические веяния и политические события, происходившие как на Лесбосе, так и на других островах, а также на материке, особенно — в Афинах.
Везде шла борьба с тиранией, устанавливались новые законы, все привычные основы в который раз переворачивались вверх дном.
Мол, и в школу Сапфо долетел наконец-то легкий ветерок перемен — только он пока что коснулся не умов, а исключительно волос и разноцветных одежд легкомысленных красавиц.
Сапфо, как всегда, с подобными глупостями не спорила, а только смеялась. Да и то, разумеется, про себя.
Не будет же она каждому рассказывать, что демократические настроения и пылкое отрицание чрезмерной роскоши, которую декларировали некоторые заезжие гости, в данном конкретном случае совершенно ни при чем?
Нет, роскошные наряды, драгоценности, искусные украшения всегда были и будут на редкость приятны для любой женщины, какая бы форма власти ни устанавливалась в стране!
Просто каждый цветок и даже дерево каким-то тайным образом соответствуют тому или иному настроению, которое женщина, с присущей ей внутренней чуткостью, иногда ощущает в себе уже с самого раннего утра: поэтому в один из дней ей нужна победная, алая роза, а порой рука словно сама тянется к тихой маргаритке или к чувственной лилии.
Но вот сегодня почему-то Сапфо выбрала именно фиалку.
Правда, комнатную — наступала осень, и многие любимые цветы уже нельзя было найти в саду.
Сапфо брызнула на волосы из маленького расписного флакона несколько капель ароматной фиалковой воды, желая немного усилить цветочный запах своего букета, когда в дверь заглянула служанка.
— К нам снова приехал Алкей, моя божественная, — сказала она, с интересом разглядывая новый облик Сапфо. — И с ним в повозке сидит еще один незнакомец с грязной, седой бородой и палкой. Правда, старикашка все еще спит — ведь он чуть живой! А раз держит в руках палку — то наверняка к тому же еще и хромой. И зачем только люди на старости лет зря трясут по дорогам свои ветхие кости?
Самая старая в доме, любимая служанка Сапфо — Диодора любила временами от души поворчать и пользовалась тем, что Сапфо ей это позволяла.
— Скажи Алкею — он может ко мне зайти, — сказала Сапфо, бросая прощальный взгляд в зеркало из светлого металла и убирая его до завтрашнего утра.
Некоторые женщины, например та же Филистина, имели привычку по нескольку раз в день, в зависимости от настроения, менять прическу и переодеваться.
Но Сапфо отдавала дань своей внешности только по утрам, а потом могла и вовсе забывать о том, как и почему она именно так сегодня выглядит — за день происходило столько интересного и нового!
— О, Сапфо! — молитвенно сложил руки на груди появившийся вскоре в дверях Алкей. — О, Сапфо, неужели я снова, благодаря Аполлону и всем небесным богам, вижу тебя сейчас перед собой? Я сегодня могу окончательно ослепнуть от твоей красоты! И тогда, возможно, наконец-то прославлюсь так же, как великий Гомер!
Поэт Алкей имел давнюю привычку несколько преувеличенно, наигранно выражать свои чувства и настроения, так что постоянно казалось, что в душе он сам же немного подсмеивался над собственными словами.
Поэтому всякий раз, даже когда Алкей говорил совершенно серьезно, до конца верить ему все равно было достаточно сложно.
— О, Сапфо! У меня нет слов, чтобы выразить чувства, охватывающие меня всякий раз, когда я вижу тебя!
— А ты найди — ведь ты же поэт, — привычно поддразнила его Сапфо.
— Нежная, как фиалка, Сапфо, — улыбнулся Алкей. — Если я расскажу тебе обо всех мыслях и желаниях, которые рождаются во мне и, наверное, во многих других мужчинах при виде тебя, ты могла бы немного… Как бы это сказать получше: немного завять от такого сильного, жаркого порыва. Поэтому я лучше пока скромно опущу глаза.
— Если бы ты хотел сказать что-то красивое и хорошее, то стыд не заставил бы тебя опустить глаза, — ответила Сапфо. — Но лучше скажи: какими ветрами тебя так рано занесло в наши края? Ведь ты, кажется, собирался в следующий раз посетить нас на свой день рождения.
— Одно другому не мешает. Душой я всегда живу здесь, — заявил Алкей, прямо глядя Сапфо в глаза и продолжая сохранять на своем лице легкое подобие улыбки. — Душой я живу возле тебя, Сапфо, что бы ты по этому поводу ни говорила. Но также я не оставляю надежды, что когда-нибудь смогу жить рядом с тобой и телом, если на это будет воля Аполлона.
— Ты настолько уверен, что являешься его любимчиком? — спросила Сапфо.
— Уверен! Аполлон охраняет меня, и я нередко слышу, как у меня за спиной внезапно раздаются звуки его божественной лиры. О, если бы и у меня был такой же инструмент, я бы мог с ним даже посостязаться…
Сапфо невольно про себя удивилась — насколько же у всех поэтов похожи самые сокровенные, честолюбивые помыслы!
Почему-то им вовсе не достаточно состязаться друг с другом и даже получать в награду похвалы и победные венки, а хочется сделаться искуснее богов и при этом заставить олимпийцев признаться в поражении.
Сапфо, как в зеркале, увидела сейчас в Алкее свою собственную гордость и — устыдилась.
— Наверное, ты помнишь, что Марсий — а он был даже не человеком, как ты и я, а фригийским сатиром, уже когда-то вызывал Аполлона на состязание. Надеюсь, ты помнишь также и то, что Аполлон не стал потом с побежденным церемониться, а содрал с заносчивого флейтиста кожу, — спокойно сказала Сапфо, мысленно обращаясь прежде всего к себе самой.
Вообще-то, она всегда считала, что эту легенду не стоит воспринимать буквально, потому что при всем желании не могла представить, как красавец Аполлон — покровитель искусств! — с веселой улыбкой сдирает с человека, словно с барана, кожу…
Возможно, имелось в виду, что Аполлон просто снял с Марсия защитный внешний покров и одарил такой сверхчувствительностью, от которой можно сразу же умереть.
Но, с другой стороны, Аполлон — это бог в мужском обличии и, значит, временами может быть неизмеримо жестоким.
— Не сердись на меня за излишнюю нескромность, — сразу же поправился Алкей. — Ведь сегодня как-никак я приехал к тебе с подарком. Я привез сюда прославленного философа Эпифокла, с которым считают за великую честь познакомиться лучшие ученые мужи земли. Надеюсь, ты слышала про такого?
— О, конечно! — обрадованно воскликнула Сапфо. — Но я не думала, что он сейчас на Лесбосе.
— В наших краях Эпифокл, разумеется, проездом, — пояснил Алкей, наслаждаясь реакцией, которую произвела его новость. — Вообще-то я вызвался сопровождать его к гавани — он собрался отплыть на остров Фасос, но, пользуясь тем, что вчера наш ученый друг выпил немного лишнего вина и потерялся даже в пределах своего тела, я решил по дороге завезти его к тебе. Сейчас мы накормим Эпифокла хорошим завтраком, мудрец придет в доброе расположение духа и наверняка не откажется прямо за пиршественным столом провести открытый урок диалектики. Можно сказать, что я похитил знаменитость ради тебя, моя Сапфо!
— Ты просто молодец, — улыбнулась Сапфо. — Настоящий рыбак — заманил в свои сети такую мощную рыбину, как сам Эпифокл! Я много о нем наслышана, но никогда не видела воочию…
Но, проговорив слова про рыбалку, Сапфо внезапно запнулась на полуслове.
Она сразу же вспомнила про другого рыбака — Фаона, сына маленькой Тимады, с которым как раз на сегодняшнее утро была назначена встреча — а ведь Сапфо к ней мысленно готовилась с первой же минуты после пробуждения.
Что поделаешь — разговор с мальчиком придется перенести на другое время.
И потом, если разобраться — куда Фаону слишком уж торопиться? Ведь они не успели даже как следует познакомиться!
— Да на что там особо смотреть? — проговорил Алкей, самодовольно поглаживая свою хорошо ухоженную, блестящую бородку. — Я советую тебе, Сапфо, вообще стараться не поднимать на Эпифокла своих волшебных глазок, чтобы всякий раз не пугаться. Нашего Эпифокла надо слушать, слушать и снова слушать. Я с друзьями провел в его обществе больше недели, и мое любопытство не только не насытилось, но сделалось еще больше. Главное, не стоит обращать внимания, что от старика несет козлом и это может несколько забить даже нежный аромат фиалок. Эпифокл много рассуждает про воду, но почему-то мне никакими силами не удалось затащить его в баню.
Сам Алкей очень тщательно следил за своим внешним видом и придавал этому огромное значение.
Даже дорожный плащ, который поэт носил из подражания путешественникам (хотя никогда по доброй воле не выезжал из Митилены и не покидал без нужды свой роскошный дом) и философам (хотя официально не принадлежал ни к одной школе), — так вот, даже светлая хламида Алкея всегда выглядела безукоризненно чистой, намекая, что ее владелец — потомственный аристократ из очень знатного, древнего рода.
Не говоря уж о таких мелочах, как позолоченные пряжки на поясе и перстни на белых, тщательно ухоженных руках.
Или Алкей просто перед ней, Сапфо, всегда появлялся в своем самом лучшем виде?
Впрочем, как бы то ни было, но Сапфо неизменно испытывала к Алкею теплые чувства и считала его своим преданным другом и к тому же достойным служителем Муз.
Например, Сапфо искренно радовало, что даже после того, как она отвергла неожиданное предложение Алкея о замужестве, тот вовсе не озлобился и не начал проклинать ее на всех перекрестках, как это порой делают наиболее глупые, самолюбивые мужчины, а просто сделал вид, что ничего особенного не произошло, и продолжал терпеливо, всеми силами добиваться расположения своей избранницы.
Сам же Алкей в душе поругивал себя за то, что слишком рано и некстати высунулся с предложением руки и сердца и тем самым наказал себя же за несдержанность — он действительно не смог в тот злополучный вечер совладать с собой, как это следовало бы сделать в минуту восторга, и принялся некстати твердить Сапфо о своих чувствах и общих планах на будущее.
К тому же в тот момент он был изрядно пьян — не мудрено, что Сапфо не восприняла его слова слишком серьезно.
Но теперь все будет по-другому: Алкей не терял уверенность, что следующий их разговор с Сапфо на эту тему будет более удачным и полностью повернет в другую сторону колесо судьбы.
Просто не стоит слишком торопиться, а следует дождаться, когда по-настоящему придет нужный час, и, как искусному охотнику, суметь не пропустить своей удачи.
Алкей по-прежнему, как умел, старался незаметно помогать Сапфо в занятиях ее школы для девушек: то устраивал поэтические и музыкальные турниры, старался не пропускать больших праздников, то привозил «с доставкой на дом» друзей-поэтов и наиболее именитых гостей своего дома, или просто присылал к столу какие-нибудь изысканные угощения.
В общем, старался быть незаметным, но при этом совершенно незаменимым.
Вот и сейчас: для кого бы еще Алкей пошел на такой подвиг — встать с раннего утра, когда Эпифокл еще как следует не проснулся и только бормотал сквозь сон какие-то несвязные речи, погрузить философа на коляску, и вместо того чтобы доставить на корабль, привезти сначала в загородный дом, расположенный во многих стадиях от Митилены, который тот вовсе не собирался посещать?
Впрочем, Алкей несколько лукавил сам перед собой — первой, о ком Эпифокл спросил, как только прибыл в Митилену — столичный город Лесбоса, была как раз Сапфо, слава о которой, как заявил во всеуслышание философ, разнеслась отсюда особенно далеко.
Спросил не про него, Алкея, а именно про Сапфо!
Впрочем, затем Эпифокл увлекся другими делами и встречами и, похоже, вовсе забыл о своем горячем желании познакомиться с прославленной поэтессой.
Но Алкей-то — пусть в следующий раз ужалит в язык змея! — помнил, что неожиданно для себя зачем-то ответил Эпифоклу, что в настоящий момент Сапфо нет в городе, что она в отъезде, хотя прекрасно знал, что до загородного дома, где на самые жаркие летние месяцы каждый раз поселяются женщины, — рукой подать, всего несколько часов езды на быстрой колеснице!
Но потом Алкей все же сумел себя перебороть, решив, что гораздо разумнее не завидовать понапрасну известности Сапфо, а просто постараться как следует понять, что именно заставляет самых разных людей так единодушно преклоняться перед стихами его подруги, которые он считал, разумеется, не плохими, и даже, скорее — хорошими, но все же не настолько, как его собственные.
Нет, определенно, стихотворения Сапфо также ничем не были лучше стихов многих знакомых мужчин-поэтов, и потому всеобщий вокруг них восторг Алкею был совершенно не понятен.
И тогда Алкей пришел к выводу: так как лучше всего женские тайны узнавать в тот момент, когда женщина находится у мужчины в крепких объятиях, то и Сапфо тоже не должна быть особенным исключением.
А когда-нибудь придет время, когда все вокруг привыкнут говорить: «Алкей и Сапфо», как вспоминают теперь, как правило, вместе, к примеру, Орфея и Эвридику, или стареньких Филимона и Бавкиду.
И потому Алкей решил срочно исправляться.
Определенно, подобный жест — встать ни свет ни заря и без завтрака погрузиться в коляску! — Алкей мог сделать только для самой любимой женщины, чтобы лишний раз прочесть на ее лице благодарную улыбку и найти новый, благоприятный повод для беседы.
Сапфо вызвала служанку и распорядилась, чтобы стол сегодня накрыли для праздничного завтрака: таких знаменитых гостей, как философ Эпифокл, следовало хорошо встретить.
— Да, Диодора, вот еще что, — сказала Сапфо как бы между прочим. — Пока я буду заниматься с гостями, к моей беседке должен подойти молодой человек, Фаон.
— Какой Фаон? А, приемыш нашей бывшей молочницы Алфидии, который до сих пор мечтает пасти своих коз, хотя их по дешевке прикупил проныра-колбасник Кипсел?
— Да, он. Приведи его к нашему столу. Возможно, перед нами сегодня будет выступать сам Эпифокл.
— Зачем еще? Ведь он же простой пастух и больше никто? Кто выступать? Этот пьяный старикашка?.. — начала было словоохотливая служанка, но, встретив строгий взгляд Сапфо, замолчала на полуслове и быстро закивала. — Хорошо, моя госпожа, так я и поступлю.
— Даже если юноша будет отказываться и из скромности говорить, что уже сыт, то ты все равно должна пригласить его к столу, чтобы он хотя бы просто посидел с нами… — проговорила Сапфо, уже отвернувшись.
— Но… но… — с любопытством заглянула ей в лицо Диодора. — С каких это пор, моя госпожа…
— Мальчик, сын нашей общей покойной подруги Тимады, совсем скоро покинет наш город и даже страну и поедет учиться в Афины, — пояснила Сапфо строго. — Пусть у него останется о родных местах, и обо всех нас, самая добрая память. А наиболее теплые чувства чаще всего рождаются именно за столом и с чашей вина в руке. Разве я говорю что-то не так?
Но умное, приятное застолье, задуманное Сапфо и Алкеем, почему-то с самого начала никак не хотело как следует налаживаться.
Философ Эпифокл за завтраком был сильно не в духе — видимо, у него с утра раскалывалась голова после вчерашней чересчур бурной пирушки или беспокоили какие-то другие мысли, которые он предпочитал держать при себе.
Скупо поприветствовав Сапфо, Эпифокл всем своим видом словно молчаливо выражал сильное неудовольствие, если не протест Алкею по поводу незнакомого места, куда его насильно завезли, и новых людей, и даже пробурчал один раз вслух, что ему «и все старые как следует надоели».
Затем Эпифокл отверг все предлагаемые слугами кушания и попросил для себя только тарелку простой поленты из ячменя на воде.
И при этом пояснил, что в его возрасте давно пора есть одну только кашу, а все прочее организм сразу же начинает отвергать вместе с желчью.
«Сразу через все дырки», — с глубокомысленным видом уточнил философ, не слишком-то заботясь, как его речи скажутся на аппетите остальных.
— Что-то я этого не заметил, наверное, это просто очередная твоя теория, — засмеялся Алкей, который, напротив, несмотря ни на что находился в веселом состоянии духа и по возможности старался по ходу дела поправлять не слишком приятное впечатление, производимое его гостем. — Я отлично помню, что не далее как вчера вечером организм Эпифокла в большом количестве употреблял жареных на вертеле куропаток и запивал их столетним фалерном. И, по-моему, чувствовал себя при этом просто превосходно.
— Хм, то что вчера — не сегодня, — коротко ответил Эпифокл. — Зато сегодня — совсем не то, что вчера. Это никак между собой не связывается.
У философа была забавная привычка постоянно глубокомысленно хмыкать во время своих высказываний, даже когда он произносил самую незначительную фразу, и оттого сразу же все бросались отыскивать глубоко скрытый в ней смысл.
Вот и сейчас Алкей тут же хлопнул в ладоши в знак того, что слова, сказанные Эпифоклом, показались ему на редкость мудрыми.
За столом, помимо гостей и самой Сапфо, было еще несколько женщин, которые пожелали разделить утреннюю трапезу с заезжей знаменитостью.
Древняя поговорка гласит, что «застольников должно быть не меньше числа Харит и не больше числа Муз» — то есть не меньше троих, но не больше девяти человек.
Примерно такое количество сегодня за столом и собралось.
Дидамия от волнения почти что ничего не пила и не ела, только смотрела на философа во все глаза, которые Филистина называла «волоокими», как-то связывая внешние особенности подруги с ее поистине нечеловеческой работоспособностью и выносливостью на ниве получения новых знаний.
Вот и теперь Дидамия боялась пропустить хотя бы слово или даже простое хмыканье Эпифокла — подобные встречи с учеными мужами, которые со всего мира привозили на Лесбос живую мудрость и рассказы о новых открытиях науки, доставляли ей ни с чем не сравнимое удовольствие.
По крайней мере, гораздо большее, чем свежайший сыр — необходимый спутник вина, рыба, множество сладостей и фруктов, в щедром изобилии разложенные на столе.
Сандра по-прежнему сидела взаперти и к столу опять не вышла.
Филистина, по своему обыкновению все утро валялась в постели и разучивала новую песню, а узнав о гостях, наоборот, сразу же ушла гулять в рощу — она не скрывала, что от споров и длинных рассуждений у нее начинает неприятно гудеть голова, как будто бы в нее залетает сотня пчел.
Зато на встречу со странномудрым Эпифоклом с большой охотой пришла молоденькая, коротко подстриженная девушка по имени Глотис вместе со своей подружкой Гонгилой, с которой они везде появлялись вместе.
Странное дело — смелая и порой даже чересчур резкая в высказываниях и жестах Глотис была неразлучна с молчаливой и замкнутой в себе Гонгилой, почти все свободное время проводившей за вышивкой, примостившись где-нибудь с пяльцами в комнате Глотис.
Глотис упорно развивала в себе талант к рисованию и занималась росписью ваз, делая в этом искусстве немалые успехи и отдавая ему все свое время и силы.
Она уверяла, что даже свои волосы подстригает так коротко только потому, что они мешают ей работать и лезут в глаза, хотя у некоторых женщин были на этот счет и совсем иные соображения: они уверяли, что Глотис просто лень за ними ухаживать или что ей хочется быть похожей на амазонку.
Вот и сейчас Глотис пришла для того, чтобы подробно разглядеть лицо заезжей знаменитости и прикинуть, можно ли его перенести потом на вазу.
А посмотреть действительно было на что — в своей жизни Глотис вряд ли когда-нибудь еще встречала такого некрасивого мужчину, каким был философ Эпифокл.
Казалось, что боги скроили его буквально кое-как, наскоро, совершенно не предполагая, что несчастному человеку придется потом прожить в подобном обличии целую и притом длинную жизнь.
На красном, покрытом крупными оспинами лице Эпифокла кое-как, неровной картофелиной, был прилеплен нос и виднелись лишь маленькие, заплывшие щеками щелки для зорких, черных глаз.
Волос на голове ученого мужа было совсем мало — они лишь как бы обрамляли его большую и почему-то изрядно, вкривь и вкось, поцарапанную лысину.
Сапфо невольно улыбнулась: наверное, эти свежие царапины остались после вчерашнего буйного куража старичка, сейчас казавшегося редкостным тихоней, терпеливо выскребающим из тарелки ложкой безвкусную, но зато полезную для желудка кашку.
Впрочем, из растительности у Эпифокла имелась также косматая и как-то странно торчащая вперед борода, которая тоже почему-то росла длинными, неровными клоками — видно было, что она слишком давно не знала деревянной гребенки, пусть хотя бы и с редкими зубьями.
Под туникой Эпифокла был хорошо заметен округлый, почему-то яйцевидной формы живот, сильно перевешивающийся из-за пояса, сделанного из простой веревки.
Похоже, не так-то легко было философу повсюду носить с собой эту ношу.
По крайней мере, Эпифокл имел привычку то и дело, как бы про себя, то тяжело вздыхать, то недовольно кряхтеть, то таинственно хмыкать, время от времени поглаживая свое пузо руками, словно проводя с ним какие-то особые дипломатические переговоры.
Глядя на Эпифокла, можно было с уверенностью сказать, что он и в молодости не блистал красотой и, скорее всего, был даже еще куда большим страшилищем.
Зато боги дали этому человеку острый, пытливый ум и душу настоящего исследователя, что постоянно кидало его из одной крайности в другую.
Сапфо слышала, что когда-то, еще в юности, Эпифокл четыре года провел в пещере, терзая себя полным уединением и голодом, где он питался лишь одними заплесневевшими сухарями и кореньями, зато вскоре после этого очутился на Крите и примерно столько же времени жил там при богатейшем дворе среди самой изысканной роскоши.
Философ, который стремился все свои теории испробовать прежде всего на самом себе, неоднократно бывал в Египте, водил близкую дружбу с самыми знаменитыми вавилонскими жрецами и даже сам чуть ли не сделался магом, но одновременно считался одним из самых умных политиков и какое-то время назывался почетным гражданином Афин.
Сапфо от кого-то слышала историю, как совершенно неожиданно на собрании граждан в Афинах Эпифокл был подвергнут остракизму — его на десять лет изгоняли из города как человека, который начал оказывать слишком сильное влияние на умы городских жителей и потому сделался потенциально опасным для всего государства.
Впрочем, возможно, это было всего лишь очередной легендой из числа сопутствующих имени Эпифокла в великом множестве.
Про Эпифокла говорили, что он одинаково свободно общался с царями и рабами, знал разные языки, писал стихи и трактаты — особенно много у него почему-то имелось полемических поэм о текучих свойствах воды и воздуха, — имел собственные теории о происхождении солнечного и лунного света, придумал своеобразные солнечные часы, требуя, чтобы их ввели в обращение повсеместно, называя «эпифокликами», и даже научил людей, как при помощи специальных травяных отваров безболезненно вывести камни из почек, так как сам страдал этой болезнью и постепенно сумел себя излечить.
Наверное, тот, кто не был знаком с задачей, которую философ считал главным делом своей жизни, вполне мог бы посчитать его обыкновенным безумцем, мятущимся в поисках определенного занятия и не останавливающимся в своих исследованиях на чем-нибудь одном, постепенно добиваясь в избранной области исключительных успехов.
Но в том-то и дело, что Эпифокла всю жизнь интересовали вовсе не сами жизненные явления, а исключительно проблема связи между разнообразными вещами и событиями.
Именно «проблему всеобщей связанности» философ исследовал с завидным, непостижимым постоянством и нечеловеческим упорством, то и дело подвергая собственную жизнь самым разным испытаниям, словно наблюдая, как же потом свяжутся между собой такие непохожие лохмотья биографии в рамках его общей, назначенной мойрами судьбы.
Но Сапфо почему-то интересовало сейчас совсем другое.
Глядя на хмурого, тщательно жующего Эпифокла, она пыталась понять: что же ощущает человек, который, казалось бы, пережил и испытал в своей жизни абсолютно все, что только было возможно или даже вовсе невозможно простому смертному?
Проще говоря: счастлив ли Эпифокл и сумел ли хотя бы для одного себя понять, наконец-то, что это такое — счастье?
С чем, с какими мыслями подошел прославленный философ к своей обыкновенной, человеческой старости?
Но сейчас, глядя на Эпифокла, с полной определенностью можно было сказать лишь только то, что тот все же успел по дороге проголодаться, а все остальное было прочно скрыто за странной, характерной усмешкой старика.
Правда, время от времени Эпифокл все же поднимал свои зоркие, цепкие глаза от тарелки, внимательно осматривал женщин и многозначительно хмыкал, не делая никаких пояснений.
Зато Алкей, как всегда, заливался соловьем и не давал скучать никому из участников застолья.
После первой же чаши вина, откуда он щедро плеснул себе под ноги, показывая, что начальный и самый последний глоток приличные люди должны не забывать жертвовать великим богам, и едва только положив в рот несколько виноградин, Алкей тут же принялся в который раз пересказывать истории из самого героического периода своей жизни.
Того самого, когда он не согласился с тиранией Мирсила и смело вступил с ним в политическую борьбу, а также про подлого Питтака, который потом хитрым образом сумел в одиночку воспользоваться плодами победы.
Питтака Алкей исключительно величал «гнусным негодяем» и «плоскостопым дураком», но все же с оговоркой, что именно из-за него поэту пришлось отправиться в изгнание, побывать в Египте и на многих греческих островах, куда бы он ни за что не отправился по собственной воле.
Пожалуй, это стало решающим фактором, почему Алкей все же решил потом с Питтаком помириться и принял его приглашение вернуться на Лесбос, — новые впечатления незаметно вытеснили из его души воинственный пыл борьбы.
Алкей умалчивал, что, прежде чем он получил долгожданное приглашение вернуться, ему пришлось четыре раза посылать Питтаку прошения, на которые всякий раз тот отвечал: «Пока не представляется предлог тебя вернуть», и лишь с пятого захода просьба изгнанника была удовлетворена.
Но, в конце концов, эта история больше никого, кроме их двоих — правителя и подданного — не касалась!
Подобные застольные рассказы друга о политике и своем изгнании Сапфо в шутку называла про себя «первой степенью опьянения».
И действительно, как только в голову Алкея ударял первый хмель, с его языка сразу же начинали слетать речи о тиранах и о тираноборцах, и лишь следом шли воспоминания о недолгих странствиях, которые всякий раз обрастали все новыми и новыми подробностями и казались все более фантастическими и даже порой полностью вымышленными.
— Кстати, именно в Египте я имел удовольствие познакомиться с нашим общим другом, — пояснил Алкей, кивая в сторону Эпифокла. — Потому что на чужбине грек увидит земляка, как курица своего цыпленка, даже если тот с головы до ног перепачкается в навозе.
— И кто же из вас курица, а кто — такой цыпленок? — сразу же спросила Глотис, на что Эпифокл выразительно хмыкнул, а Алкей слегка замялся, видя, что поэтическое красноречие на этот раз занесло его несколько дальше, чем нужно.
Но в этот момент в комнату нерешительно вошел Фаон, которого служанка слегка подталкивала в спину к столу, так что извечный философский вопрос о курицах и яйцах можно было замять.
Слегка покраснев, Фаон поприветствовал присутствующих и неловко возлег на подушки, выбрав свободное место вблизи Дидамии и, по всей видимости, чувствуя сильное смущение в незнакомом обществе.
— Цыплят надо искать среди молодежи. Может быть, вот он — и есть тот самый унавоженный герой? — попытался пошутить Алкей, кивнув на Фаона, но шутка показалась всем настолько неуместной, что сразу же повисла в воздухе.
Какой там еще грязный цыпленок?
Нет, к вновь прибывшему молодому человеку этот образ явно не мог иметь никакого отношения.
Видно было, что Фаон старательно готовился к встрече с Сапфо, потому что сейчас юноша был одет в безукоризненно белоснежный короткий хитон, расшитый по краям красивыми узорами, и даже ремешки сандалий на его загорелых ногах были до блеска начищены бараньим жиром.
Светлые, мягкие волосы Фаона были аккуратно причесаны, умащены ароматной водой, их удерживала темная бархатная ленточка, которая на редкость удачно сочеталась с цветом лучистых, веселых глаз юноши.
Мальчишка был так вызывающе хорош собой, что им невозможно было с первой же минуты не залюбоваться!
— Не важно, мои друзья! Главное, что все на свете птицы — и орлы, и куры, и совсем желторотые воробушки — одинаково любят поклевать что-нибудь вкусненькое, — ловко вывернулся Алкей. Наверняка так же, как и наш новый, совсем еще юный гость!
— Но… нет, я совсем не голоден, — еще больше смутился Фаон. — Просто мне сказали, чтобы я сюда пришел…
— Ах, мой юный друг, скоро и ты поймешь, что за столом вовсе не обязательно только жевать и глотать пережеванную пищу, — весело воскликнул Алкей. — Можно получать наслаждение, пожирая друг друга глазами, особенно если находишься в обществе таких восхитительных женщин, какими окружила себя хитрая Сапфо. Но чтобы сразу не слишком жадничать и впопыхах такой красотой не подавиться, надо выпить хорошего вина, а то ведь от чересчур прекрасного можно ненароком и пострадать!
И Алкей протянул Фаону вместительный кратер с вином, разбавленным водой, сделав патетический вывод:
— Вино и красота — вот единственное, что делает людей по-настоящему счастливыми!
Фаон растерянно обвел глазами присутствующих, отыскал Сапфо, которая ободряюще ему улыбалась, и взял двумя руками увесистый сосуд, расписанный Глотис черным лаком.
Сапфо с интересом посмотрела на мальчика — как бы тот ни скромничал, но было заметно, что Фаон пил вино не в первый и, пожалуй, даже не в десятый раз в своей жизни.
Юноша делал это совершенно спокойно и красиво, совсем по-взрослому.
Интересно, где, когда и с кем он успел научиться искусству застольных возлияний?
Даже угрюмый Эпифокл, глядя на лучезарного мальчика, гордого тем, что его воспринимают как совсем взрослого, впервые за время завтрака невольно улыбнулся.
— Хм, когда я знал только твои стихи, но не знал, Алкей, тебя лично, я был уверен, что ты — старый пьяница, который только и делает, что хлещет фалерн целыми бочками и валяется пьяным в канавах, — проговорил Эпифокл, и окружающие, в том числе и сам Алкей, дружно рассмеялись, потому что вполне поняли, что философ имел в виду.
В самом деле, у всякого, кто хорошо был знаком с творчеством Алкея, создавалось ощущение, что для этого поэта все времена года и явления природы существовали лишь для того, чтобы имелся повод напиваться до полного бесчувствия вином.
Если шел снег и в реках застывала вода — то Алкей советовал всем, чтобы не замерзнуть, упиваться допьяна горячим вином, зарывшись с подружкой или с дружком в мягкие подушки, если вовсю светило жаркое солнце — поэт рекомендовал освежаться исключительно молодым, прохладным вином.
В дождливую осень вино следовало постоянно пить, не пропуская ни дня, чтобы прогонять подступающую к порогу тоску, а весной — для того, чтобы в каждом человеке тоже зажурчали веселые ручейки.
Если верить Алкею, утром только вино помогало мгновенно взбодриться, а зато ночью — крепко заснуть, на корабле его следовало принимать как лекарство от качки, пешеходу необходимо всегда держать во фляжке на ремне и следить за его убыванием с такой же тревогой, как за потерей сил у спутника, дома же Алкей тем более советовал постоянно держать вино возле своих губ — лизать, целовать и принимать в себя, как самое возлюбленное тело…
И так далее, и так далее — журчащим, хмельным потоком стихов.
При этом все близкие друзья Алкея прекрасно знали, что сам поэт потреблял в умеренных количествах и только самые дорогие, редкостные вина, которые ему присылали на пробу с разных греческих островов в бутылках с особым клеймом.
Алкей как-то даже специально объяснял Сапфо, что ему важна в поэзии «идея вина» гораздо больше, чем сам этот напиток на губах и на языке.
Не предавайся, друг мой, огорченью, Себе в тоске мы пользы не найдем. В одном есть лучшее спасенье — Упиться допьяна вином[9], —с готовностью прочитал Алкей свои знаменитые строчки, обращаясь к Фаону и радуясь, что с появлением этого стеснительного юноши за стол откуда-то словно само собой пришло живое, непринужденное веселье.
— Друг мой, а ведь смотреть на тебя — это даже еще приятнее, чем пить вино, — щедро прибавил Алкей, улыбаясь и без стеснения разглядывая красавчика Фаона.
Сапфо невольно почувствовала укол ревности.
Да, конечно, она понимала, что сын маленькой Тимады на редкость хорош собой и, разумеется, может и должен нравиться окружающим, но все же не до такой степени!
Признаться, она не была готова к тому, что юноша так молниеносно и откровенно будет обращать на себя всеобщее внимание.
Казалось, все женщины и мужчины, о чем бы они сейчас ни переговаривались между собой за столом, буквально не сводили с Фаона взволнованных глаз и невольно обращали все свои речи именно в его сторону.
Даже Эпифокл, отставив в сторону тарелку с недоеденной полентой, теперь занимался тем, что, хмыкая, в упор рассматривал юного гостя, который уже перестал смущаться и теперь с отменным аппетитом уплетал зажаренную на углях рыбу, заедая ее зелеными листьями салата.
Или все это Сапфо только казалось?
Признаться, на некоторое время и она сама отвлеклась от оживленной беседы, завязавшейся между Дидамией и Глотис, а все свое внимание употребила на то, чтобы, наоборот, стараться… не смотреть в сторону Фаона.
Сапфо мысленно приказала себе: как бы велико ни было искушение любоваться оживленным и свежим, как весенний день, лицом юноши, но она, хотя бы одна из всех, должна глядеть совсем в другую сторону.
Но Сапфо тут же поняла, что нужно суметь найти в себе поистине неземные силы, чтобы справиться с такой задачей.
Даже глядя на Дидамию, возле которой сейчас в вольной позе возлежал сын Тимады, она боковым зрением улавливала немного угловатые, порывистые жесты Фаона, его улыбающееся лицо, по-детски сияющие любопытством глаза.
Сапфо время от времени даже мерещилось, что и сама она на самом деле сейчас почему-то сидит с Фаоном совсем близко, почти вплотную, ближе всех остальных…
Богу равным кажется мне по счастью Человек, который так близко-близко Пред тобой сидит[10], —выплыла откуда-то из внезапной тишины, которую почувствовала в себе Сапфо, новая строчка.
Да, ближе всех, прекраснее всех…
Но почему все же так ярко вспыхивает душа, когда сквозь странную, обморочную тишину вдруг доносится восхитительный, озорной смех Фаона? И почему в комнате внезапно делается так тихо, если Дидамия все время открывает рот и, по всей видимости, о чем-то увлеченно рассказывает слушателям?
Твой звучащий нежно Слушает голос. И прелестный смех…[11]Сапфо постаралась запомнить эти строчки родившегося стиха и даже слегка потрясла головой, чтобы избавиться от наваждения, а потом, положив себе в рот несколько кислых гранатовых зерен, начала вслушиваться во всеобщую беседу.
Ну, конечно, Дидамия как раз рассказывала про то, что совсем скоро Фаон отправится в Афины, и рассуждала вслух, кого из учителей лучше всего там сразу же разыскать, — недаром у мальчишки так нетерпеливо загорелись глаза.
— О, Фаон! Зачем тебе ехать в какие-то Афины? — неожиданно перебил женщину на полуслове Алкей. — Если тебе надоело жить в здешней глуши, ты вполне можешь поселиться в Митилене, в моем просторном доме. Тебя привлекает жизнь в столице? О, пожалуйста, ты насладишься ею в полной мере! Я знаю, что говорю: только у нас можно встретить гетер, у которых в серьги вставлены такие огромные жемчужины, что бедняжкам приходится склонять до земли головы, а голые лодыжки обвиты длинными змеями из светлого металла. Но если тебе, мой послушный дружочек, непременно хочется учиться, я сам найду тебе лучших учителей на Лесбосе. Стоит ли напрасно утомлять себя долгой дорогой, а главное — изнурять чужбиной? Поверь мне: уж я-то хорошо знаю, как тускло светит самое яркое солнце над головой, если твои ноги стоят на чужой, не родной земле.
— Нет, если есть такая возможность, нужно ехать в Афины, — упрямо повторила Дидамия. — Именно там в наше время начинается путь к настоящей науке и славе.
— Но… Наверное, в Митилене тоже было бы хорошо, — растерянно улыбнулся Фаон. — Не знаю. Ведь тогда я чаще мог бы видеться с Филистиной.
— С кем? — нахмурилась Сапфо.
— С Филистинушкой. — спокойно пояснил Фаон. — Она выучила меня чтению, пению и всему, что только умела она сама. После моей доброй «Эвриклеи» Филистина — единственная живая душа, даже мысль о расставании с которой уже доставляет мне сильную боль…
Сапфо слегка покраснела, как если бы подобными словами ей сейчас незаметно дали пощечину, и снова перевела глаза на блюдо с гранатовыми зернами, сиявшими на солнце, как драгоценные рубины.
Почему-то в присутствии Фаона все вокруг, даже самые простые предметы, обретали способность странным образом преображаться и на глазах становиться волнующе красивыми.
Что? Получила?
Но какой нежности к себе Сапфо имела право просить и тем более требовать, если все это время она действительно до смешного мало обращала внимания на взрослеющего Фаона?
Да Сапфо вообще, признаться, вспоминала про существование Фаона только летом, когда занятия школы временно переносились в загородный дом на берегу моря, куда Алфидия всегда приносила на кухню очень вкусное, жирное молоко.
Впрочем, Сапфо вдруг вспомнила забавный случай, как однажды — боги, ведь такое ощущение, что это было совсем недавно! — Филистина вдруг объявила подругам, что сыну Тимады пришла пора обучаться грамоте, и привела его в гимнасий для младших девочек, переодетого в женское платье.
Маленький Фаон, с белокурыми волосами до плеч и миловидным детским личиком, внешне почти ничем не отличался от своих сверстниц — и Сапфо вдруг сейчас снова отчетливо увидела перед собой то, казалось бы, навсегда забытое, по-детски растерянное лицо Фаона, впервые попавшего в стены школы.
Подруги еще шутили над Филистиной, говоря, что она нарочно хочет сделать своего подопечного похожим на героя Ахиллеса, который тоже свое детство провел в женской колонии на острове Скирос, переодетым в женское платье, что вовсе не помешало ему потом больше других прославиться под стенами Трои.
Но зато уже на следующий день Филистина своего «второго Ахилла» в гимнасий не привела, а сказала, что лучше самолично будет учить мальчика грамоте и письму, потому что Фаон слишком застеснялся своего наряда и особенно — окружающих людей.
На протяжении всех этих лет Сапфо, разумеется, неоднократно интересовалась успехами сына Тимады, и подруга всегда с готовностью отвечала, что все в порядке, мальчик оказался смышленым и веселым, нормально растет и развивается.
Кажется, Филистина и в зимнее время частенько наведывалась в здешние края и постоянно привозила Фаону то каких-то новых учителей, то игрушки или сладости.
Но ведь у Сапфо в это время росла своя собственная дочь — Клеида, которая тоже требовала постоянного внимания, так что ее вовсе нельзя обвинить в излишней черствости.
Да к тому же Сапфо вовсе никто и не обвинял!
И все же… и все же Сапфо и понятия не имела, что Филистину и Фаона связывает столь глубокая взаимная привязанность, и сейчас это стало для нее почему-то не совсем приятным открытием.
— Вот именно — ты сможешь и учиться, и одновременно видеться со своей учительницей, — подхватил тут же Алкей. — Ну, мой дружочек, решайся!
— Такие дела не решаются так поспешно, — прервала Алкея Сапфо с непривычной для нее строгостью. — Вы знаете, что Фаона ждут в Афинах достойные во всех отношениях люди и его родной дед, и нет смысла сейчас, наспех, обсуждать тему, от которой зависит вся дальнейшая судьба человека. Сейчас не время для подобного разговора.
— Ты как всегда права, мудрая Сапфо! — нисколько не обиделся Алкей, находившийся в на редкость бодром, приподнятом состоянии духа. — Сейчас вообще не время делать дела, потому что настала пора петь песни. Где тут у нас лира? Давайте сюда флейту!
Женщины со значением переглянулись между собой.
Они прекрасно знали, что застольные песнопения Алкей почему-то всегда имел обыкновение начинать с самых воинственных сколий, прямо или косвенно направленных против политических врагов поэта — то он под конец песни вдруг желал, чтобы тиран Мирсил и на том свете захлебнулся вином, то призывал богов разом сжечь виноградники у всех без исключения представителей рода Археанкидов, с которым аристократический род Алкея вел извечную, нескончаемую борьбу за власть.
И сама Сапфо, и ее подруги политические песни Алкея любили не слишком-то сильно, находя их порой излишне жестокими и по-мужски грубоватыми.
Зато другие песни и стихи, в которых Алкей воспевал своих возлюбленных и вино без какого бы то ни было кровавого привкуса, женщины могли слушать по много раз подряд с неослабевающим удовольствием.
— Алкей, может, ты споешь ту, которая начинается со слов… — решила было подсказать поэту Дидамия какой-нибудь из наиболее любимых лирических напевов.
— Нет, я хочу, чтобы сейчас нам спел Фаон, — вдруг сказал Алкей, со смехом передавая лиру в руки юноши, — раз уж он проговорился, что его учительница обучила также и искусству пения…
Фаон сразу же сильно покраснел от столь неожиданного предложения, а у Сапфо сердце застучало от желания ему помочь и как-нибудь вызволить мальчика из неловкого положения.
Но, с другой стороны, ей самой так хотелось послушать, как Фаон поет!
Недаром кто-то из древнейших говорил, что именно в пении, как ни в чем другом, проявляется душа человека.
Но вот только осмелится ли юноша запеть при всех?
— Вообще-то я пою только в уединении, для себя, — пробормотал Фаон, неловко вертя в руках лиру. — Я не очень-то много знаю всяких песен и не умею петь при людях.
— А ты представь, что мы — это ты! — воскликнул захмелевший Алкей, который буквально загорелся идеей послушать пение юноши. — Тем, что ты сейчас пропоешь для нас хотя бы куплет, ты докажешь, что относишься ко всем нам, присутствующим за этим столом, так же откровенно и любовно, как к самому себе!
— Хм, все мы на самом деле состоим из одного теста, — неожиданно добавил Эпифокл. — И это тесто связуется между собой из материи, воды и любви, но в разных соотношениях. У кого-то больше плоти и воды, но если они крепко сцеплены любовью, то это… Впрочем, сейчас не время для философии: спой нам, мальчик, лучше что-нибудь про любовь.
— Хорошо, — согласился Фаон. — Но имейте в виду, что если я заставлю вас помучиться, то не буду в этом виноват — вы сами попросили меня петь. Филистина выучила меня нескольким песням на стихи Сапфо. Я не оскорблю тебя, если пропою одну из них сейчас своим неумелым голосом?
Сапфо только сейчас поняла, что слова Фаона, а также взгляды всех присутствующих обращены теперь именно к ней, и торопливо кивнула.
Фаон несколько раз пробежал по струнам и своим мальчишеским, немного хрипловатым голосом запел одну из самых простеньких песен Сапфо, которые можно исполнять под несложный аккомпанемент — их почему-то особенно любила петь возле кухонного очага кухарка Вифиния.
Ты мне друг. Но жену в дом свой введи более юную. Я ведь старше тебя, кров свой делить я не решусь с тобой[12], —весьма приблизительно, срывающимся голосом начал выводить Фаон.
Но, слушая знакомую до каждого звука нехитрую песню в исполнении этого юноши, Сапфо внезапно почувствовала, что у нее подступил комок к горлу, не давая возможности ни вздохнуть, ни выдохнуть.
Фаон пел совсем тихо, чуть ли не шепотом, и оттого каждое слово хорошо известного всем стихотворения звучало как-то особенно интимно, словно высказанное наедине признание в любви, и все слушатели, а особенно слушательницы, невольно затаили дыхание.
Что же касается самой Сапфо, то она и вовсе начала ощущать во всем теле непонятный жар, как будто у нее вдруг начала резко подниматься температура.
Слушая, как громко колотится сердце, Сапфо снова и снова спрашивала себя: боги, что со мной?
Неужели я заболела? Или меня снова внезапно настиг из-за угла вездесущий Эрот?
Но это было бы чересчур глупо, нелепо и странно.
Ведь Фаон — совсем еще ребенок, который только-только достиг совершеннолетия и навряд ли еще даже познал женщину, а она к этому времени прожила бесконечную, длинную жизнь, полную любви и разочарований.
Нет, Сапфо пока не хотела верить, что с ней — для многих недосягаемой и прекрасной — могла случиться такая внезапная беда.
Именно беда — потому что как иначе можно назвать чувство к юноше, который должен совсем скоро навсегда покинуть остров Лесбос и который теперь открыто, по-детски радуется предстоящему отъезду?
Но, может быть, есть смысл действительно оставить Фаона пожить у Алкея, и тогда будет возможность хотя бы изредка с ним встречаться?
А если бы она к тому же приняла предложение Алкея о замужестве, то можно было бы вообще так устроить, чтобы Фаон всегда находился перед глазами, на расстоянии вытянутой руки.
«Великий Зевс, куда это меня занесло под звуки лиры? — ужаснулась Сапфо мыслям, вдруг откуда-то появившимся и начавшим вихрем крутиться в ее разгоряченном мозгу. — Наверное, я действительно просто больна».
Исполняя песню, Фаон смущенно глядел в сторону, но Сапфо сейчас казалось, что он на самом деле не сводил глаз с юной Глотис.
Да и сама молодая художница, похоже, смотрела на юношу не только как на модель, как это было в случае с Эпифоклом, а как-то совсем иначе, несомненно иначе…
И еще эта песня — про златокудрую, прекрасную Афродиту, которую певец любит больше жизни.
Такое ощущение, что, исполняя ее, Фаон имел в виду вовсе не богиню, а свою любимую, золотоволосую учительницу Филистину.
Кто знает, какие на самом деле чувства испытывает Фаон к своей прекрасной во всех отношениях благодетельнице?
Только ли благодарность или еще что-то другое?
Сапфо ничего не могла с собой поделать: чем постыднее казались ей ее странные подозрения и смятенные чувства, тем неотвязнее откуда-то из глубины появлялись все новые и новые догадки, доводящие буквально до полного изнеможения.
— Что с тобой, Сапфо? — наклонилось к ней откуда-то издалека озабоченное лицо Дидамии. — Ты, случаем, не больна?
— Не знаю, возможно, — прошептала Сапфо, почти не раскрывая рта.
Внутри нее полыхал такой непонятный, незнакомый огонь, что казалось, если она откроет рот, то наружу могут вырваться самые настоящие, огненные языки пламени.
Сапфо нисколько не обманывала подругу — она действительно не понимала, что с ней происходит.
Но немеет тотчас язык, под кожей Быстро легкий жар пробегает, смотрят, Ничего не видя, глаза, в ушах же — Звон непрерывно[13], —со сновиденческой легкостью пронеслись в голове у Сапфо новые строчки, как только она быстро взглянула на Фаона. Он теперь отложил в сторону лиру и сидел с довольным видом ребенка, ожидавшего в награду за удачное выступление кулек сладких фиников. И «финики» не замедлили себя ждать — только в данном случае это были похвалы и приятные слова, которые считал необходимым высказать Фаону каждый из присутствующих.
— Бесподобно! — громче всех восклицал Алкей, перебивая несколько смущенные возгласы женщин. — Какая одухотворенность, и в то же время неискушенность! Клянусь Зевсом, давно я не получал такого удовольствия от пения, как сегодня. Скажи, наше солнышко, а ты можешь теперь спеть какую-нибудь мою песню?
— Нет, — покачал светлыми, разлетающимися кудрями Фаон и добавил простодушно: — Филистина научила меня только песням на стихи Сапфо. Она говорит, что это самые лучшие стихи, и других вовсе не нужно учить, чтобы не забивать себе напрасно голову — пока на Лесбосе все равно ничего не создано прекраснее.
— Лучшие? — переспросил Алкей.
Он уже хотел было добавить: «А как же я?», но, встретившись с быстрым, хитрющим взглядом Эпифокла, прикусил язык.
В конце концов, совершенно естественно, что здесь, в круге своих подружек, Сапфо считается самой лучшей поэтессой на земле и даже на луне, но это ничего не значит, и не стоит относиться к таким суждениям чересчур серьезно.
Если бы завтрак сейчас проходил в роскошном доме Алкея, в кругу его друзей и почитателей, то они наверняка столь же пылко восхваляли бы именно его на редкость мужественные и злободневные песни, напрочь забыв о существовании Сапфо.
— Можно устроить состязание, — подал голос долгое время молчавший Эпифокл. — И я тоже хочу принять в нем участие. Признаюсь, пение этого дивного мальчика растрогало и мое старческое сердце, и я почувствовал, что у меня в груди тоже зашевелились кое-какие звуки. И вообще: подайте мне тоже чашу с вином! Оставлю-ка я кашу доедать старому, беззубому Харону и его приспешникам, а мы еще повеселимся.
— Состязание? О, только не сейчас, — страдальчески наморщила лоб Сапфо. — Сегодня я не слишком здорова.
— Хм, хм, нам некуда торопиться, — заявил Эпифокл, быстрыми, торопливыми глотками осушая чашу и стараясь скорее наверстать упущенное, словно именно на дне чаши хранилось хорошее настроение. — Я хотел бы остаться здесь на несколько дней. Многое из того, что я вокруг себя вижу, подтверждает мою величайшую теорию, и мне интересно было бы, разумеется, с разрешения гостеприимных хозяев, кое-что попытаться проверить и на практике.
Сапфо кивнула — не могла же она сказать знаменитому философу и к тому же пожилому человеку, чтобы он катился отсюда подальше своей дорогой?
И потом — досадно упускать возможность близко пообщаться со столь знаменитым ученым мужем только из-за одного непонятного настроения.
— Но как же тот корабль, на котором вы должны были уплыть? — только и спросила она.
— Хм, меня там будут ждать ровно столько, насколько я пожелаю задержаться, — с довольным видом пояснил Эпифокл. — Владелец триеры дал клятву быстроногому Гермесу, что без меня не отправится к берегам Фасоса.
— Прекрасно! Тогда я тоже остаюсь! — воскликнул Алкей. — Мы проведем здесь поэтический турнир, и это будет настоящий, большой праздник. Можно даже в честь нашего юного певца назвать его «фаониями». Как я придумал?
— Ой, не знаю… Наверное, я не заслужил, — смущенно пробормотал Фаон.
— Нет, заслужил! Для того чтобы получить награду, вовсе не обязательно петь громче всех или длиннее всех, разве не так? — пояснил Алкей. — Ты сам видишь, Фаон, твоя коротенькая песня — несмотря на то, что ты чаще всего брал совсем не те ноты, какие было нужно, — все равно сумела совсем в другую сторону повернуть события. Теперь ты понимаешь, какой силой обладает настоящее, искреннее искусство? Сильнее этого — только любовь.
Фаон буквально сиял от удовольствия — еще бы, он не только без особого труда вошел в круг всех этих взрослых, знаменитых людей, но сразу же оказался в самом центре всеобщего внимания.
Неужели и правда Алкей назовет состязание «фаониями»?
Значит, вот так запросто, волей случая, оказывается, делается слава?
Фаон посмотрел на Сапфо, которую он был должен в первую очередь благодарить за такое количество разом полученных наслаждений, включая вкусные кушанья, вино, а теперь еще и внезапную известность, но она сидела почему-то без тени улыбки на лице и лишь нервно покусывала и без того алые от гранатового сока губы.
Юноша тоже постарался сделаться серьезным: может быть, сейчас он ведет себя не очень правильно и нужно было более твердо отказаться от предложенных почестей?
Но губы Фаона все равно буквально помимо его воли расплывались в победной улыбке, обозначая на щеках еле заметные ямочки и придавая его лицу еще более мальчишеский, задорный вид.
Сапфо, конечно же, поймала на себе удивленный взгляд Фаона, но только еще больше нахмурилась и отвернулась.
Потом жарким я обливаюсь, дрожью Члены все охвачены…[14] —продолжали возникать из небытия строчки, которые сейчас для Сапфо выполняли роль якоря — хотелось в них вцепиться обеими руками и ногами, чтобы не захлебнуться: «…Дрожью члены все охвачены… Дрожью…»
— Какую мерзкую кашу готовит ваша кухарка! — заявил Эпифокл, поглаживая свой живот и обращаясь к Диодоре, привычно прислуживавшей за столом. — Эй, служанка, а нет ли у вас свежих устриц, вымоченных в белом вине и лимонном соке?
— Нету, — поджала губы Диодора.
— Так я и знал! Ну, а хотя бы тогда щупальцев осьминогов, приготовленных с острыми специями? Меня угощали таким блюдом в столице, в доме Мнесия, и я до сих пор не понимаю, как не откусил свой язык, настолько это вкусно!
— Лучше бы откусил, хилосох обжорливый, — пробормотала себе под нос Диодора. — Меньше было бы хлопот добрым людям и заодно набил бы языком свое пузо…
У Диодоры была странная манера разговаривать как бы про себя, но так, что тем, кто находился ближе всех — а сейчас это была Сапфо, — ее рассуждения хорошо было слышно.
Вообще-то Диодоре было уже так много лет, что многие были уверены, что старушка давно заговаривается и не дружит с головой, но Сапфо прекрасно знала, что ее служанка просто любит делать вид, что выжила из ума, а сама, наоборот, была «себе на уме» гораздо тверже прочих.
— Вообще-то здешние курочки и голубки, раз уж вы тут толкуете про курятники, привыкли с утра по зернышку клевать, чтобы легче бегать и летать было, — вслух сказала Диодора, обращаясь к философу. — А то ненароком можно и разжиреть, как куропатки, и к кому-нибудь на зуб попасть. Вон тут еды сколько много, которую вприкуску со своим языком есть можно, а тебе все мало!
— Хм, хм, а тебе, я вижу, лучше на зуб не попадаться, старая, — покачал головой Эпифокл, послушно пододвигая поближе к себе блюдо с оливками. — Признаюсь, друзья, ваше общество настолько разожгло у меня аппетит и привело в самого себя, что я готов прямо сейчас, не сходя с места, познакомить всех со своими последними открытиями, которыми я еще никогда прежде не делился вслух. Но только в том случае, если, хм, хм, у вас имеется желание меня выслушать.
— Конечно, мы уже давно только этого и ждем, — ответила за всех Дидамия, и Сапфо увидела, что в руках у подруги тотчас же мелькнула покрытая воском гладкая дощечка для записи.
Дидамия как-то сказала, что ей жалко расставаться с этой вещью даже во сне: она и себя тоже постоянно ощущает похожей на таблицу, на которой уже разгладились старые записи знаний и поэтому требуется поскорее нанести новые, еще более достоверные.
Остальные участники застолья тоже все как-то подобрались, готовясь выслушать знаменитость.
Эпифокл для порядка немного похмыкал, но потом громко, серьезно и достаточно складно, словно он сейчас держал речь не за столом, а перед огромным скоплением людей, принялся излагать свои измышления.
Сапфо сначала слушала его рассеянно, задумчиво скользя взглядом по посуде и предметам на столе, стоящим ближе других к Фаону, но постепенно и ее увлекли мысли философа.
По Эпифоклу, корнями, первоосновой всех вещей являлись огонь, вода, воздух и земля, которые не могли превращаться друг в друга, но зато обладали способностью смешиваться и соединяться.
И Эпифокл вообще пришел к мнению, что весь мир существует только благодаря соединению и разделению маленьких частиц, и причина соединения этих первоэлементов одна — любовь, а разъединения — сильная ненависть.
«Все правильно: любовь и ненависть, а больше совсем ничего…» — подумала Сапфо.
Пользуясь тем, что взоры присутствующих теперь были обращены на ученого, Сапфо украдкой поглядела на Фаона и увидела, что тот вовсе невнимательно слушал мудрого Эпифокла.
Юноша сначала смеющимися глазами следил за тем, как бегал по стенам солнечный зайчик от гладкого браслета на руке Дидамии, быстро водившей своим стилом по таблице, но потом начал неотрывно смотреть куда-то в сторону окна, и при этом на губах Фаона застыла нежная, удивленная улыбка.
Сапфо с интересом проследила траекторию его взгляда и поняла, что Фаон увидел большую бабочку-махаона, случайно залетевшую в зал через открытое окно и примостившуюся на освещенном солнцем листе комнатной гортензии.
Бабочка действительно была неестественно крупной, с дивными, узорчатыми крыльями, и казалась далекой, заморской гостьей.
У Сапфо даже сердце сжалось при мысли, что, глядя на нее, Фаон сейчас наверняка переносится мыслями в далекие города и страны, которых никогда не видел, и мечтает о скором отъезде.
Или просто любуется неповторимым, созданным богами узором на трепещущих крылышках?
А ведь и то правда: какое дело этой бабочке до заумных изречений Эпифокла, если она догадывается о скорой зиме и о том, что порхать ей здесь осталось совсем недолго?
И какое дело Фаону, неуловимо чем-то так похожему на эту бабочку и на свою мать — маленькую Тимаду, — до теорий ученого мужа?
Похоже, они его нисколько не интересовали и касались сейчас головы Фаона еще меньше, чем легкий ветерок, тихо раскачивавший занавеси на окнах и ненароком занесший в дом прекрасную гостью.
И Сапфо впервые подумала, что в таком полном безразличии к философским рассуждениям тоже есть своя правота, доступная не всем.
Но о ней знали Фаон, бабочка, цветок, ветер, гранатовые зерна на блюде — и все те, что сейчас словно участвовали в молчаливом заговоре против тяжеловесных, человеческих раздумий о смысле всего сущего, предпочитая просто самим быть этой таинственной сердцевиной жизни.
И Сапфо показалось, что именно Фаон больше, чем кто-либо другой, на самом деле связан с окружающим миром, без всякой «проблемы связанности», по-настоящему прочными, любовными узами, о которых так длинно и многоумно распинался Эпифокл.
И Эпифокл, и Дидамия, и Алкей, и остальные «застольники» вдруг показались Сапфо почти что незрячими — они сидели спиной к бабочке.
Но Сапфо все-таки сделала еще одну попытку вникнуть в последние выводы философа.
Да, именно «категории любви и ненависти» Эпифокл с упорством настоящего ученого называл главными, движущими и одновременно скрепляющими силами всего сущего, без которых материальный мир начал бы сразу же безвозвратно рассыпаться на мелкие части.
— Как же, любовь у него, желание — тоска по сладким пирогам, — еле слышно пробормотала старая Диодора.
— Погодите, а как же вода? — переспросила Дидамия, на одной из табличек которой было начертано что-то совсем другое, противоречащее окончательному выводу Эпифокла. — Фалес Милетский, например, считает, что мир произошел из влаги. Как это совместить: влагу и любовь?
— Хм, хм, — с интересом уставился Эпифокл на Дидамию, потому что явно не ожидал услышать от кого-либо, а особенно от женщины, какое-либо возражение.
— Хм, хм, это все тоже связано между собой, — произнес он, немного помолчав. — Разве вы будете возражать, что во время любовных игр в телах как мужчин, так и женщин также выделяется влага, а это и есть та материя всего сущего, из которой зарождается жизнь. И даже если мужчина имеет дело с мальчиками, то все равно…
Сапфо покраснела и невольно поглядела на Фаона: куда старика вдруг безоглядно занесло?
— Ха, помнится, в свое время легендарный прорицатель Тиресий, когда ему боги задали вопрос, кому из смертных — мужчине или женщине — любовь приносит больше наслаждения, сказал, что все-таки женщине, — заметил Алкей. — Так что вы, красавицы, находитесь в лучшем положении, чем мы.
— Но если ты помнишь, за такие слова разгневанная Гера ослепила старого вруна, — в свою очередь напомнила Дидамия, и женщины поддержали ее смехом.
На лице Фаона, слушавшего все эти комментарии, не отразилось ни малейшего смущения, словно все, о чем говорил сейчас философ или Алкей, давно было испробовано им на практике.
Сапфо подумала: пожалуй, любопытно было бы узнать о любовном опыте этого юноши…
Но тут же остановила себя: что еще за глупости? Зачем?
Неужели она, знаменитая поэтесса, будет заниматься собиранием сплетен?
Нет, это уже слишком!
Наконец, небольшой урок, а заодно и завтрак, был закончен, и слушатели, потягиваясь, начали подниматься со своих мест.
— Извини, Фаон, я вынуждена отложить наш разговор на завтрашний день, — первой подошла к юноше Сапфо, чтобы разом прекратить все свои сомнения. — Признаться, сегодня я неважно себя чувствую.
— Правда? — с испугом посмотрел на женщину мальчик. — То-то я гляжу, ты, Сапфо, сегодня плохо выглядишь!
Слова Фаона снова сильно задели Сапфо за живое: это она-то плохо выглядит, с такой прической, поразившей всех ее подруг?
А как же фиалки? Как же подведенные перламутровой помадой губы?
Значит, коротко стриженная, юная Глотис, не признававшая никакой косметики, говоря, что не желает расписывать себя «тоже как вазу», ему сегодня понравилась больше?
Что наглый мальчишка вообще может понимать в женской красоте?
Но Сапфо не успела ничего ответить Фаону, потому что того уже взяла за руку Глотис, настойчиво увлекая к выходу и приговаривая, что Фаон должен ей помочь сейчас справиться с одним рисунком.
Ясно, что Глотис надумала немедленно попробовать нарисовать портрет Фаона.
— О, Сапфо! — прошептал тут же подбежавший к Сапфо Алкей, хватая ее руку липкой ладонью, перепачканной чем-то сладким. — Ты должна мне уступить мальчишку, Фаон — самое настоящее чудо. Правда, я с удовольствием поселю его у себя и сделаю так, что он ни в чем не будет нуждаться…
— Прости, Алкей, но давай поговорим об этом позже, — как можно сдержаннее и спокойнее ответила другу Сапфо. — Сейчас мне необходимо на некоторое время прилечь…
— Хорошо, как скажешь, моя царица! Тем более мы с Эпифоклом пока все равно никуда не уезжаем, по крайней мере до завтрашнего дня, и дождемся, когда ты настолько поправишься, чтобы мы вместе смогли бы провести первые на Лесбосе «фаонии», — улыбнулся Алкей.
Сапфо вышла за дверь, но, чувствуя, как от нервного напряжения у нее дрожат колени, на минутку прислонилась к стене.
Как же точно выразились новые, непонятные чувства в этом только что сложившемся стихотворении: язык немеет, пот струится, дрожь пробегает по всему телу…
Если представить, что сейчас Сапфо вернулась с очередной добычей с какой-нибудь поэтической прогулки, то, похоже, ей пришлось карабкаться сначала на самую высокую скалу, а потом прыгнуть с нее в бездну.
Каким только чудом она после этого осталась жива?
Может быть, в самый последний момент, когда тело должно уже с хрустом разбиваться об острые камни, ее незаметно подхватили и вынесли наверх невидимые, крылатые боги.
Нет, такая «прогулка», родившая на свет мучительное, страстное стихотворение, действительно забрала у Сапфо без остатка буквально все силы.
…Зеленее Становлюсь травы, и вот-вот как будто С жизнью прощусь я. Но терпи, терпи, чересчур далеко Все зашло,[15] —прошептала Сапфо последние строчки стиха и действительно почувствовала сладкий озноб во всем теле, холодной струйкой пота сбегающий между лопаток.
— Клянусь Зевсом, этот мальчик может стать лучшим моим любовником, — громко проговорил за стеной задержавшийся в комнате Алкей.
— Хм, и не только твоим, — рассудительно ответил ему Эпифокл. — Такой красивый юноша сделает честь всякой постели.
— И почему его так долго здесь от меня прятали? — продолжал горячиться Алкей. — О, Эпифокл, ты сейчас меня понимаешь: юноши в столице стали такими испорченными и порочными — всех интересуют одни только деньги и дорогие подарки. Даже за то, чтобы просто положить руку на его гладкую задницу, всякий в меру смазливый мальчишка уже требует золотую монету. Как ты думаешь, Эпифокл, ведь я способен возбудить настоящую любовь? Может быть, Фаона смогут распалить мои откровенные, эротические стихи?
— Хм, Алкей, лично я еще больше полюбил тебя за то, что ты все же выволок меня посмотреть на легендарную Сапфо, — ответил Эпифокл. — Похоже, по жилам этой женщины, действительно, струится не кровь, а настоящие любовные токи. Мне казалось, что любовь является лишь сцепляющим звеном между основными первоэлементами, но чем больше я сегодня наблюдал за Сапфо, тем более отчетливо ко мне приходили новые мысли… Погоди, но как же еще хороша вон та, которая записывала за мной каждое слово! Я бы, если бы у меня…
Но Сапфо не стала дольше слушать, а точнее — невольно подслушивать диалог двух мужчин, и быстрыми шагами пошла в спальную комнату.
По дороге она растерянно ощупала свою пылающую голову и, войдя в комнату, зашвырнула букет фиалок в угол.
Глава третья ПОД ВЗГЛЯДОМ МНЕМОСИНЫ
Сапфо легла, обхватив обеими руками свое мягкое, привычное ложе, как будто постель была сейчас для нее главным и единственным спасением.
Впрочем, она действительно знала хорошо проверенный способ, безотказно помогавший в борьбе с самыми различными недугами: стоило Сапфо хотя бы какое-то время провести в постели в полном одиночестве — без еды и без каких-либо физических нагрузок, не тратя сил даже на то, чтобы пошевелить кончиками пальцев, — и это, как правило, помогало прийти в себя.
Иногда на восстановление утраченных сил хватало часа или даже всего нескольких минут, порой желательно было поваляться в одиночестве целый день, и тогда откуда-то вдруг снова, самым чудесным образом, появлялись и душевные силы, и внутренняя ясность.
Само собой разумеется, в спальную комнату сразу же заглянули кое-кто из подруг и верная служанка Диодора, предлагая всякие целебные снадобья, но Сапфо от всего отказалась, и очень скоро все оставили ее в покое.
Да и откуда Сапфо знала, от чего именно сейчас ей следовало лечиться?
Она лишь смутно догадывалась об этом, когда снова и снова повторяла про себя строчки последнего стихотворения, но не позволяла себе дальше думать на запретную тему.
Самое главное, что откуда-то, словно из неясной дали, в душе у Сапфо нарастало смутное ощущение катастрофы.
Наверное, так испуганно вздрагивает земля перед скорым землетрясением или перед извержением вулкана, в том числе вулкана задремавших в глубинах чувств.
Но подумав про огнедышащий вулкан, Сапфо тут же вспомнила про Эпифокла и невесело улыбнулась.
Смешной, замудривший сам себе голову старик!
Когда за столом зашел обязательный, как горькая, возбуждающая аппетит приправа, разговор о смерти, Эпифокл вдруг заявил, что истинный философ должен управлять своей судьбой, а не подчиняться ее воле, и потому лично он давным-давно придумал, каким будет его конец.
И поведал окружающим: как только он почувствует, что его духовная жизнь подошла к концу, а физическая в нем и так еле теплится, то Эпифокл тут же покончит со своей телесной оболочкой, бросившись в пылающий кратер вулкана Этна.
И он тут же принялся с самым серьезным видом аргументировать свою дикую фантазию — во-первых, смерть при этом наступит мгновенно и потому — практически безболезненно, сделавшись, в прямом смысле, огненной точкой в конце достаточно яркой жизни ученого.
Во-вторых, никому не придется после его кончины возиться с бренным прахом, так как процесс сожжения мертвого тела произойдет естественным путем, в-третьих, — у Эпифокла появится больше шансов, что накопленная годами мудрость не пропадет даром, а переплавится в нечто ценное для потомков — ведь, согласно древним сказаниям, именно на Этне помещается невидимая для смертных мастерская Гефеста, который умеет ковать не только оружие, но также славу и бессмертие.
Ведь оживил когда-то Гефест прославленного ныне Пелопса, сына Тантала, когда в своем угодническом идиотизме и еще более изощренном недоверии к богам папаша дошел до того, что разрубил собственного сына на части и предложил пришедшим в гости небожителям блюдо из его мяса?
И чем все это кончилось? Вечными, танталовыми муками в подземном царстве папаши и славой оживленного богами Пелопса, который теперь повсеместно почитается на Олимпийских играх как зачинатель соревнования в беге колесниц.
И так далее, и так далее, и так далее…
В порыве откровенности, а также под влиянием выпитого вина Эпифокл вдруг по «страшному секрету» поведал всем сидящим за столом, что везет с собой на Фасос, куда он направлялся к известному мудрецу Бебелиху, столько золота, сколько хватит, чтобы сделать себе золотые сандалии.
И Эпифокл заявил, что сделает такие сандалии — а их не носили даже фараоны — и обуется в них перед тем, как нырнуть в кипящую лаву.
— Пожалуй, мне следует проводить тебя не до гавани, а прямо до вулкана Этна, Эпифокл! — воскликнул Алкей. — Вдруг ты от страха так сильно взбрыкнешь ногой, что хотя бы один сандалий останется на земле. Представляешь, сколько на это золото можно купить вина и закатить знатных пиров? Ты уж тогда постарайся, дерни ради нас в воздухе ногой посильнее!
Но, не обращая внимания на шутки. Эпифокл с жаром привел за столом двадцать четыре пункта в пользу своего неожиданного решения, чуть ли не убеждая собравшихся присоединиться к его замечательной затее, и всего один пункт «против», но зато такой, который невольно вызвал взрыв безудержного смеха.
Эпифокл не был до конца уверен, что, когда он дойдет в мыслях до последнего предела своего умственного истощения, у него еще хватит простых человеческих сил взобраться на вершину Этны, так как это не слишком-то легко сделать и выносливому, быстроногому юноше.
«Хм, ведь и в этом, основном вопросе о нашей жизни и смерти все тоже слишком слитно, тесно переплетено», — многозначительно улыбнулся, поддавшись всеобщему веселью, Эпифокл.
Добавив при этом, что еще не решил, не лучше ли ему было бы отправиться к Этне заранее, чтобы вблизи пылающего кратера дожидаться своего последнего часа, или пока все же стоит еще немного побродить по свету, и, прибавляя, что ответ на этот вопрос он надеется получить у знаменитого мудреца Бебелиха, обосновавшегося на Фасосе.
Поэтому все присутствующие за столом высказали бурную радость по поводу того, что сейчас Эпифокл пока направляется на остров Фасос, а вовсе не на Сицилию, в северо-восточной части которой как раз расположен постоянно кипящий вулкан Этна — признаться, куда более знаменитый во всем мире, чем сам философ, — и лишний раз подняли за это кубки с вином.
Но, вспомнив про Сицилию, Сапфо словно увидела перед глазами начертанное светящимися буквами женское имя — Анактория — оно прокатилось в памяти длинной, плавной волной, унося в далекое прошлое.
Анактория — это имя само по себе звучало как законченное стихотворение.
Можно было менять ударение и произносить это имя на разные лады, но оно все равно казалось Сапфо похожим на морскую волну, которая всякий раз мысленно прибивала Сапфо к берегу Сицилии, взвиваясь у берега белопенным вихрем.
И на вкус эта волна была такой же соленой, как слезы на щеках Сапфо в то далекое время, когда она сама волей судьбы была заброшена на далекий благословенный остров.
О, нет! Ей тогда не пришлось бросаться в кипящую лаву Этны или в морскую пучину, чтобы родиться заново, — это произошло само собой, и как раз на сицилийской земле, рождающей вулканы и прочие чудеса.
Может быть, к «перековке» ее судьбы действительно приложил руку хромой Гефест — угрюмый супруг прекрасной Афродиты? Или кто-то из других богов?
Сапфо даже показалось, что и теперь она в комнате вовсе не одна, что здесь появился кто-то еще, незримый для обыкновенного взгляда.
Возможно, это была тень Анактории — женщины, которую Сапфо всегда мысленно называла «любовь моя, незабвенная Анакта» и чью тень — хотя бы только одну тень! — хотелось накрепко удержать в своих объятиях в воспоминаниях и снах.
Но, скорее всего, это была сама богиня памяти — Мнемосина, как правило, приходившая к Сапфо именно в облике Анактории.
Нет, вовсе не случайно, что именно Мнемосина — та, которая состоит из любви и памяти! — считается законной матерью девяти Муз и всех видов искусств.
Сапфо крепко зажмурилась, надеясь хотя бы сейчас отчетливо увидеть перед собой лицо Анактории, но, как и прежде, не смогла его вспомнить во всех драгоценных подробностях.
Какой она была, Анактория?
Красивой? Да, кажется, очень красивой, и даже больше того — теперь она сделалась настолько прекрасной и нестерпимо сияющей в памяти, что для того, чтобы попытаться ее разглядеть, приходилось зажмуриваться.
Молодой? Навряд ли.
Анактория была гораздо старше Сапфо — возможно, на десять, а быть может, и на двадцать, и даже больше лет — тогда Сапфо про возраст подруги не спрашивала, а теперь ей и вовсе его было неинтересно знать.
Зато Сапфо хорошо помнила, что у Анакты были седые волосы, которые она не закрашивала, как делали многие женщины, а, наоборот, слегка подцвечивала какой-то особенной голубой краской, так что ее голова напоминала Сапфо снежную, недосягаемую вершину высокой горы.
Глядя на эту вершину, можно было догадаться, что Анактория успела уже преодолеть множество лет-перевалов, пока добралась до сегодняшнего дня.
Но зато у Анакты было очень молодое, румяное лицо, на нем не было видно приметных, перепутанных дорожек из морщин — отражения тех невидимых путей, по которым на вершину лет забираются все смертные.
И это казалось Сапфо странным и загадочным — может быть, Анактория к своей удивительной мудрости перелетела на крыльях, по воле богов?
Или она на самом деле была еще совсем молода и лишь почему-то очень рано поседела?
Но для молодой женщины Анактория была слишком мудра и серьезна, хотя изредка все же любила и умела повеселиться.
Пожалуй, эта неразрешимая загадка — «энигма Анакты» — а точнее всего, внешнего облика Анактории крепче всего засела в памяти Сапфо, вытеснив все остальные конкретные приметы.
Например то, какие у любимой женщины были глаза, брови, плечи, губы…
Впрочем, Сапфо иногда случайно угадывала забытые приметы внешности Анактории в самых разных окружающих ее женщинах.
Например, увидев нежные, белые руки Филистины, Сапфо могла сказать себе: «Такие же руки были у Анакты», или, поймав на себе чей-то взгляд, вспоминала — «Точно так же иногда смотрела Анактория», а услышав чью-то песню: «Вот так, только еще лучше, пела моя Анактория»…
И так — без конца: Сапфо то и дело находила Анакту в чьих-то жестах, интонациях, тихом смехе, в какой-нибудь искусной вышивке, в причудливой форме вазы, в морских брызгах, в названиях предметов, и уже настолько привыкла к этому, что даже перестала замечать, словно на самом деле Анактория всегда находилась с ней рядом.
Пожалуй, еще ближе, гораздо ближе, чем если бы до подруги можно было дотронуться рукой.
А если кто-нибудь произносил вслух слова «Сицилия» или «Сиракузы», то имя Анактории порой возникало в сознании Сапфо с такой яркостью грозовых молний, что она могла неожиданно заплакать, никому не объясняя причины своих слез, — пролиться дождем, начинавшим хлестать в нынешний день из далекого и навсегда утраченного прошлого.
Ах, Сицилия, которую поэты и моряки еще называют Тринакрией — треугольной страной! — из-за ее характерного, гористого, побережья.
До сих пор все думают — и Сапфо никого в этом не разубеждает! — что когда-то ей пришлось временно покинуть Лесбос, и родной город Эфес, и отправиться на Сицилию из-за установления тирании и начавшихся в связи с этим очередных волнений в стране.
Формально именно так и было: тогда многим пришлось на какое-то время оставить родные места, и совершенно естественно, что Сапфо тоже оказалась в числе тех, кто на большом корабле поспешил отправиться в Сиракузы.
Никто этому не удивлялся, а даже наоборот: ведь муж Сапфо — отважный Керикл находился в самых первых рядах среди тех, кто вступил в борьбу с единовластием, и, следовательно, его семье, даже если бы она спряталась в любом потаенном уголке Лесбоса, могла грозить смертельная опасность, как и родственникам других сторонников прежней власти.
Сапфо тоже понимала необходимость срочного побега из страны, когда ступала на корабль, отплывающий к берегам Сицилии, и даже подробно обсуждала это с родными Керикла, с кем ей пришлось делить тяготы морского путешествия, но зато сейчас Сапфо думала об этой истории совершенно иначе.
Сейчас Сапфо была уверена, что на самом деле отправилась тогда в столицу Сицилии вовсе не из-за политических обстоятельств, в которые ее поневоле втянул не в меру воинственный супруг, а была перенесена в Сиракузы по воле богов исключительно для того, чтобы встретиться с Анакторией.
Один раз Сапфо даже в шутку назвала подругу своей Ананкой — неизбежной судьбой.
Всемогущие боги, с их щедрой изобретательностью, могли бы, конечно, придумать и какой-нибудь другой способ как направить Сапфо в «Треугольную страну» на встречу со своей личной Ананкой, но почему-то выбрали именно этот, не самый легкий и прямой.
Но все же именно тогда, на том корабле, плывущем к Сицилии, подолгу, безотрывно глядя на убегающие вдаль волны. Сапфо впервые сумела признаться сама себе, что на самом деле она спешит убежать не от гнева тирана, а совсем от другой, невидимой тирании своего мужа Керикла.
Любимого и достойнейшего во всех отношениях человека, неподражаемого Керикла.
Но еще больше — просто от самой себя.
Во время этого длинного, вынужденного путешествия Сапфо совершенно не могла спать, потому что слишком сильно страдала от морской качки — она еще не знала тогда, что носит под сердцем ребенка! — и поэтому почти все время Сапфо проводила на палубе, сидя на одном и том же месте, как застывшая статуя, и провожая глазами проплывающие мимо незнакомые берега, пенные волны, в которых попеременно отражались то солнечные лучи, то звезды, похожие на маленьких рыбок.
Сапфо не могла сосчитать точно, сколько дней и ночей прошло за время долгого пути, ни у кого не спрашивала, скоро ли они прибудут на место.
Она просто глядела на воду и думала о чем-то своем.
Наверное, это плавание потому и вспоминалось Сапфо таким бесконечным, что она словно плыла тогда не только вдоль чужих берегов, в неведомую даль, но также еще и в глубину самой себя еще дальше, и куда глубже, чем морское дно.
Тогда, подставляя щеки то вольному ветру, а то поднятым бурей соленым брызгам, Сапфо впервые отчетливо поняла, что больше всего на свете ее душа жаждет покоя и одиночества.
Ради этого она бы даже согласилась сейчас вовсе исчезнуть — например, стать волной, или даже тенью волны на борту судна, превратиться в камень, ракушку.
Один раз Сапфо вдруг отчетливо представила себе, как превратилась в большую раковину: она покоилась под большой толщей воды, поверхность которой только что пробороздил этот самый корабль, наполненный шумными людьми.
Но вот корабль исчез из вида, на дне наступила полная, глубокая тишина, — и Сапфо почувствовала, что внутри нее начала тихо, незаметно расти жемчужина…
Наверное, она тогда просто на какое-то время задремала и увидела сон, предупреждавший ее о случившейся беременности.
Или о чем-то совсем другом?
Но проснувшись, Сапфо долго не могла забыть того счастливого ощущения, которое испытала она, превратившись в раковину.
Может быть, для того, чтобы пережить его снова, надо было просто шагнуть за борт и упасть на дно?
И тогда кто-нибудь из богов, до кого дойдет молитва, наверняка мог бы исполнить ее мечту — ведь небожители способны без труда творить любые метаморфозы.
Впрочем, нет — лучше бы они наслали внезапную бурю, которая разбила бы корабль о камни, но при этом сделали так, чтобы все благополучно спаслись, не заметив исчезновения Сапфо, и потом не стали бы ее винить в непозволительном своеволии.
Тогда Сапфо точно не пришлось бы возвращаться к прежней жизни, которой она сама до недавнего времени искренно гордилась и которая вызывала настоящую зависть окружающих.
Да что там — Сапфо и сама, до последней минуты, пока не поднялась на свое судьбоносное, шаткое суденышко, была абсолютно уверена в том, что ее женское счастье крепко и незыблемо, как ни у кого из смертных.
И вдруг, когда из-под ног на какое-то время в буквальном смысле ушла земля, и корабль закачался из стороны в сторону на волнах, Сапфо с ужасом поймала себя на мысли, что и в душе у нее, оказывается, тоже не осталось никакой опоры, за которую можно было бы ухватиться хотя бы мысленно.
Сапфо припомнила, что впервые похожее, но тогда лишь совсем еще шаткое чувство, возникло у нее, кажется, примерно год тому назад, когда вскоре после свадебного торжества до нее со всех сторон начали доноситься услужливые сплетни о многочисленных наложницах Керикла и чуть ли не целые легенды о его нечеловеческой любвеобильности.
Теперь даже смешно вспоминать о том, какой же нестерпимой была обида молодой жены на этих сплетниц и самих продажных гетер, которые бессонными ночами подвергались самым страшным проклятиям!
О, как же безутешны были ее рыдания после очередных новостей о былых и даже — но это казалось вовсе немыслимо! — настоящих похождениях любимого супруга!
Ведь тогда Сапфо пришлось впервые со всей ясностью осознать, что она — не единственная, вовсе не самая-самая, не та, кто дороже солнечного света, как говорил однажды сам же Керикл с дрожью в голосе, а просто — замужняя молодая женщина из богатой семьи, которая должна благодарить богов за то, что красавец Керикл осчастливил ее своим выбором и взял себе в законные супруги.
Невинность моя, невинность моя, Куда от меня уходишь?.. Теперь никогда, теперь никогда К тебе не вернусь обратно[16].Сапфо до сих пор ясно помнила жесткую усмешку, появившуюся на губах Керикла, когда она попыталась было завести об этом разговор.
«Тебе не нужно удивляться, — сказал он тогда без малейшей тени смущения. — Так на земле всегда было и так будет, потому что у мужчин совсем другая жизнь, чем у женщин, и их никогда не смешать, как оливковое масло и воду».
«Но ведь супружество — и есть такое смешение, — попыталась хоть что-то возразить Сапфо, ощущая, как внутри у нее появляется какая-то противная, ни с чем не сравнимая пустота. — Я думаю, что тебе тоже наверняка не понравится, если я перестану хранить тебе верность. Почему же я должна смотреть спокойно на твои приключения с гетерами и безусыми мальчишками?»
«Потому что я — мужчина», — коротко ответил Керикл, и Сапфо увидела, какой гордостью при этом вспыхнули его глаза.
Пожалуй, этот гордый, немного горбоносый профиль Керикла, когда он отворачивался и глядел куда-то вдаль с видом героя-победителя, был одним из самых ярких впечатлений, навеки оставшихся в памяти Сапфо о ее первом и последнем законном муже.
Да, и еще почему-то четкий, геометрический узор, которым был расшит край его широкого хитона, множеством складок чем-то напоминавшего остановившееся море.
Тогда, во время неприятного разговора с Кериклом, стараясь сдержать слезы и упорно глядя на этот узор, Сапфо подумала, что на какое-то время он действительно сделался ее горизонтом, дальше которого она ничего не могла и не хотела видеть.
Но разве нуждался Керикл в чьем-то самоотречении?
Впрочем, нет, почему-то Сапфо также хорошо запомнила, какими холодными, словно металлическими, губами поцеловал Керикл последний раз ее в щеку на прощание, провожая на корабль, отплывающий к берегам Сицилии.
«Ты скоро вернешься домой, Сапфо, потому что должна мне еще родить трех сыновей, которые разделят мою славу», — вот что сказал Керикл на пристани, строго глядя Сапфо в глаза.
Но наследника Керикл так и не дождался.
Вскоре, почти сразу же после прибытия в Сиракузы, беглецов догнала весть о мятежниках, погибших от руки тирана, среди них было названо и имя Керикла.
Сапфо испытала еще более странное чувство, чем даже то, которое посетило ее на корабле, — ей показалось, что она тоже по-настоящему умерла вместе со своим мужем и отправилась в царство вечных теней, но только своей, особенной дорогой, незаметно пролегавшей где-то среди широких сиракузских улиц.
По крайней мере, та жизнь, которую Сапфо вела в замужестве и которая казалась неизбежной и бесконечной, вдруг мгновенно растаяла, исчезла, и на ее месте появилась бесплодная пустыня.
Сапфо гораздо дольше, чем положено, носила траурную одежду и, действительно, как живая тень, бродила по Сиракузам, поражаясь щедрой роскоши и одновременно чужеродности этого незнакомого города.
Она точно знала, что больше никогда не захочет связывать себя узами нового брака, о чем то шепотом, а то и вслух начала уже намекать преданная служанка Диодора.
Мол, такой умнице и красавице, как Сапфо, просто неприлично долго оставаться одной, и хотя чересчур торопиться не следует, но загонять раньше времени себя в могилу тоже не имеет смысла, к тому же ребенку, который начал шевелиться у Сапфо под сердцем, все равно нужен отец…
Конечно — бормотала словно бы сама себе под нос Диодора — люди понимают, что молодая, красивая женщина отвергает предложения от поклонников, которые тут же посыпались на нее, как внезапный снег на голову в середине лета, только потому, что она слишком любила своего красавчика Керикла, но это лишь еще больше привлекает к ней внимание мужчин, а ведь она, Диодора, не слепая и видит, как на ее хозяйку пялятся прохожие, хотя на той даже нет ни одного украшения, а в лице словно не осталось ни кровиночки…
Сапфо молча слушала бормотания Диодоры, сидя на скамейке в тени деревьев, или вечером перед горящим очагом, и они казались ей то шумом дождя за окном, то плеском морского прибоя, который до сих пор стоял в ушах, то журчанием городского фонтана, но в любом случае — чем-то таким, что не имело к ней ни малейшего отношения.
В Сиракузах Сапфо со своей служанкой поселились в богатом, прекрасно обставленном доме, обжитом уроженцами Лесбоса, временно по какой-то причине перебравшимися на Сицилию.
Тогда все вновь прибывшие беглецы разместились под гостеприимным кровом своих бывших соотечественников, и лишь волею случая (всевышних богов!) Сапфо оказалась под покровительством именно этой богатой, бездетной пары — старого Трилла и его жены Анактории.
Сапфо была благодарна своим новым хозяевам за то, что они не донимали ее своей опекой — предоставили комнаты, обильный стол, но при этом вовсе не докучали лишними расспросами и разговорами, на которые, как известно, бывают особенно падки женщины, запертые мужьями в четырех стенах.
Трилл, кажется, вообще считал, что у Сапфо, после известия о смерти мужа, случился паралич языка, и порой ворчал, что хотел бы посмотреть, будет ли его женушка предаваться столь же безутешной печали после его смерти, и даже грозился устроить как-нибудь на эту тему проверку.
Он вообще вел себя со своей женой на редкость бесцеремонно, постоянно осыпая ворчливыми упреками и не стесняясь в выражениях даже в присутствии посторонних людей.
Сапфо поражало, что Анактория — такая невозмутимо-цветущая по сравнению со своим иссохшимся, злобным супругом! — никогда не отвечала на его выпады ни единым словом и даже тихо улыбалась про себя, словно имела дело с несмышленым ребенком.
Признаться, Сапфо это даже несколько удивляло: неужели привычка к обеспеченной жизни способна сделать любую женщину такой же покорной?
Или здесь имела место какая-то странная форма любви, вовсе неведомая Сапфо?
Впрочем, Сапфо по-настоящему об этом не задумывалась, лишь иногда ее невольно охватывала жалость к Анактории.
Все-таки эта добрая женщина постоянно старалась как-нибудь по-своему, незаметно подбодрить и порадовать Сапфо: то присылала ей тарелку с изысканными пирожными или восточными сладостями, постоянно украшала комнату печальной гостьи свежими цветами, или внезапно начинала петь в соседней комнате, аккомпанируя себе на лире — не слишком громко, но достаточно для того, чтобы быть услышанной через приоткрытую дверь.
Именно она, Анактория, нашла в Сиракузах самого лучшего, высокооплачиваемого доктора, который то и дело наведывался в дом и следил за состоянием Сапфо, — ведь под складками туники у невеселой гостьи-молчуньи вскоре округлился непомерно большой живот, а потом — отыскала и сноровистых повитух, очень ловко и искусно принявших роды.
Сапфо даже и во время родов не кричала, словно подтверждая диагноз, поставленный Триллом, а лишь только молчаливо вздыхала.
Вздохнула Сапфо и тогда, когда узнала, что родилась девочка — что поделать, Керикл даже и после смерти не дождался своего единственного мужчину-наследника, который гордился бы славой воинственного отца.
Но это был невольный вздох облегчения — слава богу, что теперь некому будет мстить обидчикам Керикла и в свою очередь складывать голову в борьбе за власть.
Пусть лучше дочка учится вышивать крестиком и баюкает глиняных кукол — воображаемых героев.
Сапфо решила назвать новорожденную девочку Клеидой в честь своей матери, оставшейся на Лесбосе.
Она даже хотела было сначала назвать свою дочку Анакторией, чтобы хоть как-то отблагодарить добрую, бездетную хозяйку дома за многочисленные хлопоты, которые она невольно доставила безропотной женщине, но потом передумала.
На десятый день после рождения, когда каждый младенец должен был получить законное имя, Сапфо нарекла девочку все-таки Клеидой, а не Анакторией, как звали милую покровительницу.
Впрочем, теперь Сапфо даже странно было вспоминать, что было время, когда ее отношение к Анакте не выходило за рамки обычной благодарности.
Да, пожалуй, так бы навсегда и осталось, не случись следом еще одного события, мгновенно все снова перевернувшего в доме с ног на голову.
Почему-то в тот момент, когда во внутренний двор внесли на связанных простынях красного, как рак, но недвижимого Трилла, Сапфо подумала, что этот странный человек все-таки надумал устроить своей жене обещанную чудовищную проверку — но не более того.
Но оказалось, что с Триллом, прямо в бане, случился непонятный приступ, возможно, вызванный тем, что перед этим старик выпил слишком много неразбавленного вина, а потом еще все время просил подогревать угли, потому что его начал бить внезапный озноб.
Увы, это оказалось вовсе не шуткой — Трилл действительно скончался и отправился к своим предкам, даже не простившись ни со своей женой, ни с друзьями-собутыльниками, ни с родственниками.
Дом, который только что был перебудоражен рождением дочки Сапфо и младенческими криками, теперь погрузился в траур, и в нем зазвучали погребальные причитания.
Сапфо временами казалось, что она просто видит один и тот же бесконечный сон, который никак не хочет заканчиваться, — в этот сон она погрузилась еще на корабле, убаюканная синими морскими волнами, и он теперь продолжается наяву.
Почему-то ей порой даже приходило в голову, что именно она, Сапфо, а точнее, этот ее сон на самом деле были чуть ли не главной причиной гибели Трилла и, соответственно, несчастья Анактории — они просто сами не заметили, как оказались охваченными невидимым круговоротом смутной, чужой тоски.
Но иногда вдруг к Сапфо являлась и вовсе страшная мысль: может быть, она самолично ускорила также и гибель своего Керикла?
Тогда, когда на корабле молилась по очереди всем богам? Когда просила, чтобы они научили ее, как ощутить в стиснутой вечными тревогами груди такие же свободу и покой, которыми обладают ветер, море и даже парус, казалось бы, накрепко привязанный к кораблю?
Когда спрашивала, почему такая свобода не была доступна ни одной из самых достойнейших женщин, которых знала Сапфо?
Вдруг боги по-своему, страшными загадками, начали отвечать на посланные в звездное небо вопросы?
Сапфо во всех подробностях помнила то утро, которое она вскоре стала считать своим вторым днем рождения.
В окно светило солнце, кормилица только что принесла показать Сапфо розовощекую малышку — малютка Клеида уже научилась смешно морщить носик, с улицы были слышны звуки несмазанных тележек, на которых рыбаки везли с побережья на городской базар свежепойманную, еще живую рыбу.
Двое озорных мальчишек — наверное, это были дети кого-то из слуг — кидались друг в друга апельсинами, выкрикивая какие-то гортанные дразнилки, и, кажется, кто-то из них случайно угодил в одну из лошадей, она рванулась в сторону и опрокинула тележку с морским грузом.
Вслушиваясь в сразу же поднявшийся за окном гомон, крики, смех, когда множество людей принялись вылавливать теперь уже руками, прямо с земли, трепыхающихся рыбин, Сапфо впервые за долгое время вдруг почувствовала, что к ней тоже начала возвращаться, казалось бы, навсегда утраченная радость жизни.
И тут же услышала, как в соседней комнате Анактория очень тихо заиграла на флейте, выдувая губами такую печальную мелодию, какой Сапфо не слышала никогда в жизни.
И тогда Сапфо не выдержала, не смогла справиться со своим чувством жалости: забежав в комнату Анактории, она начала просить у этой женщины прощения в том, что невольно навлекла своим появлением несчастия на ее дом.
«О, нет, Сапфо, ты вовсе ни в чем не виновата, — подняла Анактория на Сапфо свои темные, загадочные глаза, и вдруг добавила спокойно. — Мало того, мне кажется, что Тихэ наконец-то повернула ко мне свое лицо, освободив от Трилла, но почему-то никак не решится осчастливить меня окончательно».
И Анакта поведала Сапфо, что главная ее мечта — как можно скорее вернуться на Лесбос, но пока она не может покинуть Сиракузы, потому что вот-вот сюда должны явиться многочисленные племянники Трилла и другие желающие принять участие в дележке его немаленького наследства.
И до этого времени Анактория вынуждена оставаться в городе и петь печальные песни, а не плыть под легкими парусами в сторону Лесбоса, как бы ей того хотелось, — вот, собственно, и вся причина ее грусти.
«Ах, Сапфо, когда-нибудь и ты поймешь, что нам, женщинам, ничего не принадлежит на этом свете, кроме нашей души, — сказала тогда Анактория. — И потому мы должны изо всех сил любить и копить только те сокровища, которые находятся внутри нас самих, но, к сожалению, очень немногие женщины умеют это делать».
«Не грусти, Сапфо, — вот что также сказала Анактория, с улыбкой вслушиваясь в веселую возню рыбаков и детей за окнами. — Пусть мы, женщины, словно неразумные дети, не внесены в их имущественные списки и даже не считаемся законными гражданами той или иной страны, но зато нам принадлежит весь мир, и даже такой, о котором не знает ни один мужчина, даже если он сумел завоевать множество чужеземных стран».
«Вот что я скажу тебе, печальная Сапфо, — продолжала Анактория. — Всякий человек за свою жизнь умирает множество раз. Ведь разлука — это настоящая, маленькая смерть. Ты мучаешься оттого, что не понимаешь, что с тобой происходит. А на самом деле ты умерла в тот момент, когда рассталась со своим супругом, но есть такие встречи, которые способны заново возрождать к жизни…»
Признаться, Сапфо поначалу неприятно передернуло, когда Анакта назвала смерть своего престарелого мужа «улыбкой Тихэ», но после того, как та вдруг начала очень спокойно, но с обнажающей откровенностью рассказывать, сколько унизительных, гадких моментов заставил пережить ее богатый самодур, Сапфо перестала осуждать эту женщину.
Наоборот, удивилась, откуда она взяла столько сил, чтобы с достоинством, в полном одиночестве переносить оскорбления от своего богатого пьяницы и откровенного дурака.
«Во-первых, я научилась просто не замечать присутствия этого человека, как умеем мы не обращать внимания на мышь, скребущуюся за стеной. А во-вторых, Сапфо, я никогда не бываю одна» — возразила на это Анактория.
«Ты хочешь сказать, что постоянно чувствуешь покровительство богов?» — осторожно спросила Сапфо, боясь ненароком обидеть женщину лишним напоминанием о ее бездетности, кажется, связанную с каким-то неизвестным заболеванием.
«Нет, я не бываю одна, потому что со мной всегда — есть я», — ответила Анактория, загадочно улыбаясь, и Сапфо поразилась простой мудрости этих слов.
«Но… неужели тебе, Анактория, никогда не хотелось по-настоящему, страстно любить и быть любимой? И чтобы с этим человеком было все, все общее?» — выдохнула Сапфо, выдавая буквально помимо воли свое самое заветное желание.
«О, Сапфо, когда-нибудь ты поймешь, что есть женщины, обреченные на мужество, — сказала Анакта. — Когда мы идем к мужчинам с пустыми, просящими руками, они готовы нас принять и выказывать свое покровительство, но щедрых даров нашего сердца пугаются. Только боги не боятся даров, Сапфо, или те, кто близок к богам, готовы принимать жар чужих сердец — и чаще всего почему-то это бывают именно женщины. Я, Сапфо, встречала в своей жизни слишком много сильных мужчин, которые на самом деле оказывались… привидениями…»
И тогда Сапфо вдруг тоже не выдержала и начала сбивчиво, многословно, будто желая разом выговориться за все время молчания, рассказывать Анактории о собственных невнятных обидах на Керикла, о своих странных мыслях, непонятных настроениях.
И чем дольше Сапфо говорила, тем сильнее удивлялась: зачем же она раньше прятала свои сомнения так далеко от людей, словно они были самой главной ее драгоценностью?
Ведь Анакта теперь не просто ее внимательно слушала — она понимала буквально каждое слово, как никто и никогда раньше, чутко улавливая даже то, что пока еще оставалось невысказанным.
Наверное, родная мать, ласкавшая Сапфо в детстве, вряд ли казалась ей тогда ближе и роднее, чем эта женщина, похожая одновременно и на мать, и на сестру, и на подругу по несчастью, и даже на малютку дочь — пусть не именем, но чем-то еще более сокровенным, чем обычное сочетание звуков.
Они проговорили тогда весь день и все никак не могли расстаться, словно боясь, что счастье может исчезнуть как сновидение.
Две женщины — темноволосая и сереброволосая — вместе пообедали, вместе вышли погулять на главную площадь, вместе поразвлекались пением и вышиванием и, казалось, вовсе не могли друг с другом расстаться больше чем на полчаса.
Да, к счастью, этого и не требовалось — ведь они жили в одном доме, и теперь обе были полностью предоставлены самим себе.
Сапфо почти физически чувствовала, что в то время, когда рядом была Анактория, самые яркие дни становились словно еще светлее, и ей даже гораздо легче дышалось, чем это было до недавнего времени.
В конце концов, они вместе несколько раз даже незаметно засыпали на общем ложе, где до этого, отдыхая, вели бесконечные тихие разговоры, казавшиеся самыми интересными и важными на свете: кто какие видит сны, кто что любит есть, в какие игрушки нравилось играть в детстве, и так далее… — пока внезапно чье-нибудь последнее словечко не похищалось Гипносом и не уносилось куда-то на крыльях сна.
Но ничем не хуже было и просто молчать, представляя, о чем может думать сейчас каждая, и Сапфо временами ощущала, как в ней начинали течь мысли Анактории, более неспешные, красивые и мудрые, чем ее собственные.
Для Сапфо стало настоящим открытием, что все те наблюдения, радости, шутки, которые Керикл наверняка посчитал бы лишь неинтересной женской болтовней, — и даже не стал бы слушать, для кого-то — и этим человеком стала Анактория! — оказывается, имели такую огромную ценность.
Что и говорить, Анактория, действительно, в какой-то степени стала для Сапфо второй матерью — она незаметно сделала из нее нового человека.
А точнее — женщину в самом полном и лучшем смысле этого слова.
Но все же Сапфо до сих пор жалела, что тогда, в то поистине драгоценное и короткое время счастья вблизи Анактории, она не смела лишний раз дотронуться даже до руки своей взрослой подруги, не говоря уж о том, чтобы хоть раз зарыться лицом в прохладную, голубоватую копну ее седых волос, или крепко обнять ее за плечи — такие молодые, гладкие и… притягательные.
Но Сапфо сдерживала подобные желания, потому что приписывала их своему слишком уж затянувшемуся воздержанию от близости с мужчинами.
Ведь это казалось ей тогда совершенно невозможным — испытывать с женщиной в постели такое же наслаждение, какое получают любящие супруги, и даже чем-то вовсе постыдным.
Сапфо решила про себя, что ей пришла пора завести любовника — иначе вовсе можно сойти с ума от воображаемых поцелуев и ласк… но почему-то исходящих от губ и рук прекрасной Анакты.
Теперь Сапфо даже смешно было вспоминать о пережитых муках — какой же все-таки она тогда была маленькой и несмышленой!
Сапфо понятия не имела, испытывала ли подобные чувства Анактория — по крайней мере, старшая подруга никогда не высказывала вслух ничего подобного.
Но сама Сапфо тогда впервые для себя открыла, что, оказывается, женщину можно любить с такой же пылкой страстью, как и мужчину.
И даже еще сильнее — потому что в любви к мужчине спрятано признание к чужому, совсем другому миру, а в любви к женщине — узнавание себя и удивление собственному, никогда не раскрываемому до конца, близкому чуду.
Но вот только почему, почему Сапфо так и не осмелилась сказать Анактории о своих чувствах хотя бы слово?
Впрочем, по-своему она все же пыталась.
Ведь как-никак Анакта была первой, кому Сапфо решила показать свои горько-сладкие любовные стихи и напеть песенки — сколько Сапфо себя помнила, они неотвязно крутились в ее голове.
И Анактория, без преувеличения, с самых первых же услышанных строчек, пришла от них в настоящий восторг!
Мало того, она заставила Сапфо спеть эти песни перед другими своими знакомыми женщинами, а потом и еще перед каким-то большим собранием гостей, у которых — Сапфо ясно это видела! — от ее стихов вдруг начинали взволнованно, как-то необычно блестеть глаза.
Все это было так удивительно!
Ведь Сапфо пела вовсе не о героях и не о богах.
Она даже не вкладывала в свои строки воспитательный, назидательный смысл, как это делали настоящие, получившие широкую признательность поэты — да и какой мудрости она могла научить?
Сочиняя свои незатейливые стихотворения, Сапфо просто мысленно (а теперь — вслух, перед всеми!) проговаривала всякие признания, обиды, наблюдения, радости, которыми она не имела возможности поделиться когда-то с Кериклом и с кем-либо из других людей, только лишь потому, что они никогда никому не были по-настоящему интересны.
Возможно, бывшего супруга заинтересовали бы песни, если бы они отражали перипетии борьбы за власть, воспевали бы его подвиги или, на крайний случай, хотя бы восхваляли оружие — мужчины, в том числе и Керикл, когда-то пели за столом такие сколии, — но ничего подобного в стихотворениях Сапфо и близко не было.
А также ни слова — про богатство, роскошь, так ценимую Кериклом, постоянно ставившим в пример персов, мол, умеющих и воевать, и не только привозить домой богатую добычу, но также и обустраивать свою жизнь так, что она казалась великолепнее, чем узоры на павлиньих хвостах.
Иногда Сапфо даже приходило в голову, что постоянно меняющиеся, и причем всегда самые дорогие, наложницы появлялись у Керикла вовсе не потому, что Сапфо не могла удовлетворить нечеловеческой любвеобильности своего мужа, а как возможность еще более утвердиться в славе одного из самых могущественных и богатых людей на Лесбосе, который может позволить себе любую роскошь и удовольствие.
А тут — какие-то смешные, женские песенки!
Но там, вдалеке от родного дома, в благословенных Сиракузах, первые стихи Сапфо о самых простых, до боли знакомых, пережитых чувствах были восприняты первыми слушательницами как самое настоящее откровение.
Мало того: и слушателями тоже!
Послушать песни Сапфо, многие из которых быстро разучили другие женщины и уже исполняли их на всевозможных праздниках то хором, то поодиночке, приходили и весьма именитые поэты-мужчины, которые потом, как правило, с несколько озадаченным видом, но явно выражали одобрение, а также и политики, и ученые мужи, оторвавшись ради этого от своих пергаментов.
Причем желающих познакомиться с творчеством Сапфо и самой молодой поэтессой почему-то становилось все больше и больше. Сначала это были в основном земляки, которых здесь объединяла тоска по родному Лесбосу, потом — и вовсе незнакомые лица, какие-то чужестранцы, и Сапфо даже не слышала названий мест, откуда многие из них были родом.
Всякий раз Сапфо казалось, что ей удается словно что-то отворять в самых закрытых, суровых сердцах, которые люди привыкли на всякий случай держать закрытыми на сто замков, и слушатели благодарят ее именно за это громкими возгласами и еле слышными вздохами облегчения, сами до конца не осознавая, почему, казалось бы, вовсе нехитрые строчки дарят им такую неожиданную, искреннюю радость.
Иногда Сапфо даже пыталась представить: а что, если бы она когда-то все же осмелилась прочитать свои сочинения Кериклу?
Может быть, он тогда все-таки понял бы ее гораздо лучше и крепко, по-настоящему прижал к своему сердцу?
Но, вспоминая гордый, красивый профиль Керикла, Сапфо всякий раз понимала, что она вряд ли и сейчас осмелилась бы на подобную откровенность, даже если бы Керикл вдруг каким-то чудом вернулся из страны мертвых.
Слишком уж много в отношении к мужу у Сапфо было рабского почтения, а точнее, какого-то тайного страха — он буквально сковывал стремящиеся к пению уста.
Но зато теплый, как луч весеннего солнца, взгляд Анактории сумел в два счета растопить, казалось бы, вековечный лед, за последние годы незаметно наморозившийся в груди у Сапфо невидимой, прозрачной глыбой.
И тогда вдруг сразу же — хлынуло, зажурчало, запело…
Примерно в это же время пришло разрешение всем изгнанникам вернуться на Лесбос, которое для обеих женщин стало поистине счастливой вестью.
Ведь теперь они могли тем более никогда не разлучаться и вместе вернуться в родные края!
Но Анактории необходимо было еще на какое-то время задержаться в Сиракузах, и она убедила Сапфо отправиться в путь первой, вместе с группой соотечественников, обещая тут же приехать следом.
И как только Сапфо могла на это согласиться?
Сапфо и теперь никак не могла понять: что же заставило и ее подчиниться общему ликующему порыву, охватившему многих ее земляков при мысли о скором возвращении на Лесбос?
Но все ее старые знакомые вдруг действительно словно на какое-то время помутились рассудком: сразу же засобирались в путь, начали говорить только об этом, предаваться воспоминаниям об оставленных на Лесбосе домах и друзьях, считать дни до отплытия…
Даже те, кто, казалось бы, отлично, на редкость удобно устроились в Сиракузах и даже начали потихоньку вливаться в здешнюю деловую, торговую жизнь, но вот — на тебе!
Как только появилась первая же возможность отправиться на родину, не нашлось буквально ни одного из прежних спутников Сапфо, кто пожелал бы остаться.
Вот и любовник Сапфо, которого она все же выбрала среди своих слушателей из числа соотечественников, тоже вовсю засобирался в дорогу.
Сапфо решила, что с ним будет более спокойно, безопасно отправляться в дальний путь с малышкой на руках — ведь мужчина искренно обещал Сапфо свое покровительство.
Теперь Сапфо не могла даже точно вспомнить: как же звали этого молодого, неплохого человека?
Диофрит? Диофит?
Она помнила только, что у него была странная привычка кусать ее ухо во время любовных игр и в то короткое время, пока продолжалась их связь, уши Сапфо горели, словно от стыда.
Они и сейчас начинали гореть, когда Сапфо вспоминала, что те драгоценные минуты и часы, которые можно было бы провести с Анакторией, она тратила зачем-то на этого необузданного ухогрыза, полагая, что именно он способен удовлетворить дикий, не на шутку разыгравшийся любовный голод ее тела.
Но ведь и саму Сапфо тоже в те дни охватило поистине счастливое нетерпение: ей так вдруг захотелось как можно скорее увидеть родной дом, показать дочку матери и отцу — замкнутому человеку с длинным именем Скамандроним, которые никогда еще не видели маленькой Клеиды, побродить по любимым рощам и холмам, и даже просто выпить пригоршню воды из лесбосского родника, которая на чужбине казалась слаще и желаннее самого изысканного заморского вина.
Но самое главное, что Сапфо почувствовала: именно теперь, вернувшись на Лесбос, ей удастся написать самые лучшие свои стихотворения, и даже, может быть, — чем Аполлон не шутит! — сделаться по-настоящему прославленной поэтессой.
Она ощутила в себе небывалую силу, которая должна была еще многократно увеличиться сразу же, как только ноги почувствуют под собой родную землю…
Эти предчувствия Сапфо не обманули — так и получилось.
Вот только с тех пор Сапфо никогда больше не видела свою Анакторию.
«Никогда…» — слово страшное, как камень, брошенный в воду.
Сапфо с тех пор даже и не слышала о своей дорогой подруге что-либо определенное, хотя с настойчивостью умалишенной постоянно пыталась раздобыть хоть какие-то сведения о ее судьбе.
Куда она исчезла? Что с Анакторией могло приключиться?
Какой-то заезжий чудак, бывший сосед по сиракузскому дому, пытался уверить Сапфо, что сразу же после ее отъезда Анакта вдруг зачем-то срочно отправилась в Византию.
Но зачем подруге вдруг понадобилась Византия, если она никогда раньше туда не собиралась и ничего не говорила Сапфо о своих намерениях?
Кто-то уверял, что Анактория все же тайно появлялась в Митилене, столице Лесбоса, но потом так же незаметно исчезла из города в неизвестном направлении.
Эта версия была еще более маловероятной: Анактория не могла бы, появись она на родине, тут же не разыскать свою Сапфо — нет, такое было совершенно исключено.
Злые языки вообще болтали, что тот корабль, на котором Анактория вскоре вслед за земляками отправилась к берегам Лесбоса, потерпел кораблекрушение и во время сильной бури никому не удалось спастись.
«Глупость! Чушь!» — упрямо качала головой Сапфо.
Тогда боги непременно известили бы ее об этом хотя бы во сне!
Звучали еще и другие всевозможные нелепости: про то, что Анактория добровольно лишила себя жизни, не в силах бороться со своей тайной женской болезнью, или что она, наоборот, отправилась к дельфийским жрецам, надеясь на излечение, и даже что снова вышла замуж за какого-то торговца оливковым маслом и уехала с ним на край света.
Сапфо много раз с горечью вспоминала слова Анактории о том, что женщины во многих странах почему-то приравнены к листьям на деревьях — они не внесены в гражданские списки, поэтому их также никто не пытается пересчитать, или хотя бы вслушаться в их лепет, тогда как мужчины считаются настоящими людьми.
Ну а уж если листок с ветки сорвется и его понесет куда-то ветром…
Но что бы вокруг ни говорили, Сапфо жила постоянной надеждой, что когда-нибудь она снова увидит Анакторию.
И представляла, что придет такой день, когда ее неожиданно окликнет голос подруги, которую Сапфо считала не только первой, настоящей любовью в жизни, но и своей десятой музой, сумевшей каким-то чудом вызволить из ее стиснутой гортани песню.
Может быть, потому-то Сапфо и столь откровенно радовалась своей известности — ведь это еще больше укрепляло надежду, что молва о славе знаменитой поэтессы из Лесбоса может когда-нибудь все же достичь и ушей Анактории, где бы та теперь ни находилась, и подруга явится, чтобы послушать, как сильно за время разлуки окреп голос Сапфо.
Возможно, Анактория за это время совсем состарилась и даже сделалась вовсе неузнаваемой — но Сапфо все равно крепко обнимет свою подругу и узнает хотя бы только по созвучному биению их сердец.
Так когда-то герой Пелей прижал к своей груди Фетиду, будущую мать Ахилла, которая, желая его обмануть, превращалась то в горящий куст, то в серебряный поток, то в водопад, то в змею, а то и в чудовище…
Но он все равно не разжал своих рук, и тогда она, устав притворяться, показала ему, наконец-то, свой истинный, божественный образ.
Наверное, Пелей так же сильно любил нереиду, как и Сапфо Анакторию, одно текучее имя которой мгновенно вызывает в душе волну нежности.
Когда-нибудь, закрывшись от всех, Сапфо много дней подряд будет петь только для Анактории, для нее одной.
— Псаффа! — окликнул чей-то голос буквально над ухом, так что Сапфо невольно вздрогнула.
Ну, конечно, так ее называла только Сандра, незаметно пробравшаяся в комнату.
— Псаффа, ты заболела? — с тревогой заглянула Сандра в лицо Сапфо. — У тебя сильно болит голова?
— Ничего, не беспокойся напрасно, — слабо улыбнулась подруге Сапфо. — Но… как ты узнала? Наверное, тебя уже навестила моя Диодора, у которой слова не держатся, словно огонь за зубами…
— Нет, Псаффа, я сама, — вздохнула Сандра. — Потому что у меня тоже сейчас вдруг резко заболела голова. Вот здесь. И я сразу узнала про твой внезапный недуг.
И Сандра осторожно дотронулась рукой как раз до того места на затылке Сапфо, где действительно коварно затаилась пульсирующая боль.
Нет, все же сколько раз ни слышала Сапфо от Сандры подобные признания, она никогда не могла к ним привыкнуть.
Разумеется, она знала, что между любящими людьми образуется крепкая, невидимая связь, — понимала это умом.
Но когда такая связь проявлялась в подобных, конкретных мелочах, то это почему-то рождало в душе у Сапфо неясную тревогу.
Мало того, Сандра нередко говорила, что не переживет смерти Сапфо, а лучше в тот же самый день тоже лишит себя жизни, и вслух кляла судьбу за то, что в ее жилах текла кровь какой-то древней сивиллы, поневоле обрекая на долгожительство.
Конечно, Сандра не была настоящей сивиллой, которые, как говорят знатоки, живут не менее тысячи лет.
Но про то, что ей придется пережить всех людей, сейчас ее окружающих, Сандра всегда знала точно.
И могла спокойно смириться с потерей каждого, но только не Сапфо.
Именно поэтому, будучи от природы искуснейшим доктором, который может на глаз определить то или иное заболевание и излечивать людей от самых различных недугов, Сандра считала чуть ли не главным делом своей жизни — неусыпно следить за здоровьем Сапфо, лично бороться со всеми ее хворями и позаботиться о ее долголетии.
Вот и сейчас, едва дотронувшись до головы Сапфо и убедившись, что здесь действительно находится больное место, Сандра молча взяла руку Сапфо в свою и принялась нежно массировать по очереди каждый палец, приговаривая шепотом какие-то непонятные слова.
Сандра как-то говорила, что все части тела на самом деле связаны между собой невидимой паутиной, и для того, чтобы прогнать злобного паука, притаившегося в голове или, допустим, в животе, порой бывает достаточно просто подергать за палец или помассировать пятку.
Вот и теперь Сапфо не сопротивлялась сильным рукам Сандры, даже если ей становилось немножко больно, когда та ногтями сдавливала мизинцы — но зато при этом она чувствована, что боль в голове, только что казавшаяся нестерпимой, понемногу отступала, начинала рассеиваться, как черное, мглистое облако.
Потом Сандра стала ощупывать и слегка простукивать каждый позвонок на спине Сапфо — она называла позвоночник «человеческим тростником», на котором прочно, или не очень, у всех людей держится здоровье.
Движения Сандры сделались отрывисты и точны, и теперь она больше ничего не говорила вслух, словно желая вложить всю силу непроизнесенных слов в свои пальцы.
Сапфо по опыту знала, что в такие минуты ей тоже лучше всего молчать, и уж тем более не сопротивляться — на непоседливого, чересчур суетливого больного Сандра ведь могла и разгневаться.
Но когда Сандра уже перешла к ногам и принялась нажимать на какие-то только ей приметные точки, якобы расположенные на стопах и пятках, а потом натирать пятки незнакомой ароматной мазью, Сапфо не выдержала и тихо засмеялась, тем более что она уже почувствовала себя абсолютно здоровой.
— Потерпи, осталось совсем немного, Псаффа, — слегка нахмурила Сандра свои черные, крылатые брови, но потом не выдержала и тоже нежно улыбнулась.
Руки Сандры теперь казались такими ласковыми и целебными, что Сапфо от блаженства могла бы сейчас запросто замурлыкать, как кошка.
Сандра закончила свою работу и, желая передохнуть, прилегла рядом с Сапфо.
Всякий раз врачевание отнимало у нее очень много сил, и было похоже, что сейчас Сандра наконец-то сможет уснуть и освободиться от своей изнурительной бессонницы.
Но нет — Сапфо это только показалось!
Когда две женщины отдыхают вместе, сон стоит за дверью, но почему-то не торопится приблизиться к ложу.
Нога Сандры в затаенной тишине скользнула по Сапфо, подарив короткую, нежную ласку.
Еще ни один поцелуй Сандры не достиг губ Сапфо, ни рука — сжатых колен, но обе они уже знали, что сейчас это произойдет, потому что уже не может не произойти.
Черные локоны Сандры свободно колыхались над головой Сапфо, словно прекрасные птицы, готовые унести двух женщин в неведомую даль, где цветут медовые ласки женщин.
— О, моя нежная, любимая Псаффа, — пробормотала Сандра каким-то странным, хриплым голосом, словно сдерживая готовые выплеснуться наружу рыдания.
У Сандры — длинные волосы, но маленькая, мужская грудь и прямые бедра, и она умеет овладевать еще неистовее, чем мужчина.
Но сейчас Сандра не спешила, потому что, будучи настоящей женщиной, ценила в постели не напор и быструю победу, а каждое сладостное мгновение любви и возможность общего, непременно совместного полета.
Закрыв глаза, Сандра страстно приникла к губам Сапфо, так что наконец-то их языки соединились, а руки начали блуждать по одежде, стараясь угадать обнаженность тела…
— О, Псаффа, я, пожалуй, до завтрашнего дня не стану мыться и причесываться из опасения, как бы не стереть твои ласки, не захочу помадить губы и пудриться, чтобы сохранить твои поцелуи, — сказала Сандра, когда две женщины уже отдыхали от любовного изнеможения, но не желая пока пробуждаться окончательно.
— Ну, это уже слишком, — пробормотала Сапфо.
— А знаешь — почему? — рассмеялась Сандра счастливым, звонким смехом. — Потому что до завтрашнего дня, Псаффа, я все равно буду крепко спать, а утром проснусь с таким чувством, как будто бы родилась заново. И это — благодаря тебе, только одной тебе.
Сапфо молча поцеловала подругу в теплое веко, которое, казалось, было искусно вылеплено каким-то божественным мастером из мрамора, а сейчас было прогрето солнцем их любви, лежащим где-то в самой глубине тела.
И это показалось Сандре лучше любого ответа.
— Можно, Псаффа, я останусь спать здесь, в нашей усталой постели, которая еще долго будет хранить отпечаток твоего тела, даже когда ты уйдешь? — спросила Сандра, видя, что Сапфо потянулась собирать разбросанную в беспорядке одежду.
— Конечно, моя радость, — ответила Сапфо, которой уже не терпелось выйти на улицу, хотя Сандра все еще продолжала тихо забавляться ее волосами, то завязывая их под подбородком, то снова распуская по своей прихоти и пропуская сквозь свои растопыренные пальцы, как сквозь гребенку.
Когда Сапфо вышла на улицу, ей показалось, что только что наступило утро — второе за этот день, но еще более свежее и промытое.
Любовь Сандры словно очистила для глаз Сапфо все краски природы, как особый раствор может иногда мгновенно снять патину с благородных металлов.
Снова по-особому ярко зеленела листва, пока еще никак не сдававшаяся перед неизбежностью скорой осени, ослепительными, снежными глыбами плыли по синему небу облака.
Сапфо чувствовала, что теперь все ее тело, будто священный сосуд, наполнен спокойствием и ни с чем не сравнимой приятной негой.
Когда-то Анактория сказала Сапфо странные, очень странные слова, их смысл она поняла только сейчас, спустя много лет.
«Всякая женщина, которая будет искать в любви не тело, а душу, — обречена на женщину», — вот что сказала Анактория, глядя на Сапфо загадочными, мерцающими глазами.
Как это точно сказано — обречена на женщину, и сопротивление в данном случае не имеет никакого смысла.
Проходя между деревьями по дорожке, ведущей к морю, Сапфо заметила, что в дальней веранде напротив друг друга сидели Алкей и Фаон — кажется, мужчины развлекались настольной игрой в кости, и их неподвижные фигуры были слегка наклонены друг к другу.
Сапфо с облегчением отметила про себя, что больше не испытывает никаких особенных, странных чувств при виде сына Тимады.
Милый, добрый, прелестный мальчик — мало ли таких на белом свете?
Целое войско, готовое идти на любовные битвы, если поставить их плечом к плечу.
Но вдруг Сапфо вздрогнула и остолбенела от внезапной догадки.
Потому что только сейчас, увидев Фаона на расстоянии, Сапфо поняла, чем именно ее так сильно поразила внешность Фаона с его копной светлых, почти что белых волос и темными, лучистыми глазами.
Фаон, как никто другой, напомнил Сапфо о ее драгоценной седой музе — об Анактории.
Словно бы та сама наконец-то надумала явиться к Сапфо, но только в новом, еще более прекрасном облике — в неподражаемом цветении юности.
Глава четвертая ПЕРВЫЕ «ФАОНИИ»: ПРОБА ГОЛОСА
Праздник решили провести днем на свежем воздухе, как всегда, на открытой поляне.
Она была расположена совсем недалеко от того обрыва, который в течение нескольких лет служил женщинам неизменной смотровой площадкой для наблюдения за восходами и заходами солнца, а нередко — и за штормовыми морскими бурями, и к тому же эта поляна была щедро оснащена жертвенниками для служения всевозможным богам и считалась в здешних местах священной.
При желании на поляне можно было хоть весь день передвигаться от алтаря к алтарю и приносить жертвы поочередно то Зевсу-Дарителю, то Гере, то Дионису, то Деметре или Гераклу, и всем, кому только вздумается, — насколько хватило бы до ночи даров, голоса и сил.
Но чаще всего любой, пусть даже маленький праздник посвящался кому-либо одному из богов, и люди старались придерживаться негласного распорядка, позволявшего в течение года постепенно охватывать своим вниманием всех небесных покровителей.
Считалось, что ревнивые друг к другу боги не любят, когда о них вспоминают скопом, и согласны лучше терпеливо дожидаться своей очереди, чем попасть в общую толпу и слушать перепутанные гимны.
Разумеется, это не касалось крупных, повсеместных праздников вроде фесмофорий, когда все греческие женщины осенью, в посевную пору, устраивали большие и порой не вполне приличные игрища в честь Деметры и Персефоны, которые должны были способствовать плодовитости человека и всей природы, или крупномасштабных шествий в честь Зевса или Диониса — само собой разумеется, что на Лесбосе они тоже отмечались с особой торжественностью.
Но в школе Сапфо было заведено, что даже самые маленькие, шутливые состязания и развлечения посвящались тем или иным небожителям, потому что приятный досуг здесь тоже считался делом «божественным» и очень важным.
Весь предыдущий день и в самом доме, и на заднем дворе, и в близлежащей роще царило небывалое оживление.
Подруги то в одном, то в другом месте собирались кто попарно, а кто небольшими группами, разучивали какие-то новые песни, неожиданно появлялись в каких-то странных нарядах и потом снова исчезали, но, казалось, буквально отовсюду, даже из лесной чащи, раздавалось их таинственное шушуканье и смех.
Это была та завораживающая, волнующая атмосфера подготовки к празднику, которая порой приносила людям не меньше радости, чем сам праздник, а точнее, сама по себе уже казалась праздником.
Сапфо про себя называла такое настроение «предчувствием песни» — когда слова еще не высказаны, но та сила, которая заставляет их все же вот-вот сорваться с языка, уже радостно и неукротимо теснит грудь.
Почему-то на этот раз в подготовке первых «фаоний» особенно бурной энергией отличалась Дидамия.
Казалось, она вовсе забыла, что такое усталость и скука: Дидамию одновременно видели почти одновременно в самых разных местах.
То она в который раз со вдумчивым видом беседовала с Эпифоклом, записывая за ученым чуть ли не каждое слово, то Сапфо встречала ее уже поющей в беседке с подругами, то о чем-то со смехом рассказывающей не слишком веселой Филистине.
Фаон тоже в этот день частенько появлялся то в доме, то во дворе, увлеченный подготовкой к празднику, который к тому же должен был (в шутку ли? на самом деле?) носить именно его имя.
Сапфо почти постоянно видела его рядом с Алкеем либо с Филистиной и замечала, что со щек юноши, покрытых нежным, совсем еще детским пушком, от волнения буквально не сходит пунцовый румянец.
После того как отъезд Фаона был отложен на время «сразу же после праздника», Сапфо испытала почему-то невероятное облегчение.
Ведь это означало, что юноша хотя бы еще несколько дней на законных основаниях пробудет рядом, на глазах, и ей пока не нужно было ломать голову, а точнее — душу насчет его дальнейшей судьбы.
В конце концов, такой вынужденной паузы, как считала Сапфо, ей может вполне хватить, чтобы настроиться на прежний, спокойный лад и не поддаваться своему искушению.
Сапфо даже научилась почти не обращать на присутствие Фаона особого внимания — по крайней мере, она уже не краснела и не бледнела при его внезапном появлении, как глупая девчонка.
Ничего, теперь от глупых мыслей ее охраняла мудрая Гея — мать всех богов — которой Сапфо сегодня горячо помолилась на заре и принесла обильные жертвы.
Впрочем, один раз Сапфо все же сама вызвала Фаона на разговор, и теперь вспоминала об этой беседе с невольной улыбкой.
Сапфо решила, что есть смысл заранее подробно поговорить об увлечениях и склонностях юноши: она должна иметь о них хоть какое-то представление, прежде чем рекомендовать Фаона известным афинским учителям.
Может быть, Фаон всерьез увлекается математикой, философией, риторикой и уже имеет на этот счет какие-либо честолюбивые планы, о которых Сапфо пока просто ничего не известно?
Но на все заданные вопросы Фаон только отрицательно качал головой или растерянно пожимал плечами.
Нет, ничего подобного за ним, похоже, не водилось, и получалось, что Фаону было совершенно безразлично, чему, зачем и у кого учиться.
Но Сапфо была сильно заинтригована и так просто, ни с чем, отступать не хотела: может быть, в таком случае у Фаона есть склонность к музыке, поэзии, танцам или другим видам искусств, находящимся под покровительством Аполлона и какой-либо из девяти Муз?
— Ой, нет, я даже не знаю, — скромно потупившись, признался Фаон. — Тогда я спел только потому, что вы все меня очень попросили. Но вообще-то Филистина говорит, что мне в детстве, наверное, в уши заползли муравьи, когда я нечаянно заснул на муравейнике, и они так сильно растащили звуки моих мелодий в разные стороны, что их порой просто невозможно собрать в кучку.
— Но тогда, быть может, ты, Фаон, хотел бы прославиться на Олимпийских играх, как бегун, или атлет, и завоевать себе лавровый венок на спортивных состязаниях? — спросила Сапфо, дружелюбно улыбаясь. — Об этом в твоем возрасте мечтают многие юноши!
Но и такое предположение не прибавило Фаону радостного блеска в глазах, и он только вздохнул, давая понять, что определенно не представляет себя даже мысленно в роли победителя на каких-либо крупных спортивных игрищах.
Сапфо поневоле сделалось еще любопытнее: кем же все-таки видит себя этот загадочный юноша во взрослой жизни, к которой, как ни крути, он уже подошел почти что вплотную?
Торговцем? Воином? Моряком?
Пожалуй, последнее предложение Фаону понравилось больше прочих, но и тут у него имелись в душе какие-то сомнения.
— Знаешь, Сапфо, я только сейчас понял: наверное, больше всего на свете я хотел бы быть паромщиком, — вдруг неожиданно сказал Фаон, поднимая на Сапфо красивые, но такие простодушные глаза.
Сапфо невольно загляделась: как две далеких, заоблачных звезды в бахроме ресниц.
— Кем? Паромщиком? — не поняла даже поначалу смысла внезапного признания юноши Сапфо.
Что ни говори, но это была несколько странная мечта для молодого, полного нерастраченных сил человека, который сейчас имел счастливейшую возможность избрать себе в общем-то любой, самый необыкновенный жребий…
— О, как бы это было для меня хорошо! — воскликнул Фаон, увлеченный новой идеей. — Я много думал все эти дни. Да, точно, я не могу пожелать для себя лучшей доли, чем стать паромщиком! Но вот где именно и как — этого я пока что совсем не знаю.
И Фаон несколько путано пояснил свою мысль: с одной стороны, паромщик всегда находится в пути, и имеет возможность встречаться с самыми разными людьми, и слушать их рассказы, но с другой стороны, — его никогда не занесет на край света каким-нибудь дурным ветром, как это всегда бывало с морскими путешественниками еще со времен Одиссея, и паромщик точно знает, что, всласть поборовшись с волнами, он всегда вернется домой, на прежнее место, где его будут ждать близкие люди.
— Значит, тебя не привлекает даже судьба Одиссея, который пережил множество самых удивительных приключений? — искренно удивилась Сапфо, потому что за свою жизнь она встречала немало мальчишек, мечтавших оказаться под стенами Трои и сражаться там с неукротимостью Ахиллеса, а потом пуститься, подобно Одиссею, в чудесные странствия.
Но среди них не было ни одного, который желал бы себе доли перевозчика, чего-то похожего на долю угрюмого Харона.
— Ну уж нет! — твердо сказал Фаон. — Счастье Одиссея, что его блуждание по миру закончилось более-менее благополучно. И все же лично мне из всех его приключений больше всего нравится тот момент, когда добрая служанка Эвриклея начинает мыть страннику ноги и, единственная из всех, узнает Одиссея по шраму на ноге. Но что было бы, если бы к этому моменту Эвриклея уже сошла в другой мир? Ты когда-нибудь об этом задумывалась?
— Нет, — призналась Сапфо, которой действительно никогда не приходило в голову рассматривать историю про многоумного героя именно с этой стороны.
— Просто тогда Одиссей — ведь он за годы скитаний внешне изменился до неузнаваемости — никому не сумел бы доказать, что он — это он. Ни своей Пенелопе, ни сыну — его бы просто приняли за бродягу-самозванца и взашей прогнали из собственного дома, разве не так? — не на шутку разволновался Фаон. — А старая Эвриклея хотя и была уже почти слепой, но все равно видела лучше их всех, вместе взятых…
— Ты, наверное, просто забыл, Фаон, — мягко сказала Сапфо. — Ведь потом был момент, когда только Одиссей из всех женихов сумел натянуть лук…
— Нет, все равно, — упрямо покачал головой юноша. — Все равно.
Сапфо было забавно слушать совсем детские рассуждения Фаона, в которых она угадывала и рассудительные интонации хозяйственной молочницы Алфидии, и старательно сдерживаемую юношескую порывистость, доставшуюся ему в наследство от маленькой Тимады, и личное желание показаться сейчас перед ней человеком разумным и самостоятельно мыслящим.
Ну надо же, паромщик!
Это показалось Сапфо смешным и даже откровенно глупым!
Но, вспомнив о разговоре с Фаоном через некоторое время, ближайшей бессонной ночью, Сапфо вдруг пришла к выводу, что за наивной мечтой юноши на самом деле скрывается еще и совсем другая глубина — врожденное чувство меры, душевного равновесия, которым может похвастаться вовсе не любой из мудрецов.
В сущности, единственное, что способно сделать человека по-настоящему счастливым.
И пожалуй, в воображаемом образе паромщика это драгоценное чувство меры Фаона уже вовсю давало себя знать: ничего слишком, всегда держаться середины, суметь оставаться между двух берегов.
На одном берегу — дом, привычная жизнь; на другом — чужбина; неизведанные, таинственные возможности, но душа Фаона изо всех сил желала бы удержаться где-то посередине, не прибиваясь всецело к какому-то из этих берегов, и тем самым охраняя свою свободу, и одновременно — счастье.
Конечно, любому честолюбцу, который в мыслях пытается сравниться с богами, невнятная мечта Фаона могла бы показаться нелепой, и даже скорее достойной раба, чем свободного человека.
Но так ли это на самом деле?
И еще, долго ворочаясь без сна на своем ложе, в эту ночь казавшемся холодным и чуть ли не каменным, Сапфо снова и снова вспоминала слова Фаона про старую, подслеповатую служанку Одиссея, которую он назвал в разговоре «самой зрячей из всех».
И в этих простых, робких словах юноши Сапфо тоже увидела глубоко скрытую, может быть, даже не до конца понимаемую им самим великую мудрость.
А действительно: какое зрение следует считать наилучшим?
У одноглазого Киклопа был один огромный глаз, нацеленный в одну точку, каким не мог похвастаться никто из людей, но Одиссей сумел легко победить чудовище при помощи хитрости.
Ведь и тысячеглазый Аргус — верный стражник богини Геры, вездесущий, как звездное небо, и умевший одновременно глядеть во все стороны, тоже в конце концов лишился своей головы.
Сапфо вспомнила также и дальнозоркого аргонавта Линкея, который стоял на носу корабля Арго и заранее видел не только далекие, приближающиеся скалы, но и вообще умел глядеть сквозь землю, — но даже ему не удалось спастись при помощи своего необыкновенного зрения.
Фаон был прав: по-настоящему можно увидеть лишь особым, любовным взглядом — только любовь, чувство делает зрение человека поистине всепроникающим и, как выясняется, дает божественную зоркость.
В доме Одиссея действительно все были слепыми и лишь старая Эвриклея — зрячей, потому что за многие годы она единственная не забыла и не разлюбила скитальца, и это стало главной гирькой на весах его судьбы, которая уравновесила долгие годы странствий со счастливым моментом возвращения.
И еще Сапфо подумала, что, наверное, именно поэтому на глазах многих смертных лежит плотная пелена, не позволяющая им воочию видеть богов.
Лишь избранные, те, что любят небожителей по-настоящему, всем сердцем, способны особым зрением видеть иногда перед собой бессмертные лики и даже беседовать с олимпийцами.
Лишь те, кто по-настоящему умеют любить…
Но откуда все это может быть известно Фаону, выросшему в маленьком доме на краю буковой рощи, все свое детство забавлявшемуся с козлятами и игравшему им на свирели?
Под утро Сапфо все же смогла ненадолго заснуть, и ей неожиданно приснился Фаон, чем-то похожий на полузабытого мужа Керикла.
Во сне у Фаона были черные как смоль волосы и холодные стальные глаза — полная противоположность тому, как юноша выглядел на самом деле, — и он сурово смотрел исподлобья куда-то мимо лица Сапфо, в неведомую даль.
Сапфо задумалась: говорят, в Стране Блаженства, о которой ходит много легенд, люди почему-то бывают седыми в детстве, а к старости — наоборот, чернеют, потому что время там движется задом наперед.
Может быть, как раз Фаон что-то знает об этой самой загадочной Стране Блаженства?
Скорее всего, в нее тоже возможно проникнуть только лишь при помощи силы любви, и никак иначе.
Но слишком долго лежать в постели и предаваться туманно волнующим размышлениям о загадочной Стране Блаженства Сапфо не могла: наступил день поэтического состязания, который Алкей упорно называл «фаониями».
Погода в этот день выдалась на редкость благодатной, солнечной, и праздничная поляна издалека напоминала большой, пышный цветник.
В эти сентябрьские дни, когда месяц боедромин еще только набирал силу, на холмах само по себе бушевало многоцветие полевых цветов, целые островки зарослей душистого укропа и других причудливых трав, и потому вся местность, особенно если можно было бы посмотреть на нее сверху, должна была казаться большим, искусно вытканным ковром, рисунок которого уже через год в точности повторить совершенно невозможно.
Но к празднику поляну еще и специально украсили розами, цветочными венками, коврами и расшитыми покрывалами, на которых так приятно было в минуту отдыха понежиться на солнце, поэтому она и вовсе казалась благоухающей, цветочной клумбой, и самыми красивыми цветами на ней, конечно же, были люди, и в первую очередь — нарядно одетые женщины.
Сапфо подумала, что боги, которые с небес, разумеется, с интересом наблюдали за происходящими действиями, должны были остаться довольны открывшимся у них перед глазами зрелищем и послать хорошую погоду.
По сути дела, именно они, небожители, всякий раз были главными и единственными зрителями всевозможных празднеств и песнопений, потому что все присутствующие на поляне сразу же становились активными участниками то хора, то хоровода, и никому даже не приходило в голову просто сесть в стороне и отчужденно смотреть, как себя будут вести другие.
Наверное, боги, а в особенности богиня Афродита должна была остаться довольной также и обильным жертвоприношением из молока и меда, которое было принесено перед началом праздника на небольшом алтаре, сложенном из ослепительно белых камней в ее честь.
По крайней мере, всем показалось, что после того, как молоко струйками растеклось по камням и просочилось через зелень травы в землю, солнце засветило еще ярче и щедрее, чем прежде, и кто-то словно невидимой рукой смахнул с неба последние хмурые тучки, порой залетавшие сюда случайно из-за моря.
— Я наконец-то понял: у вас здесь какая-то своя религиозная община, только для посвященных, — прошептал Эпифокл Дидамии, с которой стоял рядом, едва-едва доходя ей ростом до плеча. — И Сапфо здесь — царица. Сапфо и еще — ты.
— Разве? — удивилась Дидамия, на минуту отвлекаясь от пения — у нее был очень низкий, густой голос, живший где-то в самой сердцевине груди.
А Эпифокл, прищурившись, с видом ювелира рассматривал сейчас лица и фигуры женщин, самозабвенно исполняющих на разные голоса известный гимн в честь природы, где природа называлась то кормилицей-матерью, а то «самоотцом, не имущим отца».
— Я же вижу: вы принимаете к себе не всех, а только самых красивых женщин, которых сумели создать великие боги, поэтому среди вас тут нет ни одной дурнушки. А ведь их немало встречается в других местах! — продолжал шепотом делиться с Дидамией своими выводами Эпифокл. — Вы все в своей общине связаны между собой идеей бессмертной красоты и считаете себя жрицами Афродиты, но никому про это вслух не рассказываете, разве не так?
— Мы все связаны между собой любовью, — с улыбкой пояснила Дидамия, слегка наклоняясь к своему спутнику. — И в этом смысле — конечно, нас можно назвать особой семьей, которая находится под покровительством Афродиты…
— Но, значит, богиня любви и красоты сама внушает вам, чтобы вы брали к себе только безупречных красавиц, — упрямо повторил Эпифокл. — Я много всякого разного повидал на своем веку, но впервые вижу одновременно так много красивейших женских лиц, фигур и голосов, нарочно собранных в одном месте. Это несколько похоже на чудо, хотя я, как всякий ученый, обычно все же пытаюсь найти любым необычным явлениям разумное объяснение…
— Хорошо, тогда я открою вам один наш секрет, — тихо сказала Дидамия, и Эпифокл даже незаметно приподнялся на цыпочках, чтобы лучше расслышать ее слова. — Мы не принимаем к себе исключительных красавиц, но женщины, которые приходят сюда, незаметно сами в них превращаются — да-да, не удивляйся, Эпифокл, все без исключения. Любая женщина, согретая лучами взаимной любви, способна расцвести… как вот этот самый цветок.
И с этими словами Дидамия вручила Эпифоклу одну из роз, из которых был искусно сплетен ее пояс.
Но выдернув цветок из общего сплетения и протянув старику, Дидамия невольно удивилась своему маленькому открытию.
Эта ярко-бордовая роза, настоящее украшение венка-пояса, в руке Эпифокла сразу же показалась ей какой-то сиротливой с изломанным, жалким стеблем, оборванными шипами, не такой уж и пышной, несколько подвядшей от жары.
Дидамия подняла глаза на своих подруг и особенно долго задержалась взглядом на Сапфо — вот кто первая поняла, что именно в женщинах, собранных вместе, любовно сложенных в один букет или общий венок, начинает с особой выразительностью проявляться неведомая сила цветения их всевозможных талантов.
Каждая из подруг Сапфо, несомненно, обладала каким-то особым, только ей присущим, неповторимым дарованием, но ведь при других условиях эти способности могли бы и завянуть, как обычно случается во время внезапных морозов с неокрепшими побегами.
Эпифокл перехватил взгляд Дидамии.
— Скажи, моя царица, Сапфо всегда такая молчаливая? — спросил он, тоже с интересом вглядываясь в лицо прославленной поэтессы. — Признаться, я представлял ее несколько иначе. И думал, что мне удастся побольше с ней поговорить и узнать о ее воззрениях на жизнь.
— Нет, не всегда, — призналась Дидамия, которую тоже в последнее время несколько озадачивал замкнутый вид Сапфо — она казалась полностью погруженной в себя, и даже выглядела чем-то расстроенной. — Но ведь вам вовсе необязательно говорить с самой Сапфо, чтобы узнать, о чем она думает.
— Как это? Что за новые загадки? — не понял Эпифокл.
— Достаточно послушать, о чем разговариваем и поем все мы, чтобы понять, кто такая наша Сапфо, — с гордостью сказала Дидамия. — Сапфо — это каждая из нас, и одновременно все мы, вместе взятые. Ведь все, кого ты здесь видишь, — прежде всего подруги Сапфо, и значит, в каждой из нас можно найти хоть что-то, созвучное ее душе…
— Вот она — моя теория взаимных связей и проникновений, — воскликнул Эпифокл. — И я сейчас буквально могу видеть ее перед своими глазами. Удивительно! Наверное, сами боги направили меня к вам сюда в повозке Алкея. Погоди-ка, погоди-ка, во мне уже начинает пробуждаться еще одна новая мысль…
— Поздравляю тебя, — сказала Дидамия.
Она отобрала у Эпифокла цветок, сняла с себя пояс, снова ловко вплела розу в общий венок и затем шутливо надела его Эпифоклу на голову, прикрывая лысину старика.
— Мне кажется, тебе, как самому старшему из нас, и к тому же зачинателю «фаоний», следует выступить первым, — подсказала Дидамия, и Эпифокл с венком на голове, подняв руку, тут же вступил в центр круга, показывая, что собирается что-то сказать или пропеть.
Женские голоса сразу же затихли, уступая место солисту.
Обычно на подобных праздниках, проводимых в форме музыкальных состязаний, не было четкой очередности — кто, когда и за кем должен демонстрировать свое мастерство — каждый руководствовался движениями собственного сердца и начинал петь тогда, когда внутренне чувствовал к этому себя абсолютно готовым.
Тогда певец просто выходил на середину круга, прерывая общие гимны, которые, впрочем, могли без остановки звучать и до глубокой ночи, если у участников праздника неожиданно одновременно пропадало желание оказываться у всех на виду.
Впрочем, в школе Сапфо подобного не случалось ни разу.
Вообще-то, сначала Эпифокл намеревался на «фаониях» познакомить слушателей с отрывками из своей любимой, правда, пока еще не законченной эпической поэмы о пронзительных свойствах солнечного света.
Но теперь, глядя на окружающие его со всех сторон одухотворенные женские лица, неожиданно переменил свое решение.
Эпифоклу пришло на ум, что на этой поляне гораздо уместнее будет под звуки кифары исполнить что-нибудь более темпераментное, чем его поучительная поэма, так сказать более мужественное, способное, в свою очередь, наполнить волнением любое женское сердце.
Может быть, философ тоже незаметно для себя проникся идеей негласной круговой поруки, но только — особой, мужской?
Поэтому Эпифокл предложил вниманию слушателей песни Архилоха, предварительно пояснив, что он как раз направляется на остров Фасос, где долгое время воевал прославленный поэт, и поэтому сейчас кто-то словно сам подтолкнул его язык исполнить именно Архилоховы песни.
На поляне сразу же воцарилась такая полная тишина, что в промежутках между переборами струн кифары, которые не всегда вполне хорошо слушались негнущихся пальцев Эпифокла, было слышно жужжание диких пчел, перелетающих с цветка на цветок.
Услышав имя Архилоха, Алкей невольно оглянулся на Сапфо: она не отрывала взгляда от поющего философа, нервно сплетая и расплетая свои красивые пальцы и словно мучительно размышляя о чем-то своем.
Алкей нахмурился: ну кто, спрашивается, просил сейчас этого неразумного толстопуза начинать праздник именно с песен Архилоха, которого, кстати сказать, давно уже не было среди живых на этом свете?
Ему что — мало живущих?
Алкей почувствовал, что у него сразу же резко испортилось настроение.
Конечно, на этой поляне не только он один, но, наверное, и все остальные были наслышаны о том, что Архилох какое-то время был, или считался, возлюбленным Сапфо.
Так ли это было на самом деле?
Возможно, это просто были очередные слухи, которыми имя Сапфо с каждым годом опутывалось все плотнее, словно густым туманом.
Но узнать что-либо более определенное оказалось делом совершенно невозможным.
«Да, разумеется, Архилох — мой возлюбленный, — улыбаясь, ответила однажды Сапфо на откровенный вопрос Алкея. — Он, и еще — прославленный певец Орфей, который любил свою Эвридику так же красиво, как и сочинял свои песни, впрочем, как и многие другие…»
Алкей так до конца и не понял: то ли Сапфо тогда пошутила, то ли пыталась скрыть за этой шуткой истинную правду, и поэтому он теперь следил за непроницаемым выражением ее лица с повышенным вниманием.
Получалось, что одного поэта — безумного Архилоха — Сапфо почему-то посчитала возможным одарить своей любовью, а его, Алкея, упорно продолжала держать на расстоянии как несмышленого мальчишку.
Правда, связь Сапфо и Архилоха (впрочем, ходили упорные слухи, что в числе возлюбленных Сапфо был в свое время также поэт Гиппонакс и кто-то еще из рифмоплетов!) могла продолжаться совсем недолго, если учесть, что они встречались всего один раз на острове Паросе во время большого праздника в честь богини Афродиты, куда каким-то ветром занесло и Сапфо, но ведь за праздничную неделю тоже можно было успеть немало!
Но даже если любовная связь Сапфо с нахалом Архилохом была действительно всего лишь слухом, то Алкею, признаться, было все равно досадно, что ему не досталось даже тени подобной молвы.
Наоборот, получается, что про него теперь все будут говорить: «тот самый Алкей, который напрасно добивался любви и руки великой Сапфо».
«Тот самый Алкей»…
— Эпифокл, а спой-ка ты лучше песню про то, как ваш любимый Архилох бесславно бросил на поле боя свой щит, — подсказал Алкей, язвительно улыбаясь.
Носит теперь саиец мой щит безупречный: Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах. Сам я кончины зато избежал. И пускай пропадает Щит мой. Не хуже ничуть новый могу я добыть[17], —с готовностью пропел Эпифокл Архилохов стих своим старческим, несколько козлиным голосом.
— Ха-ха, вот он — вояка! Пасынок Ареса, — прокомментировал вслух Алкей и пропел строчку из другого, не менее известного стихотворения своего соперника-сердцееда.
Мы настигли и убили ровным счетом семерых. Целых тысяча нас было[18]…Вот весь ваш Архилох здесь как будто на ладони — гроза семерых врагов, славный оруженосец, пустой болтун!
И проговорив это, Алкей горделиво посмотрел на женщин.
Все они, разумеется, прекрасно помнили одно из самых известных стихотворений самого Алкея, в котором тот в живописных подробностях описывает трофейное вражеское оружие, которое теперь хранилось у него дома.
Но Алкей не удержался, а сделав шаг в круг, звонко еще раз пропел свою песню, которой по-настоящему гордился.
Ведь он вовсе не хвастался в этой песне своими славными победами, не пересказывал ни одного военного приключения, а просто подробно описал те щиты и мечи, которые достались ему от врагов.
Но почему-то простое перечисление всех этих предметов действовало на воображение слушателей гораздо сильнее любых героических воззваний.
И постепенно Алкей сам догадался почему: тот, кто слушал, как выглядит аккуратно развешанное на стенах его дома оружие, сразу же живо вспоминал о своих личных сражениях и представлял мысленно свои собственные битвы — а они для каждого, если быть до конца откровенным, все равно были куда более волнующими, чем самые яркие подвиги Геракла или Ахиллеса.
Подобный, не совсем честный подход к воображению слушателей был недавним личным открытием Алкея, и он теперь пытался использовать его и в других своих произведениях.
Вот и сейчас, как только Алкей дошел до слов «булаты халкидские, пояс и перевязь», он заметил, как у Фаона, который слушал песню не переводя дыхания, так заблестели глаза, словно расписной халкидский булат юноше уже дали подержать лично в руки.
Со всех сторон послышались возгласы одобрения, участники праздника давали понять, что песня Алкея доставила им не меньшую радость, чем предыдущая.
— Но, Алкей, если мне не изменяет память, ты как-то рассказывал за столом, что и тебя однажды тоже, как и Архилоха, постигала на войне крупная неудача, — неожиданно раздался на поляне густой, спокойный голос Дидамии. — Помнишь, когда наши соотечественники из Митилены на азиатском берегу все же потерпели поражение, ты говорил, что потерял на берегу свой щит.
Что и говорить, Дидамия обладала поистине завидной памятью, так как привыкла все когда-либо услышанное и интересное записывать если даже не на пергаменте или на восковой табличке, то хотя бы у себя в уме.
— Да? Разве я это рассказывал? — несколько смутился Алкей.
— Было дело, — весело подтвердил из хора чей-то задорный женский голос.
— Но заметьте: я тогда просто потерял свой щит, а не нарочно забросил его в кусты от трусости, как Архилох…
— Но ведь ты тоже вернулся домой без своего щита, — подсказала Глотис, недолюбливавшая Алкея за его, как она говорила, «какое-то слишком петушиное бахвальство». — Мудрецы учат нас судить о событии по конечному результату, а не по помыслам, которые носятся в человеческих умах в разные стороны, подобно беспокойным ветрам…
— И потом: я ведь не сочинял об этом бахвальских стихов, — добавил с досадой Алкей. — У меня хотя бы хватило разума не хвалиться перенесенным бесчестием, и тем более не слагать о нем песню.
— А кто скажет, что в данном случае правильнее: умолчать или открыть всем то, что осталось у тебя за душой? — возразила Алкею Дидамия.
— Лично я убежден, что иногда в своей песне сочинителю тоже следует прятаться, как воину за щитом, — сказал Алкей, который сам все еще находился под сильным впечатлением от собственной песни про оружие.
— Пусть свое слово на этот счет скажет и Сапфо, — предложил Эпифокл. — Ведь насколько я понимаю, спор, у нас здесь неожиданно возникший, касается вовсе не одного щита, и даже не двух потерянных щитов, но подлинных, живительных источников поэзии!
И все участники «первых фаоний» действительно обратились в сторону Сапфо, которая молча слушала разгоревшийся спор, по-прежнему беспокойно теребя кольца на руках.
А Сапфо никак сегодня не могла как следует настроиться ни на песнопения, ни тем более на диспут, потому что постоянно думала: скоро праздник закончится, пройдет не так уж и много времени, солнце сделает на небе один круг — и «фаонии» точно закончатся…
И сразу же после этого Фаон уедет.
Как быть? Как задержать бешено рвущееся вперед время? Как остановить дурацкий стук не в меру разбушевавшегося сердца, которое, несмотря на все молитвы, упрямо не хотело сдаваться и слушаться голоса рассудка?
Может быть, есть смысл просто объявить, что Фаон может остаться?
Но как объяснить подобную непоследовательность подругам?
И, главное, хочет ли этого сам Фаон?
Боги, насколько же больнее окажется ее рана, если Фаон, когда ему будет разрешено остаться, все же начнет радостно собираться в путь!
Как же найти выход из этого тупика, из настоящего лабиринта, где, почище бешеного быка Минотавра, мечется женская страсть, правильное, единственно верное решение?
Для того чтобы нащупать путеводную нить, которая должна наконец-то вывести на свет, Сапфо нужно было хотя бы еще немного времени.
Но ужасный момент «сразу же после праздника» наступит уже через несколько часов, и сейчас любая прошедшая минута — предвестница вечной разлуки.
Поэтому Сапфо с самого начала «фаоний» с беспокойством, чаще, чем следовало бы, поднимала голову на небо, и ей казалось, что с каждым разом оно неуловимо темнеет, незаметно, но — вечереет.
— Для меня всегда лучше — сказать, — тихо и как-то неохотно проговорила Сапфо. — То, что Архилох написал насмешливую песню о своем щите, для меня означает, что этот самый щит, оставшийся валяться в кустах, продолжал потом долго мучить его совесть…
— Ну, конечно, совесть! Какая еще совесть? — возмутился Алкей, которому совершенно не понравился ответ Сапфо.
«Все ясно — наверняка у них все было, не будут же зря говорить люди», — пронеслось молнией у него в уме.
— Разве вы сейчас не слышали своими собственными ушами, что песня Архилоха — грубое издевательство над всеми, кто продолжал биться до последней капли крови и даже погиб в славном бою, и что-то вовсе не похоже… — начал было Алкей, но Сапфо его мягко перебила.
— Но ведь Архилох — мужчина, — сказала она просто. — А это значит, что ему трудно открыто высказывать свои чувства, и потому поневоле приходится постоянно прятаться за насмешливость. Ты, Алкей, сказал чистую правду о том, что мужчине гораздо проще скрывать, чем говорить о своей душе свободно и серьезно.
— Ты победил, Алкей! — громко воскликнул Фаон и немедленно вручил Алкею свой венок.
Некоторые девушки тоже подарили Алкею цветы, однако он почему-то не испытал в этот момент ликования победителя, чувствуя внутри какое-то неясное сомнение и непроходящее раздражение.
Нет, «фаонии» с самого начала получались почему-то совершенно не такими, как Алкей их себе представлял!
— Прекрасно, Алкей, ты как всегда — великолепен, — поспешно согласилась Сапфо. — Но все же, Эпифокл, раз ты уже начал, спой нам что-нибудь еще из песен Архилоха — мне так приятно слышать сейчас живой голос моего друга. Правда, его песни лучше всего воспринимаются не под переборы струн лиры, а под резкие звуки фригийской дудки. И при этом Архилох еще обычно крепко притопывал ногой на каждом сильном слоге своего стиха, так что делалось страшно, что под ним вот-вот провалится земля…
Все засмеялись и, когда Эпифокл запел новую песню Архилоха, тоже начали в такт притопывать и гудеть, подражая Архилоху, лишь Алкей с досадой отвернулся.
Что поделать — его снова в который раз не поняли.
Да и может ли женщина до конца понять мужчину?
«Недаром именно Фаон первым признал мою очевидную победу», — подумал Алкей.
Конечно, в словах Сапфо про маску из насмешливости или воинственности, которую по привычке надевает на себя, казалось бы, наиболее сильная часть человечества, была какая-то доля истины.
Но вот именно — только доля, и потому не стоило воспринимать ни слова Сапфо, ни вообще шуточное состязание чересчур серьезно.
И, тряхнув своими блестящими волосами, Алкей вместе со всеми тоже принужденно засмеялся метким и грубовато-откровенным Архилоховым строкам, то и дело вызывавшим на поляне веселый смех.
Во время всего праздника Фаон старался не спускать глаз с Сапфо и Алкея, которых считал здесь самыми главными, и как никогда чутко улавливал любые перепады в настроениях окружающих.
Как-никак, но юноша помнил, что сейчас проходило не просто поэтическое состязание, а «фаонии» и, следовательно, ему, Фаону, предоставлялось главное право высказывать вслух свои суждения и присуждать награды.
Оказывается, это было не только приятно и почетно, как Фаон думал вначале, но еще и не менее трудно.
Вот и сейчас Фаон, пожалуй, больше всех остальных испугался, что Алкей может вспылить и вовсе уйти с поляны, и потому поскорее поспешил преподнести ему венок.
Но, слава богам, вроде бы обошлось — участники первых и единственных в своем роде «фаоний» снова как ни в чем не бывало уже пели и смеялись, зато у самого Фаона от перенапряжения до сих пор слегка дрожали коленки.
Самое обидное, что Фаон порой совершенно не мог понять, чему в данный момент смеются все эти женщины, и испытывал неловкость от собственной необразованности, на все лады проклиная свою лень к учебе.
Например, как раз на поляне только что прозвучало одно из самых серьезных, умных стихотворений Архилоха, в котором поэт рассуждал о чувстве меры, но и оно вызвало почему-то у слушателей странные, многозначительные улыбки.
В меру радуйся удачам, в меру в бедствиях горюй, Смену волн познай, что в жизни человеческой сокрыта[19], —прозвучало устами Эпифокла красивое напутствие Архилоха, и Фаон недоуменно уставился на Сапфо.
Вообще-то сегодня на празднике она была не слишком оживленной и снова выглядела какой-то бледной (наверное, еще не совсем выздоровела после недавней болезни!) и молчаливой, но даже и Сапфо после песни про чувство меры чему-то тихо засмеялась.
Впрочем, потом, поймав взгляд Фаона и встретившись с юношей глазами, Сапфо сразу же слегка нахмурилась и снова сделалась серьезной.
«Она определенно за что-то на меня все время сердится, — догадался Фаон. — Вот только — за что? Что я делаю неправильно? Но ничего — скоро мне все равно уезжать, и навряд ли еще где-нибудь будут проходить праздники, названные моим именем, поэтому нужно как-нибудь перетерпеть непонятное недовольство Сапфо. И потом, ведь под конец я все равно именно ей вручу главный миртовый венок, и она за это сразу же перестанет меня осуждать…»
А Сапфо, слушая самую наставительную из песен Архилоха, действительно не смогла удержаться от смеха.
Кто бы рассуждал о чувстве меры, но только не Архилох, вся жизнь которого могла бы служить наглядным примером безмерности и отчаянной противоречивости человеческой судьбы.
Почти всю свою жизнь Архилох, обожавший свой родной остров Парос — он сам называл его «сладкой мраморной глыбой, которую со всех сторон облизывают волны Эгейского моря», — провел на чужбине, в бесконечных походах и битвах.
Будучи от природы человеком веселым и даже беспечным, он зачем-то добровольно познал, по его выражению, «на собственной шкуре», небывалые ужасы и тяготы войны, предательство близких друзей.
Сын обедневшего аристократа по имени Телексил и рабыни Энипо, Архилох знал, что такое настоящая роскошь, а также пережил времена полнейшей нищеты.
Красивейший из мужчин и на редкость страстный любовник, Архилох, обладавший поистине идеальной для мужчины наружностью, сполна пережил и безответную любовь, и взаимную любовь, но в результате не захотел почему-то создавать собственной семьи и не оставил после себя потомков.
После того как Архилох нашел свою смерть в бою между пароссцами и воинами острова Наксос, о нем тут же начали повсеместно складываться самые невероятные легенды.
Например, о неприятной для Архилоха истории, когда тот все-таки вдруг надумал жениться, но некий Ликамб в последний момент отказался выдавать за поэта-воина свою дочь.
Говорят, по этому поводу Архилох разразился такими язвительными, грубыми стихами, впервые применив в поэзии размер «хромого ямба», что и несчастному Ликамбу, и его дочери, а также всем ее сестрам, теткам и бабушкам ничего не оставалось сделать, как от такого позора наложить на себя руки.
Признаться, сама Сапфо в такой поворот событий почему-то не верила, считая этот рассказ скорее поучительной басней об убийственной силе слова, чем страшной реальностью.
Так же как и легенде, будто бы к Архилоху в военную палатку несколько раз самолично приходила Эрато — Муза лирической поэзии и эротических стихотворений, и поэт с ней несколько раз подряд переспал.
Вот какие отчаянные, безмерные глупости постоянно продолжали болтать люди об Архилохе даже после его смерти!
А он — мера, ритм, смена волн…
Впрочем, самой Сапфо, которой действительно посчастливилось однажды услышать пение Архилоха, вторая легенда — о посещении Эрато — почему-то казалась более вероятной.
Честно говоря, Сапфо до сих пор иногда вдруг совершенно не к месту вспоминала мускулистые ноги Архилоха, покрытые бронзовым загаром, и особенно почему-то — его красный язык, который поэт то и дело высовывал из смеющегося рта, когда отрывал губы от своей дудки, чтобы хотя бы немного перевести дыхание.
Сапфо чувствовала, что все вокруг ждут, когда же она своей песней незаметно вольется в общий праздник, но почему-то до сих пор никак не могла собраться с духом и ощутить внутри тог толчок, который всякий раз подсказывал, что пришла пора брать в руки лиру.
Нет, она совершенно не могла и не хотела сегодня петь!
Так получилось, что Сапфо и стояла как-то немного отдельно от веселой компании, на пригорке, и потому казалась выше и неприступней всех своих подруг.
Наверное, любой незнакомец, который увидел бы ее сейчас, мог бы подумать, что поэтесса просто порядком загордилась собственной славой, не представляя, что на самом деле творилось в душе у этой женщины.
«Как лягушка, на болотной кочке, которая никак не решится заквакать», — вот как на самом деле воспринимала сама себя в эти минуты Сапфо.
Просто какое-то странное, тайное чувство ей подсказывало, что как только она начнет петь, то «фаонии» тут же достигнут своего зенита и потом сразу же начнут незаметно сворачиваться к концу, тем более что у многих девушек после исполнения на жаре многочисленных гимнов уже наверняка появилось желание незаметно перебраться в тень к пиршественному столу и освежиться вином.
Нет уж, подумала про себя Сапфо, пусть лучше праздник на поляне продолжается сегодня как можно дольше, даже ценой ее молчания.
Правда, Фаон тоже постоянно смотрел на нее с нескрываемой тревогой и чуть ли не с мольбой, не понимая, почему Сапфо, которая, как он слышал, обычно пела не закрывая рта и украшала своими стихами любые праздники, состязания, пиры, теперь стояла на возвышении как окаменевшая статуя со странно блестящими, тревожными глазами.
Вообще-то Сапфо взобралась на этот пригорок-кочку, где мог уместиться только один человек, спасаясь от Филистины, неотступно последние дни старавшейся находиться с ней рука об руку и то и дело заводившей разговоры о дальнейшей судьбе Фаона.
Разговаривать с ней для Сапфо означало примерно то же, что беседовать вслух с собой, с собственным внутренним голосом, и, возражая Филистине, она постоянно чувствовала, что все больше врет, запутывается, противоречит словам, сказанным прежде, — это было и изнурительно, и бессмысленно.
Вот и теперь Филистина все равно стояла ближе всех и пыталась снизу заглянуть в лицо Сапфо.
— Сапфо, раз ты сегодня молчишь, тогда я сама спою какую-нибудь твою песню, хорошо? — громко спросила Филистина, и все на поляне радостно захлопали, зная, что нежный, высоко улетающий под облака голос Филистины способен подарить слушателям поистине неземное наслаждение.
А если к тому же Филистина начинала петь несравненные песни Сапфо!
…Анактория! Я же о тебе, о далекой, помню. Легкий шаг, лица твоего сиянье[20] —пела Филистина.
«Анактория», — переливалось всеми звуками самое дорогое для Сапфо имя, и казалось, что песня сейчас исполнялась вовсе не на поляне, а наоборот, случайно донеслась сюда, к земле, откуда-то из поднебесья и ненароком задержалась, запутавшись в душистой траве.
Анактория… Знаю, не дано полноте желаний Сбыться на земле[21]… —продолжала петь Филистина, и Сапфо почувствовала, как помимо воли по ее щеке скатилась быстрая слеза.
Как все же хорошо, что сейчас она стояла не слишком близко к подругам и подобная невольная слабость имела шанс остаться никем не замеченной!
— Это лучшее, что я когда-либо слышал! — громко воскликнул Фаон, не в силах сдержать своего восторга от пения Филистины.
Он, конечно, неоднократно слышал, как замечательно Филистина умеет петь, но чтобы так, как сегодня, на его «фаониях»!
Пожалуй, Фаон запросто отдал бы сейчас Филистине миртовый венок главного победителя, который до поры до времени лежал на алтаре, охраняемый Афродитой, но, посмотрев на Сапфо, решил, что не стоит слишком торопиться.
И все же от одной из подруг Сапфо не укрылась та невольная слеза, которую поэтесса торопливо и, как ей показалось, совершенно незаметно смахнула с лица, — это была Дидамия.
— Сегодня не время петь грустные песни, — заявила она, нарочито несколько грубовато подбочениваясь. — Чего это здесь все вдруг расхныкались? Как бы из богов кто-нибудь не расплакался, глядя на наш праздник, и не полил бы нас сверху дождичком! Видите, на небе снова откуда-то появились тучки. Чувствую, пришла пора мне с девочками самой браться за дело.
Как оказалось, Дидамия вместе со своими юными ученицами — некоторые из них не желали расставаться с любимой наставницей даже в самые жаркие месяцы и упросили родителей отпустить их также за город — приготовила целое представление на стихи известного женоненавистника Семонида Аморгского.
Злоязыкий Семонид, родившийся на острове Самосе, не так давно основал на Аморгосе свою колонию «настоящих мужчин» — как подозревали женщины, сделал он это исключительно в знак противопоставления школе Сапфо, ведь слава о ней разнеслась буквально по всем греческим островам.
Он же написал особые «женские ямбы», в которых последовательно и с нескрываемым презрением сравнивал отдельные типы женщин с восьмью животными — это были свинья, лиса, собака, осел, горностай, лошадь, обезьяна и пчела.
Вот каждого из этих «женских зверей» и изображали сейчас совсем молоденькие девушки, исполняя на поляне забавные, причудливые танцы.
Причем кто-то из танцующих специально для пущей выразительности и достоверности сделал себе смешную маску, кто-то прицепил к своей тунике длинный хвост из настоящего конского волоса, а кто-то приладил к волосам искусно сделанные из ткани ослиные уши.
Уморительные танцы на траве комментировала Дидамия. Она нарочито нудным, нравоучительным голосом, зажав двумя пальцами нос, поясняла бешеные прыжки сменяющих друг друга танцовщиц известными строками Семонида.
Сама ж — немытая, в засаленном плаще, В навозе дни сидит, нагуливая жир[22], —пела Дидамия, кивая на одну из девушек, которая изображала из себя хрюшку, развалившуюся на поляне в вольной, довольно эротичной позе.
Иной дал нрав осел, облезлый от плетей: Под брань, из-под кнута, с большим трудом она Берется за дела — кой-как исполнить долг[23]… —без тени улыбки скорбно продолжала гнусавить Дидамия, не обращая внимания, что на поляне все уже буквально покатывались со смеху, глядя на «танец осла».
Но особенно развеселились участники «фаоний», когда в центре поляны появилась почти что налысо подстриженная Глотис в роли горностаихи, у которой, судя по нравоучительным стихам Семонида, «нет ни красы, ни прелести следа», но зато есть «к ложу похоти — неистовый порыв».
Конечно, всем, кто уже был знаком с этим творением Семонида, не терпелось узнать, кто же и как будет представлять единственно сносную женщину в суровой классификации поэта-женоненавистника.
Как известно, Семонид считал, что только трудолюбивая, неустанно снующая по дому женщина-пчела может считаться более-менее приличной среди жен, «которую одну даровал мужчинам Зевс-отец на благо».
Почему-то все были уверены, что положительную роль под конец возьмет на себя сама Дидамия, и потому был и немало удивлены, когда на середину поляны, громко жужжа, махая расставленными в стороны руками и потряхивая толстым брюшком, вылетел… прославленный Эпифокл.
Невероятно, но Дидамии каким-то образом удалось уговорить ученого мужа выступить в этой комической роли, и он делал это с полным самозабвением, напоминая ребенка, которому родители наконец-то разрешили вволю подурачиться!
Причем Эпифокл пытался совместить в своем танце одновременно и образ «женщины-пчелы», собирающей с цветов нектар, и одновременно кусачего овода — самого Семонида, то и дело норовившего ужалить кого-либо из женщин.
Женщины, естественно, тут же принялись от него с визгом разбегаться в разные стороны, и песня сама собой переродилась в детские, шумные догонялки.
Непонятно, но при этом от Эпифокла почему-то в разные стороны разлетались куриные перья, закружившиеся в воздухе, подобно первому снегу.
Сапфо тоже невольно закружило в общем людском потоке, но внезапно она почувствовала, что кто-то схватил ее за руки, и увидела близко перед собой умоляющее лицо Фаона.
— Хороший получился праздник? — спросил Фаон.
— Да, конечно, конечно, — кивнула Сапфо.
— Но когда же ты сама будешь петь? Я все жду, жду, и все ждут…
— Да, конечно, конечно, буду, — пробормотала Сапфо.
— Тихо! — вдруг неожиданно громко воскликнул Фаон. — Тихо! Сейчас будет петь наша Сапфо!
— Но… — начала было Сапфо и тут увидела, что буйное и, казалось бы вовсе неукротимое движение не в меру развеселившихся людей начало на глазах останавливаться и снова принимать геометрическую форму круга, который буквально в одно мгновение образовался вокруг… нее и Фаона.
Да, теперь Сапфо и Фаон стояли в центре этого круга, держась за руки, как возлюбленные.
И никого это нисколько не удивляло: все-таки и Сапфо, и Фаон являлись сегодня главными героями проходящих «фаоний».
Сапфо — его драгоценным и все еще не растраченным содержанием, а Фаон — формой, названием, звучным именем.
Сапфо поняла, что наступил ужасный момент, когда окружающие станут свидетелями ее великого позора: сегодня ее горло словно кто-то стиснул железными тисками, и, казалось, оно способно было исторгнуть лишь скрежет.
Что же, пусть так, если все вокруг этого упорно ждут и если развенчивание славы Сапфо входит в замыслы богов!
Пускай, раз…
Но тут случилось настоящее чудо: на небесах вдруг ослепительно сверкнула молния, раздался гром.
— Дождь! Дождь! — закричали наперебой звонкие девичьи голоса. — Смотрите, и какой сразу сильный!
— Нет, это град, — удивленно проговорил Фаон, поднимая ближе к лицу свою загорелую руку, от которой во все стороны с треском отскакивали маленькие белые комочки.
Оказывается, пока на поляне продолжалось веселье, ветер незаметно принес из-за моря новую, загадочную тучу.
Но град продолжался всего несколько мгновений, потому что, когда гром грянул во второй раз, сверху, подобно небесному водопаду, на праздничную поляну хлынули целые потоки воды.
Теперь о продолжении «фаоний» не могло быть и речи.
Участники праздника тут же принялись с визгом, словно игра про Семонидовых пчел получила неожиданное продолжение, разбегаться с поляны, на ходу прикрываясь от дождя покрывалами, моментально намокшими накидками, шерстяными хитонами.
— Я так и знал! — громко прокричал, перекрывая шум дождя, Алкей, подбегая к Сапфо. — Мы с самого начала что-то сделали неправильно, и поэтому боги помешали нам закончить праздник. О, Сапфо, и я даже догадываюсь, что именно было не так. Поэтому сегодняшние «фаонии» не считаются, и мы должны устроить вторые, настоящие «фаонии», которые будут проходить под моим руководством, и — непременно ночью, возле большого костра, под покровительством Селены…
Сапфо с благодарностью кивнула другу и подставила лицо настойчивым поцелуям небесного ливня, а точнее — тому божеству, которое временно, разумеется, ради нее одной, приняло обличие водных струй.
Ведь слова Алкея теперь означали, что отъезд Фаона сам собой откладывался еще на несколько дней, а они были для Сапфо необходимы как воздух.
Покидая поляну, Сапфо украдкой бросила взгляд на залитый дождем алтарь Афродиты, на котором лежал намокший, так сегодня никому из людей и не доставшийся, миртовый венок.
А потом на другой жертвенник, возле которого она совсем недавно, ранним утром, направляла всемогущей Гере свои горячие, сбивчивые просьбы об освобождении от внезапного и совершенно ненужного, нелепого чувства.
Но теперь Сапфо лишний раз убедилась, что боги не очень вслушиваются в слова, но зато видят людей насквозь своим всепроникающим зрением и исполняют самые заветные желания, казалось бы, надежно спрятанные от всех в глубине сердца.
Сейчас они сделали так, чтобы Фаон снова задержался дома.
Глава пятая ЧЬИ-ТО ЗАСТЫВШИЕ СЛЕЗЫ
Незнакомец появился в доме сразу же после обеда, когда Алкей уговорил всех устроить симпосий — дружескую, маленькую попойку; такие попойки нередко организовывались сразу же после совместной трапезы, когда ее участникам было жалко слишком быстро расставаться друг с другом.
Как правило, участники симпосия увенчивали себя цветами, продолжали вместе пить вино, а порой под предводительством ведущего-симпосиарха развлекались интересными разговорами, пением, разгадыванием загадок или веселыми играми.
Но часто никаких организованных игр и вовсе не было, а просто каждый занимался тем, что ему нравилось, имея возможность делать это не в одиночестве, а в присутствии приятных людей.
Вот и сегодня — с утра на улице шел мелкий, серый дождик, который словно тихо всем напоминал о том, что совсем скоро наступят настоящие холода, в лесах застынут ручьи и пора будет перебираться в город, поближе к теплым очагам.
Сама погода поневоле навевала настроение задумчивости и желание побыть вместе.
Например, Алкей с Фаоном сейчас же после обеда затеяли в большой комнате играть в распространенную застольную игру коттаб, расположившись за отдельным маленьким столиком.
Эта игра заключалась в том, что остатки вина из бокалов нужно было так искусно выплескивать в плавающую в широком сосуде маленькую чашечку, изображавшую кораблик, чтобы суметь ее потопить.
Филистина в одиночестве сидела в углу на резной скамейке, тихо перебирала струны на кифаре и под монотонные звуки дождя продолжала думать о чем-то своем.
Ей было грустно уже с самого утра. И хотя Филистина нарочно украсила хитон белыми розами, желая хоть как-то поднять свое настроение, но все же она сегодня казалась бледнее розовых лепестков.
Теперь она вспоминала и до сих пор не могла окончательно успокоиться после последнего разговора с Сапфо насчет предстоящего отъезда Фаона, который она снова затеяла с подругой сегодня утром.
Казалось, Филистина употребила все красноречие, пытаясь убедить Сапфо в том, что давно по-настоящему считает сына маленькой Тимады своим собственным ребенком и расставание с ним для нее будет совершенно непереносимо.
И мало того — по выражению лица Сапфо Филистина видела, что та действительно понимает и глубоко переживает каждое сказанное слово.
Да, ошибки быть не могло: Филистина увидела ясно, какой странной, несказанной грустью загорелись во время разговора глаза Сапфо, когда она начала говорить об отъезде Фаона — ведь сострадание при всем желании невозможно подделать!
— Пойми, Сапфо: настоящая мать не та, что родила дитя, но в еще большей степени матерью может называться та женщина, которая воспитала ребенка — так говорит и Дидамия, и многие другие, — сказала утром Филистина, ссылаясь на авторитет своей мудрой подруги. — Значит, я тоже могу по праву называться матерью Фаона…
И Сапфо согласно кивнула, выслушав слова взволнованной Филистины.
— Пойми, Сапфо, я ведь и сама не подозревала, что так сильно люблю Фаона, до тех пор, пока не узнала, что он должен уехать и я смогу его навсегда потерять! — продолжала Филистина. — Ведь чувства внутри нас — они тоже живые! Они могут спать, а потом неожиданно просыпаться, или снова впадать в сладкую дрему — и это касается как материнской любви, так и вообще всякой любви… Мне кажется, что в тот момент, когда я узнала об отъезде Фаона, моя любовь к мальчику вспыхнула с новой, совершенно неведомой для меня силой…
И Сапфо снова кивнула, посмотрев на Филистину долгим, странным, каким-то отрешенным взглядом.
— Ты ведь знаешь, Сапфо, у меня нет своих детей, — стараясь побороть дрожь в голосе, тихо проговорила Филистина. — И тебе трудно понять меня, потому что у тебя есть дочь, твоя Клеида, и она не должна теперь отправляться на чужбину… Для меня разлука с Фаоном — это словно острый нож, который вонзается мне в тело, и даже еще, еще больнее… Как вот этот раскаленный прут сейчас в твоей руке, Сапфо. Представь, что ты втыкаешь его в меня. Неужели тебе меня не жалко?
Этот разговор проходил в маленькой комнате, где Сапфо в полумраке сидела возле огня, задумчиво шевеля в очаге горячие угли — северный ветер неожиданно принес из-за моря непогоду, холод, дождь, и с самого утра на улице сделалось по-осеннему зябко и сумрачно.
Но в комнате было тепло, возле очага уютно стояла большая тарелка, на которой лежал аппетитный кусок свежего утреннего пирога, пожертвованный Гестии — юной покровительнице огня и домашнего очага, а рядом стоял небольшой сосуд с ритуальными сухими благовониями, — их всегда на всякий случай держали под рукой.
Все эти вещи, предметы в комнате были для Филистины привычными и любимыми, и она старалась смотреть на них подольше, чтобы лишний раз не поднимать глаз на Сапфо.
Филистине все время казалось, что щеки Сапфо то и дело то вспыхивали, как только в очаге чуть сильнее разгорался огонь, то снова становились серыми в причудливых узорах теней, которые делали лицо подруги неузнаваемым, а порой — и вовсе чужим, и даже немного страшным.
— …Знаешь, Филистина, я вот что вдруг вспомнила — один опытный врач совсем недавно показывал мне свои хирургические инструменты, — вдруг, очнувшись, сказала Сапфо, как будто бы она вовсе и не услышала того, о чем ей говорила подруга. — Ты никогда их, случаем, не держала в руках, или хотя бы не видела вблизи?
— Нет, — с досадой качнула головой Филистина. — Но я сейчас говорю с тобой совсем, совсем о другом…
— …А я видела, — продолжала Сапфо. — И даже держала в руках страшные щипцы, пилы для костей, крючья и иглы, которые врачам приходится вонзать в тела больных людей, для того чтобы в итоге, после страшных мук, принести им благо и исцеление. И еще я своими глазами видела ужасное приспособление, которым пользуются, чтобы раздробить плод в материнской утробе, когда понимают, что только этим можно спасти бедную роженицу…
— Что ты хочешь этим сказать? — ужаснулась Филистина. — Что тогда, когда наша маленькая Тимада… было бы лучше…
— Нет, ты меня не поняла, — нахмурилась Сапфо, и при неровном отсвете от очага у нее на лбу обозначилась упрямая складка, какой не бывает и не может быть у юных, беззаботных девушек. — Я хочу сказать лишь то, что порой надо уметь думать не только о себе — и это самое трудное. А в твоей речи, Филистина, чаще всего звучало почему-то слово «меня». Ты хочешь, чтобы Фаон навсегда остался с тобой, с нами, в кругу женщин, которые несомненно окружат его своей любовью?..
— Да, Сапфо, очень хочу. У меня… у меня это теперь не выходит из головы.
— Но лучше ли это будет для него самого? Вот вопрос, который я тоже себе постоянно задаю, но не могу найти ответа, — медленно, задумчиво продолжала Сапфо, не отрываясь глядя в огонь. — Ты уверена, что своей опекой мы Фаона спасем, а не погубим, наоборот, как мужчину? Ты же не хочешь, чтобы он сделался юношей с душой евнуха, которому бывает хорошо только в гареме, среди женщин, считающих его своей подружкой?
— Но что ты такое говоришь, Сапфо! — возмутилась Филистина. — Я тебя просто не узнаю…
— Я тоже себя не узнаю, — сказала Сапфо разглядывая конец прута, которым она двигала угли — от жара он сделался красным, раскаленным и особенно опасным, действительно напоминая какой-то хирургический инструмент. — А себя ты узнаешь, Филистина? Ты можешь сказать точно: о ком — о себе или о Фаоне — ты сейчас думаешь больше, когда просишь меня отменить решение? Попробуй ответить на этот вопрос совершенно честно…
Но, увы, ни тогда, ни теперь ответить на вопрос Сапфо Филистина не могла, и это продолжало ее сильно мучить.
Поэтому Филистина после обеда устроилась в уголке, откуда ей удобнее всего было наблюдать за игрой Фаона, в надежде, что сможет получше разобраться в своих противоречивых чувствах — продолжение важного разговора Сапфо отложила на вечер, а сама отправилась гулять, несмотря на ветер и дождь.
Петь Филистине совершенно не хотелось, но ей нравилось держать кифару на руках и нянчить инструмент, как дитя, о чем-то словно еле слышно с ним переговариваясь.
И при этом Филистина продолжала отыскивать в уме новые и еще более весомые слова, которые она собиралась высказать Сапфо, когда подруга вернется с прогулки.
Дидамия, как всегда, находилась вблизи Эпифокла, но сегодня ничего не записывала. Признаться, она заметила, что ученый муж давно уже начал повторять многие свои мысли и изречения, и потому ее первоначальное любопытство немного приутихло.
Но зато Дидамия следила, чтобы слова Эпифокла подробно записывали на восковых табличках ее ученицы — три совсем молоденьких девушки сидели вокруг Эпифокла, образовав на редкость красивый кружок, словно три грации, и старик буквально сиял удовольствием от их близкого соседства.
Юная Глотис тоже сидела, держа на коленях табличку, но она на ней не писала, а пыталась поймать очертания профиля Эпифокла — делала зарисовку, а потом недовольно стирала и начинала новую попытку.
Сам Эпифокл, ощущая себя кем-то вроде важного шмеля на цветочной клумбе, продолжал «жужжать», развивая свою любимую идею о всеобщей связанности мира, но теперь применяя в качестве связующего звена еще и категорию красоты, чему очень даже способствовали окружающие его со всех сторон лица.
К тому же старик до сих пор еще находился под сильным впечатлением от первых «фаоний» и теперь с нетерпением ждал продолжения праздника — тем более что о вторых «фаониях» Алкей говорил загадками, подолгу о чем-то совещался с Фаоном и всех сильно интриговал.
— Хайре! Радуйся! — громко сказал незнакомец, заходя в дом, но при этом так свирепо сверкнул глазами, словно пожелал всем присутствующим не радости, а скорее всего, чтобы они все тут же разом провалились на месте.
Эпифокл, увидев вошедшего, мгновенно прервал свою заумную мысль и словно сразу же несколько уменьшился в размерах.
— Хайре! — ответил за остальных Алкей, без особого удовольствия оглядывая незнакомца, одежда и обувь которого были пренеприятно перепачканы грязью.
А потом, ухмыляясь, добавил:
— Рад тебе, чужеземец, если ты только не собираешься нас съесть! Но скажи нам хотя бы свое имя, раз вошел.
Незнакомец, вторгшийся в мирное течение симпосия. имел весьма примечательную наружность: у него были огненно-рыжие, с проседью волосы и такая же пышная, рыжая борода, из-за которой лица человека не было как следует видно.
Голову незнакомца прикрывала широкополая шляпа — петас, с которой грязными струйками на пол стекала вода.
Своей гривой, крупным телосложением, мягкой, пружинистой походкой он был чем-то неуловимо похож на льва, забредшего в здешние края из какой-то далекой, опасной пустыни и сейчас собирающегося растерзать жертву, выбрав для закуски почему-то старого и самого неаппетитного Эпифокла.
И все же Алкей был несколько удивлен, когда выяснилось, что его первое впечатление о пришельце оказалось на редкость точным.
Во-первых, незнакомец носил имя «Леонид», что дословно означает «львенок» — и из этого можно было заключить, что он и родился таким рыжим, с львиной расцветкой, раз мать на десятый день после рождения решила назвать его именно таким именем.
Во-вторых, как выяснилось, Леонид действительно прибыл сюда из дальних стран, так как был владельцем большого парусного судна — триеры.
На таком судне, достаточно дорогостоящем и редком, гребцы располагались на трех палубах, а в ветреную погоду корабль мог свободно идти под парусом.
Ну, а разъяренный вид пришельца, сверкание его небольших, близко посаженных серых глаз можно было объяснить тем, что Леонид являлся владельцем и одновременно капитаном той самой триеры, на которой Эпифокл должен был отплыть на остров Фасос, и терпение морехода к этому моменту иссякло.
Нет, Эпифокл не врал — у него с Леонидом действительно имелась устная договоренность, подкрепленная клятвами быстроногому Гермесу о том, что судно не отплывет без философа на Фасос, и капитан, будучи человеком слова, не мог ее нарушить.
Но ведь капитан вовсе не предполагал, что Эпифокл, прибыв на Лесбос, тут же бесследно растворится в красотах острова, как жемчужина, опущенная в уксус.
Прождав философа неделю, а потом еще два дня, Леонид не выдержал и отправился самолично отыскивать Эпифокла, где бы тот ни находился.
И вовсе не для того, чтобы упрашивать Эпифокла поскорее возвратиться на корабль, а просто объявить, что лично он, Леонид, больше не намерен напрасно терять времени, а тотчас отменяет клятву, поднимает паруса и без промедления отправляется в путь, считая договор полностью расторгнутым.
Время, которое капитану приходилось проводить на суше, он считал порой хоть и необходимым, к примеру, для пополнения запасов, для залечивания серьезных ран или для смены гребцов, но по большому счету — потраченным совершенно напрасно.
Леонид уже успел побывать в Митилене, куда, как он понял, прежде всего направился Эпифокл, разыскал в столице дом Алкея, совершенно случайно узнал у одного из слуг, где с наибольшей вероятностью можно отыскать запропавшего хозяина и его гостя, и вот теперь добрался и сюда.
Он хотел спокойно сказать Эпифоклу только пару слов, но сейчас, увидев, как старик валяется на атласных подушках, окруженный юными, хорошенькими гетерами, почему-то ужасно разозлился на старого пустобреха.
К тому же в дороге он попал под дождь и промок до нитки.
— Все правильно, ты прав, мой друг, — сказал Алкей, довольно рассеянно выслушав суровую речь Леонида, направленную против Эпифокла, — ведь сейчас как раз наступил его черед топить игрушечный кораблик, и он мысленно к нему с разных сторон примеривался. — Но ты должен в первую очередь ругать меня — потому что именно я привез нашего прославленного Эпифокла в это место, из которого при всем желании просто невозможно быстро выбраться.
— Он что — мешок с фигами, который можно таскать на плече с места на место? — хмуро заметил Леонид, меряя взглядом живот Эпифокла, невольно подсказывавший такое сравнение.
Девушки тут же весело захихикали, и Леонид разъярился еще больше.
— И потом, Эпифокл, я дал тебе достаточно времени, чтобы ты мог от души натрястись своим мешком и прочими частями тела в обществе женщин легкого поведения, — сдвинув рыжие брови, проговорил Леонид. — На Фасосе, куда мы бы уже могли за это время прибыть, тоже немало публичных домов, и твое неуемное для преклонных лет вожделение — вовсе не причина, чтобы держать на приколе целое судно. В конце концов, ты мог бы мне сказать, и я нашел бы тебе женщин, которые сопровождали бы тебя даже во время плавания, грея твои старые бока, если тебе уже не помогают ни теплые грелки, ни припарки…
— Что ты говоришь? — возмутился Фаон. — Здесь вовсе не публичный дом, а школа, где обучаются самые лучшие и знатные девушки с острова Лесбос, и теперь даже уже не только с нашего острова! Ты должен сейчас же взять свои слова обратно, иначе тебе прямо сейчас придется ответить за оскорбление!
— Школа? — переспросил Леонид, — Может быть и школа, да. Только вот вопрос — чему и как в этой школе учат? И уж мне кажется — что точно не через голову.
— Я сейчас убью этого варвара! — вскричал Фаон. — Он ответит за оскорбление!
— Нет, Фаон, не смей! — воскликнула Филистина испуганно. — Никогда не связывайся с чужаками!
— Погоди, Фаон, успокойся. — Примирительно улыбнулась Дидамия. — Многие, кто ничего не знают о нашей школе, поначалу путают ее с домом для телесных утех, и для чужеземцев это вполне простительно. Тем более мы привыкли не обращать на подобные речи ни малейшего внимания, зная, как легко они потом сменяются другими. Ведь такой школы для женщин, как у нас на Лесбосе, действительно больше нет нигде в мире.
— Значит… мне его пока не убивать? — по-детски спросил Фаон, разжимая кулаки, и «три грации» снова тихо засмеялись — незнакомец был на голову выше Фаона и гораздо шире в плечах.
— Давай все же не будем торопиться, твоя храбрость нам и без того хорошо известна, — с учительской серьезностью сказала Дидамия, которую сейчас выдавали только смеющиеся глаза. — И потом, я признаюсь честно — мне нравятся люди, которые сразу прямо высказывают то, что думают — с ними всегда бывает легче объясняться…
— И все же излишняя невоздержанность до добра еще никого не доводила, — с осуждением покачал головой Алкей, словно незаметно продолжая давнишний, начатый когда-то с Сапфо спор.
— Хм, хм, знай, Леонид, ты должен благодарить небеса, что они дали тебе возможность познакомиться с двумя самыми известными поэтами острова Лесбос — Алкеем и Сапфо, о которой ничего не слышали разве что полные невежды, — подсказал хитрый Эпифокл, желая отвести от себя молнии взглядов Леонида. — А за слова про публичный дом тебе и впрямь следовало бы как следует прикусить свой язык, потому что ты стоишь на пороге дома, где платой за вход служат исключительно только ум и дарования, если тебе, конечно, известно, что это такое… Хм, хм, а за нападки на мои старые бока и возраст — особенно, потому что вместо того, чтобы спать и, как ты выразился, греть бока, я сейчас провожу урок… географии.
Про географию Эпифокл приврал нарочно, чтобы как можно сильнее пронять Леонида, но капитан уже и без того стоял с лицом красным от стыда, сделавшись похожим на сваренного в кипятке краба, только что вынутого из воды, потому что со шляпы капитана все еще продолжали стекать капли дождя.
— О, простите меня, простите, — приложил руку к груди Леонид, растерянно оглядываясь по сторонам. — Но я просто сразу не понял, куда я попал. И потом, мне почти весь день пришлось провести в пути, я попал под дождь и…
— Мы подумаем, — улыбаясь, заявил от имени всех присутствующих в комнате Алкей. — Простить тебя или, наоборот, прославить в стихах, как грубияна и невежу. Из знатного ли ты рода, мореход?
— Да, мои родители принадлежали к знатному роду, но…
— Тогда тем более тебе следует лучше следить за своими манерами, — наставительно перебил его Алкей. — Иначе тебя все будут принимать за простолюдина. Для начала тебе в любом случае следовало бы все же поприветствовать женщин как хозяек этого дома, а потом уже набрасываться на бедного Эпифокла, он здесь тоже всего лишь гость.
— Я много слышал о тебе, Сапфо, от самых разных людей, — с чувством произнес Леонид, обращаясь к Дидамии, которую он принял за известную поэтессу и учительницу.
— О, нет, нет, это не я, — засмеялась Дидамия. а вместе с ней и девушки, только и ждавшие любого подходящего повода, чтобы от души похохотать.
Леонид снял с головы шляпу, вытер лоб и обратился к Филистине:
— Хайре, Сапфо!
Так как Филистина сидела с кифарой в руках, он теперь ее принял за великую поэтессу и хозяйку дома. За столом снова весело засмеялись.
— Хм, хм, Леонид, ты опять ошибся, — поправил его Эпифокл. — В настоящий момент Сапфо среди нас нет. Но ты все-таки скажи: вот ты объехал у нас весь мир, а много ли ты встречал женщин, которые умеют не только держать в руках прялку, но также сочинять прекрасные стихи и песни, решать математические задачи, исчислять по звездам расстояния, различать целебные свойства растений и к тому же готовы без устали обучать своему искусству других?
— Нет, я больше нигде в мире не встречал таких удивительных женщин, как здесь, — сказал Леонид, глядя в сторону улыбающихся девушек, но потом снова упорно переводя взгляд на Филистину.
Да, Леонид мог поклясться чем угодно, что, объехав весь свет, он еще никогда не встречал такой красавицы, как та, которая сидела в некотором отдалении от общего стола, перебирала струны и лишь один раз бегло, и без особой радости, взглянула на незнакомца. Да и то только когда смазливого вида мальчик потрясал перед ним своими хлипкими кулачками.
От Леонида также не укрылось, как сильно женщина с кифарой вспыхнула от возмущения, когда он сдуру сболтнул про продажных женщин, и до сих пор сидела, недовольно сжав губы, хотя другие уже вовсю улыбались и смотрели на гостя вполне дружелюбно.
— Конечно, если ты очень спешишь, то можешь сразу же тронуться в обратный путь, к своему судну, но все-таки будет гораздо лучше, если ты хотя бы немного обсохнешь возле огня, выпьешь с нами вина и немного передохнешь с дороги, — сказала Дидамия, которая поначалу не знала, как защитить Эпифокла от львиных нападок Леонида, а теперь увидела, что и самого Леонида пора спасать от сильнейшего смущения и неминуемой простуды.
— Да, спасибо, — кивнул Леонид. — Но…
Впрочем, появившаяся словно из-под земли служанка уже приняла у него из рук шляпу, принесла сухую накидку, поближе придвинула скамейку к очагу.
Леонид и глазом не успел моргнуть, как Диодора уже начала омывать его грязные ноги в теплой воде, вытирать полотенцем волосы, что-то приговаривая насчет их огненного цвета и пошучивая, что боится обжечься.
Признаться, Диодоре на редкость понравился незнакомец, который при всех отчитал «противного старикашку», как она среди слуг называла Эпифокла, про себя каким-то образом связывая дурное настроение своей госпожи с приездом этого заумного «толстобрюха».
— Иногда есть смысл хотя бы на один час встать на якорь, чтобы дождаться попутного ветра, разве не так? — подмигнул капитану Алкей.
— Из тебя бы вышел отличный мореплаватель, — наконец-то улыбнулся в ответ Леонид, показывая ослепительно белые, ровные зубы. — Ты прав: все-таки долго ходить ногами по земле, а тем более грязной и скользкой, — это большой труд. Порой, когда я впервые после долгого плавания ступаю на сушу, мне кажется, что земля под ногами ходит волнами, и всякий раз я чувствую себя младенцем, только-только делающим первые шаги…
— Наверное, это очень радостное ощущение, — задумчиво проговорила Глотис, пытаясь теперь сделать набросок с лица Леонида. — Уже только ради одного этого, пожалуй, я бы отправилась в дальнюю дорогу.
— И я, и я тоже! — тут же подхватил Фаон.
— Ничего хорошего, — недовольно сказала Филистина, резко проведя рукой по струнам. — Глупые фантазии!
Леонид оглянулся на Филистину и снова улыбнулся — но теперь как-то иначе, чем в первый раз, еще более открыто, и стал похож на озорного мальчишку, только почему-то бородатого и несколько седовласого.
— Мне понятны твои чувства, — сказал Леонид, обращаясь к Филистине. — Если раньше мое сердце наполнялось бурной радостью только в тот момент, когда корабль наконец-то отчаливал от берега и начинал разрезать носом волны, то теперь я не меньше радуюсь, когда вновь возвращаюсь на землю. Быть может, это признак приближающейся и неизбежной старости?
— Нет, скорее, мудрости, — заметила Дидамия. У нее незнакомец с первой же минуты почему-то вызвал явную симпатию своей простодушной откровенностью и резкими перепадами от сильной ярости к не менее сильному смущению.
— Но все равно, потом мне не терпится как можно скорее отправиться в море. Вот и сейчас тоже… — сразу же добавил Леонид и покачал головой, словно сам слегка удивляясь своему признанию.
— Ого! Мне тоже иногда нравится плохо держаться на ногах и время от времени чувствовать себя беспомощным младенцем! — весело воскликнул Алкей, который терпеть не мог, когда кто-либо, кроме него, слишком долго занимал всеобщее внимание. — Но у меня для этого есть другой способ. Ну да, разумеется, вы все сразу же догадались — напиться допьяна вином, чем я и предлагаю всем как следует заняться!
И Алкей незамедлительно спел одну из своих знаменитых «винных сколий», а потом одним махом выпил полный кубок вина, причем удерживая его шутки ради одним ртом, а потом, не глядя, плеснул остатки вина на кораблик, но снова не попал.
Признаться, в игре Фаону с самого начала почему-то везло больше.
Возможно, юноша просто обладал природной ловкостью?
Или ему помогали взгляды девушек, которые он постоянно на себе ощущал, то и дело поглядывая в сторону Глотис?
Леонид тоже с удовольствием осушил целый кубок вина, который поднесла ему услужливая Диодора.
— Я надеюсь, вы все меня уже простили и забыли грубость морского волка, — сказал Леонид, растроганный очень понравившейся песней Алкея. — Ведь большую часть времени я провожу среди матросов, гребцов, туземцев, и если бы не такие люди, как вы, то я и сам скоро смог бы превратиться в дикаря. Но все же я не совсем пропащий человек. Не так давно, в Афинах, мне уже приходилось бывать в обществе прославленных певцов и музыкантов — там проходил большой праздник вокруг старинного корабля, на котором плавал еще легендарный Тесей. И я, как достаточно известный мореход, наряду с другими судовладельцами оказался среди почетных гостей праздника, а он продолжался целую неделю!
— О, в Афинах! — воскликнул Фаон радостно. — Ты недавно был в Афинах? Расскажи!
— В Афинах? — встрепенулась Филистина, услышав слово, которое в последнее время само по себе уже вызывало у нее в душе настоящее страдание. — О, нет, давайте хотя бы сейчас не будем ничего говорить про Афины!
— Но — почему?
— Потому что на днях я туда отплываю, а Филистина оплакивает меня, как будто провожает в царство Аида! — весело пояснил Фаон и тут же звонко воскликнул: — Попал! Попал! Твой корабль, Алкей, пошел на дно… Я — победил!
— Ну, это мы еще посмотрим, кто куда отплывает, — нервно подергал свою лощеную бородку Алкей. — Лично я бы не поехал в Афины, даже если бы меня там с ног до головы осыпали золотом.
— Почему? — заинтересовался Фаон, с неохотой отрывая взгляд от корабликов, вверх дном плававших на воде.
— Мальчик мой, ты что-нибудь слышал про страшные законы Дракона, которые действуют только в Афинах?
— Как — дракона? — спросил Фаон и сделал большие глаза, словно речь шла о крылатом огнедышащем чудовище со змеиным туловищем, сказки о котором ему в детстве нередко рассказывала добрая Алфидия. — Разве они бывают на самом деле?
Все присутствующие в комнате невольно рассмеялись, глядя на испуганное лицо юноши.
— Бывают, драгоценный мой, бывают, — сквозь смех проговорил Алкей. — Так звали известного афинского законодателя из аристократического рода — Дракон, и он придумал законы для преступников, которые поражают всех без исключения своей ужасной жестокостью. Знаешь, что в Афинах ждет того, кто будет замечен в краже горстки зерна или одного вилка капусты с чужого огорода? Не догадываешься? Смертная казнь! И никто не будет это даже лишний раз обсуждать!
— Но… я не собираюсь в Афинах воровать капусту, — пробормотал Фаон. — Сапфо говорит, что мой дед — большой богач, и мне не придется…
— Кто знает, что нас ждет впереди? — задумчиво покачал своей седой, вечно всклоченной головой Эпифокл. — Никто из смертных не может знать своих путей. Я вот тоже сейчас должен быть на Фасосе и вести философские беседы с Бебелихом, а почему-то сижу здесь и любуюсь звонкой пустотой твоего красивого лба…
— Ну что вы совсем запугали мальчика! — вступилась Дидамия. — Не слушай их, Фаон. Я слышала, что сейчас в Афинах правит мудрый Солон, который отменил драконовы законы, написанные кровью, и сделал много чего еще разумного, на что стоило бы посмотреть каждому из нас.
— А, попробуем сначала, — недовольно сказал Алкей, вытряхивая из чашечки воду. — Этот кон не считается. Я просто слишком сейчас отвлекся на всякие разговоры, а когда делаешь много дел сразу, как правило, ничего толком не получается. И вообще, мой совет тебе, Фаон: никогда не стоит стараться поднырнуть под горизонт — ненароком можно и утонуть.
— Так что там, Леонид, ты хотел рассказать нам про Афины? — напомнила Глотис, которой давно уже порядком надоело слушать разговоры, связанные с отъездом Фаона. — Какие ты там видел самые красивые скульптуры или вазы?
— Увы, на афинском празднике я был уже несколько лет тому назад, и за это время в городе многое могло измениться, и мой рассказ вряд ли окажется достоверным, — ушел от ответа Леонид, посмотрев на несчастную Филистину, затем на Фаона, который теперь не радовался даже своей игрушечной победе, на недовольного Алкея.
Ясно было, что он со своим рассказом о прекрасных Афинах здесь может снова оказаться совсем некстати.
— Но меня не интересуют твои знакомые, которые могли уже умереть, — с вызовом сказала Глотис. — Или правители, которые могли смениться. Также меня вовсе не интересуют — ни Дракон, ни Солон, ни даже тот, кто придет им на смену! Я спрашиваю только о произведениях искусства, которые живут вечно, и им дела нет до человеческой возни!
— Увы, но я плохой мастер рассказывать или описывать то, что я когда-то видел, — озадаченно поскреб бороду Леонид. — Для меня написать письмо или даже пересказать подробности путешествия — гораздо труднее, чем еще раз объехать вокруг света или, например, вспахать вручную плугом целое поле.
— Насколько я поняла, ты человек грамотный, но с буквами и словами не дружишь? — засмеялась Дидамия. — Но неужели ты даже не ведешь записей обо всем самом необычном, что сумел повидать за время своих странствий? Или, быть может, у тебя хоть что-то записано?
— Записываю, — кивнул Леонид и выразительно провел руками по глазам. — Но только вот здесь. Увы, однажды я в Египте попал на грандиозные похороны юного фараона Хиу… в общем, не важно, как его звали, во время которых в жертву было принесено тысяча быков, тысяча гусей, сожжена тысяча круглых хлебов. Я хочу только сказать, что еле-еле запомнил это трудное египетское имя.
— Хм, хм, вот он перед вами — живой пример диалектического противоречия, — многозначительно произнес Эпифокл.
— Ты намекаешь, что такой необразованный моряк, как я, вдруг затесался в общество прославленных поэтов? — грозно нахмурился Леонид. — Но я ни от кого не скрываю: в моем роду не было аэдов — бродячих сказителей, и моя семейная ветвь вовсе не ведет свое начало от Гомера. Да, мой слух вообще не настроен на музыку, а только на шум волн. Но зато по их шуму я научился различать приближение бури, которая случится только на следующий день, и загодя укрыть корабль от непогоды в безопасном месте, и…
— Нет, хм, хм, я имел в виду вовсе не тебя, Леонид, и даже не твой, а тот, тесеев корабль, возле которого в Афинах теперь проходят праздники, — сразу испуганно закачал головой Эпифокл — он уже хорошо знал вспыльчивость капитана, умевшего зажигаться буквально от одного только неосторожного слова. — Я решил загадать вам загадку. Мне известно, что когда какая-нибудь доска на корабле Тесея, который был доставлен в Афины как памятник, сгнивала, то ее сразу же заменяли новой доской, так что к нынешнему времени на корабле уже не осталось ни одного первоначального куска. Поэтому я хочу вам указать на тесеево судно как на образец диалектического противоречия: это и тот корабль, и уже совсем не тот корабль, на котором когда-то плавал легендарный Тесей. А кто-нибудь из вас возьмется рассудить: так что это все-таки за корабль — тот или не тот? Может быть, ты, капитан?
Все присутствующие рассмеялись, потому что оказались не в силах разгадать загадку Эпифокла, и Леонид тоже, широко улыбаясь, беспомощно развел руками.
Почему-то в этот момент Леониду показалось, что он уже очень давно знаком с каждым из этих остроумных, веселых людей, прекрасных женщин, среди которых ему было на редкость приятно находиться, вовсе не чувствуя себя лишним и чужим возле пылающего очага.
Леонид почти что с отеческим умилением поглядывал на игру известного поэта с красавчиком юношей, которые с совершенно серьезным видом старались сейчас потопить кораблик, ощущая, наверное, себя в этот момент подобными всемогущим богам — повелителями лоханки с водой.
Если бы эти двое знали, что такое настоящая буря и какой ужас приходится пережить, когда корабль на самом деле вот-вот может пойти на дно!
И еще он втайне ждал, когда же, наконец-то, запоет та, которая в отдалении сидела с кифарой, еле слышно перебирая на ней струны.
Но женщина с золотыми волосами почему-то петь никак не начинала, а просить Леониду было неловко — вдруг она до сих пор на него обижалась за неосторожно сказанные слова?
И вообще, капитан решил про себя, что, попав в такое общество, ему лучше всего поменьше говорить, а побольше слушать и запоминать.
Хотя ведь все равно не всякий потом поверит, что он запросто сегодня пил вино и беседовал с друзьями и подругами прославленной Сапфо, и даже можно сказать, побывал на занятиях в ее школе.
Признаться, с возрастом Леонид начинал все больше стыдиться собственной малоучености, и даже жалеть, что не посидел подольше в ученых студиях, а с самого раннего детства начал бредить о пиратах, сокровищах, прекрасных чужеземках и уже в юности бороздить близкие и дальние моря.
Но теперь, достигнув весьма зрелого возраста, Леонид старался незаметно заполнять пробелы в своем образовании.
Вот и Эпифокла он согласился взять с собой, и причем совершенно бесплатно, лишь потому, что надеялся во время достаточно долгого путешествия, по пути, почерпнуть что-нибудь из его ученой мудрости и получить ответы на некоторые важные жизненные вопросы.
И сейчас Леонид с жадным интересом прислушивался к речам Эпифокла, действительно затеявшего провести что-то вроде урока географии и принявшего засыпать девушек фантастическими рассказами о дальних странах, о которых ученый муж когда-либо слышал или читал.
Так, обратив внимание на прекрасный золотой браслет, украшающий запястье Дидамии, Эпифокл заговорил об Иберии, уверяя, что там, на западе, в земле столько золота, что, когда случаются лесные пожары, оно плавится в жилах и пузырится прямо на дорогах, а реки там в некоторых местах буквально текут золотым песком.
— И что, в Иберии действительно можно из ручьев черпать золото руками? — спросила Дидамия, обращаясь к Леониду и пытаясь его тоже вызвать на разговор.
— Не знаю, я в Иберии такого нигде не видел, — пожал большими, мощными плечами Леонид и слегка покраснел. — Но… может быть, я был совсем в других местах.
— Так ты был в Иберии, наш промокший друг? — спросил Алкей. — Как, и ты не привез оттуда хотя бы несколько мешков золота, как наш Эпифокл?
— Увы, нет… — снова развел руками Леонид, и, глядя на его растерянное лицо, кто-то из девушек снова не смог удержаться от смеха.
А Леонид смущенно пояснил, что никаких золотых пузырей на земле или на воде он в Иберии собственными глазами не видел, но все же может подтвердить, что люди, живущие в тех местах — кельты и иберы, — настолько ленивы, что им не хочется пахать землю и сеять хлеб, и потому они питаются там как попало, и даже наловчились варить похлебку из желудей, которую могут есть только варвары.
Поэтому не исключено, прибавил Леонид, что даже если золото будет у жителей Иберии валяться под ногами, но они и то не пожелают его поднять, а уж черпать руками воду из ручья, даже если она и золотая, — тем более.
Леонид и сам не заметил, как незаметно воодушевился и принялся рассказывать кое-что из обычаев, особенно удививших его на иберской земле, из того, что он действительно там видел собственными глазами.
Особенно поразил слушательниц наиболее распространенный среди иберов способ гадания: оказалось, что жрецы на западе, желая узнать будущее, гадали вовсе не по полетам птиц либо по внутренностям жертвенных животных, как это было принято в Греции.
Они неожиданно убивали назначенного для жертвы человека ножом в спину и начинали гадать по судорогам и предсмертным словам, которые срывались с уст несчастного.
А Алкей и вовсе залился долгим смехом, когда услышал от Леонида, что иберы настолько верят в загробное царство и не боятся смерти, что даже нередко дают друг другу в долг при условии, что долг будет отдан на том свете.
— Это замечательно! — воскликнул Алкей. — Обычай этот следует перенять! Теперь я тоже буду брать у своих друзей в долг бочки самого дорогого тридцатилетнего вина при условии, что мое вино они смогут отведать на том свете, чтобы немного унять могильную дрожь! Согласитесь, это вполне выгодная для всех сделка! Как ты считаешь, Эпифокл? Может быть, ты отдашь мне свой мешок прямо сейчас, а я перешлю тебе сандалии на дно вулкана?
Эпифокл нервно захмыкал.
Он уже тысячу раз пожалел о том, что разболтал вслух про свое сокровище, которое вез с собой, и теперь ему приходилось волноваться за свой груз еще больше, чем прежде.
Чтобы отвлечь внимание от злополучного мешка, Эпифокл вдруг, хмыкая, заявил, что его самая большая, но, увы, совершенно недоступная мечта — суметь когда-нибудь побывать в стране гиперборейцев, где в зимнюю пору гостит сам бог Аполлон,
Все знают, что блаженная страна гиперборейцев, расположенная на самом крайнем севере, отгорожена от остального мира высокими горами, в которых огромными глыбами лежит золото, и эти сокровища неусыпно охраняют грифы, так что в нее не может попасть ни один из смертных.
А так хочется!
— Но судя по твоим запасам, Эпифокл, ты один раз предпринял попытку проникнуть к гиперборейцам, и, по-моему, тебе даже удалось у грифа вырвать немного золотишка! — снова воскликнул весело Алкей.
— Нет, ты ошибаешься, — недовольно мотнул седой головой Эпифокл.
— И потом — зачем тебе туда? — со смехом спросил Алкей, который пьянел буквально на глазах. — Ведь вечное счастье лучше всего заполучить в молодости, когда в тебе полно сил и всевозможных желаний! Зачем оно старикам?
— Хм, хм, нет, не скажи, — покачал головой Эпифокл. — Старое тело вовсе не означает, что душа перестает искать для себя счастья…
— Если Аполлон захочет, то он и здесь сумеет тебя найти, но если ты ему не нужен, то и на земле гиперборейцев он даже не оглянется в твою сторону… — самодовольно заметил Алкей.
— За Аполлоном пусть гоняются поэты, — спокойно ответил Эпифокл. — Но мне хотелось бы под конец жизни пусть даже и не испытать на себе, но все же суметь хотя бы понять умом, что такое счастье, и написать об этом главный труд своей жизни…
— Достойная мечта, — серьезно кивнула головой Дидамия.
— А ты, Леонид, кстати, в своих странствиях не встречал ли случайно хотя бы одного гиперборейца, который что-нибудь бы рассказал тебе о стране счастья, ведь секрет этот скрыт где-то за золотыми горами? Может быть, среди гиперборейцев тоже встречаются торговцы, которым разрешено покидать пределы страны, и ваши пути случайно скрещивались? — с надеждой спросил кто-то из девушек Леонида.
— Нет, увы, не встречал, — вздохнул Леонид. — Я бы и сам хотел… Но… нет, не знаю…
— Хм, хм, что делать — придется пока довольствоваться слухами, — сказал Эпифокл. — И жить общими мечтами, которые тоже незримо связывают между собой самых разных людей, лишний раз подтверждая мою теорию.
Но вот зато о других народах, обитающих у подножия неприступных гиперборейских гор, достоверных сведений у Эпифокла имелось гораздо больше.
И ученый старец принялся рассказывать застывшим от изумления и страха юным ученицам о сказочных и диких племенах исседонов, у которых сыновья до сих пор поедают трупы престарелых отцов, если те больше не могут охотиться на диких зверей, а также про племена ирков, лазающих по деревьям лучше обезьян, о загадочных неврах, про которых говорят, будто каждый невр непременно раз в году оборачивается волком, а потом снова делается человеком, про племя агафирсов, у которых все жены — общие…
В рассказе Эпифокла правда и вымысел переплелись настолько тесно, что все эти сведения казались совершенно невероятными и одновременно — до жути правдоподобными, и каждый из слушателей верил чему-то своему, а другое безоговорочно мысленно отвергал.
Иногда Леонид чувствовал на себе вопросительные взгляды женщин, молчаливо требовавших у него подтверждения или опровержения какой-нибудь из странных небылиц, выдаваемых Эпифоклом за «самые точнейшие научные сведения», но Леонид лишь отрицательно качал головой, показывая, что в такие края, о которых шла речь, он, увы, пока что не забирался, и разводил руками.
Глядя на этот часто повторяющийся жест, было похоже, что Леонид плавает в воздухе, и это для него гораздо привычнее, чем просто стоять на ногах.
Но по скрытой улыбке, то и дело прятавшейся в рыжей бороде Леонида, было видно, что сам он не слишком-то верит в «достоверные сведения» Эпифокла, считая их, впрочем, весьма искусно сочиненными сказками, слушать которые возле огня с чашей вина в руках одно удовольствие.
— Я все-таки не понимаю, как это возможно — общие жены? — не выдержала и перебила философа Глотис. — Ведь это же просто… как в стаде диких кабанов. Да и то я не вполне уверена, что в том же стаде не существует своего порядка и отдельных пар. Нет, все же мужчины там — порядочные скоты.
— Хм, хм, не стоит никогда судить о людях скопом, не думаю, что все так просто, — возразил ей Эпифокл. — И не могу исключить, что агафирсы на этот счет просто имеют свои убеждения, отличные от наших. Допустим, они считают, что таким образом все люди становятся роднее, еще более тесно связываются, так сказать, в единое, неразрывное целое…
— Такие речи способны вести лишь мужчины, — недовольно фыркнула Глотис. — Да-да, все мужчины…
— И… вам, как всякому мужчине, и к тому же частому посетителю публичных домов, наверное, обычай агафирсов тоже очень нравится? — вдруг спросила из своего угла Филистина, впервые обращаясь к Леониду. — Впрочем, и в самой Греции отношение к женщинам, на самом деле, несильно отличается от того, что мы узнаем о варварах, и лишь выражается не так откровенно…
— Мне — нет, не нравится, — твердо ответил Леонид, оборачиваясь к Филистине и глядя ей прямо в глаза. — Я думаю, что у этого народа просто очень страшные, некрасивые женщины, на которых мужчины привыкли не обращать внимания. Но я уверен, что, если бы среди агафирсов случайно появилась хотя бы одна такая женщина, как ты, они тут же разом переменили бы все свои привычки.
— Браво, мой друг! — воскликнул Алкей. — По части манер ты на глазах делаешь успехи! Филистина, а ты, оказывается, хорошая учительница для незнакомых мужчин! И за это стоит выпить!
— Я учу только детей, — оборвала его Филистина, презрительно вздернув губу.
— Хм, хм, а еще я слышал о будинах, которые, говорят, едят одни сосновые шишки и понятия не имеют, что такое вино, — вспомнил Эпифокл, почувствовав вдруг после вина и педагогических речей настоящий прилив красноречия. — Так давайте же выпьем, друзья мои, за то, что мы не будины…
— А также не простолюдины… — тут же подхватил его тост Алкей, — которые вынуждены заниматься всю жизнь ради пропитания грубым физическим трудом или ремеслом. Ведь повседневный труд делает людей тупыми и несчастными — пусть же это навсегда останется уделом рабов, а не нас, свободнорожденных! Лишь настоящий человек достоин приятного досуга и такой деятельности, которая основывается на его духовных способностях, а вовсе не служит зарабатыванию средств к существованию. А к тому же мы, счастливчики, постоянно еще находимся под покровительством Муз, а также Дионисия, второе имя которого — Лиэй — освобождающий людей от мирских забот!
— Хм, прекрасно! — с готовностью поднял кубок Эпифокл. — Золотые слова! Нет, даже лучше — таких слов не добудешь в диких землях, где обитают варвары, их можно услышать только среди нас, свободнорожденных греков. Может быть, вот оно — наше счастье? Мудрость, которую мы впитываем в себя вместе с золотистым вином?
И с этими словами все присутствующие в комнате, в том числе и новый гость, с удовольствием осушили еще по одному полному кубку вина, и Леонид действительно вдруг впервые за долгое время почувствовал себя непонятно, беспричинно счастливым.
Примерно так же, как если бы он сейчас несся на всех парусах к желанному острову.
Но, может быть, Леонид уже и впрямь незаметно двигался по направлению к неведомой земле, которая называется твердым и простым словом «любовь», сам того пока совершенно еще не осознавая?
Одна из девчушек, опять-таки обращаясь к Леониду, поинтересовалась вслух, правда ли, что в Индии золото в пустыне стерегут гигантские муравьи — некоторые из них достигают роста человека — она слышала рассказ об этом от кого-то из заезжих купцов, с которыми беседовал ее отец.
Леонид, улыбаясь, ответил, что таких огромных муравьев лично он в Индии не встречал, но зато видел там очень худых и гибких людей, умеющих так закладывать ноги за голову, что издалека они действительно могут показаться похожими на огромных насекомых, но при ближайшем рассмотрении оказываются все же вполне миролюбивыми людьми, которые по доброй воле спят на острых железных прутьях или даже на наточенных мечах.
— Нет, вот тут я уже точно отказываюсь верить! — воскликнул Алкей. — Кому же захочется добровольно подвергать себя столь жестоким пыткам? И потом, ты что, разве и в Индии уже успел побывать? Лучше признайся сразу, что сейчас нарочно сочинил для нас эту историю, и в этом нет вовсе ничего предосудительного! Ведь ты находишься на симпосии в обществе сочинителей, поэтов!
— Но… я видел это. Правда, собственными глазами, — слегка оправдываясь, проговорил Леонид, показывая на свои глаза, будто бы это были таблички, по которым что-то могли прочитать и остальные.
— Фантазии! Не более чем превосходное вранье! — продолжал упорствовать Алкей.
И. глядя на него, Леонид вдруг не на шутку разозлился и даже почувствовал, как у него под накидкой напряглись мускулы рук.
Что вообще может понимать в путешествиях этот холеный щеголь, который в штормовую погоду наверняка не смог бы справиться с парусами и с веслами, так как привык держать в руках только лишь пилку для ногтей?
Но не мог же сейчас Леонид в присутствии женщин, и особенно Филистины, обрушить на Алкея свои кулаки или хотя бы даже крепкие, соленые ругательства, с легкостью подворачивавшиеся на язык на корабле, среди своих, например если нужно было присмирить слишком распоясавшуюся команду?
Нет, тогда бы его точно женщины приняли здесь за неисправимого грубияна и неотесанного простолюдина!
И поэтому вместо ругани Леонид вдруг начал хрипловатым, словно слегка застуженным голосом, сначала с трудом подбирая нужные слова, а потом все легче и непринужденней, рассказывать вслух о своих многочисленных приключениях.
Леониду самому это казалось несколько удивительным — получалось, что практически впервые в жизни он сейчас выступал в совершенно новой для себя роли не то оратора, не то поэта, которого затаив дыхание слушали образованные люди, но теперь, подстегиваемый гневом, он уже не мог остановиться и говорил, говорил…
Сначала о своей совсем недавней поездке в Карфаген — жутковатый город, известный человеческими жертвоприношениями, а потом и про Финикию, и Мидию, и Персию.
Леониду самому оказалось приятно вспомнить благословенное время, когда ему пришлось недолго пожить в Лидии — на редкость дружелюбной стране, цари которой специально приглашают к себе греческих мудрецов и одаривают их дорогими подарками, чтобы те учили их мудрости.
Рассказал Леонид и о том, как однажды заглядывал по пути домой в суровую Скифию.
Слушая Леонида, та же Дидамия, да и все ученицы, казалось, с некоторым смущением вспоминали, что совсем еще недавно весь мир представлялся им в виде большого круга, в центре которого находится остров Лесбос, рядом, в Эгейском море, — все остальные греческие острова, а дальше — граница, за которой просто-напросто больше вообще ничего нет.
Но вдруг оказалось, что мир до бескрайности огромный и непостижимо разнообразный — гораздо больший, чем даже возможно вообразить себе или увидеть во сне.
Но удивительнее всего, что, оказывается, обыкновенный человек все равно способен увидеть, принять в себя, познать этот великий мир, если, разумеется, он обладает не меньшим мужеством, упрямством и непоколебимым желанием, чем Леонид.
Даже Алкей несколько притих, потому что на фоне историй незнакомца собственные впечатления о Египте ему самому показались вдруг совершенно будничными и домашними.
Подумаешь, Египет, где в гавани цари давно с охотой принимают греческих купцов и с удовольствием приглашают на службу греческих воинов.
Получается, что для греков это почти что уже родной край, по сравнению с теми землями варваров, о которых вспоминал сейчас Леонид.
И пусть леонидовы чужестранцы вовсе не превращались в диких зверей и не делили друг с другом общих жен, как это было в полусказках Эпифокла, а вели совершенно обыкновенную, будничную жизнь, но от того, что и в большом, и в мелочах их жизнь была вовсе не такой, к какой все привыкли на Лесбосе, она казалась еще более таинственной и удивительной, чем даже у самых сказочных народов.
Ведь сколько ни говори про гиперборейцев, но их все равно ведь никому невозможно увидеть, потому что людям это запрещено великими богами, а тут, получалось, что каждый может сесть на корабль, подставить ветру паруса и…
Разумеется, все женщины теперь поневоле разглядывали Леонида с тайным восхищением.
Все, кроме Филистины.
Казалось, она одна буквально с первого взгляда невзлюбила незнакомца и если временами и смотрела в его сторону, то без тени улыбки, в упор, словно на врага.
Хотя в комнате все без исключения успели заметить, что с первой же минуты Леонид буквально не отводил от Филистины глаз, да и теперь говорил так, словно рассказывал о своей жизни ей одной, не обращая внимания, что его главная слушательница то и дело со скукой смотрит в окно и вздыхает.
Но все же глядя на этого рыжебородого человека, невозможно было представить, как же он вообще сумел остаться в живых после стольких опасных плаваний.
Мало того, что сам Леонид мог сотни раз утонуть в бурю, а его триера разбиться в щепки о подводные камни, затонуть, но и при более благоприятном путешествии все моряки, включая капитана, могли быть неоднократно убиты, растерзаны, казнены, съедены…
А он как ни в чем не бывало, протянув к огню руки, сидел сейчас на скамейке и улыбался своей неподражаемой, белозубой улыбкой, как будто был совершенно уверен, что находится под постоянной надежной охраной великих богов.
— О, все твои рассказы надо записать! Непременно! — взволнованно сказала Дидамия, когда Леонид взялся за кубок, чтобы немного промочить вином горло. — Клянусь, твои впечатления будут интересны всем, их можно будет использовать также во время уроков географии в школе. Я прошу тебя, Леонид, задержись у нас хотя бы на пару дней, чтобы я смогла подробно записать истории, которые представляют несомненную научную ценность. И девочки мне в этом тоже помогут…
— К тому же тогда ты тоже сможешь участвовать во вторых «фаониях», — обрадованно заметил Фаон. — Это праздник, названный друзьями в честь меня, и он будет проводиться завтра ночью, когда должно наступить полнолуние… Как ты считаешь, Алкей?
— Чем больше будет мужчин, тем интереснее может получиться праздник, — загадочно улыбаясь и теребя бородку, проговорил Алкей.
— Да, это прекрасная мысль, пожалуй, я останусь, — неожиданно легко согласился Леонид. — Мне у вас очень понравилось.
Но та, ради которой он не задумываясь согласился отложить плавание еще на два дня, даже не посмотрела в его сторону, а снова с невыразимой печалью взглянула на оживленного Фаона.
— …Но тогда, раз ты действительно хочешь записать воспоминания о моих путешествиях, чтобы они могли служить для потомков, я должен рассказать о самом главном в моей жизни путешествии, — помолчав, вдруг заявил Леонид, и глаза присутствующих снова обратились в его сторону.
То, что он рассказал, было вовсе невероятно!
Леонид заявил, что он совершил настоящее путешествие вокруг света: через Геракловы Столпы он доплыл к далеким Оловянным островам, называемым также Британией, оттуда двинулся еще дальше на север к Янтарным берегам и, наконец, по полноводным рекам сумел добраться вниз по течению до Понта Эвксинского и потом благополучно вернуться в Грецию.
— Это невозможно! — выслушав Леонида, авторитетно заявил Эпифокл. — Дикие Оловянные острова находятся на самом краю мира, и за последние сто лет там не побывал ни один человек. Все сведения, которые мы имеем, относятся к плаванию Аристея, жившего в городе Проконнесе…
— Там побывал я, — снова упрямо повторил Леонид. — Мои матросы до сих пор с ужасом вспоминают, как после Янтарных берегов мы попали в среду, где не было ни моря, ни земли, ни воздуха, а что-то среднее. Не скрою, мне даже показалось, что мы случайно заплыли в реку Лету, протекающую в царстве мертвых. Но все же я продолжал в этом сомневаться, потому что воды и берега реки, где мы чуть было все не погибли, оказались не черными, а, наоборот, белыми, словно были сделаны из снега или застывшего молока. И потом если бы это действительно была река Лета, то, испив из нее, мы должны были бы поневоле забыть всю свою прежнюю жизнь — ведь всем нам приходилось согревать на огне и пить эту воду. Но мы все слишком хорошо помнили и про наши дома, и про теплое Эгейское море, и, как мне теперь кажется, именно эта память спасла нас и все же вывела на верный путь, по которому мы смогли вернуться домой.
— Нет, все же это была, пожалуй, Лета, — скептически заметил Алкей, ухмыляясь и поглаживая свою бородку. — Потому что ты сейчас совсем забыл себя и несешь настоящий бред о том, чего не бывает и не может быть…
— И потом, если это и на самом деле были самые северные края, то ты все же встретил бы там гиперборейцев, — робко вспомнила одна из девушек.
— Да, но где же тогда счастливая земля? — разочарованно спросила другая. — Я поняла, что ты там, наоборот, испытал настоящий смертельный страх и отчаяние? А где же золотые горы? Где счастье за горами?
Но Леонид только пожал плечами, снова развел руками, не зная, как ответить на все эти вопросы.
— Я же вам говорил, что не мастер рассказывать, — пробормотал он смущенно. — Нет, не надо было… Я знал, что мне все равно никто не поверит… Признаюсь, я видел там горы, которые никогда не освобождаются от льда, и откуда постоянно дуют холодные ветры — но они совершенно не обитаемы. Там нет ни зверей, ни птиц, и не могут жить даже грифы.
— Ой, как… неинтересно, — вздохнула одна из девушек, которая больше остальных говорила сегодня о счастье.
— Нет, наоборот, интересно, — строго поправила ее Дидамия. — В жизни следует изучать даже то, что не кажется тебе интересным и прекрасным, чтобы быть ко всему готовой. Такой метод называется «мимесис» — проникновение в действительность. Я, Леонид, теперь еще больше хочу записать твои рассказы. Твой подвиг мореплавателя должен войти в историю, и я постараюсь для этого сделать все, что только от меня зависит.
— Спасибо, — с чувством проговорил Леонид и вдруг, улыбнувшись, достал откуда-то из-за пояса небольшой кожаный мешочек. — Вот, посмотрите, у меня есть доказательство, что я доплывал до Янтарных берегов. Увы, я не смог привезти те ослепительно сияющие драгоценности, которыми усыпаны берега северных рек — это всего-навсего лед, сверкающий на солнце лучше серебра, но он тут же тает в руках. Зато вот эти камешки — янтарь — море выносит на берега столько, что при желании их можно набирать целые пригоршни…
И Леонид действительно высыпал на стол целую горсть ярко-желтых, коричневатых прозрачных камешков, которые в этот сумрачный, дождливый день показались застывшими кусочками солнца.
— И правда, настоящий янтарь, — посмотрел на свет с видом знатока один из камешков Эпифокл. — Но как много!
— О, я знаю, это слишком сильно затвердевший мед! — воскликнул Фаон и тут же попробовал камень на язык, удивившись, что он вовсе не сладкий на вкус.
— Нет же, это осколки звезд, которые, когда падают на землю, разбиваются вдребезги, и часть из них потом попадает в море, — сказала Глотис.
— Чьи-то застывшие слезы, — прошептала одна из девочек.
— Считается, что это слезы гелиад, если ты именно это сейчас имела в виду, — тут же уточнила Дидамия. — Надеюсь, ты помнишь знаменитое сказание о том, как Гелиос разрешил однажды своему упрямому сыну Фаэтону прокатиться по небу на его солнечной колеснице, и, разумеется, помнишь также, чем закончился такой неразумный поступок. Янтарь — это застывшие слезы гелиад, сестер Фаэтона, которые от горя после смерти брата превратились в тополя, а их слезы — в янтарь. Но я тоже никогда прежде не видела целую пригоршню застывших слез дочерей солнца.
— Да, но это к тому же — целое состояние, — заметил Алкей, тоже рассматривая на свет удивительные, солнечные камешки. — Купцы, которые изредка привозят на Лесбос янтарь из каких-то далеких краев, запрашивают за каждую такую слезинку огромные деньжища. Ведь янтарь очень удобен в обработке — он не слишком тверд, но и не излишне хрупок, поэтому из него получаются замечательные украшения. Так что каждый такой камешек можно назвать также и застывшими слезами покупателя…
И Алкей посмотрел на Леонида с невольным уважением и прямо-таки с еще большей симпатией.
— Не скрою, Леонид, теперь я тоже гораздо больше склоняюсь верить в твои невероятные рассказы, — сказал Алкей. — Думаю, что я даже попробую сочинить о твоих приключениях новую песню, которая тебя по-настоящему прославит.
— Но я хочу вам показать еще кое-что, — еще больше воодушевился Леонид и достал откуда-то из-за пояса на редкость большой камешек, которым особенно дорожил и хранил отдельно.
Это тоже был янтарь, но только очень крупный и светлый.
А самое удивительное, что внутри камня застыла какая-то небольшая, крылатая букашка ярко-красного цвета, похожая на капельку крови.
— О, это еще что! — с довольным видом сказал Леонид. — Смотрите: ни один из янтарей, которые я когда-либо держал в своих руках, не обладают такой силой притяжения, как этот!
И Леонид вдруг резким, безжалостным движением выдернул из своей бороды пучок рыжих волос, а потом, потерев о ладонь камень, поднес к нему волосы.
И хотя между камнем и волосами в его руках расстояние было порядочное, женщины увидели, что огненная прядка, словно живая, трепыхнулась в сторону намагниченного янтаря, и чем ближе Леонид подносил камень, тем сильнее она пыталась к нему приникнуть.
Такие диковинные насекомые ни на Лесбосе, ни на близлежащих островах точно не водились, и к тому же крылатое четверокрылое создание теперь было навеки замуровано внутри одной из «гелиадовых слез», и его можно было сколько угодно рассматривать со всех сторон, вертя камешек в руках.
Камень показался настолько необыкновенным, что его сразу же начали по кругу передавать из рук в руки.
— Как красиво, — сказала Филистина, когда дивный янтарь оказался на ее ладони, и вздохнула. — Как красиво и как… необычно!
— Тебе нравится? — спросил мягко Леонид.
— Да, особенно наша Сапфо любит такие чудесные вещи и собирает их, не жалея на это никаких денег. Недавно ей привезли откуда-то издалека зуб слона, величиной с мою руку… Я тоже хотела бы собирать всякие редкости, но у меня на это не хватает терпения.
— Тогда я дарю тебе этот камень, — спокойно сказал Леонид.
— Ах… — по комнате разнесся смешанный вздох удивления, восхищения, невольной зависти.
— Но… я ничем не заслужила такого подарка, — слегка нахмурилась Филистина, протягивая янтарь назад Леониду.
— А подарки не надо заслуживать, иначе они из дара превращаются в плату, — сказал Леонид. — Но если тебе неловко принимать мой подарок одной, то пусть каждый из присутствующих тоже выберет себе камень, который придется по душе, и потом вспоминает обо мне, когда я снова покину эти берега. И еще — ведь должен же я как-то отблагодарить всех за то удовольствие, которое мне доставило сегодня ваше общество…
— Я всегда говорил, что если человек — потомственный аристократ, то его благородное происхождение будет заметно, даже если он десять лет проживет в шалаше среди дикарей, — удовлетворенно заметил Алкей, выбирая большой темный камень, который показался ему наиболее подходящим для превосходного мужского перстня.
Фаон, напротив, выбрал себе самый что ни на есть прозрачный янтарик и тут же принялся смотреть сквозь него на свет, сощуривая свои лучистые глаза и радостно улыбаясь.
Эпифокл выбрал камешек, который по форме немного напоминал сердечко, намереваясь при случае иллюстрировать на его примере свою мысль о связанности формы и содержания.
После подарков Леонида все пришли в веселое, взбудораженное настроение, и к тому же дождь закончился, и из-за туч робко блеснуло солнце.
— Кажется, мы напрасно засиделись дома! Пойдемте гулять! — воскликнул Алкей, надевая на голову свой венок, наготове лежавший на столе. — Дождь прошел, пойдемте! Я покажу вам поляну, где мы будем проводить вторые «фаонии» — там уже следует кое-что заранее приготовить для праздника. И потом — вдруг мы по дороге встретим Сапфо? Я не могу не видеть ее так долго, а все вместе мы наверняка уговорим ее пойти на прогулку вместе с нами!
Девушки с готовностью вскочили с мест, а у Фаона в руках тут же откуда-то появился мяч, набитый конским волосом, который юноша принялся ловко подбрасывать в воздух.
Зато Эпифокл нежно погладил свой живот и сказал, что «мешок с фигами» требует, чтобы его на некоторое время все оставили в покое и желательно уложили в горизонтальное положение.
Филистина тоже не тронулась с места, когда веселая, шумная, что-то напевающая по пути молодая компания исчезла за дверью, убегая на улицу.
Помедлив, Леонид тоже остался и присел рядом с Филистиной, которая вопросительно подняла на него глаза.
— Мне кажется, ты до сих пор обижаешься на меня, — проговорил Леонид.
— За что? Нет, нисколько…
— За то, что я так неловко ошибся, приняв ваше высокое общество за дом… женщин легкого поведения, — уточнил Леонид, который привык без жалости относиться к себе хоть на море, хоть на суше. — Но я действительно не встречал нигде раньше таких умных и по-настоящему образованных женщин, как здесь, на Лесбосе…
— Ах, на Лесбосе ты тоже лишь в одном месте — здесь можешь встретить женщин, где мы чувствуем себя более-менее свободно, — с досадой ответила Филистина. — И я не могу на тебя обижаться, потому что на самом деле в отношении меня ты оказался прав.
— Прав?
— Иногда наступают моменты, когда понимаешь, что на самом деле это тоже вовсе не свобода, а одна видимость, — медленно проговорила Филистина. — Вот как, например, теперь у меня…
— Но — почему? — яростно вскричал Леонид. — Тебя кто-то обижает, притесняет? Тебя, такую…
Он не смог продолжить своей мысли, потому что не умел говорить красивых слов, и только сделал в воздухе неопределенный жест рукой.
— Какую — такую? — посмотрела на него в упор Филистина, и Леонид с удивлением заметил в ее глазах слезы. — Какую? Да, я живу в самом центре столицы, в роскошном доме, его обслуживает множество рабов, но я не могу взять к себе в дом ребенка, к которому отношусь как к своему собственному сыну. Разве это можно назвать свободой?
— Но — почему? — изумился Леонид.
Филистина разговаривала с малознакомым так откровенно, хлестко, словно хотела его, а еще больше саму себя обидеть и сделать так, чтобы на нее никто не смотрел обожающими глазами, никто и никогда…
— Хоть я и не женщина легкого поведения, как ты тут заметил, но все равно живу на постоянном содержании одного очень богатого купца, Митридата. Да, потому что я привыкла жить в роскоши и, как справедливо говорил сегодня Алкей, вовсе не хочу превращаться в тупое, невежественное существо, как те, кто вынужден изо дня в день бороться с нищетой, — сказала Филистина, даже не стараясь вытирать слез, катившихся по ее щекам. — Мой покровитель Митридат — не злой человек, к тому же почти все время он плавает где-то по своим торговым делам и позволяет мне жить так, как я хочу: посещать школу Сапфо, выезжать сюда на лето за город и многое, многое… Скорее всего, Митридат меня по-своему любит, и даже балует. Но он ни за что не разрешит, чтобы я привела в дом мальчика, которого считаю своим ребенком…
— Но — почему? — снова коротко, но настойчиво спросил Леонид.
— Да как ты не поймешь — потому что Фаон вырос! — в отчаянии воскликнула Филистина. — Я не сделала этого раньше, а теперь Фаон, мой сын, да, мой единственный сын, стал красивым юношей, с которого не сводят глаз как женщины, так и мужчины. Нет, мой друг не потерпит из ревности, чтобы Фаон поселился в его доме, и теперь мой сын должен навсегда, навсегда от меня уехать. И я сама во всем виновата — мне нужно было об этом подумать раньше, когда Фаончик был еще маленьким, но я не виновата, что время летит так быстро и незаметно. Клянусь Зевсом, я просто не заметила, что уже прошло столько лет!
Филистина все еще продолжала плакать, а Леонид вдруг почувствовал, что у него словно камень упал с плеч, и, напротив, широко улыбнулся.
Оказывается, Филистина относилась к тому юному красавчику, который забавлялся с поэтом игрой в коттаб, как к своему сыну!
Просто как к сыночку, и никак иначе!
Леонид мог бы сейчас запросто от радости обнять Филистину и крепко сжать ее в своих ручищах, если бы имел на подобную вольность хотя бы маленькое право.
Но эта женщина казалась ему хрупкой и недосягаемой, как самое редкое сокровище, или бесценное произведение искусства, которое он когда-либо мог видеть в своей жизни.
— Нет, не нужно так отчаиваться, — только и нашелся что сказать Леонид. — Не нужно. Я тебе помогу. Уверяю тебя, что вместе мы что-нибудь придумаем.
— Ты? Поможешь? — спросила Филистина, изумленно глядя на Леонида сквозь слезы.
Но вдруг ей показалось, что огненно-рыжий и, по всей видимости, очень сильный человек, которому, в прямом смысле слова, «любое море по колено», нарочно послан ей всемогущими богами, чтобы действительно как-то помочь в создавшейся ситуации.
Филистина даже почти что забыла о том, что Леонид с первой же минуты своего появления в дверях вызвал у нее сильнейшую неприязнь и почти что безотчетный страх.
Но, скорее всего, Филистина тогда просто все еще находилась под впечатлением от недавнего разговора с Сапфо, и потому весь мир ей казался враждебным и ощетинившимся.
— Спасибо. Но — что ты можешь сделать? Чем ты поможешь? — тихо спросила Филистина.
— Пока не знаю. Но если мы будем вместе думать…
Продолжить Леониду не пришлось, потому что в этот момент в комнату вошла Сапфо, возвратившаяся с прогулки.
— Т-ш-ш, — по-заговорщицки приложила Филистина палец к губам. — Не сейчас, потом. Это Сапфо.
Леонид, который мечтал увидеть Сапфо, поневоле пришел в замешательство — почему-то у него никак не хотело укладываться в голове, что эта промокшая насквозь, бледная, совершенно несчастного вида женщина и есть та самая известная поэтесса, о которой по всему миру ходят легенды.
— Ну как? Ты споешь нам сейчас песню, которую только-только услышала у дождя? — спросила Филистина у Сапфо, стараясь выглядеть веселой и беззаботной.
— Нет, я ничего не услышала, — сказала Сапфо, посмотрев на Филистину и Леонида странным, застывшим взглядом.
Она даже не поинтересовалась, что это за незнакомец и почему он сейчас находится в ее доме.
Не исключено, что Сапфо вообще ничего не видела вокруг.
— Я совсем перестала слышать песни, — вдруг тихо проговорила Сапфо. — Наверное, боги решили меня за что-то наказать. За три дня я еще не сочинила ни слова.
— Ни слова? — удивилась Филистина, зная, что до этого времени ни один день Сапфо не проходил без новой песни, или хотя бы нескольких строк, из которых все равно потом вырастало целое стихотворение. — Неужели это правда?
— Да, ни слова, — каменным голосом проговорила Сапфо. — И сегодня — тоже.
— Ничего, я за целую жизнь не написал ни слова, и то об этом вовсе не горюю, — постарался несколько грубовато утешить Леонид донельзя расстроенную женщину. — Подумаешь, что с того?
И только теперь Сапфо обратила внимание на незнакомого мужчину, который сидел в комнате наедине с Филистиной и болтал какие-то откровенные глупости.
— Кто это, Филистина? — сказала Сапфо, посмотрев на Леонида, но по-прежнему каким-то странным, невидящим взглядом. — Я никогда прежде не видела этого человека.
— О, Сапфо, его зовут Леонид, — с готовностью пояснила Филистина. — Он известный мореплаватель, который рассказал нам сегодня много невероятного, хотя и правдивого тоже. И сделал всем прекрасные подарки. Посмотри, какая красота!
И Филистина протянула Сапфо свой необыкновенный янтарь.
Признаться, она взяла его у Леонида, чтобы при случае подарить Сапфо и потом снова завести разговор о Фаоне, но подруга рассматривала камень с заточенным внутри него четверокрылым существом чуть ли не с мистическим ужасом.
— Боги, как страшно, — проговорила Сапфо. — Никогда в своей жизни не видела ничего печальнее. Словно стихотворение… про меня.
— Ах, что ты такое говоришь, Сапфо? — улыбнулась Филистина. — Тебе же всегда нравились такие диковинки?
Но Сапфо молча отдала янтарь назад Филистине.
У нее возникло тягостное ощущение, что этот камень и впрямь имеет какое-то отношение к ее собственной судьбе.
Бедная крылатая козявочка, которая больше не может летать, но зато на веки вечные выставлена на всеобщее обозрение!
Бедная Сапфо, которая разучилась петь, но все вокруг по-прежнему глядят на нее во все глаза, как на диковину.
Вот и этот рыжий мореплаватель тоже…
— Скажи, Леонид, а ты действительно объехал весь свет? — тихо спросила у гостя Сапфо.
— О, Сапфо, я убедился, что весь свет объехать ни одному из смертных невозможно, — ответил Леонид. — Оказывается, мир так велик, что мы даже не можем вообразить, насколько он велик. Но я слышал о тебе, Сапфо, и в краях совсем далеких от Лесбоса.
Леонид подумал, что сейчас Сапфо сразу же начнет его расспрашивать, в каких местах особенно любят ее песни и какие именно, и вообще интересоваться, что говорят о ней люди.
Но Сапфо по-прежнему молчала и словно не услышала слов Леонида.
— А мы, морские люди, особенно любим вот эту твою песню, Сапфо:
Ты, Киприда! Вы, нереиды-девы! Братний парус правьте к отчизне милой! И путям пловца, и желаньям тайным Дайте свершенье![24] —начал было Леонид, но Сапфо вдруг нетерпеливо махнула рукой и задала всего один неожиданный вопрос:
— А ты, Леонид, случайно, или кто-нибудь из твоих морских людей, не слышал о женщине по имени Анактория, дочери Диоклида? Я больше всего в жизни желала бы ее где-нибудь отыскать.
— Анактория? — переспросил Леонид и задумчиво сдвинул брови. — А какого она возраста? Какая из себя? Где живет?
— Я не знаю точно, сколько ей лет, — вздохнула Сапфо. — Кажется, Анактория совсем молода, но у нее седые волосы. Вообще-то она тоже родом с Лесбоса, но может жить в любом городе мира. Я не могу сказать даже, красива ли она, но думаю, что если бы ты ее увидел, то уже никогда бы не смог забыть.
— Нет, я нигде не встречал женщины, о которой ты говоришь, Сапфо, — с сожалением ответил Леонид.
— Как жалко! — вздохнула Сапфо. — Впрочем, я так и знала.
И Сапфо больше ничего не добавила, а только вздохнула и прошла в свои покои.
Глава шестая ВАЗЫ ПО ИМЕНИ «ГЛОТИС»
Из комнаты Глотис, где Сапфо дожидалась девушку, отлучившуюся за водой к ручью, сейчас было хорошо слышно, как за стеной вовсю болтали и смеялись служанки.
Некоторые женщины немало удивлялись тому, насколько снисходительно Сапфо переносила речи своей острой на язык служанки Диодоры, уверяя, что подобного спокойствия способен достичь лишь особый человек, обладающий каменным или железным терпением, и еще делая некоторое снисхождение на возраст Диодоры.
И действительно, вспоминая, как Диодора держала на Сицилии на руках маленькую Клеиду, Сапфо почему-то казалось, что служанка и тогда была уже очень старой.
Интересно, сколько же теперь Диодоре лет? Восемьдесят? Девяносто? Тысяча?
Пожалуй, Сапфо с Диодорой связывало что-то большее, чем просто привычка. Может быть, прожитые вместе — и трудные, и счастливые — годы жизни?
Вот и сейчас Сапфо лишь улыбнулась, услышав за стеной знакомый, сварливый голос своей Диодоры, который со временем сделался немного глуше, но вовсе не потерял характерных интонаций, подруги Сапфо находили их «совершенно несносными», похуже скрипучей телеги.
— Нет, я чую, что с тех самых пор, как в нашем доме появился этот пустой хлебоед, Эпифокл, наша госпожа словно сделалась сама не своя, — озабоченно проговорила Диодора. — Этот толстобрюх сильно попортил в доме воздух, я и сама порой захожу в его комнату, на всякий случай зажав двумя пальцами нос…
— И не говори, Диодора, — с готовностью согласилась с ней собеседница, в которой Сапфо узнала кухарку Вифинию. — Поначалу я думала, что старик и впрямь будет есть одну только пресную кашу, как и положено приличным людям в его лета. Так нет тебе — этому Эпифоклу подавай то кровавой колбасы, да побольше, то зажаренных угрей в чесночной подливке. Не поверишь, но круглый пирог с сырной начинкой он и вовсе запросто съедает целиком, да еще потом добавляет к нему мой пирожок (хотя и без того непонятно как он поместился в его ненасытных кишках), сладкие булочки, причем окунув их как следует в мед.
— Но самое главное не это, Вифиния! — проговорила Диодора, несколько понизив голос. — Я самолично слышала, что старик везет с собой целый мешок золота. Столько, что из него можно построить целый золотой дом, но при этом Эпифокл хотя бы разок для приличия приказал прислать за свой счет к обеду вина или окорок. Так нет же — все траты лежат на моей хозяйке, которая на все мои слова говорит, что грязный старикашка — ее дорогой гость.
— Нет, не понимаю, никак не могу понять: зачем, Диодора, наша госпожа постоянно собирает у себя в доме всяких дармоедов? Какой от них толк? Скажи, ты когда-нибудь ее об этом спрашивала?
— Конечно, Вифиния, и не раз, но всякий раз моя госпожа говорит что-нибудь вроде того, что новые люди для нее — это все равно что, например, свежая водица, или молодое вино, когда сильно хочется пить, или приводит другую какую-нибудь отговорку, — пожаловалась Диодора. — Я так думаю, она просто смеется надо мной. Подумай сама — как можно грязного старика, который перевязывает свое пузо простой веревкой и всю одежду которого я бы с радостью своими руками сожгла на костре, сравнивать с молодым вином? Да к тому же еще такого негодного жмота!
— Вот именно! — подхватила Вифиния. — Я, например, тоже иногда не прочь пригласить в гости и даже разок напоить вином нашего лесника, потому что знаю, что он потом мне за это привезет самые лучшие дрова, или накормить задарма ужином колбасника Кипсела, потому что когда он будет резать телят, то принесет мне печень, или парное мясо, когда они будут еще теплыми от живой крови. Но зачем же тратиться просто так, впустую? Нет, Диодора, чем больше я смотрю на жизнь, тем сильнее убеждаюсь, что знатные люди не всегда бывают разумными и часто творят настоящие глупости…
— Говорят, зато старикашка, наоборот, чересчур умный и ученый, — поневоле пришлось Диодоре после подобного обвинения поспешить на выручку любимой госпожи. — Я и сама много раз видела, что все наши не сводят с него глаз, словно несмышленые слепые котята, которые тычутся к нему, как будто из старика капает молоко, а не пустые слова.
— Ха, подумаешь, ученый! Селедка тоже бывает блестящей, но это вовсе ничего не значит! Слышала я, как однажды наш обжора играл на флейте, — возразила кухарка. — Он такой дударь, что уж лучше дул бы собаке в задницу и не портил своими губами дудку. От его игры с мяты цветы осыпаются, не говоря уж о людях!
— Это еще что, Вифиния! — сказала Диодора. — Я когда слушаю, как этот страхолюд с умным видом толкует о любви и красоте, у меня самой вдруг начинается щекотка в заднице!
— А с чего щекотка-то? — с серьезным видом спросила Вифиния. — Уж не от моей ли случаем еды?
— Нет, назло хилосоху очень пукнуть хочется, — ответила старушка. — Поспорить!
И служанки снова дружно рассмеялись, выходя из дома на двор, где располагались подсобные помещения для хранения продуктов и винный погреб, в который они, надо признаться, почему-то заглядывали гораздо чаще, чем следует.
А Сапфо подумала: надо же, вместо того чтобы остановить болтушек, она почему-то слушала их грубости с не меньшим интересом и удовольствием, как если бы те сейчас произносили изысканные, красивейшие речи.
В болтовне служанок тоже была скрыта какая-то особая музыка, но совсем другая, нежели та, что была привычна для Сапфо — словно кто-то стучал половником или скреб ложкой по дну медного котла, а рядом аппетитно шипела сильно поджариваемая рыба, громко булькал суп — и все это тоже были нестройные, радостные звуки своеобычных музыкальных инструментов.
«Наверное, придет время, когда кто-нибудь будет сочинять и такие песни», — подумала Сапфо.
А после того, как ей перестали быть слышны удаляющиеся голоса служанок, Сапфо принялась подробно рассматривать вазы, расставленные в комнате Глотис.
На полках, на полу и везде, куда только падал взгляд Сапфо, в этой комнате, одновременно служившей и мастерской Глотис, красовались вазы самых разнообразных форм и размеров.
На некоторых сосудах еще только-только углем был намечен будущий рисунок, другие поблескивали на солнце черным, свежим лаком, и их даже страшно было пока брать в руки, чтобы случайно не испортить только что выполненную работу.
По сравнению с еще нерасписанными, глиняными сосудами, составлявшими в углу безликую, угрюмую группу, те вазы, которых даже еще только-только коснулась рука Глотис, казались живыми и чуть ли не говорящими.
Несмотря на то что повсеместно в моде среди прославленных вазописцев сейчас царил строгий, геометрический стиль, когда поверхность сосуда казалась расчерченной строго по линейке ровными линиями, Глотис расписывала сосуды так, как ей нравилось, называя себя «деревенской самоучкой», и, похоже, вовсе не обращала ни малейшего внимания на то, что делали другие мастера.
Поэтому в самом простеньком орнаменте все равно чувствовался неповторимый, несколько насмешливый и веселый характер Глотис, не говоря уже о тех вещах, где она сочиняла сложные, забавные узоры то из сцепившихся между собой щупальцами осьминогов, то из морских звезд или крошечных черепах.
На каждой вазе внизу стояло небольшое клеймо со словами «Глотис с Лесбоса», а так как за те три года, что Глотис провела в кругу подруг Сапфо, в доме стало принято пользоваться только расписанной ее руками посудой, то вскоре все тарелки, кратеры, вазы женщины начали в разговорах между собой в шутку называть не иначе как «глотисами».
«Подайте-ка мне вон тот «глотис» с фруктами», — привычно говорил кто-нибудь за столом.
Или: «А не глотнуть ли мне вина из этого вместительного «глотиса», здесь все равно не убудет».
Так что некоторые стеснительные гости, которые имели обыкновение ничего не переспрашивать, чтобы не показаться невеждами, покидали школу Сапфо в полной уверенности, что в приличном, высокообразованном обществе все, из чего принято брать еду или питье, чтобы их проглатывать, следует называть «глотисами».
И потом, стараясь блеснуть перед своими друзьями и сотрапезниками, небрежно называли чаши именно так, нередко начиная именно с этого интересный для всех застольный рассказ о посещении Лесбоса и особенно — школы легендарной Сапфо.
Сапфо вспомнила, что как-то Глотис рассказывала, будто расписанные ею вазы к тому же напоминают фигуры разных, хорошо знакомых ей женщин, и когда она работает, то нередко представляет, будто одевает в неповторимый наряд из узоров то Сандру, то Филистину или даже кого-нибудь из служанок.
Сапфо оглядела полки и нашла приземистую вазу с двумя ручками — канфар, которая действительно сильно напоминала Диодору, стоящую в своей излюбленной позе, поставив руки в боки, тем более что рядом с ней сейчас стоял еще более широкий, расписанный пшеничными колосьями килик, в котором безошибочно можно было узнать толстую, расплывшуюся фигуру кухарки Вифинии.
Сапфо попыталась представить, какая из ваз была больше остальных похожа на нее, но тут дверь отворилась и в комнату вошла Глотис, неся на плече кувшин с водой.
— О! Сапфо! — искренно обрадовалась Глотис. — Какая радость! А я думала, ты меня уже совсем позабыла! Ты ведь так давно ко мне не приходила, наверное, уже несколько дней, с тех пор, как в доме появилась толпа гостей. И хочу тебе высказать свое мнение, Сапфо, напрямик, — что столько мужчин в доме сразу — это слишком! Я не припомню, чтобы у нас раньше в школе было столько шума и ненужной суеты, какую, как правило, почему-то приносят с собой мужчины.
— Ничего, Глотис: гости приходят и уходят, и нет смысла слишком сильно мешать их движению, но также нарочно от него прятаться. Но ведь мы, Глотис, все равно остаемся, разве не так? Вот зашла посмотреть на твои новые работы, — улыбнулась Сапфо. — Ты же знаешь, у меня всегда повышается от них настроение.
Сапфо говорила сейчас чистую правду — ничто не действовало на нее более бодряще, чем общение с людьми, которые тоже занимались разными видами творчества, будь то новые утренние мотивы, сочиненные Филистиной, трактаты Дидамии, рисунки на вазах, сделанные Глотис, или даже просто цветочные венки, которые с неподражаемым искусством умела плести одна из совсем маленьких учениц школы.
После встреч с одаренными людьми у Сапфо действительно, как правило, заметно повышалось настроение и тоже, в свою очередь, возникало желание тут же создать что-нибудь совершенно необыкновенное.
И, как выяснилось, не только у нее одной.
Наверное, и сама идея школы Сапфо первоначально возникла из желания творчески одаренных женщин как можно больше времени проводить вместе и незримо поддерживать друг друга, при этом не мешая двигаться только своим, предначертанным великими богами путем.
Вот и сегодня Сапфо зашла к Глотис в поисках незримого «лекарства», которое могло бы ей помочь преодолеть внутреннее смятение и, самое главное, переломить неожиданно наступившее молчание.
Ведь случилось самое ужасное, что только Сапфо могла предположить, — она где-то потеряла все свои новые песни!
Как Фамирид, наказанный Музами!
Но только у нее это произошло буднично, совсем незаметно и — поэтому особенно страшно.
— Хорошо, что ты зашла сама, — сказала Глотис, ловко снимая с плеча кувшин. — Ведь я как раз начала твой новый портрет на вазе, Сапфо, и хотела попросить, чтобы ты немного передо мной посидела. Но вот только жаль, что сегодня ты не сделала той замечательной прически, которая была у тебя в тот день, когда я только что начала рисунок.
И Глотис сделала пальцами кругообразные движения, показывая жестом спускающиеся до земли локоны, которые несколько дней назад украшали Сапфо.
Сапфо немного удивилась — надо же, Глотис начала работать над ее очередным портретом!
Признаться, Сапфо пришла сегодня к Глотис еще и затем, чтобы посмотреть, как продвигается портрет Фаона, и, может быть, даже попутно что-либо узнать об отношениях этих двух молодых людей.
Ведь Сапфо с самого начала заметила, что Фаон подолгу не сводит с юной художницы взгляда.
И сегодня утром Сапфо пришло в голову, что, если она совершенно определенно убедится в том, что юноша влюблен в Глотис, ей дальше будет гораздо проще справиться со своими непонятными чувствами и потушить внезапно вспыхнувший огонь.
Даже и говорить нечего — неизмеримо проще!
И когда Сапфо шла сюда, она уже заранее настроилась на легкую, или пусть даже сильную боль, которая тем не менее принесет долгожданное исцеление.
Но бегло осмотрев в отсутствие Глотис уже завершенные вазы и те, где пока виднелись лишь наброски, Сапфо не заметила ни на одной из них ничего похожего на прекрасный облик Фаона.
— Вот, Сапфо, посмотри, — взяла в руки Глотис вазу, и Сапфо увидела на фоне черного лака тщательно процарапанную женскую фигурку.
По наброску было видно, что женщина, нарисованная на вазе, держала в руках лиру, и ее пока что еще не прорисованное лицо обрамляли ниспадающие вниз длинные локоны.
Но особенно Сапфо удивило, что Глотис на этот раз попыталась изобразить ее не в профиль и не в фас, что диктовалось общепринятыми художественными канонами, а как-то необычно, вполоборота.
И хотя Глотис еще не слишком удалось передать поворот фигуры, которая пока выглядела на вазе несколько излишне грузной и неуклюжей, но Сапфо понравилась сама попытка добиться на поверхности сосуда на редкость естественной и непринужденной позы.
— Глотис, это же просто удивительно! — воскликнула Сапфо. — Как ты додумалась нарисовать меня вполоборота, словно я прямо сейчас от всех отворачиваюсь. Ведь это очень сложно!
— Да, я уже и сама поняла, что сложно, — вздохнула Глотис. — Но хочу изобразить рядом еще и Алкея. Ведь ты же, Сапфо, пока не окончательно от него отвернулась, но все же и не поворачиваешься к нему как следует лицом, разве не так? Поэтому такой рисунок будет точно и правдиво рассказывать о ваших отношениях.
— Какая же ты умница! — еще раз похвалила Сапфо девушку. — Твоя способность к рисованию, а также наблюдательность и ум идут рука об руку. Да, расскажи, что интересного вчера было на симпосии? Ведь я сразу же после обеда уходила гулять.
— Вчера? — на минутку задумалась Глотис. — Да так, ничего особенного. Чужестранец Леонид рассказывал всякие небылицы о своих приключениях. Да, вот еще что — снова зашел спор про Фаона. Мне уже надоело об этом слушать!
— Про Фаона? — высоко подняла брови Сапфо. — О чем же именно?
— Да все об одном и том же — ехать ему в Афины или не ехать в Афины. Как будто бы нет ничего важнее, чем говорить про Фаона и про Афины. Скажи, Сапфо, ну что изменится в нашей жизни, если Фаон уплывет в свои дурацкие Афины или навсегда останется в наших краях пасти коз? Скажи, почему вот уже несколько дней и Филистина, и Дидамия, и Алкей, и такое ощущение, что все вокруг говорят только об одном и том же. Правда, впору хоть залепляй пчелиным воском уши!
Сапфо с любопытством посмотрела на недовольное лицо Глотис, но все же никак не могла определить, говорит сейчас девушка правду или просто искусно притворяется и скрывает свои истинные чувства к Фаону.
Да и разве можно к Фаону относиться иначе, нежели с любовью?
У Сапфо это просто не укладывалось в голове!
— Конечно, это важный вопрос, — подумав, сказала Сапфо. — Скажи, разве ты знаешь, Глотис, хоть что-нибудь важнее человека и что-то интереснее непостижимой человеческой судьбы? Я видела множество самых разных чудес, и все же нет ничего более удивительного, чем люди. Казалось бы, самые обыкновенные люди.
— Ну, а искусство?.. — пробормотала Глотис, кивая на вазу, которую Сапфо до сих пор держала в руках. — Да, Сапфо, я думала, что хотя бы тебе не нужно объяснять, насколько бессмертное искусство выше и важнее, чем жизнь простых смертных.
— Но что это такое — искусство, Глотис? — задумчиво сказала Сапфо, продолжая рассматривать рисунок на вазе. — Ты сейчас просто произносишь вслух приятное для тебя слово. А теперь посмотри, что здесь у тебя на вазах? Человеческие фигуры, лица. Вот и здесь, на вазе, возможно, скоро появимся мы — я, Алкей, быть может, тот же Фаон…
— Нет, Фаона я не хочу рисовать, — сказала Глотис. — Я попробовала — нет, точно не смогу.
— Почему?
— У него какое-то… не такое лицо. Некрасивое.
— У Фаона? — совершенно изумилась Сапфо. — Что ты говоришь, Глотис? Да ведь красоте этого юноши может позавидовать каждый: и фигуре, и кудрям, и черным глазам, и румянцу на щеках…
— Нет, все равно, — упрямо махнула Глотис своими очень коротко стрижеными волосами. — Может, лицо Фаона, как ты говоришь, Сапфо, и красивое, я тебе верю, но все равно какое-то… никакое. Я не умею рисовать такую красоту. То ли дело — твое лицо, или даже лицо Алкея — тут может что-то получиться…
— Но ведь ты, кажется, сначала загорелась идеей изобразить Фаона, — осторожно напомнила Сапфо.
— Да, но ты посмотри, что из этого получилось! — со смехом воскликнула Глотис, поднимая с полки вместительную амфору.
На ее поверхности не было изображено ни одной человеческой фигурки, а лишь небольшие весы и три бабочки.
Две маленькие бабочки с белыми, безжизненными крылышками симметрично сидели друг против друга на чашечках весов, создавая равновесие, а крупная, с красивым, затейливым узором на крыльях, порхала над ними, и в ее раскраске Сапфо почудилось что-то тревожное, непонятное.
Но самое главное было не это. Обычно на всех вазах, которые до сих пор попадались Сапфо в руки, вазописцы изображали на красноватом фоне черные фигурки, с тщательно процарапанными на них чертами лица.
Но здесь было все наоборот — Глотис сделала черный фон, а лица и детали одежды оставляла розовыми, и на них накладывала новые тона.
Вот и теперь, стремясь показать живописность летящей бабочки по сравнению с теми, что сидели на весах, Глотис сделала ее почти красного цвета, с большими, черными глазками на крыльях.
— Как, ты не узнаешь здесь нашего Фаона? — весело спросила Глотис.
— Нет… Что это?
— Никто не понимает, — сказала Глотис, вздыхая и указывая на рисунок. — Вот видишь, здесь весы, на которых Зевс взвешивает две израненные души, хотя самого громовержца я пока изобразить не решилась. Зато за взвешиванием сверху следит посланник бога — Махаон…
— Махаон?
— Ну да, тот самый, сын бога врачевания Асклепия — Зевс убил его еще молнией за то, что Асклепий пытался оживлять умерших. И ты, конечно же, помнишь, Сапфо, что его сын, Махаон, лечил участников Троянской битвы, а после своей смерти превратился в бабочку, которая стала называться его именем. Так вот, сначала я, Сапфо, хотела нарисовать Махаона с лицом нашего Фаона, но потом у меня ничего не получилось, и я подумала — нет, пусть лучше будет тоже просто бабочка. Но зато глазки на ее крыльях все равно получились похожими на глаза Фаона — она словно смотрит на нас своими крыльями. Скажи правду: тебе нравится, Сапфо?
— Да, очень, — призналась Сапфо, разглядывая законченный рисунок на вазе.
Мало того, что сама задумка Глотис была интересной и, как всегда, необычной, но к тому же свежий лак так красиво блестел и переливался на солнце!
— Но все же было бы хорошо, если бы ты сумела изобразить Фаона, нам всем на память — ведь он скоро уезжает, — добавила Сапфо. — И к тому же, признаюсь, мне показалось, что вы не вполне равнодушны друг к другу, а это значит, что у тебя может получиться что-то настоящее, созвучное любовному волнению.
— Не равнодушны? — звонко засмеялась Глотис. — Мы? О чем ты говоришь, Сапфо? Скажу тебе откровенно, меня вообще не интересуют мужчины, а особенно — мальчишки, у которых еще молоко на губах не обсохло! Нет, Сапфо, мне ни с кем не бывает лучше, чем с моей Гонгилой, и я уже даже не пытаюсь вспомнить, что такое мужские ласки!
Глядя на смеющуюся Глотис, Сапфо подумала, что много бы отдала за то, чтобы быть сейчас на месте девушки и так же от души хохотать над теми, кто гоняется за смазливыми юношами.
Мало того, но ведь всего несколько дней тому назад Сапфо как раз и была на ее, а точнее — на своем месте, полностью разделяя мысли и чувства Глотис.
Но — теперь?
«Великие боги, что за странную игру вы со мной затеяли? — пронеслось в голове у Сапфо. — А главное — зачем?»
И еще Сапфо вдруг попыталась представить, что бы подумала сейчас о ней Глотис, если бы узнала о ее внезапном чувстве к сыну маленькой Тимады?
Наверное, решила бы, что Сапфо охвачена настоящим безумием.
А что бы стала при этом делать?
Звонко бы захохотала? Загрустила? Принялась бы громко осуждать со всей пылкостью юности?
И только от подобных предположений щеки Сапфо покрылись румянцем стыда.
К счастью, девушка сейчас не смотрела в сторону Сапфо, а уже расставляла на столе баночки с лаком.
— Посиди немного здесь, на этой скамейке, Сапфо, — попросила Глотис, беря в руку тончайшую кисточку. — Вот так, вполоборота, — я попытаюсь сделать на вазе лицо, хорошо? А чтобы было не слишком скучно, я тебе расскажу сейчас про одного своего мальчишку… Нет, тебе лучше присесть поближе к окну, чтобы было лучше видно твои глаза.
Сапфо присела на скамейку, на которую указала ей Глотис, а сама художница устроилась напротив, за столом.
Но перед началом работы Глотис свои и без того короткие волосы туго обвязала по лбу широкой лентой, а потом сняла с руки тонкий серебряный браслет, небрежно бросив его среди кистей.
Сапфо знала, что Глотис запросто могла выйти к столу в хитоне, перепачканном черным лаком, словно девушку только что изгадила большая, пролетевшая над ней тучей птичья стая.
Или с грязными ногами, не вполне отмытыми от свежей глины, которую Глотис только что самозабвенно месила где-нибудь на заднем дворе.
Но на Глотис давно уже ворчала одна только служанка Диодора, называя девушку «грязнулей» и «глиномазанкой», но зато подруги привыкли не обращать на странные выходки Глотис ни малейшего внимания.
Да что там, Сапфо помнит, что не слишком удивилась даже тогда, когда Глотис однажды вышла к обеду постриженной совершенно налысо, уверяя, что мысль постричься таким образом внушил ей кто-то из богов, чтобы открыть еще и глаза, спрятанные на затылке.
Но теперь, когда курчавые волосы Глотис отросли на величину ладони и изящной шапочкой лежали на голове, оттеняя на редкость огромные и вечно удивленные карие глаза, на девушку поневоле многие обращали внимание.
Глотис сдержала свое обещание — чтобы Сапфо не скучала, действительно принялась с тихим смехом рассказывать про то, как в детстве, едва только заслышав свадебный кортеж поющих барабанов и флейт, она в толпе девочек всегда выбегала на улицу, чтобы поглазеть на невесту, но в особенности — на жениха, и попытаться представить своего будущего суженого.
— Ах, Сапфо, ты же помнишь, я жила тогда в маленьком горном селении, и на моих ногах всегда были лишь туфли из пыли, — улыбаясь, негромко продолжала Глотис, в такт чуть заметным, тонким мазкам, которые она делала, осторожно прикасаясь к поверхности вазы. — А тот мальчишка, наш сосед, обычно таскал из сада моей матери чечевицу и нередко получал от нее прутом вдоль спины… А порой, когда мать запирала меня дома, заставляя скучать над пряжей, я всегда представляла, насколько лучше было бы сейчас бегать с моим соседом Ликасом возле реки, купаться, срывать ирисы. Скажи, мудрая Сапфо, это, по-твоему — любовь?
— Не знаю, наверное, — ответила Сапфо. — Но только любовь ребенка, совсем маленькой девочки.
— Хорошо, — кивнула Глотис. — Потом прошло еще несколько лет, и Ликас, с которым мы повсюду были неразлучны, однажды подарил мне дудочку и нарочно посадил на колени, когда стал учить меня на ней играть, а потом вдруг неожиданно начал ласкать меня. Ликас поцеловал меня сначала в волосы, а потом в губы, положил в траву. И когда тела наши незаметно сплелись, я не смогла сопротивляться возникшему желанию, хотя очень боялась своей строгой матери и сестер. Скажи, мудрая Сапфо, по-твоему, а это была — любовь?
— Наверное, — снова кивнула Сапфо. — Но только особенная, неразборчивая любовь юной девушки.
— Да, Сапфо, прошло еще какое-то время, и все в нашей деревне уже знали, что Ликас — это мой законный жених, и мать с сестрами начали по-настоящему готовиться к моей свадьбе. Все было хорошо, Сапфо, ничем не хуже, чем у других. Но в один прекрасный день какая-то непонятная сила сама вдруг привела меня к гавани и посадила на корабль, который отплывал с моего острова. Я ведь была самой младшей дочерью у матери, Сапфо, и однажды почувствовала — я до сих пор отчетливо помню то утро в лесу! — что совсем скоро, если я и дальше останусь жить в нашем селении, то сделаюсь сначала как моя средняя сестра, а через некоторое время — как моя самая старшая замужняя сестра, которая гоняет по двору палкой своих детей, как белок на деревьях, а затем — и вовсе как моя мать. Но потом, Сапфо, я подумала, что скорее всего, наоборот, я умру раньше всех моих родных от тоски, и превращусь в сосну, — их было много на нашем кладбище и их нельзя было срубать даже для того, чтобы построить дом или корабль. Так вот, Сапфо, я залезла на дерево и вдруг представила, что я уже стала такой сосной, корни которой навеки неподвижно лежат в нашей скалистой земле, и тогда я просто-напросто сбежала из дома… сюда, к тебе.
— Ты уже знала обо мне? — удивилась Сапфо. — Неужели и в твоем селении пели мои песни?
— Пели, Сапфо, — качнула головой Глотис. — Правда, прохожий, который как-то забрел к нам в деревню на праздник, не называл твоего имени — я уже потом, здесь, узнала знакомые мотивы. Этот прохожий был очень смешной — он целовал пальцы своих рук и разбрасывал по воздуху поцелуи девушкам, которые ему особенно нравились, так что Ликас чуть было его сильно не избил. Нет, Сапфо, тот корабль лишь по счастливой случайности привез меня к тебе, на Лесбос, — единственное место в мире, где женщины умеют заниматься любовью с женщинами. Клянусь, я чуть было не сгорела со стыда, когда первый раз увидела в постели возле себя женщину, которая просто тихо спала. Та женщина — Криспина ничего не говорила, и даже не шевелилась, а просто тихо спала рядом — я даже не заметила, когда она прилегла на мое ложе. Но в тот момент, Сапфо, я испытала рядом со спящей Криспиной такое чувство, словно наконец-то приехала к себе домой, куда добиралась долго-долго, через несколько морей, с высокой горы, где остался мой настоящий дом, мать, сестры, Ликас. Скажи, Сапфо, это ты тоже считаешь любовью?
— Да, Глотис, — помолчав, сказала Сапфо, и голос ее слегка дрогнул. — Любовью женщины. Не каждая может понять тебя и меня — от некоторых такое чувство к женщине словно навсегда заперто за невидимой дверью, и нет никакого смысла подбирать к засовам ключи. И не известно, кто счастливее — они или мы? Кто из нас заперт, а кто на свободе?
— Мы, конечно, мы, Сапфо, на свободе! — воскликнула Глотис. — Разве ты сомневаешься?
— Не знаю, теперь я ничего не знаю… — покачала головой Сапфо, и с улыбкой прочитала строки из своего старого стиха, которые каким-то образом подходили без исключения ко всем женщинам, и сейчас казались словно только что написанными по воспоминаниям Глотис:
Мать милая! Станок Стал мне постыл, И ткать нет силы. Мне сердце страсть крушит, Чары томят Киприды нежной…[25]И ведь никто не знает, Глотис, что дальше может затеять с нами нежная, игривая Киприда! Она никогда нас об этом не спрашивает и потому…
Она хотела еще что-то добавить, но побоялась невольным признанием выдать себя перед подругой.
Ведь пытливая Глотис наверняка может спросить: «Почему же ты, мудрая и старшая подруга, ничего не знаешь и теперь, когда мне все ясно, сомневаешься в себе?»
И действительно, как возможны после хотя бы однажды пережитой любви к подруге, которая, и правда, сродни долгожданному возвращению домой, к самой себе, какие-то иные дороги, блуждания и заблуждения?
Как Сапфо сможет объяснить Глотис чувство, обрушившееся на нее внезапно и коварно?
Но, с другой стороны, а разве можно объяснить любовь к морю, к ветру, к дереву, к любому явлению природы?
Разве что чудом.
Чудом, которое никак не поддается разуму и осмыслению, однако живет в нас и заставляет «ни за что», совершенно бескорыстно любить цветы, листья, морские камни, не ожидая ничего в ответ и зная, что им до нас нет и никогда не будет никакого дела.
И Сапфо подумала, что здесь, наверное, и таится самая главная разгадка того, чего все же добивается от нее всемогущая Афродита.
Афродита решила научить свою избранницу любить человека так же восхищенно и просто, как прекрасное явление природы, и уметь любоваться его краткосрочной красотой так же радостно, как розовым облаком на заре, которое на глазах тает или улетает за море.
Кажется, это в полной мере умела только Анактория, даже на своего глупого старичка Трилла смотревшая с добрым умилением, как на рано состарившегося ребенка.
А-нак-то-рия.
Получается, что нужно прожить жизнь длинную, как ее имя, чтобы по-настоящему понять старшую подругу.
— Сапфо, ты слишком сильно опустила голову, — напомнила Глотис. — Ты уже устала? Ну, пожалуйста, еще хотя бы совсем немного, у меня только что-то начало получаться. Может быть, ты прочитаешь еще что-нибудь из своих стихотворений, чтобы Музы дали моим рукам немного вдохновения?
Радужно-престольная Афродита, Зевса дочь бессмертная, кознодейка! Сердце не круши мне тоской-кручиной! Сжалься, богиня![26] —начала читать Сапфо один из своих любимых гимнов Афродите, с которой все равно сейчас мысленно разговаривала и разгадывала загадки богини, но тут в дверь ворвался на редкость взволнованный Алкей.
— Сапфо, наконец-то я тебя здесь нашел! — вскричал Алкей. — Фаон сбежал!
— Как — сбежал? — тут же вскочила с места Сапфо.
— Я знаю — он просто-напросто украл мальчишку, похитил! Нет, ну каков негодяй! А еще выдавал себя за человека из знатной семьи! Проклятый мальчиколюбец, не имеющий ни стыда, ни совести! Лев! Рыжий подонок! Ржавчина!
— Погоди, Алкей, — перебила его Сапфо. — Скажи спокойно, что случилось? Присядь.
— Да, присядь вот тут, Алкей, у окна, — в свою очередь обрадовалась Глотис. — Здесь мне тебя будет лучше видно. Какой счастливый сегодня день! Кажется, Музы действительно сегодня мне взялись как следует помочь!
— Да что ты мелешь? Какой счастливый? — воскликнул Алкей, недовольно усаживаясь на скамью. — Хорошенькое счастье! Фаон удрал с моряком, с грубым мужланом! Нет, я сразу понял, что Леонид — на самом деле пират, который топит корабли и ворует у всех чужое сокровище. Думаешь, откуда он взял целый мешок янтаря? А я… я снова остался ни с чем…
Но тут Алкей быстро посмотрел на Сапфо и слегка прикусил не в меру разболтавшийся язык.
— …В том смысле, что я только напрасно готовился к «фаониям», которые должны проходить как раз сегодня ночью.
— Но почему ты так уверен, что Фаон сбежал? Я тебя не понимаю, Алкей, — как можно спокойнее спросила Сапфо, стараясь не выдавать своего волнения дрожью в голосе. — Наверное, Фаон просто пошел погулять.
А про себя подумала: «Как? И это — все? Вот так быстро?»
Неужто в ее жизни появилось еще одно «никогда», куда люди безвозвратно исчезают, падают, как в пропасть, оставляя после себя лишь вскрик, голос, глаз, нарисованный на крыле бабочки?
Как смех маленькой Тимады, который отделился от девушки и отдельно от нее поселился в здешних лесах.
Сапфо почувствовала, что от неожиданности у нее подкосились ноги, и присела на прежнее место, где она только что позировала Глотис, не испытывая никаких предчувствий.
— Ты говоришь глупости, Фаон сейчас вернется, и мы проведем «фаонии». Может быть, ты с утра выпил слишком много неразбавленного вина? — недовольно проговорила Сапфо, отвернувшись от Алкея, но тем не менее обращаясь в слух и сплошное ожидание каких-либо возражений.
— Вот-вот, ты сейчас очень правильно села, Сапфо, — возбужденно пробормотала Глотис. — Как у меня на вазе. Вот только бы мне суметь!
— Я знаю, что говорю, Сапфо, — сказал Алкей. — Ведь мы договорились с Фаоном в это время встретиться, чтобы обсудить последние детали «фаоний». Он не мог не прийти просто так, без причины, но тем не менее его нет ни дома, ни даже у Филистины. Я уже заходил к Филистине — в ее комнате тоже никого нет, кроме дурацких кукол. А Леонид, этот пират, который там вечно просиживал, одаривая Филистину то янтарями, то жемчужинами, тоже исчез…
Сапфо горько улыбнулась — она хорошо знала любовь Филистины к куклам, которыми, действительно, была заселена чуть ли не вся ее комната.
Поначалу Филистина делала тряпичных кукол, набитых соломой или пенькой, якобы для своих учениц, но потом выяснилось, что она и сама порой укладывает какую-нибудь из них с собой в постель или принимается с увлечением шить для куколки какое-то нарядное платье.
Что поделаешь — Филистина, наверное, была рождена для счастливого материнства, но почему-то так и не родила собственного ребенка, скорее всего, убоявшись судьбы маленькой Тимады, и теперь ей приходилось играть в куклы.
— Но потом мне все объяснила твоя вездесущая Диодора, — продолжал Алкей. — Служанка своими собственными глазами видела, как Леонид и Фаон, крадучись, вышли из дома и пошли по дороге, ведущей к гавани, причем Леонид был со своими вещами и в дорожной шляпе, а Фаон держал в руках мешок с одеждой. Диодора говорит, что беглецы так торопились и оглядывались по сторонам, что она тут же бросилась в дом проверять шкафы — не утащили ли они что-нибудь с собой из хозяйского добра? И с тех пор — все, больше их никто нигде не видел…
— Но Фаон хотя бы мог с нами попрощаться… — растерянно проговорила Сапфо. — Зачем ему было убегать?
— Наверное, он подумал, что вы все снова начнете его останавливать и тянуть в разные стороны, — беззаботно проговорила Глотис, с прищуром вглядываясь в выразительный профиль Алкея, повернутый в сторону Сапфо. — И тогда — тю-тю его дедушкино богатство! Я замечала, Сапфо, — все мужчины на самом деле очень расчетливые.
— Ты еще слишком молода, чтобы говорить за всех мужчин, — недовольно посмотрел на вазописицу Алкей, который всегда считал ее слишком вздорной и не в меру избалованной подругами. — Впрочем, и за женщин — тоже, потому что ты мало на них похожа, когда зачем-то выбриваешь себе голову, изображая из себя каторжного раба.
— Но я только хотела сказать, что тоже ни с кем не стала прощаться, когда решила сбежать из дома, иначе я бы не смогла оторваться от близких, которые стали мне в тягость… — засмеялась Глотис, нисколько не обидевшись на Алкея. Она действительно привыкла не обращать на мужчин никакого внимания, и ранить ее могли только близкие и любимые.
— Замолчи! — вдруг громко крикнула Сапфо таким страшным голосом, что Глотис от неожиданности выронила из рук кисточку и уставилась на нее огромными глазами.
— Что с тобой, Сапфо? Ты… ты на меня так кричишь?
— На тебя! Замолчи! — снова выкрикнула Сапфо и, не говоря больше ни слова, выбежала за дверь, чтобы никто не мог услышать подступивших к самому горлу предательских рыданий. — Прости меня, но… все равно — замолчи! Все замолчите!
— Что с ней? — растерянно спросила Глотис, а Алкей только пожал плечами.
— Не знаю, — сказал он, задумавшись о чем-то своем и невесело вздыхая.
— А что же теперь делать с масками, которые я приготовила для твоих «фаоний»? — спросила Глотис, помолчав и кивая в угол. — Получается, что моя работа сделана напрасно?
— Ну, маски потом когда-нибудь пригодятся. Наверное, я все же сам во всем виноват, — сказал вдруг Алкей, немного поразмыслив и пощипав бородку. — Да, скорее всего, так и есть. Сапфо просто ревнует меня, что я слишком откровенно увлекся Фаоном и провожу теперь с ним все время. Наверное, я вел себя не совсем правильно…
— Может быть, и так, — пожала плечами Глотис. — Ведь ты, Алкей, совсем недавно просил руки Сапфо и сказал тогда при всех за столом, что после отказа любишь ее даже еще больше. Я ведь и сама так люблю Сапфо, что и сейчас не могу на нее обидеться как следует. Но я никак не могу понять: при чем тут наш Фаончик?
— О, конечно, я ее люблю! — сразу воодушевился Алкей. — Еще бы! Разве можно сравнивать? Сапфо по-настоящему прекрасна! Но порой она чересчур высока и недосягаема… Ты должна понять, Глотис, что я имею в виду.
— Нет, не понимаю, — усмехнулась Глотис.
— Тогда посмотри на свою вазу с весами и поймешь, — с досадой проговорил Алкей. — Порой возвышенное чувство бывает просто необходимо уравновесить чем-то… таким, простеньким, ну, ты меня понимаешь, чтобы соблюсти среднюю меру. И все же я немного перестарался и совсем на несколько дней забыл о Сапфо. Наверное, ее самолюбие теперь слишком сильно страдает…
— Не думаю, Алкей, что Сапфо может всерьез страдать из-за тебя, — довольно бесцеремонно заявила Глотис, привыкшая не очень вообще-то следить за тем, как ее речи воспринимаются окружающими. — Обычно Сапфо сильно переживает, когда школу покидает кто-нибудь из подруг — кто-то выходит замуж, иные уезжают. Да, но при чем здесь Фаон?
— Вот что, я придумал — нужно прямо к сегодняшнему вечеру сочинить новую песню, из которой Сапфо поймет, что несмотря ни на что на самом деле моя душа полнится тайной любовью к ней одной. Как ты считаешь, хорошо я придумал?
— Ты хитрец, Алкей, — улыбнулась Глотис. — Правда, я не уверена, что тебе удастся перемудрить нашу Сапфо. И все же мне тоже почему-то немного жаль, что Фаон сбежал — с ним так было иногда весело играть в мяч!
— Не то слово! — с досадой подтвердил Алкей. — Не то слово!
И Алкей тоже в сердцах покинул комнату-мастерскую Глотис, не высказав вслух главной своей обиды.
Пока Алкей никому, даже Эпифоклу, не признался в том, что несколько раз открыто уговаривал Фаона поселиться в его столичном, роскошном доме, и даже успел подарить юноше несколько не слишком дорогих, но многообещающих подарочков, типа ароматного банного мыла, кулона с цепочкой на шею, пояса с посеребренной пряжкой, намекая тем самым на весьма приятное будущее времяпровождение.
Фаон подарки с радостью принял, но не сказал Алкею ни да, ни нет.
В какой-то момент поэту даже показалось, как будто бы Фаон просто несколько глуповат, что вполне объяснимо исключительно деревенским воспитанием красавчика-мальчишки, и даже несколько порадовался про себя, что возьмет в любовники такое неиспорченное существо.
Но, оказывается, Фаон не только не был глуп, но гораздо изворотливее и умнее, чем Алкей мог предположить, раз так хитроумно сбежал от него с первым же встречным!
Алкей никому не говорил этого, но про себя был совершенно уверен, что Фаон сбежал именно от него после некоторых чересчур откровенных признаний и жестов, к которым «милый деревенщина» еще просто не привык.
«Опять поспешил, как и с Сапфо, — подумал расстроенный Алкей. — Нужно было мальчишку получше подготовить и еще сильнее к себе привязать, прежде чем лезть к нему под тунику. Ну и ладно, ничего не поделаешь, теперь нужно не разбрасываться, а думать о том, как поскорее примириться с Сапфо и вызвать у нее ответную улыбку».
Лучшего способа, чем новое стихотворение о любви, способное размягчить сердце любой, даже каменной женщины, всемогущие боги еще не придумали, и Алкей, несмотря на поганое настроение, уединился в садовой беседке, надеясь хоть что-нибудь сложить уже к вечерней трапезе.
А Сапфо вышла из дома и пошла куда глаза глядят, надеясь как можно быстрее успокоиться от быстрой ходьбы.
«Правильно говорила Анактория… — снова вспомнила Сапфо слова своей старшей, незабвенной подруги. — Что каждое расставание — это то же самое, что маленькая смерть ближнего, которого нужно как следует оплакать, чтобы успокоиться. Но… может быть, и лучше, что Фаон так мгновенно, скоропостижно для меня умер, и теперь нужно лишь сочинить последнюю песню и забыть, все забыть. Всего лишь одну песню…»
Сапфо очень быстро шла, почти что бежала по дорожке, еще не вполне просохшей после вчерашнего сильного дождя, но ничего, хотя бы приблизительно похожего на песню, в голове у нее не складывалось, а лишь, подобно жалобному скрипу деревьев на ветру, на языке крутилось одно и то же слово:
«Никогда… Никогда я больше не увижу Фаона, его ясных глаз, не услышу его смеха… Никогда, никогда больше не буду счастлива. Никогда я не сочиню больше ни одной песни, потому что потеряла свое последнее счастье. Мне боги нарочно подарили любовь, чтобы испытать меня. Но я упустила ее из своих рук, словно добытую со дна океана жемчужину, и теперь Фаон тоже навсегда затеряется в волнах океана других людей, городов, стран… Никогда! А я больше никогда не напишу ни единого слова».
Сапфо вдруг вспомнила, как сегодня Сандра, которая под утро тенью проскользнула в спальную подруги, случайно нашла возле постели восковую табличку, где было записано самое последнее стихотворение Сапфо, само собой сочинившееся во время того завтрака, когда Фаон первый и последний раз пел под кифару.
— Что это? — спросила Сандра, внимательно прочитав, а потом еще раз перечитав слова и пронзительно глядя на Сапфо.
— Стихи, разве ты не видишь? — удивилась Сапфо, жалея, что слишком долго с утра пронежилась в постели и не ушла на улицу прежде, чем Сандра-полуночница тоже откроет свои вездесущие глаза.
Увы, на этот раз «обрыв» Сандры затянулся гораздо дольше обычного, и Сапфо это начало по-настоящему беспокоить.
И уж конечно, ей меньше всего хотелось тревожить сейчас подругу своими перепутанными чувствами и строками.
— Вижу. Да, Сапфо, это стихи, прекрасные стихи. Но кому они посвящены?
— Никому… так просто… всем… тебе, — запутанно пояснила Сапфо, видя, что подруга не верит ни одному ее слову, а смотрит на редкость испытующе и горько.
— Мне? — переспросила Сандра. — Нет, Сапфо, это стихотворение посвящено вовсе не мне. Наверное, я отдала бы жизнь, если бы оно и правда было посвящено мне, но пока мне не за что ее отдать…
— А хочешь, я подпишу сверху — «Сандре», чтобы ты не сомневалась? — нашлась Сапфо и, взяв в руки бронзовый стиль, один конец которого был заострен для письма на табличке, а другой, напротив, приспособлен для разравнивания воска, быстро начертала сверху имя подруги.
— Нет, Сапфо, это вовсе ничего не меняет, лучше сотри… — медленно проговорила Сандра, и на глазах ее показались слезы, которые привели Сапфо в ужас.
Сандра плакала так редко, что поначалу Сапфо думала, что ее подруга вовсе не умеет плакать.
А тут Сандра расстроилась не из-за какого-то несчастья, обиды или сильной боли, а просто из-за стихотворения.
По сути дела, всего из-за нескольких слов, просто изложенных в определенном порядке и особым стихотворным размером!
— Но хочешь, я лучше сотру тогда вовсе это стихотворение! — в отчаянии проговорила Сапфо и действительно принялась тупым концом стиля заравнивать буквы, которые доставили подруге столько внезапной боли.
— Но это уже ничего не меняет, Сапфо, — сглотнула слезы Сандра. — Ты наверняка помнишь каждое слово, раз они уже начертаны у тебя в сердце, оставь.
Впрочем, Сандра на этот раз очень быстро справилась с собой и отвлеклась на совсем другие темы.
Глядя на разложенные на столе рекомендательные письма в виде запечатанных свитков, которые Сапфо приготовила для Фаона, чтобы он передал их афинским друзьям, Сандра как ни в чем не бывало начала говорить про Афины.
И сказала, что в Афинах в разное время жили многие знаменитые люди, в том числе и Федра, прославившаяся своей безумной любовью.
— Какая Федра? — рассеянно переспросила Сапфо, разглядывая свитки.
Прежде Сапфо обдумывала, все ли она написала своим далеким адресатам и не стоит ли добавить еще несколько щедрых, добрых слов, чтобы Фаона на чужбине обласкали как следует.
А теперь чуть ли не каждое утро, а также по ночам боролась с искушением засунуть пергаменты в печь.
— Та самая Федра, супруга великого Тесея, — спокойно пояснила Сандра. — Федра, которая влюбилась в своего юного пасынка Ипполита и совсем потеряла разум. Ты разве не помнишь этой истории, Сапфо? Они ведь тоже жили в Афинах.
— Нет, не помню, — несколько смутилась Сапфо.
— Ну как же! Сначала Федра пыталась победить целомудрие юноши мольбами и лестью, а потом сменила любовь на ненависть и погубила своего пасынка, оклеветав перед мужем. Ипполит погиб по дороге, когда попытался сбежать из богомерзкого дома, но молитва разгневанного Тесея, которому во всем помогали боги, оказалась все-таки сильнее…
— Да? — стараясь показаться равнодушной, переспросила Сапфо, приглаживая ногтем на одном из пергаментов печать, которая и без того держалась крепко, и делая вид, что донельзя увлечена этой работой. — Что-то я не припомню…
— О, значит, ты не помнишь, чем закончилась любовная история для самой Федры? — безжалостно спросила Сандра. — Узнав о смерти своего Ипполита, Федра открыла супругу правду и пронзила себя мечом. Я вспомнила про эту историю, потому что она случилась как раз в Афинах, правда, уже много лет тому назад…
— Да, много чего было дивного на свете, — скороговоркой пробормотала Сапфо, поспешно обувая сандалии и собираясь как можно поскорее покинуть хотя бы на время прозорливую Сандру.
— Не меньше дивного случается и сейчас, Сапфо, — грустно сказала вослед подруге Сандра, и Сапфо почувствовала, что каким-то образом Сандра обо всем догадалась, узнала о ней и Фаоне то, в чем Сапфо сама себе все еще не хотела признаваться…
А рассказанная Сандрой история про Федру и Ипполита — это, конечно же, не что иное, как предупреждение!
Кстати, Ипполит, узнав о сумасшедшей страсти мачехи, тоже попытался сбежать, как теперь это сделал Фаон!
Да, но ведь, в отличие от Федры, Сапфо ни слова не говорила Фаону о своих чувствах и даже не показывала виду, что в ее душе происходит что-то особенное!
Сапфо избегала даже смотреть на Фаона, не говоря уже о том, чтобы домогаться ответной любви юноши, но он все равно решился на побег!
Значит, ему обо всем сказала Сандра.
Кто же еще? Получается, что именно эта новость послужила причиной столь внезапного бегства Фаона.
Правда, Ипполит сбежал от ласк мачехи, которая была законной супругой его отца, видя в подобной связи посягательство на устои семьи…
А Фаон? Получается, что Фаон сбежал просто потому, что не хочет любви Сапфо?
Не хочет! Отказывается!
Сапфо в смятении резко остановилась на середине дороги, словно ей на голову вылили целый таз ледяной воды, а по спине ее действительно пробежал тот самый «холодный пот», как в стихотворении, посвященном Фаону.
Пожалуй, этот озноб был еще более неприятным, чем вчерашний, когда Сапфо бродила в здешних местах под дождем.
Неизвестно, сколько бы Сапфо и дальше стояла посередине дороги в виде столба, но неожиданно она услышала, что где-то внизу, в овраге, какие-то люди тихо разговаривают между собой.
Это был тот самый овражек, где гончары обычно брали глину для своих изделий, потому что здесь она была на редкость хорошей и жирной, так что за ней приезжали даже мастера из дальних концов Лесбоса.
Может быть, сюда снова пожаловал кто-нибудь из чужаков, радуясь, что после дождя глина сделалась мягкой и ее особенно легко добывать и накладывать в бочки?
Сапфо осторожно подошла к краю оврага и заглянула туда, откуда доносились голоса, и с удивлением разглядела внизу, среди кустов, знакомые фигуры Дидамии и Филистины, которые о чем-то оживленно между собой разговаривали.
Сапфо услышала, как Филистина по своему обыкновению во время работы напевает песню.
Твой приезд — мне отрада. К тебе в тоске Я стремлюсь. Ты жадное сердце вновь — Благо, благо тебе! — мне любовью жжешь[27]… —узнала Сапфо слова своей песни и хорошо знакомый мотив.
— Еще бы, конечно жжет! — поддразнила Филистину Дидамия. — Смотри не сгори насмерть! Ведь он такой огненно-рыжий! Просто жуть!
— Ну, что ты, я же просто… Что ты такое говоришь, Дидамия? — звонко рассмеялась Филистина, и ее смех эхом прокатился по оврагу.
Сапфо собралась уже отойти прочь, но тут почувствовала, что ее ноги разъезжаются в разные стороны, заскользила по глиняному склону, и хотя она старалась зацепиться руками то за один, то за другой кустик, но это все равно не помогало удержать равновесие, и Сапфо с визгом, по гладкой горке, скатилась вниз и упала прямо на подруг, сбив их с ног и повалив в глину.
— Сапфо, это ты? Откуда ты взялась? С неба? — поразилась Дидамия и тут же с серьезным видом принялась рассматривать облака над головой, пытаясь найти объяснение столь странному явлению природы.
— Ах, ты не ушиблась? — перепугалась не на шутку Филистина.
— Нет, я случайно… шла мимо, по склону, а тут, оказывается, так скользко, — задыхаясь, выговорила Сапфо, испуганно моргая и еще не вполне понимая, что произошло.
Но, поглядев на себя, и на Филистину, у которой теперь даже уши были перепачканы в глине, и на Дидамию, мощное тело которой ей тоже удалось с налета опрокинуть навзничь, так что белый хитон образцовой учительницы теперь был красновато-коричневого, глиняного цвета, не выдержала и рассмеялась.
Теперь уже все три подруги, рассматривая друг друга, не могли удержаться от смеха, пришедшего на смену испугу и удивлению.
— А я думала… это волк или дикий кабан… — сквозь смех проговорила Филистина. — Диодора уверяет, что в этих краях водятся и волки, и олени, и чуть ли не драконы, хотя я редко встречаю в лесу даже зайцев и белок… А это, оказывается, наша Сапфо! Вот славная добыча!
— Вы здесь что, расставляете капканы на диких зверей? — в свою очередь развеселилась Сапфо. — Но где же тогда сети или хотя бы веревки? Великие боги, как же мы теперь, в таком виде, пойдем домой?
— Чепуха, — сказала Дидамия. — Мы пойдем тропинкой, где нас никто не заметит, и как раз выйдем к заднему двору, к бане. Кстати, раз мы все равно уже сильно перепачкались, то теперь лучше совсем раздеться донага. Ну же, здесь все равно больше никого нет, даже волков.
— Зачем? У тебя есть чистая одежда? — округлила глаза Филистина. — Или ты наколдуешь, что она сразу же появится? Тебя что, Сандра научила разным таким штучкам?
— Дурочка! — снисходительно улыбнулась Дидамия, глядя сверху вниз на Филистину. — Сандра как-то показала мне приемы специального глиняного массажа, или, как она сказала, глиняного купания. Разве вы не знаете, что красная глина обладает очень целебными свойствами и как следует поваляться в ней бывает на редкость полезно для здоровья? Вот увидите — после того, как мы с ног до головы обмажемся глиной и помнем друг другу косточки, вы почувствуете себя так, словно заново родились на свет. Ну же, все равно мы все уже наполовину выпачкались, и здесь, кроме нас, больше никого нет! К тому же сегодня светит такое щедрое солнце, что мы не замерзнем, а глина после дождя еще не успела высохнуть!
И с этими словами Дидамия первой скинула с себя тунику, обнажив маленькие, очень крепкие груди, но зато широкие, и даже несколько больше, чем следовало бы, полноватые бедра.
Сапфо подумала: «Родиться заново? Так это как раз то, что мне сейчас нужно!», и тоже быстро скинула с себя всю одежду и откинулась спиной на влажную, теплую глину, глядя на голубое и совсем почему-то сегодня летнее небо над головой.
На секунду Сапфо даже показалось, что она теперь лежит на спине скользкого, извивающегося под ней дракона, который сейчас унесет ее отсюда совсем далеко, в неведомые края, где она снова будет счастлива и где действительно все будет по-другому и начнется с самого начала.
Глядя на свою фигуру, покрытую непонятным узором из красноватой глины, словно на нее натянули какую-то шкуру, Сапфо рассеянно подумала, что навряд ли змей захочет ее убить, а скорее всего возьмет себе в жены.
Но может быть, сейчас с ней таким образом решил поиграть сам всемогущий Зевс?
Ведь превратился же громовержец в белого лебедя, когда ему понадобилось овладеть прекрасной Ледой, или в быка, когда он надумал похитить Европу, или даже в золотой дождь, пролившийся на голову Данаи!
И, почувствовав на себе сильные руки Дидамии, которые взялись, похлопывая, натирать ее тело глиной, Сапфо зажмурила глаза, представляя, что это сейчас ладони самого великого Зевса, и замерла в сладкой истоме.
Она даже не могла представить, что всего несколько минут назад была несчастной и окаменевшей от обиды, пока не свалилась в глиняный карьер.
Не иначе, что ее столкнул сюда кто-то из богов!
— Но… что вы здесь делали? — изумленно спросила Сапфо, приподнимаясь на локтях, когда Дидамия принялась делать свой специальный «глиняный массаж» уже Филистине, белоснежное и точеное тело которой ей даже жалко было пачкать, словно речь шла о превосходной статуе, но все же не обращая внимания на то, что Филистина тут же начала охать и ахать.
У Филистины была тонкая талия, но очень большие пышные груди.
Сапфо подумала, что, наверное, такие же вздыбленные груди были и у супруги Зевса — Геры, когда богиня, кормя молоком могучего младенца Геракла, случайно брызнула мимо его рта, так что на небе после этого появился «млечный путь», хорошо заметный по ночам.
Увы, Филистина из своих великолепных грудей не вскормила пока ни одного младенца.
— Ах, Сапфо, мы пришли сюда за глиной, — сладко потянувшись, ответила Филистина. — Ты же знаешь — я леплю из этой глины головки для некоторых кукол, а Дидамия пришла по просьбе Сандры. Сандре вдруг срочно понадобилась глина, потому что она собралась ночью гадать, и ей надо сделать какие-то специальные фигурки для своих гаданий, но выходить из дома она, лентяйка, опять не захотела.
— Сандра… собралась гадать? — повернулась Сапфо к Дидамии, которая тоже в глиняном одеянии выглядела совершенно неузнаваемой и была похожа на странного, древнего идола. — Ты, случаем, не спросила, что она хочет узнать?
Почему-то прежние скульптуры, которые еще встречаются то на одном, то на другом из греческих островов, были гораздо большими по размеру и более округлыми, чем современные, словно намекая, что древние женщины были крупнее нынешних, под стать Дидамии.
— Точно не знаю, Сапфо, но ведь в полнолуние наша Сандра всегда гадает. Кажется, она уже становится веселее. Сандра даже пошутила, что надеется таким способом узнать, кому ты посвятила свое последнее стихотворение, как будто ты и без того ей не можешь сказать, — со смехом ответила Дидамия, и не понятно было, то ли она сама шутит, то ли говорит правду.
А Сапфо с радостью подумала, что слова Сандры означают, что на самом деле подруга вовсе не догадывается о Фаоне и, значит, не могла ему наговорить ничего лишнего.
Ну конечно, а значит, все домыслы относительно побега Фаона оказались полнейшей чушью.
Надо же навыдумывать столько глупостей!
Мало ли других поводов у мальчишки сбежать из дома, помимо страха перед безудержной страстью взрослой женщины!
Да столько же, сколько каждое утро собирается облаков на небе!
И Сапфо, глядя, как забавно Дидамия, изворачиваясь, принялась сама себя с силой лупить по животу и ногам, брызгая в разные стороны глиной, рассмеялась счастливым смехом человека, который начал выздоравливать.
Что и говорить, но труднее придумать болезнь более опасную и коварную, чем уязвленное женское самолюбие.
— О, Сапфо, ты сейчас похожа на глиняную вазу, которую еще не обожгли в печи и которую не успела расписать наша Глотис! — весело воскликнула Филистина. — Давай я сама нарисую на тебе какой-нибудь узор!
— Кажется, я обидела сегодня нашу Глотис, — вспомнила Сапфо. — Как ты думаешь, Филистина, она меня простит?
— Она уже тебя простила, Сапфо, — проговорила сквозь смех Филистина, выводя вокруг талии Сапфо, а потом и у себя тоже какой-то замысловатый узор. — А если бы увидела, какие вазы вылепила из нас с тобой сегодня Дидамия, то и вовсе поставила бы нас на свою полку!
Глядя на смеющуюся Филистину, Сапфо поняла, что подруга тоже еще ничего не знает о побеге Фаона.
Так пусть ни о чем не догадывается как можно дольше!
И Сапфо неожиданно от радости вскочила на ноги и начала исполнять какой-то замысловатый танец, скользя пятками по глине и чувствуя себя самым древним человеком, первой женщиной, появившейся из земли после потопа.
По преданию, когда-то очень давно Зевс, решив уничтожить всех «неправильных» людей, устроил всемирный потоп и позволил спастись на ковчеге только благочестивому сыну Прометея, по имени Девкалион, и его супруге Пирре.
Супруги к тому же быстро сумели разгадать загадку Зевса, повелевшего им бросать позади себя «останки Великой матери», то есть камни, из которых и были сотворены новые люди.
Из камней, брошенных родоначальником всех эллинов, Девкалионом, появлялись мужчины, из камней, что бросала за свою спину Пирра, — женщины.
— О, я поняла, — воскликнула Сапфо, пританцовывая и напевая. — Дидамия — это наша древняя Пирра, недаром она такая большая! Вставай, Филистина, ты тоже уже ожила из камня, и мы все — самые первые, вечные женщины!
Филистина с готовностью вскочила и тут же начала танцевать, исполняя губами какой-то мотив, а потом к подругам присоединилась и сама «прародительница» — Дидамия, которая заскользила по глине, издавая протяжные стоны и одновременно громко смеясь и смешно мыча, потому что от природы не обладала ни каплей музыкального слуха.
— Как всемилостивы наши боги, — задыхаясь, воскликнула Сапфо. — Они дарят нам то печаль, то веселье… И никогда не знаешь, что они пошлют на наши головы в следующий раз.
Но только Сапфо проговорила эти слова, как откуда-то сверху, с нечленораздельными криками на головы женщин действительно что-то посыпалось, так что подруги в ужасе закричали и закрылись руками.
А когда немного пришли в себя, то увидели перед собой Леонида и Фаона, которые сидели на дне глиняного карьера, в немом изумлении глядя на женщин.
— О, что же это? — первым пришел в себя и подал голос Фаон. — Мы услышали какие-то крики и думали, что здесь нужно кого-то спасать от волков… А тут…
— А тут лечебные, грязевые процедуры, — пояснила назидательно Дидамия, словно разговаривала сейчас с бестолковыми учениками. — А спасаться нам действительно надо, но только от ваших бесстыдных взглядов. Отвернитесь хотя бы, пока мы оденемся…
— Да, да, разумеется, — кивнул Леонид, который тем не менее не отрывал взгляда от Филистины.
— О, а я тоже хочу с вами! Можно? — воскликнул Фаон, размазывая по телу руками глину, в которой уже тоже успел перепачкаться, и припустился в пляс.
Но женщины торопливо, смущенно набрасывали на себя хитоны, а точнее, прятали свои тела в пропитанную глиной одежду.
— Сейчас мы пойдем к ручью, немного умоемся, а потом сразу — в баню, — скомандовала Дидамия подругам так буднично, что можно было подумать, будто обмазываться с ног до головы глиной и плясать на дне карьера голыми было для женщин самое привычное ежедневное занятие.
— Но откуда ты взялся, Фаон? — наконец, пришла в себя и Сапфо, поражаясь, как ловко Зевс действительно послал ей на голову самое желанное и дорогое — этого светловолосого пышнокудрого юношу.
— О, мы с Леонидом ходили на охоту! — похвалился Фаон, показывая на охотничьи принадлежности, болтающиеся у него за спиной, а потом не удержался и несколько раз дунул в охотничий рог с наконечником из слоновой кости, который дал ему на время поносить мореход. — Оказывается, наш Леонид знает особые приемы охоты на диких кабанов и оленей — он выведал их у всяких варваров! И мы поймали огромного кабана, с во-о-от такими клыками. Причем обыкновенной рыболовной сетью! Я удивился — оказывается варвары даже львов тоже ловят сетками, все равно как птичек у нас на Лесбосе.
— Но почему же ты не сказал, что уходишь на охоту? — растерянно проговорила Сапфо, когда отзвук охотничьего рога наконец-то застыл во влажном воздухе оврага.
— Но это еще что! — не услышал ее вопроса Фаон. — Леонид рассказал, как дикари приловчились ловить паукообразных обезьян, так что я чуть не умер от смеха! Нужно как можно ближе подойти к обезьяне, которая лениво развалилась на дереве, и быстро выхватить из-за спины любой блестящий предмет, например зеркало или браслет. И обезьянка будет таращиться на него, не отрываясь, так что ее можно свободно хватать рукой и засовывать в мешок…
Фаон лег на землю и показал, как обезьянка во все глаза смотрит на незнакомую штучку, и при этом вид у него был настолько уморительный, что невозможно было удержаться от улыбки.
Он и правда в своей полудетской грации сейчас был похож на подвижного, прелестного, совершенно дивного зверька, которого тоже хотелось засунуть в мешок и унести куда-нибудь с собой на плече.
— Но ведь и это еще не все! — не унимался Фаон. — На некоторых обезьян делается винная засада — и это еще проще. Возле дерева ставится кувшин с вином, и любопытные животные не могут удержаться, чтобы не попробовать, что налито в сосуде, и потом валяются, как пьяные люди. Ха-ха-ха, хотел бы я посмотреть на эту картину! Как все-таки жалко, Леонид, что я не могу поехать с тобой, а должен отправляться к деду! Я бы тоже своими глазами увидел столько интересного!
— Еще чего! Это же очень опасно! — нахмурилась Филистина.
— Только такой несмышленыш, как ты, Фаон, может поменять Афины на земли, населенные макаками и дикарями, — спокойно заметила Дидамия. — Тебе надо еще многому учиться, и надеюсь, что состояние деда откроет перед тобой большие возможности.
— Да, я знаю, — невесело вздохнул Фаон, обводя взглядом строгих женщин и заметив, что Леонид вовсе не разделяет его восторга по поводу возможных совместных путешествий. — А я когда-то в детстве мечтал, как Одиссей, тоже побывать среди феаков и увидеть этот сказочный народ, который занимается только мореплаванием и совершенно счастлив. Ведь у них даже корабли умеют достигать любой цели без кормчего, и именно феаки сумели все-таки доставить Одиссея на родину.
— Но это сказки! — спокойно сказал Леонид. — Увы, таких кораблей, без парусов и кормчих, не бывает.
— Ну и что! Должны быть! — нетерпеливо притопнул ногой Фаон, разбрызгивая ступней глину. — Леонид, поехали с тобой искать феаков!
Сапфо подумала, что все же не случайно она с первого раза определила, что сказание о путешествиях Одиссея было самой излюбленной историей Фаона.
Похоже, житейская мудрость молочницы Алфидии, под влиянием новых впечатлений, начала уже выветриваться из головы Фаона, сменяясь более смелыми фантазиями.
— Но почему ты все-таки никого не предупредил, что пойдешь на охоту? — снова строго спросила Сапфо. — Ведь мы все волновались, думали, что ты куда-то… пропал. А Алкей так и вовсе не находит себе места — ведь на сегодняшнюю ночь назначены твои «фаонии».
Сапфо чуть было не сказала вслух не «пропал», а «сбежал» и лишь в последний момент сумела не выдать своих страхов, навеянных Алкеем.
— Так мы же нарочно! — пояснил Фаон весело. — Правда, Леонид? Мы решили сделать всем неожиданный подарок, и у нас это получилось. Мы убили большого кабана, которого сегодня ночью зажарим на костре и принесем щедрые жертвы главной охотнице Артемиде, которая помогала нам и сегодня…
— И где же он, твой кабан? — спокойно осведомилась Дидамия. — Его печень нужно сначала отнести Сандре, чтобы она по ней погадала. Сандра уверяет, что по кровеносным прожилкам печени убитого животного, а также по птичьим мозгам можно прочитать много неожиданного… Хотя лично я ничего не вижу, кроме лужи крови.
— Бр-р-р, хватит об этом, — передернулась Филистина. — Как вы можете спокойно говорить про такие вещи? Мне и так уже стало как-то не по себе.
— Туша там, наверху, — задрал голову Фаон, потряхивая светлыми кудрями, кончики которых превратились в глиняные сосульки. — Мы бросились вниз, потому что Леонид решил, что здесь на кого-то из женщин напали дикие волки. В наших лесах они водятся и порой драли моих коз, правда все равно не так безжалостно, как наш колбасник Кипсел. А это… все вы!
— Слава богам, не козочки, — улыбнулась Дидамия, намекая на свою тучную фигуру и выразительно похлопывая себя по бокам. — Лично я, если у тебя, малыш, есть глаза, все-таки ближе к коровке.
Признаться, Дидамия относилась к Фаону весьма снисходительно, видя в нем всего лишь не слишком грамотного мальчишку.
Но Филистина глядела на Фаона с обожанием, радуясь каждому слову юноши, и с готовностью смеялась любым шуткам.
Дидамии было несколько досадно, что мужчины так некстати нарушили такую замечательную «глиняную оргию» и танцы, но теперь дело было сделано, и пришла пора отправляться в баню.
— Пойдем, Фаон, ты, как настоящий пастух, должен помочь нам с Сапфо выбраться из этого ущелья по скользкой тропке, а Леонид пусть вытаскивает наверх Филистину… — сказала она со вздохом.
— Да, а то пока мы здесь смеемся, как бы волки не учуяли нашего кабана. А это наша добыча! — воинственно воскликнул Фаон и, тут же схватив Сапфо и Дидамию за руки, потянул наверх по извилистой, покрытой мокрой травой тропинке.
Впрочем, вскоре Дидамия стала шагать впереди, ведя за собой Фаона и Сапфо, словно маленьких, слабых детей.
Но Леонид почему-то медлил подниматься и по-прежнему смотрел на Филистину.
Тело женщины теперь было облеплено грязной одеждой, но она все равно была удивительно похожа на только что вылепленную скульптуру, которую подготовили для отливки в бронзе.
Лишь небесного цвета растерянные глаза Филистины выдавали, что она все-таки живая и состоит из плоти, крови и… испуга.
— Не смотри на меня так, — сказала Филистина еле слышно. — Я грязная. Наверное, ты нигде не видел такого некрасивого зрелища, как женщина, с головы до ног перепачканная в глине. Отвернись, прошу тебя, не смотри на меня.
— Нет, Филистина, — медленно проговорил Леонид. — В своей жизни я видел много гораздо более страшного. Однажды, в Эфиопии, я случайно попал в город, зараженный чумой, и даже сам заболел этой ужасной, поистине страшной болезнью. В том городе умирали птицы, люди, собаки — все улицы были буквально завалены непогребенными трупами, к которым оставшиеся в живых боялись подойти. Люди вымирали, как овцы, целыми домами и улицами — и сильные, и слабые, и очень богатые, и совсем нищие — все лежали в одной общей куче. Я видел, как в отчаянии люди доходили до полного бесстыдства — они складывали своих покойников на чужие костры, прежде чем люди, которые приготовили их, успевали поднести свои трупы, и убегали. Умирающие нарочно ложились возле колодцев, пытаясь хоть как-то спастись от огня, которым горели их внутренности, заползали в храмы, несмотря на запреты жрецов, но и там все равно не могли спастись и умирали, покрытые жуткими язвами и издавая невыносимое зловоние. Я тоже, Филистина, перенес все эти муки…
— Ты? — поразилась Филистина. — Но как же, как же тебе удалось спастись?
— Я сам не знаю, но в городе нашлось несколько счастливчиков, которые на девятый день каким-то чудом исцелились, хотя один из нас после выздоровления все равно совершенно потерял память и не узнавал ни себя, ни знакомых мест. Оказалось, что тех, кто неожиданно выздоровел, болезнь вторично не брала, и мы единственные могли оказывать людям этого несчастного города хоть какую-то помощь, не боясь заразиться. Нас стали почитать чем-то вроде богов, и даже больше, потому что про храмы здесь вообще перестали вспоминать, мы же сами прозвали себя «похоронной» командой, потому что каждый день занимались сожжением и погребением сотен трупов зачумленных, среди которых было немало женщин и детей. После этого, Филистина, я впервые обнаружил седину в своих волосах и понял, что больше никогда в жизни не смогу заплакать.
— Но… но зачем ты мне все это сейчас говоришь? — спросила Филистина, в широко раскрытых глазах которой уже вот-вот готовы были появиться слезы. — Зачем?
— Затем, что я часто думал, Филистина: для чего боги решили все же сохранить мне жизнь? И постоянно задавал себе один и тот же вопрос — зачем? — спокойно произнес Леонид. — Но теперь, похоже, я нашел ответ на эту загадку. Я остался в живых, чтобы встретить тебя и наконец-то понять, что это такое — любовь…
— Ах… — только и успела по привычке вздохнуть Филистина.
Но тут Леонид, не спрашивая разрешения и не слушая больше никаких ахов и охов, стиснул Филистину в своих крепких ручищах и поцеловал в губы так, что у него и самого слегка закружилась голова.
А потом молча подхватил женщину на руки и начал выбираться по скользкому склону наверх.
Глава седьмая ТО, ЧТО ВИДЕЛА ТОЛЬКО ЛУНА
Несмотря на то что Фаон вернулся, с трудом волоча за собой вместе с Леонидом целую мощную тушу кабана, которая оставляла на траве кровавый след, Алкей еще пребывал сильно не в духе и еле сдержался, чтобы не отчитать как следует юного охотника.
Зато все остальные встретили лесных добытчиков с неподдельным ликованием.
— Вот это я понимаю, гости! — расплылась в улыбке даже вечно недовольная кухарка Вифиния, для которой все люди делились в основном на сытых и голодных, а потом на дармоедов и «дельных». — Таких гостей я люблю! Все равно как наш Кипсел — если его зовут пить вино, он всегда приносит с собой самый отборный кусок солонины, или самую лучшую колбасу с чесноком, которую только можно найти на всем Лесбосе, а то в запас еще и целый большой пучок чеснока. Но Леонид тоже вон какой молодец! А Фаон? Я думала, подкидыш вечно больной Алфидии умеет только доить коз, а он, оказывается, знает толк и в настоящей охоте.
Леонид распорядился разделать тушу так, чтобы самую лучшую часть оставить и приготовить со специями для ночного пира, и зажарить мясо на костре, а остальное отдал на усмотрение кухаркам.
А потом в одиночестве отправился купаться в море, сказав, что не переносит теплые бани и привык смывать с себя пот и грязь во время плавания в бурных волнах.
— А ты сейчас пойдешь со мной в баню, — шепнул Алкей на ухо Эпифоклу. — Ты мне нужен. Сегодня самый подходящий момент по душам поговорить с Фаончиком, пока он не наделал настоящих глупостей.
— Хм, хм, насчет прытких мальчишек я тебе точно не союзник, — ответил Эпифокл. — Я теперь могу только полежать на женщине, и то лучше всего не шевелясь. Хотя и это я слишком давно не пробовал… Признаюсь, Алкей, мне с годами все больше стали нравиться умные женщины, вроде Дидамии, которые хотя бы понимают то, о чем я толкую, а не просто ластятся к телу, как глупые кошки, а потом еще требуют…
— Нет, Эпифокл, ты меня снова не понял! — нетерпеливо перебил старика Алкей. — Как я посмотрю, в простых, жизненных вопросах ты совсем мало смыслишь! Я хочу, чтобы ты помог мне уговорить Фаона склониться в мою сторону и переехать жить в мой дом в Митилене, иначе его точно захапает рыжий пират. Или же неразумные женщины ушлют Фаона в Афины, прямиком в постель какому-нибудь старому, жирному сластолюбцу. Посуди сам, зачем напрасно портить мальчишке жизнь? И потом, ты сам, Эпифокл, заодно наконец-то помоешься, хотя бы накануне праздника.
— Хм, хм, — только многозначительно хмыкнул в ответ Эпифокл и сощурил свои черные, хитрые глазки, но Алкей понял его без лишних слов.
— Знаю, знаю, — кивнул он недовольно. — Ты хочешь спросить, что тебе будет за твою услугу? Ну, хорошо, если ты мне поможешь, я заплачу тебе золотом — ради такого мальчика, как Фаон, можно и раскошелиться.
— Хм, хм, у меня и так много золота, — проговорил Эпифокл, отрицательно кивая головой. — Ровно столько, сколько мне нужно — не больше, но и не меньше.
— Хорошо, я понял тебя, Эпифокл! — проговорил Алкей раздраженно. — Помню, как же, ты всегда говорил, что предпочитаешь золоту повсеместную славу. Я правильно говорю?
— Хм, допустим, — согласился Эпифокл, поглаживая большой живот.
— Договорились, я опишу некоторые твои открытия в своих стихотворениях, и даже, так и быть, специально напишу одну большую поэму, посвященную изобретению солнечных часов, «эпифоклик». И тогда всякий, кто еще с тобой и твоими трудами не знаком, непременно будет спрашивать: «Кто же этот величайший человек?», и всей душой стремиться как можно больше узнать о тебе — будь то в наше время или тогда, когда нас самих уже на земле не будет…
— Хм, хм, такой догадливый человек, как ты, Алкей, должен иметь все, чего он только пожелает, — улыбнулся Эпифокл, обнажая прорехи во рту и в несколько уклончивой форме объявляя о своем согласии. — Я ведь действительно давно не мылся, а тем более в компании, которая способна порадовать взгляд.
Под баню на заднем дворе дома было оборудовано отдельное, достаточно просторное помещение, что-то вроде глинобитного дома из нескольких комнат.
В маленькой, самой жаркой комнатке была оборудована парная с большими полками и столиками для угощений, а также огороженным отсеком в углу, куда накладывались горячие угли, в соседней комнате к потолку были подвешены специальные емкости для любителей купания под струящейся водой, в третьей стояли широкие скамьи, на которых банщики делали массаж и натирали купальщиков ароматными благовониями.
Сразу было видно, что женщины пользовались баней достаточно часто, потому что прислуживающие здесь рабы и слуги молчаливо и очень привычно наполняли сосуды горячей водой, следили за температурой пара, подносили на подносах закуски и напитки и напоминали бесперебойно работающий механизм, который устроен так, чтобы в бане всем без исключения было тепло и во всех отношениях приятно находиться.
Вот и сейчас — стоило Эпифоклу, Алкею и Фаону устроиться на скамьях в парилке, как появившийся откуда-то слуга принес им легкое, медовое вино, уверяя, что с его помощью тело гораздо быстрее очищается от грязи и освобождается от усталости, и с приятной улыбкой тут же плотно затворил за собой дверь.
Нынешние посетители парной комнаты представляли из себя весьма забавную группу — что-то вроде наглядного анатомического образца трех возрастов, которые переживает за жизнь мужчина.
Эпифокл с тонкими ногами и седой, мокрой бородой, слипшейся от воды и ставшей сильно похожей на козлиную, в обнаженном виде на редкость напоминал старого сатира.
Алкей с удивлением поглядел на ввалившийся, старческий живот Эпифокла, который почему-то оказался на месте упитанного пуза, и только теперь догадался, что роль живота все это время выполнял привязанный к поясу мешок с золотыми монетами — философ привык повсюду таскать его с собой.
Оказывается, именно поэтому Эпифокл и не ходил так долго в баню, боясь расстаться со своим сокровищем, и лишь заманчивое предложение поэта о возвеличивании да дружелюбная атмосфера, которая царила в доме Сапфо, заставили старика все-таки пойти на риск и оставить свою драгоценную ношу в своей комнате под периной.
Усмехнувшись в бородку, Алкей решил пока ничего не говорить взбалмошному старику про его внезапное похудение, боясь в самый ответственный момент настроить старого «сатира» против себя.
Правда, маленький, сморщенный фалл Эпифокла ничем не напоминал те фаллы, сшитые из кожи, которые выносились на поднятых руках сразу несколькими мужчинами, изображающими сатиров во время праздников в честь Диониса или Деметры — богини плодородия, или приделывались спереди участникам процессии, взявшим на себя роли сатиров и силенов.
И даже ничем не напоминали напряженные члены других фаллических божеств, с какими те обычно изображались на вазах или на досках.
Одна нога Эпифокла почему-то оказалась тоньше другой, чего под просторным хитоном, куда поместился даже набитый монетами мешок, было не заметно, и тут уж языкастый Алкей не смог удержаться от комментария:
— Мой друг, а ты у нас случайно не Полуденный бес с ослиной ногой, или какая-нибудь еще нечисть, в которую верят в здешних краях неграмотные служанки? Хорошо, что тебя не видит сейчас Диодора, а то она от страха точно бы ошпарила тебя кипятком!
— Хм, хм, — улыбнулся Эпифокл. — Я, разумеется, тоже слышал, что в глухих деревнях простой народец больше верит не во всемогущих богов-олимпийцев, а в демонов и разные прочие глупости. Но я к этим бредням не имею никакого отношения.
— А вот моя матушка Алфидия рассказывала, что однажды собственными глазами видела домового Синтрипса, который нарочно разбивает всем на кухне глиняные горшки и тарелки, а у горшечников так и вовсе может разом перебить все готовые изделия, — вспомнил Фаон. — А еще она у меня очень верила в случайные встречи, и когда собиралась на праздник, предпочитала встретить по дороге именно мальчика, а не девочку, или какое-нибудь полезное домашнее животное, а не вредное. А уж если встречала крысу, то и вовсе возвращалась домой.
Алкей так громко рассмеялся, что даже чуть было не поперхнулся медовым вином.
— Тебе, мой прекрасный дружок, следует как можно скорее вымыть из головы все глупости, которые тебе насовала туда твоя старушка, — сказал Алкей, лаская мальчика взглядом. — Иначе над тобой будут смеяться приличные люди, и хорошо еще, если открыто, а не за глаза.
— А для этого, Фаон, тебе самому нужно жить среди воспитанных, образованных людей, они научат настоящему блеску и славе, — с готовностью подхватил мысль Алкея Эпифокл. — Какой толк, если ты поедешь в Афины к старому деду Анафоклу, который наверняка — страшный, глупый скряга, и ничего больше. Подумай сам, чему он может тебя научить? Я слышал, что Анафокл прожил жизнь под башмаком мачехи твоей матери и даже с радостью сплавил по ее совету из дома собственных дочерей, зато осыпал благодеяниями сыновей этой коварной змеи. Правда, теперь сыновья погибли на войне, но все равно… Запомни, Фаон, человеку легче пролезть в игольное ушко, чем переменить самого себя, хотя бы и на пороге смерти.
— Но… говорят, что мой дед очень богат, и говорят, что теперь я его главный наследник. Правда, я сам никогда его не видел, и, возможно, что ты говоришь правильно… — задумался Фаон и вдруг звонко воскликнул, разгоняя клубы пара: — Но я тоже хочу быть богатым! Да, я очень хочу быть богатым и знаменитым!
— Похвально, весьма похвально для настоящего мужчины, — кивнул Алкей и незаметно подмигнул Эпифоклу, чтобы старик продолжал «обработку» юноши в том же духе. — Мне нравится, что ты ищешь себе в защитники Плутоса, сына Деметры. С таким покровителем точно не пропадешь!
И встав в картинную позу, чему не мешали разбросанные повсюду шайки и банные принадлежности, Алкей с чувством прочитал одно из своих любимых стихотворений, которое и друзья высоко ценили за краткость и чисто мужскую точность в выражении мысли:
Помнят в Спарте Аристодема Крылатое слово, в силе слово то. Царь сказал: «Человек — богатство». Нет бедному славы, чести — нищему[28].Обнаженная фигура Алкея на фоне клубов пара представляла собой яркий образец мужчины, достигшего среднего возраста.
Алкей был высок, широкоплеч, но, пожалуй, несколько суховат, чтобы сойти за атлета, и слегка тонконог, чтобы его можно было принять за бегуна.
И еще, Алкей оказался не в меру черняв и имел буйную растительность на груди и в нижней части тела, так что его небольшая, холеная бородка немного напоминала хорошо возделанный на вершине горы садик, выставленный напоказ среди прочих, стелющихся понизу, диких зарослей.
Но вместе с тем Алкей принадлежал к числу тех мужчин, которые пристально следили за своим здоровьем, постоянно пользовались целебными мазями и травяными настойками, так что его тело обещало еще долгие годы служить верой и правдой.
— Хм, какой толк в богатстве, Фаон? — отрешенно закатил Эпифокл к потолку заметно покрасневшие от жары глазки. — Если подумать — что в нем хорошего? Одна суета!
— Ты нарочно так говоришь, — бойко возразил ученому юноша. — Потому что у тебя уже есть целый мешок с золотом, а у меня нет. Отдай мне свой мешок, и тогда я поверю, что ты говоришь правду!
— Молодец, Фаон! — снова похвалил юношу Алкей. — Я с каждой минутой убеждаюсь все больше, что из тебя выйдет толк. Как справедливо сказал один мудрец: деньги — это человек. Лучше всего жить в довольстве — бедняки слишком быстро теряют друзей.
— Хм, хм, я просто хотел сказать, что богатство и слава, конечно, нередко идут рука об руку, но иногда и расходятся в противоположные стороны, поверь мне, Фаон, я это хорошо знаю, — проговорил спокойно Эпифокл, с удовольствием рассматривая свои руки, от пара потихоньку красневшие и становившиеся на вид более молодыми. — Я думаю, что молва о «фаониях», которые проводят в честь тебя Алкей и сама великая Сапфо, совсем скоро разнесется по всему Лесбосу, и ты без всяких усилий сделаешься известным на острове человеком. Попомни мои слова: с тобой, Фаон, будут искать знакомства многие достойные мужи, к которым сейчас тебе страшно приблизиться, и самые богатые женщины, и ты даже не заметишь, как сам очень скоро сделаешься богат. Разве не так? Скажи сам, что предпочтительнее: быть известным человеком у себя на родине или никому не нужным на далекой чужбине?
— Известным, конечно, — нетерпеливо проговорил Фаон, вскакивая со скамьи. — Но здесь так жарко! Пойду лучше вылью на себя ведро холодной воды! Лучше бы я все же пошел купаться на море с Леонидом. Не могу быть так долго в парилке!
Фаон попытался было открыть дверь, но она была прикрыта слишком плотно и с первого раза не поддалась.
— Присядь, мой дружок, не спеши, тебе надо прежде всего учиться терпению, — сказал Алкей, с удовольствием приобнимая мальчика за плечи и снова усаживая его на скамью. — Видишь, мы же сидим спокойно. В парной комнате следует находиться определенное время, чтобы это принесло пользу для организма, или лучше сюда вовсе не заходить. Когда время придет, банщик сам нам откроет дверь.
Фаон со вздохом сел на скамью и глотнул из кубка вино, хотя и само вино, и сосуд уже были теплыми и вовсе не утолили его жажды.
Алкей с нескрываемым наслаждением еще раз посмотрел сверху вниз на розовое, пылкое тело Фаона и украдкой вздохнул.
Что и говорить, юноша был сложен настолько удачно, словно боги по волоску промерили все пропорции, прежде чем сотворить такое совершенство — даже ступни ног Фаона, казалось, были строго соразмерны кистям его рук с тонкими, красивыми пальцами и блестящими ноготками.
Фаон был достаточно высокого роста, но не длинным, полноватым, но вовсе не толстым, в меру мускулистым, но именно только в ногах и руках, тогда как заднее место и живот Фаона словно излучали мягкое, приятное тепло.
Но, пожалуй, главное очарование Фаона состояло в том, что сам он пока словно бы вовсе не осознавал своей редкостной природной красоты, никак не использовал ее великой силы, а был просто непосредственным, добрым ребенком, впрочем, привыкшим к тому, что на него все вокруг смотрят с радостной улыбкой.
Алкей вдруг представил, каким острым удовольствием для него стала бы возможность как-нибудь остаться в такой парилке, или лучше даже в более прохладной комнате, с Фаоном совершенно наедине.
Но вместе с тем Алкей не хотел чересчур спешить, чтобы окончательно не напугать Фаона своим натиском, и решил прибегнуть пока лучше к хитроумным услугам Эпифокла, который тоже оглядывал мальчика с улыбкой умиления на разрумянившемся и несколько разгладившемся лице.
— Однажды, друзья мои, я попал в Спарте на гимнопедии — праздник обнаженных мальчиков, — мечтательно вспомнил Эпифокл. — Но клянусь Зевсом, мне кажется, там не было ни одного такого красавчика, как наш Фаон. Впрочем, тех мальчиков я не мог видеть настолько близко, как тебя сейчас. Но ты, Фаон, все равно сложен прекрасно, как Ганимед.
— Ты хорошо сделал, что не сравнил его с Эвфорионом, — рассмеялся Алкей. — И за это, Эпифокл, я, так уж и быть, еще подолью тебе вина.
— С кем? Про кого вы все время говорите? — переспросил Фаон, нетерпеливо пожимая плечами — он не привык подолгу сидеть на одном месте. — Я про таких никогда не слышал.
А Эпифокл с Алкеем после простодушного признания юноши тут же рассмеялись особым самодовольным смехом заговорщиков или чересчур образованных людей, которые видят, что для окружающих их ученые речи кажутся такими же непонятными, как незнакомый язык варваров.
В минуты подобного смеха Алкей испытывал ни с чем не сравнимое чувство собственного превосходства и не имел сил себе в этой радости отказывать.
— О, это совсем не важно, — опередил Алкей Эпифокла, который хотел было сделать необходимые пояснения, видя, как Фаон рассердился и покраснел еще больше — теперь уже от досады. — Не все сразу, несмышленыш. Когда, Фаон, ты поселишься в моем доме, то узнаешь много чего для себя нового и интересного, а вскоре будешь блистать перед всеми не только красотой и славой, но также и своими знаниями.
— Вы все только смеетесь надо мной, — вздохнул Фаон и прибавил жалобно: — А мне не нравится, когда надо мной смеются!
— Клянусь Зевсом, Фаон, нет! — со смехом сказал Алкей, поднимая кубок. — Пройдет совсем немного времени, и ты затмишь мою славу!
На самом деле Алкей сейчас просто не хотел пересказывать Фаону старинных преданий о том, как прекраснейший из смертных Ганимед был избран богами кравчим — прислужником за трапезой, после чего Зевс сделал красавчика своим возлюбленным, а зато Эвфориона — крылатого сына Ахилла и Елены — громовержец убил молнией за то, что упрямый мальчишка не пожелал вступать с ним в половую связь.
Как бы пылкий, но, откровенно говоря, не слишком смышленый Фаон не почувствовал в подобном сравнении скрытой угрозы!
— И все же здесь слишком жарко, — снова заерзал на скамье Фаон. — Неужели вы сами не чувствуете?
— Нет, Фаон, пока еще температура пара не достигла нужного градуса, — соврал Алкей, с умным видом выставив вверх палец, словно он определял сейчас направление ветра.
Вообще-то Алкею самому уже тоже сделалось несколько жарковато, но он боялся, как бы мальчишка не сбежал от них с Эпифоклом прочь, едва только слуги откроют дверь, и приготовился терпеть столько, сколько потребуется.
— Да? Разве жарко? Хм, а я только еле-еле начал согреваться, — проворчал Эпифокл. — Эх, молодость, молодость, и куда вы только напрасно спешите?
Но вспомнив, что он пришел в баню не только для того, чтобы смыть с себя многодневную грязь, как следует согреть свои старые кости и всласть поворчать, Эпифокл тут же очнулся и проговорил.
— Неважное здесь все же подают вино, Алкей. У тебя дома гораздо лучше. Клянусь, я нигде раньше не пил такого вина, как у тебя за трапезой, и не ел таких сладких рябчиков, и устриц, которые буквально тают во рту, словно они сделаны из меда. Нужно быть последним глупцом, Алкей, чтобы отказываться от твоего щедрого гостеприимства. Ну а стать твоим домочадцем — это было бы пределом моих мечтаний!
— Так почему же ты им тогда не станешь? — простодушно спросил Фаон. — Или Алкей тебя не зовет?
— Потому что… потому что… — несколько замялся Эпифокл. — Потому что у меня, мальчик, осталось уже не так много времени на пиры и развлечения. Прежде чем поставить в конце своей жизни огненную точку, о которой я говорил, мне еще нужно побывать на Фасосе у известного Бебелиха, напитаться у него мудрости и, по возможности, завещать его ученикам и потомкам свои записки и чертежи. Я долго думал о том, где мои труды будут сохраннее, и мне сказали, что Бебелих и его ученики не просто имеют библиотеку, но также переписывают многие работы и распространяют их по свету.
— Какого Бебелиха? — спросил по привычке Фаон, но тут же снова смущенно вспыхнул, жалея, что опять выдал свою неученость.
— Бебелиха также еще называют «учителем о смерти», — пояснил Эпифокл. — Он проповедует полный отказ от всех мирских радостей, и после общения с Бебелихом многие его ученики с легкостью и даже с огромным удовольствием заканчивают жизнь самоубийством, видя в смерти единственное спасение.
— Бр-р-р, какая страсть! — передернулся Фаон, как будто в парилке был мороз, а не жара, от которой у него уже глаза вылезали на лоб.
— Почему — страсть? Ведь огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, и не нам дано понять, где жизнь, а где смерть… — привычно забормотал Эпифокл, но Фаон его нетерпеливо перебил:
— Уж лучше бы ты, Эпифокл, все же оставался у Алкея или хотя бы здесь!
— Конечно, у меня намного лучше! — с довольным видом подхватил Алкей. — И скоро ты, Фаон, сам в этом убедишься, как только увидишь количество рабов в моем доме.
Вообще-то Фаон много раз купался в бане, ополаскивая себя из большого кратера теплой водой и смывая с тела мыльную пену, и даже заскакивал в парилку, но такое испытание, как сейчас, похожее на пытку, юноша в полной мере переживал впервые.
Чтобы постоянно не жаловаться и не ныть, Фаону даже пришлось прикусить губу, и он то и дело то принимался мысленно считать про себя слонов, то в разном порядке пересчитывать пальцы на ноге, чтобы побыстрее прошло отпущенное на истязание жарой время.
Но оно, как назло, тянулось и тянулось бесконечно, словно он уже оказался на том свете.
И тут еще эти загробные старческие разговоры, которые Фаон на дух не переносил.
Фаону сразу же вспоминалось родное, но мертвое лицо старенькой Алфидии, каким он его увидел однажды утром, и от одного этого воспоминания юноше хотелось кричать, плакать и бежать куда глаза глядят.
— Нет, терпеть не могу мертвецов, — зло пробормотал Фаон, а наклонившись к Алкею и приятно пощекотав ему при этом ухо, тихо добавил: — И стариков тоже — от них несет могилкой.
— Что ты понимаешь, мальчик, в смерти? — нахмурился Эпифокл. — Нужно уметь умирать вовремя. Разве ты не помнишь, какому наказанию богов подвергся старый Окн за то, что слишком долго не хотел умирать?
— Нет, не помню, — пробормотал совершенно несчастный Фаон. — Ничего не знаю. Какой еще Окн? Нет, не хочу…
— Погоди, Фаон, не смущайся — пройдет совсем немного времени, и ты у меня затмишь всех мудрецов, — сказал Алкей, шутливо хлопая юношу по нежной, гладкой попке — уж очень большой был соблазн по ней похлопать.
— Ходит предание, что в царстве мертвых каждый из вновь прибывших встречает дряхлого старика Окна, который, не останавливаясь ни на минуту, упрямо плетет канат, пожираемый с другой стороны ослом. Зевс наказал Окна вечной работой за поистине ослиное упрямство, с которым тот хватался за свою жизнь и никак не хотел умирать, когда пришел его черед. Это ли не наука для всех нас, кто доходит до порога старости?
— Наверное, там, в царстве мертвых, так же нестерпимо жарко, как здесь, — вздохнул Фаон, все розовое тело которого, словно бисером, было покрыто мелкой испариной.
— Почему ты так думаешь? — не понял Эпифокл. — Наоборот, везде говорится про подземный холод, Эреб…
— Нет, а мне все равно кажется, что жарко, — упрямо повторил Фаон.
— Ты не понял главного, мой друг! — подсказал юноше Алкей. — Смысл этой истории в том, что вечная работа, труд — настоящее наказание для человека, как при жизни, так и после смерти. Кто знает, Фаон, что тебя ждет в твоих Афинах? Вполне возможно, что судьба обернется так, что тебе придется самому зарабатывать на жизнь тяжелым трудом, и хорошо еще, если не торговать своим привлекательным телом. Зато в моем доме ты сможешь жить счастливо, в приятном обществе и совершенно без всяких забот.
— Боги, какая жара! Как в Ливии! — воскликнул в изнеможении Фаон. — Леонид говорил, что если в Ливии не надеть с утра на голову шапку, то к вечеру можно свалиться замертво. Леонид поэтому и сейчас сохранил привычку везде ходить в дорожной шляпе, вы заметили? И еще он говорит, что настоящий мужчина должен объехать весь свет, чтобы понять, какое место ему по-настоящему дорого…
— Глупости! — воскликнул Алкей и недовольно притопнул ногой — от возмущения даже его острый, как стиль, пенис тоже неожиданно пришел в волнение. — Зачем ты, Фаон, слушаешь то, что болтают невежды? Может быть, ты еще начнешь пересказывать, что говорит Диодора, или кухарка на кухне, или рабы, которые выгребают на конюшне навоз? Надо слушать, Фаон, только речи образованных людей, чтобы самому со временем достигнуть их уровня!
— Но… но и Сапфо тоже говорит, что нужно ехать в Афины на поиски деда, — проговорил Фаон, с удивлением наблюдая, как фалл Алкея, подобно змейке, начал подниматься вверх, и чувствуя, что у него от жары стала по-настоящему кружиться голова и двоиться в глазах.
Фаон вдруг увидел уже не одну, а две, нет, три змеи между ног Алкея, которые злобно были направлены в его сторону, и еле сдержался, чтобы не вскрикнуть от ужаса.
— Разве можно в таких важных вопросах слушать женщин? — проговорил Алкей. — Пусть они сколь угодно строят из себя свободных и пытаются встать наравне с мужчинами, чтобы потешить свое самолюбие, но мы-то на самом деле лучше знаем…
— Алкей, я сейчас умру от жары! Разреши мне выйти! — взмолился Фаон.
— …На самом деле мы лучше знаем, как нам следует поступить, разве не так? Хотя внешне мы можем сколько угодно подыгрывать женщинам, и даже порой делать вид, что разделяем их взгляды, — как ни в чем не бывало продолжил Алкей.
— В таком случае я всегда вспоминаю про Омфалу, — сонно проговорил Эпифокл, совсем уже разомлевший и клевавший носом, но все же не забывший про полученное задание.
— Нет, я больше точно не могу! — вскричал Фаон, которому совершенно осточертели ученые разговоры — в его голове они смешались с невыносимо горячим паром и, казалось, совершенно замутили рассудок.
Но все же юноше показалось слишком нахальным высказывать свое отношение к столь прославленным мужам, какими считались Эпифокл и Алкей, и Фаон со вздохом проговорил:
— Я больше не могу сидеть в такой жаре. Ну какая, какая такая еще Омфала?
— Речь идет, драгоценный мой, о знаменитой царице Лидии, которой однажды был продан в рабство сам Геракл, — как ни в чем не бывало, словно опять не услышав жалоб Фаона, пояснил Алкей. — И что же ты думаешь? Омфала заставила могучего героя заниматься женской работой, а сама нарядилась в львиную шкуру Геракла и только пальцем указывала ему, что нужно сделать. Я хочу сказать, что, если женщинам дать волю и право распоряжаться судьбой мужчины, они любого запросто превратят в тряпку. Нужно самому иметь голову на плечах и не попадать в невидимое рабство к таким «омфалам», как это сделал твой дед в Афинах.
Но все же, несмотря на внешнее спокойствие, Алкей начал потихоньку раздражаться.
Он подумал про себя: «Великие боги, неужели мальчишка настолько тупой и упрямый, чтобы не понимать, что ему здесь все желают только добра!»
Такое ощущение, что Фаон сейчас вовсе не понимал, чего от него хотят.
— Ты ведь можешь, Фаон, приехать ко мне сначала на время, — открытым текстом сказал тогда Алкей. — Просто пожить, оглядеться. И вовсе не обязательно сразу сообщать об этом Сапфо или своей Филистине. Скажи им, что отправляешься в Афины, а мы с тобой тем временем прекрасно поживем и повеселимся у меня. Ведь уже через некоторое время, Фаон, женщины, и в особенности Филистина, да и сама Сапфо тоже, так о тебе соскучатся, что будут плакать слезами радости, когда узнают, что ты живешь так близко, и мы все вместе будем счастливы, каждый по-своему.
— Хм, хм, неплохой план, — очнулся Эпифокл, который уже вовсе было задремал, пригревшись на скамье. — Вполне продуманный и во всех отношениях приятный…
Алкей посмотрел на Фаона, но лицо юноши было каким-то совершенно бессмысленным и чуть ли вообще не безумным.
«Может быть, я напрасно так стараюсь? — молнией пронеслось в голове Алкея. — Вдруг он — больной? Безумец? Как бы не натворил он чего потом у меня в доме такого, что не расхлебаешься!»
Но Фаон прекрасно понимал, о чем толковал Алкей, но еще больше чувствовал, что если проведет в парилке хотя бы одну минуту, то просто лопнет от жары, как брошенный в жаровню рыбный пузырь.
— Я согласен, Алкей! — в отчаянии воскликнул Фаон. — Я поеду к тебе! Но только дайте мне воды! Воды!
— Эй, ты, придурок, владыка щелочи и грязных обмылков, открой скорее дверь! Что тут у тебя случилось с дверью! Открывай! — закричал Алкей гневным голосом банщику, который на всякий случай по его приказу все это время придерживал дверь в парилку спиной с обратной стороны. — Вы что там, заснули, что ли? Банщик, говорят тебе, открывай!
И Алкей три раза шибанул по двери голой пяткой, подавая условленный знак, что теперь ее можно отворять.
Дверь тут же отворилась, и быстрее сизых клубов дыма в щель метнулся красный как рак Фаон, что-то быстро и невнятно причитая на ходу.
Затем стало слышно, как в соседней комнате слуги принялись поливать Фаона прохладной водой, а тот только в исступлении приговаривал: «Еще! Еще! Ну же, еще!»
Алкей самодовольно улыбнулся, прислушиваясь к этим словам и представляя, что совсем скоро Фаон будет повторять их уже в другом месте, и совсем, совсем по другому поводу.
Но только теперь он пришел к выводу, что в таком деле, как любовные игры, никогда не следует слишком торопиться, иначе можно сильно себе же самому навредить.
Ведь прежде, чем Фаон по-настоящему распробует терпкий вкус чисто мужской любви, должно пройти некоторое время, дикого мальчишку нужно постепенно и незаметно к себе приручить, обласкать, приблизить.
Впрочем, сам процесс ухаживания Алкей ценил не меньше, чем непосредственные услады в постели, а если речь шла о просвещении деревенского, неиспорченного юноши, то это было особенно интересно и самобытно.
— Еще? — с улыбкой спросил Алкей Эпифокла, показывая на кубок недопитого вина. — Нет, пожалуй, все же хватит, дело сделано. Я тоже пойду.
И Алкей изящным жестом вылил вино в угол, принося прощальную жертву богам и заодно показывая, что больше пить не желает.
Алкей услышал, как тихо зашипела в углу на раскаленных углях медовуха, наполняя воздух цветочным ароматом, и потом что-то зашипело снова.
Он подумал, что Эпифокл тоже вылил следом на угли остатки вина, но, приглядевшись в клубах дыма, увидел, что старик сидел на скамейке, посапывая и шипя во сне беззубым ртом, свесив вниз, подобно сосульке, седую, мокрую бороду.
Алкей ни на шутку перепугался — как бы старик ненароком не отдал концы в бане, заснув в парилке — такие случаи были на Лесбосе достаточно распространены! — и затряс Эпифокла за руку,
— Да, да, все получилось, — очнулся Эпифокл и по-своему расценив жест Алкея — он принял его за рукопожатие в знак благодарности за удачно завершенное дело. — Теперь за тобой должок, Алкей, смотри не забудь про поэму.
Но Алкей, ничего не ответив, кликнул банщиков, чтобы те перетащили Эпифокла в более прохладное помещение и поскорее приступали к натираниям.
На улице начало смеркаться, и до праздника оставалось совсем немного времени, зато мужчины, в частности Алкей, подошли к нему совершенно чистенькими, по крайней мере очищенными от какой-либо неопределенности.
Сапфо фиалкокудрая, чистая, С улыбкой нежной! Очень мне хочется Сказать тебе кое-что тихонько, Только не смею: стыд мне мешает[29] —тихо, как ни в чем не бывало пропел про себя Алкей, выходя в превосходном настроении из бани, первые строки своего нового стихотворения.
Он сочинил их только сегодня в беседке, в честь Сапфо, чтобы немного оправдаться перед подругой за свои шалости.
Он задумал целый гимн в честь великой поэтессы, но начал по порядку, с самого первого момента их встречи во время приезда Алкея в загородный летний дом, когда он увидел в волосах Сапфо букетик фиалок.
Песня должна заканчиваться пылкими признаниями, которые Алкей еще придумать не успел, так как вскоре услышал о возвращении с охоты Фаона.
«Да, стыд мне мешает, — улыбнулся Алкей, отчетливо вспоминая обнаженную фигуру Фаона, особенно в тот момент, когда юноша порывисто вскакивал со скамьи, и потом — свой напряженный фалл. — Только не смею. Сапфо, нет, пока не смею».
И Алкей снова подумал, что его выдумка с припрятыванием Фаона совсем скоро и самой Сапфо, и другими женщинами будет восприниматься не иначе, как вполне простительная шутка, но зато принесет ему самому, а возможно, и мальчишке, столько сладкой радости и удовольствия!
Алкей только еще представил, как впервые, словно бы между делом, покажет Фаона своим друзьям, и перекличка каких-то двух вечерних неугомонных птиц в ветвях ему вдруг показалась цоканьем языков истинных ценителей красоты.
Незаметно наступил вечер, и пришла пора отправляться на поляну, которую рабы с раннего утра очищали от валежника, расставляли между деревьями деревянные и бронзовые фигуры богов, складывали большие костры и делали остальные необходимые приготовления к празднику.
Алкей задумал, чтобы во время вторых «фаоний», которые будут состязанием скорее танцевальным, чем песенным, все участники почувствовали себя абсолютно свободными и по-настоящему дали волю безудержному веселью и своим затаенным желаниям.
Что и говорить, но накануне полнолуния Алкей чувствовал внутри своего тела, подобно неясному гулу, нарастающее сексуальное возбуждение, а когда увидел возвращающуюся из леса хохочущую, перепачканную в глине Сапфо с подругами, он понял, что нечто подобное происходило не только с ним одним.
Даже Эпифокл, который в последний момент решил не принимать непосредственного участия в ночных, чересчур резвых играх, предоставив развлекаться молодым, и то почувствовал себя после бани заметно помолодевшим и завел с Дидамией неожиданный для нее разговор.
— Милая моя Чистая табличка, — проговорил вдруг Эпифокл, глядя на Дидамию умильными черными глазками. — Признаться, я уже не представляю, как теперь смогу без тебя обходиться, когда покину ваш гостеприимный дом. Ты ведь так умело записываешь все мои высказывания, а главное, так вовремя мне потом подсказываешь все, что я успеваю позабыть. Скажу откровенно, что в твоем обществе, царица, я делаюсь моложе на десять, нет, даже на двадцать лет!
— То, что ты сейчас говоришь, Эпифокл, — вовсе не новость, — спокойно ответила Дидамия. — Все мужчины любят, чтобы женщины записывали за ними каждое слово, готовили еду, расшивали узорами их туники и помнили о них каждую минуту, чтобы им самим можно было не слишком напрягаться.
— Да, но я же не просто мужчина, а ученый муж! — возразил Эпифокл. — И потом — как же иначе? Женщины ведь созданы богами для того, чтобы обслуживать мужчин, будь то работа по дому, помощь в каких-либо других делах. Так придуман этот мир, и тут, моя царица, ничего не попишешь.
— Да, ничего не попишешь, — с горечью подтвердила Дидамия. — Пока так думают и считают даже такие ученые люди, как ты, Эпифокл. Поэтому наша Сапфо и придумала этот остров, где мы, женщины, можем жить по своим законам.
— Ты ошибаешься, Дидамия! — засмеялся Эпифокл. — Остров Лесбос существует очень давно, гораздо раньше, чем здесь появилась Сапфо и все вы. Он и потом никуда не денется, когда нас всех на свете уже не будет!
— Нет, ты не понял меня, Эпифокл, — сказала Дидамия. — Я говорю совсем о другом острове, который существует на территории Лесбоса, но только его границы не все могут увидеть отчетливо, потому что его берега не омываются со всех сторон морями. Если хочешь знать, Эпифокл, иногда мне кажется, что мудрая Сапфо сумела создать невидимое отдельное государство, живущее по своим неписаным законам. Здесь у нас не действуют ни драконовские, ни какие-либо еще законы, нет борьбы за власть, насилия. Впрочем, каждый человек — это тоже маленькое отдельное государство, и что бы ни творилось вокруг, он может жить по своим правилам. Хотя в одиночку это делать очень трудно, гораздо труднее, чем здесь нам сейчас.
— Клянусь Зевсом, я никогда не встречал такой умной, рассудительной и во всех отношениях необыкновенной женщины, как ты, Дидамия! — умилился Эпифокл. — Я давно понял, что в тебе, царица, течет кровь каких-то правителей, возможно, персидских или египетских вельмож — из тех, кто привык управлять миром. И все же, Дидамия, согласись, что ты тоже не считаешь меня просто обыкновенным мужчиной. Ведь ты же не записываешь высказывания Фаона или даже Алкея, моя табличка, а выбрала именно меня и за эти дни стала моей неразлучной тенью, от которой мне уже не хочется отделяться. Я не говорю сейчас про Леонида и его нелепые небылицы, в которые, несмотря на свой немалый ум, поверила только ты одна. Но это говорит о том, что ты, Дидамия, тоже порой нуждаешься в более мудром наставнике и учителе.
— Не называй меня, Эпифокл, восковой табличкой, — проговорила недовольно Дидамия. — Только я сама могу так себя называть и порой, если мне захочется, даже ругать себя самыми последними словами. Но это вовсе не значит, что за мной можно повторять другим. И потом, я вовсе не считаю рассказы Леонида небылицами и не жалею о том, что взялась их записывать.
— Хм, хорошо, Дидамия, пусть так, но согласись, что любое новое, будь то необычные явления или другие земли, гораздо приятнее видеть своими глазами, чем про это слушать. И у тебя есть такая возможность.
— Что ты имеешь в виду? — удивленно подняла женщина черные брови, которые были чрезмерно густыми и даже слегка срастались на переносице, отчего и в минуты веселья у Дидамии оставался несколько глубокомысленный, вдумчивый вид.
— Ты можешь поехать со мной, Дидамия. Я хочу, чтобы ты отправилась со мной сначала на остров Фасос, а потом — дальше…
— С тобой, Эпифокл?
— Хм, хм, я давно желал встретить женщину, которая понимала бы мои мысли и хотя бы отчасти помогла скрасить мою старость. Это ты, моя царица, — проговорил Эпифокл, прижимая руку к груди. — Ты одна с равным вниманием умеешь слушать и мои раздумья о природе сущего, и жалобы на многочисленные, и я бы даже сказал — на мои неисчислимые болезни.
— Да… но… ты что, Эпифокл, зовешь меня замуж? — спросила Дидамия и с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться, глядя на замершего в восторге старика, действительно напрочь забывшего о своем возрасте, почти лысой голове и на редкость уродливой внешности.
У Эпифокла был сейчас такой важный, гордый собой вид, словно своим предложением он оказывал Дидамии величайшую честь, о которой только может мечтать любая смертная женщина.
— Это вовсе не обязательно. Ты можешь повсюду путешествовать со мной как свободная гетера. Хотя если пожелаешь, мы можем сочетаться и законным браком, — кивнул Эпифокл. — Правда, что касается мужских супружеских обязанностей, то тут, Дидамия… Хм, хм, но я думаю, мы с тобой договоримся, и я постараюсь смотреть на эту сторону вопроса сквозь пальцы, предоставляя тебе менять любовниц, а если захочешь — то и любовников. Хотя признаюсь, к женщинам я тебя буду ревновать все же гораздо меньше, чем к мужчинам.
Тут Дидамия вовсе закрыла себе рот ладонью, боясь обидеть Эпифокла неосторожным смехом и делая вид, что у нее зачесался нос.
— Послушай, Эпифокл, но как же вулкан? — спросила она, когда приступ смеха удалось подавить. — Ты же собрался после Фасоса отправляться на вершину Этны? Мы что же, в кратер вулкана тоже будем кидаться вместе, взявшись за руки? Я слышала, среди некоторых фараонов распространен обычай забирать с собой на тот свет и супругу, и всех домочадцев, и кухарок, чтобы они и там готовили им вкусные кушания?
— Да? Хм, хм, я пока не думал об этом, — серьезно сказал Эпифокл. — Но, конечно же, если ты захочешь…
— И ты мне тоже сделаешь золотые сандалии?
— Хм, хм, — нахмурился Эпифокл. — Мне кажется, в твоем случае, Дидамия, это вовсе не обязательно. И потом, я не уверен, что мне хватит материала сразу на две пары…
— Но если мы будем супругами, Эпифокл, то у нас все должно быть общим! — сдвинула брови Дидамия, изображая обиду. — Может быть, ты тогда дашь мне поносить хотя бы один сандалий? Я обещаю обращаться с ним аккуратно…
— Да? Хм, но я думаю, нам, Дидамия, учитывая разницу в возрасте, разумнее все же не становиться супругами. Ты будешь просто моей писицей и спутницей — чем это плохо? — нашелся с ответом Эпифокл.
— Но тогда, Эпифокл, если ты хочешь взять меня на работу, ты должен платить мне жалованье, как платят слугам, в том числе и тем, что переписывают книги и собирают хозяевам библиотеки. И сколько же ты собираешься мне платить, Эпифокл?
— О, Дидамия, на самом деле я очень, очень богатый человек, и у меня есть возможность как следует оплачивать твой труд, не говоря уж о том, что ты постоянно будешь делить со мной стол. Ты знаешь, я ведь очень люблю сладенькое!
И с этими словами Эпифокл с невыразимой нежностью погладил свой живот, который после бани снова сделался тугим и непомерно большим.
— Значит, ты берешь меня в рабыни? — воскликнула Дидамия и вдруг рассмеялась во весь свой густой грудной голос. — Как же это забавно, Эпифокл!
— Хм, хм, чему ты смеешься? — нахмурился старик.
— Но ведь когда-то, Эпифокл, я уже была настоящей рабыней, и для меня это — не новость.
— Ты, моя… царица? Рабыней?
— О да! Я занималась тем, что следила за очагом в доме одной знатной особы, которая купила меня на базаре. Я купала в лоханке ее детей, сажала на горшок и учила их грамоте. Ты хочешь, чтобы я снова вернулась к своим прежним занятиям, Эпифокл?
— Ты? Что ты такое говоришь, Дидамия? — воскликнул Эпифокл, совершенно пораженный. — Хм, хм, не могу в это поверить! Ведь среди здешних женщин ты больше всего похожа и своей фигурой, и походкой на знатную особу! Неужели ты не принадлежишь к числу свободнорожденных? Нет, я не верю ни одному твоему слову! Ведь родиться рабом или, как называет свою прислугу Алкей, «человеконогим» — это сущее несчастье, и притом я всегда мог за несколько стадий отличить раба от нормального человека!
— Не только одно несчастье, — невесело улыбнулась Дидамия. — Первое мое счастье, Эпифокл, заключалось в том, что все дети имеют обыкновение быстро расти. А когда хозяйские малыши подросли и я начала учить их грамоте и прочим премудростям, то уже почувствовала себя намного свободнее, чем раньше. Через некоторое время, Эпифокл, я уже учила детей сестры моей хозяйки, а потом и других ребят. Но я бы все равно оставалась рабыней, если бы не второе мое счастье.
— Какое? — переспросил Эпифокл, который все еще никак не мог поверить словам Дидамии и глядел на нее чуть ли не с испугом.
— А второе мое счастье, что я повстречала Сапфо, и она взяла меня к себе, чтобы я могла учить девушек грамоте, логике, истории и другим предметам в ее школе, — гордо улыбнулась Дидамия. — Сапфо выкупила меня у моей прежней хозяйки и дала полную свободу. Теперь, Эпифокл. я свободный человек на своем острове. И ты хочешь, чтобы я добровольно покинула эти берега?
— Хм, хм, ну, что же, — помолчав, сказал Эпифокл. — То, что ты сейчас рассказала, Дидамия, поистине удивительно. Но вовсе не обязательно, чтобы о твоей тайне знали остальные, пусть она останется между нами.
— Все, и Сапфо, и Филистина, уже знают мою историю!
— Я имею в виду тех, с кем нам придется встретиться на Фасосе или других краях. Хотя, конечно, Дидамия, не скрою — то, что ты, оказывается, не свободнорожденная…
— …У тебя есть время подумать, — поднялась с места Дидамия, не желая больше слушать старика. — Я уже слышу звуки праздника и не хочу сильно опаздывать.
Но в последний момент Дидамия не выдержала и добавила, стараясь сохранить на лице серьезное выражение:
— Но учти, Эпифокл, я поеду с тобой, только если ты мне тоже сделаешь золотые сандалии.
— Но — как, рабыне? Как… моя царица? Впрочем, ладно! Ложка счастья больше, чем бочка духа! — последнее, что услышала Дидамия, спеша на поляну, откуда уже доносились стройные звуки пения.
Эпифокл некоторое время все еще раздумывал, стоит ли ему отправляться на ночное веселье или предпочтительнее все же как следует выспаться, взвешивая все «за» и «против».
Больше всего Эпифокла склоняло в сторону опочивальни то соображение, что тяжеленный мешок с золотом все равно будет мешать ему танцевать и от души повеселиться вместе со всеми.
Эпифокл ведь и палку с собой носил вовсе не потому, что был действительно хромой — просто, опираясь на нее, было все же немного легче таскать повсюду за собой свою ношу.
Но все же, прислушиваясь к радостным крикам «Эвои! Эво, эво!», доносившимся с поляны и говорящим о том, что там уже вовсю начались танцы, Эпифокл спрятал мешок под кровать, а к животу подвязал подушку, чтобы сохранить прежнюю фигуру.
Точно так же он поступал и во время первых «фаоний», не ожидая, впрочем, что из подушки неожиданно посыпятся перья.
Тем более Эпифокл хорошо помнил, как пялился на него Алкей в бане, и тогда еще подумал, что все же напрасно поддался на уговоры поэта, который своим соловьиным языком порой умел убедить и в вовсе невозможном.
Но ощутив под хитоном непривычную легкость — Диодора набивала подушки в доме исключительно лебяжьим пухом, — Эпифокл почувствовал себя вольной птицей и почти бегом направился к поляне, даже забыв о своей палке.
Недаром слуги потом говорили, что Эпифокл шел к поляне уже пьяным, сильно размахивая руками и каркая на ходу, словно собрался взобраться на горку и взлететь в ночное небо.
Дидамия, заговорившаяся с Эпифоклом, к самому началу праздника немного опоздала, и, наверное, поэтому зрелище, открывшееся ее взгляду, показалось женщине еще более необычным, чем остальным.
По краям широкой поляны горели два больших костра, где на вертелах жарились большие куски мяса.
Один из костров был жертвенным, потому что на палке возле него торчала оскаленная голова кабана, а рядом стояла бронзовая фигура, изображающая богиню охоты Артемиду.
Чуть поодаль можно было различить и фигуры прочих богов, которые тоже словно молчаливо присутствовали на празднике, окружив жертвенный огонь.
Дидамия удивилась выдумке Алкея, который нарочно приказал слугам покрыть статуи специальной киноварью, светящейся в темноте, и оттого стоящие между стволами деревьев переносные статуи богов светились ровным, мерцающим светом и казались наряженными по случаю торжества в прекрасные, праздничные одежды.
Все участники «фаоний» уже были в ритуальных масках, искусно сделанных Глотис, и Дидамия поначалу не поняла, зачем они нужны.
Ведь она без труда и в таком виде сразу же узнала при свете многочисленных факелов знакомые фигуры Сапфо, Филистины, Глотис, остальных подруг.
Что уж тогда говорить о ней самой, которая была почти на голову выше остальных женщин.
Но когда кто-то из слуг вручил и помог Дидамии тоже надеть маску, сделанную их проклеенной ткани, она сразу же поняла смысл задумки Алкея.
В маске Дидамии вдруг показалось, что, несмотря на рост и крупное телосложение, она сразу же сделалась невидимой для остальных, сумев каким-то загадочным образом без остатка спрятаться за свой маленький расписной щит с прорезями для глаз, зато имела возможность спокойно наблюдать за остальными.
Великие боги, в таком виде можно было делать все что угодно, не боясь вызвать осуждения окружающих.
Дидамия вспомнила разговор с Эпифоклом и почувствовала в душе ликование: она была свободной!
Нет, она больше даже в душе не была рабыней, и это было настоящее счастье!
Впрочем, Дидамия поняла по всеобщему возбужденному настроению, что все остальные на поляне тоже сгорали от нетерпения поскорее выплеснуть в танце переполняющие их эмоции и уже делали это, не дожидаясь каких-либо состязаний.
Ночные, свободные танцы сейчас могла видеть только луна, Селена, так как все дневные боги наверняка мирно почивали, успокоенные, что люди не забыли про них даже среди ночи и приносят щедрые жертвы в виде сытного кабаньего мяса, предварительно вымоченного в винном уксусе.
Запах жареного мяса смешивался с запахом фимиама, ладана, смолы от факелов и уносился к звездному небу.
Туда же уносились и звуки тимпана — бубна из туго натянутой бычьей кожи, а также звонких металлических тарелок, которые порой даже несколько заглушали слова гимна, посвященного Гекате.
Я придорожную славлю Гекату пустых перекрестков. Сущую в море, на суше и в небе, в шафранном наряде. Ту, примогильную славлю, что буйствует с душами мертвых…[30] —подхватила и Дидамия вместе со всеми слова мрачноватого гимна, славящего Гекату — богиню темноты, ночных видений и чародейства, не слишком заботясь о правильности мотива.
Среди простых, малограмотных людей Геката считалась сестрой Артемиды и тоже в каком-то смысле охотницей по ночам в лесах и на кладбищах за неосторожными путниками.
Ходило поверье, что обычно Геката появлялась в сопровождении своры собак, и потому Диодора или Вифиния, заслышав среди ночи лай, вовсе не спешили сразу же открывать дверь ночному прохожему.
Но сама Дидамия все же придерживалась мнения великого Гесиода, который в своем известном богоописании под названием «Теогония» (его Дидамия мечтала когда-нибудь выучить наизусть!) называл Гекату вовсе не страшным исчадием лесов, а покровительницей ночной охоты и доброй богиней, помогающей людям в повседневных не только дневных, но и ночных трудах.
…Кормилица юношей, нимфа-вождиня, Горных жилица высот, безбрачная — я умоляю. Вняв моленью, гляди на таинства чистые наши С лаской к тому, кто вечно душою приветен![31] —продолжала петь Дидамия, чувствуя, что сердце ее еще больше наполняется особым, неизъяснимым чувством, которое можно было выразить именно в танце.
И Дидамия не стала больше ждать, а, не прерывая песни, тоже вышла в центр поляны, где уже танцевали многие ее подруги.
— Наше дело — пить и веселиться! — громко прокричал возбужденный Алкей. — А все остальное за нас пусть устраивает Ананке-необходимость! Она — все равно — сильнейшая!
Наверное, слова Алкея были особым сигналом, после которого специальные слуги начали спускать ведро, желая зачерпнуть воду из ручья, который протекал внизу, и затем принялись разливать воду по кубкам и разносить всем участникам.
«Зачем мне холодная вода? — удивилась Дидамия. — Может быть, Алкей хочет, чтобы мы немного остудились и начали состязание за лавровый венок?»
Но когда кубок оказался у Дидамии в руке и она из него на ходу отхлебнула, то сразу же почувствовала на губах вкус сладкого и очень крепкого вина, от которого ей сразу сделалось еще жарче и веселее.
По поляне тут же пронеслись радостные возгласы тех, кто уже тоже распробовал угощение.
Оказывается, Алкей, который обожал всевозможные неожиданности и приятные розыгрыши, посадил внизу у ручья, спрятав под насыпью, своего раба, чтобы тот налил полный большой кратер превосходного вина, а слуги привычно втянули ею наверх, словно это была вода.
Вообще-то Дидамия принадлежала к той породе разумных и правильных женщин, которые больше получали удовольствие от работы, а не от развлечений и с трудом входили в настоящий экстаз.
Зато уж если это вдруг случалось, то было что-то непередаваемое!
В какой-то момент Дидамия вовсе потеряла всякое представление о времени и даже о том, где и почему она находится и по какому поводу происходит ночная оргия.
Временами она танцевала возле костра, но вдруг обнаруживала себя возлежащей на траве и жующей аппетитные куски мяса, которые держали перед ней молчаливые слуги.
Или с удивлением разглядывала у себя в руках пригоршню очищенных орехов, которые Алкей приказал всем участникам «фаоний» раздавать для быстрого подкрепления сил.
«Иэ! Иэ! Пеан! Пеан! Да будет с нами радость!» — раздавался со всех сторон на разные голоса клич, призывающий Аполлона, которого называли также Пеаном — помощником в радости и беде.
Но обычно эти возгласы означали, что Аполлон должен послать людям песню, и Дидамия тут же узнала среди прочих голосов высокий, сильный голос Филистины, казалось, действительно способный долететь до неба.
Близ луны прекрасной тускнеют звезды, Покрывалом лик лучезарный кроют, Чтоб она одна всей земле светила Полною славой…[32] —узнала Дидамия песню Сапфо, которая была особенно уместна в полнолуние, и удовлетворенно прикрыла глаза, наслаждаясь прекрасным пением подруги, но потом снова не выдержала и начала танцевать.
Иногда Дидамии казалось, что наступил рассвет, но потом она видела, что просто костры разгорелись настолько сильно, что на поляне становилось светло, как днем.
Порой ей начинало даже мерещиться, что статуи богов тоже начали танцевать, перебегать с места на место и прятаться между деревьев — но скорее всего это было из-за постоянного мелькания факелов перед глазами.
И тогда Дидамия забегала в темноту, чтобы их отыскать, боясь, что они за что-нибудь прогневаются и покинут праздничную поляну.
Почему-то ей, как никогда, снова хотелось всех учить, только на этот раз как пить вино, или как правильно нужно танцевать, и даже если Дидамия видела кого-то из подруг выбившимися из сил, она снова тащила их в круг и показывала, что не нужно прерывать веселья.
В какой-то момент Дидамия совсем близко увидела ярко освещенного факелом Алкея.
Поэт сидел на траве возле костра и что есть силы стучал в бубен, то поднимая его над головой, то прижимая к груди, и тогда казалось, что громкие звуки, разносившиеся на весь лес, берут начало откуда-то из недр его тела.
Волосы Алкея совершенно растрепались и теперь были повязаны широкой повязкой — традиционным атрибутом кутежей. Мало того, теперь Алкей был совершенно наг, и его плечи прикрывала лишь нарядная накидка, а все прочие части тела были нарочно открыты для всеобщего обозрения, и подобное одеяние сейчас показалось Дидамии прекрасным и чуть ли не единственно уместным для такой ночи.
— Нас видит лишь луна, добрая Селена, но она все равно умеет глядеть сквозь одежду! Так что лучше всего ее снять, как я! — воскликнул Алкей, отхлебывая вино из длинного охотничьего рога, и Дидамия незамедлительно последовала его совету и, сбросив с себя одежду, действительно мешавшую танцу, принялась под звуки тимпанов исполнять возле костра новую, безумную фантазию раскрепостившегося тела.
Скорее всего, Алкей для «фаоний» придумал какую-то особую программу, но он не учел, что действие так быстро приобретет самостоятельный, стихийный, но по-своему отлаженный ритм.
Кто-то из женщин, уставая, отходил в сторону выпить вина и тут же получал на вертеле кусок дымящегося мяса, или какие-нибудь другие яства, которыми можно было быстро подкрепить силы, а другие, наоборот, уже отдышавшись, снова выходили в круг на середину поляны и начинали в отсветах костра новый, но словно один и тот же бесконечный танец.
Краем глаза Дидамия заметила Леонида, на его плечи, как у Геракла, была накинута львиная шкура, впрочем сцепленная спереди таким образом, что богатырь вовсе не казался обнаженным — мореплаватель постоянно старался держаться поближе к Филистине.
Дидамия плясала то вместе с Сапфо, то рядом с Филистиной, которые были в коротких, полупрозрачных одеяниях, то сцепившись руками с Глотис и обнаженной, худенькой, как восковая свеча, ее подружкой Гонгилой.
— Геката! Расступитесь, к нам идет сама Геката! — вдруг прокричал, перекрывая звуки барабанов, Алкей. — Расступитесь!
И Дидамия с изумлением увидела, как в центре поляны появился Фаон, одетый в черный хитон с серебристой каймой, и на нем был парик, сделанный из длинных черных волос.
На Фаоне не было маски, но лицо было так искусно загримировано, что его трудно было отличить от лица женщины, причем до жути красивой.
И без того черные брови и ресницы юноши были окрашены сернистой сурьмой и казались чернее ночи, на губах блестела красная помада, словно полуночная богиня где-то уже успела нализаться крови.
Как настоящую Гекату, Фаона сопровождали три охотничьи, пятнистые собаки, которые при виде многолюдного и странного зрелища сразу же начали громко лаять, рваться с поводков, как безумные, и чуть было не затащили бедного Фаона в пылающий костер.
Впрочем, четвероногих спутников богини ночи скоренько перехватили слуги, и стало слышно, как псы с урчанием принялись терзать возле костра большие куски мяса и разгрызать кости.
— О, красавица наша Геката! — закричал кто-то при виде Фаона, и на поляне еще отчаяннее грянули бубны, и еще больше появилось обнаженных женских тел.
— Смотрите, какая на небе полная луна! — произнес кто-то, и Дидамия тоже поглядела наверх, правда, с трудом поднимая тяжелую, гулкую голову. — Она глядит прямо сюда, на нас!
Над темными верхушками деревьев безмолвно висел полный диск луны, который, казалось, безмолвно примостился как раз ровно над праздничной, громыхающей поляной, словно нацелив на людей огромный, немигающий глаз.
«Гекате» поднесли полный кубок вина, после чего Фаон тоже начал, как безумный, кружиться между костров, издавая звонкие крики и прихлопывая в ладоши.
Фаон, оказывается, прекрасно умел танцевать и обладал удивительной природной грацией, так что скоро вокруг юноши образовался кружок пританцовывающих на месте женщин, желающих насладиться приятным зрелищем.
— О нет, это не Геката, это — Эндимион, возлюбленный луны, нашей Селены. Ну же, не прячься, Фаон! — продолжал громко командовать Алкей, дирижируя в воздухе сразу двумя резными охотничьими кубками, наполненными вином. — Докажи, что ты все же мужчина! Зачем тебе одежда?
И Фаон без всякого стеснения тоже сбросил с себя во время танца одежду, представ перед женщинами в прекрасной наготе юности.
— А кто же здесь Селена? Кто исполнит такой танец, по которому Эндимион сможет сразу узнать свою возлюбленную? — вскричал Алкей, продолжая воплощать в жизнь свои безудержные фантазии. — Нет, нет, танцуйте, не останавливайтесь, он сам отыщет Селену…
Дидамия, которая уже начала выбиваться из сил, увидела, что многие танцующие женщины пришли после слов Алкея в настоящий экстаз и с новой силой закружились по поляне.
— Селена! Се-е-е… на… — громко разносилось по темному лесу, откуда наверняка сегодняшней ночью в страхе разбежались все звери.
Дидамия в изнеможении прикрыла глаза и прислонилась спиной к стволу могучего бука, который оказался теплым от близкого огня, словно это было тело человека.
Сквозь ветви дерева на черном, но уже немного красноватом небе были видны редкие звезды, и Дидамии показалось, что кто-то ласково погладил ее по голове, словно призывая успокоиться и присесть у подножия.
Должно быть, это была безмолвная дриада, живущая внутри бука, которая нынешней ночью тоже не смогла ни на минуту заснуть.
Дидамия послушно присела на траву, почувствовав, что у нее уже начали вовсе слипаться глаза.
Но она еще могла расслышать крики на поляне:
— А сейчас будет игра! — громко надрывался Алкей: он уже сам не мог приподняться и возлежал на земле.
В отблесках костра поэт казался как никогда вдохновенным, прекрасным и на редкость пьяным:
— Сделаем лучше так: кого догонит наш Эндимион, тот и будет этой ночью его возлюбленной! Раз, два, три!..
Дидамия только успела поморгать глазами, а на поляне уже никого не было, кроме слуг и Алкея, который при всем желании не мог подняться на ноги, зато остальные женщины врассыпную, с визгом бросились в лес.
— Пойдем, милая, я уложу тебя в кровать, — проговорила дриада, и Дидамия увидела, что у лесной нимфы было темное, морщинистое лицо, напоминающее кору старого дерева, но при этом еще оно имело внешние черты служанки Диодоры. — Ишь, как вы тут все закружились, хоть бы кто водицей вас сверху окатил и угомонил поскорее. Я и то с вами пойду домой, словно на целый год состарившись.
И Дидамия с радостью послушалась ворчливой дриады, поняв, что лично для нее праздник уже закончился и пришла пора отдохнуть, и при этом привычно подумав, что таким образом она покажет пример здравого смысла остальным подругам.
Впрочем, где они? Куда вдруг все разом пропали?
…А Филистина, как только забежала в лес и сделала несколько шагов, тут же почувствовала, как ее схватили сзади чьи-то крепкие руки и повалили в траву.
Она обернулась и увидела, что это был Леонид, который быстро и как-то деловито сбросил с себя львиную шкуру, расстелил на земле, сделав теплое ложе, и молча переложил на него Филистину.
Теперь могучее тело Леонида было полностью обнажено и дрожало от возбуждения, как у быка, охваченного дикой страстью, так что Филистина поняла, что сопротивляться такому натиску бесполезно.
Да после столь бурной ночи у нее и не было на это никаких сил!
— Ах, но ты же не… — только и успела сказать Филистина, но дальше ее рот оказался залеплен властным поцелуем Леонида, а тело занялось огнем, словно его тоже уже бросили в жертвенный костер.
Сапфо же, услышав клич Алкея, нарочно побежала совсем в другую сторону, нежели все остальные женщины, вовсе не желая участвовать в общей игре.
«Нет, любовь — это не игра, не догонялки, не…» — шумело в ушах у Сапфо, когда она добежала до полянки, залитой тихим, лунным светом.
Вначале, когда Сапфо только что оказалась в лесу, с непривычки ей показалось между деревьями кромешно темно, и она бежала, не различая дороги.
Но теперь, когда глаза немного привыкли к темноте, Сапфо узнала хорошо знакомые места и обрадовалась.
Ну, конечно, это был тот самый берег ручья, где Сапфо впервые увидела на рыбалке Фаона, и она очутилась здесь так быстро, потому что бежала с пригорка в низину.
Сапфо немного отдышалась и решила, что пора возвращаться на место праздника, а лучше всего — сразу отправляться домой.
Наверное, ее давно ждет Сандра.
Интересно знать, что она этой ночью нагадала, снова запершись от всех в своей комнате?
Сапфо представила уже, как приятно будет сейчас очутиться в мягкой постели, отдающей ароматом роз, — многоопытная хозяйственная Диодора всякий раз старалась под конец стирки полоскать белье в цветочной, розовой воде.
И Сапфо свернула на тропинку, которая быстрее всех должна была привести ее к дому, сделала по ней несколько шагов и… не поверила собственным глазам, когда увидела перед собой Фаона.
— Вот… догнал… Селену… — запыхавшись, проговорил Фаон, нетерпеливо хватая Сапфо за кисти рук.
Сапфо поняла, что все это время Фаон бесплодно гонялся по лесу и уже потерял надежду кого-либо изловить — потому-то юноша так крепко и схватил ее за руки, словно поймал долгожданную добычу.
Сапфо мысленно поблагодарила богов, что до сих пор не сняла маски, которая за время праздника словно приросла к лицу, и поэтому могла сейчас остаться неузнанной.
Тем более Фаон глядел на Сапфо какими-то дикими от возбуждения, неузнавающими глазами и был похож на слепого, который умеет узнавать людей и предметы только наощупь.
Наверное, это странное ощущение еще больше усиливал грим на лице Фаона — для большего эффекта его веки были подкрашены мелко истолченной медной зеленью, смешанной с каким-то светящимся, фосфористым веществом, и от этого глаза юноши в темноте казались глубоко ввалившимися и — совершенно незрячими.
— Моя, все, ты теперь моя, — проговорил Фаон, и по его интонации Сапфо поняла, что он ее не узнал, а обращается вообще к женщине, к любой, какой-то бы то ни было женщине, которую он выиграл, и потому она должна сейчас утолить его желание.
Фаон по-прежнему был совершенно наг.
К потному плечу юноши во время быстрого бега лишь прилип дубовый листок, казавшийся на теле узорным клеймом.
«Подайте-ка мне сюда этот «глотис», мне из него хочется выпить», — неожиданно, совершенно не к месту вспомнила Сапфо, почувствовав, как жадно и нетерпеливо облизывают уже ее тело горячие губы юноши.
— Кто ты? Кто ты? — бессмысленно твердил Фаон, нетерпеливо тычась губами в женскую грудь, хотя Сапфо чувствовала, что на самом деле ему совершенно не важно знать ответа на этот вопрос, а хочется просто как можно скорее целиком приникнуть к женскому телу.
Сапфо поняла, что если она скажет хоть слово, то выдаст себя и Фаон тут же испугается и отпрянет — ведь он относился к ней с уважением и особенным почтением, которые в таких делах, как любовь, были плохими союзницами.
И тогда она приложила к горячим, жадным губам Фаона палец и опустилась на землю, показывая, что согласна на все, кроме разговоров, совершенно на все…
Она не знала, что Фаон будет делать дальше, и потому немало удивилась, когда юноша набросился на нее со спины, как урчащий звереныш, сладострастно вскрикивая и вонзая в нее свой фалл, словно копье или трезубец, и пронизывая до костей тело Сапфо сладкой болью и диким ответным желанием.
— О! Еще, еще! — приговаривал свистящим шепотом Фаон, который стоял коленями на земле и то обхватывал тело Сапфо, то победно распрямлялся, словно выныривая из волн.
А для Сапфо шепот юноши сейчас сливался с шумом близкого ручья, словно протекавшего у нее сквозь ребра, позвонки, кости и стремительно несшего ее куда-то дальше — еще! еще! — дальше, в такие счастливые края, словно это была наконец-то найденная страна гиперборейцев.
Только вода в этом невидимом ручье почему-то была теплой, как кровь, а в моменты, когда Фаон внезапно застывал — даже делалась нестерпимо горячей.
Впрочем, замерев всего на несколько мгновений, Фаон вдруг начинал свое плавание снова и снова, так что Сапфо порой казалось, что еще немного — и она окончательно захлебнется в бурлящем потоке, и лишь каким-то чудом ей всякий раз удавалось из него выныривать.
И тогда снова становились видны вокруг темные ветки кустарников и опавшие листья под руками, которые уже по-осеннему пахли грибами, сыростью, скорым тлением.
Но сама Сапфо знала, что в эту минуту ни опавшие листья, ни раздумья о старости или безвозвратно уходящем времени не имеют к ней никакого отношения.
Сегодня, пусть всего на несколько мгновений, в руках Фаона, она была вечным, бессмертным существом.
Как луна, сияющая на небе Селена, с любовью глядящая на дивный, устроенный в ее честь праздник.
— Но… но — кто ты? — снова спросил Фаон, который наконец-то все же совершенно обессилел от страстного плавания на спине неведомой женщины. — Скажи, ведь ты теперь всегда, всегда будешь только моей?
— Да… — еле слышно прошептала Сапфо.
И, почувствовав, что Фаон теперь по-настоящему устал и немного отстранился, Сапфо быстро выскользнула из его рук и метнулась в кусты.
Впрочем, она могла теперь не слишком торопиться, потому что знала, что сейчас Фаон ее догонять и преследовать не будет.
Просто пока не сумеет.
Глава восьмая О ГИМЕН, ГИМЕНЕЙ!
Утром Сапфо очнулась от настойчивого стука в дверь своей спальной комнаты.
— Вставай, моя госпожа, неожиданная радость! К нам явилась ненаглядная ягодка, наша вишенка! — услышала она по-молодому счастливый голос служанки Диодоры.
Никаких сомнений быть не могло — приехала дочь Клеида.
Только одну Клеиду на всем белом свете, за врожденную смуглость кожи, Диодора называла «своей ненаглядной, сладенькой вишенкой».
Диодора обожала девочку еще с тех дней, когда крепко держала ее на своих руках, на корабле, плывшем от Сицилии к Лесбосу.
Сапфо до сих пор помнила, как Диодора заунывно, с утра до вечера молилась по очереди всем олимпийским богам, и даже на всякий случай каким-то нездешним кабирам, считающимся покровителями мореплавателей, лишь бы судно благополучно добралось до берега и малышка по пути не захворала.
Сапфо вскочила с постели и тут же начала быстро, наспех одеваться и причесываться.
Действительно — неожиданная радость!
Но вообще-то Клеида не собиралась приезжать в ближайшее время.
Может быть, наоборот, дома случилось какое-нибудь несчастье?
Только вот с кем — с матерью? С отцом? С братом Хараксом?
В последнее время отец Сапфо — почтенный Скамандроним сильно хворал, и от него буквально не отходили митиленские врачи, и даже деревенские знахари.
Но как только Сапфо вышла в общий зал и увидела спокойное, как всегда, несколько строгое, но вместе с тем улыбающееся лицо своей дочери, она тут же успокоилась.
— Здравствуй, моя радость, — сказала Сапфо, расцеловывая дочь в обе щеки. — Ты прилетела так рано с какими-нибудь новостями? Надеюсь, не слишком плохими?
— А разве рано? — удивилась Клеида, по привычке слегка отстраняясь от чрезмерно пылких нежностей матери. — У нас в Митилене все люди давно уже встали, зато в твоем доме почему-то всегда спят до обеда как убитые.
И Клеида с нескрываемым осуждением оглядела комнату, в которой все еще виднелись следы вчерашнего праздника — повсюду были разбросаны маски, венки, музыкальные инструменты, кратеры с недопитым вином, а затем перевела строгий взгляд на нерадивую старую служанку и на свою беспечную мать.
Вчерашний праздник действительно продолжался до утра, и Диодора с Вифинией тоже хватанули на нем немного лишнего винца и только теперь через силу начали еле-еле хлопотать по дому.
А все другие участники вторых «фаоний» могли и вовсе пробудиться не раньше вечерней зари.
Зато бодрая, подтянутая Клеида, по-видимому, уже с раннего утра была на ногах.
Сапфо с удовлетворением отметила, что во всех отношениях правильная дочь сегодня приехала не одна (Сапфо категорически запрещала Клеиде выезжать за город в коляске одной, опасаясь лесных разбойников, о которых любила толковать Диодора), а в сопровождении двух молодых, рослых рабов — они тут же оставили хозяйку с матерью и исчезли из вида.
Признаться, Сапфо слегка устыдилась замечания дочери, тем более что находила его вполне справедливым.
— Ах, Клеида, у нас вчера был большой праздник, «фаонии», в честь молодого человека, который на днях отбывает на чужбину, и потому… — начала было Сапфо, но остановилась на полуслове и покраснела, с неожиданной отчетливостью вспомнив, чем для нее самой этот праздник вчера закончился.
Диодора как раз что-то разливала по кубкам, приговаривая, что доченька притомилась с дороги, и тихо ругая Вифинию, которая проспала обещанные на утро пирожки, а Сапфо услышала в звуках смешиваемого с водой вина что-то наподобие близкого ночного шума ручья и непроизвольно закрыла от стыда лицо руками.
— Что с тобой, мама? Тебе плохо? — испугалась Клеида, но тут же добавила: — Нет, все же не случайно бабушка и дедушка говорят, что сплошные праздники до добра не доводят. Мало того, что вы тут отмечаете все общепринятые праздники, но еще к тому же постоянно выдумываете свои, в честь людей, и совсем уже закружили себе, и даже олимпийцам, головы.
— Правильно говорит моя ягодка, — куда-то в пространство кивнула Диодора, потирая до сих пор подозрительно красный после вчерашних возлияний нос. — Я то же самое всегда говорю. Но разве в этом доме кто-нибудь слушает старуху? Пусть хоть моя девочка скажет истинную правду.
— И вообще — у вас тут что, Сапфо, уже наступила весна, и вы справляли весенние антестерии в честь Диониса? — не хотела униматься Клеида. — Я сужу по тому, что по всему дому валяются странные маски, которые, как правило, используются только на этом празднике. Наверное, у вас был как раз «день открытия бочек»? А вот это я уже могу заключить по красному носу нашей Диодоры, словно она как следует прополоскала его в вине. И еще по тому, что все обитатели дома, несмотря на полуденное солнце, начисто вымерли.
— Но, дочка, это Алкей… он устроил нам праздник, — пробормотала Сапфо, который раз в своей жизни чувствуя себя перед родной дочерью чем-то вроде провинившейся ученицы.
— О, так здесь снова Алкей? — удивилась Клеида и, к счастью, сразу же переключилась на другое: — Надеюсь, мама, ты все же примешь его предложение о замужестве, ведь так? Всякий скажет, что ты и Алкей — словно два сандалия с ног одного человека.
— О, не знаю…
— И напрасно! Ведь тебе же это только выгодно, мама! По крайней мере, Сапфо, тогда про тебя хотя бы перестали ходить по всему острову самые невообразимые слухи! На твоем месте я бы уже только из-за одного этого сочеталась законным браком с Алкеем. Тем более он во всех отношениях отличный жених — и по богатству, и по уму, и по знатности рода, и по красоте.
— Но, Клеида, пока что я нахожусь на своем месте, а ты — на своем, — мягко напомнила Сапфо. — И тебе пора думать о своих женихах, мое солнце. А то иногда мне начинает казаться, что ты — моя мама, а я — твоя неразумная дочка.
— И мне тоже, Сапфо, — покачала головой Клеида.
Сапфо знала, откуда дул такой ветер — Клеида очень много времени проводила с бабушкой и дедушкой, которые если открыто и не осуждали образ жизни дочери, но все же считали его совершенно непонятным, по крайней мере, не таким, как у всех нормальных людей.
Конечно, Сапфо несколько извиняла и прикрывала ее повсеместная известность, но даже слава не могла в полной мере примирить родителей со «странностями» дочери.
Увы, старая Клеида, а особенно Скамандроним относились и к стихам Сапфо, и к ее подругам с изрядной долей осторожности и недоверия.
Разумеется, они знали, что не в меру независимая дочь вместе с несколькими подругами содержит в Митилене всеми весьма уважаемую школу, где юные девушки из наиболее знатных семей проходят необходимую подготовку перед тем, как выйти замуж, — учатся писать, излагать вслух свои мысли, играть на различных музыкальных инструментах, рисовать.
Среди столичных женихов даже сделалось модным интересоваться у родителей невесты, была ли его избранница ученицей в школе у Сапфо, что считалось верхом образованности и состоятельности.
Но вместе с тем вокруг школы Сапфо, как бывает всегда, когда речь идет о каком-то более-менее приметном явлении, ходило множество самых разных слухов, от которых у почтенного Скамандронима порой то краснели, то леденели уши.
Он вообще старался пресекать любые слишком уж игривые или просто непонятные разговоры про свою известную дочь, всякий раз терпеливо поясняя, что Сапфо поступает так, как велят и диктуют ей сверху Музы, но в кругу своей семьи, а часто и в присутствии маленькой Клеиды, давал волю всем своим сомнениям и накопившемуся раздражению.
Любимый афоризм, который любил без устали повторять старый Скамандроним, и даже приказал вырезать его на камне своего дома, гласил: «Живи незаметно!»
Но получалось, что собственная дочь буквально вытаптывала своими ногами эту мудрую надпись на камне, и порой у Скамандронима складывалось ощущение, что Сапфо вообще была самой заметной фигурой не только во всем городе, но и на Лесбосе.
А нужно ли это, и тем более — женщине?
Именно про Сапфо чаще всего говорили во время праздников в знатных домах и просто на рыночной площади, везде пели ее песни, рассказывали какие-то непонятные вещи про женскую любовь, распространяли слухи про ее чуть ли не ежедневно меняющихся любовников, и даже любовниц.
Поэтому и дочь Сапфо, несмотря на любовь к матери, относилась к ней с некоторой долей осторожности, решив про себя, что ни за что не должна быть на нее похожа, и собираясь прожить жизнь так, как полагается добропорядочной, честной женщине.
— Ты и вправду заболела, мама? — спросила Клеида, видя, что Сапфо продолжает держаться руками за голову.
— Нет, мне хорошо, дочка, — быстро справилась Сапфо со своими чувствами. — Это от неожиданной радости. Я очень рада тебя видеть. Скажи, как поживают мои родители, брат? Все ли в порядке дома?
— Нормально, только все с неохотой думают о скорой зиме, — кивнула Клеида. — Дедушка говорит, что от холода все его болячки словно просыпаются и начинают кричать дурными голосами, зато на лето впадают в спячку. Всякий раз он боится не пережить новой зимы. Вообще-то я тоже не люблю холодные ветры и морозы.
— Но зато мне есть за что любить зиму. Скоро я вернусь в свой дом в Митилены, и ты снова будешь жить вместе со мной, а не с дедушкой и бабушкой.
— Посмотрим, — уклончиво ответила Клеида.
— Что ты имеешь в виду? — сильно удивилась Сапфо. Потому что так было всегда — зимой и весной Клеида жила с матерью в доме, который одновременно считался также школой, а на лето, когда Сапфо уезжала за город, дочка перебиралась к деду и бабушке.
Клеида говорила, что ей требуется отдых от звуков кифары, но особенно от громкого, учительского голоса Дидамии, который напоминает ей звуки многоствольной трубы — сиринги.
— Но я ведь уже стала взрослой, мама, — спокойно ответила Клеида, и Сапфо не нашла, что возразить.
Действительно, Клеиде недавно исполнилось семнадцать лет, и она превратилась в высокую девушку, с красивыми, правильными чертами смуглого лица — внешне она явно пошла в отца.
А когда Клеида смотрела в сторону, то Сапфо и вовсе снова видела перед глазами забытый чеканный профиль, правда не столь горбоносый и мужественный, как у Керикла.
Впрочем, характеру Клеиды тоже была в какой-то степени присуща отцовская резкость, совершенно чуждая самой Сапфо, которая умела находить особую красоту и прелесть именно в различиях людей и любить в них прежде всего непохожесть друг на друга и на себя.
Клеида же упрямо старалась смотреть на мир глазами строгими — глазами бабушки и дедушки, которые были для нее образцом человеческого поведения и отношения друг к другу, и изменить этот взгляд было очень трудно, если вообще возможно.
Сапфо часто с ностальгией вспоминала то золотое время, когда Клеида была еще совсем доверчивой малышкой и только-только начинала задавать первые вопросы, допытываясь, откуда приходят солнце и дождь, зачем богам, словно котятам, во время праздников на камешки льют молоко, и заранее соглашаясь с любым ответом.
А потом к тому же смешным, детским голоском пересказывала все полученные новости своей тряпичной кукле, строго шлепая ее в том случае, если та недостаточно внимательно ее слушала и «вертела головой».
От тех времен осталось лишь несколько стихотворений, и одно из них сейчас пришло Сапфо на память.
Сапфо написала его после того, как Клеида несколько дней подряд упрашивала мать, а потом и бабушку купить ей точь-в-точь такую же шапочку, которую она увидела на одной девочке, недавно приехавшей из далекой Лидии:
Ты же велишь мне, Клеида, тебе достать Пестро шитую шапочку Из богатых лидийских Сард (что прельщают сердца митиленских дев). Но откуда мне взять, скажи, Пестро шитую шапочку?[33] —задумчиво прочитала вслух Сапфо, с нежностью глядя на свою выросшую Клеиду — цветущую, взрослую девушку, черные волосы которой сейчас были повязаны ярко-красной, искусно скрученной лентой.
Именно такую прическу всю жизнь неизменно носила и мать Сапфо, Клеида-старшая, до сих пор продолжая по-особому скрученными, красными лентами убирать свои густые, но совсем уже белые волосы.
А может быть, нужно было лучше все-таки купить тогда Клеиде необычную, броскую шапочку, а не отделываться забавными стишками?
— Нет, я не ношу никаких шапочек, мне они не идут, — с серьезным видом качнула гордой головкой Клеида, и Сапфо поняла, что дочка успела забыть давнее стихотворение.
Да, что и говорить — то время, когда они с дочкой сидели в обнимку возле очага, шепотом рассказывая друг другу сочиненные на ходу сказки, и словно составляли одно нерушимое целое, вернуть при всем желании уже невозможно.
И Сапфо вдруг на доли секунд почувствовала себя совсем старой, древней старухой, у которой все лучшее в жизни уже позади, и от этого лучшего остались теперь только одни воспоминания.
Да и весь вчерашний праздник, не говоря уже о сцене с Фаоном, показался Сапфо невыразимо далеким, забытым прошлым, хотя на самом деле с этого времени солнце еще не успело сделать на небе один полный круг.
Сапфо вздохнула и снова провела ладонью по своему лицу, удивляясь, что не чувствует под рукой сетки глубоких морщин, а лишь тепло гладкой, совсем еще молодой на ощупь щеки.
Мало того, ей даже почудилось, что после вчерашней ночи у нее никак до сих пор не сойдет с лица подозрительный румянец.
— А ты сегодня очень хорошо выглядишь, Сапфо, — сказала Клеида. — И даже чем-то напоминаешь сегодня невесту. Многие говорят, что внешне ты похожа не на мою мать, а скорее на сестру или подружку, и даже пытаются вызнать у меня секрет твоей долгой молодости. Может быть, ты делаешь протирания лица какими-нибудь специальными мазями или отварами? А еще я слышала, что одна из твоих подруг — настоящая колдунья, и это она специальными наговорами не дает тебе стареть.
— Но… кто-то просто шутит, дочка.
— Не знаю, так говорят многие люди. И все же как-то странно, — пожала плечами Клеида. — У всех моих подруг матери солидные, степенные женщины, занимаются домашним хозяйством, следят за слугами и рабами. А у тебя, мама, даже конюх еще спит после вчерашнего праздника, хотя его не должны касаться дела и развлечения знатных людей. У тебя здесь вечно какая-то путаница и беспорядок — наверное, потому что в доме нет мужчины, который все бы расставил по своим местам.
Глядя на помрачневшую мать, Клеида не стала сейчас говорить, что вообще-то ей постоянно задают множество и других вопросов относительно личной жизни и даже самых мелких привычек Сапфо, вплоть до того, какие запахи та любит, какой цвет туники считает для себя наилучшим, и сколько вина предпочитает пить за завтраком, а сколько — вечером, и в каких пропорциях его при этом разбавляет.
Мало того, как только кто-либо из новых знакомых Клеиды узнавал, что перед ними — дочь той самой, легендарной Сапфо, они тут же теряли всякий первоначальный интерес к девушке и начинали засыпать ее вопросами о матери.
Что и говорить — это с каждым годом взрослеющую Клеиду раздражало все больше и больше и порядком задевало молодое самолюбие.
И Клеида выработала для себя способ защиты, встав на позицию родителей Сапфо, — относиться к матери несколько покровительственно, как к неразумному ребенку, все время подчеркивая ее провинности.
Вообще-то Сапфо не терпелось узнать, что привело сегодня дочь в здешние края, но она боялась помешать Клеиде неосторожным вопросом.
И, самое главное, в душе у Сапфо теплилась слабая надежда: а вдруг Клеида наконец-то приехала просто так, без какого-либо дела или серьезного повода?
Потому, что просто соскучилась и захотела повидать маму: разделить вместе трапезу, посидеть вдвоем в беседке, погулять по лесу…
Именно так запросто могла бы поступить любая из подруг Сапфо, кто давно привык чутко прислушиваться к себе и жить исключительно собственными чувствами, не находя в этом ничего позорного и необычного.
Сапфо надеялась, что когда-нибудь и Клеида поймет, какое это счастье — поступать по подсказке сердца, а не только следуя законам здравого смысла и житейской целесообразности.
Сапфо казалось, что любая из ее подруг, которая открывала в себе такую способность, сразу же словно делала долгожданный глубокий вздох и покидала тесную и темную комнату, наконец-то выходя на свет.
Ведь она видела, как у женщин сразу же начинали пробуждаться самые невероятные таланты, о которых они раньше вовсе не подозревали, и при этом подруги даже внешне на глазах хорошели и наполнялись цветущей радостью жизни.
Но Клеида своим упрямством и твердостью характера была слишком сильно похожа на Керикла.
Вот и теперь она моментально охладила пыл Сапфо, спокойно проговорив:
— Я приехала к тебе сегодня по важному семейному делу, мама. Дедушка сказал, что я непременно должна с тобой поговорить.
— Я слушаю, — вздохнула Сапфо.
Нет, все же не зря Надежда считается хоть и крылатой богиней, но вместе с тем совершенно слепой, и слишком часто тычется туда, куда ее никто не зовет!
— Это очень важное дело, Сапфо, и даже сразу два дела… — начала было Клеида, но тут в доме послышался страшный шум и в комнату в совершенно неприглядном виде вбежал Эпифокл, громко выкрикивая на ходу неприличные ругательства.
Туника философа была надета задом наперед и к тому же плохо завязана, так что вот-вот грозила свалиться на пол, и старик поддерживал ее по бокам двумя руками.
— Воры! В доме воры! Меня обокрали! — вопил Эпифокл дурным голосом. — Гнусные воры! Пока я спал, кто-то украл мой мешок с золотом! И я догадываюсь, кто этот негодяй!
Сапфо не успела ничего сообразить, как Эпифокл быстро пронесся мимо нее, распространяя на своем пути едкий запах чеснока, который философ обычно употреблял перед сном с целью поддержания здоровья и заботы о долголетии.
— Что такое? Кто этот безумец? — испуганно вскочила с места Клеида. — Сапфо, что здесь у тебя происходит?
— О, это великий и мудрейший человек, дочка, — только и нашлась ответить Сапфо. — Его знает весь ученый мир.
Впрочем, Сапфо тоже ничего не понимала и удивилась еще больше, когда Эпифокл неожиданно выволок из гостевой комнаты совершенно сонного и всклокоченного Фаона и принялся его дубасить кулаками.
Сапфо не знала, что после праздника и Фаона, и Алкея — обоих практически бесчувственных! — слуги перетащили с поляны под утро в общую комнату для гостей.
— Я знаю, это он! — кричал Эпифокл, вцепившись в белые кудри Фаона. — Говори, пакостник, куда ты подевал мое золото? Говори, пока я не привлек тебя за кражу к суду. Но только учти, что я заставлю тебя засудить по драконовским законам и прикажу по очереди отрубать все части твоего красивого тела, пока ты не умрешь мучительной смертью! А начну с того пальца, который растет у тебя между ног!
Что? Кто? Что? — непонимающе крутился в разные стороны Фаон, стараясь вырваться от Эпифокла, но, наконец, не выдержал и так шибанул локтем своего обидчика, что философ полетел кубарем в дальний угол, сшибая на пути скамейки и напольные вазы.
Чего тебе от меня надо, дурной старик? — вскричал Фаон с обидой, и на его глазах были уже готовы блеснуть слезы, которые он сдерживал изо всех сил.
Сапфо взглянула на ошарашенного, разгневанного юношу и, заметив в его волосах запутавшуюся с ночи травинку, снова закрыла лицо руками, правда, теперь ее жест со стороны был похож на сильный испуг.
— Можешь даже не отпираться! — сказал Эпифокл, кряхтя и поднимаясь из угла. — И пусть боги, которые нас сейчас видят, и все люди, что находятся в этой комнате, будут моими свидетелями. Ты, Фаон, украл мое золото! Хм, хм, и теперь, мерзавец, лучше не отпирайся, а подобру-поздорову отдавай назад мой мешок, и тогда мы, может быть, сумеем полюбовно замять твой великий грех.
В комнате, куда на шум сбежались люди, в том числе свои и чужие слуги — большие охотники до скандалов и драк — раздались удивленные ахи и охи.
— О каком мешке ты толкуешь, Эпифокл? — спросил Алкей, тоже появляясь из своей комнаты и зевая спросонок. — О том самом, что ты носил вместо своего пуза? При чем тут Фаон? По-моему, сейчас твой живот с сокровищами вместо кишок у тебя на месте.
Даже после вчерашней невероятной пьянки Алкей с утра все равно выглядел достаточно бодрым и подтянутым, и лишь синяки под глазами молчаливо говорили и о некоторых излишествах, и все-таки уже не слишком юном возрасте поэта.
— Ага, как же, на месте! — вскричал Эпифокл, непристойно задирая свою тунику и показывая подсунутую под нее подушку, а вместе с тем обнажая также свои ноги и фалл, похожий на крохотную еловую шишечку.
— Ой, мама! — заморгала в испуге Клеида. — Великие боги, что делает этот человек в почтенных уже летах! И ты говоришь, что этот сумасшедший — великий муж?
— Не срамись, Эпифокл, — строго нахмурился Алкей. — Ты все же не в бане. Здесь молодые женщины.
— Ага, вспомнил! — воскликнул Эпифокл. — Я помню, хорошо помню, как вы в бане рассуждали о золоте, и Фаон пялился на меня во все глаза. А сегодня мой мешок пропал. Но, клянусь, вы мне все, все вернете мое богатство! Не думайте, что меня можно одурачить, как самого последнего раба! Нет, Алкей, ты не на того напал! Вы с Фаоном сговорились!
В комнате начали появляться и другие женщины, перепуганные душераздирающими криками, доносившимися из трапезной, — на шум прибежала Дидамия, затем показалась Глотис, из-за спины которой выглядывала дрожащая то ли от страха, то ли от холода худышка Гонгила.
Клеида смотрела на непристойную сцену с немым осуждением, неодобрительно качая головой.
— Здесь у вас еще хуже, чем в Митилене на рыночной площади в торговый день, — не удержалась она от замечания. — Неужели здесь всегда так?
— Да нет уж, лишь сегодня, да и то из-за старого пустобреха, чтоб он сквозь землю совсем провалился! — проворчала Диодора, обращаясь в пустой угол к кому-то невидимому. — Поднял зря шум во всем доме. А ведь это я взяла мешок.
— Ты? — безумным взглядом уставился на нее Эпифокл.
— А чего такого? Кто же еще?
— Но — как ты посмела, старая ведьма?
— Вон чего! Да ты же, глупый человек, сам вчера на поляне кричал, что хочешь подарить все свое богатство богине Артемиде! Разве не ты, срамник, целовал богине бронзовые коленки и называл ее любезной своему сердцу девственницей?
— Как? Я?
— Или не ты пел ей песни возле костра, если, конечно, подобные звериные вопли можно назвать пением? У меня мороз по коже пробегал, словно в ночи выла дикая гиена.
— Я? Ты что-то путаешь, неграмотная, глупая женщина, — нахмурился Эпифокл. — Нет, я не мог сказать таких слов, потому что у меня имеются насчет золота свои, совсем другие соображения.
— Да как же, путаю! — возмущенно всплеснула руками Диодора. — Не учи меня обедать! Нет, это ты, как я погляжу, совсем запутался от своей излишней учености, раз уши уже не ведают о том, что мелет твой язык! Знаем мы подобных мудролюбов, видели! На самом деле всем вам, хилосохам, только бы пьянствовать, обжираться да девок мять!
— Попридержи свой язык, служанка, — строго сказал Алкей, но Диодора вошла в такой раж, что уже никак не могла уняться.
— Ты же сам, пасть обжорная, сначала плясал под деревом, припевая, как и всегда, какую-то несусветную глупость, а потом заявил, что вроде бы хочешь стать окончательно свободным, сказал мне, чтобы я взяла мешок. Мол, пусть моя госпожа устраивает в своем доме как можно чаще праздники в честь богини Артемиды, а также в честь тебя самого, назвав их «эпифоклиями», приносит в жертву тучных тельцов, дорогие благовония и приглашает гостей, чтобы тебя все постоянно вспоминали здесь самыми добрыми словами. Тьфу, чтоб ты совсем провалился в Тартар!
— Да? — тупо переспросил Эпифокл. начиная что-то с трудом припоминать. — Конечно, может быть, я и говорил что-нибудь наподобие, но… Погоди, а что я, ты говоришь, пел?
— «А на дереве хорошем и повеситься не жаль!» — пропела Диодора на редкость противным, скрипучим голосом, передразнивая Эпифокла, и при этом сделала несколько корявых танцевальных движений, которые вызвали у окружающих невольный смех.
— Замолчи, глупая женщина! — возмутился Эпифокл. — Не раздувай мое дыхание в жаркой ярости! Говори короче: куда ты подевала мой мешок?
— Да я же просто убрала его из твоей комнаты в другую, где в углу стоит статуя Артемиды, там он теперь и лежит. И ты что же, мудродум, пойдешь теперь грабить, обирать богиню? Смотри, всемогущий Зевс тебе такого точно не простит и вступится за свою обиженную доченьку. А тем более Артемида — родная сестрица Аполлона, который, говорят, вообще не вылезает из здешних мест. Ох, смотри, хилосох, я тебя предупреждаю заранее.
— Не лезь в мою голову! — нетерпеливо прикрикнул на служанку Эпифокл. — Отдавай назад мой мешок, а дальше я со своим богатством сам как-нибудь разберусь!
— Да я же, пошли, отдам тебе твое… пузо… Грабь теперь Аполлонову близняшку, вы ведь сроду так поступаете с женщинами — будь то простые бабы или настоящие богини, — вздохнула Диодора, с неохотой вынимая из кармана связку ключей, и Эпифокл, вздыхая и понурив голову, чтобы не видеть вокруг себя смеющиеся лица, отправился вслед за служанкой.
— Ха, раненько он нас сегодня разбудил, но это даже и к лучшему, — бодро сказал Алкей, просмеявшись. — Эпифокл так завопил, словно военная труба подала сигнал к сражению. Что, Фаон, могу сказать, что ты с честью выдержал атаку! Теперь Эпифоклу придется принести тебе публичные извинения.
— Нет, не надо, ничего не надо, — проговорил Фаон, растерянно озираясь по сторонам. — Я все равно его убью.
— Не стоит даром трудиться, Фаон, он и сам скоро отдаст концы, — проговорил Алкей, незаметно подмигивая юноше. — И потом — тебе некогда будет заниматься этим неблагодарным делом. Я ведь как раз собрался тебя к вечеру проводить к гавани. Мой посыльный сообщил, что как раз сегодня на закате в Афины отправляется снаряженное судно, и владелец — кстати говоря, мой хороший знакомый — согласился взять тебя с собой.
На самом деле Алкей несколько исказил те новости, которые сообщил ему посыльный, передав при всех во дворе дома какую-то записку.
Вчера вечером из Митилены действительно прибыл гонец сообщить Алкею, что друзья ждут его нынешней ночью на некое секретное и важное совещание государственной важности.
Так как сообщение пришло от Мнесия, Алкей мог безошибочно заключить, что его старый друг снова начал готовить очередной заговор против тирана и активно собирает союзников.
Разумеется, не явиться на подобный совет без серьезной причины Алкей не мог — в политических делах поэт привык быть в числе первых! — и поэтому частное дельце с Фаоном нужно было уладить как можно скорее.
Тем более что с мальчишкой все, что следует, было уже обговорено накануне.
— Оставьте меня все! — вдруг воскликнул Фаон, яростно сжимая кулаки. — Все, совсем все! Я же вижу — вы все ненавидите меня! Вы все только смеетесь надо мной! Не нужно мне извинений, никаких ваших праздников и песен! Лучше оставьте меня в покое: ничего мне не надо. Я хочу домой!
И Фаон выбежал из комнаты через дверь, ведущую на задний двор, откуда быстрее всего можно было добежать к дому Алфидии.
Алкей хотел было броситься за Фаоном вслед, но решил, что это будет выглядеть слишком уж откровенно и несолидно, и лишь раздраженно махнул рукой ему вослед.
— Ну вот, обидели человека, — вздохнула Дидамия.
— И я бы тоже обиделась, если бы на меня напрасно возвели такие обвинения, — сказала Глотис. — И даже еще не так.
— И как раз накануне отъезда. И все оттого, что вы тут даете своим слугам слишком много свободы, — в сердцах проговорил Алкей, поворачиваясь к Сапфо. — Конечно, со стороны выглядит необычно, Сапфо, что ты стараешься держать слуг и даже рабов себе за равных, и даже дает лишний повод к разговорам о твоей школе, но ты сама теперь видишь, что из этого получается. И зачем только твою Диодору дернуло спрятать мешок как раз накануне отъезда? Спасибо еще, что у Эпифокла не случился из-за своего золота разрыв сердца, а то сейчас бы нам всем пришлось тужиться и сочинять погребальные песни под названием «эпифоклики»…
— Но… кто это? — спросила Клеида, кивая на дверь, через которую только что выскочил рассерженный Фаон.
— Юноша… — рассеянно ответила Сапфо.
— Но я, мама, и сама вижу, что не девочка! — усмехнулась Клеида. — Хотя молодой человек имеет чересчур гладкие щеки, длинные кудри и издалека похож на девушку. Он разве здешний? А куда он уезжает?
— Этот молодой человек по имени Фаон — сын покойной маленькой Тимады, о которой я тебе как-то рассказывала, — терпеливо пояснила Сапфо. — И теперь он должен отъехать в Афины, где живет его очень богатый дед. Алкей говорит, что надо ехать уже сегодня. Уж хотя бы распрощаться по-хорошему!
— Странно как-то, Сапфо, — задумчиво проговорила Клеида, оглядываясь по сторонам. — Раньше я чаще всего встречала у тебя только женщин, а сегодня вижу сразу столько мужчин! Почему?
— Вот и я то же самое говорила твоей матери, — сказала Глотис, покидая комнату. — Зачем нужно столько ненужного шума? Но ты же знаешь — она никого не слушает, кроме себя.
А Клеида, окруженная сплетнями о ветрености и непостоянстве Сапфо, в который раз увидела лишь хорошо знакомые женские лица.
Незнакомцами для нее были только мужчины, исключая Алкея — поэт был частым гостем и в столичном доме матери.
Но рыжий, угрюмый бородач, и безумный старик, и красивый, как Аполлон, юноша, которого сейчас при всех напрасно оклеветали, — все это были для Клеиды совершенно новые люди, вызывающие естественное любопытство семнадцатилетней девушки.
Особенно юноша, который так гордо сейчас убежал, не дожидаясь ни от кого слов сочувствия и утешения!
Такой непримиримый характер в мужчинах Клеида очень ценила, не говоря уже о приятной внешности и особенно черных глазах Фаона, сверкающих от ярости!
Впрочем, Клеида тут же подумала, что ее жених, Гермий, все равно гораздо красивее, потому что имеет более мужественную наружность, широкие плечи и приятную на ощупь, колючую щетину на лице. Слишком явно все-таки гладкие щеки и мягкие кудри рассерженного юноши напоминают женские!
— Все, отдала путаному безбожнику назад его богатство, — объявила появившаяся в комнате Диодора. — Чтоб он с ним провалился в Тартар.
— Но где же он сам? — спросила Сапфо.
— Да, разве не хочет погреметь перед нами в кишках монетами? — недовольно поинтересовался Алкей. — И заодно сказать кое-что Фаону и всем нам тоже.
— Нет, он устыдился и теперь заперся в дальней комнате, — пояснила Диодора и спросила, оборачиваясь к Леониду: — Скажи, добрый человек, надеюсь, ты сегодня отвезешь наконец-то старую колготу на свое судно? Сил моих больше никаких с ним нет!
Диодора нисколько не сомневалась, что Леонид и сам ждет не дождется, когда закончится праздник и наконец-то можно будет отправиться в путь, и потому видела в нем своего главного союзника и «доброго человека».
Поэтому ответ рыжего бородача прозвучал неожиданно не только для служанки, но и для всех остальных тоже.
— Нет, — спокойно сказал Леонид. — У меня появились здесь неотложные дела. Теперь Эпифоклу самому придется меня подождать.
— Да гарпии всех раздери в клочья! — не выдержала Диодора. — Никак вам тут всем словно медом намазано! Да вы все…
— Алкей правильно говорит, мама, — с осуждением посмотрела на старую служанку Клеида — она хоть и любила старушку, но все же никогда не воспринимала ее всерьез. — Слишком много свободы — это тоже неправильно.
— Диодора! — строго сказала Сапфо, непривычно повышая голос. — Это мои гости, Диодора. Выйди за дверь, если будет нужно, тебя позовут.
— Дела? — переспросил Алкей, обращаясь к Леониду, которому все еще никак не мог до конца простить вчерашней охоты. — Должно быть, ты здесь истребил еще не всех кабанов и волков?
— Я хочу купить в Митилене дом, — спокойно сказал Леонид. — Мы с Филистиной решили пожениться, и нам нужен хороший дом.
«Как с Филистиной?», «Как — пожениться?», «Неужто?» — тихо прошелестело в комнате на разные голоса.
— И Филистина… согласна? — с запинкой уточнила Дидамия, для которой эта новость тоже оказалась полнейшей неожиданностью.
— Да, согласна. Между нами это дело уже решенное, — спокойно и даже несколько грозно сказал Леонид. — И никто не сможет помешать свадьбе, лучше даже не пытаться.
И проговорив это, Леонид тоже покинул трапезную, потому что боялся из суеверия слишком много говорить на такую важную для него тему и решив про себя, что сейчас ему просто нужно как можно скорее действовать, пока Филистина не передумала и не произошло еще каких-либо неожиданных событий.
Прежде всего, Леонид обдумывал, как ему следует повести себя с Митридатом — как ни крути, но этот человек, не из последних в Митилене, считал Филистину своей собственностью, любимой гетерой, и может не захотеть с ней легко расстаться.
Разумеется, самый простой и безотказный способ — заплатить Митридату откуп, и деньги на это у морехода были.
Леонид хорошо знал и слишком часто наблюдал расчетливость и жадность многих торговцев, которые порой умудрялись у варваров обменивать небольшую амфору с вином на трех взрослых рабов, да и то еще потом требовали себе какой-нибудь надбавки.
Но вдруг Митридат был исключением из общего числа?
Но, с другой стороны, Леонид также опасался, как бы не оскорбить подобной сделкой чувств слишком ранимой и чувствительной Филистины, которая может решить, что ее перепродают из рук в руки, словно последнюю рабыню.
Леонид понимал, что в таком щекотливом деле никто не сможет помочь ему лучше, чем Алкей, хотя поэт и относился к нему без особой приязни.
И все же Леонид сомневался лишь мгновение, и когда Алкей вышел из дома на поиски Фаона, Леонид тут же окликнул его за углом и завел разговор о Митридате и о покупке дома.
Как ни сдержанно относился Алкей к Леониду (нет, этот рыжий, грубоватый бородач навряд ли когда-нибудь сделается его другом и постоянным сотрапезником!), а все же мужская солидарность взяла верх над возникшей антипатией.
— Ты же знаешь, Алкей, мой дом — это моя триера, — слегка набычившись, пояснил Леонид поэту. — Но так не должно быть всегда. А ты — человек, который понимает толк в красоте, и наверняка лучше меня знаешь, какой нужен дом для женщины, чтобы она чувствовала себя в нем счастливой.
— Не сомневайся, дружище. — Покровительственно похлопал Алкей мореплавателя по плечу, показавшемуся ему каменным. — Я не позднее как сегодня вечером буду встречаться с человеком, который торгует лучшими домами в Митилене, и даже постараюсь уговорить его не заламывать слишком высокой цены для своих. А с Митридатом я тоже знаю, как найти общий язык.
Признаться, Алкей обожал, когда его о чем-нибудь просили, тем самым как бы подчеркивая его могущество, и в такие моменты поэт сразу же делался невероятно добр и любезен.
— Для своих? — хмуро переспросил Леонид, который вовсе не собирался ни с кем делить Филистину.
— Для подруги моей Сапфо, — пояснил Алкей. — Или ты считаешь, что я пока не имею права называть Сапфо своей? Уверяю тебя, это всего лишь дело времени, Леонид. И даже не исключаю, что мы справим вместе сразу две свадьбы. И тогда будет веселее, чем даже этой ночью!
И несмотря на неприятности сегодняшнего утра, Алкей вдруг рассмеялся от предчувствия, сколько приятностей ждет его вскоре впереди.
А Сапфо с дочерью наконец-то остались наедине и могли спокойно продолжить разговор.
Правда, теперь Сапфо подавленно молчала, не в силах сразу охватить столько внезапных событий — сегодняшний, скорый отъезд Фаона, свадьбу Филистины… — и при этом вид у нее был такой несчастный и встревоженный, что Клеида не выдержала и погладила мать по плечу.
— Невозможно понять, что здесь происходит, мама, — сказала она. — Одни уезжают, другие — появляются и женятся. У меня даже голова закружилась.
Сапфо только молча улыбнулась дочери, но улыбка у нее получилась какой-то жалкой, невеселой.
— Ты чем-то расстроена, Сапфо? — спросила Клеида, которой нравилось называть мать по имени, словно та действительно была ее подругой. — Тебя так расстроило сообщение о замужестве Филистины?
— Да… наверное… — неуверенно ответила дочери Сапфо.
Не могла же она сказать Клеиде, что гораздо сильнее огорчена известием, что, оказывается, Фаон должен уехать уже сегодня, а также неуместной в данном случае услужливостью и расторопностью Алкея, который сам разузнал и договорился насчет подходящего судна, направляющегося в Афины.
— Но мне это не понятно, Сапфо, — проговорила Клеида. — Я давно хочу спросить тебя, мама, ведь о твоей школе говорят столько разного и непонятного. Скажи мне сама, какая главная цель обучения девушек в твоей школе? Разве не та, чтобы как следует подготовить их к замужеству, сделать женщин настоящим украшением домашнего очага и научить хорошо воспитывать своих будущих детей?
— Да, ты говоришь правильно, Клеида, — очнулась от печальных раздумий Сапфо. — Именно это является самой главной нашей задачей. Девушки, которые собрались выйти замуж, должны понимать, что они приходят в дом мужа не как служанки и вовсе не как приложение с деньгами, вроде того мешка, что повсюду таскает с собой Эпифокл, а свободными людьми, которые к тому же знают секрет, как сделать повседневную жизнь настоящим праздником.
— Но почему же ты тогда опечалилась. Сапфо, услышав про Филистину? — продолжала допытываться Клеида. — Ведь она уже не маленькая и, как мне кажется, готова к замужеству больше, чем все твои ученицы вместе взятые. Разве не так? Или ты так боишься потерять хорошую наставницу, что не желаешь ей личного счастья?
— Ну что ты, Клеида, я буду только рада, если Филистина найдет наконец-то с Леонидом свое счастье. Просто любое неожиданное известие всегда вместе с радостью рождает внезапную тревогу, которая постепенно исчезает. Я думаю, Филистине подойдет моя шутливая песенка, которую мы все хором будем скоро распевать на ее свадьбе:
Эй, потолок поднимайте, — О Гименей! Выше, плотники, выше! О Гименей! Входит жених, подобный Арею, Выше самых высоких мужей![34]И Сапфо снова вымученно улыбнулась, желая доказать, что она больше совершенно не грустит.
— Я ведь не случайно про это сейчас спрашиваю, мама, — многозначительно сказала Клеида, но вдруг замолчала и по привычке прикусила губу — она всегда так делала, когда речь шла о каком-то важном вопросе.
— Так какое важное семейное дело ты хотела обсудить со мной, Клеида? — напомнила Сапфо. — У меня такое предчувствие, что твои новости связаны с моим беспутным братцем. Наверное, Харакс снова выкинул что-нибудь для всех неожиданное?
— И с ним тоже. Дедушка Скамандроним даже сгоряча высказал желание иначе распорядиться своим наследством, но не только… — начала было Клеида, но тут в комнату, запыхавшись, вошел Алкей и, обессиленный, плюхнулся на скамью.
— Проклятье! — сказал он, без разрешения усаживаясь рядом с женщинами за стол, словно разом забыв обо всех своих манерах. — Нет, Сапфо, это сущее проклятье! Если я сейчас не выпью вина, то боюсь лопнуть от гнева. Я не застал Фаона дома, но зато встретил в саду. Он удирал от меня, словно молодой, взбесившийся олень — видела бы ты, как он, не разбирая дороги, куда-то побежал по направлению к лесу. Нет, так дело не пойдет, мы так не договаривались! А до Эпифокла я тоже доберусь и поговорю по душам…
— Но в чем дело? — удивленно спросила Сапфо. — Признаться, я не понимаю тебя, Алкей. Зачем тебе понадобился Фаон? При чем тут Эпифокл? Если тебя так сильно волнует проблема отъезда мальчика, то уверяю тебя, мы можем сами посадить Фаона на нужный корабль или воспользоваться предложением Леонида. Леонид сказал, что если будет необходимо, то он немного изменит свой курс и сначала доставит Фаона в Афины.
— Да, он и мне сообщил сейчас об этом, — тут же нашелся и ловко приврал Алкей. — Но я… я клятвенно пообещал своим друзьям проводить нашего ученого гостя — Эпифокла до гавани, и сегодня они спросят меня об этом.
Алкей понял, что все же дал слишком большую волю чувствам, и жадно глотнул прохладного вина,
— …А теперь Мнесий зовет меня на ночное заседание, и значит, мне скоро надо отправляться назад в Митилену, не сдержав своего слова. А я так не привык!
— Не думай напрасно об этом, — сказала Сапфо, невольно умилившись обязательности Алкея и посмотрев на него с нежностью. — Теперь здесь Леонид, а без него Эпифокл все равно не сможет ни взойти на корабль, ни добраться до Фасоса. Поэтому пока Леонид будет решать здесь свои дела, все останутся на прежнем месте, и ты можешь спокойно отлучиться в город.
— Да уж, спокойно, — вздохнул Алкей, залпом опорожняя кубок вина. — Как же, поживешь тут спокойно.
Но подвижный, неутомимый ум Алкея тут же подсказал ему новый вариант.
— Вот что, Клеида, ведь ты к вечеру уже вернешься в Митилены? Ты же никогда здесь надолго не задерживаешься? — повернулся Алкей к дочери Сапфо. — И тогда я хочу попросить тебя зайти к твоему дядюшке, Хараксу, который тоже является постоянным членом круга Мнесия и наверняка вечером будет у него. Передай через Харакса, что я вынужден здесь задержаться по весьма важному делу и сам встречусь с Мнесием через несколько дней. Если не явлюсь на сходку без предупреждения, то друзья тут же могут заподозрить меня в трусости, и с головы до ног обольют грязью, и обсмеют, но так я не дам никому повода для сомнений в своей преданности общему делу.
— Мне не трудно было бы передать твою просьбу дяде, если бы он сейчас находился в Митилене. Но Харакс снова уехал в страну черных людей, в Ливию.
— Как? Туда же? Снова? — ахнула Сапфо.
— Да, мама, в тот же самый город Киренаик, но только теперь уже не по торговым делам, а просто к Родопиде.
— Как? Что я слышу? Наш Харакс снова отправился к своей черной обезьяне, и причем в тот самый момент, когда он, как никогда, нужен городу, Мнесию, всем нам? Это просто возмутительно! — воскликнул Алкей, взволнованный известием. — Как-никак, но я всегда держал Харакса за надежного друга и считал приличным человеком.
— Но что изменилось? — спокойно спросила Сапфо, быстро сумевшая справиться с волнением.
— Все! Все изменилось! Если кому-то нравится держать в объятиях макаку, то с таким человеком у меня точно не может быть ничего общего. Интересно было бы узнать, где эта хитрая тварь, которая околдовала Харакса, прячет свой безобразный хвост? Наверное, в цветастых варварских штанах? Но, может быть, она его даже и не прячет, а наоборот, гордится и выставляет всем напоказ?
— Ну, зачем ты так, Алкей, — покачала головой Сапфо. — Кто знает, может быть, эта Родопида и не настолько черна, мы же сами ее никогда не видели.
— Да они все там одинаковые, я тебе точно говорю! — не унимался Алкей, который нашел способ хоть как-то выплеснуть наружу накопившееся раздражение. — Как уголь в печке. Вот посмотри, Сапфо, тебе бы понравилось, если бы у меня было такое лицо? И ты скажи, Клеида, а тебе бы — понравилось?
И Алкей неожиданно подбежал к очагу, схватил оттуда большой кусок угля, который, к счастью, успел остыть, и нарисовал себе на щеках и лбу черные круги.
Он действительно так был взбешен за сегодняшнее утро и к тому же не выспался с сильного похмелья, что буквально не ведал, что творил.
— Ничего, — сказала Сапфо тихо. — Не так уж и страшно.
Сапфо никогда не видела чистенького и сдержанного Алкея в таком виде и снова немало про себя удивилась.
Разумеется, она знала, что Алкей и Харакс дружат между собой, но Сапфо как-то не предполагала, что его так сильно волнует и задевает за живое судьба брата.
Сапфо ведь не знала, что раздражение Алкея имеет совершенно другие истоки, и потому снова посмотрела на друга с умилением, совсем новыми глазами.
История Харакса началась еще два года назад, когда брат Сапфо по торговым делам отправился в далекие края, которые кто-то называет «землями Навкратиса», а кто-то Ливией, и там, в портовом городе Киренаик, не на шутку увлекся чернокожей гетерой по имени Родопида.
Чувство Харакса оказалось настолько сильным и безоглядным, что он сразу же прервал дальнейшее путешествие и решил либо навсегда остаться с Родопидой на ее родине, либо привезти гетеру на Лесбос.
Харакс написал о своих намерениях письмо родителям, которое, как считает Сапфо, как раз и послужило началом серьезной болезни отца.
Наверное, в своем ответном послании Скамандроним не поскупился на ругательства и в самых откровенных выражениях написал сыну, что связь с «разноцветной девкой» сильно скомпрометирует его знатную семью и потому является совершенно недопустимой. Если бы Родопида была обыкновенной греческой распутницей, то на грехи Харакса можно было бы еще закрыть глаза, но с черной уродиной…
И тогда Сапфо тоже встала на сторону отца, и сама была сильно возмущена поведением младшего брата.
Ведь она была уверена, что по своему обыкновению Харакс нарочно придумывает постоянно какие-нибудь необычные поводы и делает что-либо безобразное и вызывающее, лишь бы привлечь к себе всеобщее внимание митиленцев.
В какой-то степени Сапфо чувствовала в этом часть и своей, личной вины.
Что и говорить, Хараксу до смерти хотелось, чтобы о нем по всему острову говорили ничуть не меньше, чем о прославленной сестре, и поэтому он то и дело устраивал выходки, которые приводили к тому, что он хотя бы на какое-то время становился предметом пересудов митиленских сплетниц и досужих болтунов.
Разумеется, Сапфо осуждала Харакса — ведь своими нарочитыми глупостями неуемный братец как будто специально загонял родителей поскорее в могилу, и его безжалостность по отношению к старой Клеиде и Скамандрониму временами была поистине безграничной.
Конечно, не только отец, но и все друзья Харакса тогда пришли в ужас, что свободный грек собирается открыто связать свою жизнь с «дикаркой».
Отец тут же принялся угрожать сыну лишением наследства, и Сапфо уверена, что Скамандроним пошел бы на этот шаг, если бы Харакс все же не одумался и вскоре не вернулся на Лесбос один.
Сапфо до сих пор помнила, какая ее охватила радость, когда она узнала, что Харакс держит путь назад к родным берегам и сумел все-таки подружиться со здравым смыслом и побороть свое бессмысленное, пустое бахвальство.
Она даже написала по этому поводу стихотворение, где умоляла морских богинь — нереид сделать все возможное, чтобы беспутный, блудный сын благополучно добрался до отцовского дома и помирился со Скамандронимом, восстановив в семье счастье и мир.
Так и получилось — Харакс возвратился, и родители, да и сама Сапфо ни одним вопросом не решились напоминать Хараксу о злополучной истории с Родопидой, как будто бы ничего такого и вовсе не было.
Родители решили между собой, что пылкого, неопытного юношу просто-напросто попутали нездешние, черные демоны, с которыми ему трудно было бороться на чужбине, и благодарили всех своих богов, что они и на краю земли все же помогли Хараксу выпутаться из варварских чар.
Поэтому сейчас Сапфо была до глубины души поражена известием, которое привезла ей дочь.
Получается, что Харакс снова сбежал к своей черной гетере, наплевав и на отцовское здоровье, и на наследство, и на презрительные насмешки друзей, которые нет-нет да и начинали снова выпытывать у Харакса, чем же все-таки отличаются черные гетеры от белых.
Выходит. Харакс по-настоящему полюбил свою Родопиду, раз бросил все, что было ему дорого, и снова помчался в портовый город, зная, что второй раз примирение с отцом и семьей едва ли будет возможным.
Но все равно он пошел на это!
Сапфо вспомнила бледное, решительное и какое-то заостренное, словно вынутый из ножен кинжал, лицо Харакса, каким оно всегда бывало в раннем детстве, когда брат собирался сделать что-нибудь такое, что может вызвать неодобрение родителей или старшей сестры.
Наверное, с таким же решительным, воинственным видом он садился и на корабль, зная, что теперь навсегда покидает родной остров Лесбос.
Бедный, бедный брат!
И Сапфо сейчас пожалела, что не сумела как следует поговорить с братом о Родопиде, поддавшись всеобщему осуждению и игре в молчанку, и даже не расспросила, что же на самом деле творилось в его душе!
Именно теперь, пережив запретное и неподвластное рассудку чувство к Фаону, Сапфо как никогда понимала и любила брата, и так желала бы ему хоть чем-нибудь помочь!
Сапфо растерянно глядела на кривляющегося, перепачканного в саже Алкея в полной уверенности, что друга сейчас переполняют похожие чувства, только он выражает их другим способом.
С точностью наоборот, через излишнее обвинение — как это почему-то нередко делают многие мужчины.
— Я все же лишний раз убеждаюсь, Сапфо, как ты была права, когда выразила начистоту в своем стихотворении все, что думала о непомерной хвастливой гордости Харакса. Мне даже теперь кажется, Сапфо, что это самое лучшее твое, самое обличительное стихотворение. Лучше ведь и не скажешь!
— Какое стихотворение ты имеешь в виду, Алкей? — спросила Клеида, которая плоховато знала творчество матери, хотя в какие-то моменты чувствовала, что это становится уже неприличным.
— Так послушай же, это всем будет полезно! — воскликнул Алкей и с готовностью вскочил с места, принимая свою излюбленную позу для декламации — слегка выпятив грудь и приложив к сердцу ладонь:
Если ты не добрый, а к звонкой славе Жадно льнешь, друзей отметаешь дерзко, — Горько мне. Упрек мой — тебе обуза: Так уязвляя. Говоришь и пыжишься от злорадства. Упивайся ж досыта. Гнев ребенка Не преклонит сердце мое к поблажке — И не надейся…[35] —Я немного позабыл, как там у тебя дальше, Сапфо?
Лучшее найдется на белом свете. Помыслы к иному направь. Поверь мне, Ум приветливостью питая, — ближе Будем к блаженным[36], —прочитала Сапфо только самое последнее четверостишие, радуясь, что когда-то у нее все же хватило ума и сестринской любви гневный, обличительный тон стиха сменить добрым советом.
А то сейчас ей и вовсе было бы стыдно за свое прежнее творение, словно оно написано суровым и даже не в меру жестоким мужчиной.
Зато Алкей, кивая в такт головой, подумал, что он бы мог с готовностью подписаться под каждым словом, которые Сапфо посвятила своему младшему братцу, кроме нескольких последних слов.
— Отлично сказано! — не удержался и громко высказался один из слуг Клеиды, который все это время стоял возле дверей. — Ни убавить ни прибавить!
Сапфо хорошо знала манеру Скамандронима давать своим слугам приказания ни на минуту не спускать с драгоценной Клейсочки глаз — и некоторые недалекие охранники воспринимали такой приказ буквально.
Поэтому Сапфо привыкла не обращать никакого внимания на слуг и рабов, которые сопровождали Клеиду в дороге, разделяя мнение отца, что излишняя осторожность все же куда полезнее для молодой девушки, чем пагубная беспечность.
Алкей же, не терпевший демократических вольностей, которые нередко позволяла себе здешняя домашняя челядь, сильно нахмурился, но на этот раз все же сдержал свои чувства.
Вот если бы он был у себя дома, в Митилене, то запросто мог бы отхлопать по губам и оттаскать за язык нечестивца за то, что тот без разрешения влезает в разговоры знатных людей.
— Нет, мне совсем теперь не нравится это стихотворение, — вдруг сказала Сапфо. — Я сожгу свиток, чтобы про него все поскорее забыли.
— А я, наоборот, прикажу своим рабам переписать его сто раз и развесить на домах, чтобы каждый помнил о том, как опасно чересчур сильно заноситься над другими! — с горячностью возразил подруге Алкей.
— Только попробуй! Тогда я… я напишу новые строки, в которых прославлю моего Харакса за то, что он умеет так искренно чувствовать и быть по-настоящему правдивым в любви. Вот чему, Алкей, нам всем надо учиться!
— О чем ты говоришь, мама! — возмутилась Клеида. — Наверное, в тебя сейчас просто вселились злобные эриннии! Неужели ты совсем не осуждаешь Харакса за то, что он не послушался родителей и снова уехал к своей черной образине?
— Нет, не осуждаю, — спокойно сказала Сапфо. — Я почему-то думаю, что Харакс в глубине души надеется, что отец все же разрешит ему когда-нибудь вернуться вместе с Родопидой. А от себя я непременно напишу Хараксу, что не держу на него гнева и считаю, что настоящая любовь не может знать преград.
— Верно, — тихо поддакнул стоящий у дверей слуга.
— Значит, ты хочешь, чтобы у Харакса потом к тому же родились черные дети? — воскликнул Алкей. — Опозорив тем самым весь наш… ваш славный род? Хорошо, назови их так — если родится мальчик, то Уголек, а если девочка, то — Смолка, и пусть жена Харакса укладывает их спать возле очага!
— Прекрати кривляться, Алкей! — возмутилась Сапфо. — Я не позволяю тебе насмехаться над моим любимым братом, которому сейчас и без того трудно!
— Но… мама… Что бы сказал дедушка, если бы услышал сейчас твои слова? Или бабушка Клеида? Мне даже странно тебя слушать, возьми свои слова обратно! — испуганно проговорила дочь, глядя на Сапфо.
Ведь для Клеиды отношение к беспутному дядюшке было настолько однозначным, что ей действительно даже странно было слушать на этот счет хоть какие-то другие мнения, и особенно — от собственной матери.
Сапфо сделалось даже немного жалко растерявшуюся Клеиду, но она только молча вздохнула и сдвинула брови.
— Не слушай ее сейчас, Клеида! У твоей матери временно помутился рассудок, и она нарочно так говорит! И теперь не переменит своих слов даже просто из упрямства, — тоже заметно повысил голос Алкей. — Возможно, она просто тоже заразилась «звонкой славой» из-за того, что я сильно похвалил ее стихотворение. С поэтами такое бывает!
— Пока что я отвечаю за свои речи и поступки, — упрямо мотнула головой Сапфо. — Даже если они кому-то не нравятся.
— Глупости! Пустые бредни! — воскликнул Алкей и вдруг, схватив со стола уголь, еще сильнее раскрасил им свою щеку. — А ты представь, что я чернокожая девка! И что, скажешь, что тебе приятно было бы такую целовать или держать в объятиях, словно кусок липкой смолы?
— А почему бы и нет? — сказала Сапфо, сделала шаг к Алкею и без смущения поцеловала его в самую грязную щеку.
От неожиданности Алкей тут же забыл, что еще хотел добавить из своих обвинений, и застыл на месте.
— Ну, и что особенного? — улыбнулась Сапфо черными от сажи губами. — Признаться, Алкей, я не испытываю сейчас никаких особенных чувств, кроме приятных. Думаю, что и наш Харакс тоже не слишком мучается со своей Родопидой, так что давайте не будем его напрасно жалеть и осуждать.
— Но… мама, — выдохнула Клеида, поразившись вызывающему поведению матери. — Но как же…
— Отлично! Вот это да! — заявил снова слуга, стоящий в углу, и громко захлопал в ладоши.
Это Алкея и вовсе доконало — ему вдруг показалось, что слуга вздумал над ним посмеяться.
— Ну ты, ублюдок! — вскричал Алкей, выходя из оцепенения. — Что ты себе позволяешь? Я живо научу тебя знать свое место!
И Алкей набросился на слугу с кулаками, немало удивившись, что тот вынул из-за пояса очень дорогой, посеребренный меч и занял оборонительную позицию.
Алкей, недолго думая, обнажил свой меч, с которым не расставался ни во время войны, ни в мирное время, и набросился с оружием на распоясавшегося нахала.
— Мама! Что они делают! — громко закричала Клеида. — Мама! Сделай что-нибудь! Это же мой Гермий! Ты же видишь — сейчас может пролиться кровь! Алкей! Гермий!
— Эй, слуги, сюда! — и сама уже не на шутку перепугалась Сапфо. — Диодора, зови скорее мужчин, нужно остановить драку.
В комнату прибежали рабы и слуги, которые принялись растаскивать Алкея и его противника в разные стороны.
Впрочем, не известно, чем бы закончилась схватка и сколько бы еще в комнате оказалось перебито «глотисов», но, к счастью, откуда-то появился Леонид, который крепко схватил Алкея за руки, так что из могучей хватки «геракла» выбраться было вовсе невозможно.
— Эй, дружок, погоди, ты мне еще нужен, — шутливо проговорил Леонид. — А как же дом? У кого потом я буду искать свои деньги? Признаться, я, Алкей, не из иберцев, чтобы потом отправляться к тебе за долгом на тот свет, лучше пока походи на этом.
— Но это же мой Гермий, Алкей! — вскричала Клеида, подбегая к слуге. — Разве ты не узнаешь сына Сераписа? Ведь он теперь мой жених!
— Гермий? Жених? — совсем уже ничего не могла понять Сапфо.
— Ну конечно, мама, мы с Гермием решили пожениться! Он из хорошей семьи, дедушка с бабушкой хорошо знают его родителей. И я приехала, чтобы ты с ним тоже познакомилась и чтобы обсудить важные дела…
— Жених? Но почему же ты мне сразу не сказала? — залилась краской стыда Сапфо, припоминая, какую картину увидел сегодня жених Клеиды — драку с Фаоном, голый зад Эпифокла, разрисованного углем Алкея, ее саму с черными губами, а под конец дело и вовсе чуть было не дошло до смертоубийства.
Настоящая вакханалия — словно вчерашний праздник никак не хотел заканчиваться!
— Но когда, мама? И потом, я хотела как положено: сначала все тебе объяснить на словах, а потом уже представить Гермия, чтобы ты не волновалась. Он все это время ждал, когда придет его черед!
Теперь Сапфо сделалось по-настоящему стыдно перед дочерью, и она боялась поднять в ее сторону глаза, и не зная, где спрятаться также от взгляда Гермия.
Хороша мамочка, ничего не скажешь!
Если сейчас Клеида развернется и больше никогда не захочет встречаться с такой матерью, это будет вовсе не удивительно.
Но это еще будет половина беды!
И Сапфо с ужасом подумала: вдруг она сегодня случайно, ненароком разломала дочери судьбу?
Вдруг оскорбленный Гермий теперь не захочет ничего общего иметь с семьей, где дядюшка невесты добровольно убегает от благополучия в страну змей, а в доме родной матери с утра происходят настоящие оргии?
Что же тогда делать?
И Сапфо теперь не знала, что говорить, и лишь стояла, понурив голову, как сильно провинившаяся девочка.
Была бы ее воля, она даже встала бы лицом в угол, чтобы не видеть вытянутого лица дочери и неодобрительного покачивания головой старой Диодоры.
— Это все он, Кайрос, — только и нашлась прошептать Сапфо. — Божество благоприятного момента. Он сегодня почему-то не прилетел к нам.
— Да он бы, мама, может быть, и прилетел, но только в твоем доме вечно такое творится, что даже боги… — начала было Клеида, но ее неожиданно перебил Гермий.
— А что тут произошло такого особенного? — сказал Гермий, спокойно убирая оружие. — Я, право, не могу понять, чем ты, Клеида, недовольна? А по-моему, все хорошо, и я с удовольствием познакомился и с твоей знаменитой матерью, и с ее супругом…
— Я не супруг… пока… — пробормотал Алкей. — Просто друг. Друг и поэт.
— Да? — лишь слегка от удивления вздернул брови Гермий. — Прошу меня извинить, но вы так по-семейному целовались… Впрочем, это не важно! Я часто слышал, что поэты и другие служители Муз — не вполне обычные люди и сильно отличаются от простых смертных не только во время праздников, но также и в обычной жизни. А теперь я увидел, что это чистая правда! Давно я не наблюдал столько интереснейшего и поучительного за один раз, как сегодня…
Но «интереснейшее» сегодняшнего утра, оказывается, еще не было исчерпано до самого конца.
По крайней мере, все были немало удивлены, когда в комнату неожиданно ввалился Эпифокл, держа в руках мешок с монетами.
Даже расстроенная Сапфо еле удержалась от улыбки, глядя на тощего старца, в которого теперь превратился некогда толстопузый Эпифокл.
Видимо, философ понял, что больше нет нужды имитировать живот даже при помощи подушки, и решил теперь не маскироваться.
— Я хочу, чтобы именно ты рассудила меня, Сапфо, — сказал Эпифокл, присаживаясь на скамейку и выкладывая мешок на всеобщее обозрение. — Как ты сейчас скажешь, так я и сделаю.
— Ах, Эпифокл, я не уверена, что сейчас в состоянии сказать хоть что-нибудь разумное. Спроси лучше совета у кого-нибудь из богов, а не у людей, — отмахнулась Сапфо.
— Хорошо, пусть тогда все, кто сидит в этой комнате, рассудят мои сомнения, — торжественно проговорил Эпифокл. — Служанка Диодора говорит, что я вчера пожертвовал все свое золото Артемиде, но я этого совсем не помню и даже думаю, что старуха просто-напросто давно выжила из ума. Но, с другой стороны, если я сам не помню подобных слов, потому что, честно говоря, выпил немного лишнего неразбавленного вина, то это вовсе не значит, что я не давал обещания богине, так? Получается, что я все же подарил свое золото. Но, опять-таки, я же этого не помню. Скажи, Сапфо, разве можно считать подарком то, что не делается от всей души?
— Но, может быть, в тот момент, Эпифокл, ты как раз сделал подарок от всей пьяной души, это теперь она у тебя от жадности закрылась на амбарный замок? — сердито спросил Алкей.
— Может быть, и да, — задумчиво проговорил Эпифокл, но, помолчав, глубокомысленно добавил: — Но может быть — и нет. Ведь я же не помню, друзья мои, даже какое чувство испытывал в тот самый момент, когда говорил о подарке. А это значит, во-первых, что я вообще ничего не испытывал. И, во-вторых — что не произносил никаких слов. Но, с другой стороны, если мои пожелания достигли ушей Диодоры… Хм, хм, все очень слитно, диалектично и чересчур запутанно. Вот если бы я точно помнил, я бы сейчас не колебался ни минуты!
— Я думаю, Эпифокл, тебе не следует ломать голову, а нужно просто оставить золото себе, — сказала Сапфо, которой уже сделалось по-настоящему жалко замороченного старика. — Ведь у тебя имелись насчет сбережений свои планы. А мы тут помолимся и Артемиде, и ее ночной сестрице Гекате и принесем им хорошие жертвы, чтобы они не держали на тебя зла…
— Хм, хм, боюсь, что это не поможет. Ведь если я и правда пообещал им свой мешок, но теперь не выполню обещания, то мне не избежать неминуемой гибели, и ничье заступничество здесь, увы, не поможет.
— А ты отдай богиням ровно половину золота, а вторую половину оставь себе! — высказал свое предложение Гермий. — Раз ты пообещал, но не помнишь своего обещания, то, значит, ты пообещал только наполовину, и такая дележка будет вполне справедливой.
— А что? Это, кажется, разумно! — почесал озадаченно бороду Эпифокл. — И меня не будет мучить совесть, как обманщика, и им вполне хватит. Но… кто этот молодой человек? Кажется, ты не был среди нас раньше?
— Это Гермий, жених моей дочери Клеиды, — пояснила Сапфо. — Правда, я сама только что об этом узнала.
— Хм, хм, а ведь, пожалуй, я так и поступлю! — улыбнулся Эпифокл. — Это будет со всех сторон разумно и позволит соблюсти необходимую меру. Половины мне, пожалуй, хватит…
И Эпифокл продекламировал с большим чувством:
Быть я богатым хочу, но нечестно владеть не желаю Этим богатством: поздней час для расплаты придет![37]— Ба, Эпифокл, да ты делаешь немалые успехи в стихосложении! — похвалил старика Алкей.
— Эти слова принадлежат не мне, а мудрому Солону из Афин, — сказал Эпифокл. — А тебе бы, Алкей, следовало интересоваться не только своими песнями, но иногда прислушиваться также к тому, что сочиняют другие.
— Да, про богатство ты поешь, конечно, хорошо, но как же твои заветные золотые сандалии? — с хитрым видом напомнил Алкей. — Чем же ты, Эпифокл, будешь громыхать по дороге, забираясь на верхушку Этны?
— Хм, хм, теперь я могу признаться, Алкей, что про золотые сандалии я вам говорил в шутку, — ответил Эпифокл, широко улыбаясь щербатым ртом. — Честно говоря, больше всего остального меня сейчас волнует проблема сохранения моего наследия — ведь другого состояния у меня нет и уже не будет. Да и законных наследников — тоже. Я и на Фасос, друзья мои, отправляюсь лишь потому, что хочу отыскать учеников Бебелиха, которые многократно переписывают чужие труды на папирусные свитки, переводят их на наречия самых разных народов и таким образом, говоря поэтическим языком, словно обувают их в золотые сандалии, отправляя гулять по всему свету. Но, я думаю, даже половины накоплений будет вполне достаточно, чтобы обуть моих ребятишек. Увы, у самого меня нет учеников — я напрасно не позаботился об этом заранее.
И Эпифокл добавил, обратившись в сторону Гермия:
— Хм, хм, а вот вы, молодой человек, вполне могли бы стать моим учеником. Здесь чутье меня никогда не подводит.
— Так в чем же дело? — обрадовался Гермий. — Признаться, я имею склонность к философии не меньшую, а то и гораздо большую, чем к торговым делам!
— Если бы боги захотели меня оставить на Лесбосе, то я взял бы тебя в ученики, — проговорил Эпифокл. — Но мой ветер, дружок, дует в сторону Фасоса, и нам не по пути. Как ты понимаешь, я не могу пообещать, что мы с тобой когда-нибудь непременно увидимся на этом свете, сейчас я стараюсь не загадывать дальше сегодняшнего дня.
— Послушай, Клеида! — обратился Гермий к невесте. — Но почему мы должны так быстро возвращаться назад в столицу? Разве мы не можем здесь побыть хотя бы до завтрашнего дня и с пользой провести время в обществе мудрых и интересных людей?
— Да… Но я не знаю… Если ты так хочешь… — пожала плечами Клеида, и Сапфо, которая последний год никакими силами не могла лишней минуты удержать строптивую дочь возле себя, вдруг с радостью увидела, что она склонна согласиться, потому что слова будущего супруга для нее уже сейчас — почти что закон.
— О, конечно! — подхватила Сапфо. — Зачем вам торопиться? Мы сейчас все вместе можем отправиться на прогулку, и я покажу вам самые красивые места, какие только можно встретить на Лесбосе. Там и поговорим разом обо всех наших делах.
— Это точно, — подтвердил Эпифокл. — Мне кажется, что когда-нибудь и философы будут нарочно собирать вокруг себя учеников, прогуливаясь под открытым небом — в лесах или в садах. Если вы не против — я пойду с вами. К тому же мне хотелось бы набрать перед дорожкой одной целебной травы, которая способствует очищению организма и растет только на здешних холмах.
— Пожалуй, я тоже составлю вам компанию. Может быть, мы где-нибудь встретим Фаона и сумеем привести мальчишку в чувство?
— Так пойдемте же! — обрадовался Гермий. — У нас еще есть в запасе целый день, а это не так уж и мало!
Эпифокл с одобрением поглядел на юношу и с непривычной для себя легкостью поднялся со скамьи.
Глава девятая ПРОГУЛКИ
Выйдя на улицу и поглядев на дорогу, ведущую к холмам, Сапфо подумала, что в словах Гермия про огромность одного дня сейчас, как никогда, чувствуется верный смысл.
В эти осенние дни природа преображалась на глазах, и казалось, что буквально с каждым часом знакомые места становились все более неузнаваемыми.
Сейчас Сапфо в который раз поразило, что вокруг виднелось все больше деревьев пусть еще не с багряной и не с коричневой увядшей листвой, но с неуловимой примесью розового в зеленых пока ветвях.
Это был едва уловимый, телесный цвет человеческого тепла, и поэтому деревья, и небольшие кустики, и окрашенные им травинки казались трогательно живыми.
Словно все они тоже чувствовали, догадывались о скорой зиме, о ледяных ветрах и убийственных морозах, но не жаловались, а лишь молчаливо и благодарно розовели в ответ погожему, пусть даже самому последнему, солнечному дню.
Взойдя на пригорок, Сапфо вздохнула полной грудью, посмотрела на свой дом, край крыши которого виднелся в низине, и нелепые события сегодняшнего утра показались ей совершенно нереальными и словно кем-то нарочно выдуманными, чтобы сбить обитателей дома с толка и перед разлукой как следует перессорить друг с другом.
Но ничего не вышло!
Или почти что — ничего, не считая смертельно обиженного Фаона, которого с тех пор нигде не было видно.
Но почему-то Сапфо была твердо уверена, что ничего плохого с юношей не случится, и почти что о нем не думала.
Она вообще испытывала ощущение, что вчера ночью кто-то освободил ее от мучительного, тайного обожания, или хотя бы ослабил его, подарив возможность ровно, свободно дышать.
Эпифокл тоже находился в превосходном настроении.
Во-первых, оттого что впервые за долгое время шел налегке и вспоминал, как же это приятно, а во-вторых, радуясь, что его проблема с содержимым мешка наконец-то разрешилась, и он, оказывается, не настолько «слился» со своим золотом, чтобы нагрешить из-за него перед богами.
Кроме того, ему приятно было беседовать с молодым человеком, который неплохо был осведомлен в вопросах философии — несмотря на то, что Гермий держал за руку невесту, он внимательно прислушивался к речам Эпифокла и задавал вполне дельные вопросы.
Даже словоохотливый Алкей и то несколько притих со своими извечными шуточками и слушал сейчас гораздо больше, чем говорил сам, что было ему не слишком-то и свойственно.
И правда — сегодня Эпифокл был настолько в ударе, желая как-то реабилитироваться перед друзьями за свое утреннее, недостойное мудреца, поведение, что прерывать его рассказы лишний раз никому не хотелось.
После того как Алкей снова вспомнил о Фаоне, который, словно напуганный зверь, сбежал от всех в здешние леса, Эпифокл с энтузиазмом заговорил про Афины и в особенности — о личности Солона — правителя, философа и поэта в одном лице.
Начав с сущей мелочи — а именно с того, что Солон в Афинах издал специальный указ, запрещающий рабам натираться маслом для гимнастических упражнений и любить мальчиков, считая, что таких благородных занятий достойны лишь люди знатного рода, Эпифокл незаметно перешел к другим, более значительным деяниям известного афинского политического деятеля.
— Хочу тебе сказать, Гермий, что Солон в молодости, как раз в твоем возрасте, тоже занимался торговлей, потому что считал позорным пользоваться чужим богатством, и одновременно желал как можно больше узнать об обычаях в других странах, — проговорил Эпифокл, обращаясь к юноше. — Что вовсе не помешало ему позже перейти к более великим делам. Получается, что Солон много путешествовал, как наш Леонид, написал немало стихотворений, как ты, Сапфо, считается мудрейшим среди философов, как я, и в то же время все свои мысли направил к тому, как добиться всеобщего блага, подобно Алкею и его друзьям.
Но больше всего удивил слушателей рассказ о новых законах, изданных в виде поэм, которые не только сочинил, но также уже ввел в Афинах в действие всеохватный Солон.
Прежде всего, Солон, оказывается, издал закон, прощающий земледельцам прежние долги и запрещающий впредь давать деньги в долг «под залог тела», то есть по сути дела отменил в Афинах рабство, и одновременно предпринял необходимые меры по повышению ценности денег.
Затем, Солон отменил все законы Дракона, кроме кары за преднамеренные убийства, находя их излишне жестокими и никчемными.
Из нововведений Солона еще более удивительным было то, что он дал возможность каждому гражданину обсуждать свое дело в народном собрании и одновременно разрешил любому выступать в роли судьи.
При этом сам Солон, несмотря на то что пользуется в Афинах всеобщей славой и огромным влиянием, отказался от единовластия, пояснив, что считает тиранию чем-то вроде пожизненной тюрьмы, из которой нет выхода.
— Вот это человек! Золотые слова! Надо передать их нашему подлому Питтаку, который обещал одно, однако после не побрезговал добровольным заточением! — не выдержал и перебил философа Алкей. — Зато Солон в своем правлении мудро сумел сочетать принуждение со свободой и это может послужить образцом для Питтака, ведь он умеет только красиво говорить, но сам сны видит лишь о приумножении своего богатства и власти.
Но еще больше воодушевил Алкея закон Солона о лишении гражданских прав человека, который во времена междоусобиц не примыкает ни к той, ни к другой партии.
— Я полагаю, это придумано для того, чтобы ни один мужчина не оставался равнодушным и безучастным к судьбе своего отечества и не отсиживался в стороне без всякого риска для себя, мечтая потом примкнуть к любому, кто победит. Вот это по-настоящему мудро! — воскликнул Алкей.
Но не только один Алкей, а каждый на себе чувствовал, что рассказ Эпифокла о делах великого Солона заметно бодрил душу и словно очищал ее от ненужных сомнений, действуя наподобие особого целебного снадобья.
Гермий про себя думал о том, что, несмотря на советы отца, который считал, что нет никакого смысла отвлекаться от торговых дел, приносящих конкретную, ощутимую пользу, на какие-либо другие занятия, он все равно будет находить время и силы заниматься политикой, поэзией, философией, и вообще постарается быть во многом похожим на Солона.
Ведь сказал же Эпифокл, что Солон лишь по происхождению принадлежал к знатному роду, а по состоянию родителей считался, как и Гермий, из среднего сословия, однако он самостоятельно сумел дойти до вершины власти и человеческой мудрости, о чем только может мечтать каждый из смертных.
Клеида же, наморщив от старания лоб, между тем обдумывала тот из законов Солона, который уничтожал обычай давать за невестой богатое приданое, а разрешал приносить невесте в дом жениха лишь три гиматия денег да вещи из домашней обстановки не слишком большой ценности.
Как это на самом деле было мудро и справедливо во времена, когда многие мужчины повадились жениться на девушках без любви, а только из-за приданого, сделав священный брак отдельным торговым предприятием!
Клеида покосилась на Гермия — нет, у них все будет как надо: они будут любить друг друга, помогать в радости и в горе, растить умненьких и послушных детей.
Кстати, один из законов Солона, записанный на деревянных табличках, предписывал невесте в день свадьбы давать поесть айвы и непременно запереть ее с женихом наедине, чтобы они сразу же проявили свою любовь друг к другу,
И Клеида принялась представлять, какой же будет первая брачная ночь у них с Гермием, и вскоре так увлеклась, что вовсе перестала слушать другие речи Эпифокла.
Признаться, на эту тему девушка могла думать с утра до вечера, и особенно по ночам, и — вот удивительное дело! — ей это почему-то никогда не надоедало.
Сапфо же, тихо улыбаясь про себя, живо представляла в лицах другую историю, рассказанную Эпифоклом о мудром афинском законодателе.
Когда Дионисия — женщина в возрасте — попросила разрешения выйти замуж за знатного молодого человека, Солон ответил ей, что, устанавливая общественные законы, он не может тем не менее переменить законы природы, прибавив, что нельзя допускать в справедливом государстве запоздалых, безрадостных брачных союзов, которые не выполняют главных, полезных целей брака.
Как же это верно и мудро!
Сапфо вдруг обнаружила, что может совершенно спокойно думать о себе и Фаоне, причем в прошедшем времени, словно юноша уже уехал в Афины, а не бродил до сих пор где-то в гневе по здешним лесам.
И даже представлять себя в роли Дионисии и испытывать удовлетворение от ответа на свой невысказанный вслух вопрос, который давал ей сейчас Солон устами Эпифокла.
Слушая рассказы Эпифокла, Сапфо то и дело представляла теперь в этом городе Фаона, радуясь, что юноша своими глазами скоро увидит более справедливое государственное устройство, нежели то, что существует у них на Лесбосе, и даже сам вскоре, став эфебом, будет принимать участие в общественной жизни.
Можно ли лишать мальчика подобного будущего из-за каких-то женских прихотей или даже страстей?
О, нет, это было бы слишком жестокой несправедливостью!
Да и Филистина теперь, похоже, переключилась на свою собственную судьбу, перестав постоянно заводить с Сапфо диалоги об отъезде Фаона.
Последний раз она уже вообще перешла всякие границы и принялась сочинять что-то про свои дурные предчувствия, даже интонациями и голосом подражая Сандре, Сапфо тогда быстро ее раскусила и снова перевела разговор в шутку.
А сама Сапфо, после ночи под крылом Гекаты, словно и вовсе успокоилась и могла уже думать о прекрасном Фаоне без колотящейся, неугомонной музыки в сердце.
— Не скрою, Эпифокл, — произнес Алкей, внезапно останавливаясь на месте. — Твой рассказ о Солоне поразил меня в самое сердце. Вот пример, как много способен сделать для государства всего один человек, если он действительно обладает светлым умом и высокой душой!
И Алкей патетически потряс в воздухе кулаками, словно именно он и был таким человеком или, по крайней мере, собирается им стать.
— Вот что, друзья мои, я понял, что должен сейчас срочно отправляться в столицу, чтобы не пропустить совета, который надумал собрать Мнесий, — я ни в коем случае не должен пропускать такого важного для моего государства дела! — и Алкей слегка ударил себя в грудь. — Наш Мнесий не настолько сведущ в делах политического устройства, чтобы полагаться лишь на свой ум!
— Я так понял, Алкей, что ты являешься сторонником демократии? — поинтересовался Эпифокл.
— А что? Это предосудительно или похвально?
Но Эпифокл не стал напрямую отвечать на этот вопрос и лишь задумчиво произнес:
— Я слышал, что некоторые варвары привыкли поклоняться одному идолу, называя его каким-нибудь труднопроизносимым именем. Мы, свободные греки, тоже почитаем за главного своего Зевса. Но вместе с ним на Олимпе находится место для множества других богов, и каждый отвечает за свой удел и заведует своим делом — разве не так? Мне кажется, на Олимпе существует особая демократия, с которой берет пример Солон и другие мудрые правители.
— Как бы ни было, но я могу сказать определенно, что ненавижу таких двуличных тиранов, как Питтак, и в то же время ничуть не меньше презираю охлократию — власть толпы, потому что считаю ее еще худшим злом, — ответил Алкей. — А сейчас я сделаю так: на время покину ваше общество и отлучусь в столицу, но завтра вернусь сюда снова.
«Зачем?» — чуть было не спросила Сапфо, но вовремя удержалась от столь невежливого вопроса.
Особенно Сапфо почему-то не хотелось, чтобы Алкей сейчас ответил что-нибудь в том духе, что не в силах пробыть в разлуке с ней больше одного дня, или еще какой-нибудь поэтической строкой, которые всегда у него были наготове на языке.
Но Алкей и сам почувствовал, что нужно как-то объясниться, и торопливо добавил:
— Мне все же хочется проводить моих дорогих друзей с надлежащими почестями. И потом, я ведь обещал Леониду сочинить в честь него гимн, который прославит его как великого путешественника!
Эпифокл, выразительно хмыкнув, посмотрел на Алкея, и тот понял значение этого взгляда и вспомнил про другое свое обещание.
— Сейчас у меня в работе также находится поэма о свойствах времени и часах, изобретенных нашим Эпифоклом, — прибавил поэт важно. — А также несколько гимнов, которые прославят его научные открытия, — я пишу их по специальному заказу.
— Но я раньше думал, что поэты не умеют писать стихи по заказу, — заметил Гермий.
— Разумеется, но ведь речь идет о моих близких друзьях, и поэтому я говорю лишь о заказе моего сердца, — тут же нашелся с ответом Алкей.
А про себя сердито подумал: «Язык мой — враг мой. Вечно всем наобещаю, наговорю гору приятных слов, а потом ведь действительно приходится что-то делать. Нет, нужно впредь быть поосторожнее с обещаниями. Вот Сапфо — она ведь никогда никому ничего не обещает сочинить, и поэтому все так радуются, если она кому-нибудь напишет хоть строчку посвящения. А от меня все ждут стихов, да потом же еще и сердятся, что я слишком долго их сочиняю…»
Но в то время, когда все эти соображения быстро крутились в голове Алкея, ноги его уже шагали по направлению к дому, а язык готовился издать приказание слугам побыстрее готовить повозку и собираться в дорогу, чтобы засветло добраться до столицы.
И теперь Алкей подумал, что, пожалуй, даже к лучшему, что ему временно придется уехать — этого времени как раз хватит на то, чтобы Фаон одумался и перестал напрасно дуться на весь белый свет.
Кроме того, ведь именно он, Алкей, на самом деле теперь держал в своих руках невидимые вожжи, управляющие судьбой этих людей.
Леонид все равно не отправится в путь, пока Алкей не договорится о покупке дома, куда переедет Филистина, дожидаясь возвращения жениха с Фасоса и занимаясь подготовкой к свадьбе.
Следовательно, Алкей может быть совершенно спокоен, что путешественники не отправятся в путь без его ведома, и поэтому может столько, сколько будет нужно, заниматься делами государственной важности.
— Видишь, Клеида, — вот они какие, настоящие поэты, — сказал Гермий, глядя вслед Алкею. — Слова Эпифокла настолько воодушевили Алкея на собственные подвиги, что он тут же переменил все свои планы и поехал в столицу.
И Клеида впервые поглядела на жениха с некоторой опаской, не слишком-то желая, чтобы он во всем брал пример с таких чудных людей, как ее родная мать, или Алкей, или тем более с переменчивого старика, который умеет показаться то сумасшедшим, то разумнейшим из смертных.
А тем временем Сапфо и ее спутники дошли до большой поляны, откуда был виден краешек моря, так что Эпифокл сразу же перекинулся на рассуждения об удивительных свойствах воды.
Гермий слушал ученого с неослабевающим интересом, в то время как сама Сапфо теперь все больше в задумчивости поглядывала то на свою Клеиду, то на ее жениха.
Признаться, известие о скором замужестве Клеиды прозвучало для матери как гром среди ясного неба, и лишь привычка сдерживать свои чувства помогла Сапфо не показать всем своего смятения.
Поначалу Сапфо даже вознегодовала до глубины души: какая нужда у дочери так рано связывать себя узами брака?
Ведь теперь Сапфо была убеждена: для того чтобы по-настоящему разглядеть, насколько тебе дорог тот человек, с которым собираешься прожить целую жизнь, нужно немало времени, и ей не хотелось, чтобы Клеида приняла за любовь обыкновенное взаимное влечение тела.
Такое, какое в свое время возникло между ней и Кериклом.
Впрочем, это было не совсем так — ведь в момент замужества Сапфо тоже страстно обожала своего Керикла, и не было такой силы, которая могла бы отвратить ее от мысли о браке.
Лишь потом, спустя какое-то время…
Но ведь бывает, что и после раннего замужества девушки живут долго и счастливо со скороспелыми избранниками, ни на минуту не сомневаясь в первоначальном выборе?
Как угадать? Где тут правда?
Надо сказать, что Сапфо совершенно запуталась в собственных противоречивых чувствах и воспоминаниях, не зная, как оградить Клеиду от лишних несчастий и переживаний, и в то же время не желая помешать счастью дочери неправильными советами.
Но, странное дело, чем больше она сейчас прислушивалась и присматривалась к Гермию, тем спокойнее становилось у нее на душе.
Похоже, что этот застенчивый на вид, но довольно твердый в своих убеждениях юноша был словно второй, недостающей половинкой Клеиды, которая, наоборот, умела со стороны казаться резкой, но в душе слишком часто колебалась в своей правоте, и постоянно нуждалась в том, кто мог бы ей дать подсказку.
Но ведь довольно Клеиде жить умом только старого Скамандронима!
Нет уж, лучше пусть она почаще прислушивается к своему Гермию, который словно неприметно разворачивал невесту в сторону более терпимого отношения к людям, в том числе — к собственной матери.
Сапфо не могла нарадоваться, что уже во время одной этой прогулки Клеида потихоньку поведала ей несколько девических тайн и разговаривала скорее как с подругой, а не просто по необходимости толковала об общих семейных делах.
В порыве нежности они даже обменялись браслетами — стоило только Клеиде высказать восхищение по поводу серебряной химеры с глазами из лунного камня, обхватившей кисть Сапфо, как она тут же с радостью надела дорогую вещицу на запястье дочери, радуясь лишней возможности нежно подержаться за смуглую, теплую руку Клейсочки.
У меня ли девочка Есть родная, золотая. Что весенний златоцвет — Милая Клеида! Не отдам ее за все Золото на свете[38] —вспомнила Сапфо, как сложились когда-то эти строки.
Тогда она вела по дороге маленькую Клеиду за теплую ручку, а та деловито расспрашивала маму, за сколько монет повивальные бабки обычно продают бездетным женщинам детей, и могут ли потом мамы самых непослушных деток отдавать обратно, особенно интересуясь, возвращают ли бабки обратно плату, или деньги вовсе пропадают.
«Вот оно — мое золото, — подумала Сапфо, глядя на дочь. — Наверное, у каждого свое золото, а у меня — такое».
Они теперь как раз стояли на священной поляне, где недавно проходили первые «фаонии», и Сапфо поняла, что это вовсе не случайное совпадение — она должна поблагодарить Афродиту за то, что та подыскала Клеиде такого славного жениха, как Гермий.
Сапфо сняла с головы венок и подошла к алтарю.
На белом камне до сих пор еще лежали другие венки, в том числе и тот, который всего несколько дней назад украшал во время праздника светлые пышные кудри Фаона.
Правда, теперь венок Фаона завял и весь размок от обильных дождей, но все же его можно было узнать среди прочих по искусно вплетенным в него синим цветочкам, наподобие мелких звездочек.
«Спасибо тебе, Афродита! — с чувством мысленно произнесла Сапфо, благодаря за Клеиду, но еще больше — за себя, а точнее, за то, что богиня дала ей все-таки силы отказаться от безумной страсти. — Я знаю, что ты любишь меня, Киприда! Ты научила меня самому трудному — отказу: уметь все дать — и не раскрыть ладони, хотеть все сказать — и не разомкнуть уст! Каким-то непостижимым образом ты показала мне силу еще большую, чем любовь. Ведь для того, чтобы подавить в себе любовь, отказаться от нее, нужно поистине особое, невероятное усилие, о котором знаешь лишь ты и твои любимицы, которых ты посвятила в свою великую науку…»
— Скажи, Клеида, что труднее — дышать или не дышать? — спросила Сапфо, обращаясь к дочери, и Клеида увидела, что лицо матери буквально светится от непонятной радости, словно она и вправду только что увидела наяву и поговорила с кем-то из великих богов.
Клеида пожала плечами и даже на всякий случай оглянулась по сторонам, но не увидела на поляне больше никого, кроме сидящих на траве Эпифокла и задумчиво жующего травинку Гермия.
«Что и говорить, Гермий прав, уверяя, что моя Сапфо необычная женщина и к ней не следует применять общие мерки, — подумала Клеида, глядя на сияющее, радостное лицо Сапфо. — Напрасно я, наверное, постоянно повторяю слова Скамандронима, для которого она все равно всегда будет только непослушной дочерью, а дядя Харакс — непослушным сыном».
Желая не мешать Сапфо молиться, Клеида тихо отошла в сторону, а потом принялась собирать на поляне цветы и раскладывать букетики на алтари, чувствуя, что делает правильное, угодное богам дело.
Но дойдя до самого края поляны, где из больших белых камней был сложен жертвенник Зевсу-громовержцу, Клеида вздрогнула и отпрянула.
— Мама, — прошептала она, подбегая к матери и испуганно, по-детски дергая ее сзади за полу одежды. — Там он, тот… Он спит.
Сапфо, а также мужчины осторожно подошли к месту, на которое указывала Клеида, и увидели спящего в траве Фаона.
Юноша, измученный обидой, и стремительным бегом по лесам и долам, и предыдущей бурной, бессонной ночью, должно быть, пришел сюда пожаловаться на людей своим небесным покровителям, да так и незаметно заснул возле алтаря, пригревшись на солнышке.
Фаон спал, уютно свернувшись в траве калачиком и подложив под голову растопыренную ладонь, и на щеке его до сих пор не просохла недавняя слеза, похожая на редкостной красоты розоватую жемчужину, тем более что рука юноши сейчас по форме чем-то напоминала морскую раковину.
Все, кто подошел к алтарю, смотрели на раскрасневшегося во сне Фаона с немым изумлением — он сейчас казался удивительно безмятежным и прекрасным!
— Порой мне приходит в голову, что мальчику с такой наружностью больше пристало жить с небесными, морскими или даже подземными богами, но не здесь, среди людей, — шепотом сказал Эпифокл, первый нарушая благоговейное молчание.
— А разве он не сын кого-нибудь из богов? — спросила Клеида, с любопытством оглядывая нежнейшего из нежных юношу. — Разумеется, такого, как он, слишком легко обидеть грубым обращением…
— Он плакал, — вздохнув, сказала Сапфо.
Но если еще вчера сердце Сапфо при виде этой слезинки могло бы сразу затрепетать, то сейчас она глядела на Фаона спокойно, созерцательно и серьезно, словно на прекрасное произведение искусства.
Те, кто сейчас стоял рядом с Сапфо — дочка, Гермий, даже взбалмошный Эпифокл, были ей родными и близкими, а Фаон почему-то казался пришельцем из совсем иного, бесконечно далекого и даже чуждого, хотя и прекрасного мира.
Наверное, Фаон почувствовал, что на него смотрят, и внезапно пошевелился во сне, открыл глаза, а потом испуганно сел на траву, обводя всех непонимающим взглядом.
— Я рад, что наконец-то нашел тебя здесь, Фаон, — проговорил хитрый Эпифокл, сделав вид, как будто он только тем и занимался, что все это время гонялся по холмам в поисках мальчишки. — Потому что должен извиниться за свою несдержанность. И я доволен, что могу сделать это не только в присутствии наших друзей, но также и богов, которые всегда незримо обитают на этой священной поляне. Надеюсь, ты не будешь на меня больше сердиться и мы останемся друзьями?
Но Фаон по-прежнему молчал — лишь тыльной стороной ладони вытер со щеки предательскую слезу и насупился.
— Хочу тебе сказать, Фаон, что Эпифоклу уже и так пришлось дорого заплатить за то, что порой он говорит много лишнего, — с улыбкой поддержал Эпифокла Гермий. — Сегодня философу это стоило кучу золотых, так что он и так уже наказан.
Но Фаон по-прежнему не говорил ни слова и смотрел на всех странным взглядом.
— Ну что с тобой, Фаон? — спросила мягко Сапфо. — Неужели ты до сих пор никак не можешь победить свой гнев? Ведь ты же у нас сильный.
— Я — влюбился, — вдруг объявил Фаон, и все вокруг невольно улыбнулись, глядя на торжественный вид, с которым юноша произнес это признание. — Я полюбил так, как никого и никогда в жизни, и молился здесь всем богам, чтобы они помогли мне найти мою любимую. А на тебя, Эпифокл, я уже не сержусь — ты старый человек и ни в чем не умеешь сдерживать себя.
— Да? Хм, хм, — недовольно захмыкал Эпифокл. — И кто же счастливица, на которую положил глаз наш молодой красавчик? Не понятно, почему ее, Фаон, нет сейчас рядом с тобой? Помнится, в свое время я не был таким скромником. Или ты хочешь убедить меня в невозможном: в том, что молодости сопутствует лишь сдержанность?
— Но… я не знаю, кто она такая, — потупился Фаон. — Было слишком темно, и потом везде звуки и краски праздника… Но она — та, кому покровительствует Селена и все ночные богини. Да, скорее всего, она должна быть смуглая, как ночь, и такая же нежная и желанная.
— Хм, хм, любопытная история, — заметил Эпифокл, который был большим охотником для всевозможных рассказов интимного характера. — Значит, женщина тебе отдалась, но ты не догадался, кто она? Хм, хм, очень занимательно, ничего не скажешь. Наверное, это очень смелая и горячая женщина, не так ли?
— О! Я не могу передать, какая она! — воскликнул Фаон, поднимая на слушателей черные, горящие неземным огнем глаза. Сапфо показалось, что в этот момент юноша чем-то неуловимо сделался похож на Сандру во время ее пророческих видений. — Она… она… я понял, что снова желаю ее больше жизни! И она обещала всегда принадлежать только мне одному. Я не знал, никогда даже не думал, что такое бывает с людьми. Клянусь, Эпифокл, я теперь нигде не могу найти себе места и весь горю, словно в огне! Я несколько раз нарочно даже искупался в ледяном ручье, но этот жар не проходит, а становится словно еще сильнее!
Сапфо теперь боялась поднять на Фаона глаза и с необычайным вниманием рассматривала в своей руке веточку ивы, которую сорвала по дороге, чтобы отмахиваться от мух — они к осени становились особенно назойливыми, беспокойными.
У ивы были узкие, тонкие листья — с одной стороны еще зеленые, глянцевые, но уже тронутые осенними холодами с другой — обратной стороны.
Или деревья накануне неизбежной зимы тоже покрываются сединой и потом в отчаянии разматывают по ветру свои длинные белые космы?
— Да, мой мальчик, — ответил за всех Эпифокл. — Наверное, ты действительно узнал, что такое любовь. Ведь любовь не заешь, не запьешь и не смоешь в холодном ручье, как ты пытался это сейчас сделать…
— Но… может быть, ты знаешь какое-нибудь лекарство? — растерянно прошептал Фаон. — Ведь ты же такой умный, Эпифокл! А то я совсем не могу так теперь жить.
— Лекарство только одно, — улыбнувшись, кивнул Эпифокл. — Целовать свою любимую и все время лежать рядом, сливаясь нагими телами. Хм, хм, я помню, как же, хорошо помню, как тоже когда-то люто терзался и душой, и телом — то, как избитый, стонал, то, как мертвый, молчал, то, словно палимый огнем, в реки кидался…
Даже сдержанная Клеида, вспыхнув, посмотрела на Гермия, и он с пониманием улыбнулся ей в ответ, подтверждая взглядом, что скоро они в полной мере отведают лекарство, рекомендованное философом всем влюбленным.
Фаон тоже посмотрел на Клеиду, задерживаясь взглядом на незнакомой, смуглой девушке и особенно почему-то уставившись на ее браслет.
Затем быстро вскочил на ноги и нетерпеливо схватил Клеиду за руку, ощупывая браслет, который вчера ночью был на руке Сапфо.
Надо же, обычно Сапфо всегда снимала на ночь с себя украшения, или, по крайней мере, не надевала на следующий день одни и те же побрякушки, придерживаясь мнения, что и одежда, и украшения должны сменяться на людях так же неизменно, как меняются погода, настроение, произнесенные вслух слова.
Но вчера после праздника она заснула в полном изнеможении, забыв обо всем на свете, а утром вскочила с кровати, внезапно разбуженная неожиданным известием о приезде дочери.
Неужели Фаон узнал браслет на ощупь?
Или успел разглядеть его необычный узор при лунном свете?
— Я узнал тебя! Это ты! Ты! — вскричал Фаон, принимаясь осыпать плечи Клеиды поцелуями. — Но только скажи, как тебя звать, чтобы я больше тебя не потерял. Я никогда не видел тебя прежде? Кто ты, моя смуглая, ночная незнакомка?
— Опомнись, безумный, — вскричал Гермий, отталкивая Фаона. — Ты ошибся! Это моя невеста, Клеида, дочь Сапфо. Мы все прибыли сюда только сегодня утром! Тебе нужно еще разок окунуться в холодную воду, а то ты, кажется, совсем обезумел, словно тебя кто-то укусил.
— Дочь? Это твоя дочь, Сапфо? — спросил Фаон, на которого сейчас было жалко смотреть. — Как? И ее не было вчера с нами на празднике?
— Нет, Фаон, — покачала головой Сапфо, нервно обмахивавшая лицо ивовой веткой, словно надеясь каким-то образом спрятаться от всех за тоненькими листочками. — Она приехала из города только сегодня.
Сапфо с ужасом подумала, что сейчас Фаон заговорит про браслет, и тогда мгновенно выяснится, на чьей руке он только что был, и тогда…
Но Фаон был вовсе не в таком состоянии, чтобы хотя бы попытаться в чем-либо разобраться.
Издав непонятный вздох, больше похожий на всхлип, он действительно, словно ужаленный оводом, бросился прочь в сторону ручья — его постоянно тянуло к тому месту, где произошла памятная, ночная встреча с незнакомкой.
— Но… что все это значит, Сапфо? — спросил Гермий, провожая глазами стремительно удаляющуюся фигуру прекрасного, но не менее странного юноши, который, похоже, снова бежал сейчас от людей гораздо быстрее любого, самого прославленного бегуна на Олимпийских играх. — Что с ним такое?
— Не знаю, — тихо произнесла Сапфо.
Она действительно ничего, ничего не знала о том, что же ей надо делать дальше.
Кстати, Сапфо не могла еще знать и того, что в сильном недоумении по поводу стремительного побега Фаона находились также кухарка Вифиния и колбасник Кипсел, которые давно уже примостились на высоком холме, откуда как на ладони были видны и жертвенная поляна, и группа гуляющих.
У Вифинии с любовником имелась давнишняя договоренность, что два раза в неделю они в одно и то же время приходили на поляну приносить богам жертвы, а потом украдкой поднимались в условленное место.
Для любовных утех они облюбовали себе на редкость удобную ложбинку, заросшую кустарником, открытую лишь с отвесной, неприступной стороны холма, откуда удобно было наблюдать и за дорогой, и за поляной.
А Вифиния могла отсюда даже заодно приглядывать, идет ли дома дым из трубы, или ее ленивая помощница, радуясь, что главная кухарка отлучилась от горшков, тут же тоже улизнула из дома, а потом еще и сделать нерадивой негоднице строгий выговор.
Но особенно любила Вифиния, да и колбасник тоже, после того, как первое удовольствие уже было получено, комментировать все, что делалось на поляне, обсуждать, кто, какие и почему приносит богам жертвы, кто и с кем отправился гулять, и высказывать на этот счет свои суждения, при этом то крепко переругиваясь между собой, а то валяясь на траве, схватившись от смеха за животы.
— Поглянь-ка, Вифа, — толкнул Кипсел свою любовницу в толстый бок, призывая поскорее перевалиться на живот и присоединиться к просмотру очередной интересной сцены. — От твоей хозяйки, от Сапфо, все мужики сейчас разбежались, как будто их сверху кипятком окатили! Во дела! Сначала длинный с бородкой, который всегда так ходит, словно палку проглотил, а теперь еще мальчишка, Фаон, который стал в последнее время у вас в доме крутиться. Гляди-ка как бежит!
— Да? — лениво повернулась Вифиния — после скорых, грубых ласк Кипсела, мявшего ее своими ручищами, словно фарш, кухарку обычно сразу же тянуло в сон. — Гляди-ка, а старик тоже бы небось побежал, да он и так еле ходит, а к тому же вон и без палки сегодня. А худой чего-то сделался! Послушай, Кипсел, может, у него понос от твоей колбасы? Что-то ты в последнее время стал туда маловато класть чеснока, а один раз и вовсе с душком принес. Ты лучше честно говори: другую, что ли, нашел? Неужто получше меня?
— Не болтай, Вифа, — сыто улыбнулся и даже облизнулся Кипсел. — Мне другой, кроме тебя, не надо… Но я вот что давно спросить хочу, да как-то все забываю, а теперь на твою хозяйку глянул, и мне снова на ум заскочило: подскажи мне, Вифа, а как же это женщина с женщиной любовью может заниматься? А?
— Чего? — даже приподнялась на локте Вифиния. — Чего это ты, Кипсел, совсем, что ли, спятил? Я-то откуда могу знать? И, потом, тебе что за дело?
— Ну, я так, просто. Думаю, как же они друг друга балуют, а? Языком, что ли, друг дружку с ног до головы облизывают, как кошки, или руками тискают? Ведь у них же нету самого главного, чего у нас, мужчин, имеется?
И Кипсел с гордостью продемонстрировал Вифинии свое главное богатство, а потом в глубокой задумчивости уставился на себя сам.
Вифиния прыснула и даже зажала ладонью рот, боясь, что ее может кто-нибудь услышать из-за кустов.
— Надо тебе как-нибудь Диодору допросить, — выговорила она наконец сквозь смех. — Наша старая кочерыжка все про всех знает, но только не говорит ничего, дурочкой слабоумной очень любит прикидываться. Может быть, ты ее своим сокровищем бы тоже поманил, Кипсел, чтобы она сделалась поразговорчивее?
— Тебе бы только посмеяться, — проворчал Кипсел, закрываясь от Вифинии, которая потянулась уже было показывать, как следует подразнить старушку. — А я-то ведь серьезно…
— А коли серьезно, то ты тогда со стариком, с хилосохом нашим поговори. Диодора говорит, он про всякую любовь может с утра до вечера словами воздух вышивать, да только ничего понять не возможно. Посмотришь — а там дырка.
— Дырка? — встрепенулся Кипсел, не слишком вслушиваясь в советы женщины и продолжая размышлять о своем. — Как знать, Вифа. Я порой думаю, может, у женщин там, ну, ты понимаешь где, тоже что-нибудь имеется такое, наподобие нашего, да просто я все время тороплюсь, и мне потому разглядеть как следует некогда. А надо бы поглядеть-то…
— Вот и гляди у своей жены, — привычно огрызнулась Вифиния, которая всегда так отвечала любовнику, если тот что-нибудь говорил или делал такое, что ей было не по душе. — Не пойму, за какую пользу ты тогда ее вообще завел?
— Ну, это было так давно, Вифа, что я уже и позабыл, — также привычно ответил Кипсел кухарке, которой в своей жизни уже, наверное, раз сто, или больше, произносил эту фразу, так что даже научился во время перепалки продолжать думать о чем-то своем. — И потом, ты же знаешь, она у меня худая, как мышь, так что там ни потрогать, ни разглядеть ничего не получится. А давай лучше у тебя посмотрим, а, Вифа? Тебе-то ведь и делать ничего не надо, а я только одним глазком всего-то и взгляну, удостоверюсь, что и как, чтобы уж потом не думалось…
— Ах ты нахал! Нечего тебе, — помотала головой Вифиния, не собираясь слишком быстро сдаваться. — Ой, ой, посмотри, а теперь вон и наша госпожа тоже домой пошла. Никак первого, с козлиной бородкой, догонять. И то верно — не за мальчишками же ей сопливыми бегать? Вот видишь, Кипсел, как ни крути — а без мужчин нам все равно никуда.
— Вот и уступи мне тогда, Вифа!
— Еще чего захотел!
И в кустах снова послышалась веселая возня и охи, которые звучали здесь точно два раза в неделю ближе к вечеру, так что по ним можно было бы делать пометки в календаре.
А Сапфо и впрямь вскоре отделилась от компании гуляющих, сказав, что забыла передать через Алкея в город кое-какие поручения, и пошла в противоположную сторону той, куда со всех ног умчался Фаон.
По дороге к дому Сапфо не могла думать ни о чем другом, кроме как о браслете с химерой.
Какое нелепое совпадение!
Наверное, Фаон вчера при лунном свете, действительно на удивление ярком, разглядел блеснувшее на руке Сапфо украшение.
Да и как не узнать такой вещицы, которая была у Сапфо из коллекции редких диковин!
Какой-то неведомый умелец додумался вместо привычной змейки выплавить из серебра химеру — особое женское существо с головой льва, телом козы и длинным змеиным хвостом, несколько раз обвивающимся вокруг запястья.
Глядя на этот браслет, Дидамия как-то даже пошутила, что эта штучка выдает тайную суть всех женщин, которые носят на плечах головы, созданные повелевать, но при этом обречены иметь на редкость податливые, как у коз, тела, которые влекут за собой тайные, извилистые желания.
Сапфо тогда посмеялась по поводу замечания подруги, но сейчас ей было не до смеха!
Ведь наверняка и реплику Дидамии, и сам удивительный браслет, принадлежащий Сапфо, запомнили многие, а значит, совсем не сложно будет и вычислить ночную, «ритуальную» любовницу Фаона.
Навряд ли подруги будут ее осуждать — разумеется, дело не в этом.
В конце концов, речь идет о празднике, об игре, к которой не стоит относиться слишком серьезно.
Но все же — как поведет себя Фаон, если узнает, что обладал ночью вовсе не обычной «козочкой», а Сапфо?
А что скажет Клеида? Или Гермий?
Что подумает Алкей?
Нет, это невыносимо! Нужно что-то срочно делать, чтобы история со злополучным браслетом не получила широкой огласки.
Но затем, думая о браслете, Сапфо невольно стала вспоминать знаменитый миф про Химеру, которая на самом деле выглядела вовсе не такой блестящей, отточенной красавицей, как изобразил ее ювелир родом из Лидии.
Говорят, что Химера представляла собой жуткое, непонятное существо, что-то вроде ужасного дракона женского рода, который в древние времена опустошил всю Ликию и Карию.
Из пасти Химеры вылетали огонь и дым, она была крылата, как вихрь, мохната, как туча, и умела сверкать в воздухе своим переливчатым хвостом, подобно молнии.
И Сапфо вдруг догадалась: ну, конечно, Химера просто-напросто была похожа на необузданную женскую страсть, вот на самом деле что она была такое!
И такая страсть действительно способна уничтожать на своем пути все живое, если дать ей на это волю.
Не случайно Химера возомнила, что может взлететь на Олимп и сравняться с богами, объявить свою сущность божественной.
Но не тут-то было: Беллерофонт на Пегасе, то есть оседлав мужским разумом воображение, сумел все-таки победить Химеру и с удивлением увидел ее распластанной на земле — с померкшими крыльями, холодной, нелепой…
Чем не поучительная история для женщин, которые ставят любовные страсти превыше всего?
Да, но ведь у этой сказки было еще более невероятное продолжение: победив чувственную Химеру и, казалось бы, утвердившись в силе разума, Беллерофонт сам попал под ее необъяснимую власть, так как в нем вдруг тоже возникла химерическая, совершенно несбыточная мечта взлететь на Олимп, которая в конце концов его также погубила.
Тогда получается, что тот, кто хочет насильно победить женскую страсть, неизменно становится ее жертвой?
Нет, самое лучшее — все же не вступать с ней в борьбу, а ждать, когда она сама утихнет.
Или мудрый, древний миф можно растолковать как-то еще?
…Сапфо застала Алкея, когда тот уже готовился выезжать со двора на своей биге — двухколесной колеснице, которая использовалась обычно на спортивных состязаниях, но знатные люди катались на ней и просто так, подчеркивая, что вся их жизнь может расцениваться тоже как нескончаемое соревнование за славу и почести.
— Хорошо, что я тебя застала, Алкей, — проговорила, несколько запыхавшись, Сапфо. — Я думала, что не догоню.
— О, прекраснейшая из прекрасных! — тут же на полном ходу остановил бигу Алкей. — Ты давно меня уже перегнала! Но я не могу поверить своим глазам: неужели ты вернулась с прогулки только специально затем, чтобы проводить меня?
— Да, и за этим тоже, — ответила Сапфо. — Но я также хотела поговорить с тобой о своей подруге, о Филистине…
— О нашей невесте? — улыбнулся Алкей. — Подумать только, Сапфо: две свадьбы сразу — у Филистины и у твоей дочери. Но ведь можно было бы справить сразу три свадьбы, и тогда веселье получилось бы еще больше. Подумай об этом, Сапфо, пока еще не поздно!
— Хорошо, я подумаю, — привычно проговорила Сапфо. — Но я хотела узнать, Алкей, будет ли участвовать сегодня в вашей вечерней сходке Митридат или он сейчас находится в отъезде?
— Покровитель Филистины? — уточнил Алкей. — Да, я думаю, что увижу его сегодня в нашем кругу и буду иметь возможность поговорить со всеми из своих друзей. Леонид попросил меня узнать о хорошем доме на продажу. Ты хочешь попросить, чтобы я раньше времени не выдавал никому ваших женских тайн?
— Насколько я знаю, Митридат в свое время выставлял на продажу дом, в котором сейчас живет Филистина. Поговори с ним: может быть, он согласится продать именно этот дом, чтобы Филистина осталась в нем жить, как и прежде, но при этом могла бы чувствовать себя там хозяйкой? И вот что еще: если Митридат вдруг начнет жадничать, я сама могла бы добавить из своих средств недостающую сумму. Думаю, от больших денег Митридат не сможет отказаться.
— Но зачем? — удивился Алкей. — Ведь в Митилене много домов ничем не хуже.
— Ах, я слишком хорошо знаю нашу нежную Филистину, — пояснила Сапфо, невольно подражая интонациям подруги. — Поверь мне, Алкей, слишком большие перемены — словно тяжелый камень для ее хрупкой души. Для Филистины лучше всего было бы пока пожить в привычной обстановке, в доме, где ее будут окружать прежние вещи и слуги, а уж потом… Потом будет видно.
— Но зачем это тебе, Сапфо? — не понял Алкей.
— Что поделаешь, душевный покой любимых людей стоит недешево, — коротко пояснила Сапфо. — Но за него не жалко никаких денег.
«Проклятье! Если бы мужчины пеклись друг о друге так, как это умеют делать женщины, — с невольной завистью подумал Алкей. — У нас все не так: дружба дружбой, но каждый за себя, и денежки сроду врозь…»
Но быстрый ум Алкея тут же нашел утешительное объяснение:
«Ну и что! Выходит, так нарочно сделали боги, чтобы мужчина чувствовал свою силу и никогда не ждал ни от кого помощи…»
— И как только ты успеваешь думать обо всех своих подружках? — сказал Алкей вслух. — Хотелось бы верить, что когда-нибудь ты будешь так же переживать и о своем новом доме, а точнее, о нашем общем доме…
И Алкей снова выразительно взглянул на Сапфо, надеясь, что она что-нибудь скажет в ответ, но женщина только слегка пожала плечами, которые, надо сказать, у нее были на редкость красивыми и гладкими.
— Так и быть, Сапфо, — проговорил Алкей, тоже сделав серьезное, озабоченное лицо и снова хватаясь за вожжи. — Я поговорю сегодня с Митридатом о твоем деле и постараюсь его уладить. Я полагаю, что если бы Леонид просто захотел отнять у него гетеру, то могла бы возникнуть немалая склока, но так как он берет Филистину в законные жены, то Митридат не должен сильно обижаться. Тем более, я слышал, ему сейчас не до того — на днях он собирается в Персию с большой партией оливкового масла, и все время проводит на давильне, позабыв, что такое сон, а также про спальни с гетерами и мальчишками…
— Спасибо. Алкей, я всегда считала тебя хорошим другом.
— И все? Разве ты не поцелуешь меня на дорожку, Сапфо? — спросил Алкей, со смехом указывая пальцем на щеку. — Ха, я и забыл — для этого мне сначала следует перемазаться углем или глиной, а то будет как-то непривычно. Сдается мне, чтобы вызвать твою любовь, фиалкокудрая, нужно быть рабом на галере, чернокожим дикарем либо прокаженным.
— По меньшей мере — женщиной! — улыбнулась Сапфо.
— Но это мы еще посмотрим! Уверяю тебя, что наступит время, когда ты будешь гораздо больше всех, вместе взятых, ценить одного великого поэта, который, к тому же, сделал наш славный Лесбос самым процветающим государством! Но-о-о, вперед, четвероногие!
И Алкей лихо тронулся с места, оставляя после себя на дороге облако пыли и с улыбкой думая о своем вкладе в государственные дела, представляя эффектное сегодняшнее выступление перед друзьями с цитатами из Солона и одновременно мысленно обозревая свою пока что пустую спальную комнату, в которой непременно когда-нибудь окажется Сапфо, а также Фаон.
Сапфо — на правах законной супруги, а Фаон — как друг семьи, бедный родственник, сирота, ученик, сладкий дружок — да как угодно!
Главное, что все это случится совсем скоро и принесет с собой немало новых радостей.
А Сапфо, как только зашла в дом, вдруг услышала чье-то пение.
Незнакомый, несколько робкий, но очень красивый голос выводил длинную песню о свадьбе Андромахи и Гектора, которую Сапфо сочинила несколько лет назад в подражание Гомеру, когда в школе устраивался большой праздник, посвященный великому слепому поэту:
…Гектор с толпою друзей через море соленое На кораблях Андромаху везет быстроглазую, Нежную. С нею — немало запястий из золота, Пурпурных платьев и тканей, узорчато вышитых, Кости слоновой без счета и кубков серебряных …[39]— Кто это? Кто это поет? — удивленно спросила Сапфо Дидамию, которая в одиночестве сидела в комнате за маленьким столиком, делая на папирусном свитке какие-то пометки.
— Т-ш-ш! Тихо, — приложила палец к губам Дидамия. — Наша Гонгила вдруг сегодня прочистила свое узкое горлышко.
— Какой, оказывается, у нее красивый голос! — удивилась Сапфо. — Странно, что она никогда раньше не пела вместе с нами.
— Ничего, бывает, что человек не умеет услышать свой истинный голос и до глубокой старости, — рассудительно ответила Дидамия. — А зато другой так накричится в детстве, что уже в юности замолкает до конца дней. У всех людей свое время, главное — не вмешиваться в волю богов…
…Все молодые, прекрасные юноши закурилися ладаном, В радости жены вскричали, постарше которые, Громко мужчины пеан затянули пленительный…[40]Дидамия кивала головой в такт словам свадебной песни, а Сапфо видела, что подруге сегодня невыразимо грустно.
Нет, Дидамия явно не принадлежала к числу тех жен из песни Сапфо, которые «в радости вскричали», узнав о свадьбе Филистины и Леонида.
— Обычно свадебные гимны нашим девушкам запевала Филистина, — грустно пояснила Дидамия. — Вот, наверное, Гонгила и подумала: не может же невеста петь сама себе…
Сапфо присела рядом с Дидамией и молча обняла подругу.
Дидамия сразу же глубоко вздохнула, и голос ее дрогнул.
— Боюсь, Сапфо, как бы Леонид не увез нашу Филистину на край света, — пожаловалась она доверительно. — Помнишь, ведь наша Аттида тогда тоже сначала не хотела уезжать в Лидию, но вскоре после свадьбы переменила свое решение и, обливаясь слезами, покинула Лесбос. Напомни, Сапфо, как заканчивается та песня, где ты писала о разлуке с Аттидой?
…И томит ее плен разлуки сирой. Громко нас Кличет… Чуткая ловит ночь И доносит из-за моря С плеском воды непонятных жалоб отзвук[41], —без особого желания тихо прочитала вслух Сапфо, зная, что давнее стихотворение только еще больше прибавит Дидамии печали.
— Вот-вот, скоро ты напишешь такое же стихотворение и о Филистине, — помолчав, сказала Дидамия.
— Нет, не напишу, — нахмурилась Сапфо.
Она не стала говорить сейчас и без того бесконечно грустной Дидамии, что почему-то больше не пишет стихов.
Боги вдруг отобрали у нее этот дар!
Но зачем оповещать об этом всех раньше времени?
Сапфо подумала, что скоро про ее великое несчастье и так узнает весь свет, а в первую очередь — любимые подруги, для которых такая новость будет похуже похоронной.
— И ведь это же не проходит, Сапфо? — положила голову на плечо подруге Дидамия и заглянула в глаза. — Скажи, ты ведь до сих пор вспоминаешь свою Анакторию, о которой как-то мне рассказывала?
Дидамия — такая по-матерински большая и уютная, — привыкшая, что обычно к ней самой ласкаются девушки, редко позволяла себе подобные слабости.
И лишь Сапфо чувствовала моменты, когда сильная подруга и сама нуждалась в утешении.
Вот и теперь Сапфо с нежностью погладила Дидамию по черным, жестким волосам, тоже словно хранившим в себе какую-то неподатливую, мощную силу.
— Каждый день, Дидамия, — честно ответила на вопрос подруги Сапфо. — Каждое утро, день и вечер.
— Вот видишь… Я вначале даже подумала, что попрошусь в дом Филистины рабыней, и тоже уеду с ней за море — буду учить ее детей нашему языку, песням. Но — нет, я уже не смогу, Сапфо, вернуться в свое прошлое. Как бы я ни любила Филистину — все равно не смогу.
— И не надо, — сказала Сапфо. — Кому-то надо уезжать, а кому-то — оставаться. И потом не стоит огорчаться раньше времени. Сначала мы проводим в Афины Фаона, потом Леонид высадит Эпифокла на береге острова Фасос и снова сюда вернется. Я слышала, он ведь собирается покупать в Митилене для себя и Филистины дом.
— Дом? — встрепенулась Дидамия. — О, Сапфо, вот поистине отличная новость! Я думаю, надо сказать об этом Филистине, а то она закрылась у себя в комнате, ходит из угла в угол. Вначале я подумала, что Филистина просто гуляет. Но она, кажется, плачет.
— Плачет?
— Да, Сапфо, ведь она поклялась перед алтарем Афродиты, что станет женой Леонида прежде, чем разузнала о его планах на будущее, и теперь страшится своей судьбы. Наверное, она уже тоже оплакивает разлуку с нами.
— Боги, ну какие же вы у меня смешные и… глупые! — грустно улыбнулась Сапфо. — Хуже малых детей, хоть и строите из себя серьезных наставниц. Пошли, Дидамия, я думаю, что Филистина откроет мне дверь… Или мы попросим Диодору. В конце концов, кто, как не она, главная распорядительница в нашем доме?
Когда же Филистина в конце концов на стук открыла дверь своей комнаты, Сапфо не узнала прекрасной, бедной подруги.
Лицо первой красавицы Лесбоса было совершенно опухшим от слез и меньше всего напоминало сейчас внешность счастливой невесты.
Сапфо вспомнила, что почти такой же, только даже еще более неузнаваемо-страшной, Филистина выглядела много лет назад, во время погребения праха маленькой Тимады.
Многие женщины, оплакивая покойника, во время погребального пения имеют обыкновение посыпать себе волосы пеплом и в кровь раздирать лицо — и Сапфо видела в этом обряде глубокий, справедливый смысл.
Немыслимо женщине сиять красотой и ловить на себе восхищенные взгляды в то время, когда ее родная душа бредет, содрогаясь, по подземному царству.
Но тогда, в скорби по маленькой Тимаде, Филистина разодрала свое нежное личико так сильно, что у нее потом еще долго на щеках виднелись глубокие, розовые шрамы.
Но какая причина у нее сейчас так сильно изводиться?
— Ах, я знаю, я все знаю, что вы обо мне думаете, — ответила на немой вопрос подруг Филистина. — Конечно, вы ничего такого сейчас не говорите и никогда не скажете вслух, но все равно, но все равно будете молча думать так обо мне…
— Что ты имеешь в виду, родная? — подсела Дидамия к подруге на небрежно прикрытую кровать, обложенную детскими игрушками. — Ты что-нибудь от нас скрываешь? Может быть, ты не любишь Леонида? Может, он взял тебя силой, или хитростью, и теперь держит в страхе? Скажи, Филистина, в чем дело? Пока мы вместе, мы сумеем тебе помочь… Так ты его не любишь?
— Ах, люблю, — вздохнула Филистина. — В том-то и дело, что я по-настоящему влюблена в Леонида и ни о каком принуждении не может быть и речи.
— Но в чем же тогда дело? — удивилась Сапфо.
— Потому что я знаю, вижу, что вы не верите мне! — воскликнула Филистина в отчаянии. — Вы думаете, что у меня так же, как с Митридатом, но теперь все, все совершенно по-другому! А я не хочу, чтобы вы думали, что я продажная женщина! Нет, не хочу!
— Что ты говоришь, Филистина? — погладила руку подруги Дидамия. — Мы вовсе так не думаем!
— Нет, не дотрагивайся до меня, — отдернула руку, вздрогнув, словно от ожога, Филистина. — Ты сильная! Я знаю, вы все сильнее, чище меня и лучше меня. Но я не виновата, что привыкла жить в роскоши, и не могу даже в мыслях представить себя бедной — да, да, это правда, и поэтому такие, как Митридат, всегда находили путь к моей спальне…
— Конечно, не виновата, — успокоила Дидамия. — Ведь ты же родилась в богатой, знатной семье, и лишь позже твой отец случайно разорился. Мне легче, Филистина. Свое детство я провела, питаясь сухими маисовыми лепешками, и поэтому каждый пирожок, испеченный нашей кухаркой Вифинией, мне кажется слаще меда. Труднее всего человеку расставаться со своими привычками — и ты ни в чем не должна себя винить.
— Да, и к тому же я не виновата, что люблю мужчин не меньше, чем женщин! — отчаянно всхлипнула Филистина. — И я ничего не могу с этим поделать. Сапфо, скажи, ну что я должна теперь делать?
— Ничего, жить, — улыбнулась Сапфо. — И постараться быть счастливой. Лишь философы наподобие Эпифокла представляют любовь в виде четких геометрических фигур и склонны отделять одно от другого. Но ведь в душе женщины невозможно провести никаких границ или четких линий. Это — как море… И, наверное, в этом наше великое счастье… и несчастье тоже.
— Но дело не только в одной любви! — воскликнула Филистина. — Нет, не только! Я мечтаю родить ребенка, Сапфо! Когда-то, раньше, я не хотела, а точнее, боялась, но теперь желаю иметь своего ребенка больше всего на свете. Как бы я ни любила своих подруг, но ни одна женщина не сможет подарить мне сына или дочь!
— Не надо так громко кричать, Филистина, — одернула пришедшую в настоящее исступление подругу Дидамия. — Ведь мы и так тебя слышим и видим, и не возражаем тебе…
— Ах, Дидамия, нет, нет! На самом деле никто не видит, как я тут забавляюсь со своими куклами, представляя, что это мои дети! — выпалила Филистина, распахивая хитон и обнажая полные, великолепные груди. — А порой я беру в руки свои груди… О! Я никому раньше не говорила! И я глажу их, лаская соски, представляя, что их жадно хватает мужской рот, а потом тычутся нежные детские губы, и издаю в одиночестве стоны бессилия… Нет, нет, я не должна вам этого говорить…
— Успокойся, не надо плакать, — проговорила растерянно Сапфо, не зная, какие ей сейчас подобрать нужные слова утешения.
Она хотела сказать, что скоро Филистина выйдет замуж, обретет счастье, детей, настоящую полноту жизни, и тогда…
Но тут Сапфо услышала, как за дверью закашлялась и зашуршала веником старая Диодора.
— Эх, гарпии всех раздери, — сказала вслух Диодора, как бы обращаясь к самой себе. — И как только наш дом еще не утонул от бабских слез? Хоть бы один мальчонка какой, что ли, у нашей Филистинушки народился, чтобы было кому пускать в этих слезах кораблики и строить насыпи, а то впору и потопнуть совсем…
Сапфо тихо засмеялась.
Правда, она снова не поняла, то ли Диодора подслушивала весь разговор, то ли просто случайно проходила мимо и бормотала о своем?
Даже Филистина не выдержала и, быстро запахнув хитон, светло, сквозь слезы улыбнулась подругам.
Сапфо вышла в коридор и подозвала старую служанку.
— Диодора, у меня есть к тебе небольшая просьба. Когда с прогулки вернется моя дочь, Клеида, попроси, чтобы она на время отдала тот браслет, который украшает ее руку, и отнеси его в комнату Сандры.
— Зачем? — удивилась Диодора.
— Сандра как раз делает священную воду — она нарочно приказала собрать воду, которую вчера использовали для тушения жертвенного огня, но туда для очищения нужно непременно положить какой-нибудь серебряный предмет.
— Мало в нашем доме, что ли, других серебряных безделушек? Нет, надо непременно раздевать мою вишенку… — начала было Диодора, обращаясь куда-то в пространство и лишь одним подслеповатым глазом косясь в сторону Сапфо.
— Сделай, как я сказала, — настояла Сапфо. — И скажи Клеиде, что я вскоре верну ей браслет, просто я забыла про просьбу Сандры о браслете. Наверное, я тоже старею, Диодора, и теряю память…
Сапфо нарочно так сказала, чтобы услышать горячие возражения старой служанки, но та только молча покачала головой и с пониманием вздохнула.
— Сегодня выдался безумный день, Диодора, — придумала Сапфо еще одно оправдание. — На редкость суматошный день, и я, наверное, впервые в жизни мечтаю, чтобы время побежало быстрее и поскорее унесло его с собой.
Глава десятая ХИМЕРЫ
Но странные события «безумного дня» не собирались прекращаться, а наоборот, словно набирали новую силу.
Уже под вечер Сапфо вдруг услышала, что за стеной, в комнате Глотис, раздались какие-то раздраженные крики и ругань, и поспешила туда, чтобы узнать, в чем дело.
Картина открылась вовсе не из приятных.
Совершенно разъяренная Глотис, как маленькая фурия, стояла посередине комнаты, держа в руках осколки, топала ногами и кричала на Гонгилу, которая сидела, в страхе закрыв лицо руками.
— Ты только погляди, Сапфо! — возмущенно выкрикнула Глотис, заметив замершую в дверях Сапфо. — Нет, ты только погляди на эту негодяйку: она разбила мою любимую вазу! Никто даже не представляет, Сапфо, сколько я вложила в нее труда и души! И вот, вот что от нее теперь осталось!
— Но я же не нарочно… — проговорила Гонгила, открывая заплаканное лицо. — О, я случайно, Глотис, ты же знаешь.
— Но мне от этого вовсе не легче, — сказала Глотис жестко. — Ведь это была та самая ваза, Сапфо, где я изобразила тебя, разговаривающей с Алкеем, и не удалось сделать что-то похожее… А, что теперь напрасно говорить. Нет никого на свете меня несчастнее.
Вот с этим Сапфо могла поспорить — вид Гонгилы, втянувшей голову в плечи, говорил о том, что ей сейчас гораздо хуже, чем подбоченившейся, гневной подруге.
— Но, Глотис… — снова принялась бормотать что-то в свое оправдание Гонгила.
— Молчи, а ты лучше молчи теперь! — снова с новой силой разъярилась Глотис. — И это все оттого, что ты повсюду трясешь своими тряпками и нитками. Вот и теперь, Сапфо, она неловко махнула какой-то накидкой. Лучше бы ты, Гонгила, вышивала крестиком носовые платочки, в которые потом будешь собирать свои слезы. И не гляди на меня так!
— О, нет, я не гляжу, — снова закрыла лицо руками Гонгила.
— Вы думаете, мне жалко своих ваз? — воскликнула Глотис, обращаясь к по-прежнему молчащей Сапфо. — Нет, Сапфо, мне жалко именно этой вазы: ведь я хотела ее отвезти и показать Эксекию, который считается самым выдающимся вазописцем нашего времени, и мечтала услышать его слова. А ты, Гонгила, могла бы лучше переколотить все остальные вазы на этой полке, я бы тебя ни словом не попрекнула, и даже сказала бы спасибо, что освободила комнату от лишнего мусора.
Гонгила затрясла головой, наверное, желая возразить, что вовсе не считает вазы, расписанные Глотис, мусором, но та поняла этот жест по-своему.
— Ты мне не веришь, мне? — вскричала в ярости Глотис. — Так вот же, смотри! Вот! Вот!
И Глотис вдруг начала хватать с полок одну за другой свои вазы и с силой швырять их об пол, доказывая, что вовсе не дорожит ни одной из них настолько, как той, что разбила неловкая Гонгила.
Сапфо даже ахнуть не успела, как и та ваза, где были нарисованы бабочки в виде человеческих душ, которые до сих пор не выходили у нее из головы, превратились в груду осколков.
— Перестань, Глотис! — крикнула Сапфо, и из глаз ее непроизвольно брызнули слезы. — А то сейчас я позову слуг и прикажу связать тебя, как буйную! Что за ужасное варварство?
Но Глотис и сама уже одумалась и, тяжело дыша, огромными глазами, которые сейчас у нее, казалось, занимали половину лица, уставилась на подруг.
— Но… я, Сапфо, начала вышивать свадебное покрывало в подарок Филистине, а оно такое большое. И поэтому, когда я приподнялась со скамьи, то — вот… — тихо проговорила Гонгила, а потом поднялась и, всхлипывая на ходу, выбежала из комнаты.
— Ну вот, — растерянно, эхом отозвалась Глотис, оборачиваясь к Сапфо. — Ты теперь хоть отругай меня как следует, Сапфо, от тебя я все вынесу. Понять не могу, что на меня такое нашло? Умопомрачение какое-то. Как? Что с тобой, Сапфо? Ты плачешь? Ты? Из-за меня?..
— Это я во всем виновата. Мне кажется, что в нашем доме поселились злобные керы — богини несчастий, которые несут болезни, гневливость и ведут людей к гибели, — тихо сказала Сапфо, опускаясь на колени и рассматривая то, что осталось от прекрасных «глотисов».
Вместо сосудов, сама форма которых напоминала изгибы человеческих тел, а краски словно излучали тепло, в ее руках были разноцветные острые осколки, что-то вроде мозаики, но из нее нельзя было сложить хоть что-либо стоящее.
Сапфо не выдержала — у нее и так сегодня весь день нервы были натянуты, как струны, — и, пересыпав с места на место пригоршню осколков, вдруг громко, безутешно разрыдалась.
Эти разбитые вазы напомнили Сапфо о своей разбитой судьбе, и особенно — об утраченных стихах.
То, что долгие годы звучало и переливалось внутри нее прекрасной музыкой, тоже оказалось словно кем-то разбитым на мелкие осколки отдельных букв, которые не годились ни на что другое, кроме горестных восклицаний.
— О! Ах! Увы! О, несчастье! — проговорила Сапфо горестно. — Какое несчастье!
— Что с тобой, Сапфо? — не на шутку перепугалась Глотис, которая никогда раньше не видела свою старшую, невозмутимую подругу в таком ужасном состоянии.
— Увы, я знаю: злобные керы теперь не отвяжутся, пока не заполучат в свои когти чью-нибудь жизнь! Увы, теперь непременно кто-то должен умереть, чтобы они успокоились и исчезли из нашего дома. Великие боги, умоляю вас, сделайте так, чтобы это лучше была я, но никто из моих подруг. Прошу вас, сделайте так, чтобы несчастье не коснулось никого из тех, кого я люблю, отдайте керам меня. Всемогущий Зевс! И ты, Афродита — услышьте мою молитву!
— Что ты говоришь, Сапфо! — воскликнула Глотис и, подбежав к Сапфо, быстро зажала ей рот ладонью, перепачканной в цветном лаке. — Нельзя произносить таких молитв ни вслух, ни даже про себя, потому что боги вслушиваются в каждое твое слово и запросто могут исполнить такую ужасную просьбу. Подумай сама, Сапфо, что мы тогда все будем без тебя делать? Что будет с нашей школой? Ведь тогда совсем скоро, без тебя, наше общее счастье распадется, как домик, сделанный из песка на берегу моря, который вдруг без следа слизывает волна!
— Увы… — только тяжело вздохнула Сапфо.
Как раз сейчас ей попал в руку осколок от вазы, где с розового крыла бабочки на нее глядел прекрасный и бесконечно печальный глаз Фаона, и Сапфо так крепко сжала его в ладони, что острые края почти впились ей в руку.
— Я знаю, что говорю, — тихо сказала затем Сапфо. — Это я виновата в том, что в доме появились керы, поэтому я и должна расплатиться — ведь я позволила себе недопустимое и на самом деле не сумела с честью выдержать испытания, которое послала мне мудрая кознодейка Афродита.
— Какое испытание? — не поняла Глотис, но Сапфо словно не услышала сейчас ее вопроса.
— И вот теперь… Теперь она забрала из нашего дома любовь и населила его взаимной злобой, недоверием, обидами, и мы все бессильны что-либо сделать.
— Но… но я не знала, я даже не предполагала, Сапфо, что тебе настолько дороги мои вазы, — изумилась Глотис, по-своему истолковав признание Сапфо. — И обещаю тебе, что сегодня же, прямо сейчас, примирюсь с Гонгилой. Я знаю, она простит меня — у нее ведь очень доброе сердце. И еще я обещаю тебе, что скоро в моей комнате появится в два, нет, в сто раз больше ваз, чем я разбила сегодня! Только не произноси, прошу тебя, Сапфо, своих страшных молитв, а то у меня сразу же холодеют и сердце, и руки.
— Хорошо, хотя я не думаю, что это уже что-нибудь изменит, — проговорила Сапфо, рассматривая на ладони осколочек с глазом Фаона, который поблескивал от лака, но этот блеск казался сейчас каким-то болезненным, лихорадочным. — Как бы то ни было, но все-таки ты, Глотис, должна мне пообещать, что выполнишь все, о чем сейчас говоришь. Я все равно узнаю об этом… где бы я ни была.
— Вот увидишь, Сапфо, все так и будет, — торопливо сказала Глотис, мысленно давая себе клятву никогда больше не давать такой воли гневу, который действовал на Сапфо, да и на всех остальных сильнее яда. — Я постараюсь даже на другой вазе повторить тот рисунок, где были вы с Алкеем, и, может быть, у меня даже получится еще лучше. Слышишь, шаги за дверью? Я не удивлюсь, если сейчас в комнату, как в прошлый раз, снова войдет Алкей, принесет новое ложное известие о Фаоне, и я прямо сейчас смогу сделать с ваших фигур набросок.
— Но… Алкей уехал, — сквозь слезы проговорила Сапфо.
— Неважно, тогда я постараюсь начать его портрет по памяти, — принялась увещевать Глотис подругу, словно малого ребенка, не подозревая, что сейчас невольно подражает интонациям самой Сапфо, а также Дидамии, которая всех вокруг считала в какой-то степени своими беззащитными малютками.
А тем временем в комнату вместо Алкея заглянул Леонид, который имел несколько удрученный вид.
— Скажи, Сапфо, можно ли здесь у вас найти приличного врача? — спросил он, поклонившись женщинам и с удивлением глядя на беспорядок в комнате — такое ощущение, что в его отсутствие дом подвергся пиратскому нападению разбойников. — Кто-нибудь здесь помогает вам в случае внезапной болезни, или за лекарем придется ехать в Митилену?
— А что случилось? — встревожилась Сапфо.
— Кажется, наш Фаон захворал. Мы договорились вечером снова сходить на охоту и заодно захватить с собой Гермия, но когда я зашел за ним домой, то увидел, что Фаон лежит в сильном жару, или даже бреду, ни о чем не хочет слышать и ни с кем не разговаривает. Разумеется, я все равно силой втиснул в него кое-как немного горького хинина — я всегда первым делом даю это лекарство своим матросам, если у них начинается внезапная лихорадка, но больше я не знаю, чем ему помочь.
— Ох, керы, керы, — побледнела как мел Сапфо. — Вот оно! То, о чем я говорила!
— Говорят, он купался сегодня в ручье, — пояснил Леонид. — Наверное, простудился. Мало ему разве моря, где вода так прогрелась за лето, что в ней одно удовольствие нырять?
— Да, в ручье сделалась совсем холодная вода! — подтвердила Глотис. — Утром я ходила к ручью за водой и еле-еле потом отогрела заледеневшие руки. Я еще сразу подумала о том, что совсем скоро зима и пора собираться в город. Похоже, в этом году я вернусь домой совсем налегке.
— Я знаю, что Фаону сможет помочь только Сандра! Никто, кроме нее, не разбирается лучше в различных телесных и… душевных недугах! — встрепенулась Сапфо. — Ах, я попробую ее уговорить, чтобы она срочно отправилась к Фаону. А ты, Леонид, — я прошу тебя! — пока не оставляй его одного. Ох, как бы нам избежать неминуемой беды? Нет, только не Фаон. В чем он-то виноват?
— Напрасно ты так сильно встревожилась, Сапфо, — спокойно проговорил Леонид. — Молодой, крепкий организм нашего Фаона с легкостью победит любую болезнь. Я, помню, как-то сам в таком же возрасте заболел в Египте редкой тропической лихорадкой, но меня вылечили каким-то специальным снадобьем, сделанным из истолченных зубов крокодила. Вот если бы занемог старый Эпифокл, я думаю, то хлопот у всех нас было бы гораздо больше…
Но Сапфо при всем желании не могла подавить в себе нарастающее чувство тревоги и смутной опасности, словно над ее головой действительно летали никому не видимые, кроме нее, керы, или жестокие эриннии, собравшиеся в большую, хищную стаю.
И хотя теперь Сапфо собрала все свое самообладание, чтобы появиться перед Сандрой спокойной и невозмутимой, однако первый же вопрос, который задала подруга, означал, что из маскировки ровным счетом ничего не получилось.
— Что с тобой, Псаффа? — быстро спросила Сандра, едва взглянув на подругу. — Что случилось? На тебе же лица нет!
— Со мной? Нет, ничего, — сказала Сапфо, нервно то разжимая, то незаметно снова сжимая в кулаке осколочек от вазы, словно это был ее тайный талисман. — Я только пришла сказать, что заболел Фаон, и попросить, чтобы ты помогла ему. Он весь горит от жара, и, говорят, его бьет непонятная лихорадка.
— Фаон? — переспросила Сандра весело. — Это тот смешной мальчик, сын Тимады, который живет в домике где-то на отшибе?
Бодрый вид Сандры говорил о том, что она успешно преодолела свой очередной «обрыв» и снова готова радоваться жизни.
— Да, Сандра, он как раз собрался уезжать в Афины, к деду, который наконец-то согласился его принять, и тут такая внезапная беда…
— Разве это беда, Псаффа? — улыбнулась Сандра, которая выглядела сегодня даже румяной. — Какая же это беда? Сейчас я приготовлю мальчику питье из трав, он крепко заснет и скоро выздоровеет. Но если всемогущие боги все же назначили Фаону отправляться в страну мертвых, то ты же знаешь, Псаффа, что никакие врачи не в силах переменить этого решения, и все будет так, как они захотели.
— О, нет! Только не это!
— Но почему ты сама такая бледная, Псаффа? Ты словно сегодня не в себе. Неужели из-за Фаона?
— Но… я действительно боюсь.
— Боишься? Чего?
— Когда-то маленькая Тимада говорила, что над всем их родом словно висит проклятие. Ее мать умерла совсем молодой от неизвестной никому болезни, тетка сошла с ума, старший брат погиб во время состязания колесниц, перевернувшись на всем скаку. Ты сама знаешь, Сандра, о судьбе самой Тимады, и я могу добавить, что на войне один за другим погибли сыновья ее мачехи, которые вошли в проклятую семью. И поэтому теперь вдруг Фаон… Ах, Сандра, только не это! Я не могу допустить, чтобы мальчик погиб из-за меня! Нет, я этого точно не переживу!
— Но при чем тут ты, Псаффа?
— Фаон всем нам как родной, — замялась Сапфо. — И мне, и Филистине, и Алкею, и всем остальным, Сандра. Он как всеобщий, любимый ребенок! И потом, мне кажется, Сандра, что у него не простая лихорадка. Он сгорает от обиды на всех людей и на весь белый свет, и жестоко страдает от неразделенной любви к… какой-то незнакомой девушке. Ох, Сандра, ты ведь как-то сама говорила, что если простуда накладывается на сильное душевное переживание, то даже насморк может быть смертельным.
— Да, это так, — кивнула головой Сандра. — Душевное ранение бывает еще сильнее физического. Однажды я видела мужчину, которому рассекли грудь мечом, но он выжил, но зато его жена, узнав о несчастье, схватилась за грудь и тут же умерла на месте. Но душевную боль легко снять лишь у тех, кого любишь, Псаффа. Увы, единственный человек, которому я всегда могу помочь, — это ты, потому что я словно вижу тебя насквозь, и на время даже умею словно становиться тобой, и испытывать от этого великое счастье. А другие? Нет, не знаю!
— Ах, Сандра, помоги Фаону, — снова жалобно, как-то совсем по-детски попросила Сапфо. — Несчастный юноша ведь узнал еще так мало радостей в жизни…
— Не волнуйся, у него все впереди, — улыбнулась Сандра. — У твоего Фаона еще будет пятьдесят невест.
— Пятьдесят? Ты шутишь?
— Нет, сейчас словно кто-то шепнул мне на ушко эти слова.
— Так много?
— Как сказать, Псаффа! Может быть, ему в самый раз, или даже покажется маловато? — звонко рассмеялась Сандра.
И Сапфо подумала, что теперь они снова повсюду будут ходить с Сандрой вместе — гулять, разговаривать, смеяться.
— Значит, ты поможешь Фаону? — с надеждой спросила Сапфо подругу, которая сейчас показалась ей всемогущей. — И с ним не случится ничего дурного? Что же ты тогда медлишь, Сандра? Почему не идешь к нему?
— Ты, наверное, Псаффа, думаешь, что я — великий вавилонский маг, который умеет лечить одним своим взглядом, — ответила Сандра. — А я лишь немного владею мантикой — искусством гадания, и, как известно, такой дар встречается даже у маленьких детей. Мне надо собрать с собой травы и все, что может понадобиться для лечения. Но ты пока не уходи, посиди здесь со мной, Псаффа, пока я собираюсь. И расскажи по порядку, не торопясь, что у вас произошло интересного за время моего отсутствия?
— О, много чего! — задумалась Сапфо. — Сразу и не скажешь. У нас были праздники и всякие новые знакомства… Вообще, у меня такое чувство, Сандра, что за эти несколько дней без тебя промелькнула, словно комета на небе, целая яркая, отдельная жизнь. А сейчас мне почему-то кажется, что она подходит к концу. Разве так бывает, Сандра? Признаюсь, я никогда не испытывала ничего подобного, и мне почему-то даже страшно…
— Бедная, бедная Псаффа, не так-то легко нести в себе такой огромный мир, — сказала Сандра, гладя Сапфо, словно маленькую, по голове.
— И еще я поняла, Сандра, как сильно мне тебя не хватает, — сказала Сапфо, посмотрев прямо в глаза подруге. — Когда ты рядом со мной, то я могу спокойно ходить, дышать, даже если нахожусь совсем одна. Но когда ты запираешься в своей комнате и я чувствую, что твоя душа словно улетает из этого дома, то и со мной, Сандра, начинает твориться что-то странное, и я сразу же, сразу же ничего не могу понять… Но если я даже расскажу тебе все, что пережила без тебя, Сандра, то от этого мне все равно не станет понятнее происходившее. Мне, наоборот, Сандра, сделается страшно, и стыдно, и… прекрасно. Об этом можно только написать стихи, но теперь даже они у меня не складываются. Что мне делать?
— Ах, Псаффа, — улыбнулась Сандра, задумчиво вслушиваясь в сбивчивую речь Сапфо. — Все видят в тебе великую поэтессу, знаменитую, неподражаемую женщину, но я одна знаю, что в тебе живет душа маленькой, удивленной девочки. И еще — вечной девственницы, что бы ты ни говорила о любви, что бы ни испытала и сколько бы лет тебе ни исполнилось. За это я тебя и люблю, моя Псаффа. И не только я одна, но все, кто хотя бы краешком касаются твоей жизни, или даже хотя бы твоих песен — страстных, но на самом деле по-детски наивных.
— Что, теперь мы идем к Фаону? — нетерпеливо вскочила с места Сапфо.
— Нет, Псаффа, болезнь — это не праздник, и врач должен оставаться с больным один на один, чтобы по-настоящему прочувствовать и распознать все его недуги, — спокойно ответила Сандра. — Не тревожься напрасно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы юноша уже завтра смог отплыть в свои Афины, где его ждут… пятьдесят новых невест.
На улице было уже совсем темно, но Сандра никогда не испытывала чувства страха в ночной темноте.
Прежде чем свернуть на тропинку, которая вела к дому молочницы Алфидии, скромно белеющему среди могучих, темных кипарисов, Сандра свернула на небольшую, заросшую бурьяном поляну и начала выдергивать из земли сухие кустики конопли, вдыхая знакомый, волнующий запах этой травы.
Сандра остановилась, лишь когда набрала большой пучок, еле-еле помещавшийся в ее руках.
На дереве тонко свистнула летучая мышь, и послышался неприятный шелест ее перепончатых крыльев — почему-то это животное у всех женщин вызывало сильнейшую неприязнь, и Сандра тоже непроизвольно вздрогнула.
Что и говорить, но ведь Сандра действительно вовсе не была ни настоящей колдуньей, ни знахаркой, или даже лекарем. Просто с тех пор, как ей удалось помочь кому-то из подруг своей Псаффы выздороветь, она никому не могла отказать в помощи, а тем более если ее об этом просила сама Сапфо, — и у нее врачевание удавалось все лучше и лучше.
Из трубы дома Алфидии в ночное небо слабо вздымался дымок, а это значило, что Фаон по крайней мере сейчас был не один — кто-то следил за очагом и наверняка приглядывал за больным, что само по себе уже было неплохим началом.
Сандра зашла в дом, непривычно пригнувшись на пороге — жилище Алфидии явно не отличалось простором и роскошью, — и увидела, что в комнате находилась Филистина и незнакомый рыжебородый мужчина, которые смотрели на больного, молитвенно сложив руки на груди, словно это был их общий умирающий ребенок.
Фаон лежал в забытьи, с красными, словно два спелых яблока, щеками, не открывая глаз и поминутно облизывая пересохшие губы.
— Ах, Сандра, — прошептала Филистина, — Какое счастье, что ты пришла. Леонид пытается как-то лечить Фаона, но он все равно не приходит в сознание, а если открывает глаза, то отворачивается и не желает с нами разговаривать. Я так боюсь за него. Боги, сколько вечно переживаний с этими детьми! Одна сплошная мука!
— Я влил в него все снадобья, которые только знал, — смущенно проговорил бородач. — Но пока что ему не лучше. Давно я не видел таких упрямых в своей болезни больных. Впрочем, тогда, когда была чума…
— Ах, брось ты, что ты говоришь! — замахала на него руками Филистина. — Я и так сейчас упаду в обморок и от усталости, и от страха!
— Нет, но я же не говорю, что у Фаона чума, — поправился Леонид. — Там совсем другие признаки. Да и на лихорадку это не похоже, и даже на обыкновенную простуду.
— Говорят, глупыш накупался в том самом ручье, где из земли бьет родник с ледяной водой — его там видела наша кухарка Вифиния, — шепотом прибавила Филистина. — Как будто бы ему мало было теплого моря.
— Да, кончился совсем мальчишка, похоже, он не выживет, — подала голос Диодора, которая возилась возле очага, кипятя молоко, но Сандра не заметила ее сначала в темном углу. — Белая горячка у него, или вроде того. Болтает что ни попадя про каких-то химер, богинь, а то про обезьян с кабанами. Все знают, что если белая горячка человека пробрала, то ему нужно обязательно что-то белое давать, а Фаон отказывается даже молоко пить. А уж Алфидия говорила, что он так любил, чтобы было тепленькое, прямо из-под козочек, так любил!
И старушка тихо запричитала, словно и впрямь находилась уже возле умирающего.
— Мне нужно на время остаться с больным наедине, вы пока тут не нужны, — строго сказала Сандра, и все с пониманием закивали головами и на цыпочках друг за другом вышли за дверь.
Диодора, что-то тихо ворча под нос, пошла домой взять у Вифинии немного ароматного кедрового масла, которым положено смазывать покойникам веки и губы, а Леонид с Филистиной, взявшись в горе за руки, отправились к дому, хотя и знали, что все равно пока не смогут ни на минуту сомкнуть глаз.
Сандра присела на ложе рядом с Фаоном и первым делом положила ему руку на лоб, чувствуя, как в нее тут же начал проникать воспаленный жар.
Чем дольше она держала таким образом руку, тем нестерпимее, горячее становилась ладонь, и у нее самой жарче становилось дыхание и начала огнем гореть голова.
Но как бы ни было трудно, Сандра все равно не убирала своей руки с горячечного лба Фаона, и лишь сама теперь часто и трудно дышала, словно за ней гнался кто-то страшный, опаляя жаром затылок.
Зато Фаон сразу несколько побледнел и начал дышать немного спокойнее, чем прежде.
Наконец, он открыл глаза, и Сандра быстро отдернула от него свою руку, словно от раскаленной головни, удивляясь, почему на ладони не появились волдыри.
— Кто ты? — спросил Фаон, но тут же сам узнал Сандру. — А, лекарка. Я тебя помню, ты еще приходила к нам, когда болела Алфидия. Я что, тоже умираю?
— Нет, не умираешь, — ответила юноше Сандра, пристально вглядываясь в зрачки его черных глаз.
По зрачкам она тоже научилась прочитывать немало интересного о приключившейся болезни, и в воспаленных глазах Фаона сейчас не было знака неизбежного, неотвратимого конца, который Сандра каким-то непонятным чутьем улавливала с первого взгляда.
И у нее сразу же полегчало на душе.
— Что у тебя болит? — просто спросила Сандра.
— Я не хочу никого видеть и не желаю ни с кем разговаривать, — с трудом проговорил Фаон и отвернулся к стене, непроизвольно морщась от боли в голове. — Я хочу умереть.
— О, у тебя ничего не получится. Нарочно умереть очень трудно. Ничего, полежи спокойно, скоро тебе станет легче, — терпеливо сказала Сандра, дотягиваясь и заботливо вытирая со лба юноши обильно выступивший пот. — Набирайся сил, потому что скоро тебе придется выпить одно очень сильное и очень горькое лекарство.
— Нет, не буду.
— Закрой глаза и полежи спокойно.
— А погадай мне, — вдруг попросил Фаон, вспомнив, что Алфидия говорила как-то, что лекарка, как никто, умеет гадать на прошлое и предсказывать будущее. — Мне нужно узнать об одном человеке, о женщине… о девушке.
— Нет, Фаон, сейчас нельзя.
— Но — почему? — даже слегка приподнялся Фаон на локтях и умоляюще посмотрел на Сандру. — Сейчас для меня это важнее жизни!
— Нельзя гадать тем, кто сильно болен, иначе все, что я скажу, будет неправдой, или предсказание придется истолковывать с точностью до наоборот.
— И пусть! Как угодно! Лишь бы мне узнать, кто она! Я возьму ее с собой в Афины, и мы там поженимся. Или — нет! Мы с ней останемся здесь и будем счастливы, а деду напишем, чтобы он нам сюда прислал мое наследство. Мне все равно! Алфидия говорила, что можно гадать на корень мандрагоры, но только моей мамочки теперь нет, а сам я не знаю, как это делается!
Фаон достал из-под покрывала какой-то корешок и протянул его Сандре.
Действительно, это был корень мандрагоры — Сандра знала, что из листьев и корней этого растения можно приготовить немало болеутоляющих средств, которые особенно хорошо действуют как снотворное.
Своей причудливой формой корешок мандрагоры сильно напоминал человеческую фигурку, причем фигуру женщины, и Сандре даже показалось, что она узнала в древесных изгибах гибкое тело Сапфо.
Впрочем, какое другое тело могла вспомнить Сандра, кроме знакомого до каждой ложбинки и косточки тела любимой подруги?
Сандра слышала, что знахарки умели что-то нашептывать на такой корень — кого-то заколдовывать и расколдовывать, делать обереги и наговоры.
Но Сандра не представляла, как это делается, и, повертев корень в руке, решила просто заварить корешок горячей водой и заставить Фаона выпить настой в виде снотворного.
— Ну? Что? — спросил Фаон.
— Но тогда, Фаон, сначала ты должен мне рассказать свою историю.
— Нет, — снова откинулся Фаон на подушку. — Я поклялся, что никому об этом не скажу ни слова. Лучше я тогда совсем умру.
И Фаон теперь с откровенной неприязнью посмотрел на эту малознакомую женщину с несколько заостренными чертами лица и отчужденным взглядом.
Чем она могла ему помочь? Разве способна была хоть что-то понять?
Уж если милые Филистина и Леонид в два голоса обманывали его, утверждая, что дочь Сапфо — стройная, смуглая девушка с браслетом на руке, никаким образом не могла оказаться в его объятиях, хотя Фаон уже владел ею, то что может нового сказать чужая лекарка?
Почему, зачем все взялись его обманывать? Наверное, все теперь зачем-то нарочно сговорились между собой? Но с какой целью?
— Отстаньте от меня все, — пробормотал юноша сердито.
Но Сандра прекрасно видела, что сейчас Фаону, как никогда, нужно высказаться — именно оттуда, из затаенного молчания, берет происхождение болезнь юноши и вся его душевная маета.
И молча повернувшись к очагу, который начал уже затухать, Сандра принялась спокойно подкладывать в огонь вместо хвороста сухие былки конопли.
Комната постепенно стала наполняться приятным, терпким дымом, от которого начинала слегка кружиться голова, а на ум приходить забытые воспоминания.
Часть травы Сандра бросила в кипящее на огне молоко, наблюдая, как оно стало приобретать зеленоватый оттенок.
«Пусть лучше выпьет зеленого, а не белого, — тихо усмехнулась про себя Сандра, вспоминая слова старой Диодоры. — Ведь он совсем зеленый еще, глупый».
— Если ты сделаешь хотя бы несколько глотков, я сразу же уйду, и оставлю тебя в покое, — сказала Сандра, когда молочко было готово.
Фаон отрицательно было мотнул головой, но, увидев перед собой решительное, строгое лицо лекарки, решил, что лучше следует поскорее от нее отделаться, и послушно отпил из чаши какой-то непонятной на вкус травянисто-молочной жидкости, удивляясь про себя, что она вовсе не такая уж и горькая.
А Сандра тем временем спряталась в темный угол за очаг и снова принялась подкладывать коноплю в огонь, погрузившись в собственные мысли.
Запах этого дыма всегда почему-то навевал воспоминания о матери и о раннем детстве.
Мать Сандры была иеродулой — одной из многочисленных рабынь, которые несли службу в священном храме Афродиты в Коринфе, и девочка нередко могла во время больших праздников наблюдать за торжественными обрядами и жертвоприношениями.
Но особенно Сандре нравилось наблюдать за Священной пифией.
Эта странная, растрепанная женщина — без определенного возраста и словно бы без лица, — обычно сидела на треножнике, раскачиваясь из стороны в сторону, а под этот треножник кто-нибудь из рабов постоянно подкладывал дымящуюся коноплю.
И чем гуще, ароматнее становился дым, тем в более сильное возбуждение приходила пифия и начинала все громче выкрикивать свои предсказания, которые тут же записывали за ней многочисленные толкователи — кто-то тут же, на месте, переводил их в стихи, а другие предпочитали сначала в уме обдумать их тайный смысл и уже только потом объявлять людям, чего им следует ожидать в будущем.
Но однажды Сандра — она постоянно вилась возле ног матери, в обязанности которой входило следить за факелами и исполнять храмовые песнопения, — случайно увидела то, чего никому не доводилось видеть.
Забежав случайно за мячиком в заднюю часть храма, куда никому не позволялось заходить, маленькая Сандра застала грозную пифию лежащей на скамейке — она свернулась уютным калачиком и спала, подложив под щеку сложенные лодочкой руки, тихо улыбаясь и даже пуская во сне слюни, за что обычно ругают маленьких детей.
Сандра очень удивилась — ведь мать уверяла, что Священная пифия никогда не спит, и даже ночью порой бродит по храму с открытыми глазами, и произносит предсказания, которые тоже положено записывать.
Поэтому Сандра всякий раз до жути боялась встретить Священную пифию ночью и нередко видела во сне один и тот же кошмар, как пророчица неожиданно хватает ее за руку.
Мать тогда пояснила Сандре, что пифия нарочно заснула, чтобы во сне снова вступить в контакт с божеством, но почему-то Сандра была уверена, что пифия наконец-то смогла утихнуть и успокоиться от травы — от нее тогда, как никогда, густо пахло костром и той самой священной травой, которая подкладывалась под треножник.
И тогда Сандра сделала для себя вывод, что это трава волшебная, раз она умеет развязывать язык и способна крепко убаюкивать даже саму Священную пифию.
Больше Сандре все равно не с кем было на эту тему поговорить, так как отца у нее не было — во время праздников Афродиты или Дионисия иеродулы занимались обычно храмовой проституцией, и у некоторых рождались дети, которые должны были затем повторять судьбу матерей.
Сандра не раз благодарила потом всех небесных богов, что они избавили ее от этой участи, а однажды и вовсе подарили несказанное счастье — встречу с Сапфо.
Пожалуй, Сандра и сама до конца не осознавала, что в ее отношении к Сапфо то и дело проявлялись те, ранние навыки храмового служения, и она без стеснения боготворила свою подругу, считая любовь таким же торжественным и красивым делом, как служба в храме.
От того времени осталось так мало, почти совсем ничего — лишь густой, преследующий Сандру по пятам запах конопли.
Этот запах теперь сопровождал почти все ее «обрывы» и рассеивался в обычные дни.
Правда, иногда Сандра и в самые обыкновенные дни по ночам тоже незаметно подкладывала в очаг немного конопли, особенно если желала сделать ночь с Сапфо более незабываемой и откровенной.
Вот и сейчас Сандра почувствовала, что не только сама пришла в знакомое возбуждение, но и Фаон тоже начал что-то бормотать вслух, обращаясь то к Филистинушке, то к Леониду, а то и к своей покойной Алфидии.
Фаон то принимался ругаться, то горько вздыхал, что его никто не понимает, и все нарочно прячут от него любимую женщину, которую он все равно найдет, украдет и сделает своей законной невестой, а потом — и женой.
Иногда Сандра потихоньку задавала наводящие вопросы, и Фаон с готовностью отвечал, пересказывая вслух самые запомнившиеся моменты праздника, особенно тот, когда на него с поцелуями с разных сторон стали набрасываться женщины в масках, пока Алкей не объявил конкурса и все не разбежались по лесу.
— Скажи спасибо, что эти менады не растерзали тебя, такого красавчика, — странно, тоже уже чересчур громко засмеялась Сандра. — Вспомни хотя бы про несчастную Агаву — дочь Кадма и Гармонии. Ведь она в вакхическом неистовстве приняла за зверя собственного сына Пенфея и самолично растерзала его. Лишь наутро Агава увидела, что же она наделала. Ах, как жалко, что вчера меня не было с вами, — я люблю такие праздники.
И Сандра неожиданно ритмично захлопала в ладоши, словно она сейчас, после рассказа Фаона, тоже оказалась на лунной вакханалии.
Фаон воодушевился еще больше и принялся сбивчиво рассказывать, как ему все-таки удалось догнать в лесу одну красавицу в маске и страстно овладеть ею, вырвав согласие навсегда принадлежать только ему.
И вот теперь — такая жестокая несправедливость!
Сплошной обман и заговор.
— Я хочу пить, — вдруг капризно попросил Фаон. — У меня совсем пересохло с вами тут горло. И вообще — я хочу спать.
Сандра молча протянула Фаону канфар со святой водой, предварительно сделав из него глоток.
Она давно знала, что между людьми, которые выпьют из одного сосуда святой, серебряной воды, сразу же возникало особое понимание и обязанность взаимной помощи.
А между лекарем и больным это особенно важно, чтобы больной тоже начал незаметно лечить себя сам.
Но Фаон уставился в широкую, двуручную чашу с безумным, непонимающим видом.
Сначала юноше показалось, что у него прямо перед глазами медленно проплыла серебристая рыба, лениво шевельнув хвостом в тот момент, когда канфар слегка дрогнул в руке.
Но в следующий момент Фаон уже узнал мерцающий на дне чаши браслет и мгновенно запустил в священную чашу руку, словно медвежонок, с урчанием вытягивающий рыбу из ручья.
— Вот он! — воскликнул Фаон.
— Что ты делаешь? Ты совсем потерял ум! — возмутилась Сандра. — В святую, очищенную серебром воду нельзя лазать руками — ее можно только пить, да и то небольшими глотками.
— Вот, видишь, это он! Тот самый браслет, который был на руке моей невесты! И я теперь точно разыщу ее по браслету! Непременно найду и возьму с собой в Афины!
Сандра сразу же узнала браслет Сапфо.
Еще бы, она прекрасно знала все любимые украшения подруги, и особенно — редкие вещицы, которые Сапфо часто ей показывала, разложив на постели.
Наверное, многие из них Сандра могла бы узнать и с закрытыми глазами.
Но теперь она, наоборот, смотрела на браслет глазами, широко открытыми от гнева и приступа дикой ревности.
Так вот как, оказывается, проводила Сапфо без нее время! Вот почему не захотела ничего рассказывать! Так что она там наобещала этому безусому юнцу?
Вечной любви? Бесконечного счастья?
Принадлежать только ему?
А сам Фаон? Что он-то возомнил о себе?
Неужели он думает, что одной глупой, симпатичной мордочки вполне достаточно, чтобы заполучить самую прекрасную, необыкновенную женщину на свете?
Так неужели вот этому безмозглому глупцу Сапфо к тому же посвятила свои последние стихи?
Сандре теперь стало понятно, почему подруга сегодня так дрожала и повторяла, что не переживет смерти Фаона.
Понятно? Нет, наоборот — непонятно, дико, глупо, смешно!
Сандра почувствовала, что пришла от злости в самый настоящий экстаз.
Или в этом была виновата ярко полыхающая сейчас в огне конопля, заволакивающая комнату умопомрачительным дымом?
И Сандра вдруг спокойно, отчетливо подумала, что запросто сможет сейчас убить Фаона, и при этом ее никто ни в чем никогда не заподозрит.
А что? Ведь Сандра принесла с собой порошки болиголова и чемерицы — в маленьких дозах эти мелко истолченные травы приносят пользу, зато в больших действуют как яд — причем ничем не хуже, чем сок цикуты, который в Афинах заставляют пить приговоренных к казни.
Сандра тоже может сейчас запросто приговорить Фаона к казни за то, что он собрался отобрать у нее самое дорогое и даже — бесценное.
Иначе он к тому же опозорит перед всеми Сапфо!
Но выход прост: нужно лишь в медовую воду насыпать чуть побольше порошка, а наутро публично признаться, что Сандре, увы, не удалось победить тяжелое, неизвестное заболевание Фаона.
Ведь лучше один раз пережить маленький стыд, зато избавив себя с его помощью от долгих, затяжных мучений.
— Я хочу спать, — проговорил Фаон, широко зевнув и обнажая перед Сандрой целый частокол молодых, жемчужных зубов. — Отдай мне браслет. Я теперь как следует высплюсь, а завтра все равно отыщу по нему ту, которая должна принадлежать мне по праву…
— Но я и так могу тебе сказать, чей это браслет, — сказала Сандра, чувствуя в своем горле судорогу ненависти.
— Да? Чей же? Говори?
Сандра, задыхаясь, хотела было уже назвать имя Сапфо, чтобы Фаон хотя бы на том свете осознал, на что он покусился и за что она теперь его наказала, но… почему-то не смогла выговорить вслух имени подруги и с неожиданной ясностью увидела перед собой детское, доверчивое выражение лица Сапфо, каким видела его в последний раз.
И Сандра почувствовала, что ее гнев разом исчез, словно наваждение, и тихо проговорила:
— Это была Геката, лунная богиня. Она решила наградить тебя, Фаон, за то, что в честь тебя были устроены такие прекрасные «фаонии».
— Геката?
— Ее называют по-разному: Триодитой — богиней трех дорог, а иногда путают с Селеной или Артемидой, но это ее шутки. Скажи, Фаон, только откровенно, ведь раньше у тебя никогда не было настоящей близости с женщинами?
— Я… часто целовался с девушками и обнимал их. Но зато я видел, как это бывает у коз, — сообщил Фаон с гордостью.
— Вот видишь, Фаон, тебе этой ночью была присуждена главная награда — любовь богини. Но только ты не должен про Гекату никому говорить — это твоя великая тайна, Фаон, и твое счастье. Теперь же Геката нарочно путает тебя, Фаон, надевая браслет то на одну, то на другую женскую руку, и заставляет тебя метаться, как сумасшедшего, боясь себя выдать. Вот посмотри, Фаон, сейчас я надену браслет, и ты сразу же подумаешь, что я тоже твоя невеста. О, Фаон, у тебя еще будет пятьдесят невест, но ни одна из них не будет похожа на ту, которой ты обладал вчера. Тебе, Фаон, отдалась богиня, но ты должен навеки сохранить эту великую тайну и не пытаться ее найти. Боги сами находят людей, когда им это нужно, но никогда не бывает наоборот.
— Да? — счастливо и уже совсем сонно улыбнулся Фаон. — Значит, я и правда напрасно набросился на дочь Сапфо? И меня на самом деле никто не обманывал? Как хорошо! Но как же сильно хочется спать!
— Только выпей сначала вот это, — протянула Сандра юноше горячий медовый напиток.
На всякий случай она не стала бросать в него даже крошечной щепотки болиголова, боясь, что у нее случайно дрогнет рука.
Впрочем, теперь Сандра была уверена, что Фаон выздоровеет и без такого крепкого лекарства.
— Я думал, твое лекарство будет горьким, противным, — сказал Фаон, дуя и отхлебывая простое горячее молоко с медом. — А оно сладкое, как нектар.
— Нектар — напиток богов, который дает вечную юность, — напомнила Сандра.
— А может быть, ты тоже Геката и хочешь сейчас сделать меня бессмертным? — улыбнулся Фаон. — Вдруг я тоже теперь буду жить вечно и мое имя люди никогда не забудут?
— Возможно, так и будет, Фаон, — кивнула Сандра серьезно.
Но Фаон никак не мог быстро справиться со своим «лекарством».
— Смотри, волна! — звонко засмеялся Фаон, дуя на молоко губами, похожими на нежное, алое сердечко — должно быть, он вдруг вспомнил игру в коттаб, в которую недавно играл с Алкеем, и одержал над поэтом победу.
— Да, волна, — сонно пробормотала Сандра. Она и сама с трудом теперь слышала свои слова, доносившиеся словно из-под толщи воды. — И любовь, Фаон, тоже бывает похожей на волну — она может захлестнуть с головой, но кто-то знает, как на ней уплыть далеко-далеко. И жизнь человека — то же самое, что смена волн. Нужно учиться плавать, Фаон, нужно учиться плавать…
Наконец, Фаон допил молоко, и Сандра, пошатываясь, вышла в маленький двор Алфидии, откуда вела тропинка к дому.
Сандра почувствовала себя смертельно уставшей и, проходя мимо большого бука, сняла с руки злополучный браслет и закинула его в глубокое дупло, дождавшись в ответ глухого стука.
С химерой было покончено.
… А на следующее утро Леонид с Филистиной сидели в беседке, откуда хорошо была видна главная дорога из столицы.
Леонид нарочно выбрал для прогулки это место, потому что с утра нетерпеливо поджидал Алкея, надеясь услышать от него хорошие новости.
Он видел, что Филистина по-прежнему находилась в каком-то странном, смутном настроении, и не знал, чем ее хоть как-то подбодрить.
Филистина в который раз то вдруг начинала говорить, что мечтает уехать из Митилены, потому что не хочет, чтобы ее все называли продажной женщиной и мучили Леонида слухами о ее прошлом.
Но уже через некоторое время Филистина принималась уверять, что ни за что в жизни не сможет добровольно покинуть Лесбос и расстаться со своими любимыми подругами.
Леонид давно уже в подробностях продумал, как они должны будут устроить свою жизнь после свадьбы, но не хотел раньше времени говорить пустые слова, потому что ценил лишь конкретные поступки и ждал известия о доме.
В конце концов, он так долго мечтал о доме, куда радостно спешить, зная, что в его стенах тебя ждет любимая женщина!
И остров Лесбос для такого дома — наилучшее место, которое только можно придумать.
А Филистина — самая прекрасная женщина, о которой он даже не смел мечтать.
Но заветной биги Алкея на дороге, увы, до сих пор не было видно, и Леонид, чтобы скоротать время, продолжал забавлять Филистину рассказами о своих приключениях, которые вызывали у нее то невольную улыбку, то страх, но в любом случае — отвлекали от никчемных сомнений.
Прислушиваясь к пению птиц, Леонид начал с улыбкой вспоминать, что видел в Египте маленьких птичек ибисов, которые свободно расхаживают по улицам, потому что считаются в этой стране неприкосновенными, священными птицами, посвященными богу мудрости Тоту. А зато уже в соседнем государстве этих же самых птичек с удовольствием зажаривают на вертеле над очагом и с огромным аппетитом съедают.
— Скажи, Филистина, кому, чьим обычаям я, свободный грек, должен верить? — спросил Леонид и сам же ответил на свой риторический вопрос. — Только тем, которые существуют в моей стране и соблюдаются в стенах моего дома. Поэтому каждому человеку, Филистина, нужны дом и семья, а то немудрено когда-нибудь окончательно закружить себе голову.
Но особенно заинтересовал Филистину рассказ Леонида о какой-то его знакомой знатной египтянке, которая нарочно в жару носила для прохлады обвитую вокруг шеи неядовитую змею.
— И как же звали эту необычную особу? — переспросила Филистина. — И, главное, насколько близко ты был знаком с укротительницей. Я думаю, что если она умела приручать змей, то с мужчинами у нее получалось ничуть не хуже!
— Да нет, Филистина, она была женой одного очень знатного египтянина.
— Ее имя?
— Не помню, Филистина, ведь я был в Египте очень давно, в юности, когда был еще примерно таким же, как Фаон, ну, может быть, совсем немного постарше.
— Имя!
— Уверяю тебя, Филистина, что не помню — там у них очень трудные имена, — сказал Леонид, незаметно улыбаясь в рыжую бороду.
В конце концов, ему было несколько лестно, что Филистина ревновала его к той женщине, а значит, вовсе не была к нему равнодушна, даже наоборот…
— Признаюсь, Филистина, в Египте нет ни одной такой красивой женщины, как ты. И потом, там у них всех такие трудные имена, что невозможно выговорить, и тем более запомнить, — повторил Леонид. — Клянусь тебе, что даже когда я попал на похороны великого фараона Хиу… Погоди, Хиуба… В общем, он умер молодым, и благодаря этому я в своей юности наблюдал такое удивительное зрелище, что никогда и потом не видел ничего подобного, да и то… Хотя погоди, Филистина, тогда я ведь нарочно попросил египетских умельцев сделать мне на груди татуировку и записать нестирающимися буквами имя того фараона, боясь, что после моим рассказам о сгоревшей в огне тысяче быков никто не поверит. Если ты хочешь, то можешь прочитать сама, Филистина.
— Хочу, — кивнула Филистина, и Леонид с готовностью распахнул хитон на своей груди, которая была словно увита золотым руном, и под соском у него действительно виднелись греческие буквы.
На могучей груди Леонида буквы казались неровными — почему-то некоторые из них выделялись очень крупно, а другие еле-еле можно было различить.
— Ну, читай же, что там написано?
— Фа — он, — прочитала Филистина и застыла в немом изумлении.
— Да нет же, ты пропустила, — сказал Леонид, неудобно перегнувшись и тоже вглядываясь в письмена, которые он давно бы хотел стереть, считая их следом дурного тщеславия молодости, но оказалось, что татуировка сделана такими чернилами, что если содрать кожу на толщину пальца, то надпись все равно никуда не девается. — При чем здесь Фаон? Здесь написано — фа-ра-он Хиутамурхамон! Вот, снова еле выговорил…
Леонид засмеялся, но когда поднял голову, то пятно, которое он увидел перед собой, было вовсе не лицом Филистины.
Это была страшная маска страдания и гнева, лишь отдаленно напоминающая лицо его любимой женщины, — ничего страшнее Леонид не видел даже во время «вторых фаоний», ни на далеких землях дикарей.
— Так это… ты? — задыхаясь спросила маска.
— Что? Кто? Что с тобой, Филистина?
— Так, значит, ты и есть тот самый мореплаватель, который соблазнил нашу маленькую Тимаду? Ты? Наверное, она тоже когда-то прочитала эти буквы и подумала, что тебя зовут Фаоном? Скажи, Леонид, ты был когда-нибудь раньше в наших краях?
— Здесь? — оглянулся по сторонам Леонид и пожал плечами: — Разумеется, я много раз с разных сторон подплывал к Лесбосу, но не уверен, что бывал именно здесь. Природа везде так похожа — леса, трава, белые камни, лишь люди между собой сильно различаются.
— А теперь вспомни, не встречал ли ты в здешних лесах молоденькую девушку, которая тебе безоглядно отдалась и кого ты больше потом никогда не видел?
— Ну… ты задаешь очень странные вопросы, — смущенно почесал бороду Леонид. — Поверь мне, Филистина, я не принадлежу к тем мужчинам, которые только и делают, что гоняются за женщинами, к какому бы народу те ни принадлежали, и потом составляют из рассказов о них целую коллекцию. Но вместе с тем я физически здоровый мужчина, и потому, скажу откровенно, у меня тоже порой случались внезапные увлечения. Но ведь это было раньше, до встречи с тобой. Вообще-то я считаю, что нам с тобой следует условиться не вспоминать о своем прошлом, а лучше вместе думать о новой жизни.
— Нет, погоди, Леонид, — прошептала словно обезумевшая Филистина, вовсе не слушая речей Леонида. — Погоди, ты должен вспомнить… В лесу… Молодая девушка, которая очень быстро бегала и звонко смеялась. Ее звали Тимада. Ты догнал ее… Ты обнажился перед ней…
Леонид сурово сдвинул брови.
Нет, такая невоздержанная, безмерная ревность — это было уже слишком!
И он не собирался терпеть подобных допросов ни сейчас, ни впредь.
Ведь Леонид тоже мог бы беспрерывно пытать Филистину, вызнавая, кто и где ее догонял и перед кем она обнажалась.
Поэтому он решил сейчас больше не церемониться.
— Тимада? — нахмурился Леонид. — Возможно, так и было. Да, я что-то такое припоминаю, в лесу. Кажется, она сама начала меня дразнить и смеяться, или что-то в этом роде. А много ли нужно, чтобы раззадорить пылкого юношу, каким я был в то время. Я ведь и теперь…
— Значит, так и есть, — прервала его Филистина, неестественно бледнея. — Ужасный, ужасный человек. Мы с тобой никогда не сможем быть счастливые и не сумеем быть вместе. Ведь тогда, после той встречи, маленькая Тимада родила ребенка, и Фаон — твой сын.
— Сын? Фаон? — переспросил Леонид, не в силах осознать сразу столь странной новости. — Как — сын? Ты хочешь сказать, Филистина, что у меня есть сын, наследник?
Но Филистина больше ничего не хотела сказать, потому что, схватившись за сердце, вскочила со скамейки и побежала к дому.
А Леонид продолжал озираться по сторонам, но теперь уже не в ожидании Алкея, а пытаясь признать здешние места и, действительно, припоминая все новые и новые подробности берега, который он, кажется, назвал про себя тогда розовым, потому что причалил сюда уже на закате, и вспоминая о своем давнем, коротком, как один миг, любовном приключении.
Алкей же подкатил ко двору дома Сапфо уже под вечер.
Он так спешил, что сегодня даже не обратил внимания, что по пути его хламида пропылилась несколько больше, чем обычно.
Алкею не терпелось порадовать Леонида, но особенно — удивить Сапфо, что он сумел так ловко и быстро провести с Митридатом переговоры насчет покупки дома и Филистины.
Пусть Сапфо лишний раз убедится, что настоящему мужчине сопутствует успех и в творчестве, и в политике, и в выгодных торговых сделках, и что такие люди, как он, Алкей, просто так на дороге не валяются.
Ведь прежде чем начать разговоры с Митридатом, Алкей буквально внушил ему, что отныне они относятся к единой политической группировке и потому должны жить общими интересами, затем как следует подпоил торговца вином и завел разговор про то, что на свете есть множество куда более важных и интересных вещей, чем женщины, и лишь потом поведал захмелевшему и обалдевшему соратнику последние новости.
Так что Митридат вовсе не слишком расстроился, когда услышал о скорой свадьбе Филистины, и даже обрадовался, узнав, что уже нашелся покупатель на дом, который прямо сейчас ему в руки дает такую хорошую цену.
Кроме того, Алкею почему-то думалось после последнего прощания с Сапфо, когда она посмотрела ему вослед с нежностью и с трудом удержалась от поцелуя, что совсем скоро и на его улице, а точнее, и в его собственном доме настанет праздник — праздничное шествие и свадебный пир, который будет устроен с невиданной в Митилене роскошью.
С амвросией там воду в кратере смешали. Взял чашу Гермес черпать вино для бессмертных. И, кубки приняв, все возлиянья творили и благ жениху самых высоких желали[42], —мурлыкал Алкей себе под нос, улыбаясь приятным мыслям и вовсе не осознавая, что он пел сейчас песню на стихи своей воображаемой невесты — Сапфо.
Алкей несколько удивился, что во дворе оказалось совсем немного людей — лишь Дидамия сидела на скамейке под деревом со свитком на коленях и что-то тихо растолковывала по своему обыкновению двум девушкам.
Но Алкей все равно спрыгнул с повозки так, словно на него отовсюду смотрело множество восхищенных глаз, и быстрыми, пружинистыми шагами направился к Дидамии, которая, впрочем, первая встала ему навстречу.
— Я снова приветствую тебя, премудрая дева, вторая после Афины, — весело сказал Алкей. — А где Леонид? В доме? Или снова отправился на охоту?
— Да, он уехал, Алкей, — ответила Дидамия.
— Я чувствую, он точно не успокоится, пока не истребит на Лесбосе всех оленей и кабанов! И не удивлюсь, если он поймает в ручье крокодила или приведет откуда-нибудь единорога, у которого на рог будет нанизано два слона!
— Он, а также Эпифокл сегодня спешно отбыли на Фасос, — сказала без улыбки Дидамия.
— Как? — вскричал Алкей, удивленный. — Ты хочешь сказать, что Леонид отправился на своей триере в плавание, не дождавшись от меня новостей? Этого не может быть! И потом, мы ведь даже не попрощались! Ведь я, как и обещал, написал для него на досуге пропемтикон — специальное стихотворение в дорогу с добрыми напутствиями.
— Увы, не обижайся напрасно, Алкей, он ни с кем не попрощался.
— Но… погоди. Я ничего не понимаю. Мне нужно поговорить с Сапфо!
— Нет, Алкей, пока не получится. По крайней мере, до завтрашнего дня. Сапфо приказала никого к себе не пускать, а это значит, что старая Диодора загрызет всякого, кто попытается нарушить ее покой, — невесело вздохнула Дидамия.
— И меня тоже?
— Она сказала — никого, Алкей. Ни тебя, ни меня.
— И все же я ничего не понимаю, что здесь у вас произошло в мое отсутствие? А ты, как назло, Дидамия, говоришь сплошными загадками. Хоть кто-то может мне, наконец, нормально объяснить, что случилось? Послушай, а где Фаон?
Дидамия несколько помедлила, прежде чем ответить на вопрос Алкея.
— Он тоже уплыл на этой же триере, вместе с остальными.
— Как? Куда? Зачем?
— Наверное, сначала они возьмут путь на Фасос, чтобы доставить туда Эпифокла, а потом… Впрочем, нет, не знаю. Мне, конечно, хотелось бы надеяться, что Леонид доставит все же Фаона в Афины, но, боюсь, этого не произойдет, — рассудительно ответила Дидамия.
— Ты хочешь сказать, что Фаон тайно сбежал с рыжим пиратом, мерзавцем, прохиндеем, болтуном, обманщиком… — в бешенстве проговорил Алкей. — С этим ужасным, неотесанным болваном, с…
— Да, со своим отцом, — спокойно сказала Дидамия, видя, как у Алкея от удивления так и остался надолго открытым рот.
Вместо эпилога ПАНТА РЕЙ (ВСЕ ТЕЧЕТ)
Однажды утром, когда служанки возле ручья набирали воду в амфоры и обсуждали между собой маленькие события прошедшего дня, а также ночи, они неожиданно увидели вдалеке медленно бредущего по дороге Эпифокла.
— Вот, гляди, к нам снова тащится этот дармоед, твоя обжорная пасть, — толкнула Диодора в толстый бок кухарку Вифинию, и та тяжело выпрямилась и тоже посмотрела на дорогу из-под козырька своей крупной ладони, которая так мощно умела месить тесто, что слоеное печенье получалось буквально воздушным.
— И не говори, точно, он, — недовольно проворчала Вифиния.
— Ну, конечно, и как раз сразу к завтраку. Вон как отощал без моих ореховых подливок, блюдолиз, еле ноги волочит. Нет, ты только посмотри, как старикашка похудел! Глазам своим не верю! Куда вообще подевался его живот? Похоже, он все свои потроха по дороге растерял!
— Ну конечно, Вифиния, на свои потроха этот хилосох, вороны его дери, небось построил себе дворец, а теперь идет нашим женщинам толковать про любовь, какие-то связки-развязки и непристойные в его возрасте желания…
— Желания? — засмеялась Вифиния. — Какие у него могут быть желания? Разве что тоска по тарелке каши или моей похлебке.
— Ха, это точно, Вифиния, — тоже рассмеялась тихим, дребезжащим смехом Диодора. — Наверное, когда два дня назад ты готовила нам диких уток в яблоках, то вкусный запах разнесся так далеко, что обжора не выдержал, прыгнул в море и вернулся сюда вплавь, не иначе… Ты бы, Вифиния, все же не слишком старалась в своей стряпне, а то возле нашего дома вечно, подобно мухам, будет кружиться полно всякого сброда. Вспомни сама, сколько тебе приходилось каждый день готовить мяса, рыбы и овощей, когда поэт сначала привез с собой этого старика, потом откуда-то вдруг появился рыжий мужик — тот вообще один мог запросто съесть целого быка, да еще вечно ошивался мальчишка, приемыш Алфидии. Ну, ты помнишь, у кого мы раньше всегда к столу брали жирное молоко. Тот самый, который потом с ними еще сбежал на корабле…
— Еще бы, как не помнить, — проворчала Вифиния, снова с неохотой наклоняясь к воде, которая стала уже по-осеннему прохладной, и если Вифинии приходилось возиться в ней слишком долго, то у нее начинало сильно ломить руки. — Ведь сразу же после этого все вдруг, словно проклятые, взялись наперебой болеть — то наша хозяйка вдруг совсем перестала есть, то потом Филистина… Измучилась я с ними совсем, кому только не приносила жертвы! Хорошо еще, что приехала дочка нашей госпожи, и после того, как сговорились о свадьбе, дело у нашей хозяйки все же постепенно пошло на поправку.
— А ты заметила зато, какой красавицей стала наша Клеила! — сразу заулыбалась Диодора. — А ведь только что была маленькой, сладенькой, но все равно от самого рождения с твердой косточкой внутри. Ох у нее, скажу я тебе, Вифиния, и характер! А жених ее, Гермий, — ну прямо под стать моей вишенке! Такой же смуглый, ровненький. Они напоминают мне две ягодки, которые обычно парочкой болтаются на дереве…
И Диодора растопырила два своих корявых пальца, показывая Вифинии, как на вишневом дереве чаще всего крепятся ягоды, словно та этого никогда не видела, а потом добавила:
— Но больше всего мне понравилось, как уважительно, и даже вроде как с родственной любовью относится Гермий к моей госпоже. Клеида ведь иногда на мою Сапфо фыркает — у нее с детства такой норов, что через коленку с первого раза ни за что не переломишь. А жених этот, Гермий, на людях вроде бы как не больно говорливый, но зато уже наедине нашу вишенку подучивает, а то порой и пожурит за мать-то. Говорит, твоя мать, Клеида, лучшая из лучших женщин, сразу после тебя, ее нельзя обижать неосторожным словечком.
— А ты, конечно, подслушивала? — догадалась, хмыкая, Вифиния. — Смотри, старая, когда-нибудь тебе как следует достанется за то, что ты слишком любишь по чужим спальням доглядывать да в замочные скважины без мыла пролезать. Сидела бы лучше со мной на кухне да помогала лепить из теста колобки, которые так любит твоя Клеида, — и то от тебя было бы больше пользы.
— А чего? — захихикала Диодора, слегка щипая кухарку за задницу. — Вот насмотрюсь разного, да старика беспузого наслушаюсь, и тоже, Вифиния, начну к тебе с любовью приставать. Вон у тебя какие гладкие бока! Словно у гусыни, откормленной лесными орехами!
— Отстань! Иди ты к воронам! — привычно отмахнулась Вифиния от крошечной старушки. — Тебе вообще надо шевелиться поменьше, а то, глядишь, Диодора, ненароком рассыплешься, я тебя потом в горшок не соберу. Нет уж, за мои окорока пусть держится колбасник Кипсел, который клянется, что за свою жизнь не сумел сотворить ничего слаще. И все же, видит Зевс, обидно — только-только все в доме наладилось, и вот — нате, снова кто-то прется воду мутить. Послушай, а тот парень, Фаон, он точно сбежал с рыжим? А то мой Кипсел разное про мальчишку толкует.
— Точно, точно, тут никаких сомнений быть не может, — закивала Диодора. — Я своей госпоже про рыжего сразу сказала, что не надо льва воспитывать в городе, потому что когда он вырастет — всех заставит себя слушаться и под себя подомнет. Так вот, когда рыжий с обжорой отправились к гавани, то Фаона с ними нигде не было, и все подумали было, что мальчонка отлучился на рыбалку, или вообще ехать передумал, либо где-нибудь запрятался. А мальчишка, оказывается, заранее договорился, что подсядет к гостям в повозку во-о-н за тем леском, где его один дровосек видел. Говорит, сначала за кустами прятался, все время на дорогу выглядывал, а потом прыг в повозку к рыжему — и был таков, покатили к морю.
— А чего прятался-то? — пожала пухлыми плечами Вифиния. — Может, уворовал что-нибудь? Ты хоть потом проверяла, все ли в доме на месте?
— Да уж конечно, проверяла. Так, на глаз, пропажи вроде бы не видно, а госпожа моя, даже если ее обчистят дочиста, все равно будет молчать, и ничего дурного о человеке не скажешь — ты же нашу Сапфо сама знаешь! Но я так думаю, что все-таки Фаон что-то у моей госпожи точно ценное уворовал, потому как после его побега она еще несколько дней за сердце держалась и ночи не спала. Даже все свои украшения сняла и подальше спрятала, как будто бы у нее случился траур, или что-нибудь пропало из драгоценностей. Ничего, Вифиния, я скоро у нее все выведаю, раз уже она снова начала потихоньку-полегоньку улыбаться…
— Но ведь и рыжий пират тоже от нашей Филистины самым подлым образом сбежал! — в сердцах проговорила Вифиния. — Поморочил ей голову, объявил о свадьбе, мой Кипсел начал уже было колбасы к пиру припасать, а потом у блудливого женишка словно щекотка в заднице приключилась. Так по своему кораблю соскучился, что улизнул без всякой свадьбы снова с мачтой целоваться!
— Точно, так оно и есть. Сколько ни живи на свете, а все равно не устанешь удивляться, куда всё богиня Тихэ вдруг ни с того ни с сего поворачивает. Уж я вроде бы всякого навидалась, а и то за сердце только успеваю хвататься да сморкаться слезами в передник.
— А я могу тебе сказать, отчего в нашем доме всегда такая неразбериха, Диодора, — проговорила назидательным тоном кухарка. — Потому что непорядок это вовсе, когда дети слуг да всяких молочниц начинают на равных восседать за одним столом со знатью, как подкидыш нашей Алфидии, или кто там он у нее был… Вот и Кипсел тоже так говорит: непорядок!
И Вифиния снова поглядела на дорогу, по которой двигался Эпифокл.
Но теперь, когда вблизи можно было еще лучше разглядеть лицо путника, кухарка поняла, что тот несет в дом на редкость дурные вести, способные снова перебить у всех аппетит.
Но Эпифокл появился в доме как раз в тот момент, когда женщины закончили трапезу, но еще сидели вместе за столом, хотя некоторые из них уже сделали жертвенное возлияние богам со дна кубков, показывая, что больше не могут проглотить ни глотка.
Когда Эпифокл увидел знакомые, прекрасные лица женщин, беззаботно о чем-то переговаривающихся между собой, он еле-еле сдержал старческие слезы умиления.
Здесь было все совсем по-прежнему, словно он и не покидал эти стены, и странно было осознавать, что Эпифокл за время расставания пережил столько жестоких испытаний, и даже побывал на самом краю гибели!
Новости, которые принес Эпифокл, действительно были настолько ужасными, и когда ученый муж их выговорил вслух, за столом сразу же воцарилось гробовое молчание.
Эпифокл сказал, что триера, на которой они отправились к берегам Фасоса, попала в страшную бурю и утонула вместе со многими гребцами. Спастись удалось лишь немногим — Леониду, ему и еще всего нескольким матросам, которым посчастливилось на маленькой лодке добраться до ближайшего берега.
— А — Фаон? Что с Фаоном? — спросила Филистина, и Эпифокл понял, что бегство юноши здесь уже вовсе не является ни для кого тайной.
Хотя он так надеялся, что ему удастся избежать рассказа о самом страшном несчастии.
— Хм, хм, увы… увы… — пробормотал Эпифокл растерянно. — Про него толкуют разное. Одни считают, что наш Фаон тоже утонул, потому что его не оказалось среди тех, кто перебрался на лодку. Но… но лично я все равно не могу в такое поверить. Это было бы слишком несправедливо.
И Эпифокл жалобно обвел взглядом окаменевшие лица женщин, которые только что, до его появления в комнате, были такими веселыми, оживленными.
— Да, ведь Фаон совсем не умел плавать, — вдруг с каким-то ужасным, ледяным спокойствием громко сказала в наступившей тишине Сапфо.
— Хм, но это вовсе ничего не значит, что Фаона не оказалось с нами в лодке! — воскликнул Эпифокл. — Ведь среди погибших его тоже пока что никто не видел…
— А часто ли тебе приходилось принимать участие в похоронах и оплакивать на земле моряков, Эпифокл? — остановила пустые речи старика Дидамия. — Мне, например, ни разу. Зато по всем берегам Лесбоса встречаются кенотафы — пустые могилы тех, кто не вернулся из плавания. Сдается, теперь такой кенотаф появится и на нашем берегу по… неразумному, глупому, незабываемому сыну нашей маленькой Тимады.
Ни Дидамия, ни другие женщины не скрывали больше слез и тихих причитаний, которые, как спасение, пришли на смену оцепенению.
Лишь Сапфо сидела за столом с сухими глазами, крепко, до синевы сжав губы.
— Я хотел сказать, что во время бури я видел возле нашего корабля дельфинов, — торопливо забормотал Эпифокл. — Вы же знаете, они являются верными слугами Посейдона и часто выполняют его поручения. Мало того, мне кажется, что я потом даже видел Фаона на спине одного из дельфинов, и он даже держал в руках трезубец, а кто-то, неразличимый за высоким гребнем волны, словно тащил его вперед, подальше от страшного водоворота, и совсем в другую сторону от нашей лодки, так что у нас не было никакой возможности его догнать. И потом волны были величиной с дом, так что я потерял Фаона из вида и не знаю, попал ли он в подводное царство или добрался до суши… Но я могу сказать, что, когда видел Фаона в волнах последний раз, он был необыкновенно весел и доволен. Да-да, поверьте мне, он громко смеялся, и поэтому я не думаю, что с ним случилось что-то плохое. Хотя все говорят…
— Да, такие случаи бывают, — подтвердила Дидамия, с готовностью вытирая слезы и надеясь своими словами и примером хоть как-то поддержать подруг. — Да вы и сами наверняка слышали про нашего же, митиленского певца Ариона, который при возвращении из Тарента с богатыми сокровищами подвергся нападению морских разбойников, но вовремя нырнул за борт и был подхвачен в воде дельфином, подосланным Зевсом. Я не исключаю, что и Фаону тоже помог кто-нибудь из небожителей, так что не собираюсь его оплакивать раньше времени. И вам тоже это делать не советую.
— Послушай, Эпифокл, но что с твоим золотом? — вспомнила вдруг Глотис. — Неужели твое богатство тоже утонуло?
— Увы, увы мне! — развел руками Эпифокл, и этот плавающий жест почему-то сразу же всем напомнил Леонида. — Все мое золото досталось, наверное, нереидам — дочерям морского бога. Но если учесть, что их у него пятьдесят, то на каждую пришлось не так уж и много.
— Вот они — пятьдесят невест, — тихо сказала Сандра.
— Хорошо еще, что сам не затонул, хилосох, — подсказала появившаяся откуда-то, как из-под земли, служанка Диодора, которая только что была возле ручья, но, увидев Эпифокла, тут же бросилась за ним следом, боясь пропустить что-нибудь интересное. — Ей, Зевс, если бы ты тогда пожадничал, то боги точно отправили бы тебя на дно, а так решили наказать ровно наполовину. Насколько ты их сам уважил, так и они с тобой обошлись.
— Но… где же… Леонид? — спросила Филистина, которая была на грани обморока и еле выговаривала простые слова.
— Да, действительно, ведь триера была его домом, семьей и родиной одновременно. Впрочем, к счастью, он успел купить себе в столице дом. Надеюсь, теперь он тоже сюда вернется? — продолжила мысль подруги Дидамия, поняв, что Филистине самой больно об этом говорить, но все же невозможно оставаться в полном неведении. — Разве он не вернулся в наши края вместе с тобой, Эпифокл?
— Хм, хм, я звал его с собой, Дидамия! — воскликнул Эпифокл. — Когда нашу лодку швыряло по волнам в разные стороны, я молился всем богам о том, чтобы они даровали мне счастье снова, хотя бы еще один раз всех вас увидеть, но особенно тебя… Ведь ты, Дидамия, еще не знаешь самого главного — вместе с судном и мешком золота ушли на дно все мои записи, трактаты, которые я вез с собой, чтобы показать мудрейшему Бебелиху. Да, Дидамия, — труды всех моих лет, мое наследие для потомков, теперь лежит на дне моря, в библиотеке… для крабов и рыб.
И Эпифокл сам теперь заплакал безутешно, словно ребенок, не в силах смириться с огромностью своей потери.
— Какое несчастье! — потрясенно воскликнула Дидамия.
— Я знал, что только ты, Дидамия, способна по-настоящему понять, что я утратил, — всхлипывая, кивнул Эпифокл. — Буквально я в одно мгновение стал глупее самого последнего неграмотного нищего и беднее скифского раба…
— Диодора, — позвала служанку Сапфо. — Принеси ту часть золота, которое стоит в комнате возле статуи Артемиды, и верни его прежнему хозяину. Я думаю, боги заставили пережить Эпифокла столько испытаний, что не будут гневаться, если сбережения теперь пойдут на самое необходимое для его жизни.
— Но… разве мои монеты сохранились? — несказанно удивился Эпифокл. — Мы же договорились, что они пойдут на щедрые жертвоприношения, на праздники…
— Со времени вашего отъезда у нас здесь больше не было праздников, — тихо ответила Сапфо, отворачиваясь.
— А насчет своих трудов ты тоже не печалься, Эпифокл, — спокойно сказала Дидамия. — У меня ведь многое записано, и мы восстановим твои мысли и изречения в прежнем виде.
— Да… но на это может понадобиться много времени — год, годы? И потом, я многое мог позабыть… Впрочем… Неужели? — оживился Эпифокл и с мольбой посмотрел на Дидамию.
— Мы будем заниматься этим делом ровно столько, сколько понадобится, — кивнула Дидамия. — Надеюсь, что до тех пор, Эпифокл, пока мы не восстановим утраченное, ты не будешь торопиться нырять в кипящую лаву Этны? Да и моим ученицам такая работа тоже пойдет на пользу.
— Но… где же ты оставил Леонида? — снова спросила Филистина, лицо которой по-прежнему было белее мела. — На необитаемом острове? Среди ужасных дикарей? Где?
— Он не захотел пока сюда возвращаться, — вздохнул Эпифокл. — И сказал, что не вернется до тех пор, пока не отыщет Фаона и не построит новый корабль, гораздо лучше прежнего. Леонид просил передать тебе, Филистина, что однажды он приплывет к этому благословенному берегу, где, как он сказал, испытал больше всего счастья и нестерпимой боли одновременно… Слитно, друзья мои, заметьте, опять-таки слитно — и счастье, и боль, и страшные бедствия… Как все в нашей жизни, и теперь по этому поводу у меня имеются кое-какие новые мысли и соображения.
— А у меня скоро родится ребенок, — вдруг в наступившей тишине сказала Филистина. — Не смотрите на меня так. Я знаю точно, что родится сын — мой и Леонида. И я назову его Фаоном.
— Да, так и будет, — проговорила Дидамия и заботливо погладила нежную, белую руку подруги. — Но только ты теперь должна больше спать и есть гранатовых зерен. Мало того, что огненно-красными цветами граната любит украшать себя сама Афродита, но я слышала, что плоды содержат столько полезных веществ…
— Погодите, но неужели наш Фаон и правда утонул в море? — вдруг словно очнулась от затяжного сна Глотис, до которой только сейчас дошел весь ужас известия Эпифокла. — Но ведь он был совсем юный и красивый. Он так весело смеялся, быстрее всех бегал, играл в мяч…
И Глотис расширенными глазами испытующе посмотрела на Эпифокла, как будто желая упрекнуть его в том, что такой старик, как он, сумел спастись, а юному Фаону, который только начинал жить, почему-то не нашлось места в лодке.
— Но… никто не может вмешаться в волю богов, хм, хм, и никто из нас не знает своего последнего часа, — широко развел руками философ, как бы отвечая знакомым жестом одновременно и за себя, и за Леонида. — Так получилось.
— Нет, это неправда, — совершенно спокойно сказала Сапфо.
— Что — неправда? — уставился на нее Эпифокл.
— Все — неправда, — проговорила Сапфо. — Все, что ты, вы все здесь сейчас говорите, — неправда! Потому что слишком похоже на… стихотворение, нет, на песню, которую спели на много разных голосов. Невозможно поверить ни одному вашему слову. Я пойду, погуляю…
И Сапфо стремительно встала из-за стола и быстро покинула комнату.
— Но… Сапфо, кажется, пошла по дороге, которая ведет к Белой Скале! — испуганно воскликнула Глотис, посмотрев в окно. — Она может разбиться… да, как та моя ваза!
— Да, и к тому же сегодня на море такая буря! — подсказала подруге Гонгила.
И женщины испуганно переглянулись между собой.
Многие из них наверняка сразу же вспомнили слова Сапфо, которые она когда-то сказала в шутку Эпифоклу, — мол, для того, чтобы покончить жизнь самоубийством, вовсе не обязательно ехать так далеко, в Сицилию, а достаточно просто подняться на Белую Скалу и с нее броситься в море — как раз угодишь головой в бурлящую, кипящую белой пеной бездну.
И теперь женщинам было не до шуток — ведь Сапфо сама пошла в сторону Белой Скалы, и при этом у нее сейчас было такое лицо, такое лицо…
— Я побегу, догоню! — вскочила Глотис. — Ведь она мне говорила, говорила…
Глотис хотела вспомнить слова Сапфо о том, что ничего нет важнее жизни человека, которые сейчас, после известия о несчастье с Фаоном, показались девушке на редкость мудрыми и справедливыми, но от волнения она не могла их произнести.
— Нет, не надо, не ходи за ней, — остудила порыв Глотис Сандра. — Оставь Сапфо в покое. С ней сейчас не случится ничего дурного. Я знаю.
— Но… ведь там обрыв!
— У многих в жизни случаются обрывы, Глотис, но это вовсе не значит, что все падают вниз головой. Для кого-то Белая Скала — это, наоборот, то место, с которого удобнее всего начинать новый полет.
Глотис поглядела на Сандру — та была совершенно спокойна.
Лишь в глубине ее глаз загорелись два маленьких, желтых огонька, словно это были огни далеких маяков, которые дают морякам в бурю надежду на спасение.
И тогда Глотис снова села за стол, где старая Диодора придвинула к Филистине большое блюдо с гранатовыми плодами, тихо и ворчливо уговаривая женщину съесть хотя бы зернышко, чтобы в лице появилась лишняя кровинка.
А Сапфо и сама не заметила, как быстро взобралась на Белую Скалу, которая обычно казалась ей недосягаемо высокой, и чуть ли не вообще — неприступной.
«Зачем так высоко? Ведь вовсе не обязательно… — рассеянно подумала Сапфо, оглядываясь на необъятный простор вокруг себя. — А впрочем, все равно, значит, так нужно…»
Низкое, серое осеннее небо почти сливалось с бурлящим морем свинцового цвета, и они составляли одно единое пространство, в котором невозможно было различить ни верха, ни низа.
«Да, Эпифокл, ты прав — все слитно, одно и то же — и жизнь, и смерть», — мысленно попрощалась Сапфо с ученым, а потом по очереди с каждой из оставленных там, внизу, подруг.
На мглистом фоне неба перед мысленным взором Сапфо на мгновение появлялись и снова тут же исчезали дорогие лица, которые сейчас казались особенно, невыразимо прекрасными — Сандры, Филистины, Дидамии, Глотис, дочери, брата, родителей, верной Диодоры и многих других женщин и мужчин, которых она никогда больше на этом свете уже не увидит.
Было похоже, словно на небе загорались звезды — и близкие, и далекие, которые также медленно гасли.
Но потом вдалеке, за первым рядом, Сапфо стала различать лица тех, кого уже не было на этой земле, и слабым, сумрачным светом над горизонтом засиял монетный профиль мужа Керикла, а потом — Анактории, маленькой Тимады, Фаона…
«Значит, Анактория тоже там, с ними, — догадалась Сапфо. — И Фаон — ведь он совсем не умел плавать».
Нет, когда-то Сапфо не поверила купцу, который принес известие о гибели корабля, на котором Анактория должна была приплыть к берегам Лесбоса.
Не поверила, хотя купец так и сыпал какими-то именами и вслух подсчитывал потери своих барышей, так как на этом судне кто-то должен был доставить ему с Сицилии партию сукна.
И только сейчас Сапфо поняла, что купец действительно говорил правду, и она больше никогда в жизни не дождется, и не увидит своей Анактории, впрочем, так же, как и Фаона.
Никогда не дождется.
Но какой смысл ждать? Ведь для того, чтобы с ними встретиться, достаточно сделать всего один шаг с обрыва, и тоже превратиться в кипящую волну.
«И тогда мы навсегда с Анакторией и с Фаоном будем вместе, слитно! — подумала Сапфо и почувствовала себя по-настоящему счастливой, словно наконец-то нашла решение очень трудной, запутанной задачи.
Сапфо посмотрела вниз — море сегодня было бурное, тревожное, и то там, то здесь появлялись в волнах барашки пены.
В какой-то момент Сапфо вдруг показалось, что это вовсе не пена, а просто из воды призывно выглядывают то седая голова Анактории, то светлые, рассыпчатые кудри Фаона, и они машут ей из пучины руками, молчаливо зовут к себе.
И еще морские волны показались сейчас Сапфо великим множеством свитков — такого количества невозможно было собрать вместе ни у себя дома, ни даже в большой библиотеке.
Эти серые папирусные свитки словно то разворачивались, то снова сворачивались на глазах у изумленной Сапфо, и на каждом из папирусов были записаны чьи-то истории жизни и смерти, изложенные в стихах или обыкновенными строчками.
Правда, записи отсюда, с вершины Белой Скалы, казались слишком мелкими, неразборчивыми, и их невозможно было прочесть — они сворачивались слишком быстро…
«Ничего, сейчас прочитаю, — спокойно подумала Сапфо и покрепче зажмурила глаза, еще отчетливее услышав рокот волн. — Все, что мне было положено, я все равно уже написала, ведь не зря же боги заставили меня теперь навсегда умолкнуть…»
И вдруг Сапфо начала различать в шелесте морских волн особый ритм, который помимо ее воли стал складываться в слова.
Такое ощущение, словно кто-то снова принялся ей прямо в ухо тихо нашептывать новую песню — на редкость грустную и прекрасную.
Первую за то долгое время, которое прошло со дня встречи с Фаоном.
Сапфо открыла глаза и чутко прислушалась к новому мотиву.
А потом быстро повернулась и пошла вниз по усыпанной большими белыми камнями дорожке, которая спускалась к подножию скалы.
Сапфо знала: для того чтобы ее новая песня сложилась, нужно непременно шагать — ходить по земле.
…Так и я тебя умоляю: дай мне Вновь, как бывало, Чистое и святое дело С девственницами Митилен продолжить, Песням их учить и красивым пляскам В дни твоих празднеств. Если помогли вы царям Атридам Корабли поднять, — заступись, богиня, Дай отплыть и мне. О, услышь моленье Жаркое Сапфо![43]ПОСЛЕСЛОВИЕ
Достоверных сведений о жизни Сапфо сохранилось совсем немного: известно, что она родилась на острове Лесбос в аристократической семье в VI веке до нашей эры, затем в связи с начавшимися политическими волнениями была вынуждена на какое-то время удалиться в Сиракузы (Сицилия), а вернувшись на родину, собрала вокруг себя кружок из девушек, которые вместе обучались музыке, стихосложению, танцам, и образовала так называемую «школу Сапфо».
Все эти события в той или иной степени нашли отражение в романе, где также сохранены подлинные имена родителей, мужа, дочери и брата Сапфо, хотя их взаимоотношения, разумеется, даны в вольной авторской интерпретации.
Остальные сведения о великой поэтессе античности — лишь легенды: легенда о тщетном сватовстве поэта Алкея, о любви Сапфо к юноше Фаону, из-за которой она якобы покончила с собой, бросившись со скалы, легенда, что в свое время возлюбленными Сапфо были поэты Архилох и Гиппонакс, не говоря уже о многочисленных адресатках ее стихотворений.
Кстати, в одной из легенд Фаон называется перевозчиком на пароме, который некогда плавал от острова Лесбос к материку: однажды Фаон не взял из жалости платы с убогой старушки, оказавшейся переодетой Афродитой, и с тех пор юноша якобы внушал любовь без исключения всем женщинам, которые его только видели, в том числе и Сапфо, — но эта легенда слишком уж просто, сказочно трактует чувство Сапфо к Фаону, и поэтому в предлагаемом романе используется лишь вскользь (мечта Фаона стать паромщиком).
Зато другая история, оттеняющая мотив неодолимой, «неправильной» любви Сапфо к Фаону (скандальная связь ее брата с гетерой, и, по-видимому, чернокожей), наоборот, относится к числу подлинных и нашла отражение в сохранившихся стихах Сапфо, посвященных Хараксу. Однако все это считалось древними легендами уже в период классической античности, потому что время Сапфо — это совсем ранние времена: она жила задолго до Сократа и расцвета философии, и даже до возникновения театра, который как полноценный вид искусства появился лишь столетие спустя, за что невольно цепляется воображение современного читателя, обратившегося к античным временам.
В романе нашло место переплетение чисто сказочных сюжетных линий (отец, много лет спустя находящий своего ребенка, разрыв — непременно накануне свадьбы, возвращение богатства, с которым было не жаль расстаться, и утрата той части, которую скупец изо всех сил пытается сохранить, и т. д.), но одновременно есть попытка на сказочном материале поговорить на темы психологии творчества и любви и показать, насколько они современны во все времена, начиная с дней жизни Сапфо.
Основной биографический материал о Сапфо сохранился в ее стихах, точнее — в тех отрывках, которые чудом дошли до нашего времени.
В древности было известно, по крайней мере, восемь книг Сапфо, как и то, что первая из них включала в себя одну тысячу триста двадцать стихотворений — немыслимый объем для современного поэта!
К сожалению, из этого наследия в цельном виде сохранились лишь 3–5 стихотворений, а остальное — всего лишь «осколки».
Так, в серии «Библиотека Всемирной литературы» (серия первая, том 4, «Античная лирика») дается чуть более сорока таких отрывков, в основном в переводах В. Вересаева, Я. Голосовкера и В. Иванова — и это практически все, что имеется на сегодняшний день.
В предлагаемом романе приводится 22 подлинных «осколка» из наследия Сапфо, и, как мне кажется, они способны придать выдуманному повествованию хотя бы какую-то достоверность. Кроме того, в текст включены биографические сведения и отрывки из поэтических творений Алкея, Архилоха, Семонида, Солона, подлинный ритуальный античный гимн (Гекате).
Некоторые герои романа специально носят имена адресатов стихов Сапфо (Тимада, Анактория, Гонгила, Клеида, Харакс), но другие полностью вымышлены, а точнее — это просто распространенные эллинские женские имена (Сандра, Филистина, Дидамия и т. д.).
Наполовину правдоподобным является также и образ Эпифокла.
У него есть прообраз — философ Эмпедокл, который, правда, жил на два столетия позже описываемого времени.
Согласно легенде, Эмпедокл умер, добровольно сделав прыжок в кратер Этны, и, говорят, был так честолюбив и заносчив, что приказал себе при жизни сделать золотые сандалии.
В романе приведено много античных мифов, но выбраны лишь те, которые имеют в наше время некоторое символическое звучание и современный смысл.
Невозможно (да и не нужно!) запоминать тот космос хитросплетений из жизни многочисленных греческих богов и героев, который когда-то умещался в голове у среднего эллина, но отдельные «сказки» настолько многоплановы и символичны, что, как мне кажется, могут понравиться тем, кто любит получать от чтения не только удовольствие, но и какие-то новые знания.
Должна оговориться, что образное толкование некоторых античных мифов, в том числе и о Белой Скале, которое позволило все же в конце концов оставить Сапфо в живых, принадлежит выдающемуся знатоку античности, филологу и поэту Я. Э. Голосовкеру, и поэтому ни в коей степени не может считаться личным открытием автора.
Наверное, роман «Сапфо, или Песни розового берега», чтобы не слишком уж отдаляться от того времени, в какой-то степени можно было бы охарактеризовать словами Плутарха: «…я желал бы, чтобы мое произведение, очищенное разумом от сказочного вымысла, приняло характер истории, но там, где вымысел упорно борется со здравым смыслом, не хочет слиться с истиной, я рассчитываю на снисходительность читателей, которые не отнесутся сурово к преданиям далекой старины».
1
Перевод В. Иванова
(обратно)2
Перевод В. Иванова
(обратно)3
Перевод В. Иванова
(обратно)4
Перевод В. Иванова
(обратно)5
Перевод В. Иванова
(обратно)6
Перевод В. Вересаева
(обратно)7
Перевод С. Радцига
(обратно)8
Перевод В. Иванова
(обратно)9
Перевод С. Радцига
(обратно)10
Перевод В. Вересаева
(обратно)11
Перевод В. Вересаева
(обратно)12
Перевод В. Вересаева
(обратно)13
Перевод В. Вересаева
(обратно)14
Перевод В. Вересаева
(обратно)15
Перевод В. Вересаева
(обратно)16
Перевод В. Вересаева
(обратно)17
Перевод В. Вересаева
(обратно)18
Перевод В. Вересаева
(обратно)19
Перевод В. Вересаева
(обратно)20
Перевод Я. Голосовкера
(обратно)21
Перевод Я. Голосовкера
(обратно)22
Перевод Я. Голосовкера
(обратно)23
Перевод Я. Голосовкера
(обратно)24
Перевод В. Иванова
(обратно)25
Перевод В. Иванова
(обратно)26
Перевод В. Иванова
(обратно)27
Перевод Я. Голосовкера
(обратно)28
Перевод В. Иванова
(обратно)29
Перевод В. Вересаева
(обратно)30
Перевод О. Смыки
(обратно)31
Перевод О. Смыки
(обратно)32
Перевод В. Иванова
(обратно)33
Перевод С. Лурье
(обратно)34
Перевод В. Вересаева
(обратно)35
Перевод Я. Голосовкера
(обратно)36
Перевод Я. Голосовкера
(обратно)37
Перевод Б. Фонтича
(обратно)38
Перевод В. Иванова
(обратно)39
Перевод В. Вересаева
(обратно)40
Перевод В. Вересаева
(обратно)41
Перевод В. Иванова
(обратно)42
Перевод В. Вересаева
(обратно)43
Перевод Я. Голосовкера
(обратно)



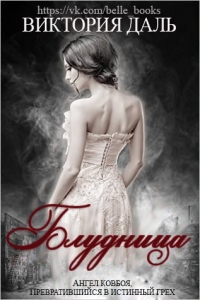

Комментарии к книге «Сапфо, или Песни Розового берега», Ольга Петровна Клюкина
Всего 0 комментариев