Жюльетта Бенцони Страсти по императрице
Лишь жемчуга блистают на короне.
Но никому на ней не видно ран…
Фридрих фон Шиллер.
Алексею Овчинникову, верному другу в долгие тяжелые времена, с нежностью.
После Ватерлоо.
ПОСЛЕДНИЕ РОЗЫ МАЛЬМЕЗОНА
На недоверчивый Париж надвинулась тень Ватерлоо. Погода стояла жаркая, и в душном воздухе, их обволакивающем, парижане с тревогой принюхивались к духу свободы.
Двадцать первого июня в восемь часов утра Наполеон прибыл в Елисейский дворец — в сопровождении Бертрана, Дрюо, адъютантов Корбино, Гурго, де ля Бедуайера, конюшего Канизи и помощника личного секретаря Флери де Шабулона. Император, бледный как воск, с трудом, прерывисто дышал; черты лица заострены, под глазами синие круги. Он посмотрел на собравшуюся вокруг него горстку людей — маленький отряд, к которому присоединились Коленкур и Маре, герцог де Бассано, и со вздохом, свидетельствовавшим о подавленности и страдании, едва слышно произнес:
— Армия творила чудеса, но ее охватила паника. Все потеряно. Ней повел себя как безумец! Он погубил всю мою кавалерию… Больше не могу… мне нужны два часа отдыха, чтобы снова заняться делами. — Приложил ладонь к груди и добавил: — Я задыхаюсь…
Приказал приготовить ему ванну и снова заговорил:
— О! Судьба! Трижды победа ускользала из моих рук. Не будь предателя, я застал бы неприятеля врасплох. Разбил бы в Линьи, если б правый фланг исполнил свой долг! Разгромил бы в Мон–Сен–Жан, выполни левое крыло поставленную задачу! Ну что ж, еще не все потеряно!
Пока он верил в это, действительно так считал; возможно, и впрямь не все безвозвратно потеряно, — если 6 только хозяином положения в то время не был Фуше, а перепуганные депутаты палаты не обратили с легкостью свои взоры к Бурбонам.
Новость о возвращении императора быстро разнеслась по Парижу, и люди уже начали стекаться к Елисейскому дворцу. Раздавались крики, призывы, требования увидеть того, кого народ любил слишком горячо, чтобы эта любовь полностью улетучилась. А в этот момент во дворце началось драматическое заседание совета; в ходе его, несмотря на бурные протесты Люсьена Бонапарта, Наполеону дали понять — лучше ему отречься от императорского престола.
С трудом, но все же он согласился: при отречении оставлял трон сыну, юному королю Римскому. Спустя два дня депутаты палаты проголосовали именно за это.
— Все прошло замечательно! — победно объявил Реньо, прибыв к Наполеону сообщить о результатах голосования.
Император устало улыбнулся.
— Пусть мой сын правит в мире, буду счастлив. Мне остается только выбрать место, где жить, отойдя от дел.
Об этой отставке он думал два последних дня, даже переговорил о ней с королевой Гортензией; она примчалась к нему в Елисейский дворец и играла там двойную роль: очень тактичной хозяйки дома и любящей дочери несчастного отца. В порыве чувств, порожденном, несомненно, тайным пристрастием к трагедиям, Наполеон стал подумывать, не отдаться ли на милость Англии. Но Гортензия, а с ней генерал Флао и герцог де Бассано принялись активно его отговаривать.
— Вам ничего хорошего ждать от Англии не приходится, сир, только несчастий! Что ж, он выбрал Америку — всегда влекла его — и незамедлительно начал приготовления.
Многие предложили сопровождать его туда, пригласили банкира Лафита: он сама верность, и император знал, что может полностью на него положиться. Договорился с ним о переводе значительных средств, еще у него остававшихся, и об открытии кредита на такую же сумму в США. Что касается переправы через океан, тут нет никаких трудностей: на рейде в Рошфоре стоят готовые к отплытию фрегаты «Саал» и «Медуза». Вечером 23 июня Наполеон направил временному правительству просьбу выделить эти корабли в его распоряжение и поскорее приготовить его паспорт.
Однако в Париже народ всерьез заволновался. Никого не ввело в заблуждение так называемое признание Наполеона II палатами депутатов — все знали, что признание это иллюзорное. Сидя в Гане, Бурбоны только и ждали момента, чтобы вернуться, и помешать им никак не мог четырехлетний император — не имел он никакой защиты, кроме матери, уже нашедшей себе новое любовное увлечение и мягкой, как кусок масла, да горсточки императорской знати.
Дворянство и буржуазия едва скрывали нетерпение увидеть на троне Людовика XVIII — от него они ждали многого. Приближение неприятеля к столице мало волновало тех, кто связывал с ним лишь возвращение к прошлой жизни и полное забвение революции. Повсюду прекратились все работы, заводы закрылись, а по Парижу ходили толпы рабочих с трехцветными знаменами и зелеными ветками, скандируя: «Да здравствует Наполеон Второй! Да здравствует император! Смерть роялистам! К оружию, к оружию!»
Эти разгоряченные толпы без конца сменяли друг друга на подступах к Елисейскому дворцу. Солдаты, коммунары, женщины, ветераны войн присоединялись к рабочим, и все эти люди орали во всю силу легких, стремясь заставить императора снова начать битву, не признавать себя побежденным, не поддаваться временному правительству — в нем, по общему мнению, собрались предатели и иностранные шпионы. Для побежденного императора Париж опять нашел старые страхи и прежние лозунги времен революции, а ведь она, заметим, свергла королевский трон. «Никогда до этого, — писал позднее очевидец этих страстных часов, — никогда народ, который платил налоги и проливал кровь в битвах, не проявлял к нему такой любви!» Эта слишком шумная любовь, естественно, никоим образом не устраивала Фуше и его правительство. Они опасались, что Париж будет предан огню и залит кровью, когда в него вступят войска русского царя и прусского короля, и решили попросить Наполеона поскорее покинуть Елисейский Дворец и переехать в более отдаленное, тихое место, чтобы «спокойно дождаться, когда все будет готово к его отъезду». Эту неблагодарную миссию поручили выполнить маршалу Даву. Поручение крайне щекотливое… Маршал выполнил его с ледяным спокойствием, а император не простил ему, что он так быстро переметнулся на сторону более сильного.
— Слышите эти крики? — спросил он. — Пожелай я встать во главе этого народа — он инстинктивно понимает подлинные нужды родины, — очень скоро покончил бы со всеми этими людьми, которые посмели выступить против меня, когда я лишился защиты армии! Хотите, чтобы я уехал отсюда? Ладно! Мне это нетрудно!
И эти два человека, так долго сражавшиеся бок о бок, расстались, даже не пожав друг другу руки…
Вечером, во время ужина, Наполеон повернулся к падчерице:
— Я хочу уехать в Мальмезон. Он принадлежит вам[1] — не приютите ли вы меня?
В красивых голубых глазах бывшей королевы Голландии появились слезы.
— Сир, Мальмезон навсегда принадлежит тени моей матери, а вы всегда можете чувствовать себя там как дома!
С трудом дождавшись окончания ужина, Гортензия велела заложить карету и вскоре уехала в маленький дворец в Рюэле, чтобы приготовить все для императора.
Во второй половине следующего дня Наполеон прибыл в дом, бывший местом его счастья. Там почти ничего не изменилось, и, когда Гортензия, в белом длинном платье, встретила его на пороге остекленной террасы, ему на мгновение показалось, что сама Жозефина — Жозефина его молодости, очаровательная и стройная, — восстала из могилы, чтобы встретить его. С полными слез глазами он поднял присевшую в реверансе Гортензию и прижал к груди.
— Спасибо, — только и произнес он, — спасибо, дочка!
Сразу по приезде, пока его небольшая свита — главный маршал Бертран, генералы Гурго и Монтолон, камергер Лас Казес, офицеры для поручений Плана, Резиньи, Сент–Йон и несколько слуг — размещалась в доме, он прошел в библиотеку, сел за стол красного дерева и написал свое последнее обращение к армии — что–то вроде завещания и прощания: «Солдаты, я буду с вами, хотя и вдали от вас. Я знаю все корпуса, и ни один из них не достигнет победы над неприятелем без того, чтобы я не оценил по Достоинству проявленную им отвагу. Вы и я стали жертвами клеветы. Люди, недостой–ные того, чтобы оценить наш труд, увидели в знаках преданности, продемонстрированных вами по отношению ко мне, усердие, предметом которого был один лишь я. Пусть ваши будущие победы принадлежат им, пусть над всем этим — родина, которой вы служили, исполняя мои приказы. Спасите честь, независимость французов. Наполеон узнает о вас по ударам, которые вы нанесете».
Эта страница истории вскоре направлена в кабинет председателя временного правительства, чтобы потом ее прочитали в войсках, которые, как полагал Наполеон, стали отныне войсками юного императора, его сына. Но Фуше сильно опасался, что в армии, как и в Париже, вспыхнет огонь мятежа. Он внимательно прочел императорскую прозу, положил обращение в ящик своего стола… и больше его оттуда не вынимал.
Однако из Парижа продолжали выезжать кареты, следовавшие в направлении Мальмезона. Поток посетителей нарастал. Вначале прибыли братья Бонапарта Жозеф, Люсьен и Жером, затем — верный Савари, герцог де Ровиго, настаивавший на том, чтобы сопровождать хозяина в ссылку. После него подъехали граф де ла Валет, герцог де Бассано, генералы де ля Бедуайер, Пире, Каффарелли, Шартран и, наконец, банкир Лаффит, последнему Наполеон, возмущенный вмешательством Священного союза в решения временного правительства, заявил:
— Эти державы ведут войну не против меня лично, а против революции. Они всегда видели во мне всего лишь представителя, человека революции.
Когда кончился ужин, он взял Гортензию за руку, чтобы прогуляться с ней по саду, в это время года полному цветов. Розы, знаменитые розы Мальмезона, источали благоухание и освещали ночь своим ароматным светом. Император молчал: он слушал, вдыхал запахи, некогда наполненные нежностью. А потом Гортензия вдруг услышала его шепот:
— Бедная Жозефина! Не могу привыкнуть жить здесь без нее. Мне всегда кажется — она выходит из аллеи и собирает столь любимые ею цветы… Эта женщина обладала такой грацией, которой мне никогда больше не приходилось видеть!..
Последние слова он произнес с хрипотой в голосе. Потом смолк и, чуть крепче сжав руку молодой женщины, меланхолично продолжал прогулку.
Он рассчитывал оставаться в Мальмезоне совсем недолго. Полагал, что это последняя остановка перед Рошфором, где его Должны ждать фрегаты, но, несмотря на бесконечные требования дать ему возможность тронуться в путь, правительство затягивало решение, уходило от ответа. Для Фуше отплытие в Америку оставалось таким же иллюзорным, как провозглашение Наполеона II императором Франции. Бывший член Конвента и бывший министр полиции решил: любой ценой не допустить, чтобы свободный Наполеон появился в сердце так называемой родины свободы, как тогда называли США. Фуше — один из тех, кто хотел бы видеть его в заточении за стенами крепости. Не потому ли, что император в свое время отнял у него столь дорогой ему министерский портфель и передал «ни на что не годному Савари»? Он написал Веллингтону, как бы испрашивая пропуск на проход фрегатов Наполеона, — один из способов предупредить о том, что здесь готовилось, — и стал терпеливо дожидаться ответа.
В Мальмезоне Наполеон проводил дни одновременно нежные и напряженные, спокойные и меланхоличные. Вслед за мужчинами к нему стали приезжать женщины — те, кого он любил и кто отвечал ему взаимностью. Одна из самых частых посетительниц — очаровательная графиня Каффарелли, его любовный Ватерлоо: глубоко честная и любящая мужа красавица Жюльенна отвергла ухаживания владыки, соблазненного ее смуглой красотой более чем следовало. Но у нее хватило ума и сердца сохранить уважение и дружбу императора. Потерпевшему поражение при Ватерлоо властителю графиня принесла свой смелый взгляд, теплоту дружбы и ничего больше… но и ничего меньше.
Вскоре приехала прекрасная мадам Дюшатель. Бывшая дама для чтения при Жозефине в прошлом разожгла в Наполеоне такое сильное чувство, что это заставило беспокоиться императрицу. Вся история кончилась наполовину комичной, наполовину бурной сценой, и Наполеон прервал эту связь под действием слез Жозефины. Но всегда хранил некоторую нежность к этой красивой, улыбчивой и мягкой женщине, напоминавшей ему о столь чудесных мгновениях.
Само собой разумеется, и герцогиня де Бассано приехала присесть перед ним в реверансе. После развода и до выхода на сцену Марии–Луизы она тоже познала радости в императорском алькове и оставила об этом вещественное воспоминание в виде портфеля министра иностранных дел для своего мужа. Однако умела проявлять признательность в рамках приличий.
Не замедлила появиться там и еще одна бывшая любовница — мадам де Пеллапра. Камердинер императора Маршан встретил ее неподалеку от Мальмезона — она не решалась войти из–за присутствия Гортензии.
— Но мне необходимо увидеть императора! Я непременно должна поговорить с ним по очень важному для него делу!
Это очень важное дело — предательство Фуше: молодая женщина узнала о нем до начала битвы при Ватерлоо и успела предупредить императора. Теперь намеревалась рассказать ему о тревожных слухах, касавшихся поведения главы временного правительства.
Естественно, Наполеон принял ее, тем более охотно, что эта веселая, прелестная женщина всегда его развлекала. Когда она рассказала о том, что ей известно, он на некоторое время отогнал пришедшие в голову мрачные мысли — дал себе возможность отдохнуть от них — и лукаво спросил гостью:
— Расскажите–ка мне, что вы делали после моего отъезда из Лиона? Мне доложили, что вы служили моему делу весьма забавным способом!
Мадам де Пеллапра рассмеялась и без стеснения поведала, как, переодевшись в крестьянку, объехала все окрестные дороги, раздавая трехцветные кокарды солдатам армии Нея, направленной с целью остановить продвижение Наполеона на Париж при возвращении его с острова Эльба.
— Сидя на осле с корзинами, я делала вид, что еду продавать яйца, и никому в голову не пришло меня арестовать. Смеялась, минуя заставы. Пароля не знала, но имела наготове веселое словцо, а когда проезжала мимо солдат, протягивала им мои кокарды. А они бросали сабли с криками: «Да здравствует курочка, которая снесла эти яйца!»
Впервые за долгое время Наполеон смеялся, а кое–кто утверждал, что мадам де Пеллапра не уедет из Мальмезона раньше восхода солнца.
Красивая и фривольная Элеонора Денюэль де ла Плень, родившая от него ребенка, в Мальмезон не приехала. Но император попросил привезти к нему маленького Леона, белокурого мальчика, чье сходство с королем Римским поразило королеву Гортензию. В то время мальчик рос недалеко от Парижа, в пансионе, который Наполеон лично выбрал для него, поскольку мать не слишком утруждала себя занятиями с ребенком.
— Что вы станете с ним делать? — осведомилась Гортензия. — Я бы охотно занялась им, но не кажется ли вам, что это может навлечь на меня злобу врагов?
— Да, вы правы. Мне было бы приятно знать, что он находится при вас, но люди обязательно начнут говорить, что он ваш сын. Когда окажусь в Америке, устрою его переезд туда.
И в надежде на это с улыбкой смотрел вслед выезжавшей из ворот Мальмезона карете, увозившей юного Леона. Но ему не суждено было вновь увидеть ребенка, так похожего на короля Римского.
В это время армии союзников уже подходили к Парижу. Между Нантей и Гонесс шла битва, Париж бурлил. Как это случилось позднее, в 1871 году, после поражения под Седаном, в ответ на благородный импульс Коммуны Париж хотел драться. Париж хотел защищаться и не понимал, почему императора держат под арестом в Мальмезоне (по–другому это и нельзя назвать: генерал Бекер, пусть ему это и не очень нравилось, получил приказ «заботиться о безопасности Наполеона») и власти тратят время на пустую болтовню, а враг совсем близко. Толпы рабочих и солдат ходили по городу, выкрикивая угрозы. Звучали призывы к оружию, ночью к дверям подбрасывались провокационные листовки. Временное правительство, готовившееся по наущению Фуше к возвращению Людовика XVIII–го, охватил страх. Если Наполеон останется у ворот Парижа — ожидай самого худшего. Надо сделать так, чтобы он уехал. Ему дали понять: пусть покинет Мальмезон и отправится в Рошфор; там у него хватит времени дождаться мифического пропуска — никто и никогда не собирался его выписывать.
Наполеон проявил недоверчивость и отказался уезжать. Он слишком хорошо знал людей, с которыми ему пришлось иметь дело, чтобы не догадываться об их планах. Он покинет Мальмезон, только если получит пропуск.
В его окружении нарастала паника. Близкие к императору люди знали, что Фуше и компания готовы выдать бывшего монарха союзникам. Кое–кто полагал, что ему грозит пожизненное заключение; другие считали, что его просто расстреляют. Наполеон отказался уступать, но торопил Гортензию уехать от него.
— Я ничего не боюсь. Но вы, дочка, уезжайте, покиньте меня!
Гортензия, разумеется, отказалась. Утром 28 июня генерал Флао поехал в Тюильри требовать, чтобы фрегаты подняли паруса сразу по прибытии императора в Рошфор, не дожидаясь пропусков. Он наткнулся на Даву — тот непостижимым образом примкнул к Фуше и стал «его правой рукой». Между этими людьми произошла яростная ссора.
— Генерал, — вскричал Даву, — возвращайтесь к императору и скажите ему, чтобы уезжал! Что его присутствие мешает нам, является помехой на пути любого Урегулирования — спасение Отчизны требует его отъезда! Пусть уезжает немедленно,в противном случае нам придется его арестовать! Я лично арестую его! Флао холодно посмотрел на маршала и, вложив в слова максимум ярости и презрения, ответил:
— Господин маршал, подобный приказ может передать только тот, кто его отдает. Что касается меня, я этого делать не стану! А если, чтобы не подчиняться вашим приказам, нужно подать вам прошение об отставке, — заявляю вам о моей отставке!
С тяжестью на сердце он вернулся в Мальмезон, но не посмел передать слова Даву Наполеону, «опасаясь усилить его страдания». Впрочем, окружение императора было достаточным: приехали его мать и кардинал Феш, а также Корвизар, Тальма, герцогиня Висанс и все другие верные ему люди.
Ближе к полудню перед дворцом остановилась карета. Из нее вышла заплаканная женщина, державшая за руку маленького мальчика, — Мария Валевская, «польская супруга», всегда хранившая любовь к Наполеону; та, кого видели на острове Эльба, а совсем недавно — в Тюильри. Император побежал к ней навстречу и обнял ее.
— Мари! Вы выглядите такой потрясенной!
Он провел ее в библиотеку, где она долго и безуспешно умоляла его приехать в Париж, собрать армию, народ, который требует его возвращения; выступить против захватчика, защитить, наконец, себя и столицу! Но он отказался: знал, что ничего не сможет сделать против армий союзников, дисциплинированных регулярных войск, со спешно собранным войском. Войском, несомненно, героическим, но оно погибнет зря. На этот раз самопожертвование и пролитая кровь бессмысленны и приведут лишь к тому, что Париж испытает на себе месть врага.
— Нет, Мари, — сказал он, — я должен уехать! Не потому, что «они» этого хотят… я должен это сделать ради своего сына!
Она упала в кресло и забилась в рыданиях.
— Я так хотела вас спасти!..
Наконец, когда из Парижа прибыл посланник, сообщивший, что «оба фрегата» в его распоряжении, он стал готовиться к отъезду. Но неприятель продолжает приближаться — он не уедет, не попытавшись защитить страну. Отправил Бекера в Тюильри, пусть попросит для него командование армией, чтобы сразиться с прусскими войсками, — желает умереть со шпагой в руке… Но Бекер передал ему только гневные слова Фуше:
«Он что, издевается над нами?! Неужели мы не знаем, как он сдержит слово, если мы согласимся на его предложение?!»
Наполеон пожал плечами, сказав лишь:
— Они все еще боятся меня!
Переоделся, пожал руки всем друзьям, обнял Гортензию и мать, а потом попросил открыть комнату, где умерла Жозефина и долго пробыл там в одиночестве. Вышел он оттуда с красными глазами. Наконец, бросив последний взгляд на дом, который оставался ему дорог до последнего вздоха, сел в карету с теми, кто решил разделить его судьбу до самого конца, и направился по дороге к океану — в надежде найти за ним огромную страну, где у него останется по меньшей мере право быть свободным человеком.
Но на рейде Рошфора уже стояла английская эскадра, запретившая ему уплыть на двух фрегатах, так великодушно предоставленных временным правительством. Фуше поработал на славу… В конце пути только британский военный корабль «Беллерофон»… и остров Святой Елены.
Ее звали Сисси.
СИССИ И ЗАМУЖЕСТВО
Покупая в 1834 году замок Поссенхофен вблизи красивого озера Штарнберг, в восьмидесяти километрах от Мюнхена, герцог Макс Баварский намеревался сделать его летней резиденцией своей семьи, пока еще немногочисленной — у него лишь один, рожденный в 1831 году, сын Людовик, — но он надеялся ее значительно увеличить.
Поссенхофен — это и тогда (и поныне) довольно массивное сооружение, с четырьмя башнями по углам и с большим количеством комнат. Расположение по соседству с озером, посреди поросших лесом холмов, и великолепный парк с восхитительными розариями делали его очаровательным местом. Мало–помалу он затмил дворец в Мюнхене и стал настоящим семейным домом для герцогского выводка — домом, который все обожали.
В порядке появления на свет этот выводок состоял из вышеупомянутого Людовика, Елены, по прозвищу Нене, родившейся в1834 году, спустя несколько недель после приобретения замка, ставшего «дорогим Посси»; Елизаветы, которую все звали Сизи (или Сисси), словно посланной небом накануне новогодних праздников 1837 года; Карла–Теодора, или, по–другому, Гакеля, увидевшего свет в 1839 году; Марии, рожденной в 1841 году и не получившей никакого известного нам прозвища; Матильды, 1843 года рождения, которую называли Воробышком по причине хрупкого здоровья; Софии, увеличившей семейство только в 1847 году, и, наконец, последнего отпрыска, Карла Эммануэля, по прозвищу Мапперль, чье рождение имело место двумя годами позже.
Все члены счастливого и веселого семейства небрежно воспитаны папашей, хотя и страдавшим хронической непоседливостью, но полным нежности и изобретательности, имевшим артистический дар и необычайную человеческую теплоту души, а также матерью, находившейся в состоянии безмерного восхищения супругом и детьми, в отношении которых, честно говоря, она строила весьма честолюбивые планы. Урожденная принцесса Баварская, Людовика, выйдя замуж за своего двоюродного брата Макса, сделала самую скромную партию в семье — остальные три ее сестры вышли замуж более удачно: одна стала королевой Пруссии, другая — королевой Саксонии, а старшая, София, стала бы императрицей Австрии, не заставь она мужа отказаться от трона в пользу своего сына Франца Иосифа[2]. Титул герцогини Баварской для Людовики не означал никакого повышения статуса, но, если все взвесить, она, несомненно, единственная из сестер, познавшая счастье в жизни, и это компенсирует все остальное. Титул герцогини она приняла добровольно, что никоим образом не мешало ей мечтать о более достойной судьбе для своих девочек.
С верой в это Людовика и жила летом 1853 года — жила словно на раскаленных углях, поскольку вот уже несколько месяцев между ней и ее сестрой эрцгерцогиней Софией, мозгом всего семейства, происходили оживленная переписка и встречи, имевшие целью организовать брак императора Франца Иосифа и Елены, старшей дочери Макса и Людовики.
Этот план давно уже зрел в голове у Софии — она очень хотела объединить вокруг себя максимально возможное число знатных семейств. Решимость реализовать этот план особенно усилилась, когда ее сын, этот невинный мальчик, в свои двадцать четыре года заявил, что хочет взять в жены дочь князя — наместника Венгрии, очень красивую и умную девушку, внушившую ему довольно бурные чувства. София пресекла зло в корне всего несколькими словами:
— Венгрия — наша подданная провинция и должна таковой оставаться. Венгерка не может делить с тобой трон.
Франц Иосиф в то время еще слепо подчинялся матери и потому заглушил свои чувства во имя интересов государства и больше об этом проекте не заикался. Впрочем, он знал о видах Софии на его кузину Елену; у девушки превосходная репутация, и он не видит препятствий к тому, чтобы сделать ее своей женой, если она так красива и очаровательна, как все говорят… По крайней мере София.
— Она превосходна со всех точек зрения! — постоянно твердила эрцгерцогиня.
Она действительно превосходна — Людовика приложила для этого много сил. Ее научили всему, что должна знать императрица Австрийская: говорить на нескольких языках, танцевать, ездить верхом, принимать гостей, свободно чувствовать себя присутствии большого числа людей, даже грациозно скучать, часами неподвижно сидя в кресле, представлявшем трон.
В один прекрасный июньский день в замке начался великий переполох — герцогиня во время семейного завтрака прочла письмо сестры и воскликнула, светясь счастьем:
— Радуйтесь, дети мои! Ваша тетка София приглашает в Ишль в августе на встречу Нене, Сисси и меня. Император тоже туда приедет…
При этой новости Елена покраснела от удовольствия, поскольку всю жизнь мечтала выйти замуж за Франца Иосифа, а Елизавета проявила лишь недоверчивый энтузиазм:
— А Карл Людовик тоже там будет?
Эрцгерцог Карл Людовик, младший брат Франца Иосифа, ее верный рыцарь еще с той поры, когда подростки тремя годами ранее повстречались в том же Ишле. Они переписывались, юный принц даже направил даме сердца красивые подарки — перстень и браслет — с одобрения матери, которая загодя планировала устроить второй союз с дочерьми сестры.
— Конечно, он там будет! — воскликнула Людовика, обнимая свое пятнадцатилетнее чадо. — Ты будешь рада увидеться с ним?
— Думаю, да… он очень мил и нравится мне.
После этих громких слов все принялись готовиться к отъезду, причем каждая почему: герцогиня и Елена бросились к платяным шкафам при поддержке воспитательницы принцесс баронессы Вульфен, а Сисси убежала в сад — покормить своих любимых животных и рассказать им о последних событиях, происшедших в доме. Пятнадцатого августа три принцессы с полуторачасовым опозданием приехали в отель Ишля[3], где узнали, что эрцгерцогиня ждет их к чаю на императорской вилле. Да ведь это катастрофа — в их распоряжении чуть более получаса, а багаж еще не прибыл. Зато император уже там…
— Тем хуже! — сказала герцогиня со слезами на глазах. — Время назначено, и будь даже багаж на месте, у нас нет времени переодеться! Пойдем в таком виде, как есть.
— Ваша светлость! — воскликнула баронесса Вульфен. — Это невозможно! Вся одежда в пыли!..
— Пыль — это одно, протокол — другое. Мы должны идти!
На вилле эрцгерцогиня София ждала их в своих апартаментах. Она успокоила сестру: девочки и так очаровательны; надо просто позвать ее камердинершу, чтобы привести в порядок прическу Елены. Сисси удовольствовалась простой щеткой для волос; посему сделали все возможное, чтобы уложить роскошные волосы Нене, но камеристка, которой это поручили, не удержалась от восхищения волосами юной Сисси, этим сверкающим каштановым каскадом с золотистым блеском и светлыми желтыми прядками.
За несколько минут баварские дамы приняли вид вполне презентабельный, чтобы приступить к чаепитию и предстать пред взором императора. Все направились в салон, где и предстояла встреча с ним.
Первый контакт получился не очень торжественным. Красная от смущения, Елена едва смела поднять глаза на двадцатичетырехлетнего императора, которого прочили ей в мужья, а тот повел себя любезно, но несколько натянуто: принялся сравнивать девушку с прекрасной венгеркой и понял, что его собираются женить вопреки его воле. Рассматривая Елену, он находил ее безусловно красивой — высокая, стройная, полна скромности и элегантности, — но не мог помешать себе увидеть в ней некоторые черты энергичности и даже жестокости, а это не соответствовало его ожиданиям.
А потом внезапно вообще перестал ее видеть: позади нее обнаружил очаровательное создание, с мечтательным личиком и полными звезд глазами, с восхитительной фигуркой… Конечно, это еще юная девочка, но так хороша, так привлекательна, что одного ее присутствия хватает, чтобы затмить все окружающее, вычеркнуть других из памяти… С того момента он видел только ее, тем более что очаровательная Сисси не обращала на него никакого внимания — счастлива была снова видеть своего друга Карла–Людовика; кажется, еще немного, и эти двое попросят разрешения пойти поиграть в сад.
Вдруг Сисси почувствовала, какое внимание уделяет ей Франц Иосиф; тут же смутилась и покраснела, с нее слетела естественная игривость, которая заставляла хмурить брови тетку Софию. Она ухватилась за своего друга Карла Людовика как за спасательный круг: не смела смотреть ни на императора, чей улыбающийся взгляд проводил ее в непонятное ей самой смятение, ни на Елену — боялась увидеть на ее лице разочарование, понять которое так легко.
Почувствовал разочарование и еще один человек — Карл Людовик. Страстно влюбленный в красивую кузину, юный эрцгерцог прекрасно понял, какое значение имеет взгляд брата, и вечером того же дня, после ужина, в кругу семьи высказал матери свою боль — не мог скрывать:
— Сисси очень понравилась Францу, мама, гораздо больше, чем Нене. Вот увидишь — он предпочтет ее сестре.
— Ты не бредишь? — Эрцгерцогиня пожала плечами. — Такую девчонку?! Это было бы катастрофой!
Вполне возможно, она просто–напросто старалась успокоить себя — ведь глаз у нее наметанный. Но ее иллюзиям не пришлось длиться долго: на следующий день, едва она успела встать с постели, к ней, не дав даже возможности позавтракать, явился Франц Иосиф; он весь светился.
— Знаешь, — сказал он, — Сисси просто прелесть!..
— И ты врываешься ко мне в такой час, чтобы сказать это?
— Тысячу извинений, мама, но я должен тебе это сказать! Она обворожительна, восхитительна!
— Но она всего лишь ребенок!
— Конечно, она очень молода, но посмотри на ее волосы, глаза, на ее очарование, на всю ее личность! Она изысканна.
— Но ведь есть Елена. Та Елена, которая…
— Елена — ничто! Она прекрасна, но ее не видишь, когда есть Сисси.
— Ладно, успокойся! Ты еще сам не знаешь, что тебе нужно. Следует поразмыслить. Время на это у тебя еще есть, не стоит торопиться! Никто не требует, чтобы ты немедленно обвенчался.
Но попробуйте остановить поток в его неумолимом движении! Широко улыбнувшись, молодой император нежно обнял мать:
— Мне кажется, лучше не затягивать с этим. Я немедленно постараюсь увидеться Сисси — до обеда.
И тут же ушел заниматься своим делами самодержца, озаренный мыслью — сможет побыть наедине с той, которую уже считал своей любимой… К несчастью, он ее не нашел и с хмурым выражением лица, несколько раздраженный, сел за стол рядом с Еленой, на которую продолжал не смотреть. Эта несчастная даже не услышала звука его голоса. Он глядел только на Сисси, сидевшую в другом конце стола — между эрцгерцогиней Софией и принцем Гессенским.
А девушка, чрезвычайно смущенная пристальным улыбающимся взглядом, которого он с нее не спускал, практически не притронулась ни к одному из поданных блюд, чем вызвала удивление соседки по столу.
— Сисси, видно, решила, что сегодня постный день! — засмеялась эрцгерцогиня. Отведала только овощного супа и русского салата.
На следующий день на императорской вилле предстоял большой бал; в ходе его, как всем при дворе известно, котильон — решающий танец… Это знали все, кроме Сисси, продолжавшей упорно считать сестру будущей императрицей Австрийской — вопреки ледяному выражению лица Елены.
Когда сестры появились в большом зале, среди присутствовавших пробежал шепот восхищения, адресованный, увы, скорее Сисси, чем Елене, а ведь девушка, в блестящем белом платье, с гирляндой плюща в темных волосах, так красива… Но ее младшая сестра, словно окутанная облаком из розового муслина, с маленькой бриллиантовой стрелкой в волосах, — неотразима. А когда настало время котильона, именно ей Франц Иосиф преподнес традиционный букет, приглашая на танец.
И всем стало ясно: ставки сделаны, они присутствуют при рождении императрицы. Эрцгерцогине Софии пришлось употребить все свое самообладание, чтобы не выказать неудовольствия. Что касается Елены, она удалилась в пустой салон, чтобы скрыть печаль.
Добавить, собственно, нечего: на следующий день Франц Иосиф направился к матери, чтобы уговорить ее попросить за него руки его кузины Елизаветы, — если только та согласится выйти за него замуж.
— Умоляю вас, мадам, убедить тетю Людовику, чтобы она не оказывала никакого давления на Сисси. Бремя мое, Бог свидетель, настолько тяжело, что разделить его со мной — удовольствие малоприятное. Я хочу, чтобы ей это сказали!
— Дорогое мое дитя, почему ты считаешь, что женщина не почувствует себя счастливой, если облегчит тебе выполнение трудной задачи своим очарованием и веселостью? Однако все будет сделано так, как ты желаешь.
Вечером того же дня герцогиня Людовика с некоторым беспокойством и с сильным волнением передала Сисси просьбу императора, тщательно подбирая слова и в точности выполняя пожелание Франца Иосифа.
— Этот брак, как ты прекрасно понимаешь, возможен, только если ты любишь Франца, — если ты любишь его достаточно сильно, для того чтобы согласиться разделить с ним всю тяжесть короны. Любишь ли ты его?
— Как же я могу его не любить? Но почему он подумал обо мне? Я ведь такая молодая, такая незначительная… Я сделаю все, чтобы он был счастлив… Но смогу ли я это сделать? Конечно же, я его люблю! Но чувствовала бы себя еще счастливее, не будь он императором!
В ближайшее воскресенье, по окончании мессы в церкви Ишля, Франц Иосиф взял Сисси за руку, подвел к епископу, закончившему службу, и громко произнес:
— Монсеньор, соблаговолите благословить нас! Вот моя невеста!
23 апреля 1854 года, накануне свадьбы, Елизавета смотрела сквозь стекла окна дворца Шенбрунн, как садовники занимаются весенними работами, когда к ней в комнату, почти шатаясь под тяжестью своей ноши, вошла графиня Эстергази, ее будущая первая фрейлина. Она притащила два толстых тома и положила их на стол.
— Ради бога, графиня, что это вы принесли?!
— Предметы чрезвычайной важности, ваша светлость. Вот эту книгу (она приподняла огромный фолиант — больше переплета, чем текста) вашей светлости достаточно пролистать: здесь описан свадебный церемониал, принятый при австрийском дворе.
Будущая императрица послушно полистала книгу и рассмеялась:
— Боже всемилостивый! Как все сложно! Я вижу там такие выражения: «светлейшие дамы и высокосветлейшие дамы», «пажи и носители шлейфа», «придворные дамы и дамы в апартаментах»… Кто же такие эти «дамы в апартаментах»?
— Это те, кто, в отличие от дам, имеющих широкий доступ и ограниченный доступ, имеет право появляться в апартаментах только в строго отведенное время и только по предварительному приглашению.
— Не понимаю, кому пришло бы в голову явиться сюда без приглашения. А что в другой книге? — Она очень важна. Вашей светлости придется не только оставить ее у себя на вечер, но и выучить наизусть.
— Наизусть? — с ужасом воскликнула Сисси. — Но она такая огромная!
— Это не совсем так, там крупный шрифт. Она называется «Нижайшие напоминания» и предписывает поведение вашей светлости во время всех свадебных церемоний.
— Церемоний? Их так много? Не без усилий, связанных с ее пятьюдесятью шестью годами, графиня Эстергази присела в реверансе, который так подходил к суровому выражению ее лица.
— Конечно, их много, но вашей светлости давно пора ими заинтересоваться. Выйти замуж за императора — это не то что за простого гвардейского офицера, а эрцгерцогиня София настаивает, чтобы вы, ваша светлость, начали изучать эти документы.
И она удалилась.
Сисси оказалась наедине с ужасными книгами, содержавшими, кстати очень неприятные, выдержки из знаменитого австрийского этикета, который императоры позаимствовали из испанского этикета Карла V и Филиппа II. Повернувшись спиной к садовникам и рассаживаемым ими цветам невеста смело, но не без вздохов принялась за чтение.
Вечером, увидевшись с женихом во время семейного ужина, она поделилась с ним своими опасениями относительно количества и сложности церемоний дня завтрашнего и последующих.
Франц Иосиф расхохотался.
— Это все не столь ужасно — увидишь! А когда мы отделаемся от всех этих обязанностей, ты станешь моей сладкой женушкой и мы очень скоро забудем о них в нашем прекрасном Лаксенбурге…
Елизавета улыбнулась ему в ответ.
— Хорошо! Если это просто неудобство, через которое надо пройти, мы постараемся смело сделать все что нужно.
Такое неудобство для любой другой девушки сделалось бы, несомненно, чем–то вроде апофеоза из сказки фей: никакой спектакль, самый сказочный, не сравнился бы блеском с церковью Августинцев в Вене, когда на следующий день в половине седьмого вечера в нее вошел свадебный кортеж. При свете тысяч свечей сверкала позолота гигантского алтаря, переливались украшения на присутствующих женщинах, блестели ордена на груди мужчин. Белые цветы, расставленные повсюду в виде огромных букетов, наполняли своим ароматом все помещение. И вот под удары колокола император ступил на красный ковер — наступила абсолютная тишина.I
Худощавый, стройный, очень высокий красивый в фельдмаршальском мундире молодой монарх в одиночестве твердым шагом шел к алтарю, где его ожидал князь архиепископ Венский кардинал Раушер. Появление Елизаветы встретили чем–то на подобие вздоха — она шла между своей матерью и эрцгерцогиней Софией. Никогда еще под сводами старинной часовни не проходила более прекрасная невеста.
В пышном белом платье, расшитом золотом и серебром и украшенном миртом, Елизавета была поразительно красива. Ее шея, руки и великолепные золотисто–каштановые волосы были убраны знаменитыми украшениями из бриллиантов и опалов, принадлежавшими эрцгерцогине Софии и подаренными своей невестке; на груди прикреплен букет белых роз. Наконец, вслед за ней простиралась бесконечная вуаль из дорогих белых кружев. Будущий супруг не сдержал счастливой улыбки, увидев, как невеста приближается к нему… Только она такая бледная и серьезная, какой никто никогда еще ее не видел. Впервые поняв всю тяжесть своего титула, юная, шестнадцатилетняя Елизавета, вероятно, едва–едва осознала, что значит стать императрицей Австрии; волнение ее было так очевидно, что она не удержалась от испуганного движения, когда на улице раздался залп ружей, а вслед за ним пушечная канонада — в этот момент Франц Иосиф твердой рукой надевал на ее дрожащий пальчик золотое кольцо.
Тепло его ловкой руки вернуло ей храбрость, и, подняв полные слез глаза на нежное лицо мужа, она ухватилась за эту руку, и ей удалось улыбнуться. Но все остальные этапы этой бесконечной церемонии прошли для нее как во сне. Она желала лишь одного: пусть все это поскорее кончится, и она окажется наедине и в покое с этим коронованным мужчиной, которого любит всем сердцем…
Увы, праздникам суждено продлиться несколько дней — начиная с дня, следующего за церковной церемонией, Сисси пришлось столкнуться с невыносимым императорским этикетом. А этот этикет предусматривал: семья каждое утро собирается за завтраком, как любая австрийская семья, и не допускается ни малейшего отклонения на тот день, что наступает вслед за первой брачной ночью.
Никто не знает, какова была эта ночь у Елизаветы и Франца Иосифа, но мы вполне понимаем, как тягостно ребенку шестнадцати лет, такому пугливому, как юная императрица, оказаться — поднявшись с кровати, где она стала женщиной, — в присутствии свекрови и других членов семьи за прозаическим столом и кофе с молоком. Тут больше подошли бы «неприличные французские обычаи, предусматривающие завтрак в постели. А еще лучше — отправиться бы сразу после религиозной церемонии в какое–нибудь тихое, безлюдное место, главное — безлюдное!
После досадного завтрака начиналась серия приемов, церемоний, в которых надо участвовать — под непрерывным руководством эрцгерцогини Софии, решившей взять в свои руки императорское воспитание невестки.
Можно многое порассказать об эрцгерцогине Софии, ставшей для истории самим воплощением этикета, суровых вековых традиций, определявших поведение императриц. Она — великолепная свекровь и мало кто взял на себя труд узнать истинное лицо этой баварской принцессы: замуж она вышла неудачно — за человека, оказавшегося совершенно неспособным стать императором; пережила смерть в заточении единственного любимого человека, очаровательного и несчастного принца, носившего титул герцога Рейхштадтского, сына Наполеона I и Марии–Луизы.
Когда Франц ушел из ее жизни, София, не скрывавшая отвращения к семейным похождениям Марии–Луизы, бывшей французской императрицы, жила только для своих сыновей и обеспечила старшему Францу Иосифу, императорскую корону, которую могла бы носить сама.
Сына обожала, и он был воспитан, даже выдрессирован для исполнения этого долга — тяжесть его и связанные с ним лишения София прекрасно понимала. Вот почему, когда настало время выбирать ему жену, она обратила взор на старшую племянницу Елену, обученную, она это прекрасно знала, для того, чтобы взойти на трон.
Однако сердце Франца Иосифа выбрало великолепную, диковатую Елизавету, вовсе не готовую выполнить столь трудную задачу, и тем нарушило все материнские планы. София, естественно, уступила — мать не заставит сына страдать, — но, смирившись с неизбежностью, не отказалась от мысли дать Австрии настоящую монархиню, а сыну — супругу, которая видит свое предназначение только в том, чтобы сделать его счастливым. Одним словом, как ни грубо это звучит, София решила поработать над тем, что ей досталось. Несчастье в том, что она не проявила при этом достаточно дипломатичности и ловкости.
Понимая, что имеет дело с ребенком, относилась к невестке как к безответственной девчонке, которая очень нуждается в подходящем воспитании. И эта женщина, которая, взойди она на трон, сделалась бы, возможно, второй Марией Терезией, отметилась в истории тем, что прослыла свекровью–садисткой. Возможно, ее никто и не упрекнул бы, но, к несчастью, ее невесткой стала самая очаровательная, самая романтическая женщина тех времен. Женись Франц Иосиф на какой–нибудь коронованной уродине, никому и в голову не пришло бы хоть в чем–то обвинить Софию. Но попробуйте напасть на героиню из романа!
В дни, что последовали за свадьбой, у Сисси сложилось впечатление, что она попала в какой–то монастырь со строгим уставом, где настоятельница — София, а воспитательница новичков точь–в–точь как ее личная фрейлина при дворе, эта мало любезная графиня Эстергази. Особенно невыносимыми Сисси казались официальные приемы: «Держи спину ровней!», «Надо приветствовать гостей более любезно!», «Ты не уделила внимания этой даме, но была слишком любезна с этим господином» И т. д. и т. п.
Это так действовало на нервы, что на четвертый день Ее Императорское Величество решила объявить забастовку. Нет, она не даст аудиенции! Нет, она не поедет ни на какой прием! Она хочет, чтобы ее оставили в покое. Кто слышал о медовом месяце, организованном подобным образом?
Эрцгерцогиня, естественно, попыталась заставить ее пересмотреть свое решение, но впервые убедилась — это грациозное дитя обладает железной волей. Впрочем, на сей раз ее поддержал супруг: ему тоже так хотелось покоя и побыть наедине с женой… И потому молодожены сели в карету и спокойненько отправились прогуляться в Пратер…
Увы, прогулка оказалась всего лишь эпизодом в их странном медовом месяце. Поселившись в Лаксенбурге, Сисси вскоре поняла, что этот так называемый месяц проводит скорее в обществе свекрови, чем мужа, — верная своему долгу эрцгерцогиня последовала за молодой четой в замок в окрестностях Вены… А Франц Иосиф, как добросовестный чиновник, каждое утро уезжал в Вену для выполнения своей императорской работы.
Вынужденная полностью следовать предписаниям протокола в течение дня, Елизавета находила утешение со своими домашними животными — перевезла некоторых из Поссенхофена. Часами стояла перед вольером или сидела в своей комнате, сочиняя стихи. Это занятие, естественно, не вызывало энтузиазма у эрцгерцогини — она все упорствовала в лучших своих стремлениях: сделать представительную монархиню из строптивой девчонки.
Однажды Сисси надоело, что дорогой Франц уезжает без нее в Хофбург, и она выразила желание его сопровождать. И тогда София заявила:
— Императрице не подобает бегать за мужем и метаться туда–сюда, словно лейтенантишка!
Молодая женщина пропустила это мимо ушей, но вечером, по возвращении, ей пришлось выслушать упрек, который смазал все удовольствие от проведенного дня.
— Я — императрица! Первая дама государства! — заявила она раздраженно свекрови.
— В таком случае веди себя подобающе! Никто не собирается оспаривать твое положение, Сисси… как только ты начнешь полностью ему соответствовать. У императрицы, дитя мое, к сожалению, намного больше обязанностей, чем прав. Боюсь, нам придется приложить много стараний, чтобы внушить тебе это.
В довершение ко всем несчастьям венская весна, обычно ласковая и теплая, в тот самый год выдалась ужасной. Весь май шли непрерывные дожди, превратившие парк Лаксенбурга в болото или в залитую водой прерию. Летний замок располагал ограниченными средствами для отопления, пребывание там вскоре обернулось катастрофой. Сисси простыла, начала кашлять. Франц Иосиф пришел в ужас.
— Она не может оставаться здесь! — заявил он вечером матери. — Мне невыносимо видеть ее страдающей. Я отправлю ее в Ишль — туда к ней может приехать мать.
Эрцгерцогиня София пожала плечами.
— Попробуй, но не удивлюсь, если это у тебя не получится. Сисси откажется расставаться не с Лаксенбургом, а с тобой. Она жалуется, что мало тебя видит. А ты поехать с ней не можешь…
— Что же делать?
— Почему бы тебе не отправиться в Богемию и в Моравию? Ты ведь обязан представить своим подданным их новую монархиню. Это ее развлечет… Да и я отдохну! Ты этого не знаешь, мой милый Франц, но Сисси такая особа, что наблюдать за ней — это труднее всего на свете.
Уехали 9 июня, когда наступила солнечная погода. В этом поистине чудесном путешествии, наполненном радостью, красками и праздниками, большое значение придавалось красочности костюмов, что приводило юную императрицу в восторг. А красота ее творила чудеса и завоевывала все сердца.
В ходе путешествия Елизавета, возможно, впервые испытала удовольствие от своей роли государыни. Ей понравился чешский народ, и она почувствовала, что и он испытывает по отношению к ней чувство обожания. А кроме того, она постоянно находилась рядом со своим дорогим мужем, вдали от Софии, — предвкушение рая. Увы, путешествие кончилось, надо возвращаться в Лаксенбург, причем одной — Франц Иосиф задержался из–за военных маневров в Богемии. Но Сисси в последние дни испытывала от путешествия меньше удовольствия — только усталость и смутное отвращение…
Это означало, естественно, то, чего все ожидали: 29 июня эрцгерцогиня София сообщила сыну в письме, что императрица ждет счастливого события. Но, оставаясь верной своим принципам, воспользовалась случаем, чтобы порекомендовать императору «поберечь» в ближайшие недели юную супругу. Что касается последней, то и ей надо бы изменить образ жизни. «Полагаю, — писала совершенно серьезно София, — что ей не надо бы столько времени заниматься своими попугаями: если женщина в течение первых месяцев слишком долго смотрит на животных, возникает опасность, что дети будут на них похожи. Ей лучше смотреть в зеркало и глядеть на тебя. На таком созерцании я и буду всегда настаивать…»
Все те же благие намерения. Этими благими намерениями София, сама того не подозревая, мостила для невестки дорогу в маленький ад повседневной жизни! 5 марта 1855 года Сисси родила девочку и согласилась, без энтузиазма, дать ей имя эрцгерцогини, ставшей крестной матерью младенца, Как будто ей не хватало одной Софии!
Увы, по мере того как шло время, вначале не очень глубокая пропасть, что разделяла эрцгерцогиню и ее невестку, становилась все глубже и вскоре превратилась в бездну — преодолеть ее оказалось невозможно.
Взгляды обеих женщин на то, какой должна быть императрица Австрийская, очень различались — Сисси хотелось, вероятно, быть только женой и матерью, и она демонстрировала опасную склонность к свободе, несовместимой с ее положением. Однако ей пришлось смириться с тем, что ее детей, а их у нее было четверо, сразу после рождения забирали в апартаменты бабушки. И только последняя дочь, по имени Мария–Валерия, осталась при Елизавете — в результате утомительной борьбы, которая породила в душе молодой женщины, ставшей очень нервной, настоящую ненависть к той, кого она считала своей личной Немезидой.
Мало–помалу у Сисси, чье состояние здоровья потребовало пребывания на острове Мадейра, появился вкус к путешествиям — невинный грех ее отца герцога Макса. Прикованный к своему императорскому рабочему столу, Франц Иосиф очень от этого страдал, но потом потихоньку смирился и довольствовался теми восхитительными моментами, когда его любимая Елизавета соглашалась остаться на какое–то время а дом с ним. Она к тому времени стала таи замечательной, такой соблазнительной женщиной, что ее очарование поражало всех от мала до велика, кому выпало счастье к ней приблизиться.
Возможно, она слишком хорошо это поняла и впоследствии даже злоупотребляла этим. Но как много встречалось мужчин, не претендовавших на большее, чем обожание.
СИССИ И ШАХ ИРАНА
Никогда еще Вена не испытывала подобного возбуждения, не видела таких толп народа, как в тот прекрасный сезон 1873 года. Никогда еще австрийским монархам не приходилось подвергаться столь тяжелым испытаниям, особенно Елизавете, чувствующей перед протоколом и официальными празднествами священный ужас, а по отношению к толпе — страх, от которого так и не избавилась. Однако прежде не была она так красива, не привлекала такое восхищение и любопытство публики. И в жизни не приходилось ей так долго выполнять «представительские» функции…
Все началось 20 апреля, со свадьбы ее старшей дочери Жизели и ее двоюродного брата принца Леопольда Баварского. Получился большой праздник — молодые люди женились по любви. Помолвленные больше года, молодые люди с большим трудом прождали год, навязанный им Елизаветой, которая считала, основываясь на личном опыте, что в шестнадцать лет дочь еще не созрела для замужества.
Новобрачная, полная очарования в короне и под вуалью, естественно, привлекала взоры присутствовавших на церемонии, но намного чаще все смотрели на ее мать. Ослепительно красивая, в расшитом серебром платье, с великолепными рыжеватого оттенка волосами, увенчанными бриллиантовой диадемой, молодая женщина, ей было тридцать пять, вовсе не походила на мать невесты. И только слезы, появившиеся у нее на глазах в тот момент, когда юная принцесса произнесла традиционное «да», на какое–то время выдали ее материнские чувства.
Но слезы быстро прекратились, и вовсе не потому, что Жизель не близка ее сердцу (хотя и воспитана большей частью эрцгерцогиней Софией, скончавшейся за года до этого, и она предпочитала ей Валерию, свою младшую дочь), а потому, что этот праздник любви был ей очень приятен. А кроме того, это веселая свадьба, увенчанная представлением «Сна в летнюю ночь», которое Елизавета посмотрела, впрочем, без особого восторга.
— Никак не могу понять, — сказала она, прикрывшись веером, своей фрейлине графине Фестетиш, — как можно выбрать для свадебного вечера пьесу, где принцесса влюбляется в осла!
Но принц Леопольд услышал ее слова и с улыбкой наклонился к своей ослепительной теще:
— Не намек ли это на меня?
— Конечно, нет, друг мой! Но «Сон в летнюю ночь» — обязательная повинность для каждого, кто женится на дочери австрийского дома. Не знаю, какой вдохновенный церемониймейстер надумал включить ее во все программы проведения свадеб.
Артисты все же сыграли великолепно — празднества в Вене начались со смеха и аплодисментов. Спустя месяц наследный принц Германии и принц Уэльский торжественно открыли Большую международную выставку; для участия в ней в Вену съехалась чуть ли не вся аристократическая Европа, включая принцев, королей и императоров. Вслед за принцем Фредериком и принцессой Викторией прибыли императрица Августа, добрая половина английских принцев, бельгийские, голландские, датские и испанские монархи. Царь Александр II, очень не любивший праздники, прибыл в Вену с многочисленной свитой и имея такое важное лицо, что долгое время никто и не мечтал увидеть его улыбающимся. Но устоять перед обаянием Сисси совершенно невозможно, особенно когда она решила кого–то очаровать. Проходив двое суток с
постной миной, царь наконец, как и все остальные мужчины, громко заявил: в мире нет женщины, способной выдержать сравнение с австрийской императрицей. Из Вены он уезжал с большим сожалением…
Но самую большую победу Елизавета одержала над шахом Персии. Подобный успех крупными буквами вписывается в карьеру любой красивой женщины. Этот успех стал в какой–то мере кульминацией выставки и низвел все другие визиты королевских особ в ранг посещений простых смертных — столько этот восточный правитель вложил фантазии в привычную церемонию королевских визитов.
Назир аль–Дин прибыл в Вену 30 июня со свитой не менее многочисленной, чем у русского царя. Но его окружение, намного более красочное, вызвало восторг венцев.
В тот день стояла ужасная жара, и Франц Иосиф чувствовал себя усталым. Несмотря на возведенное в крайнюю степень «профессиональное сознание», его утомил месяц непрерывных церемоний, встреч, объятий, речей на разных языках дипломатических переговоров, просто разговоров… И этот перс, прибывший словно последний букет, его несколько взволновал.
— С удовольствием заявил бы о своем недомогании, — поделился он с императрицей. — Как ты думаешь, как воспримет это перс?
. — Думаю, воспримет как глубокое оскорбление. У тебя репутация крепкого, выносливого монарха. А потом, ведь этот несчастный, всю жизнь проводящий в схватках с русскими и англичанами, заслужил, чтобы мы уделили ему немного внимания! В конце концов, тебе с ним, возможно, окажется веселее, чем с другими, — говорят, он очень живописен.
Елизавета сама не очень верила в то, что говорили, но ошибалась, утверждая, что Назир аль–Дин воспринял бы как оскорбление болезнь императора, поскольку на самом деле шаха интересовала она и только она.
Он действительно много слышал о ее красоте — большого любителя женщин, в Персии шаха постоянно окружали самые красивые создания его страны, — ему чрезвычайно любопытно с ней встретиться.
Такая возможность представилась в Шенбрунне вечером того же дня, когда он приехал, чтобы принять участие в большом ужине, который давали в его честь австрийские монархи. Для этого случая Елизавета надела белое платье с поясом из желтого бархата и длинным шлейфом, расшитым серебром. На довольно небрежно причесанных волосах — простой обруч, украшенный бриллиантами и аметистами, который ей особенно шел. Украшения из тех же камней — на шее и на руках. В этом наряде, стоя рядом с императором, она ждала прибытия желанного гостя, испытывая любопытство, которое инстинктивно вызывало у нее все более или менее экзотическое.
Первое впечатление разочаровало: Назир аль–Дин ничуть не походил на великого Кира из прочитанных ею книг. Невысокого роста, худощавый, с острым лицом, перечеркнутым огромными черными усами, он скорее напоминал монгола. На голове высокая черная феска, с фантастической бриллиантовой кисточкой, доходившей ему чуть ли не до ног. Военный френч, перетянутый ремнем и странно оттопыривавшийся внизу, до такой степени расшит галунами и вышивкой, увешан наградами, что цвет можно различить с большим трудом. Шах напоминал одновременно новогоднюю елку и персонажа Оффенбаха.
Но у Елизаветы не было времени для анализа первых впечатлений. Увидев Сисси, Назир аль–Дин направился прямо к ней, остановился в нескольких шагах, какое–то время простоял неподвижно, словно окаменев, а затем, не обращая ни малейшего внимания на Франца Иосифа, уже раскрывшего рот, чтобы произнести краткую приветственную речь, вынул из кармана очки в золотой оправе, водрузил на нос и принялся медленно ходить вокруг императрицы,
вздыхая и повторяя восторженно… на прекрасном французском языке:
— Боже, как она красива! Боже, как она красива!
Все происходило в тишине, обычно наступающей при великом удивлении.
Какое–то время шах ходил вокруг Елизаветы, делая вид, что не замечает императора, пытавшегося привлечь его внимание. Францу Иосифу, которого это очень веселило, пришлось дернуть шаха за рукав, чтобы тот соизволил на него взглянуть.
— Подайте руку императрице, сир, — шепнул ему император, — и соблаговолите подвести ее к столу…
Назир аль–Дин уставился на него, — казалось, из всего услышанного он понял лишь одно слово. Император повторил свою фразу чуть громче — лицо шаха расплылось в широкой улыбке.
— Ах да, к столу!
Схватил Елизавету за руку и повел к обеденному столу, покачивая соединенными Руками между ними, как влюбленный, гуляя со своей зазнобой по тропинке парка. При этом ни на секунду не переставал любоваться ею и широко ей улыбаться.
Франц Иосиф проследовал за ними, испытывая одновременно желание расхохотаться и опасение, что молодая женщина проявит, как иногда случалось, озорство и даст волю неудержимому смеху, тайной которого владела. Но до банкетного стола все дошли без происшествий.
Ужин готовил австрийским монархам новые сюрпризы. Поначалу Его персидское Величество, не намеренный поддерживать беседу, предпочитал говорить на родном языке с великим визирем, стоявшим за его креслом. Совершенно ясно — говорил он об императрице: не спускал с нее глаз. При этом совершенно не обращал внимания, что ему подавали. Слуги принесли великолепную рыбу с зеленым соусом, шах повернул длинный нос, сделав знак, чтобы блюдо поднесли ближе. Внимательно осмотрел соусницу, недоверчиво понюхал соус, произнес дружелюбно:
— Похоже на окись меди!
— Это острый соус, сир, — объяснила Елизавета.
Взяв ложку, Назир аль–Дин зачерпнул соус, попробовал, сделал ужасное лицо — и спокойно положив ложку в соусницу, заявив:
— Мне это совсем не нравится!
Императрица, отважно боровшаяся с приступом дикого хохота, предпочла отвести глаза и принялась смотреть на висевший на стене напротив нее портрет Франца–Иосифа, словно от этого зависела вся ее жизнь. Но долго оставаться в таком положении ей не удалось. Решив, что она больше не занимается им в достаточной мере, шах взял бокал шампанского и, повернувшись к ней, произнес:
— Выпьем!
Каких усилий стоило несчастной, готовой заплакать императрице взять бокал и поддержать надоедливого соседа, упорно глядевшего на нее полными любви глазами… Заставив себя выполнять обязанности хозяйки дома, она с сожалением констатировала, что гость почти ничего не отведал.
— Эта кухня не вызывает у меня доверия! — любезно признался ей перс.
В этот самый момент приблизился лакей — он нес большую серебряную чашу, наполненную клубникой. Шах выхватил у него из рук чашу, преспокойно поставил перед собой и весело приступил к поеданию десерта императорского стола. Вскоре в чаше осталось всего несколько ягод.
— Вот это мне нравится! — с доброй Улыбкой заключил Его экзотическое Величество.
Конец вечера прошел просто очаровательно.
Впрочем, вопреки, а возможно, и благодаря этим выходкам Назир аль–Дин заинтересовал Елизавету — она нашла, что он очень оригинален. Особенно ей понравились его свобода и непринужденность, когда она поняла — он не может вести себя любезно с тем, кто ему не нравится. В конце всей церемонии шах подарил свой украшенный бриллиантами портрет императору — все были в восхищении. Но лица австрийцев вытянулись, когда он подарил точно такой же портрет графу Андрасси, несомненно, лучшему другу императрицы. Ему потихоньку намекнули, что при дворе принято вначале одаривать братьев императора.
— Нет, я не хочу, — спокойно ответил он. — Я дарю свой портрет только тем, кто мне нравится.
И заставить его действовать иначе было невозможно… это доставило Елизавете нежную радость. Назир аль–Дин вдруг стал ей очень симпатичен, и она решила отправиться посмотреть на любимых лошадей шаха — он всегда возил их с собой и разместил в замке Лаксенбург, где остановился сам. Ее любовь к лошадям и нечто вроде дружеского расположения, которое внушал ей этот воздыхатель, сделали визит очень приятным. Но ей показалось, что она упала со своей высоты, когда увидела, что все из благородных животных, к которым Назир–аль–Дин испытывал особую нежность, гордо расхаживают с хвостами и гривами, выкрашенными в розовый цвет.
— Я люблю лошадей и люблю розовый цвет! — заявил Его Величество таким увлеченным голосом, что добавить к этому уже ничего не оставалось, тем более что щедрый монарх одарил свою гостью неслыханными подарками.
Елизавета и даже Франц Иосиф очень повеселились благодаря персидскому гостю, но остальному двору было, к сожалению, не до смеха, особенно самым старым придворным — они находили шаха невыносимым. Среди них, например, граф Кренневиль, бывший адъютант императора, ныне его главный камергер. Этот пожилой человек, суровый и хмурый, безропотно согласился лично заняться персидским гостем.
Увы, этот несчастный едва не умер от апоплексического удара: во время прогулки по Пратеру в открытой карете шах предложил ему сесть не рядом, как предписано этикетом, а взобраться на свободное место рядом с кучером. Кроме того, поскольку сильно палило солнце, принося неудобства Его Величеству, шах с улыбкой протянул графу большой зонт и вежливо попросил открыть его и Держать над августейшей головой.
Нет необходимости говорить, что сразу по возвращении во дворец Кренневиль сказался больным, избавив себя таким образом от необходимости провести еще хотя бы час с этим сумасбродом.
Не легче пришлось и старым дамам, служим при дворе эрцгерцогини Софии. Двенадцатого августа в Шенбрунне во время большого праздника с фейерверком графиня Гесс, первая фрейлина, вознамерилась за час представить шаху этих почтеннейших дам. Тот взглянул на первую из них, присевшую реверансе, а затем, оглядев с ужасом ожидавшую очередь, подошел к графине и с выразительной гримасой на лице сказал просто:
— Спасибо! Достаточно!
Но нет такой доброй компании, которая не распалась бы, — наступил день отъезда Назира аль–Дина. На последнем вечере он открыл свое сердце Андрасси.
— Я испытываю огромное сожаление от того, что вынужден уехать и покинуть богиню. — Он смотрел на Елизавету, проходившую в нескольких шагах от них. — Вот самая красивая женщина из тех, когда видел. Какое достоинство! Какая улыбка! Какая красота… Если я когда–нибудь снова приеду сюда, то только для того, чтобы раз увидеть ее и выразить ей мое почтение!
На следующий день, в четыре часа утра, он попросил разбудить графиню Гесс, чтобы еще раз поблагодарить Ее Величество и заверить, что ее образ никогда не сотрется из его памяти.
Но вернуться ему оказалось не суждено, а Сисси, посмеявшись вволю вместе с Францем Иосифом над его выходками, забыла про далекого почитателя.
СИССИ И ЖЕЛТОЕ ДОМИНО
Вы только что прибыли в город, где никого не знаете, — вряд ли станете там веселиться, даже в самый разгар прекрасного бала–маскарада!.. Напротив, почувствуете одиночество острее, чем в самой тихой комнате, где, кроме вас, нет никого.
Именно так думал вечером последнего дня карнавала, перед постом — шел 1874 год, — провинциал двадцати шести лет от роду, по имени Фредерик Лист Пашар фон Тайнбург; он пытался приобщиться к венской жизни, участвуя или по крайней мере пытаясь принять участие в знаменитом бале в Опере. Но застенчивость мешала ему очертя голову броситься в водоворот бала и познакомиться с какой–нибудь из этих благоухающих, кокетливых женщин, которые сновали вокруг него, тщательно скрывая лица под кружевными вуалями, как требовал обычай.
Честно сказать, прошло еще очень мало времени с того дня, когда он прибыл сюда из родной Каринтии, решив воспользоваться протекцией родственника, выхлопотавшего для него должность в Министерстве внутренних дел. Юноша робкий, довольно замкнутый и скорее молчаливый, Фриц любил мечтать и читать стихи, не успел еще завести друзей, ни завязать интересные знакомства. Да, прийти на этот бал — не самая лучшая идея!
Однако некоторые женщины вполне могли бы заинтересоваться этим молодым человеком: высокий рост, природная хорошая осанка; насколько позволяла разглядеть маска, правильные, тонкие черты лица и чувственный рот; волосы темные, вьющиеся. Кое–кто из танцевавших дам бросал на ходу шутки в его адрес, подмигивал в надежде он остановит, заговорит с ними; но проклятая скромность парализовала его: Фриц улыбался, не открывая рта — и упускал очередной шанс.
Отчаявшись, он уже смирился: что придется возвращаться домой, — и тут на руку его легла рука в перчатке и послышался веселый шепот с легким венгерским акцентом
— Ты в полном одиночестве, прекрасная маска! Это не годится для бала! Скучаем?
Это прошептала дама в домино из красного сатина, придававшем ей вид огромной вишни. Но голос молодой и сквозь черное кружево маски, Фриц догадался, улыбается ясной улыбкой; он улыбнулся в ответ.
— Да, — признался он, — я здесь никого не знаю, собирался уже уходить.
. — Ты никого не знаешь? Это невозможно! В Вене все друг друга знают. Откуда ты взялся?
— Из Каринтии, в Вене я ни с кем не знаком!
— Как романтично! Вот что, коли тебе так скучно, не согласишься ли оказать мне услугу?
— Конечно, если смогу!
— Это нетрудно. Я здесь с подругой — она наверху, в галерее. Очень красивая женщина, но такая скромная… и немного грустная, тоже не веселится. Позволь мне отвести тебя к ней — возможно, тебе удастся ее развлечь.
Обрадовавшись этому предложению, Фриц подал незнакомке руку, поднялся с ней по широкой лестнице на второй этаж — и внезапно очутился лицом к лицу с шикарно одетой дамой, в великолепном домино из желто–золотистой парчи, со шлейфом, придававшим ей королевский облик. Естественно, на ней тоже черная маска, но кружева доходят до самой шеи и так плотны, что вовсе невозможно увидеть черты лица.
— – Здравствуй! — произнесла она, помахивая веером. — Как любезно с твоей стороны, что ты привел ко мне подругу.
У нее тоже венгерский акцент, а голос
полон нежности и дружелюбия. Вначале Фриц не нашелся что ответить; не понимая почему, почувствовал — эта незнакомка волнует его куда сильнее, чем ее подруга, и это только усиливало его смущение. Тоже венгерка, подумал он, но явно из знатных. Молодой провинциал, принадлежавший к определенному кругу, непременно обратил внимание на детали, которые не дадут ошибиться. Эта венгерская дама намного выше, чем та, что в красном домино, и совершенно замечательно держит голову. Огненные волосы, что видны под капюшоном, всего лишь парик, но в глазах, сверкающих сквозь прорези маски, такое выражение, что молодой служащий почувствовал себя вдруг маленьким и неуклюжим.
Дама рассмеялась:
— Похоже, ты совсем не болтлив! Не желаешь ли дать мне руку и прогуляться в толпе? Меня это развлекло бы, но пойти туда одна не смею.
— Счастлив предложить вам руку, мадам! — пробормотал он, не посмев обратиться к ней на «ты», как принято на было и слегка поклонился.
Что–то говорило ему — с этой дамой такое обращение неуместно. Почему — он не смог бы объяснить. На рукав ему легла длинная, узкая ладонь в черной кружевной перчатке. Шелковое прикосновение домино — и на него нахлынула ароматная волна духов… Фрицу вдруг захотелось быть блестящим, веселым, искрометным, очаровать, удивить незнакомку, такую, представлял он, прекрасную…
Она уже обращалась к нему с некоторым увлечением, а он ловил себя на том, что отвечает ей с легкостью. Но, к большому своему удивлению, вскоре заметил — она не признает пустячных фраз, которыми обычно обмениваются на балу. Расспрашивает его: хочет знать его впечатления о Вене, чем он здесь занимается, что говорят люди. Спросила также об императорской семье: что он думает о Франце Иосифе? одобряет ли его политику? а как насчет императрицы — видел ли ее уже?
Фриц, как мог, отвечал на все эти вопросы, продолжая теряться в догадках: кто эта дама? Внезапно в мозгу его мелькнула безумная мысль: а не сама ли императрица?.. «слышал, будто со стороны, как отвечает ей, стараясь проникнуть взглядом сквозь кружево маски:
— Императрицу? Да, я видел ее — она ехала верхом по Пратеру. Женщина сказочной красоты — вот все, что я могу сказать. Ее упрекают — мол, редко показывается на людях, слишком много времени уделяет собакам и лошадям. Но, конечно же, ошибаются: я, например, знаю — привязанность к собакам и лошадям у нее семейная. Герцог Макс, ее отец, кажется, сказал как–то: не будь мы князьями — стали бы конюшими! Дама в желтом домино рассмеялась, но странное ощущение Фрица, однако, не рассеивалось. Незнакомка вдруг спросила:
— Сколько дашь мне лет? Он без колебания ответил:
— Тридцать шесть! Точный возраст императрицы Елизаветы!
Эффект удивительный: Фриц почувствовал, как вздрогнула рука его спутницы, сразу отстранилась от него.
— Ты совершенно невоспитан! — бросила она с досадой.
Помолчала немного, добавила:
— Теперь можешь убираться! Фрица вдруг покинула вся его застенчивость.
— Очень любезно! — проговорил он с иронией в голосе — и вдруг впервые перешел на «ты» — обращение, принятое на балу: Вначале ты заставляешь привести меня к себе, расспрашиваешь, а теперь прогоняешь. Ладно, ухожу, если надоел тебе, но позволь мне все же пожать тебе руку на прощание.
Дама немного поколебалась, ничего не ответила — и внезапно снова рассмеялась:
— Нет, ты прав. Продолжим нашу прогулку.
Так прошло два часа: очарованный молодой провинциал слушал, а незнакомка
рассказывала ему истории — одну за другой. Ах, он любит немецкого поэта Генриха Гейне? Так и сама им увлечена! На крыльях поэзии время пролетело незаметно… Уже далеко за полночь; дама в красном домино несколько раз подходила к ним, словно вынуждая подругу расстаться с молодым человеком. Наконец та, что в желтом, прошептала:
— Теперь я знаю, кто ты! А за кого ты принимаешь меня?
— Ты — высокородная дама; возможно, принцесса… весь твой облик говорит об этом…
— Не старайся ничего выяснить сейчас. Настанет день, и ты узнаешь, кто я, но не сегодня. Мы еще увидимся. Сможешь ли ты приехать, например, в Мюнхен или в Штутгарт, если я назначу тебе там свидание? Я много путешествую.
— Я приеду в любое место, куда ты прикажешь.
— Хорошо. Я напишу тебе. А теперь проводи меня к фиакру и пообещай, что потом не вернешься в зал.
— Обещаю. Тем более что бал без тебя мне неинтересен.
И все же, спускаясь по ступеням парадной лестницы к пандусу Оперы в сопровождении неизменного красного домино, Фриц сказал: — Мне все же так хочется увидеть твое лицо! — И попытался кончиками пальцев приподнять кружево маски.
Однако дама в красном домино встала между ним и его спутницей, втолкнула подругу в подъехавший фиакр, и не успел молодой человек оправиться от изумления, как тот умчался. А Фриц остался стоять у лестницы, глядя, как удаляется фиакр и с ним — удивительное видение в желтом домино.
В это самое время в фиакре дама в красном домино откинулась на подушки со вздохом облегчения.
— Боже, как я испугалась! Мне казалось — еще мгновение — и этот юный наглец узнает Ваше Величество.
— О, тебе всегда удается так умело защитить меня! Кстати, он очарователен, и я хорошо повеселилась, а это бывает довольно редко. Поэтому, моя дорогая Ида, будь добра, не ругай меня! — И, сняв наконец маску, Елизавета прислонилась к подушкам и закрыла глаза.
А Ида де Ференцши, ее дама для чтения и венгерская наперсница, сжала губы, сдерживая почтительные упреки, готовые слететь с них… Но теперь, после всего, это было лишнее. Вылазка на бал всего лишь странный каприз — их изредка позволяла себе императрица: ей нравилось представлять,
что она такая же женщина, как все… Ну и еще она любила доказывать самой себе, что ее очарование, неотразимое даже под маской, остается столь же могущественным, несмотря на проклятые тридцать шесть лет, несмотря и на то, что вот уже два месяца как Елизавета — бабушка. Старшая ее дочь Жизель, вышедшая замуж за принца Леопольда Баварского, недавно родила маленькую Елизавету, и императрица очень хорошо провела с ней в Мюнхене начало года.
А кроме того, этот молодой человек, Фриц, сумел ей понравиться, — возможно, потому, что атмосфера Вены еще не заглушила в нем запахов бескрайних лесов Каринтии.
Не обращая внимания на беспокойство и возражения Иды де Ференцши, Елизавета решила написать Фрицу Пашару фон Тайнбургу; подписалась она вымышленным именем, дав ему понять, что можно называть ее Габриэллой либо Фредерикой. Дала ему даже адрес для почты до востребования, чтобы он мог ответить. Единственная Уступка осторожности — сделала так, чтобы ни на одном из ее писем не стояло штемпеля венской почты.
«Я нахожусь в Мюнхене проездом всего лишь на несколько часов, — писала она, — и пользуюсь этим временем, чтобы дать о себе знать, как я Вам и обещала. Вы с такой тревогой ждали этого письма — не отрицайте. Я знаю так же хорошо, как и Вы, что происходит в Вашей душе после этой славной ночи. Вы разговаривали с тысячами женщин, и Вам, конечно же, показалось, что Вы развлекаетесь, но Ваш разум так и не нашел родственной души. И Вы наконец нашли в сверкающем мираже то, что искали многие годы, чтобы потерять это навсегда…»
Молодой человек увлекся этой странной и даже несколько жестокой игрой. Он ответил взволнованными, страстными страницами, — страницами, на которых читался вопрос: «Почему Вы продолжаете таиться от меня, Желтое Домино? Мне хотелось бы узнать о Вас столько подробностей…»
Елизавета ответила довольно 6ыстро, видимо, опьяненная запретным плодом, этим ароматом любви и приключений, который остался у нее после бала: «На моих часах уже за полночь. Мечтаешь ли ты обо мне в этот момент или поешь в ночи ностальгические песни?..»
Ида, ни жива ни мертва, чувствовала, что государыня намерена забыть дистанцию между собой и этим мелким служащим. Фриц, в свою очередь предался безумным мечтаниям, почти уверенный, что знает личность своей
незнакомки. Больше того, увидев однажды императрицу на выставке цветов в Пратере, он с учащенным биением сердца констатировал: на его приветствие она ответила с большей дружбой, чем на приветствия других. И тогда, вернувшись домой, он осмелился написать даме в желтом домино: «Вас ведь зовут не Габриэллой, не Фредерикой, не так ли? Может быть, ваше имя — Елизавета?»
Это письмо Елизавета гневно смяла: молодой дурачок все испортил, надо прекращать увлекательную игру, пока не поздно, пока не разразился скандал или Фриц не натворил глупостей. Она перестала писать, уехала в Англию, забыла про свои фантазии, ни на секунду не задумавшись о горе, которое принесла ему.
Молодой человек и правда чувствовал себя несчастным. На следующем балу, в последний день карнавала, перед постом, он снова пришел в Оперу, но не встретил там Желтое Домино. Несколько лет подряд ходил он на этот бал, но «сверкающий мираж» так и не появился.
Прошло десять лет; Елизавета, еще более непостоянная и капризная, чем раньше, в Вену наведывалась редко — старалась уйти от судьбы, что ее угнетала; возможно, хотела убежать от самой себя.
Однажды вечером 1886 года она снова подумала об очаровательном Фрице — подумала, когда принялась писать стихи, что часто бывало. Эту поэму она написала английском и решила назвать ее «Песня Желтого Домино»; начиналась она словами «Давным–давно…»
Пришла ей в голову мысль отправить поэму Фрицу; порывам своим она никогда не противилась — направила письмо по старому адресу. Ответ пришел незамедлительно: «Что случилось за эти одиннадцать лет? Ты, несомненно, продолжаешь сверкать своей прежней гордой красотой. А я стал респектабельным, лысым супругом и отцом очаровательной девочки. Если находишь это уместным, можешь смело снять свое домино и пролить наконец свет на это загадочное приключение, самое волнующее, какое мне довелось пережить…»
На письмо свое, полное благородства, он вскоре получил ответ, к несчастью, полный насмешек: его попросили сделать фотографию «отцовского черепа». Обидевшись, он написал последнее письмо: «Бесконечно жаль, что по прошествии одиннадцати лет ты все еще продолжаешь играть со мной в прятки. Сбросив маску после стольких лет, ты сыграла бы в замечательную игру, положила бы счастливый конец приключению вторника 1874 года. Но столь длительная анонимная переписка лишена очарования. Твое первое письмо доставило мне
удовольствие, твое последнее послание раздосадовало меня. Недоверие раздражает того, кто этого не заслуживает. Прощай, и тысячу извинений…»
На этот раз все действительно было кончено — партия Желтого Домино доиграна. От нее осталась среди бумаг одного стареющего мужчины лишь тщательно хранимая тонкая пачка писем — изредка он бросал на нее взгляд, полный сожаления.
СИССИ И КАТАРИНА ШРАТТ
В один из прекрасных летних дней 1884 года экипаж, скромность которого отнюдь не исключала безупречной элегантности, остановился в саду одной виллы. Цветущий сад спускался до самых голубых вод озера Сент–Вольфганг, что в австрийском Тироле. Высокая, стройная дама, скрывавшая под вуалью и широкими полями шляпы свою по–прежнему ослепительную красоту, вышла из кареты, сделала знак остаться там другой даме.
Мгновение спустя обитательница виллы, знаменитая, очаровательная венская актриса по имени Катарина Шратт, увидела, как дама из прибывшего экипажа вошла в ее салон. При виде ее у актрисы перехватило дыхание, и ей пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы присесть в глубоком реверансе.
— Мадам! — пролепетала она. — Я знаю как… да простит меня Ваше Величество, но, внезапно увидев вас здесь, у меня…
— Словно действующее лицо из какой–нибудь пьесы, не так ли? Не беспокойтесь, мадам Шратт! Ничего удивительного, что визит мой так вас поразил, — прошу вас, извините, что я вторглась сюда столь внезапно, не предупредив вас заранее. Но мне хотелось, чтобы это произошло именно так. А теперь забудьте на секунду, что я императрица, и давайте какое–то время поговорим просто как женщина с женщиной, хорошо?
— Ваше Величество приводит меня в замешательство, — прошептала актриса, покрасневшая до самых корней белокурых волос. — Могу только надеяться, что вы нуждаетесь во мне, и умоляю вас — скажите, какую услугу я могла бы вам оказать.
— Так вот, вначале сядьте здесь, рядом со мной. Затем, повторяю, я не хочу вас смущать, поскольку приехала сюда поговорить с вами от имени императора. Он испытывает к вам сильные дружеские чувства… возможно, даже и симпатию… я не ошибаюсь?
— Мадам! — пролепетала Катарина в отчаянии. — Не знаю, что могли вам сказать…
— По поводу этой дружбы? Конечно же, это глупости, но я–то знаю правду. Поэтому ничего не бойтесь!
На самом деле она знала очень мало из этой правды. За несколько месяцев до этого, в ноябре 1883 года, император Франц Иосиф присутствовал в венском Бургтеатре на постановке драмы под названием «Чудесные руки» и обратил внимание на новую актрису Катарину Шратт, исполнившую в спектакле роль Елены. Это была красивая женщина тридцати четырех лет, свежая на вид, с большими светлыми глазами на лице цвета персика и пышной шевелюрой золотистых волос; веселая, любезная, прекрасно воспитанная и очень образованная.
Обычно угрюмый и холодный император пожелал поздравить актрису с талантливым исполнением роли и сделал это с любезностью, озадачившей князя де Монтенуово, строгого, надменного, невыносимого церемониймейстера императорского двора, — соблюдение этикета стало чуть ли не его призванием.
Спустя некоторое время император, ему уже исполнилось пятьдесят три года, снова встретился с молодой женщиной на знаменитом Балу промышленности — вся Вена считала своим долгом на нем присутствовать. К великому удивлению всех присутствовавших и его окружения, император долго говорил с актрисой, дав, таким образом, повод для многочисленных недоброжелательных пересудов; они, однако, ничуть не помешали Катарине Шратт стать чем–то вроде актрисы, приближенной ко двору. Она стала появляться в лучших ролях в самых важных случаях, таких как вечер, устроенный императором в замке Кремзирт в честь русского царя и германского кайзера.
Естественно, многие в Вене стали утверждать, что она сделалась любовницей Франца Иосифа, — и на мрачный его характер ее красота и очарование, казалось, действовали самым удачным образом. Но сплетники и сплетницы с гнусным нетерпением ждали возвращения императрицы из очередного путешествия. Как воспримет Елизавета столь широко распропагандированное любовное приключение мужа?
Именно об этом и спрашивала себя фрау Шратт, глядя на прекрасное лицо государыни — совершенно спокойное, даже любезно улыбающееся.
— Вы очаровательны, — признала императрица. — Мне известно, что ваша веселость, ваше остроумие дают императору возможность отдохнуть от его утомительных трудов. Одним словом, вы хорошо на него действуете… так хорошо, как я уже больше не могу! — добавила она с некоторой меланхолией в голосе.
— Однако… — тихо произнесла фрау Шратт, — император глубоко любит Ваше Величество. Уверена, что больше всех в мире!
— Знаю! И со своей стороны испытываю к нему бесконечную нежность. Но вам, как и всем здесь, известно, что я ненавижу Вену, двор, задыхаюсь, потому что в этих мрачных дворцах никогда не чувствовала себя как дома. И потому сторонюсь их, как только могу… А император, оставаясь привязанным к ним, так одинок!
На этот раз актриса не нашлась что ответить. Как и вся Австрия, она знала о взбалмошном характере императрицы, чуть ли не маниакальном страхе перед безумием, мании путешествовать, о чрезмерных занятиях спортом, равно как о немыслимых режимах, которые она пред предписывала, когда ей казалось, что она поправилась на несколько граммов.
Елизавета неделями сидела исключительно на виноградном соке и на сигаретах, но при этом продолжала прогулки пешком и верхом на лошади, настолько продолжительные и утомительные, что их мог не выдержать любой закаленный и натренированный воин. Она уже стала странствующей императрицей… а вскоре ей предстояло стать еще и одинокой.
И все же супруг ее в самом деле продолжал питать к ней прежнюю любовь — первых лет их романтического супружества. Он страдал от того, что жена постоянно покидала его, — ведь она ни на секунду не переставала быть для него все той же обожаемой Сисси, какой была когда–то. Но между этими столь разными людьми стояла империя, огромная, могущественная, которая, как каторжника, приковала Франца Иосифа к рабочему столу в Хофбурге или Шенбрунне. А Сисси никак не могла утолить свою жажду к перемещениям в пространстве и к свободе.
фрау Шратт все это было известно, и в глубине своего женского сердца она испытывала глубокую симпатию к императору, ей было его жаль. Знала и то, что, хотя все странности супруги никогда не повлияют на его любовь к ней, понять их ему никогда не дано. Да, впрочем, какой нормальный мужчина сумел бы это понять? Франц Иосиф всегда стремился к покою, к простому, мирному счастью. Будь он обыкновенным провинциальным аристократом, мог бы стать очень счастливым. Но империя сделала из него законченного бюрократа.
— Вы не ответили, — произнесла императрица, несколько удивленная молчанием актрисы. — Вам представляется столь скучным или даже затруднительным для вашей личной жизни дружить с императором?
— У меня нет личной жизни, мадам. Что касается моей дружбы, она полностью может быть отдана императору, если он захочет ее принять.
— Значит, вы соглашаетесь заняться им… развлекать его?
— От всего сердца!
— Вот и хорошо! Искренне вас благодарю, фрау Шратт, и хочу добавить, что всегда буду очень рада видеть вас во дворце.
Этот странный визит кончился; Елизавета встала, протянула актрисе руку, и та поцеловала ее с глубоким поклоном. Две женщины только что заключили соглашение, цель его — просто дать немного разрядки мужчине, сгибавшемуся под непомерной ношей.
Чтобы придать этой договоренности некое подобие официальности, что заткнуло бы рот всем сплетникам, Елизавета повелела придворному художнику Хайнриху фон Анжели написать портрет фрау Шратт; и намеревалась подарить его императору. Пока Катарина позировала в мастерской художника, императрица приходила туда вместе с Францем Иосифом посмотреть, как продвигается работа.
В день вручения портрета молодая женщина получила первое из бесчисленных писем, которые монарх напишет своей подруге в течение долгих тридцати лет привязанности.
«Прошу Вас считать эти строки знаком глубокой признательности за Ваш труд, который Вы совершили, согласившись позировать для портрета г–на фон Анжели. В очередной раз повторяю Вам, что никто не посмел бы попросить о подобной жертве, и потому моя радость от получения своего драгоценного подарка тем более велика. Ваш преданный поклонник».
Любовное послание? Скорее дружеское письмо, поскольку никогда в будущем Франц Иосиф не прибегнет к языку нежности, которую хранил к Сисси. Он будет называть Катарину «милейший друг» или «дорогой добрый друг», но никогда — «мой милый ангел», как обычно обращался к жене. Временами доходит до того, что называет ее Кати, но никто и никогда не сможет похвастаться тем, что слышал в их разговоре или видел в их переписке слова, указывающие на более тесную связь. Со своей стороны, Катарина всегда будет называть его «сир» и «Ваше Величество». И все же…
Утром 30 января 1889 года, когда фрау Шратт завтракала в Хофбурге, в обществе и в апартаментах графини Иды де Ференцши, любимой фрейлины императрицы, та вошла в комнату — лицо ее было смертельно бледным, — дрожащим голосом попросила актрису как можно скорее пройти к императору, который «нуждается в ней». А потом выпалила на одном дыхании:
— Из Майерлинга только что прибыл граф Хойос… Мой сын погиб… и молодая баронесса Мария Ветсера с ним!..
Трагедия Майерлинга и впрямь привела некоторому упрочению связей между Францем Иосифом и Катариной Шратт. Следующим летом молодая женщина сняла в Ишле виллу Феличитас, по соседству с импозантной императорской резиденции, где королевское семейство имело обыкновение отдыхать на лоне природы. В Ишле Франц Иосиф забывал правила этикета, вел себя как страстный охотник, каким был на самом деле. Он всегда с новым ощущением счастья окунался в природу.
Едва фрау Шратт въехала в этот дом, в стене, разделявшей виллы, проделали большую калитку, и каждое утро можно было наблюдать: император, в охотничьей куртке, сапогах, в украшенной кисточками, с пером в круглой фетровой шляпе, проходил через калитку и пешком направляется к вилле Феличитас, этому большому деревянному шале с крашеными резными балконами, на крыльце его поджидала Катарина.
Она приветствовала его глубоким реверансом и проводила в большой зал, где был накрыт завтрак. Этот завтрак она готовила лично. Императора ждали кофе по–венски со взбитыми сливками, деревенский хлеб, компоты, варенье, яйца и тонкие сосиски, которые так ему нравились, — хозяйка готовила их как никто другой. За завтраком они обменивались утренними новостями.
Иногда фрау Шратт пыталась нежно побранить своего имперского друга.
— Ваше Величество, вы слишком много работаете! И плохо выглядите, даже здесь. Вам надо больше спать.
Действительно, после смерти сына император спал все меньше. Каждое утро зимой и летом он вставал в три часа утра и работал с документами до благодатного завтрака.
— Я обязан выполнять свою работу, Кати, и выполнять ее хорошо! Во всяком случае, так хорошо, как могу.
После завтрака он разрешал себе прогулку в компании подруги. В этой прогулке принимала участие и Елизавета, когда бывала дома, что случалось все реже. Майерлинг сделал ее похожей на большую черную птицу, полную печали и горя. И эта птица постоянно блуждала по Европе, перемещаясь из одного конца в другой.
Завтраки в Ишле стали так дороги императору, что по возвращении в Вену он продолжал каждое утро навещать свою подругу в ее прекрасном доме на Глорьеттенштрассе. С ребяческой радостью он постоянно говорил, что никто не готовил, как она, кофе с молоком и сосиски. Это позволило французскому писателю Роберу де Флеру высказаться жестоко и некрасиво: — Фрау Шратт — это женщина, которая привлекает императора сосисками!
И все же в этих словах крылась истина.
мгновения буржуазной жизни, кажущийся семейный уют, который давала ему Катарина, стали бесконечно дороги монарху. Естественно, здесь возникает законный вопрос — была она его любовницей или нет?
Все злые языки в Вене убеждены: да, это так. Однако постоянная дружба Елизаветы и молодой женщины, привязанность, какую проявляли к фрау Шратт молодые эрцгерцогини, и явное уважение, с которым относился к ней Франц Иосиф, плохо вписывались в эти досужие разговоры. Можно предположить, что в самом начале дружбы свежесть актрисы могла соблазнить лишенного любви императора, но утверждать это невозможно — это могла быть лишь очень краткая преходящая связь.
Зато достоверно известно: дружба с императором вызвала глубокую ненависть к фрау Шратт некоторых людей. Больше всего ее возненавидел князь де Монтенуово. Этот ограниченный человек, более высокомерный, чем любой член императорской семьи, — один из злых гениев режима и одна из причин возникновения многих семейных проблем Габсбургов. От него страдал Рудольф, а также императрица. Потом еще страдали Франц Фердинанд и его морганатическая супруга, поскольку этот человек упрямо стоял на своем.
Однако, пока была жива Елизавета, он не осмеливался слишком явно демонстрировать свою неприязнь к фрау Шратт. Но как только Сисси погибла от кинжала убийцы Дуккени, он дал волю своей злобе. Фрау Шратт выгнали из Бургтеатра за то, что она посмела выступить в защиту пьесы, героем которой был Наполеон I. К несчастью, император, возможно плохо информированный, не предпринял ничего, чтобы защитить свою подругу.
Потрясенный гибелью жены, он, казалось, потерял все жизненные силы. Несчастья посыпались на него одно за другим. После убийства Елизаветы последовали самоубийство его наследника и война. Конец правления Франца Иосифа был трагическим и кровавым…
Вечером 21 ноября 1915 года Монтенуово сухо и холодно сообщил по телефону фрау Шратт о кончине императора и намекнул, что ее появление на церемонии прощания с покойным крайне нежелательно.
Движимая нежностью, прошедшей тридцатилетнее испытание, она осмелилась ослушаться и с двумя розами в руках скромно направилась к входу в императорские апартаменты, готовая умолять церемониймейстера позволить ей еще раз увидеть старого друга.
Но просить ей не пришлось: к ней приблизился тот, кто стал новым императором. Карл молча, нежно взял под руку пожилую заплаканную женщину и подвел к смертному одру; рыдая, она упала перед ним на колени. Спокойный роман кончился, но Катарина Шратт еще долго и трепетно хранила память о нем. Лишь 17 апреля 1940 года ушла из жизни та, кого австрийцы стали в конце концов не без некоторой нежности называть некоронованной императрицей.
СИССИ И ПРОКЛЯТИЕ
8 октября 1849 года в Пеште, где войска князя Виндишгретца при поддержке полков русского царя утопили в крови революцию Коссута, один мудрый человек, желавший только спасения своей страны, пал от ружей расстрельной команды. Это граф Лайош Батиани, бывший премьер–министр, сорока трех лет; для него перестрелка превратилась в ужасную бойню.
Едва не обезумев от горя, его жена, графиня Батиани, в отчаянии прокляла юного тогда императора Франца Иосифа, от чьего имени организовано это побоище: «Да накажет Господь всех, кого он любит, и все его потомство!»
И судьба начала вершить свое правосудие… Однако не сам Франц Иосиф в этом повинен. Ему исполнилось только девятнадцать лет, и он лишь за несколько месяцев до этих событий взошел на трон императоров Австрии. Второго декабря предыдущего года восемь часов утра премьер–министр князь Шварценберг обнародовал документ, объявлявший Франца Иосифа совершеннолетним, и одновременно документы об отречении императора Фердинанда I и о восхождении на трон эрцгерцога Франца Карла и эрцгерцогини Софии, родителей юного принца. Венгерская революция вспыхнула почти сразу, и именно Шварценберг и поддержавшая его эрцгерцогиня София на самом деле повинны в первой большой современной трагедии, которую пережила благородная Венгрия.
Однако проклятие графини Батиани адресовано именно Францу Иосифу, и именно него оно потом подействовало. 24 апреля 1854 года он женился на своей кузине Елизавете, дочери герцога Макса Баварского, подробности этой женитьбы мы уже знаем. Казалось, судьба улыбалась молодой паре, имевшей все: юность, красоту, сердечные отечества, любовь и одну из самых могущественных в мире корон. Но очаровательная Елизавета принесла с собой вместе с ослепительной красотой тяжелую наследственность рода Виттельсбахов: чрезмерный романтизм, чувствительность людей, с которых заживо содрали кожу, и пристрастие к скитаниям. Именно эта наследственность в сочетании с наследственностью Габсбургов таила в себе семена всех трагедий и трагических возможностей.
Очень скоро Елизавете стало тесно в корсете безжалостного венского этикета, скопированного с этикета испанских королей. Преданная любовь мужа не помешала ей пускаться за мечтами во все стороны света, в дальние путешествия, как мечтал ее двоюродный брат, сумасшедший король Людвиг Баварский. Для Франца Иосифа она олицетворяла всю любовь мира, нашедшую продолжение в четырех детях, которых она ему подарила. И он считал, что, пока с ним его дорогая Сисси и его дети, не случится никакого несчастья. Одержимый работой, пленник мелочной и безмерно консервативной бюрократии, он проводил жизнь у руля своей огромной империи, стараясь предоставить Елизавете как можно больше свободы — ведь она находила в этом удовольствие.
И все же с ним приключилась первая трагедия после первой сердечной раны, нанесенной 20 мая 1857 года смертью их первого ребенка, маленькой Софии. 19 июня 1867 года его брат, император Мексики Максимилиан, погиб от пуль бойцов Хуареса, а императрица Шарлотта впала в безумие.
Вторая трагедия прямо–таки раздавила супругов: 20 января 1889 года наследник, эрцгерцог Рудольф, покончил с собой в охотничьем домике Майерлинга вместе с юной баронессой Ветсера. С того самого дня путешествующая императрица превратилась в императрицу блуждающую: она больше не выносила Вену, наезжала туда изредка и на короткий срок и снова отбывала на Корсику, в Лондон, на Мадейру — куда угодно, мечась по всем закоулкам Европы, словно обезумевшая птица, в сопровождении горстки преданных слуг. Ее преследовала смерть — смерть сына, да еще и двоюродного брата Людвига II, утонувшего в озере Штарнберг. Смерть, казалась, шла за ней по пятам. Она приготовила ей последний в жизни, особенно жестокий удар: 4 мая 1897 года самая молодая из ее сестер, герцогиня Алансонская София, заживо сгорела на пожаре на благотворительном базаре.
Когда пришла эта скорбная новость, Елизавета находилась в Линце. Убитая горем, она отказалась встречаться с кем бы то ни было, сделав исключение для Франца Иосифа, примчавшегося из Вены, чтобы ее утешить. Все время она в таком нервном состоянии, так бледна и убита горем, что император упросил ее поехать на воды в Киссинген, которые ей всегда помогали.
Очень своевременная предусмотрительность — вскоре императрица вновь стала испытывать потребность к бегству. В июне она вернулась в Линц, затем поехала в Ишль, где ее моральному состоянию предстояло еще ухудшиться.
— Она так много говорит о смерти, — сказал императору посол Германии, — что меня это сильно угнетает.
Но уже и Ишль, кажется, ей тесен: 29 августа Елизавета поехала в Меран, чтобы пройти курс лечения глаз, но смогла пробыть там только месяц. Из Мерана она отправилась к своей младшей дочери Марии–Валерии, вышедшей в 1890 году замуж за эрцгерцога Франциска Сальватора, князя Тосканского. Эта чета не так давно поселилась в замке Валзее, и некоторое время императрица чувствовала себя вполне комфортно.
Не созданная, к несчастью, для роли тещи, в ноябре она опять тронулась в путь. На этот раз из Австрии — в Париж, чтобы провести Рождество со своими сестрами, Марией, королевой Неаполитанской, и Матильдой, графиней де Трани. Состояние ее здоровья было настолько серьезным, что она отказалась ехать, как планировала раньше, на Канарские острова, к огромному облегчению Франца Иосифа, написавшего ей из Хофбурга, где он в одиночестве отметил свое шестидесятилетие: «В твоем письме я нашел лишь одну утешительную новость: ты откажешься от плавания по океану? Как я тебе за это буду признателен. Поскольку я и так завален политическими заботами, еще сознавать, что ты находишься в море, и не иметь от тебя новостей — невыносимо. Сейчас такие времена, что приходится опасаться всего…»
Не желает и лечиться у доктора Мецгера, шарлатана, кстати сказать, и, возложив цветы на могилу герцогини Алансонской и Генриха Гейне, покидает Париж со своей фрейлиной графиней Штараи и немногочисленной свитой. Вот она уже в Марселе, оттуда плывет Сан–Ремо, где частично излечивается от неврита плеча, мешавшего ей спать. «Когда–нибудь это кончится, — пишет она Марии–Валерии. — Вечный покой лучше всего…»
Но продолжает скучать; безуспешно просит Франца Иосифа приехать к ней в Сан–Ремо. Заваленный работой, император вынужден отказаться; пишет ей 25 февраля 1898 года: «Как грустно думать, что мы так долго разлучены! Когда и где мы увидимся?
Им суждено встретиться 25 апреля в Киссингене — Елизавета вернулась туда после кратковременного пребывания в Террите на берегу Женевского озера, которое особенно любила. В Киссингене супруги провели вместе целых восемь дней, таких нежных, счастливых, что императора это наполнило радостью. Вместе совершают длительные прогулки — Сисси ловко орудует белым зонтом от солнца и веером, чтобы укрыться от любопытных взглядов. Она почти весела, а чтобы осталась в добром расположении духа, Франц Иосиф, вернувшись в Вену, присылает к ней Марию–Валерию.
Мать и дочь снова испытывают радость своей давней близости, но молодая женщина бессильна побороть мрачные мысли матери.
. — Хочу умереть! — часто говорит Елизавета. — Я вычеркнула слово «надежда» из своей жизни.
Возможно, снова испытала бы какую–то нежность рядом с внуками, но видеть их для нее скорее тягость, чем удовольствие. Пленница самой себя и своих образов мечтает только об одном — бежать! Куда, почему — этого не знает, и лишь созерцание природы приносит ей некоторое облегчение.
Мария–Валерия покидает ее и возвращается к себе, но она не едет с ней. Направляется в Брюкенау, потом в Ишль, где к ней на несколько дней присоединяется император. Когда они снова расстаются, графиня Штараи замечает, что глаза Елизаветы полны слез, — предчувствие? Больше Францу Иосифу увидеть Сисси не суждено… Семнадцатого июля он пишет ей: «Мне тебя очень не хватает. Все мои мысли о тебе, и я с болью думаю о жестокой разлуке с тобой. При виде твоих пустых комнат мне становится плохо…»
Но Елизавета не возвращается; напротив, уезжает еще дальше — в Швейцарию, которую любит вопреки опасениям императорского кабинета министров: в то время Швейцария становится местом сбора всякого рода анархистов и революционеров, находящих защиту в этой нейтральной стране; среди них есть и опасные люди…Тридцатого августа императрица появляется под именем графини де Хохенембес в «Гранд–отеле» в Ко, над Террите, — вместе с графиней Штараи, генералом Бешевики и тремя другими фрейлинами, греческим певцом Баркером и несколькими слугами. Погода стоит великолепная, и Елизавета с наслаждением совершает длительные пешие прогулки, которые нравятся ей — и приводят в изнеможение фрейлин.
В это же самое время в Женеве находится один подозрительный человек. Зовут его Луиджи Луккени, ему двадцать шесть лет, он итальянец, родившийся в Париже. Бывший солдат, голова набита крамольными идеями; мечтает прославиться, убив кого–нибудь из «знаменитостей». На самом | Луккени не зацикливался на личности того кого хотел убить. Скорее оголтелый анархист, чем сторонник установления анархии, он просто собирается убить кого–нибудь из известных людей, а в ожидании подходящего случая приготовил орудие убийства — сапожное шило.
— С удовольствием убил бы кого–нибудь, — поделился он с одним из приятелей–анархистов, — но очень известного человека, чтобы о нем написали в газетах!
Итак, вооружившись, Луккени ищет жертву; вначале думает о принце Анри Орлеанском — тот частенько наведывается в Женеву. Подумывает и поехать в Париж, вмещаться в дело Дрейфуса, но дорога стоит недешево. И тут в газетах появляется сообщение о скором приезде в Ко императрицы Елизаветы… Теперь Луккени знает, на кого нападет: это намного проще, чем ехать в Париж!
В Ко к Елизавете вернулись силы; она пишет длинные письма дочери; рассказывает о своих экскурсиях и сообщает, что прибавила в весе, добавляя: ужасно боится стать похожей на свою сестру, королеву Неаполитанскую. Довольно весела, но окружение ее приходит в трепет, когда она объявляет, что намерена принять приглашение баронессы Ротшильд, желающей показать ей свою виллу в Преньи, чьи оранжереи считаются одними из самых красивых в мире. Генерал Бешевики приходит в ужас и делится с графиней Штараи своим беспокойством:
— В Женеве очень опасно, графиня! Кто знает, что придет в голову этим анархистам — они там кишмя кишат.
Но Елизавета настаивает на этом визите.
— Передайте генералу, что его опасения просто смешны! — заявляет она фрейлине. — Что может случиться со мной в Женеве?
И даже отказывается от яхты, которую хочет прислать за ней баронесса Ротшильд. Есть глубокий смысл в том, что семейство Ротшильдов строжайше запрещает всем, кто находится у него на службе, брать чаевые. И вот утром 9 сентября Елизавета в провождении графини Штараи поднимается на борт судна Генеральной навигационной компании, чтобы плыть в Женеву. Собирается провести ночь в отеле «Бо–Риваж», где ее уже ждут генерал, доктор Кромар и слуги, что должны вернуться на следующий день.
Плавание продолжается четыре часа. Елизавета использует это время, чтобы накормить фруктами и пирожными какого–то маленького мальчика, — ведет себя крайне возбужденно. В час дня судно причаливает берегу, и императрица с фрейлиной в карете доезжают до Преньи, где ее ждет 58–летняя баронесса.
Прием у баронессы вполне удался, несмотря на слишком большое число лакеев в расшитых золотым галуном ливреях. На украшенном орхидеями столе прекрасная посуда венского фарфора, где–то негромко играет оркестр. Три дамы выпили шампанского и отведали вкуснейших 6люд, одно них — «клецки, мусс из птицы и мороженое по–венгерски».
Потом осмотрели коллекцию предметов, превращавшую виллу в настоящий музей: произведения искусства, ковры, экзотические птицы, королевские оранжереи. Все это так понравилось императрице, что уехала очень довольная проведенным днем, расписавшись в золотой книге баронессы.
К счастью, не пролистала ее и не увидела на одном из листов подпись, которая потрясла бы ее, — подпись ее сына Рудольфа.
Вернувшись в Женеву, Елизавета и Ирма Штараи идут отведать мороженого — императрица от него без ума, — а затем возвращаются в отель, где, кстати, императрица проводит плохую ночь. Ночь эта светла, красива, и чувствительная Елизавета ощущает ее с почти болезненной остротой восприятия.
На следующий день, 10 сентября, она встает в девять утра; отправляется на улицу Бонивар к торговцу музыкальными инструментами, чтобы купить оркестрион и музыкальные валики для Марии–Валерии. Она думает, что оркестрион «доставит удовольствие императору и детям». Потом возвращается в отель, переодевается для дороги и пьет стакан молока, заставляя и графиню Штараи попробовать:
— Право, графиня, оно великолепно!
В час тридцать пять женщины выходят из отеля и пешком идут по набережной к дебаркадеру. Они не замечают незнакомого мужчину, который идет им навстречу и притом ведет себя как–то странно: прячется за деревьями, появляется, снова скрывается…
Внезапно он возникает перед императрицей, наносит ей удар кулаком или тем, что ей кажется кулаком, и, оттолкнув в сторону графиню, убегает. Фрау Штараи пронзительно кричит, видя, что императрица оседает на землю. Человек тот далеко не убежит: на соседней улице двое прохожих бросаются ему вслед, хватают и связывают. Люди начинают собираться вокруг упавшей на землю очень красивой женщины в черном. Пышная шевелюра, к счастью, смягчает удар головой о землю. Какой–то извозчик помогает подняться на ноги, для него она еще одна иностранка, не более.
— Со мной все в порядке, — говорит она. Ей хотят помочь привести в порядок
платье, она отказывается.
— Ничего… Поторопимся… Мы опоздаем на судно.
Затем, двигаясь в направлении моста, спрашивает графиню:
— Чего хотел этот человек? Может быть, украсть мои часы?
Своей обычной походкой, отказавшись от помощи Ирмы Штараи, она поднимается на борт судна. Но ей кажется, что она плохо выглядит.
— Я бледна, не так ли?
— Немного… это от волнения. Вашему Величеству плохо?
— Грудь немного болит… В этот момент подбегает портье отеля.
— Злоумышленник арестован! — кричит он.
Императрица доходит до трапа судна, преодолевает его, но, едва ступив на палубу, внезапно поворачивается к своей спутнице:
— Теперь дайте мне вашу руку, быстрее!
Графиня хватает ее за руку, но у Елизаветы нет сил ее удержать. Она теряет сознание и снова медленно оседает вниз. Ирма становится на колени и кладет себе на грудь ее голову, глядя на побледневшее лицо.
— Воды, воды! — взывает она. — И врача!..
Приносят воду, графиня брызгает на лицо императрице, та открывает глаза, уже теряющие осмысленность взгляда. Пока нет врача, свои услуги предлагает одна из пассажирок, медицинская сестра, зовут ее мадам Дардаль. Подходит капитан судна, по фамилии Ру, осведомляется, что происходит. Поскольку судно еще не отчалило, советует графине Штараи выйти на берег, но ему говорят — это всего лишь обморок от испуга.
Чтобы дать пострадавшей больше воздуха, трое мужчин переносят ее на верхнюю палубу. Елизавету кладут на лавку, и, пока мадам Дардаль делает ей искусственное дыхание, графиня расстегивает на ней платье, Разрезает корсет и сует в рот кусочек сахара, смоченного в алкоголе. Под действием его больная открывает глаза, приподнимается.
— Вашему Величеству лучше? — шепотом спрашивает графиня.
— Да, спасибо…Садится, осматривается, потом спрашивает:
— Что со мной было?
— Вашему Величеству стало плохо. Но вам теперь лучше, не так ли?
На сей раз ответа нет — Елизавета без сознания падает на спину.
— Потрите ей грудь! — советует мадам Дардаль.
Тогда графиня расшнуровывает чехол корсета и видит на желтой батистовой нижней рубашке коричневатое пятно с маленькой дыркой, а потом обнаруживает чуть выше левой груди небольшую ранку с каплей крови.
— Боже всемогущий! — говорит она. — Ее убили.
И тогда, придя в отчаяние, фрау Штараи зовет капитана:
— Ради Бога, быстро причаливайте к берегу! Эта женщина — австрийская императрица! Ее ранили в грудь, я не могу позволить ей умереть без врача и без священника… Причаливайте к Бельвю! Я отвезу ее к Преньи — к баронессе Ротшильд!
Судно возвращается к дебаркадеру. Из двух весел и складных кресел сооружают импровизированные носилки. Шесть человек несут ее, кто–то открывает зонт, чтобы защитить от солнца голову умирающей. Но в сознание приходит, только когда ее приносят в отель «Бо–Риваж» и укладывают в
той же комнате, которую она совсем недавно покинула. Хозяйка отеля мадам Майер и одна английская кормилица помогают снять с нее одежду, но доктор Голе не оставляет никакой надежды перепуганной графине Штараи: императрица умирает. Спустя несколько минут все кончено: Елизавета уснула вечным сном, встретив смерть со своей неподражаемой улыбкой.
А в это время в Шенбрунне император пишет жене письмо: «Я был рад почувствовать бодрое состояние духа из твоих писем и твое удовлетворение погодой, климатом и твоими апартаментами…» Потом он провел остаток дня за работой с документами и подготовкой больших маневров. В половине пятого дня, при появлении своего адъютанта графа Паара, он отрывает голову от бумаг.
— Что случилось, дорогой мой Паар?
— Ваше Величество… Ваше Величество не сможет уехать сегодня вечером. Я только что получил, увы, очень плохое известие!
— Из Женевы? — Выхватывает телеграмму из рук графа, читает ее и вздрагивает.
— Должна прийти еще одна телеграмма! Телеграфируйте сами! Телеграфируйте! Постарайтесь все узнать подробнее!.. — И не успевает закончить фразу — появляется другой адъютант, с новой телеграммой: «Ее Императорское Величество только что скончалась…»
Император с рыданиями падает на стул, обхватив голову ладонями. Слышно, как он шепчет:
— Значит, на этой земле у меня ничего уже не осталось…
Ужасная новость уже разлетается по всему свету, доходит до старшей дочери Жизели, находящейся в Мюнхене, и до Марии–Валерии. Обе немедленно приезжают к отцу. Они остаются там, а с ними и вся Европа, до 16 сентября, когда перед останками Елизаветы открываются бронзовые ворота склепа церкви Капуцинов — там ей покоиться рядом со своим сыном и шурином, двумя другими жертвами проклятия графини Батиани.
Что касается Луккени, он не только не выразил ни малейшего раскаяния в содеянном преступлении, но и высказал в ходе судебного процесса свое возмутительное удовлетворение. Согласно швейцарским законам его приговорили к пожизненному тюремному заключению. Но он, считавший себя чуть ли не древнеримским героем, не вынес режима тюремной жизни и спустя два года повесился в тюремной камере на собственном ремне.
Окровавленная корона Мексики
Трагический роман Шарлотты и Максимилиана
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРНЕ ЭРЦГЕРЦОГА
Когда раздался первый удар курантов дворца Хофбург, отбивавших полночь, Иоганн Штраус постучал палочкой по пюпитру и оркестр прекратил играть. Бал завершился. Только что кончился скоромный вторник, с первыми минутами следующего дня начинался пост. Танцевавшие пары разошлись, дамы присели в реверансах, а кавалеры отвесили им предусмотренные протоколом поклоны. Эрцгерцогиня София встала; поднялись и все дамы, дремавшие с прямыми спинами на стульях, стоявших вдоль стен танцевального зала. Внезапно разбуженная графиня Дитрихштайн — она дремала сжав кулаки и иногда даже похрапывала — вскочила на ноги с испуганным вскриком.
Инкрустированный бриллиантами лорнет эрцгерцогини остановился по очереди на каждом из четырех ее сыновей: на императоре Франце Иосифе, провожавшем на место свою партнершу по танцу, соблазнительную графиню Угарте; эрцгерцогах Карле Людовике и Людовике Викторе, занятых
тем же, на эрцгерцоге Максимилиане, самом высоком из всех четверых. Максль, как его фамильярно называли близкие, явно с большой неохотой расставался со своей юной партнершей, красивой белокурой графиней фон Линден, дочерью посла княжества Вюртенберг. В этот вечер она была обворожительна — в простом платье из белого тюля, с великолепным букетом флердоранжа, — что заставило придворных кумушек говорить о ней весь вечер. Но зря герцогиня кашлянула, и молодой человек, вспомнив о приличиях, подвел наконец девушку к ее матери.
— До скорой встречи! — прошептал он. — И спасибо за то, что сегодня на вас был мой букет…
Эта невинная фраза, к несчастью, долетела до ушей гувернера принца, графа Бомбеллеса, исполнявшего обязанности распорядителя бала, и стала причиной целой истории.
Бомбеллес — старый, ворчливый и придирчивый человек, тем более суровый, что его собственная жизнь отнюдь не всегда была безупречной. Вначале он любовник, а затем третий муж любвеобильной Марии–Луизы, вдовы Наполеона I и генерала Нейперга. Глядя теперь на тощего, сморщенного как печеное яблоко старика, с трудом верилось, что им владели когда–то бурные страсти. Лишившись возможности нравиться женщинам, Бомбеллес мстил всем мужчинам, которые еще в состоянии иметь у них успех. Протокол стал единственным смыслом его существования. Как только гости разошлись, он попросил аудиенции у эрцгерцогини и доложил ей об услышанном.
Спустя еще час обо всем уже знал император. Вначале он отказывался воспринимать это всерьез.
— Вы, мама, действительно считаете, что это так серьезно? — спросил с улыбкой Франц Иосиф. — Преподнести девушке букет цветов вовсе не преступление.
— Преступление, если ты эрцгерцог Австрийский и букет составлен из цветов апельсинового дерева. Франц, как ты не понимаешь — ведь юной Линден в голову теперь взбредет уйма безумных мыслей. Уверена — она уже видит себя эрцгерцогиней. Надо что–то предпринять… Максль совершенно сошел с ума!
Эта история угнетала императора, очень любившего брата. Как любой нормальный Молодой человек, чувствительный к женскому очарованию, он нашел для брата много смягчающих вину обстоятельств: юная Линден обворожительна, а в двадцать три года, пусть ты и император, трудно оставаться суровым. Но Франц Иосиф хорошо знал мать: будет изводить его, пока не примет решение, совпадающее с ее желаниями. Подумав немного, он предложил:
— Лучше всего отправить Максля путешествовать. Почему бы нам не сделать его моряком — он увлекается всем, что относится к морю. Отправим–ка его в Триест, пусть поплавает.
С лица эрцгерцогини Софии слетела озабоченность.
— Великолепная мысль, дорогой мой Франц! Пусть уезжает туда завтра же. Мы не должны допустить, чтобы он снова увиделся с этой малышкой… очень скоро он ее забудет.
Так и сделали: на другой день Максимилиана, ничего не понимавшего, направили на голубые берега Адриатического моря для инспектирования австрийского флота. Он согласился, что это очень интересно, но все же продолжал вздыхать по своей юной графине. Однако императора мучили угрызения совести — проводил его без подобающих почестей и без звуков труб и барабанов, — хотя, конечно, хватило и просто объяснения между братьями. И Франц–Иосиф спустя две недели вызвал Максля назад, ничего не сказав матери.
Максимилиана, естественно, не пришлось просить дважды — не теряя времени, он вернулся в Вену. Но прежде чем прибыть во дворец, остановил карету у цветочного магазина на Ринге и послал графине фон Линден огромный букет палевых роз.
Вечером того же дня в Опере — императорская семья направилась туда в полном составе — графиня держала в руках, затянутых в белые перчатки, этот букет роз и весь вечер их нюхала, меланхолично поглядывая в сторону императорской ложи, а Максль поедал ее глазами. Эрцгерцогиня София готова была от ярости удушить его. В двадцать один год человек не имеет права вести себя с таким преступным легкомыслием, если он брат императора.
Семейный совет прошел бурно, а невыносимый Бомбеллес, возмущенный больше других, только подлил масла в огонь. Вздыхая про себя, Франц Иосиф принял решение снова отослать виновного, но теперь гораздо дальше. На этот раз речь шла о длинном познавательном путешествии на Ближний Восток. Эта поездка также и официальная: в ходе ее эрцгерцог нанесет визиты турецкому султану и всем остальным восточным правителям, с кем удастся увидеться. В спутники ему назначили венгерского графа Юлиуса Андраши, любезного аристократа и человека высоких моральных устоев. Бедного влюбленного внезапно возвели в чин контр–адмирала, и, покинув Вену с отчаянием в душе, он отправился в свое восточное турне. А в это время его брат–император собирался поехать в Ишль, чтобы увидеться со своей кузиной Еленой Баварской, которую София прочила ему в жены.
Максль добросовестно исполнил свои обязанности посла и проявил себя добросовестным и любознательным туристом. Он даже посетил невольничий рынок в Смирне, где полюбовался очень красивыми, очень обнаженными созданиями, о чем красочно доложил в письме своему семейству — у эрцгерцогини случился припадок мигрени. Этот мальчишка, решила она, он явно склонен к распутству, лучше поскорее найти ему жену. И пока Максимилиан в середине лета 1854 года был на пути к дому, София начала кампанию по поиску второй невестки, по вкусу себе лично… Потом что к этому времени Франц Иосиф женился, не последовав выбору матери.
Вернувшись в Вену, Максль обнаружил, что жизнь его семейства все более утрачивает свое очарование. Император завален работой на благо империи, эрцгерцогиня София все свое время проводит в попытках воспитать Сисси в своих принципах, доставляя тем самым молодой женщине невыносимые страдания, а другие братья еще очень юны. Кроме того, посол фон Линден переехал с семьей из Вены в Берлин. А больше ничего интересного нет.
В дополнение ко всему эрцгерцогиня София однажды утром объявила сыну столь милым ей безапелляционным тоном, что отныне он жених принцессы Екатерины де Браганс и в его же интересах постараться привыкнуть к этой идее.
На сей раз Максль воспротивился:
— Я не люблю ее, я ее даже не знаю! Она мне не нужна!
— Тебя никто не спрашивает, хочешь ты этого или нет. Запрос сделан, и мы не будем рисковать войной с Португалией из–за тех глупых причин, которые ты только что высказал.
Злой и подавленный, поскольку не мог забыть свою большую любовь, Максль пришел поделиться своими несчастьями с Сисси. Со свояченицей его связывала крепкая дружба. Оба страстно любили лошадей и часто совершали вместе продолжительные верховые прогулки, что только раздувало скрытый гнев в душе Софии: Сисси Ждет ребенка, а ведет себя как сумасшедшая.
— Пока ты не женился, — сказала ему Сисси, — не стоит впадать в отчаяние. Никто не знает, что еще может произойти.
Юная императрица как в воду глядела. Пока полным ходом происходили приготовления к свадьбе, в Хофбург прилетела нежданная весть: принцесса Браганс внезапно скончалась, и пришлось вместо праздничных нарядов надевать траурные одежды. Максль, естественно, сохранял подобающее обстоятельствам выражение скорби на лице, но, оставшись один, глубоко, с облегчением вздыхал: наконец–то его оставят в покое. И возобновил конные прогулки с Сисси.
Тогда, решив, что от него начинает слишком сильно пахнуть конюшней, герцогиня снова обратилась к Бомбеллесу — не может ли он дать совет?
Бомбеллес мог дать сколько угодно советов, если речь заходила о протоколе. Почему бы не отправить Максля путешествовать суше — пусть на этот раз посетит все европейские дворы, чтобы получить представление о различных формах правления. И посмотрит при случае принцесс на выданье.
В очередной раз эрцгерцогиня обрадовалась и сказала, что без Бомбеллеса ни за что не справилась бы со своими заботами. Он поблагодарил, поклонился, вернулся к себе и лег спать. А вскоре умер, вероятно, оттого, что его утомили собственные блестящие идеи. А Макслю в очередной раз пришлось укладывать чемоданы.
Стремясь, насколько возможно, избегнуть опасности или по крайней мере, отодвинуть ее от себя, эрцгерцог начал свое путешествие с Испании. Там нет незамужних принцесс, следовательно, бояться нечего.
Королева Изабелла II ждала появления своего первого ребенка и приняла его очень сердечно. Он посетил Эскуриал, Севилью и Гренаду, увидел бег быков и заявил, что очень доволен. Затем направился во Францию и прибыл туда 17 мая 1856 года.
Посещение этой страны ничуть не опаснее, чем пребывание в Испании. Прошло всего три года со дня женитьбы Наполеона III на красавице–княгине де Теба, Евгении де Монтихо, и австрийский принц безбоязненно окунулся в приятную парижскую жизнь, не опасаясь появления на горизонте зловещей тени какой–нибудь принцессы.
В Англии тоже можно не опасаться ловушек. У королевы Виктории — она вот уже шестнадцать лет замужем за принцем Альбертом Сакс–Кобургом — есть, конечно, дочери, но старшая уже обещана другому, а остальные слишком юны для замужества. Кроме того, эрцгерцог не может жениться на принцессе католического вероисповедания. Максимилиан ходил на скачки, посещал военные училища, играл в крикет и в бадминтон на лужайках Виндзорского дворца, описывая, что вошло у него в привычку с самого начала путешествий, все свои впечатления в многочисленных письмах родным.
Но любая добрая компания рано или поздно распадается — устав от Англии, эрцгерцог переправляется морем в Бельгию. После революции 1830 года, разделившей католические Нидерланды от Нидерланды от протестантских и образовавшей независимую от Голландии страну под названием Бельгия, страна эта получила нового короля. Им стал Леопольд I, из дома Сакс–Кобургского, к которому принадлежал и принц Альберт, муж королевы Виктории Английской. Бельгийский король, человек строгих правил, цельный и предприимчивый, умело управлял своей небольшой страной. Оставшись вдовцом после смерти английской принцессы, повторно женился на принцессе Луизе Орлеанской, старшей дочери короля Луи–Филиппа, и испытал горе утраты второй жены в 1850 году. Но у него остались дети и среди них — шестнадцатилетняя темноволосая принцесса, очень красивая. Была она и очень чувствительная, и визит австрийского эрцгерцога сильно ее взволновал.
В мае 1856 года Максимилиан, не зная, что его приезд породил бурю чувств в сердце девушки, въехал в Брюссель и так сильно заинтересовал Шарлотту, что она только нем и говорила.
— Какой высокий! И какой красивый! У него голубые глаза, он такой нежный, романтичный!.. А какая очаровательная бородка!
В тот день мадемуазель де Стеенхаульт, ее наперсница, оторвала взор от вышивания и нежно улыбнулась девушке:
— Особенно необычна эта бородка. Признаюсь, никогда не видела, чтобы так стригли бороды. Эрцгерцог сам вводит моду.
В самом деле, Максимилиан долго думал, как ему стричь бороду. Чтобы не походить на других, решил выбрить посреди подбородка полоску и разделить бороду на две равные пряди, которые игриво загибались к щекам. Бородка имела замечательный светло–золотистый цвет, все это вместе являло шедевр стрижки, и перед ним не устояло слабое сердце юной бельгийской принцессы, особенно если еще посмотреть на великолепный мундир императорского флота.
— Вашему Высочеству ведь известна истинная причина путешествия принца. Его мать эрцгерцогиня хочет, чтобы он как можно скорее нашел себе жену. Вот он и просматривает всех европейских принцесс… но до сих пор никого не нашел.
Шарлотта так и зарделась от смущения — и сделалась еще милее. И правда, ей не занимать очарования: темноволосая, необычные глаза — черно–зеленые, с золотыми блестками; кожа напоминает о камелии; изящные, нежные черты лица и тонкая талия, какую редко у кого увидишь. Но глядя на компаньонку, она принялась крутить концы своего пояска.
— Как вы полагаете, моя милая… есть у меня шанс ему понравиться?
Мадемуазель де Стеенхаульт от всего сердца рассмеялась.
— Да если он посмотрит на вас всего однажды, — клянусь, не сможет остаться равнодушным, мой ангел! — нежно заверила она. — Убеждена — вы одна из самых красивых принцесс Европы!
Шарлотта, вздохнув, покачала головой.
— Говорят, императрица Елизавета так прекрасна — с ней не сравнится ни одна женщина.
— Конечно, но императрица есть императрица, не думаю, что она еще раз выйдет замуж. Но вы вполне выдерживаете сравнение с ней.
Немного ободрившись, Шарлотта ушла выбирать платье для вечернего бала. Отец проявил чрезвычайную щедрость и подарил ей накануне визита эрцгерцога несколько туалетов. Перед Шарлоттой встал очень серьезный вопрос: понравится она ему в светло–зеленом платье или в белом?
К несчастью, Максимилиан на нее даже не взглянул. Его все больше увлекала эта роль императорского туриста, а когда он смотрел на даму, всякий раз мысленно сравнивал с прелестной графиней фон Линден… И та, которая привлекла внимание, переставала его интересовать. Зато само пребывание в этой стране его очаровало, и он продолжал посылать домой многочисленные письма с пространными и тщательными описаниями страны и ее двора. Вот пример: «Культура выращивания цветов здесь самая замечательная из всех, что я когда–либо видел. Во всех городах меня ожидали прекрасные кареты. Однако меблировка дворцов не очень красива. Пригород Лекена славится тем, что там находится прекрасная резиденция, но королевский дворец в Брюсселе не имеет даже каменной лестницы. Мне кажется, все здесь построено из дерева…»
Другой темой писем стала его кузина, эрцгерцогиня Генриетта, ставшая герцогиней Брабантской и отказавшаяся от своей детской привычки распрягать пони молочников, чтобы покататься на них верхом. Утешилась тем, что поглощала в громадном количестве пищу, обретя фигуру почти квадратную.
Однако, надеясь развлечь родных сплетнями и описаниями, Максимилиан заблуждался. Эрцгерцогиня София, решив, что он над ней издевается, окунула перо в самые ядовитые чернила и написала сыну одно из тех писем, что умела сочинять только она: «После всего Генриетта пристроена и больше не представляет интереса. Но ты–то, Максимилиан, дал ли себе труд взглянуть на дочь Леопольда? Или намерен стать профессиональным мемуаристом?»
Получив взбучку, эрцгерцог открыл глаза, посмотрел на Шарлотту и обнаружил: да она и впрямь очаровательна, к тому же смотрит на него восторженными глазами. На наивном, нежном личике так явно читается любовь… на какое–то время молодой человек почувствовал волнение. Но боязнь за обещание пересилила все: он не решался навсегда связать свою судьбу с другой женщиной, не с Паулой фон Линден, — только она заслуживает такого подарка на всю жизнь.
И на следующий день Максимилиан сообщил королю Леопольду о своем намерении продолжить поездку.
— Мне еще надо навестить наших кузенов в Голландии и в Ганновере. — Он чувствовал себя смущенным под строгим взглядом короля. — Они ждут меня, не могу их разочаровывать.
Леопольд I покачал головой и заставил себя оставаться бесстрастным, как он всегда делал. Но в душе имел желание проучить наглеца: ради него пришлось пойти на большие расходы, а он, кажется, не обратил никакого внимания на Шарлотту. Хотя в Вене эрцгерцогиня София намекнула, что у нее на девушку совершенно определенные планы. Теперь этот простак собрался уезжать… Дрожа от сдерживаемой ярости, король отвечал:
— Пусть так. Посмотрите на Голландию и на Ганновер! Мудрый Габсбург должен все увидеть…
Итак, для молодого эрцгерцога дверь оставалась открытой, ему протягивали спасательный шест. Он мог еще сообщить, что по окончании протокольных визитов вернется в Бельгию, но нет, Максимилиан этого не сказал. Важно попрощался с отцом и дочерью, а также со всей королевской семьей, сел в карету и уехал не оглядываясь.
Для Шарлотты это оказалось слишком: девушка со стоном отчаяния упала в объятия отца и зарыдала.
— Все кончено, отец, все кончено!.. Он уезжает, я ему не понравилась… А я его люблю… о, вы не знаете, как я его люблю!..
Король нежно погладил мягкие темные волосы, бросив поверх головы дочери злобный взгляд на коляску, выезжающую за ворота Лекена.
— Надо быть рассудительной, Шарлотта. Я тоже питал надежду… но все эти Габсбурги такие непостоянные, переменчивые, никогда не знаешь, что они на самом деле думают.
— О, я это знаю! — Девушка все еще рыдала. — Он меня не любит… это ужасно.
Король ничего на это не сказал. Да и что тут сказать, какими словами унять эту боль…
А в это самое время Максимилиан ехал на север с чувством, что избежал большой опасности. Маленькая Шарлотта, бесспорно, очаровательна и обещает стать очень красивой женщиной. А как мил этот полный любви взгляд!.. Но жениться, когда любишь другую, на женщине, которая так в тебя влюблена, не означает ли надеть на шею худшую из всех цепей? Нет, он повел себя мудро — уехал, не оставив надежды.
Пребывание Максимилиана в Голландии походило на отдых: ни одной незамужней, принцессы, даже ни единого ребенка. Но этот приятный отдых все же пришлось прервать — отправиться в Ганновер. Там принцесс хватало, и путешественник дал себе слово тщательно взвешивать слова и улыбки, сами взгляды, чтобы не зародить в женских сердцах пустых надежд. Он чувствовал, что все меньше расположен жениться.
Однако в Берлине должно что–то произойти.
Бал в королевском дворце достиг апогея. На сверкающем паркете огромного зала в ритме вальса кружились пары, увлекая вихрь танца блестящие мундиры кавалеров и огромные кружевные кринолины дам.
Стоя под балдахином рядом с хозяйкой, Максимилиан наблюдал все это рассеянным взглядом и никак не мог решить, с какой из принцесс ему следует влиться в толпу.
Рядом с ним под балдахином дремал король Фридрих–Вильгельм IV. Упадок умственных сил, которому суждено вскоре полностью отстранить его от правления, уже проявлялся достаточно зримо. А пока монарх усердно посапывал, не обращая ни малейшего внимания на звуки музыки, исполняемой оркестром.
Вдруг Максимилиан вздрогнул: ему показалось… в толпе, над платьем из черных кружев и белыми плечами, — очаровательное лицо, золотистые волосы под бриллиантовой диадемой… Сердце его учащенно забилось; эта дама… но ведь это она, о разлуке с ней он так сожалел, — Паула, его единственная любовь!..
Он сбежал по ступеням, остановился на краю танцевальной площадки: очаровательное видение исчезло в потоке танцующих, унеслось в руках высокого, худого мужчины во фраке, увешанном орденами и лентами. Спустя мгновение принц снова увидел ее; он положил дрожащую ладонь на руку соседа, какого–то дипломата — лица его даже не видел, — и спросил:
— Скажите, эта дама, в черном платье, не графиня фон Линден? Посмотрите, вон там… рядом с зеркалами, в бриллиантовой диадеме…
Тот, к кому он обратился, выразил некоторое удивление — принц так бледен.
— Графиня фон Линден? Не думаю, Ваше Высочество… Дама, о которой вы говорите, — баронесса фон Бюлов. Кстати, она танцует с мужем.
— Баронесса фон Бюлов? Вы уверены?
— Совершенно уверен, Ваше Высочество. Они недавно поженились. Но кажется, да, теперь припоминаю: девичья фамилия баронессы фон Линден. Ее отец работал вместе с моим, мы служили вместе…
Дипломат долго еще говорил бы, но Максимилиан его уже не слушал. Широко раскрытыми глазами — вот–вот в них появятся слезы — смотрел он на стройную фигуру молодой дамы, теперь уже ее можно было хорошо рассмотреть. Внезапно встретил поверх плеча мужа ее взгляд — глаза тоже расширились, а свежие губы, напротив, сомкнулись. Паула сделала движение, словно хотела протянуть к нему руку, но спохватилась, опустила взор, словно ее внезапно охватила глубокая грусть. Волна вальса вновь растворила ее в массе танцующих.
Максимилиан медленно вернулся к трону, поднялся по ступеням. Король все еще спит… Распорядитель бала почтительно склонился перед принцем:
— С какой из юных принцесс желает танцевать Ваше Высочество?
Максимилиан покачал головой.
— Сегодня годовщина одной невероятно горестной потери. Я не могу танцевать, извините…
И вскоре покинул бал, оставив растерянного церемониймейстера в отчаянных раздумьях относительно того, что это за годовщина столь тяжелой для Габсбургов потери.
На следующий день Максль покинул Берлин. Не в состоянии продолжать это утомительное путешествие, он вскоре оказался на дороге, ведущей в Вену. В столицу попал вечером, под проливным дождем; когда направлявшаяся в старый дворец карета проезжала мимо магазина цветов на Ринге, эрцгерцог отвернулся и закрыл глаза. На шелковистую светлую бородку, предмет восторга Шарлотты, скатилась слеза — темнота стыдливо ее прятала…
Возвращение его, как и ожидалось, мать не встретила восторженными возгласами.
— Не знаю, что с ним делать, — сообщила она однажды вечером, когда собралось все семейство. — Из этого путешествия он вернулся более печальным и хмурым, чем я его когда–либо видела. Все дни проводит, запершись в своих покоях, не выходит, не хочет никого видеть.
Император ничего не ответил. В скромном генеральском мундире, что так ему нравился, он стоял у окна, постукивая пальцами по стеклу, и смотрел на улицу: двор заливает дождем… Свекрови тихо ответила императрица: — Он снова увидел в Берлине графиню фон Линден. Это нанесло ему глубокую рану.
Эрцгерцогиня рухнула на стул и ужасом посмотрела на невестку.
— Боже праведный, Сисси, что ты сказала?! Он снова встретился с ней… но ведь это ужасно!
Сисси пожала плечами.
— О, нет, не встретился, только увидел. Она замужем, и вам больше нечего опасаться. Но Макслю очень плохо. Думаю, что надо оставить в покое на некоторое время, его горе само пройдет.
Франц Иосиф обернулся, медленно подошел и встал между матерью и женой.
— Сисси права, мама, — дадим ему время оправиться и посмотрим, как все обернется.
— Оставить его в покое, оставить его в покое… Легко сказать… время идет, Франц, твой брат не становится моложе.
— Мама, двадцать четыре года не самый поздний возраст. Дадим ему полгода на раздумья.
— Хорошо, — вздохнула София, — как скажешь. В конце концов, я уже устала бороться за него. Что ж, оставим его с собственными мечтами. Но мои мечты в плачевном состоянии.
Закрывшись в своих покоях, Максимилиан переживал охватившее его горе и разочарование. Ему всегда казалось: та, которую он так любил, проводит дни в ожидании его, укрывшись в укромном уголке Европы, как делал он сам. Разве установившиеся между ними узы не сильнее, чем все остальное? И вот он обнаруживает ее измену — вышла замуж за другого, потеряна для него навеки… Но постепенно образ блондинки стирался в его душе. Его место занял другой образ: юная темноволосая принцесса в белом кружевном платье, девушка со странными глазами необычного цвета — зеленого, с черным и золотым отливом… В глазах этих стоят слезы… Она–то его любит; сумела, несмотря на свою печаль, сохранить достоинство принцессы; она–то заслуживает счастья… Человек не может всю свою жизнь проводить, бродя по покоям, пусть это и покои принца. Когда наступило Рождество, Максимилиан отправился к матери и попросил разрешения жениться на принцессе Шарлотте Бельгийской. София едва не лишилась сознания от радости и неожиданности. Но эта умная женщина умела держать себя в руках и знала — железо надо ковать, пока горячо.
На следующий день после этой столь желанной вести из Вены в Брюссель выехал чрезвычайный посланник граф Арквинто: он вез письмо императора, в котором тот просил руки принцессы Шарлотты для эрцгерцога Максимилиана.
27 июля 1857 года В своей комнате королевского дворца Шарлотта смотрелась в зеркало. Она теперь невеста, ослепительно красивая в бриллиантах короны, под вуалью из драгоценных кружев, доставшихся ей от матери, белокурой Луизы Орлеанской; она уже не обиженный ребенок, как весной прошлого года. Она счастлива — представляет, как перед ней открывается счастливое будущее, полное любви и радости.
На улице в лучах жаркого летнего солнца вовсю звонили колокола. Большая позолоченная карета ждала невесту, чтобы доставить ее в собор Сент–Гюдюль — там, под его торжественными сводами, ждет ее тот, чья любовь с каждым днем становится все сильнее. На улицах празднует это событие народ — кричит от радости и нетерпения.
— Я буду счастлива! — вполголоса обещала самой себе Шарлотта. — Я буду счастлива — и он тоже. Я так хочу!
В качестве свадебного подарка Франц–Иосиф сделал брата вице–королем Венеции и Ломбардии. Едва кончилась свадебная церемония, как молодожены отправились по классическому маршруту свадебных путешествий — в Италию. Продолжительный прекрасный медовый месяц молодая чета провела в самом красивом дворце Милана, где Максимилиан преисполнился глубокой лю6овью к молодой жене. Любовь его была столь велика, что тронула даже души итальянцев, враждебно относившихся к иностранной оккупации. Шарлотта итальянизировала свое имя и стала называться Карлоттой, разучила несколько итальянских романсов. Она тоже научилась радоваться тому, что стала почти королевой, и принимать гостей в большом дворце. У нее фрейлин — целый двор, у нее есть Максль… Чтобы быть счастливой, у нее есть все, не хватает разве что столь желанного ребенка.
Время проходило мимо этой счастливой пары — казалось, истории суждено о ней забыть. Но история редко забывает тех, кто отмечен судьбой. Вскоре на горизонте их счастья появились темные тучи. Поддерживаемые Наполеоном III итальянцы сбросили австрийское иго. На следующий день после битвы под Сольферино Шарлотте и Максимилиану пришлось бежать и укрыться в замке Мирамар, роскошном сооружении, который Максимилиан построил неподалеку от Триеста, — господствовавший над голубыми водами Адриатики, он принадлежал в свое время австрийской короне. С тех пор они стали скучать: Максимилиан вынужден заниматься делами поместья, Шарлотта — домашними заботами. Неужели они рождены, чтобы провести так остаток своей жизни — бесславно, скучно, грустно и пресно, вдали от мировых событий и грохота великих дел… Оба уже познали вкус власти, рождены на ступеньках трона. Больше они не могут удовлетворяться тем, что для многих других людей — вершина счастья: жизнью вдвоем под солнцем Италии, в сказочном доме. Время идет, но выносить его ход все тягостнее. Максимилиан играл на органе и выращивал цветы, Шарлотта вышивала и играла на арфе. Дети пока не намечались…
Запертые в золотой клетке, изолированные от остального мира супруги спрашивали себя, что их ждет впереди. И вот однажды утром весной 1862 года в Мирамаре появился элегантный и велеречивый господин. Послан он был по поручению императора Наполеона III, звали его Гуттьерес Эстрада, мексиканец. Он сделал удивительное и увлекательное предложение:
— Ах, принц, не согласитесь ли вы стать спасителем Мексики? Окажите ей помощь от вашей великой страны — частью ее моя несчастная, разоренная страна некогда была, как одно из самых прекрасных украшений короны Карла V.
Гуттьерес Эстрада умел говорить красиво. Маленький мексиканец дал выход своему латинскому красноречию, подогретому тропическим солнцем энтузиазму,
произносил свои речи так увлекательно, что эрцгерцог Максимилиан и эрцгерцогиня Шарлотта — они сидели в креслах в салоне Мирамара, окна выходили на великолепные сады и голубой простор Адриатики — слушали его удивленные и уже счастливые. Чувства обоих супругов выразила Шарлотта:
— Править Мексикой? Вы предлагаете нам корону вашей страны? Это нечто невероятное!
— Я предлагаю вам, — снова заговорил Эстрада, — возродить мощную некогда империю ацтеков, взойти на трон Монтесумы. Мексика нуждается в порядке. Только высокородный император — с неоспоримыми корнями, возвышающийся над всеми этими вышедшими из ниоткуда бунтарями, носитель христианской религии, против которой борются революционеры–анархисты — способен совершить это чудо. Мадам, Мексика — самая красивая в мире страна… — и мексиканец неудержимо продолжал свою цветистую речь.
Шарлотта зачарованно его слушала и уже представляла великолепную, красочную панораму этой страны… Кроме того, ее гордость, замешанная на честолюбии Кобургов и гордости Бурбонов, рисовала перед ней в золотом убранстве манящий атрибут могущества — корону императрицы.
В душе Максимилиана, страстно желавшего начать, как и она, наконец вести жизнь, достойную его происхождения, надежд и устремлений, тоже зародилась радость. Но он оставался спокоен и не проявлял ее.
— Ваше предложение, — важно проговорил он, — не лишено определенной привлекательности, но мне нужны гарантии, а еще — документ, выражающий согласие представительного большинства мексиканского народа, ибо Габсбурги никогда не узурпировали трон.
Гуттьерес Эстрада не скрывал удовлетворения. Он быстро занес слова эрцгерцога в маленькую записную книжку и откликнулся так:
— Выполнение этих условий не представляет никакого труда, монсеньор; признаюсь, что вскоре вернусь и привезу вам то, чего вы вполне законно требуете.
Как все произошло, каким ветром занесло этого мексиканца в Триест, к эрцгерцогу Австрийскому, чтобы предложить ему корону своей страны? Это сложная и несколько безумная выходка истории.
Освободившись за пятьдесят лет до того от испанской опеки, Мексика испытывала огромные трудности с организацией управления: две партии, в лице двух персон, постоянно боролись за власть. Партией консерваторов, со штаб–квартирой в Мехико, руководил Мирамон, а партию либералов, из Веракруса, возглавлял индеец Бенито Хуарес. Почти ежедневно сторонники враждовавших партий убивали друг друга, прокламации одних следовали за прокламациями других (двести сорок за тридцать пять лет). Но Мексика, даже освободившись от Испании, осталась должна Европе огромные суммы, которые никак не могла выплатить из–за анархии. Среди ее кредиторов одним из самых непримиримых был швейцарский банкир Жекер.
Чтобы попытаться спасти пропадающие кредиты, Франция, Испания и Англия решили пойти на вооруженное вмешательство. Наполеон III и особенно императрица Евгения видели в Мексике средство пробить брешь в американском влиянии и, возможно, способ обеспечить Франции заманчивую сферу влияния. Кроме того, их подталкивали к военному вмешательству многочисленные мексиканские беженцы, спасшиеся от Хуареса. И поэтому французский император направил в Мексику экспедиционный корпус из 20 тысяч человек, в то время как Испания и Англия войск не послали. Французы взяли Мехико по договоренности с президентом Мирамоном и провозгласили империю — под одобрительные аплодисменты партии консерваторов и к большому облегчению священнослужителей, у которых Хуарес отобрал монастыри и все добро. Разве не архиепископ Мехико приезжал в Сен–Клу, чтобы умолять французского императора вернуть Христа в Мексику? Эту молитву набожная испанка Евгения не могла не услышать, добавив к ней свои мольбы.
После провозглашения империи осталось только подыскать императора. Тогда вспомнили о Максимилиане — ему нечем править, и его Наполеон III знал лично и очень ценил. Эта красивая и соблазнительная императорская чета вызовет энтузиазм народа.
В течение долгих месяцев между Мирамаром и Парижем происходила оживленная переписка, а Шарлотта сгорала от нетерпения. Переписка шла также с Веной и Брюсселем. В конце концов Максимилиан взял на себя обязательство выплатить за несколько лет все долги Мексики, а Наполеон III пообещал возвести императора на трон с помощью имевшихся у него там 20 тысяч солдат и оставить на шесть лет Иностранный легион с момента утверждения его на троне. Со своей стороны и Франц Иосиф сформировал полк венгерских добровольцев. В Брюсселе то же сделал Леопольд I. Помимо всего прочего, Наполеон III обязался предоставить новоиспеченному императору необходимые денежные средства.
Все переговоры и переписка завершились 10 апреля 1864 года: в большом тронном зале Мирамара Максимилиана и Шарлотту провозгласили императором и императрицей Мексики. Волнение нового императора было столь велико, что в тот же вечер он слег с температурой.
ПРОЩАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ
В субботу 5 марта 1864 года перед Северным вокзалом Парижа толпы людей окружили вереницу карет, охраняемых эскадроном драгун императорской гвардии и находившихся под присмотром целого батальона полицейских в форме и в цивильном платье. Без нескольких минут четыре: все ждали прибытия поезда из Брюсселя, на котором должны прибыть с протокольным визитом будущая императорская чета Мексики: эрцгерцог Максимилиан и эрцгерцогиня Шарлотта.
Работы по сооружению вокзала еще не закончены, на перроне, накрытом длинной ковровой дорожкой красного цвета, поезд с принцем и принцессой ожидали военный в парадном мундире и дама в кринолине. Военный — личный адъютант императора Наполеона III адмирал Жюрьен деля Гравьер, а дама — придворная дама графиня де ла Поэз. Оба состояли в комитете по организации визита и имели поручение встретить знаменитых гостей и проводить во дворец Тюильри.
Выбор пал на них вовсе не случайно. Адмирал де ля Гравьер три года назад командовал французскими силами, направленными в Мексику. Что касается мадам де ла Поэз, дочери маркиза де ла Рошламбера, она принадлежала к одному из древнейших семейств старого режима, что не могло не понравиться эрцгерцогине Австрийской, дочери короля бельгийцев Леопольда I и внучке Луи Филиппа I, короля Франции. Графиня — очень стройная, невысокая молодая дама, с такой легкой походкой, что злые языки императорского двора прозвали ее «плавучей занавеской».
Ровно в назначенное время поезд въехал в здание вокзала, а спустя несколько минут высокородные пассажиры ступили на парижскую землю. Выехав в десять часов утра, они провели в пути между Брюсселем и Парижем всего шесть часов — для тех времен неплохой показатель.
Будущие властители Мексики, несомненно, очаровательная пара — молодые, симпатичные, — и население Парижа не жалело Для них дружеских приветствий, провозглашая: «Да здравствует эрцгерцогиня!» или «Да здравствует Мексика!» — с большой теплотой. Коронация еще не состоялась, и молодые люди не имели права называться императором и императрицей.
В немногочисленную свиту принца и принцессы входили граф и графиня Циши, урожденная Меттерних, графиня Паула фон Коллониц, барон де Пон, маркиз Корио, граф де Лютцов и шевалье Шерценлехнер. Все расселись по каретам, и кортеж направился во дворец Тюильри, где император и императрица ждали гостей на парадной лестнице. Прием прошел в теплой обстановке. Императрица Евгения сразу вручила Максимилиану золотой медальон с образом Богоматери, выражая надежду, что он принесет ему счастье. А для Шарлотты припасла испанскую кружевную мантилью и веер из сандалового дерева с золотой филигранью, который специально попросила прислать для этого случая свою сестру Паку, грациозную герцогиню Альба. Настало время для эйфории. Император и императрица видели в этой молодой чете спасителей несчастной, раздираемой анархией Мексики, а также правителей, которые смогут вернуть так надолго зависшие кредиты. Организаторам официального визита эрцгерцога и эрцгерцогини пришлось пережить тревожные моменты. В Брюсселе Максимилиан почувствовал недомогание, тут же пошли слухи, что он не только не приедет во Францию, но и откажется от мексиканской короны. Но ничего этого не произошло: в назначенные день и час он взошел в Кале на борт судна, доставившего его в Англию, где ему предстояло принять участие в церемонии крещения сына принца Уэльского, — там он провел целый месяц. Францию на королевском крещении представлял граф де Флао.
Дорогих гостей поселили в павильоне Марсан. Мадам де ла Поэз прикрепили к эрцгерцогине, а адмирал Жюрьен де ля Гравьер и конюший императора господин де Граммон поступили в распоряжение Максимилиана. Приставив к ним самых преданных слуг, Наполеон III и Евгения хотели подчеркнуть питаемое ими уважение к гостям. После ужина в тесном кругу все отправились в театр: в тот вечер в театре «Гимназия» давали премьеру новой пьесы Александра Дюма–сына «Друг женщин». Премьера имела громадный успех — в присутствии столь высокопоставленных особ. На следующий день, в воскресенье, императорская чета пригласила гостей прокатиться вчетвером в одной коляске по Булонскому лесу. Погода великолепная, гуляющие люди элегантно одеты… Во дворец все вернулись, только когда кончились бега в Марше, чтобы избежать толчеи. Вечером состоялся дипломатический ужин, но на него пригласили лишь послов Австрии и Бельгии. Этот ужин походил скорее на семейный: посол Австрии в Париже в то время — князь Рихард фон Меттерних, брат сопровождавшей эрцгерцогиню Шарлотту графини Циши. После ужина в Тюильри дала представление театральная труппа; мадемуазель Плесси, господа Делоне и Брессан имели честь сыграть в присутствии двора пьесу «Подсвечник».
Утром в понедельник Максимилиан в парадном адмиральском мундире, отправился, как принято, под купол Дворца инвалидов отдать почести могиле Наполеона I — часть программы любого официального визита — могила императора играла тогда роль, забранную у него потом Могилой Неизвестного Солдата у Триумфальной арки. Даже англичанка до мозга костей королева Виктория посетила Дворец инвалидов, когда приезжала в Париж в 1851 году вместе с принцем Альбертом. В это время Шарлотта болтала о тряпках с Евгенией, представила ей своего портного Борта, парикмахера Леруа и лучших мастеров Парижа. Настоящая и будущая императрицы нашли общие интересы; посетили также ряд благотворительных заведений и большое число церквей.
Вечером — ужин с участием всех министров, затем большой концерт в Зале маршалов. Восхитительная Аделина Патти, ведущая певица Итальянского театра, исполнившая несколько арий из опер, представлена была Их Высочествам принцессой Эсслинг, распорядительницей дома императрицы. В этом концерте приняли участие также многие другие знаменитые артисты: мадам Мерик–Лабланш, господа Марио дель Седи и Скалезе из Итальянского театра (особенно горячие аплодисменты Марио заслужил за арию из оперы «Марта»). На концерте выступили также скрипач господин де ла Роншри и знаменитый пианист Йозеф Венявский, исполнивший два своих произведения — «Изменчивый романс» и «Вальс»… Этим приятным, удавшимся вечером все остались очень довольны. Император и императрица долго беседовали с господами Марио и Венявским. Когда в Париж приезжает какой–нибудь иностранный монарх, в наши дни принято, чтобы в своем посольстве он давал прием в честь президента республики. Этот обычай уже существовал в годы Второй империи; во вторник в австрийском посольстве состоялся большой прием от имени эрцгерцога и эрцгерцогини в честь французских монархов.
Нам остается сожалеть о сдержанности, с какой газеты того времени описывали официальные и светские события. Хотелось бы знать подробности всех этих шикарных приемов во дворце Тюильри и в других, не менее известных местах. Как, например, приемов, которые устраивала в великолепном особняке Конти–Шароле, по адресу улица Гренель, 101, элегантная, подвижная княгиня Полина фон Меттерних. Париж, безусловно, никогда не видел и не увидит такой жены посла. Казалось, она поставила себе задачу коллекционировать определения только в превосходной степени. Полина фон Меттерних — самая элегантная, самая умная, шикарная, непоседливая… и самая уродливая из всех жен глав дипломатических миссий. Ее уродство особенно выделялось при дворе, где вокруг императрицы, одной из красивейших женщин Европы, собрались многие красавицы Франции. По ее личному выражению, «она не красавица, а еще хуже того» — это выражение она позаимствовала у герцогини д'Абрантес. Очень худая, высокая, смуглая, лицо ее напоминало мордочку пекинеса со слишком большим ртом, но при всем том в черных глазах ее светилась жизнь, а одевалась она как никто другой. Именно она открыла и сделала знаменитым портного Уорта, а о ее наряде и драгоценностях говорили все.
Подробности приема, который она устроила тогда от имени брата и свояченицы монарха, нам неизвестны, но положимся на княгиню, чтобы представить его.
В среду, 9 марта, эрцгерцогиня Шарлотта в сопровождении мадам де ла Поэз и графини Коллониц посетила музей. Там ее встретил суперинтендант изящных искусств, который по деликатным соображениям приказал закрыть перед августейшей посетительницей залы, где висели полотна, написанные во время недавней итальянской кампании. Свидетельство дурного вкуса — показывать сражения при Маженте и Сольферино даме, изгнанной в результате этих побед из своего дворца. Вечером в программе посещение Оперы, там дают оперу «Маскарад», или «Ночи Венеции», с мадемуазель Боскетти в роли Люсцилии. А потом премьера новой оперы «Доктор Магнус» господ Кормона и Кре, музыка Эрнеста Буланже. Неизвестно, остались ли эрцгерцог и эрцгерцогиня довольны этим вечером; в газете «Пети журналь» на следующий день напечатано: «Господин Газо так простужен, что невозможно услышать ни единого слова его роли. Но пьеса имела большой успех во время генеральной репетиции». Однако время и развитие событий, казалось, объединились, чтобы сорвать этот визит, ставший прелюдией к трагедии. Над Парижем подул ураганный ветер, поваливший несколько деревьев, включая тополь в саду Тюильри.
Этот ветер продолжался и на другой день, заставив дам скрываться во дворце. Он сбивал с ног пешеходов, опасно раскачивал кареты. Те, что привезли в четверг вечером бесчисленное количество гостей на большой дипломатический ужин во дворец Тюильри, с трудом нашли место для стоянки вдоль всей улицы Риволи. Но это все же не помешало приему. В пятницу утром император и эрцгерцог отправились поохотиться в Версаль. Появилось солнце, но ве–чером, по возвращении, охотников ждала печальная весть: король Баварский Максимилиан II умер утром того дня от приступа рожи, в возрасте пятидесяти двух лет. Для австрийского двора объявили траур, тем более обязательный, что мать Максимилиана, эрцгерцогиня София, да и сама императрица Елизавета были из семейства Виттельсбахов. Пришлось отменить запланированное для гостей Франции на вечер посещение театра «Одеон», где с огромным успехом шла пьеса Жорж Санд «Маркиз де Вильмор».
Вечером в пятницу Шарлотта и Максимилиан удовольствовались тем, что к десяти часам вечера прибыли в австрийское посольство, где руководители монархического движения Мексики Гуттьерес Эстрада и Мирамон собрали некоторых известных беженцев, чтобы представить их будущим монархам. Поскольку отъезд из Парижа наметили на вечер воскресенья, Шарлотта использовала вынужденный траур, чтобы сделать ряд срочных покупок. Так, «Комни лионез» получила повод гордиться: для нее последовал крупный заказ на шелка, назначение — поразить заатлантическую аристократию. А на бульваре Итальянцев собралась огромная толпа: там эрцгерцогиня зашла к придворному фотографу Дезидери, сделать свой портрет, — именно из–за нее и собралась толпа. Стараясь все же увидеть как можно больше, она во второй половине дня в воскресенье посетила с мадам де ла Поэз мануфактуру на улице Гобелен. Наконец пришла пора прощаться; проводы, как утверждают, оказались теплыми, очень дружескими. Эрцгерцог и его супруга говорили, что очень тронуты оказанным им приемом и хотят вскоре снова увидеться со своими друзьями. Женщины с нежностью расцеловались, хозяева и гости расстались. Знаменитых гостей ждал эскорт, чтобы проводить на поезд до Кале; было семь часов вечера.
Адмирал де ля Гравьер и г–н де Грамон сопроводят эрцгерцога и эрцгерцогиню до самого Кале, откуда супруги поплывут в Англию; там для них зарезервированы номера в отеле «Клерендон». Пребывание в Англии предусмотрено коротким: предстоит еще нанести прощальный визит королю Леопольду Бельгийскому, попрощаться с кузиной Викторией и посетить Клермон, где внуков ожидала вдова Луи Филиппа королева Мария–Амелия.
Этот последний визит стал очень грустным. Старую королеву охватили ужасные предчувствия, и она поделилась ими с Максимилианом: «Они убьют вас», — предсказала она. Но будущие монархи были слишком увлечены своей императорской мечтой, чтобы их остановило то, что они, естественно, сочли старушечьим бредом. Надолго задерживаться в стране, где им делали такие предсказания, они не стали.
Два дня в Брюсселе, пять или шесть в Вене, которую Шарлотта не любила — приходилось ей там постоянно находиться заднем плане, — и вот они уже в Мирамаре. Десятого апреля в большом бальном зале, где ни разу никто не танцевал и где поставили трон, Шарлотта и Максимилиан получили корону Мексики: отныне они Императорские Величества Максимилиан и императрица Шарлотта. Отныне колесо истории запущено — судьба начала свое дело, и ничто ее уже не остановит.
Четырнадцатого апреля австрийский фрегат «Новара» в сопровождении французского фрегата «Темис» увез в Мексику чету, надеявшуюся стать прямыми наследниками Монтесумы.
МЕКСИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Положив локти на релинги, Шарлотта смотрела, как в золотистой дымке исчезал ее дворец Мирамар с цветами, флагами, развешенными повсюду гирляндами. Мимо нее проплавали в парадном строю корабли австрийского флота, расцвеченные флагами до самых верхушек мачт, — экипажи выстроены на юте с безупречным равнением. Чуть подальше плыл, также отдавая прощальные почести, французский крейсер «Темис». На корме фрегата «Новара» развевался на ветру новый стяг мексиканского императора с орлом ацтеков. Столь долгожданная мечта начинала сбываться.
— На этот раз мы уехали окончательно! — прошептала Шарлотта Максимилиану. — Мы будем править, и я хочу, чтобы вся Европа нам завидовала.
Максимилиан улыбнулся молодой жене — он тоже счастлив, опьянен таким количеством солнца, радости и обилием криков «Виват!».
— Да разве может быть иначе? Мы направимся в новую, богатую страну; мы сделаем ее могущественной и современной; она уже ждет нас — с букетами цветов!
Бедный Максимилиан, бедная Шарлотта — иллюзиям их суждено длиться недолго.
Плавание через океан прошло довольно приятно. Император использовал время на то, чтобы написать главные положения большого кодекса протокола и этикета, основанного на ужасном и почти испанском этикете венского двора. Этот протокол он думал в ввести в своей империи. «Новара» шел довольно быстро, да и «Темис», следовавший за ним, как верный пес, не отставал. Но когда на горизонте показался низкий, нездоровый берег, а вслед за тем корабль приблизился к горе Веракрус, у монархов и их свиты округлились глаза. Город не только не украшен празднично, но в порту даже не видно ни одной живой души, за исключением нескольких зевак и грузчиков, сладко спящих, накрыв лицо сомбреро. Двадцать восьмое мая, стояла ужасная жара… Шарлотта, со сверкающим взглядом, повернулась к своим фрейлинам — Пауле фон Коллониц и венгерской графине Мелани Циши:
— Выходим на берег, а там разберемся.
Все вышли на причал. Однако стоящая причале Веракруса элегантная, блестящая группа господ в мундирах и дам в кринолинах вызвала у аборигенов крайне слабое любопытство, это вывело Шарлотту из себя.
— Эти люди, — произнесла она, — явно не знают, что мы их монархи…
французский контр–адмирал Босс, тоже сошедший со своего корабля «Темис», покачал головой.
— В Веракрусе не симпатизируют новому режиму, мадам. До того как укрыться в горах на севере, здесь правил Хуарес. Но это вовсе не извиняет председателя регентского совета генерала Альмонте — он должен быть здесь…
Следовало признать факт — генерала нет. Придя в ярость, Шарлотта решила подняться на борт: там поужинать и не двигаться с места, пока за ними не приедут. Все снова взошли на корабль.
Генерал Альмонте появился поздно вечером. Он не удосужился узнать, в какой точно день приплывают монархи, и, опасаясь гнилого климата Веракруса, предпочел остановиться в горах, в городке Оризаба. Едва он успел приветствовать Их Величества, как на него обрушился с упреками адмирал Босс, возмущенный таким приемом. Но тут вмешался император:
— Ладно, господа, это всего лишь недоразумение. Давайте сначала поужинаем, а завтра все уладится…
Словно в подтверждение его слов, в форте Сан–Хуан де Уллоа решили наконец произвести двойной залп в честь прибытия Их Величеств. Но Шарлотта весь вечер оставалась в мрачном расположении духа. Очень впечатлительная, новая императрица усмотрела в таком приеме дурной знак. Честно говоря, следующий день также оказался не очень утешительным. Когда монархи во второй раз вышли на берег, на улицах было очень мало людей, хотя кое–где все же развесили флаги и им посвятили речь. Но этот почти пустой город, можно считать, захватила стая грифов, мерзких тропических хищников: сидят почти всюду, вытягивают плешивые шеи и издают неприятные звуки. Шарлотта, вся в напряжении, повернулась к адмиралу Боссу:
— Нельзя ли поубивать этих отвратительных птиц, господин адмирал? Какое ужасное зрелище они собой представляют!
Адмирал возвел очи к небу и наклонился к дрожащей от омерзения молодой женщине:
— Увы, мадам, нельзя, — произнес он. Они защищены законом: нечистоплотность местного населения и пренебрежение санитарными нормами делают этих птиц необходимыми.
Не желая больше об этом слушать, императрица пошла садиться в маленький поезд, недавно привезенный из Франции, — он должен доставить их на плато. Поездка до Мехико была утомительной: приходилось ехать по едва заметной дороге, императорская карета скрипела и безжалостно сотрясала сидящих в ней людей. Правда, начиная с Пуэблы, где Их Величеств ждали губернатор и генерал Бренкур, прием стал более теплым. Максимилиан и Шарлотта услышали наконец эти «Виват!», так ожидаемые после отъезда из Мирамара. У ворот столицы их встретила настоящая дипломатическая делегация: генерал Базен, командующий французскими войсками, поверенный в делах граф Монтолон; посол Австрии и все почтенные люди города. На этот раз — цветы, раскаты оваций; улыбающиеся монархи вступили в старый дворец под веселый звон колоколов.
Но праздник на улицах ярко украшенного города не обеспечил комфортной ночи: старый дворец и впрямь очень стар, и там было столько насекомых, что, устав бороться с ними, Максимилиан ушел спать на бильярдный стол.
Еще кое–что сделало некомфортным сон императора. Во дворце, на той самой кровати, где ему предстояло спать, он обнаружил неизвестно как туда попавшую прокламацию; укрывшийся в Чихуахуа мятежник Хуарес адресовал ее людям из Веракруса: «Я все еще жив, люди с побережья, — я, тот, кто всегда вел вас на борьбу с тиранами…» Какая угроза в этих словах! Но Максимилиан не обиделся. — Я уважаю человека, который намерен бороться до конца, — сказал он жене. — Неужели тебе страшно?
— Рядом с тобой я ничего не боюсь, дорогой, нечего, думаю, нам бояться. Наш первейший долг — привлечь этого мятежника на свою сторону. Уверена, что мы этого добьемся!
Веря в очарование мужа, да и в свое собственное, Шарлотта еще не знала, что невозможно привлечь на свою сторону такого человека, как Хуарес: в жилах его текла кровь ацтеков, порабощенных, но не сломленных тремя веками испанского господства. Хуарес жил только свободой и местью.
Жить в национальном дворце оказалось совершенно невозможно, и чета на следующий день перебралась в замок Чапультапек, построенный на холме, на некотором удалении от города; вскоре разместили также и свиту. Затем не теряя времени все принялись за дело. Император назначил министров, а Шарлотта, снова став Карлоттой, выбрала для себя двадцать фрейлин из дам высшего света. И достославный этикет стал работать.
Построенный на скалах из базальта и порфира, Чапультепек с лесом и прудом, где кристально чистая вода, возвышался над Мехико — место приятное. Любитель видов, Максимилиан пожелал сделать их прелестными, а в это время его жена старалась как можно скорее организовать в замке жизнь, которая очарует местное высшее общество. Там стали проходить праздники, балы, ужины и концерты.
Но события начали развиваться в неверном направлении. Исключительно из добрых побуждений Максимилиан искренне хотел полюбить свой народ и старался жить по его правилам. Особенно восхищался индейцами, этими нежными, молчаливыми существами, чью душу безуспешно пытался понять. Чтобы привлечь их на свою сторону, он повел новую политику, и она вскоре лишила его большей части сторонников. Вместо того чтобы опираться на консервативную партию, которая сделала его императором, и на церковь, благословившую его, Максимилиан обратился лицом к либералам и отказался вернуть церкви и ее былое значение, и блага, конфискованные у нее людьми Хуареса. Непростительная ошибка: мексиканцы, в большинстве своем очень набожные, не поняли этого отношения к церкви. И еще одна ошибка: Шарлотта сделала своим врагом Базена; совсем недавно ставший маршалом Франции, он со своими войсками — единственная надежная защита от солдат мятежника. Она не выносила этого человека низкого происхождения, его гонор отвратителен. Между ними часто возникали ссоры. — Почему бы нам не отослать его во Францию и не попросить Наполеона назначить другого генерала?! — воскликнула однажды в отчаянии Шарлотта. — Я не в силах больше его выносить!
Максимилиан вышел из–за стола и обнял жену за плечи. В последнее время она стала красивой как никогда — климат ей явно подходит. Но почему она всегда так раздражительна? Несомненно, Карлотте действует на нервы, что она никак не может забеременеть и, кажется, навсегда лишена материнского счастья.
— Этого я сделать не могу, сердце мое. Как ни отвратителен Базен, он все же очень популярен здесь, особенно после его женитьбы бы на местной девушке. Кроме того, солдаты его обожают, и мы не можем позволить себе обойтись без экспедиционного корпуса.
— Почему же ты не последуешь его советам и не сформируешь местную армию?
— Рад бы, но не могу. Здешние люди проявляют к нам некоторое отвращение, со временем оно, не сомневаюсь, пройдет. Но пока надо оставить Базена, в противном случае с нами может случиться несчастье.
Шарлотта с любовью закинула руки мужу на шею.
— Пока мы вместе, Максль, ничего плохого с нами не произойдет. Наша любовь защитит нас в беде, я в этом уверена!
Эта прекрасная вера заставила императора улыбнуться. Но его душевное спокойствие, слишком сильно нарушенное, никогда уже не восстановится. Стало не хватать денег… но об этом он старался не говорить. Ситуация в самом деле стремительно осложнялась. Максимилиан не только оказался не в состоянии выплатить мексиканские долги, но и постоянно требовал денег у Наполеона III. А тому начинало казаться, что вся эта история обходится ему слишком дорого и что дело принимает дурной оборот. Парламент и французский народ все больше противились продолжению этой авантюры: все говорили о растраченных миллионах, о бесцельно загубленных человеческих жизнях. Кроме того, США, у которых освободились руки после окончания Гражданской войны, закончившейся победой Севера, заинтересовались Мексикой и проявляли недовольство внедрением там французов. Они принялись помогать Хуаресу, предприняв при этом широкое дипломатическое наступление на Наполеона III. А тот ввиду ухудшения отношений с Пруссией подумывал уже отозвать свои войска — вскоре пригодятся ему самому. Устав от всех этих хлопот, Максимилиан уехал на некоторое время в свою летнюю резиденцию Куэрнавака, в 85 километрах от Мехико. В этом маленьком раю на берегу пруда бурно произрастали красные бугенвиллеи, желтые джакаранды и розовато–оранжевые тампариндосы. К огромному несчастью, случилось так, что он влюбился там в красавицу–индианку, жену своего главного садовника; та оказалась несколько диковатой, и очень скоро обо всем узнала Карлотта…
— Так вот ради кого ты предал доверие, в котором я тебе поклялась! — воскликнула Шарлотта. — Индианка, ничтожная индианка!.. Ты не сможешь этого отрицать — у меня есть твое письмо! Слова любви… слова любви, которые ты никогда мне не писал!
Отрицать бессмысленно — Максимилиан никак не мог понять, каким образом его нежное послание попало в руки жены. Он пытался ее успокоить: этот пронзительный голос, прорезавшийся у нее некоторое время назад, действовал ему на нервы.
— Дорогая, — нежно произнес он, — мы никогда не разлучались, и мне не надо было писать тебе письма. Не стоит придавать значение какой–то фантазии… безумство нельзя принимать в расчет, и я о нем очень сожалею.
Но Шарлотта и слышать ничего не желала:
— Если бы ты любил меня так, как я тебя люблю, — никогда даже не посмотрел на другую женщину! Но ты взглянул… на эту. Наша любовь умерла, Максимилиан, умерла навсегда… И теперь на нас может обрушиться злая судьба.
Говоря это, она прошлась несколько раз по комнате, потом повернулась и направилась к двери.
__Куда ты идешь? — крикнул император.
Обернувшись на пороге, она посмотрела на мужа с беспримерным достоинством.
— Я возвращаюсь в Мехико и оставляю тебя с твоими цветочками… с твоей индианкой. Ведь по крайней мере один из нас должен править, коль другой не способен это делать!
Эти слова очень задели, даже ранили самолюбие Максимилиана — мужское самолюбие. Разозлившись, он отпустил Шарлотту одну в столицу, а сам еще некоторое время оставался пленником садов Куэрнавака и красивой девушки с глазами газели.
С того дня отношения между супругами сделались натянутыми. Шарлотта, одновременно разочарованная в своей любви и обманутая в ожиданиях беременности, еще больше озлобилась и замкнулась в себе.
Императорская чета остро нуждалась в наследнике, и, смирившись с тем, что императрица никогда не родит, они усыновили мальчика из благородной мексиканской семьи Интурбидов. Но, глядя, как маленький Августин играет в саду Чапультепека, Шарлотта прекрасно понимала, что ему не под силу заполнить ужасную пустоту в ее сердце. Эта пустота образовалась от отчаяния, которое охватывало ее все больше. Долгими ночами она не могла заснуть, лежала неподвижно и глядела на светлую, красивую мексиканскую ночь — вдали то и раздавались звуки гитары.
Но в самом своем горе Шарлотта почерпнула смелость — воистину она обладала душой настоящей принцессы: дала она клятву помогать мужу, пока будут силы. Пусть он неверен ей — она, Шарлотта, останется непоколебимо верна клятве, данной под сводами собора Сент–Гюдюль, и своему долгу императрицы.
Наполеон III отозвал свои войска, перестав высылать им деньги, а отношения императрицы с Базеном стали такими натянутыми, что маршал перестал появляться во дворце и занимался только погрузкой войск на корабли. И Шарлотта приняла героическое решение: оставив Максля заниматься амурными делами и цветами, она едет в Европу, встретится с Наполеоном, Францем Иосифом и даже с Папой Римским, все еще отказывающимся подписывать конкордат с Мексикой из–за идей Максимилиана. Привезет золото, солдат, конкордат. Ее цель — спасти Мексику и единственного человека, которого любила в этой жизни. После этого она может умереть, если того пожелает Господь, — умереть бы без всякого сожаления.
9 июля 1866 года Шарлотта выехала из Мехико в сопровождении Максимилиана, проводившего ее до Айотлы, деревни в нескольких километрах от столицы. Там состоялось тягостное прощание. Последние обиды, накопившиеся после Куэрнавака, улетучились, уступив место грусти — впервые за десять лет им предстоит расстаться. Шарлотта всплакнула в объятиях мужа, но смело отстранилась от него и села в карету с одной–единственной фрейлиной, которую взяла с собой, маркизой дель Баррио (все другие австрийские дамы давно вернулись в Европу). А пока карета тряслась на дороге в Веракрус, Максимилиан вернулся в Чапультепек и принялся писать матери, эрцгерцогине Софии: «Невозможно словами выразить, чего мне стоило расстаться с ней, но для достижения великих результатов нужно идти на великие жертвы. Молю Бога уберечь ее и дать нам возможность снова встретиться…»
Десятого августа, проделав утомительное путешествие — в ходе его измученная мексиканскими дорогами бедная императрица Жестоко пострадала от морской болезни, — Шарлотта прибыла в Париж в плачевном состоянии. Кроме того, с полной горечью душой вовсе не проявила себя умелым дипломатом. Остальное довершили скандальные обстоятельства. К несчастью, делегация, которой поручили встретить императрицу, перепутала вокзалы и отправилась ждать ее на Орлеанский (Аустерлиц) вокзал, а она прибыла на вокзал Монпарнас. Ее это очень задело — пришлось со свитой брать фиакр и ехать в Тюильри. Но дворец оказался закрыт. Императору пришлось прервать лечение в Виши и вернуться в Сен–Клу, чтобы отреагировать на происходящие события. Шарлотта, поселившись в «Гранд–отеле», раздраженно и заносчиво потребовала свидания с Наполеоном III.
А тот плохо себя чувствовал, поэтому отель к Шарлотте приехала императрица Евгения, чтобы избавить мужа от этого разговора. Но императрица Мексики ничего не желала слушать и заявила: если ее не хотят принимать по–хорошему, она «будет действовать силой». Евгения смирилась и дала согласие на ее приезд в Сен–Клу.
Встреча была тягостной, но Наполеон III остался непреклонен. По–другому он поступить и не мог: на него давили недовольство французов, угрозы со стороны США и дипломатические осложнения с Пруссией. Как ему ни печально, он больше не выделит Мексике ни единого экю, ни одного солдата. Ему пришлось повторить эти жестокие слова во время посещения Шарлотты в «Гранд–отеле».
Та побледнела, услышав холодный и совершенно ясный приговор.
— Значит, — произнесла она, — нам придется отречься?
Она не взвешивала слов, а ответ Наполеона III убил ее:
— Да, отрекайтесь от короны. Это будет мудрый поступок.
И тут она сорвалась: охваченная слепым гневом, высказала Наполеону все свои обиды и, не выбирая выражений, крикнула:
— Как я могу забыть, кто я и кто вы?! Мне следовало бы помнить, что в моих жилах течет кровь Бурбонов, и не унижаться перед Бонапартом, ведя переговоры с авантюристом.
Тут Наполеон III встал, сухо откланялся и покинул отель, оставив Шарлотту в приступе ужасного нервного припадка — унять его удалось с огромным трудом. Шарлоттой овладела мания преследования, а когда ей предложили, как в Сен–Клу, освежительные напитки, стала кричать, что ее хотят отравить. Немного успокоившись, свита решила: разумнее всего ей уехать из Парижа. Вначале подумали, что стоит направиться в Брюссель, но король Леопольд I умер за год до этого. На трон взошел его старший сын, брат Шарлотты. Увы! Взор Леопольда II был направлен на Африку, и его ничуть не интересовала мексиканская авантюра. Ехать в Брюссель, как ни парадоксально, совершенно ни к чему. Так, по крайней мере, думала Шарлотта — отправилась вначале на несколько дней в Мирамар, а затем в Рим. Именно там суждено было разразиться трагедии.
Папа Пий IX принял ее ласково и милостиво, но она поняла, что и он не собирался сдавать позиции: не выделит деньги церкви для четы, так страстно желавшей остаться на императорском троне. И посему осторожно дал понять Шарлотте, что партия проиграна, упорствовать — безумие, как, впрочем, считал и император Франц–Иосиф, и разумнее всего спокойно вернуться в Мирамар и там подождать достойного места для Максимилиана.
Шарлотта выслушала все это не возражая и спокойно вернулась в отель. Но на следующий день, когда Папа завтракал, к нему вдруг ворвалась бледная как полотно императрица Мексики. Глаза ее вылезали из орбит, она бросилась к его ногам с криками — боится, что ее отравят. После чего набросилась на папский шоколад и проглотила его, как будто очень давно ничего не ела. Сопровождавшая свою несчастную повелительницу маркиза дель Баррио попыталась, как только смогла, объяснить причину столь странного состояния Шарлотты.
А та категорически отказывалась покинуть Ватикан. Сильно огорченному Папе Римскому пришлось дать указание поставить кровать в салоне рядом с библиотекой — и Шарлотта вместе с сеньорой дель Баррио стали единственными в истории женщинами, которым дали разрешение переночевать в апартаментах понтифика.
На следующий день после неудавшейся попытки сопроводить императрицу в монастырь, где она устроила скандал, крича, что сестра–повариха хотела ее отравить, ее доставили в отель. Но она так неординарно повела себя на улице, хлебая воду из фонтанов и громко вопя, что пришедшая в отчаяние свита несчастной немедленно проинформировала обо всем Брюссель и Вену.
Спустя восемь дней Шарлотта вернулась в Мирамар, где ее осмотрел прибывший из Вены врач. Безумие совершенно очевидно — это ясно всем. По прошествии нескольких месяцев за несчастной приехал ее брат, граф Фландрии, и отвез ее в Лекен, откуда она уехала несколько лет назад такой радостной. На этот раз у нее не осталось ни малейшей надежды когда–нибудь покинуть этот дворец. Полтора года царствования превратили жизнерадостную Шарлотту в больную безумием.
А в это время в Мексике Максимилиан тщетно цеплялся за свой шатающийся трон. Почти все французские войска отбыли. Последнее французское подразделение — Иностранный легион, в 1863 году вписавший кровью одну из самых славных страниц своей истории, — из верности режиму покинул страну, несколько задержав выполнение полученного приказа. Но, несмотря на упрашивания Базена, Максимилиан пожелал остаться. И тогда получил шифрованное сообщение: состояние здоровья императрицы очень тяжелое; ее лечит доктор Ридль из Вены. Император немедленно вызвал своего австрийского врача доктора Баха.
— Знаете ли вы, — спросил он его в упор, — кто такой доктор Ридль?
Ничего не подозревавший врач спокойно ответил:
— Конечно, сир. Это директор дома умалишенных.
Максимилиан выронил из рук телеграмму и сжал зубы. Безумна… Шарлотта безумна… какая ужасная, немыслимая новость… Его первым порывом было помчаться к ней, на короткое время мелькнула мысль об отречении. Но потом он передумал: для чего? Вернуться туда, чтобы увидеть несчастную помешанную, которая, возможно, даже его не узнает? Лучше бороться до конца!
Хуарес и его ежедневно возраставшие в численности отряды уже контролировали почти всю территорию страны. Наполеон III направил к Максимилиану своего адъютанта генерала де Кастельно, чтобы тот уговорил его уехать, пока это еще возможно.
Но император ничего не желал слышать: продолжал, несмотря ни на что, верить в любовь своих подданных. Решил бороться собственными силами и укрылся в крепости Керетаро.
Этот укрепленный пункт мог выдержать длительную осаду, но нашелся предатель — открыл ворота. Императора схватили и посадили в камеру вместе с двумя его генералами — Мьехой и Мирамоном. Хуарес предал его суду.
Когда эта новость достигла Европы и США, поднялась волна дипломатических протестов. Со всех концов пошли письма вождю мятежников. Никто не мог и мысли допустить, что тот надумает казнить родного брата императора Австрийского, европейского принца. Но Хуарес — индеец, для него враг всегда оставался врагом. Максимилиана и двух его генералов приговорили к смертной казни.
19 июня 1867 года императора и двух других приговоренных вывели из тюрьмы. Максимилиан, одетый во все черное, гордо нес орден Золотого руна. Выйдя за порог тюрьмы, он поднял глаза к прекрасному небу цвета бирюзы:
— Какой сегодня хороший день! Лучшего дня для смерти выбрать невозможно.
Затем, услышав звук трубы, повернулся к генералу Мьехе: — Это что, сигнал к казни, Томас? Мьеха покачал головой и отважно улыбнулся:
— Не знаю, сир. Меня казнят в первый раз. Когда на городских часах пробило семь,
воздух разорвало ружейным залпом. Трое мужчин упали на землю. Последние слова свергнутого императора были:
— Бедная Шарлотта… До 16 января 1927 года, до возраста девяноста шести лет, несчастная Шарлотта несла свой крест. Ночи, ее поглотившей, не суждено кончиться никогда. Неустанно, изо дня в день, писала и переписывала она одно и то же письмо — крик любви к тому, кого уже не было не свете…
Однажды ночью, под строжайшим секретом императрица, которую все считали бесплодной, произвела на свет мальчика. Его немедленно у нее забрали, и за ним той поры издали и молчаливо присматривал бельгийский двор. Но это уже совсем другая история.
Две жертвы Майерлинга
СТЕФАНИЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ, СУПРУГА РУДОЛЬФА
Наступил день 10 мая 1881 года. Этот встававший над Веной день выдался хмурым, облачным, грозил дождем. В этот ранний час во дворце Шенбрунн проснулись только слуги — слуги и охрана. В одной из больших комнат на втором этаже молодая девушка наблюдала за наступлением грустного дня, — вообще–то, он должен стать самым праздничным днем ее жизни. Стоя на полу голыми ногами, белокурые волосы заплетены тщательно, она пряталась в складках огромных бархатных штор, любуясь парком и оставаясь никому не видимой.
Девушка эта была очень молода, всего шестнадцать лет, голубые глаза еще очень спокойны, полны простодушия и восхищения, — несмотря на дождь, ей так нравился великолепный цветущий парк. А дворец тоже замечательный — весь такой позолоченный, столько шикарной мебели, тяжелых Драпировок, — но она не вполне уверена, что ей уже не жаль дорогого сердцу Дворца Лекен и царившей там семейной атмосферы. Однако именно в этом Дворце провела детство ее мать, прежде чем стать королевой Бельгийской; девушку звали Стефания, и ей суждено было именно в этот день выйти замуж за наследника австрийского престола эрцгерцога Рудольфа, одного из самых желанных для невест принца Европы.
До этого самого дня брак представлялся ей прекрасным приключением. Началось оно годом раньше — внезапным появлением гувернантки в учебном классе Лекена, где Стефания делала домашние задания. Ее увели оттуда без всяких объяснений и поручили заботам горничных; те очень быстро сняли с нее простое девичье платье и облачили в наряд, какого она никогда не носила. Причесали как взрослую девушку и впервые дали драгоценности. Потом, одетую так необычно, отвели в салон, где ее уже ждали родители и какой–то высокий молодой человек, с тонкими чертами лица, влекущими глазами, красивыми усами и в белом мундире полковника австрийской армии.
Королева Мария–Генриетта взяла дочь за руку и представила. Стефания, чрезмерно удивленная, взволнованная, не сумела произнести ни слова. Весь мир для нее странным образом переменился.
На следующий день, 5 марта, король Леопольд пригласил ее в свой рабочий кабинет: — К нам приехал эрцгерцог Рудольф — просить твоей руки. Твоя мать и я благосклонно относимся к этому браку и были бы счастливы видеть тебя в будущем императрицей Австрийской и королевой Венгерской. Но, полагаю, только ты сама можешь распоряжаться своей жизнью. Ступай, подумай, а завтра дашь мне ответ.
Стефания, разумеется, не спала всю ночь, но наутро дала ответ, который полностью совпадал с желаниями родителей. Прекрасно воспитанная, не добавила при этом, что известие о замужестве доставило ей нежданную радость и неопытное сердце бьется сильнее при одном упоминании имени Рудольфа. Мать в самом деле воспитала ее в строгих правилах, можно даже сказать — выдрессировала с прицелом на будущее правление. И юная принцесса уже умела скрывать свои потаенные чувства под спокойным, почти бесстрастным выражением лица.
Последующий год пролетел словно в сказке. Пришлось, естественно, учить венгерский язык, приобщиться к правилам и обычаям венского двора; зато Стефания получила много богатых подарков от жениха, — видела она его, может быть, и мало, но он вел себя с ней нежно и ласково. Конечно, уже очень влюбленная, она предпочла бы, чтобы к ней относились как к женщине, а не девочке, с оттенком ласковой снисходительности, но дала себе слово, что заставит его переменить отношение к себе. Разве она не красива? — той белокурой красотой, что, возможно, кажется несколько холодной, но в ней так важны блеск кожи, цвет глаз, сверкание волос. И вот однажды вечером, спустя несколько дней после ее шестнадцатого дня рождения и приезда в Вену, Рудольф прислал под ее окна большой оркестр для исполнения серенады — тогда Стефания решила, что своего до6илась. Только влюбленному жениху придет в голову столь романтическая идея.
Путешествие в Австрию тоже оказалось очаровательным. Приветствия народа наполнили радостью сердце юной бельгийской принцессы. Повсюду флаги, звучат фанфары, раздаются приветствия, всюду дарят цветы… Встречать ее вышла вся Австрия — Рудольф, ожидавший невесту у переправы через Дунай, казался счастливым.
Именно там будущую супругу наследника трона представили тем, кто станет ее приемными родителями, — императору Францу–Иосифу, заметно состарившемуся под тяжестью власти, но по–прежнему импозантному, и императрице Елизавете, знаменитой своей красотой, которая бросала вызов времени.
Рудольф так похож на мать: ее лицо и выразительные глаза, ее поистине императорская величавая осанка. Стефании сразу захотелось понравиться этой женщине, во всем на нее походить, исключая, возможно, неуемное стремление к перемене мест. Она–то, Стефания, намерена никогда не разлучаться с супругом, не бросать свои обязанности монархини, чтобы в одиночку странствовать по свету.
Глядя, как дождь заливает сады Шенбрунна, Стефания думала: приближается долгожданное событие, еще несколько часов — и она замужем…
На мгновение мысли перелетели на ее тетку Шарлотту — когда–то она вот так же ждала в одной из комнат этого дворца желанного часа, когда судьба соединит ее с прекрасным эрцгерцогом… Шарлотта свергнута со своего экзотического трона и живет теперь с навеки помутненным разумом взаперти — в замке Бушо в Бельгии… Стефания сразу отогнала гнетущий образ. В ее жизни ничего подобного не произойдет, она будет счастлива, бесподобно счастлива!..
Из раздумий ее вывел чей–то торжественный голос:
— Ваше Высочество уже встали? Это хорошо, Вашему Высочеству пора готовиться. Но вы рискуете простудиться…В комнату вошла главная фрейлина императорского двора княгиня Шварценберг. Стефания застенчиво улыбнулась ей:
— Вы правы, княгиня, я, кажется, и впрямь озябла.
Спустя несколько часов, в расшитом серебром белом парчовом платье, под прекрасными брюссельскими кружевами и знаменитых украшениях из опалов и бриллиантов, принадлежавших ранее эрцгерцогине Софии, а потом императрице Елизавете, Стефания присоединилась к Рудольфу на хоралах церкви Августинцев, украшенной цветами и сияющей сотнями свечей. С ослепительной улыбкой она протянула руку тому, кто станет ее мужем…
По окончании празднеств согласно установившейся традиции молодожены отправились в Лаксенбург, летний замок южнее Вены. Стефания, вымотанная усталостью и волнениями утомительного дня, показавшегося ей пыткой, надеялась очутиться с мужем в тихом уютном гнездышке. Однако надежды шестнадцатилетней эрцгерцогини не сбылись: Лаксенбург не походил на любовное гнездышко. Никому, видно, и в голову не пришло подготовить его для медового месяца: никакого уюта, одни холодные, враждебные комнаты… Ни единого цветка — атмосфера Лекена, всегда украшенного массой цветов и содержавшегося в типично бельгийской чистоте, так далека!
На пороге ледяного дворца Стефания почувствовала, как горло ее сжали рыдания. Теперь ей понятно, что хотела сказать ее сестра Луиза, давно — и так неудачно! — вышедшая замуж за Филиппа Кобургского, напарника Рудольфа по развлечениям. Прощаясь, сестра обняла ее и прошептала: — Держись, Стефи! Это всего лишь дурное мгновение, его надо пережить!
«Дурное мгновение»? Как можно назвать дурным мгновением первые часы интимной близости молодоженов? Филипп, конечно, грубое животное. Но Рудольф, ее дорогой, любимый Рудольф?..
По правде говоря, в тот вечер он мало походил на любимого Рудольфа. По прибытии в Лаксенбург сразу начал ругаться: отчитал слуг и потребовал подать ужин. Мрачный это был ужин, смертельно уставшие молодожены перебросились всего двумя–тремя словами. Стефания благодаря своему королевскому воспитанию сдерживалась, чтобы не разрыдаться и не показать мужу, до какой степени она разочарована. Ждала нежных слов, ласки, но Рудольф, встав из–за стола, ограничился тем, что сказал ей, правда, с улыбкой:
— Пойду, покурю в бильярдной. Скоро я к вам присоединюсь.
Последовавшая за этим ночь оказалась катастрофой. Привыкший иметь дело со страстными и умелыми любовницами — кстати, он охотно выбирал их из цыганок, — Рудольф нашел маленькую бельгийку очаровательно слишком целомудренной. Ему бы проявить куда больше нежности и терпения в решающий миг, когда девушка становится женщиной. Стефания внушала ему некоторую симпатию, но он не был по–настоящему влюблен и к тому же очень нетерпелив. Брачная ночь для него лишь очередная пустая формальность, и он исполнил свой супружеский долг с кавалерийским наскоком.
Утром замужняя Стефания поняла, что муж, несмотря на ее горячую любовь к нему, не питает к ней никаких нежных чувств, — и ощутила себя бесконечно одинокой. Вспомнила, как сестра Луиза убежала на заре из брачных покоев и спряталась, рыдая в отчаянии, в оранжереях Лекена. Неужели судьбой предопределено, что все принцессы в первые часы после свадьбы переживают одни тяжелые моменты?
Честно говоря, Луиза, кажется, уже привыкла к Филиппу и к венской жизни. Элегантная и расточительная, пользовавшаяся большим успехом у мужчин, она больше не занималась супругом. Именно она посоветовала приударявшему за ней Рудольфу взять в жены младшую сестру:
— Она похожа на меня — она тебе понравится…
Понравиться ему — это, казалось Стефании, ей никогда не удастся…
И правда, не суждено ей было ни понять мужа, ни стать понятной ему. И ретроспективно трудно обвинить в этом Стефанию. Кто вообще мог бы понять Рудольфа? Человек неуравновешенный, не умный, стремившийся к невозможному, склонный к насилию, он страдал навязчивой идеей смерти и инстинктивно ненавидел все, что Стефанию научили уважать: преданность, двор, твердые принципы. Его передовые, даже революционные идеи беспокоили императора так же сильно, как его связи, многочисленные любовницы и явная предрасположенность к некоторым порокам. В нем жило постоянное стремление убивать, выражавшееся в чрезмерной любви к охоте, — убивал все находившееся в пределах досягаемости его ружья. Постоянно, на глазах охваченной ужасом Стефании, он убивал в парке Лаксенбурга птиц, ланей, косуль, охваченный жаждой уничтожения, которая внушала отвращение его юной супруге. Больной человек с экзальтированным воображением не способен был ужиться с юной мирной принцессой, выросшей на принципах доброты. Но этого Стефания не знала. И все же проявляла столько нежности, доброй воли, что из–за нее он на какое–то время умерил свою жестокость. Потом, она так очевидно и так трогательно его любила. Два месяца семейная жизнь протекала без инцидентов и даже в некотором согласии, казавшемся почти полным.
Император послал их в Прагу, где Стефания великолепно справилась со своей ролью супруги наследника, хотя чехи привели ее в некоторое замешательство. Она была полна достоинства, доброты, грациозности и обладала обостренным чувством своего положения. Ничто не отвращало ее, не утомляло, когда речь заходила о ее «ремесле будущей императрицы». По–видимому, оно ей нравилось, и, возможно, именно это отдаляло ее все сильнее от Рудольфа: наследный принц Австро–Венгрии ненавидел свою будущую роль.
Стефании в Праге понравилось. Древний королевский замок Градшин мрачноват, но живописен, страна замечательная, а Рудольф мог недели проводить на охоте в лесах. Когда в начале 1883 года Стефания объявила о своей беременности, все вполне могли предположить, что молодая семейная пара счастлива.
Увы, 2 сентября родилась девочка, ее назвали Елизаветой. Отчаявшаяся Стефания рыдала от стыда, что не смогла произвести
свет столь желанного наследника; Рудольф успокоил ее с неожиданной нежностью:
— Девочка — это прелестно. Позже у нас появится и мальчик. Ты ведь знаешь, мама родила двух девочек, прежде чем я появился на свет.
Слезы Стефании мгновенно высохли. Уж если он доволен, она — тем более. Разве она не живет только для него, чтобы он любил ее и гордился ею? Возможно, хрупкое счастье в Праге продлилось бы — Рудольф, имевший там любовниц, тщательно их скрывал. Но почти сразу после рождения маленькой Елизаветы Франц Иосиф вызвал супругов в Вену. Для Стефании это стало концом счастья, началом нравственных страданий. По прошествии нескольких недель она с горечью пожаловалась сестре Луизе:
— Я его не вижу дома — никогда! Он устроился в небольших покоях в другом крыле дворца, куда никто, даже я, не имеет права доступа. Его камердинер Лошек всегда начеку, поверь мне.
Луиза Кобургская молча выслушала горести сестры. Стефания не сообщила ей ничего нового. Вся Вена уже знает — эрцгерцог ведет независимый образ жизни, ничего общего не имеющий с семьей. В удаленные покои дворца Хофбург, столь Ревностно охраняемые Лошеком, толпами ходили красивые женщины — актрисы, певицы, танцовщицы и даже знатные дамы — все женщины Вены без ума от Рудольфа.
— Почему бы тебе не поговорить с ним? — откликнулась наконец Луиза. — Дай ему понять, что чувствуешь себя одинокой.
— Ему со мной скучно, прекрасно знаю. Как и то, что недостаточно ослепительна. Его красивые подружки не стесняются называть меня «фламандской крестьянкой». Ты думаешь, когда я играю свою роль при дворе, не замечаю улыбок, торжествующих взглядов этих женщин… не знаю, что каждую ночь Рудольф уезжает из Хофбурга в фиакре, с кучером по имени Братфиш; и направляется к одной из своих любовниц, если только не едет к Сашеру ужинать с …
— …с моим дорогим супругом и с графом Хойосом, — со смехом закончила Луиза, — эта троица неразлучна. Но, по праву, Стефи, ты не должна так расстраиваться за этого! Ты — его жена, и он тебя ценит Знаю, сам мне сказал. Пусть не очень тебе верен — ерунда! Настанет день, когда он сделается императором, а ты — императрицей. И тогда его поглотят государственные дела, а Братфишу придется подыскивать другую работу. Рудольф дорожит тобой, ты знаешь, и притом…
Фраза получилась неловкой — Стефания зарыдала и уткнулась лицом в подушку канапе.
— Дорожит, знаю… Но я ведь люблю его… так люблю!
Ровный, холодный голос фрейлины — появления ее они не заметили — внезапно положил конец сетованиям эрцгерцогини:
— Его Величество ждет Ваше Высочество по случаю приема венгерской делегации.
Стефания выпрямилась, тщательно осушила покрасневшие от слез глаза, с отчаянием посмотрела на сестру и героически заставила себя улыбнуться.
— Ждет, это верно, — произнесла она со вздохом. — Есть здесь по крайней мере один человек, которому я нужна, — император.
В самом деле, после возвращения в Вену на Стефанию легли многочисленные официальные обязанности. Супруга наследника престола постоянно заменяла вечно где–то блуждающую императрицу, эгоистично отказывавшуюся нести бремя ненавистных обязанностей. Кстати, она не выражала невестке ни малейшей признательности. И Стефания, вооруженная своей вечной улыбкой, кому–то казавшейся глупой, без устали выполняла утомительные придворные обязанности: принимала, открывала, председательствовала, удостаивала своим присутствием балы в посольствах и фольклорные праздники…
За эту непомерную безропотную работу признателен ей был один только Франц Иосиф: восторгался мужеством двадцатилетней принцессы, которая с такой смелостью старалась выполнять труднейшую работу вице–императрицы. Заставить делать это не удавалось ни Сисси, ни Рудольфа, они проявляли тут откровенную нелюбовь. А Стефания, как и сам старый император — покладистый работник власти, и Франц–Иосиф часто сожалел, что она не парень и не его сын.
К несчастью, эта утомительная деятельность подрывала здоровье молодой женщины. Первые роды, очень трудные, повлияли на ее хрупкое здоровье, и врачи опасались, что она не сможет больше иметь детей. Страх перед этим настолько прочно засел в мозгу императора, да и Рудольфа тоже, что для нее сделали некоторое послабление в режиме императорской тюрьмы — Стефания получила возможность время от времени отдыхать.
Стали ее видеть на острове Джерси, в Лакроме, в замке Мирамар, что близ Триеста, но чаще всего — в Аббазии, на Далматинском берегу. Но всегда одну, как и императрицу Елизавету, или в обществе сестры Луизы. Понемногу покинутая принцесса начала привыкать к своим каникулам. В Аббазии она дышала — вдали от мрачных стен Хофбурга. У нее появилась возможность быть почти такой же, как все остальные, — молодой дамой, отдыхающей с маленькой дочерью, а это замечательно… Тем более что жизнь в Вене, особенно пребывание рядом с Рудольфом, становилась все невыносимее — все чаще происходили ужасные сцены.
— Ты боишься умереть? — спрашивал он ее иногда. — Это ведь так просто, Стефания! Смотри: небольшое движение пальцем, легкое нажатие на этот вот кусочек железа — и все кончено…
Под взором жены, полным ужаса, Рудольф, с помутившимися глазами, вертел в руках дежурный револьвер… Уже не в первый раз играл он перед ней этим смертельным оружием. Но она, даже если и боялась его, старалась ничего не показывать, чтобы не будить жестокость в этом странном сердце.
— Ты не должен так говорить, — холодно произносила она. — Принц еще менее простого смертного имеет право распоряжаться своей жизнью. Для него долг превыше всего.
— «Долг»! У тебя только это на уме, Стефи! Ты похожа на моего отца, вы с ним чудная парочка: оба погрязли в респектабельности и соблюдении этикета!
— Когда правишь страной, это намного лучше, чем погрязнуть в пьянстве и разврате! — с презрением отвечала молодая женщина.
В тот день Рудольфом овладел ужасный приступ гнева — жена старалась не обращать внимания. Впрочем, в последнее время эти приступы стали усиливаться, принимать устрашающие формы. Эрцгерцог много пил, не спал ночами, разрабатывая вместе с друзьями–журналистами и кузеном, революционно настроенным эрцгерцогом Яном–Сальватором, планы, представлявшие опасность для государства. Эти планы, навеянные чрезмерным великодушием и либерализмом, заслуживали по меньшей мере уважения за вложенное в них чувство человеческой солидарности. Становясь с каждым днем все беспокойнее и испуганнее, полностью утеряв связь с отцом, отупев от работы и от удовольствий и потому заболевший, Рудольф прожигал жизнь, и каждый прожитый день прививал ему все больший вкус к смерти — понять этого мирная Стефания никак не могла. Да и кто посмеет упрекнуть в этом двадцатилетнюю женщину?
Иногда на мрачном небе семейных отношений случались прояснения, как в тот день 1886 года: в сопровождении Филиппа и Луизы Кобургских семейная пара торжественно открывала новый охотничий домик Майерлинг, в окрестностях Вены. В тот день Рудольф весел, раскован, очарователен, каким так умел быть… К несчастью, просветление оказалось недолгим — семья снова стала погружаться в ад; Стефания все чаще старалась из него вырваться, отправляясь в Аббазию. Скандал следовал за скандалом, один яростнее другого, и во время них Рудольф терроризировал принцессу, грозил убить сначала ее, а потом и себя.
Ситуация стала еще хуже в конце 1887 года, когда германская кузина Рудольфа, графиня–интриганка Лариш–Валлерзее, представила принцу шестнадцатилетнюю девушку из семьи, принадлежавшей к мелкопоместному дворянству и породнившейся с богатыми восточными буржуа. Звали ее Мария Ветсера — брюнетка, с огромными голубыми глазами, а Рудольф всегда питал слабость к брюнеткам. Очаровательная, юная и явно влюблена в принца… Не прошло и года, как Мария стала постоянной гостьей апартаментов в Хофбурге, куда Стефания так и не смогла попасть. К ней Рудольф воспылал страстью, но этот каприз не отлучил его, однако, от других любовниц. Среди них — актриса Митци Каспар, с ней он часто проводил ночи.
Жизнь Стефании превратилась в пытку. Мария, светясь от гордости, бесстыдно выставляла напоказ свою победу и нагло бросала вызов эрцгерцогине, когда та встречалась с ней в Опере. В этом ее поддерживала мамаша, женщина крайне честолюбивая и уже видевшая дочку императрицей, несмотря на более чем скромное происхождение, не дававшее ей права даже присутствовать на придворных балах. Но ведь ходили слухи, что Рудольф, отчаявшись иметь наследника мужского пола, попросил Папу Римского расторгнуть его брак.
Год 1888–й заканчивался грустно. После Дня святого Николаса Стефания уехала на несколько дней в Аббазию, надеясь обрести там ускользавшее душевное спокойствие. Однако ей пришлось вернуться в Вену в первых числах января — императрицы опять не было там, ее надо было заменить. Увидев Рудольфа, она пришла в ужас: еще более возбужден и более раздражителен, чем обычно, взгляд как у затравленного зверя… Казалось, им двигала какая–то внутренняя сила, контролировать которую он уже не в состоянии. Все ночи он проводил вне стен дворца.
Двадцать шестого января он заявил жене, что на следующий день намерен ехать на охоту в Майерлинг. Не спрашивая зачем, Стефания попыталась его отговорить: он так бледен, возбужден — явно болен…
— Вот именно! — возразил Рудольф. — Мне так нужен чистый воздух…
Но эти слова не успокоили ее смутную тревогу.
— Очень хотела, чтобы он отказался от этой охоты! — поделилась она с сестрой. — Не знаю почему, но мне страшно…
Эрцгерцогиня и впрямь была очень взволнована и возбуждена: двор полон ужасных слухов. Говорят, Рудольф вызвал сильное недовольство императора — недопустимо сдружился с венгерскими бунтарями… Поговаривают даже о некоем заговоре против императора, а еще — что Рудольф постоянно твердит о смерти…
— Коли ты так боишься, — посоветовала Луиза, — поезжай вместе с ним в Майерлинг…
— Я предложила ему, но он не хочет. Говорит — я слишком глупа и боюсь его огнестрельного оружия.
— Хватит, не стоит так себя изводить! Ты делаешь из мухи слона. Кстати, чего ты опасаешься? Филипп и Хойос тоже собираются поехать на охоту в Майерлинг, они за ним приглядят…
Стефания встала, вытерла слезы, подошла к зеркалу и поправила вуаль.
— Может быть, ты и права. А теперь надо пойти переодеться к балу у князя Реусса — мне снова предстоит заменить императрицу.
— Я тоже там буду! — подхватила Луиза. — Но перед одеванием постарайся немного отдохнуть — ты не очень хорошо
выглядишь.
На том вечере у немецкого посла князя Реусса эрцгерцогине Стефании предстояло жестокое, незабываемое испытание. В тот вечер вся Вена спешила в просторные салоны посольства; даже такие не столь знатные господа, как Ветсера, старались проникнуть хотя бы во двор. Рудольф по такому случаю облачился в мундир немецкого уланского полковника, а Стефания — в придворное платье, ведь она вместо императрицы.
И вот, обходя под руку с послом салон, эрцгерцогиня увидела случайно некую юную темноволосую особу, буквально с головы до ног увешанную драгоценностями. Отнюдь не признак хорошего вкуса, и явно свидетельствует о восточном происхождении. Девица эта глядела на нее с явным бесстыдством… Очень хорошо зная эти голубые глаза, супруга Рудольфа почувствовала — что–то сдавило ей грудь…
Но она сохранила внешнее спокойствие и проследовала дальше, раздавая приветствия, улыбки и любезные слова. Дамы приклоняли перед ней колени, кавалеры ей кланялись; когда она приблизилась к Марии Ветсере, горделивая дева отказалась поклониться. Пальцы эрцгерцогини сжали обшлаг рукава посла… Следует ли ей вынести публичное оскорбление от этой девчонки?
На какое–то время убийственные взгляды двух пар голубых глаз встретились. Среди присутствовавших уже поднимался возмущенный шепот. Стоявшая рядом с дочерью баронесса Ветсера пришла в ужас и принудила дочь поклониться, прекрасно представляя гнев императора и уже чувствуя ветер ссылки… В конце концов Мария присела в поклоне, но эрцгерцогиня уже прошла мимо.
Рудольф из осторожности предпочел держаться подальше от этой сцены, и за весь вечер супруги не перекинулись ни словом. Когда они покинули посольство, Стефания направилась прямо в Хофбург, а Рудольф поехал провести ночь с Митци Каспар, — кстати, ей, как она призналась позже, он предложил умереть вместе с ним.
Никогда больше Стефании не суждено было увидеть Рудольфа живым…
Никто и ничего не знает о сцене, очень долгой и, безусловно, бурной, которая на другой день имела место между эрцгерцогом и императором, но трагедия Майерлинга слишком хорошо известна, чтобы напоминать о ней. Известно, как именно закончил свою жизнь эрцгерцог Рудольф вместе с Марией Ветсерой, но сегодня все считают, что это драма скорее политического, чем сентиментального порядка. Мария Ветсера присоединилась на небе к известным любящим женщинам только потому, что единственная согласилась сопровождать Рудольфа в неизведанный загробный мир, куда он боялся отправляться в одиночестве. Для окаменевшей от боли Стефании эпилогом Майерлинга стало врученное чуть позже письмо, которое муж написал ей, перед тем как покончить с собой: «Дорогая Стефания, ты освободилась от моего мрачного присутствия рядом; будь счастлива в своем предназначении. Будь ласкова с бедной малышкой, она — единственное, что от меня осталось. Передай мой прощальный привет всем знакомым, в частности Бомбеллесу, Спиндлеру, Натуру, Ново, Жизель, Леопольду и т. д. Я спокойно принимаю смерть как единственный способ спасения моей репутации. Обнимаю тебя от всего сердца — любящий тебя Рудольф».
Стефания разом потеряла любовь своей молодости и все шансы когда–нибудь стать императрицей. Безмерно подавленная, она хотела вернуться в Бельгию, но против этого выступил император. Была принцессой Австрийской — принцессой Австрийской и останется!
Четыре следующих месяца после трагедии молодая вдова провела в Мирамаре — замке безумной императрицы, — замке, который, казалось, приносил одни несчастья. Жила она там со своей матерью, дочерью и двумя сестрами — Луизой и Клементиной. Затем переселилась в Аббазию, и постепенно о ней стали забывать.
Но именно там спустя несколько лет к ней пришла новая любовь — в лице привлекательного камергера венгерского происхождения графа Эльмера Лоньея де Наги–Лонья и Вазарш–Намени. Стефания вышла за него замуж 22 марта 1900 года, полностью порвав с отцом, королем Леопольдом II, тот до конца жизни не мог простить ей этот брак, в его понятии мезальянс.
Франц Иосиф оказался более понимающим и присвоил графу Лоньею княжеский титул. Умиротворенная Стефания познала наконец спокойную жизнь и прожила так до 25 августа 1945 года — того дня, когда навсегда покинула этот мир.
КУЗЕН РУДОЛЬФА ЯН–САЛЬВАТОР, ЭРЦГЕРЦОГ АВСТРИЙСКИЙ, КНЯЗЬ ТОСКАНСКИЙ
Однажды зимним вечером 1884 года, точнее, февральским вечером, трое мужчин собрались в небольшом узком и темном кабинете, расположенное на втором этаже дома, ничем не выделявшегося среди других домов на улице Ротентурмштрассе в Вене. Там стояла духота, спертый воздух полон запахов кухни, а к ним присоединялся запах свежей типографской краски для печати и сигаретного дыма — пепел уже наполнил три пепельницы. Никто не произносил ни слова; сидя на стульях, двое, те, кто помоложе — одному двадцать шесть лет, другому тридцать два года, — смотрели молча на третьего, маленького венгерского еврея, черноволосого, с бледным умным лицом, которое подергивалось от нервного тика, и близорукими глазами за толстыми стеклами очков. Облик его был, честно говоря, не блестящим, особенно если учесть, что дополнялся небрежной одеждой. Его лицо и одежда резко контрастировали со строгой элегантностью, красотой и изысканностью товарищей.
Однако именно на него они глядели с уважением, в котором читалось даже восхищение: вооружившись карандашом, он редактировал лежавшую перед ним стопку листов, энергично что–то вычеркивая, добавляя слово в одном месте, надписывая что–то в другом. При этом лоб сморщен от усердия, а глаза блестят за огромными стеклами очков.
Этого человечка звали Мауриций Шепс; вот уже несколько лет он руководил изданием либеральной газеты «Нойес винер цайтунг»; редакционные статьи ее, отличавшиеся непомерной резкостью и направленные против императорской политики (всегда анонимные), вызывали серьезную обеспокоенность императора Франца Иосифа и его министров. Шепс посвятил всю свою жизнь, недюжинный талант и скудные средства делу освобождения родной Венгрии, а попутно — политическому воспитанию своих современников. Статьи этого в некотором роде законченного борца за прогресс попахивали смутой, и, естественно, у автократии Габсбургов не было более злостного врага, чем он. И все же…
И все же двое наблюдавших за ним молодых людей, куривших сигарету за сигаре–той, принадлежали к тем, кого в Австрийской империи считали людьми наиболее образованными после самого императора. Тот, кто моложе других, не кто иной, как наследник престола эрцгерцог Рудольф. С Маурицием Шепсом его соединяла давняя дружба, если не сказать сообщничество. Другой молодой человек из этой троицы, еще более красивый, зрелый и куда более рассудительный, — его двоюродный брат Ян–Сальватор, князь Тосканский, младший сын эрцгерцога Тосканского Леопольда II и принцессы Марии–Антуанетты Бурбон–Сицилийской, сестры герцогини Беррийской. Он разделял дружбу кузена с Шепсом, существовавшие между ним и Рудольфом кровные узы подкреплялись единством политических взглядов. Оба эрцгерцога питали одни и те же надежды, исповедовали одинаковые бунтарские идеи, либеральные воззрения и горячее стремление к свободе. По мнению как одного, так и другого, великая Австро–Венгерская империя приближалась к своему концу, раздавленная возведенными в крайность службизмом и бюрократизмом. Вот и мечтали они оба освободить страну от конформизма, от слишком сурового зачастую полицейского режима, а императорские дворцы — от устаревшего этикета, введенного еще во времена Карла V с намерением скорее сломить волю людей, чем приучить их к почитанию Императорского Величества. Короче, кузены мечтали об установлении конституционной монархии вообще и о создании для отдельных входивших в империю стран некой федерации объединившихся королевств — управление ею оказалось бы, видимо, весьма трудным делом.
Единственное, в чем они расходились, — способ выражения идей. Рудольф, экзальтированный и слабовольный, испытывавший тяжелое наследие рода Виттельсбахов, переданное ему матерью, обладал, вероятно, постоянством взглядов, столь необходимым великому монарху. Напротив, у Яна–Сальватора холодный, новаторский склад ума дополнялся страстной любовью к делу человечества. Красивый мужчина тридцати двух лет, способный воспринять великие революционные идеи, он представлял собой личность с любопытным смешением характеров: образованного, любящего искусство кондотьера и безжалостного принца времен Возрождения, писателя и воина; имел еще и задатки великого стратега и полководца.
Был он высок и строен, а смуглое лицо с горящими глазами, обрамленное короткой черной бородкой, легче представить над накрахмаленным кружевным воротником, чем над мундиром австрийской армии. Со своей неотразимой улыбкой, Ян–Сальватор, как и его кузен Рудольф, служил героем романтических мечтаний всех красивых обитательниц Вены.
Однако в эти минуты отнюдь не женщины составляли его главную заботу, ведь стопка листов, которую редактировал Шепс, — его творение; он сурово обвинял методы воспитания в австрийской армии, о чем говорил сам заголовок — «Дрессировка или воспитание?..»
Наконец Шепс бросил карандаш, собрал листки, подровнял их, постучав по столу, снял очки, тщательно протер стекла и поднял близорукие глаза на автора — эрцгерцога.
— Великолепный труд! Но в нем достаточно пороха, чтобы взорвать если не Вену, то по крайней мере Хофбург! Я все думаю — как воспримет это император?
— Ни в коем случае не хотелось бы доставлять ему неприятности — только побудить его прислушаться к голосу разума. С армией обращаются точно так же, как обращались с солдатами во времена Филиппа II. С этими красивыми мундирами, перьями и дисциплиной прошлого века, они не в состоянии отвечать требованиям современной войны. Годится только для парадов в Пратере и для смотров на городских площадях гарнизонов! Командиры — напышенные тупицы, наихудший из них, несомненно, генералиссимус, мой бестолковый кузен Альбрехт. Если нас отправят воевать — мы заранее проиграли. Надо все это
изменить!
— Поймите же, Шепс, — добавил Рудольф, — если ни у кого недостает смелости сказать императору правду, как же он, по–вашему, ее узнает?
Мауриций Шепс смотрел на обоих кузенов.
— Согласен с вами. Но, монсеньор, — добавил он, остановив взгляд на Яне–Сальваторе, — считаете ли вы необходимым подписаться под этой бомбой? До сих пор все статьи, которые вы соизволяли писать, были анонимными, равно как и ваши, Ваше Высочество. Почему бы не продолжать эту практику?
— Речь идет не о статьях в газете, а о книге, дружище Шепс. А ей нужен автор.
— А почему бы не взять псевдоним?
— Потому что у меня нет ни малейшей причины скрывать свое имя. Я — один из Руководителей этой армии. Думается, могу сказать о ней что–то, не так ли? Речь идет о жизни моих солдат и о моей собственной.
— Конечно, конечно… И все же я опасаюсь, что вы навлечете на себя серьезные неприятности. Императору ваша книга не понравится.
Ян–Сальватор рассмеялся.
— Знаю, черт подери! Но написал я это не для того, чтобы доставить ему удовольствие.
Шепс, как оказалось, беспокоился не напрасно: Франц Иосиф отнесся ко всему еще хуже, чем он опасался. Книгу молодого генерала, кстати довольно интересную, воспринял как личное оскорбление, потому что со своей стороны считал: армия его в совершенно удовлетворительном состоянии, даже несмотря на то, что регулярно терпит поражения.
Спустя несколько дней после выхода в свет своей книги Ян–Сальватор получил приказ уехать из Вены в Линц. Его отстранили от командования полком; взамен он получил пост менее значимый — заместителя командующего пехотными войсками в Верхней Австрии.
Это сведение счетов очень огорчили молодого человека. Готовился к строгой взбучке, то есть к тяжелой сцене в кабинете императора, а его он хорошо знал. Но от него предпочли избавиться, словно от какой–то незначительной помехи.
— Император нашел способ ранить меня как можно глубже, — сказал он Рудольфу. — Решил похоронить в провинциальной глуши! Это грозит засасыванием в глупую рутину.
— Линц вовсе не на краю света, — утешил его Рудольф — он безуспешно пытался умилостивить отца и еще хранил болезненное воспоминание о сцене, которой не удостоился Ян–Сальватор. — Это как раз между Веной и твоими землями Зальцкаммергут. В любом случае твое отсутствие никоим образом не повлияет на наши планы, и мы будем поддерживать постоянную переписку.
Слова наследника престола несколько приглушили горе кузена. Ему оставалось только смириться и набраться терпения. В конце концов настанет день, когда императора будут звать Рудольфом…
Впрочем, в том, что тот сказал, есть доля истины: Линц приближает его к замку Орта, где живет мать. А это место он предпочитает всем другим в мире.
На берегах Траунзее осень всегда наряжает окрестности в яркие краски — на золотом фоне ярко выделяются огромные темные ели. В то утро озеро играло голубыми отблесками в ярких лучах еще горячего солнца. Ян–Сальватор довольно рано выехал на верховую прогулку — решил максимально воспользоваться таким славным Деньком, тем более что его пребывание в Орте, с матерью, заканчивалось. Через несколько дней ему снова предстоит окунуться в гнетущую скуку Линца — об этом сегодня он предпочитал не думать.
Медленно, отпустив поводья на шею лошади, ехал он по дороге вдоль берега озера. Отсюда окутанные легким утренним туманом три замка Орта казались обителями снов; из трех замков тот, что он предпочитал, построенный на самом озере, походил на корабль с надутыми ветром парусами, поднимающим якоря перед выходом в открытое море…
Ян–Сальватор любил этот живописный дом — башни его увенчаны колокольнями нежного серого цвета, в форме луковиц. Он крепкий, надежный дом, и в нем эрцгерцог чувствовал себя лучше чем где бы то ни было. Возможно, из–за этого длинного, узкого моста — единственной связи с берегом. Кроме того, это его личные владения.
— Поселить бы там супругу, детей! — вздыхала иногда мать. — Почему бы тебе не жениться, Джанни?
— Потому что девушки нагоняют на меня скуку… ни одна из тех, кого я знаю, не похожа на вас!
— Тебе ведь уже за тридцать. Пора наконец создать семью — свою собственную семью!
— И что я ей оставлю? Наше положение — незаконнорожденных — ведь мы всего лишь итальянские кузены, принятые из чувства милосердия после потери Тосканского княжества. Нет, мама, не хочу я жениться! Мои девять братьев и сестер позаботятся о вас и подарят вам столь желанных внуков. А я желаю оставаться свободным, коли не удается быть счастливым.
Пока он ехал по дороге, думал обо все этом… а еще о Вене, откуда вот уже год получал лишь редкие и короткие письма. Новости, которые до него доходили, вовсе ему не нравились: лишившись его поддержки, Рудольф вел неприличную жизнь, растрачивая никому не нужную славу на вино и женщин; бросил Стефанию, свою жену–бельгийку, и менял любовниц.
В те два раза, когда Яну–Сальватору разрешили приехать в Вену, ему не удалось серьезно поговорить с принцем; равно как и с Шепсом — за ним пристально следила полиция. Единственное чувство, остававшееся живым в скучном существовании эрцгерцога, — ненависть к Францу Иосифу, суровому и упрямому старику, не желавшему снимать с себя шоры. Ян–Сальватор страстно желал ему смерти: пусть наконец правит Рудольф. Неожиданные мрачные мысли, постепенно захватывающие его разум, улетучились: там, на берегу озера, кто–то поет… Обожавший музыку, он машинально остановился послушать необычайно чистый, Удивительно свежий голос. Кажется, он исходит из самого озера словно из воды появилась ненадолго сирена, чтобы насладиться красотой утра. Всадник приблизился на несколько шагов, проехал через рощицу и увидел наконец певицу: сидит у самой воды, обхватив руками колени, и поет, глядя на сверкающую воду, — поет просто, естественно, как птичка на ветке дерева; это песня Шуберта «Липа»…
Ян–Сальватор тихо слез с лошади, привязал ее к дереву и пошел через кусты, стараясь, чтобы его не заметили. Сначала он увидел только густые, блестящие черные волосы, каскадами ниспадавшие на светлое синее платье; но вот певица, услышав звуки шагов, обернулась… О, как она хороша: прелестная золотистая кожа, большие темные глаза, длинные ноги, чудная фигура и красные, как гранатовый сок, губы. Видя, что он разглядывает ее, девушка (на вид лет шестнадцати), конечно же, улыбнулась незнакомцу, столь прекрасному и явно ею очарованному.
— Здравствуйте! — весело проговорила она. — Вы едва не напугали меня…
— Почему «едва»? Может быть, лучше бы вам испугаться по–настоящему: а вдруг я опасный тип?
— Вот уж нет, вы добрый человек! К тому же для преступника сейчас очень светло — они ведь любят темноту и ухабистые дороги.
— Разрешите мне посидеть рядом с вами?
— Почему бы нет — места здесь так много, — и обвела рукой лужок, — а солнце светит для всех…
Какое–то время молчали, любуясь озером, которое блестело все сильнее.
— Что же вы больше не поете? — задал вопрос Ян–Сальватор несколько минут спустя. — У вас такой красивый голос! Мне редко доводилось слышать более чистый. Кроме того, вы умеете им пользоваться. Вы этому где–то учились?
— Естественно, ведь я певица, — вернее, намерена ею стать. Через месяц я дебютирую в венской Опере. — В тоне ни капли хвастовства. — Если вам нравится мой голос, приходите меня послушать.
Эрцгерцог немедленно пообещал прийти послушать свою новую знакомую. Зовут ее Людмила Штубель, коротко Милли, она из хорошей буржуазной семьи. Простая и веселая, как горный ручеек, она беспрестанно, с большой живостью говорила; слушая ее, Ян–Сальватор спрашивал себя, не послала ли ему судьба ответ на тревожные вопросы его по–прежнему свободного сердца. И вдруг понял: уж если и суждено ему полюбить — только эту обворожительную, чистую душой девушку, которая так дружески глядела на него сквозь густую завесу темных ресниц.
Возможно, предчувствуя, что ей суждено занять важное место в его жизни, и из–за своей врожденной итальянской недоверчивости — надо изучить получше молодую незнакомку — он не сообщил ей своего настоящего имени, назвался Иоганном Мюллером, инженером: сейчас в краткосрочном отпуске, гостит у друзей, они живут на берегу озера.
Милли тоже рассказала о себе: отдыхает с семьей в соседнем населенном пункте, под названием Гмунден. Через несколько дней ей предстоит ехать в Вену, где ее, вполне вероятно, ожидают слава и бурная жизнь оперной примадонны.
А пока молодые люди по взаимному согласию решили встречаться каждое утро на том же месте все оставшиеся дни начавшейся недели.
Но по окончании этой и трех дней следующей недели о дружбе между Яном–Сальвадором и Милли речи уже не шло. Вполне реальные люди, привыкшие трезво анализировать свои чувства и поступки, очень скоро они ясно поняли, что любят друг друга большой, искренней и щедрой любовью. Эта любовь так чудесна — в течение следующей недели Милли по простоте души не отказала тому, кто полюбил ее на всю жизнь, в чем сама
была совершенно уверена. Естественно, она стала его любовницей, наивно продолжала его считать Иоганном Мюллером.
Яном–Сальватором овладела любовь столь неохватная и сильная, что он не стал больше играть роль венского мещанина инженера Иоганна Мюллера — за день до разлуки открыл Милли свое настоящее имя. Да, она отдалась не простому парню, а принцу, но, честно говоря, признаваясь ей, он испытывал некоторое опасение: как честная, открытая девушка отнесется к явному, вообще–то, обману? Пусть и первому, но кто поручится, что за ним не последуют другие.
Девушка очень, конечно, удивилась, но молодого человека умилила ее естественная реакция:
— Не все ли равно, принц ты или мещанин! В любом случае певица не создана для брака. Мы можем принадлежать друг другу без скандала. В Вене никого не удивишь тем, что эрцгерцог имеет любовницу певицу, а я никогда ничего не стану от тебя ждать, кроме твоей любви!
— Ты прекрасно знаешь, Милли: любовь моя останется с тобой, пока я жив! Но мне так хотелось бы, чтобы ты стала моей женой!
— Людмила Штубель — эрцгерцогиня Австрийская? Ты ведь знаешь, это невозможно. Даже когда твой кузен, принц Рудольф, станет императором, он не позволит тебе совершить столь безумный поступок. Но ведь мы и так счастливы, разве этого мало? Удовольствуемся же этим…
— Пусть так, но позволь мне, по крайней мере, представить тебя моей матери! Она замечательная — она все поймет!
И накануне отъезда в Вену будущая певица Оперы вступила, ни жива ни мертва от страха, в большой замок Орта, чтобы присесть в реверансе перед бывшей великой герцогиней Тосканской. Несомненно, трусила она намного больше, чем если бы представлялась лично императору. Однако все прошло очень просто.
— Мама, — сказал Ян–Сальватор, — вот Милли. Она поет словно ангел. Она любит меня… а я люблю ее!
— Значит, я тоже ее полюблю, — прозвучал спокойный ответ.
До самой ночи взволнованная и смущенная Милли пела для матери и сына.
В Вене девушка сразу добилась больших успехов. Что касается того, кого она звала теперь Джанни, как и мать, он стал наведываться в столицу намного чаще, самолично выдавая себе разрешения, — впрочем, никто и не думал отказывать в них полковнику. Они с Милли не могли жить вдали друг от друга без ужасных страданий.
В Вене эрцгерцог виделся с Рудольфом — тот все продолжал метаться между любовницами и Маурицием Шепсом, по–прежнему находившимся под надзором полиции. Но напрасно Ян–Сальватор на это шел — вскоре наверху решили, что приезды его слишком уж часты. В один прекрасный день молодому человеку дали понять, устами его генерала: столь частые отлучки из Линца нежелательны. Это катастрофа: как видеться с Милли, если въезд в Вену ему запрещен?! Решение нашла Милли, и это решение позволяло по достоинству оценить глубину ее любви.
— Я сама приеду к тебе! — без колебаний и без пафоса заявила она.
И так же естественно, как она отдалась ему, бросила свою великолепную карьеру, распрощалась с Оперой и приехала похоронить себя в глухой провинции, чтобы там незаметно жить с любимым, пусть и принцем.
— Отныне ты — моя карьера! — объяснила она, бросившись к нему на шею на перроне вокзала Линца. — Мне ничего больше в жизни не остается, только любить тебя!
Для ссыльного истинное счастье; но мужчинам не свойственно удовлетворяться собственной судьбой, и, как ни велико это счастье, оно не утоляло в душе эрцгерцога жажду власти. Тут ему как раз представился подходящий случай: болгары низложили своего короля и стали искать нового монарха.
А Болгария, занимавшая ключевое положение на Балканах, всегда была в центре внимания Яна–Сальватора и Рудольфа, подготовивших проект федерации государств. После краткой переписки с кузеном возлюбленный Милли внезапно решил выставить свою кандидатуру на оставшийся вакантным трон. Сделал он это открыто с некоторой бравадой в адрес судьбы, — надеялся наконец отомстить Францу Иосифу. Но отомстить императору невозможно — с ним никто не боролся… Мало того что Ян–Сальватор не стал королем Болгарии — он снова испытал на себе ужасный приступ императорского гнева.
Того, кто мог бы стать одним из выдающихся европейских стратегов, освободили от всех военных должностей, уволили без предварительного уведомления из армии. Ему также вручили приказ выехать на проживание в замок Орт. Несмотря на нежное присутствие Милли, удар был ужасен. Ян–Сальватор почувствовал себя побежденным, уничтоженным — конченым человеком. И не захандрил после этого вертикального падения скорее не от любви, а от ненависти. Вместе с Рудольфом — они часто тайно встречались, тот грыз удила в Вене — вступил в заговор против императора; это уже попахивало государственной изменой.
Кузены обратили свои взоры и надежды на Венгрию, постоянно находившуюся в полуреволюционном состоянии. Стали подстрекать венгров к восстанию, с тем чтобы в результате Рудольф увенчал голову венгерской короной, а Ян–Сальватор ограничился короной Австрии или выкроил для себя королевство Истрии и Долматии. Оба хотели создать федерацию, которая простиралась бы от озера Констанс до Эгейского моря.
Для них тайно заработали печатные станки Шепса, зароняя зерна в умы людей, поддерживая надежды. В это время Ян–Сальватор, ставший коммивояжером федерации, постоянно вращался вместе с Милли вне границ Австрии, налаживая контакты, помогая интеллигенции, заручаясь поддержкой. Он снова испытывал наслаждение жизнью — ведь все его надежды отныне стали вроде бы реальными. А потом… Зимним утром отголоски ужасной новости подняли бурю над озером Траунзее — озером первой любви, где Джанни и Милли остались встретить рождественские праздники. От этой новости эрцгерцог едва не умер: в Майерлинге Рудольф только что покончил с собой вместе с юной баронессой Ветсера — ее толкнула в его объятия несколько месяцев до того его кузина — интриганка графиня Лариш–Валлерзее.
Ян–Сальватор долго размышлял: что же произошло на самом деле? Действительно ли Рудольфа толкнула на этот безрассудный шаг любовь или раскрытый венгерский заговор вынудил принца покончить с собой из опасения, что у него в любой момент могут возникнуть серьезные неприятности… Дела в Венгрии стали такими опасными — не решился ли сын Франца Иосифа уступить судьбе одним лишь путем, который принесет ему победу над отцом… Или же дело Ветсеры лишь повод, алиби, призванное замаскировать настоящую трагедию уничтожения опасного заговорщика…
Так или иначе, жертвами выстрелов в Майерлинге стали четыре человека: когда прошел первый порыв отчаяния, Ян–Сальватор отреагировал столь же странно, сколько и непредсказуемо.
— Я больше не должен… не могу… никогда уж не сумею вести такую жизнь, как до этого! — сказал он Милли. — Я отрекаюсь от титула эрцгерцога, а также от титула Императорского Высочества. Не желаю больше быть честолюбивой марионеткой, вышедшим из моды манекеном, которым манипулирует кровавый старец! Хочу стать
свободным человеком, согласовывать свои поступки только с собственной совестью и зависеть только от самого себя, иметь полную свободу мыслей и поступков. Отныне живу только на доходы от своего личного небольшого состояния и не стою императорской казне ни единого крейцера!
Милли не из тех, кто спорит, когда хозяин и господин уже принял решение. Спустя некоторое время, невзирая на мольбы своих близких, пришедших в ужас от возможных последствий его поступка, Ян–Сальватор написал императору письмо: сообщил в принятой уважительной форме о своем решении отказаться от титула, от положения, льгот и привилегий, с ним связанных, и стать простым подданным Австрии, под именем Иоганн Орт.
Слишком сильно пораженный смертью сына, чтобы испытывать малейшее снисхождение к этому бунтарю — частично возлагал на него вину за блуждания Рудольфа, — Франц Иосиф ответил на письмо указом, в котором пошел еще дальше: лишил бунтаря австрийского подданства и запретил проживание в границах империи.
По сообщениям достойных доверия свидетелей, между старым императором и бывшим эрцгерцогом произошла последняя сцена — ужасная. Подробности ее никем и никогда не обнародованы, но отголоски все же могли проникнуть сквозь толстые стены Хофбурга. Когда побелевший от гнев Ян–Сальватор спускался по парадной лестнице императорского дворца, он знал, что никогда в жизни уже не поднимется по ней. Вернувшись домой, в маленькую квартирку на улице Августинербаштай, где останавливался с Милли во время приездов в Вену, он рассказал ей о своем решении уехать из Австрии, даже из Европы и начать новую жизнь в далеких краях.
— Милли, ты свободна в выборе — можешь ехать со мной или оставаться. Ссылка — это тяжкое испытание, даже когда любишь.
— Я готова следовать за тобой куда пожелаешь, хоть на край света, если нужно. Ты прекрасно знаешь, что моя жизнь только ко в тебе — в тебе одном.
Успокоенному этими словами Яну–Сальватору перед отъездом оставалось выполнить еще один долг: забрать у графини Лариш–Валлерзее железный сундучок, который Рудольф вручил ей перед отъездом в Майерлинг с просьбой отдать только тому, кто за ним придет и назовет в качестве опознавательного знака четыре буквы выгравированные на его крышке, — R.I.U.C.
Промозглой ночью испуганная графиня получила загадочный приказ: явиться с сундучком в сад на площади Шварценберг. Уже поздно, место безлюдное… кузина Рудольфа, ни жива ни мертва, увидела — к ней приближается какой–то человек в большой черной шляпе. Он подошел, поклонился, назвал ей четыре условные буквы; она отдала сундучок, но этой не такой уж темной ночью ее острые глаза узнали Яна–Сальватора.
— А вы не боитесь, монсеньор, что обладание этим сундучком подвергает вас большой опасности? — пробормотала она.
— Почему же, графиня? Знайте: я тоже умру. — И после краткого раздумья добавил с сарказмом: — Умру, но останусь жив. — И через несколько мгновений скрылся в ночи.
26 марта 1890 года шхуна «Санта–Маргарита» под командованием капитана Зедиха отплыла из Портсмута, увозя на борту владельца судна, австрийца по имени Иоганн Орт. Корабль пересек Атлантический океан и пришвартовался в Буэнос–Айресе. Оттуда 10 июля Иоганн Орт написал одному из своих венских друзей, журналисту Паулю Генриху, и сообщил, что Доволен путешествием и намерен продолжать его с целью изучить Патагонию, Огненную Землю и мыс Горн. Ему пришлось взять на себя командование «Санта Маргаритой», списав на берег капитана Зедиха, не расположенного к совершению столь опасного путешествия. Отплытие было мечено на тот самый день.
Посему «Санта–Маргарита» подняла паруса и взяла курс на юг. Никто ее больше не видел и ничего о ней не слышал. Это загадка Иоганна Орта: нигде не обнаружено ни малейшего его следа. Корабль и его экипаж, пассажиры и капитан — все исчезло, словно чья–то гигантская рука внезапно стерла их с поверхности моря. Не появилось ни единого обломка, свидетельствующего о кораблекрушении, несмотря на тщательные поиски, предпринятые по указанию Франца Иосифа — он направил, несмотря на обиду, корабль на поиски пропавших. По прошествии некоторого времени при венском дворе официально объявили об исчезновении князя Тосканского. И все же…
Мать Яна–Сальватора никогда, до самой своей смерти, случившейся в 1898 году, не надевала траура по сыну, которого так горячо любила. А семьи моряков «Санта Маргариты» не предъявили требований выплатить компенсацию за их гибель, не попросили материальной помощи. Странные дела по выплате страховки позволили предположить, что эрцгерцог не погиб, а пропавший корабль причалил в Ла Плата декабре 1890 года.
И тогда произошло то, что обычно происходит при исчезновении принцев; многие стали говорить — мол, встречали Иоганна Орта: кто в Чили или Восточной Африке; кто в Патагонии или даже на острове Хуан Фернандес, где жил Робинзон Крузо; кто, наконец, в Индии — в сопровождении Милли и детишек, поскольку Милли, естественно, тоже исчезла и никто не обнаружил ее следов.
Однако, странное дело, все другие, утверждавшие, что встречали Яна–Сальватора, никогда не говорили о молодой женщине, за исключением одной невероятной истории — плода неисчерпаемого воображения неисправимой графини Лариш–Валлерзее: она якобы обнаружила молодую пару в горном районе в самом сердце Китая…
Остается последнее и самое убедительное свидетельство — французского путешественника графа Жана де Линье. Он вроде бы встретился в Патагонии, у подножия вулкана Фиц–Рой, с одним странным владельцем ранчо, по имени Фред Оттен, — он жил там вместе с каким–то англичанином и еще немцем. Этот Фред Оттен как будто признался ему, что он не кто иной, как таинственный Иоганн Орт. Что касается Милли, ее он, кажется, бросил перед отплытием из Англии. Но что в этом случае стало с молодой женщиной, почему и она не оставила Никаких следов? Спустя два года граф де Линье снова оказался у подножия того вулкана, но обнаружил там лишь одну могилу. Была ли это могила Яна–Сальватора? Или стоит поискать его в другом месте, возможно в Бразилии, где семья бывшего императора могла бы, очевидно, многое рассказать о таинственном исчезновении четвертой жертвы Майерлинга.
Германские императоры…
РОМАНТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ ВИЛЬГЕЛЬМА I
18 января 1871 года в шикарной Зеркальной галерее Версальского дворца побежденная Франция познала самое позорное из унижений. В самом красивом дворце мира, дворце с двухвековой историей, — этот период Франция, как никогда, была увенчана славой, провозглашен император Германии…
Так пожелал железный канцлер Бисмарк, человек, который считал Францию лишь страной, где приятно заниматься любовью. И под балдахином из расшитого золотом шелка, специально установленным во дворце для этого случая, король Вильгельм Прусский стал императором Вильгельмом I. Империя совсем юная, но император Молодостью не отличался. Этот старый, Жестокий и угрюмый человек, семидесяти четырех лет, огромного роста, походил на того, кто сделал его императором. К Франции он испытывал одну только ненависть — вполне обоснованную, но именно это его мало беспокоило. Кроме императорской короны, которую возложат на его упрямую голову, ничто в этом тленном мире его больше не интересует. У него жена, которую он не любит, дети, внуки, но сердце его, давно погребенное под военным мундиром и орденами, редко заявляло о своем существовании. Полный ненависти, оцепеневший народ, с гневом и полными слез глазами наблюдавший, как в дымке блестит каменный призрак его прошедшей славы, страдал бы, возможно, намного меньше, знай он, что старый император, которому Бисмарк отдавал бесконечные воинские почести, мало что слышит. Быть может, что вместо позолоченных панелей Версаля видел перед собой стены Карлоттенбурга, вспоминал освещенный массой светильников бал и танцевавшую на нем юную белокурую девушку в белом платье…
Все началось пятьдесят лет назад, в мае 1820 года, когда отец Вильгельма, король Пруссии Фридрих Вильгельм III начал испытывать некоторую озабоченность по поводу своего младшего сына. И правда, вот уже несколько недель кряду двадцатитрехлетний Вильгельм проявлял неоспоримые, вызывавшие беспокойные мысли признаки душевного расстройства.
Молодой принц перестал есть, потерял сон и стал мечтательным, показываясь по
всюду и в любых обстоятельствах, даже во время военных парадов, с задумчивым и романтическим выражением лица — оно вполне могло тронуть чувствительные сердца юных жительниц Берлина, но никак не вязалось с его полковничьим званием. Придворные сплетницы с удовольствием перешептывались в коридорах Карлоттенбурга о предмете скрытой страсти молодого человека — очаровательной шестнадцатилетней девушке, юной принцессе Элизе, дочери князя Антония Генриха Радзивилла, наместника Познани. А король Прусский любил отдавать приказы, крича во всю глотку, и ненавидел перешептывания.
Чтобы пролить свет на это дело, король по зрелом размышлении решил: поручит разобраться во всем человеку, которого глубоко уважает и считает самым тонким психологом в своем королевстве, — графу фон Шильдену, своему главному церемониймейстеру.
— В последнее время слишком много говорят о принце Вильгельме, — начал он. — Мне все это не по душе; хочу, чтобы вы, дорогой граф, провели тайное, но детальное расследование: какие чувства питает мой сын к юной дочери Радзивилла; любит ли ее, а если да, как далеко это зашло. Надеюсь, не столь далеко — принц ведь должен понимать, что человек его положения, пусть ему и не суждено взойти на трон, не женится для собственного удовольствия, а делает это, исходя из интересов своей страны. Итак, что вам об этом известно?
— Мнение двора склоняется к тому, что принц действительно влюблен, государь. Но мнение двора всего лишь…
— «Мнение двора»! Я прекрасно понимаю. Но что люди об этом думают? Как относятся к этой идиллии, если таковая имеет место?
Фон Шильден долго вынимал носовой платок, вытирал лицо, выигрывая несколько секунд на раздумья. А когда решил дать ответ, заговорил очень осторожно:
— Так, как я на это смотрю… с большой нежностью, Ваше Величество! Юная княгиня Элиза — само очарование. Кроме того, она из очень знатной семьи; Вашему Величеству известно, как все здесь трепетно носятся к любовным историям. Молодость принца, его элегантность, очарование приводят к тому, что…
— Достаточно, граф! Не надо мне его расхваливать и приписывать ему некий дурной роман, основанный на дворцовых сплетнях. Я хочу, чтобы мне доложили о истинной глубине чувств сына, а главное, желаю знать, говорил ли он уже о свадьбе с этой балаболкой. Ступайте и возвращайтесь с подробным отчетом!
Несчастный граф фон Шильден вышел из кабинета короля крайне озадаченный данным ему поручением. Как и все в Берлине, он, разумеется, обратил внимание на явное неравнодушие второго сына короля к очаровательной Элизе и, как и все, понял, что дело у них явно продвигается к счастливому концу. Девушка из древнего польского дворянского рода, в ее жилах течет княжеская кровь, а семья даже связана кровными узами с королевской семьей Пруссии. А поскольку положение второго сына не обязывает Вильгельма жениться именно на принцессе из королевской семьи, фон Шильден полагал, что этот брак желателен со всех точек зрения. Но разговор с королем поставил все под сомнение; особенно показательным стало для него определение «балаболка», которым Фридрих Вильгельм III наградил юную княжну Радзивилл: сердце его явно к ней не лежало.
Вся столь превозносимая психология главного церемониймейстера сводилась к глубокому знанию двора: его членов, их привычек и наклонностей и всех правил этикета. Не зная, как справиться с поручением, он решил, что лучше всего пойти напролом, и не теряя времени направился к принцу — к нему, как, впрочем, и весь Берлин, питал чувство, похожее на нежность.
В свои двадцать три года Вильгельм Прусский и впрямь был очень красивым парнем: высокий, атлетически сложен, широкоплеч — словом, был создан, чтобы носить военный мундир. Светлые волосы венчают высокий лоб, что говорит об уме выше среднего. Голубые наивные глаза компенсируют некоторую суровость лица — что придают ему прямой нос и тонкие губы. Лицо розовое и свежее, руки тонкие, походка элегантная. С такими внешними данными молодой Вильгельм пользовался большой популярностью у женщин. Подходя к нему в красивом парке, разбитом некогда самим Ленотром, знаменитым садовником французского короля Людовика XIV, фон Шильден подумал, сожалея про себя — не очень–то хорошо нарушать счастье этого симпатичного молодого человека. Но приказ есть приказ, и не подчиниться королю Пруссии невозможно.
— Простите, что вам пришлось прийти сюда, — произнес принц, — вы же знаете, дорогой мой граф, как я не люблю салоны. Чувствую счастливым себя только на лоне природы. Не откажетесь ли прогуляться по берегу Шпрее?
— Всегда к услугам Вашего Королевского Высочества! Напротив, очень благодарен вам, что соизволили поговорить со мной. Характер нашей беседы, мне кажется, полностью совпадает с той миссией, что возложил на меня Его Величество король.
Такая преамбула несколько обеспокоила Вильгельма, но он не показал вида.
— Король? Черт подери! Ладно, месье, говорите же! Я готов вас выслушать.
Несмотря на окружающую их красоту, фон Шильден предпочел бы находиться сейчас в другом месте, а тут ему пришлось как в воду броситься. С помощью многочисленных недомолвок и иносказаний сумел–таки пересказать Вильгельму свой разговор с его венценосным отцом.
— Вот так! — заключил он, чувствуя в душе большое облегчение. — Подводя итог, я уполномочен узнать, любит Ваше Высочество или не любит.
Вильгельм не колебался с ответом ни секунды:
— Люблю, граф фон Шильден, люблю всем сердцем! Но, к несчастью, до сих пор не знаю, любим ли…
Королевский посланец снова почувствовал облегчение. Слава богу, речь о женитьбе еще и не заходила! Это самое главное, а что касается остального… стоит посмотреть на стройную, элегантную фигуру принца, прекрасное лицо, учесть его очарование — предполагать, что его любовь безответна, по крайней мере нелепо. Красотка Элиза не любит этого парня — так она никого не полюбит! Или сошла с ума… Но Вильгельм не Договорил… — Конечно, — продолжал он, — княгиня Элиза вроде бы рада меня видеть, даже выражает при этом удовольствие, но пока… не могу позволить себе говорить с ней о любви. С другой стороны…
Фон Шильден задержал дыхание.
— «С другой стороны»?..
— Не могу не предполагать, — Вильгельм меланхолически улыбался, — что намерение мое жениться на ней может натолкнуться на некоторое сопротивление со стороны отца — у него иногда возникают непредсказуемые идеи. Это единственное препятствие, кроме него, не предвижу, никаких других. Род Радзивиллов столь же древний, сколь и род Гогенцоллернов, а мать Элизы даже доводится нам кузиной — ведь она племянница Фридриха Великого.
— Вашему Высочеству известна предрасположенность Его Величества к иностранным принцессам.
— А разве Элиза не полька? — произнес Вильгельм с несколько саркастической улыбкой.
— Ваше Высочество понимает, что я хочу сказать. Пруссия так настрадалась от этого проклятого Наполеона, хранит его Святая Елена, что Его Величество желает заручиться как можно большей поддержкой за рубежами королевства.
— Я знаю все, что должен делать в память о моей любимой маме[4], — вздохнул принц, — и именно по этой причине до сих пор не дал заговорить своему сердцу. Это все, дорогой фон Шильден, что вы можете доложить королю. Добавьте к этому, что, коли на то его воля, сделаю все, чтобы забыть любовь, которая не заслужит его одобрения, но умоляю его не считать это чувство простым капризом… Это большая и глубокая любовь.
Повернувшись спиной к королевскому посланцу, принц, сложив позади руки, продолжил прогулку вдоль берега медленно текущей реки, в чьих водах отражались кусты роз и последние лучи заходящего солнца.
Фридрих Вильгельм III остался доволен достигнутыми фон Шильденом результатами. Послушание сына ободряло, но в вопросах любви силы человеческие не беспредельны, и он счел нелишним принять некоторые меры предосторожности.
— В этих условиях, — сказал он своему эмиссару, — я не хочу, да и не могу запрещать принцу Вильгельму встречаться с княжной Элизой. Но вы, фон Шильден, лично проследите: пусть один из моих адъютантов постоянно находится — при сыне, когда тот посещает дворец Радзивиллов. Чувства этой девушки нам неизвестны, и не стоит потакать дьяволу!
Чувства Элизы — да они ангельски просты: два года уже обожает Вильгельма, и несмотря на юный возраст, прекрасно знает, что не полюбит никого другого. После недавнего первого своего выхода в свет красавица полька так мыслила свою жизнь: это непрерывная череда праздников, где она танцует с Вильгельмом, выезжает на охоту, сопровождая его, аплодирует ему на парадах — и сладкие мгновения наедине с ним, обожание Вильгельма в полном спокойствии… И вовсе не нужно, чтобы он признавался в любви, она ее видит, эту любовь. Взаимная их нежность навеки отражена на небе — пусть служит образцом для всех влюбленных на земле. Точно как любовь Ромео и Джульетты… только с надеждой на счастливый конец!
По правде говоря, когда она глядела в зеркало, собственное отражение вселяло большие надежды на успех: бело–розовое личико хрупкой, прелестной девушки — блеск и очарование черт невольно наводили на мысль о саксонском фарфоре… Она умна и хорошо воспитана, любит музыку и играет на музыкальных инструментах. У нее добрая душа, а единственные явные недостатки — легкомыслие, вполне простительное в этом возрасте, и ясная предрасположенность к подначкам. И посему ей нравилось «приводить в ярость» Вильгельма, когда тот приходил в дом ее родителей с продолжительными визитами — в это время оба вели себя как дети. Но Элиза и Вильгельм могли и часами молчать, когда им случалось гулять рядом по саду, — ни единого слова, но общение их так красноречиво…
Увы, после вмешательства фон Шильдена — об этом девушка, разумеется, ничего не знала — эти приятные отношения сильно изменились. Началось с того, что во время рождественского поста Вильгельм ни разу не появился во дворце Радзивиллов. Более того, получив приглашение на прием, прислал короткую протокольную записку: сообщил о невозможности своего участия — его полку приказано выехать на маневры. Записка адресована матери Элизы, а она, бедное дитя, напрасно прождала письма от друга. Потом стало еще хуже!
В один прекрасный день Вильгельм все–таки явился. Полная счастья, Элиза, как всегда, кинулась ему навстречу, едва заслышав топот его коня во дворе, с криками:
— Вильгельм! Дорогой мой принц! Наконец–то вы приехали! Как я рада!
Порыв ее угас на последней ступени великолепной мраморной лестницы; он не бросился навстречу с протянутыми вперед руками, как делал обычно милый Вильгельм, а застыл, словно по команде «Смирно!», и медленно переломил надвое свое большое тело в протокольном поклоне. Стоявший за его спиной старый генерал–его тень, произвел то же самое.
— Рад снова видеть вас, Элиза! Не могла бы княгиня, ваша мать, принять меня?
Девушка, глубоко пораженная, не нашла в себе сил ответить. Почему здесь этот старый генерал, зачем Вильгельм привел его с собой. Принц словно понял этот молчаливый вопрос и слегка обернулся к своему ментору.
— Едва не забыл представить вам генерала фон Гершфельда — король, мой отец, специально приставил его присматривать за мной.
Единственный раз Элизе изменило чувство юмора: за каким чертом Вильгельму нужно, чтобы за ним присматривали, когда он хочет встретиться с ней?!
— Мама дома, — проговорила она наконец ровным голосом. — Я сообщу ей о вашем визите.
И скрывая слезы, прошла в вестибюль дворца, сопровождаемая Вильгельмом и старым генералом.
Никогда ни один визит к княгине Радзивилл не проходил столь мрачно, как посещение Вильгельма в сопровождении старого
генерала. Княгиня посмотрела на молодых людей поочередно: на лице Элизы явно горе, принц буквально проглотил саблю. Девушка чувствовала настоящее отчаяние: никогда еще не испытывала такого ощущения беспомощности, одиночества, душевной тоски… Ее дорогого Вильгельма словно подменили!
Чтобы избавиться от хлынувшей потоками тревоги, решила отвлечься и встала.
— Забыла вам сказать, дорогой Вильгельм, у нас появились новые пони, совершенно великолепные. Не хотите ли взглянуть?
Принц тут же вскочил на ноги, словно подброшенный пружиной, сохраняя при этом чопорное выражение лица.
— Буду рад. Готов следовать за вами, княжна.
Но радость Элизы от того, что ей наконец удалось вытащить его из салона, оказалась кратковременной. Старый генерал почти одновременно с Вильгельмом встал и последовал за ним. Надежды девушки остаться хотя бы на мгновение наедине с любимым развеялись как дым. Куда ушли недавние милые разговоры… как заговорить сердцу под хмурым взглядом старого кривоногого служаки?!
Она приободрилась при мысли, что в королевском дворце вскоре предстоит бал: обычно Вильгельм после обязательных «рабочих», танцев на все остальные приглашал только ее.
Увы, пусть перед выездом из дворца Радзивиллов зеркало подтвердило ей, что она очаровательна, — дорогой Вильгельм пригласил ее на танец всего лишь раз, а когда по окончании танца повел ее в буфет, освежиться напитками, девушке пришлось констатировать, что генерал фон Гершфельд как тень следует за ними. Вернувшись домой после этого ужасного бала, она, бедное дитя, упала на постель и зарыдала.
— Он меня больше не любит!.. — бормотала Элиза в паузах между рыданиями. — Он даже не смотрит на меня! Может, я ошибалась? Может, он меня никогда и не любил?.. О, Вильгельм, Вильгельм!.. За что?
Будь она более опытной, непременно заметила бы явную грусть на лице принца, а возможно, и горестные взгляды, которые он бросал на нее тайком. Но она сама невинность, еще и страдала легкой близорукости.
А несчастный Вильгельм нес свой крест. Элизу он обожал — теперь так сильно, как никогда. Ему пришлось приложить все силы, чтобы держать себя в руках в ее присутствии и соблюдать линию поведения, которую сам себе предписал. Но это становилось все труднее, страдания — все 6олее невыносимыми, и молодой человек спрашивал себя, как долго сумеет стоически выносить эту пытку.
И однажды вечером, по окончании праздника во дворце Радзивиллов, когда он прощался с матерью Элизы княгиней Марией, нервы несчастного внезапно сдали. Весь вечер Элиза сторонилась его как зачумленного, даже не улыбнулась ему, когда он появился во дворце, — эту презрительную отчужденность возлюбленной вынести он уже не смог…
Произошло ужасное: поднося к губам руку княгини Марии, Вильгельм отчаянно зарыдал, — естественно, это породило сильное волнение всех присутствовавших. Такое, что фон Шильден, считавший дело Радзивиллов списанным в архив, едва не потерял сознание.
Но Вильгельму не было никакого дела до обмороков фон Шильдена, он устал страдать. Сразу по возвращении домой бросился к столу и нервной рукой написал несколько слов: «Я люблю вас! Я никогда никого не любил и не полюблю, кроме вас… А у меня даже нет права говорить вам это…»
Получив эту записку, Элиза опять забилась в рыданиях, но теперь это были слезы счастья и облегчения. Прежде она не испытывала такого страха потерять любимого.
Зимой 1821 года в королевском дворце в Берлине устроили праздники — целый ряд — в честь сестры Вильгельма принцессы Шарлотты, вышедшей замуж за великого князя Николая, наследника российского престола, и прибывшей с мужем навестить родных. Балы, концерты, живые картины, последовали один за другим. Юная Элиза, естественно, принимала участие во всех этих увеселениях со свойственным ее возрасту воодушевлением. Тем более что на небе ее счастья больше не возникало ни единого облачка. Жила как во сне, в блистательной толпе видела лишь своего дорогого, единственного Вильгельма; делала вид, что не замечает знаков внимания, которые оказывал ей с ее красотой, наследный принц Фридрих Вильгельм. Он для нее всего лишь брат возлюбленного!
Что касается Вильгельма, он купался в волнах романтизма со странным чувством, что ежесекундно рискует умереть от распирающей его страстной любви. Однажды вечером этот крепкий, здоровый молодой человек едва не упал в обморок; увидел в одной из живых картин свою Элизу, в лазурных муслинах, исполнявшую роль юной гурии, которую свирепые стражники остановили у дверей рая, — его чувствительная душа увидела в этом плохое предзнаменование.
Позже, на балу, — она появилась в белом шелковом платье, украшенном белоснежным лебедем, — подумал: «Как прекрасна!» — и едва не разрыдался снова. Никто и никогда не любил так, как он! Никогда прусская сентиментальность не достигала таких вершин в жизни принцев!
Однако при дворе был некто, от чьего взора не ускользнуло это странное поведение. Принцесса Шарлотта, ставшая в результате женитьбы и благодаря русской православной церкви великой княгиней Александрой Федоровной и ждавшая дня, когда станет царицей, всегда питала к младшему брату чувство, которое можно назвать тайным предпочтением. Она хорошо его знала, и то, что он влюблен — раньше не замечала, — не ускользнуло от нее. Однажды утром решила его исповедовать:
— Скажи, Вильгельм, ты любишь эту юную Элизу?
— Люблю ли я ее?! Обожаю и не могу представить свою жизнь без нее! Мысль, что придется от нее отказаться, становится мне все более невыносима, по мере того как проходит время. Не думал, что можно так страдать от любви.
— Все зашло настолько далеко?
— Больше того! Если она не станет моей женой — жизнь сделается для меня лишь нескончаемым мучением!
— Не стоит так драматизировать. Ты знаешь, как я тебя люблю, — глубоко страдаю, видя, что ты так угнетен. Обещаю, приложу все свои силы, чтобы сделать тебя счастливым! Эта малышка очаровательна, вижу, что вы и впрямь друг друга любите!
— Ты очень добра. Но что ты можешь сделать?
— По крайней мере поговорю с отцом — он мне все–таки доверяет. Не забывай, что я стану императрицей.
Исполняя свой план, она не стала терять ни секунды. К несчастью, скоро с огорчением поняла — старый Фридрих Вильгельм твердо стоит на своем: женитьба на дочери Радзивиллов «не–воз–мож–на»! Вильгельм должен жениться только на принцессе из королевского дома!
Огорченная Шарлотта покинула отца после часа бурных споров и, вернувшись в свои апартаменты, не нашла в себе смелости рассказать брату о своей неудаче. Зато к Вильгельму явился посланный королем фон Шильден, получивший приказ пожурить принца. Вынести это оказалось выше его сил.
— Если мне не дают жениться на ней, пусть разрешат по крайней мере уехать куда–нибудь! Зачем обрекать меня на ежедневную пытку видеть ее без возможности приблизиться?! — И оставив незадачливого посланца, принц убежал в свой кабинет, сильно хлопнув дверью.
Однако этот крик отчаяния тронул–таки короля: он решил образовать комиссию для изучения аристократических корней рода Радзивиллов. Пусть посмотрят, нельзя ли все–таки заключить этот брак. Естественно, председателем комиссии назначил столь необходимого фон Шильдена.
Много дней комиссия провела за изучением пергаментов, перетрясла тонны пыли и архивных документов, не проявляя при этом доброжелательного отношения. Но все архивные раскопки не столь уж необходимы: генеалогическое древо князей Радзивиллов, подаривших Польше королеву, одно из самых древних и безукоризненных. Не нашлось бы ни единой зацепки — если бы не известное упрямство Фридриха Вильгельма и не боязнь членов комиссии ему не потрафить.
А в это время Вильгельм снова вернулся к жизни: каждый день встречался с Элизой — у нее дома или в королевском дворце. Часто молодые люди совершали верховые прогулки, и попадавшиеся на пути добрые берлинцы смотрели на них сочувственно. Для них, так влюбленных, невозможен иной исход, кроме как обрести счастье, — они глубоко верили в положительный результат работы комиссии.
Однажды вечером, после концерта в Потсдамском дворце, весь двор заметил: как фройляйн Радзивилл уронила перстень, принц бросился его поднимать и страстно поднес губам… Но когда протянул Элизе, она нежно покачала головой:
— Оставьте его себе! Когда вы прочтете то, что написано на его внутренней стороне, — поймете: перстень предназначен вам.
Действительно, на внутренней стороне перстня были выгравированы два слова — «Вечная верность». Вильгельм зарыдал от счастья, но этот случай очень не понравился королю. Он вызвал комиссию, чтобы та доложила ему результаты исследования, естественно, они оказались отрицательными. Несчастный принц предстал перед отцом, тот объявил ему без обиняков, что полк его должен на следующий день отбыть в Дюссельдорф и принц отправится туда же.
— Там будут проходить маневры, сир? — Молодой человек чувствовал некоторое беспокойство.
— Нет, я просто решил усилить тамошний малочисленный гарнизон. Полк 6удет расквартирован там… на неопределенное время. — И Фридрих Вильгельм отвернулся, чтобы не глядеть на сына.
Тот сильно побледнел, и королю вдруг расхотелось выполнять взятую на себя роль, но отступить уже невозможно.
— Комиссия пришла… к отрицательному выводу, — добавил он. — Ничего не поделаешь! Знаю, что требую от тебя многого, Вильгельм, но ведь ты мужчина, черт побери! Надеюсь, поведешь себя как мужчина.
Но Вильгельм уже ничего не слышал и не видел; словно автомат, отдал королю честь по–военному, щелкнул каблуками и, не произнеся ни слова, вышел из отцовского кабинета — сердце его разбито… На следующий день он уехал в Дюссельдорф.
Пребывание принца в ссылке продлилось три года — долгий срок сожалений, отчаяния и писем, страстность которых трудно представить. Он слал и другие письма — королю, членам семьи в надежде: быть может, кто–нибудь проникнется состраданием к его мукам и прекратит их. Они никак не унимались и все же сломали предубеждение семьи. Вызвали его наконец в столицу, но, когда он вернулся в Берлин, родные оцепенели — так он изменился; не узнать веселого Вильгельма в этом высоком, худом, угрюмом и явно отчаявшемся молодом человеке. Старший брат попытался урезонить его, кузен Фриц отругал, дядя Георгий Макленбургский попробовал напомнить о государственных интересах. И только тетя Марианна — в ее объятиях он долго плакал, прежде чем упал в обморок от изнурения, — поняла, что дело плохо. Проинформировала об этом племянницу, великую княгиню. Та сильно обеспокоилась, но, подумав, нашла решение. Элиза, чтобы составить счастье Вильгельма, должна быть принцессой из королевской семьи? Тогда пусть ее удочерит русский царь!
Эта идея привела бедного влюбленного состояние безумного восторга — как они не додумались раньше? Спросили мнение короля — тот согласился: что ж, в таком случае свадьба возможна. И надежда снова возродилась в сердце Вильгельма и Элизы — она оставалась верной своему слову, хотя не видела любимого целых три года.
Увы, русский царь вначале согласился, а потом передумал. Возникли преграды религиозного порядка: чтобы стать великой княгиней, Элизе, родившейся и крещеной католичкой, надо обратиться в православную веру. А чтобы выйти потом замуж за Вильгельма, следовало поменять религию и стать протестанткой. Это уж слишком…
И все же мысль высказана — все семейство хотело помочь Вильгельму. Дядя его, принц Август Прусский, решил этот вопрос — заявил, что хочет удочерить Элизу. Препятствий к браку больше нет… Рождественским вечером 1824 года пережившие столь длительную разлуку влюбленные встретились, охваченные вполне понятным волнением.
— После трех долгих лет испытаний!.. — прошептал Вильгельм, нежно поднимавший Элизу, сделавшую реверанс.
Она еще красивее, чем раньше, а глаза ее полны слез…
— Неужели, мой господин, мы наконец снова вместе?!
Последовавшие дни наполнились для молодых людей необычайной нежностью; вскоре они отпразднуют сразу удочерение Элизы и свою помолвку. Вильгельм сгорал от нетерпения — законники, которым поручено составить знаменитый документ, работают так долго…
— Неужели эти люди никогда не любили?! — воскликнул он, когда Элиза попыталась его успокоить.
— Какое значение имеет теперь небольшая задержка — ведь ничто больше уже нас не разлучит!
«Ничто»?.. Как бы не так! А политика? Она приняла облик беспощадного и честолюбивого великого князя — правителя Саксонии и Веймара: он развернул целую кампанию против удочерения, оно ему казалось смешным. Это его никоим образом не затрагивает, но у него дочь, принцесса Августа, страстно желающая выйти замуж за Вильгельма. И он поспешил сделать Фридриху Вильгельму III такие заманчивые предложения, что несчастный принц получил от отца следующее письмо: король окончательно отзывает свое согласие на брак и приказывает сыну «считать это дело закрытым». Одновременно издан указ о ссылке Элизы — в кратчайшие сроки предстоит ехать в Познань. Это был конец…
Беспощадная воля короля не предоставила влюбленным даже возможности провести последнюю, самую горестную встречу. С разбитым сердцем, Элиза уехала, так не попрощавшись с тем, кому поклялась в вечной верности.
Вильгельм окаменел от отчаяния и, отказавшись видеться с кем бы то ни было, несколько недель заперся в своих покоях. Затем он получил строжайший приказ присоединиться к своему полку в Силезии. Таково начало длительной, изнурительной борьбы с отцом; Фридрих Вильгельм III предложил сыну жениться на принцессе Сакс–Веймарской, но молодой человек с отвращением отказался. И все же ничего не мог поделать против королевской воли: спустя три года, обливаясь слезами и убитый страданиями, Вильгельм женился–таки на принцессе Августе. Новость об этой свадьбе потрясла жившую в Польше Элизу с ее слабым здоровьем.
Спустя еще три года та, кого считали одной из красивейших женщин Европы, угасла, словно лампа, в которой кончилось масло. Она чувствовала себя счастливой тем, что уходит наконец из этой жизни, потерявшей для нее всякую привлекательность, и осталась верна вечной любви, в которой поклялась в пятнадцать лет.
СТО ДНЕЙ ИМПЕРАТОРА ФРИДРИХА III
Эта холодная, мрачная мартовская ночь 1888 года, казалось, будет длиться до скончания веков. Она навалилась на Берлин всей тяжестью густой темноты, черного холода, мокрым снегом и страхом перед неясным будущим.
Часовые, стоявшие перед воротами дворца, где умирал старый император, словно окаменели в своих будках. Город будто вымер, как и огромный дворец, — светились лишь немногие окна: кордегардия, комната адъютантов и комната фрейлин. Все остальные помещения темны, ни единый луч света не просачивался сквозь плотные шторы, что закрывали окна комнаты, где умирал первый кайзер Германии старый Вильгельм I — в возрасте девяноста одного года никак не хотел покидать этот мир…
Странная, многословная агония напоминала шекспировские пьесы! На смертном одре старый император говорил не останавливаясь, и этот нескончаемый бред походил на галлюцинации. Из мрака небытия, куда он медленно погружался, тот, кого во времена правления его старшего брата Фридриха Вильгельма называли Принц Обстрел, вспоминал всю свою жизнь и рассказывал ее самому себе. Если только не той, кого видели лишь его глаза, — молодой белокурой женщине, давно умершей; она его единственная любовь, ему не разрешили на ней жениться, и многие годы не отходила она его изголовья — Элиза Радзивилл, ожидающая его, возможно, в Зазеркалье…
Он повествовал о своей длительной борьбе, которую вел, еще просто короли Пруссии, против Франции — эту страну всегда ненавидел. Ненависть родилась давно, когда страной правил Наполеон Великий. Вильгельм, тогда принц Прусский бился против него под Йеной, Лейпцигом, а также принимал участие в Битве народов, что наложила такой глубокий отпечаток на его жизнь, — и в старости он с удовольствием рассказывал о ней своим близким раза три в неделю. Кроме того, были еще победы союзников, реванш сынов прекрасной королевы Луизы, и после долгих лет апофеоз его, Вильгельма, славы: провозглашение Германской империи в 1871 году, в Зеркальной галерее Версальского дворца после победы над Наполеоном, третьим, кто носил это имя…
Надломленный, прерывистый голос извлекал из небытия упрямое дыхание, которое в нем еще оставалось. Рядом с кроватью сидела в кресле такая же старая императрица Августа и глядела, как умирает ее многолетний спутник жизни. Часто рука умирающего касалась ее руки — между ними никогда не существовало истинной любви, но бедная монархиня тоже тяжело больна и так слаба, что дочери ее, великой княгине Баденской, приходилось поддерживать материнскую руку, чтобы та выдержала тяжесть руки умирающего отца.
Мрачность картины дополнялась обликом самой великой княгини: в черном с головы до ног, она носила траур по сыну, а на левом, почти потерянном глазу — черную повязку.
Единственный живой и стойкий человек среди всех теней, собравшихся в комнате умирающего, тот, кто ждал неизбежного конца, покусывая усы, — канцлер князь фон Бисмарк. Тоже стар, но старость его прочная, крепкая, солидная — старость льва, который сознает, что полон еще физических и умственных сил. Но льва той ночью охватило беспокойство: эта запоздалая смерть наступает слишком рано…
Через какое–то время, час–два, но не позже, императором станет другой человек — смерть его, однако, Бисмарк жаждал увидеть до кончины старого монарха, — наследный принц Фридрих Вильгельм: — несмотря на его отвагу и воинскую доблесть, железный канцлер ненавидел его всем сердцем за либерализм и слишком большое благородство, за «современные» идеи, внушенные ему женой — англичанкой Викторией.
Не такой император нужен Бисмарку — он само слово «либерализм» воспринимает как оскорбление. Безжалостный, не имевший слабостей канцлер не признавал ничего, кроме силы, железного кулака без замшевой перчатки. Что касается слова «свобода», он никогда не понимал его значения — для него это что–то вроде постыдной болезни.
До последней ночи он все надеялся — о бог сражений, как он этого хотел! — что новым императором станет не Фридрих III а Вильгельм II. Кронпринц Вильгельм по прозвищу Вилли, — его ученик, и Бисмарк старался не замечать, что принц уже страдает упорной манией величия и стал самым заносчивым воякой, когда–либо родившимся в Германии.
Но судьбой предначертано: править империей будет Фридрих. На рассвете 9 марта упрямый голос наконец стих. Великая княгиня Баденская с трудом поднялась на ноги, старая императрица положила на колени свою затекшую руку, а Бисмарк пода
вил вздох… Приходится подчиниться судьбе и ограничиться надеждой, что царствование нового императора не продлится долго…
В тот же день новость об этой смерти долетела по телеграфу за сотни километров от Берлина, в Сан–Ремо, на итальянской Ривьере, в комнату другого больного, на вилле Цирио: новый император Фридрих III тоже находился в предсмертной агонии: в возрасте 56 лет он страдал от рака горла и знал, что обречен.
Этот высокий, худой белокурый мужчина, с красивым задумчивым лицом, обрамленным бородкой и усами, походил скорее на австрийского эрцгерцога, чем на прусского принца. Несмотря на очевидные последствия болезни (уже месяц лишь трубочка в горле позволяла принцу дышать), лицо Фридриха оставалось ясным и спокойным, с полными нежности и идеализма глазами. Именно этот идеализм так не нравился Бисмарку.
Но на лице и во взгляде читались и отвага, подлинное благородство души, что не оставляло равнодушными даже тех, кого история сделала его врагами. Несмотря на поражения под Виссенбургом и Седаном, Франция на страницах газет проявляла уважение к принцу–мученику: все знали, что он не любит войну, ласков и обходителен,I
пытался смягчить тяготы осады Парижа, обожаем простым народом Германии.
Князь из прошлых веков, потерявшийся в грохоте сапог Германии Бисмарка, Фридрих нашел себе достойную спутницу жизни — английскую принцессу Викторию (в семье ее звали Викки), дочь королевы Виктории Великой и Альберта Сакс–Кобургского. Свадьба их была началом истинного 6рака по любви. 25 января 1858 года, в день свадьбы бы с Фридрихом, состоявшейся в Лондоне было Викки восемнадцать лет; высокая, темноволосая, с темно–синими глазами, она была очень красива. С самой первой встречи глубоко и пылко полюбила молодого человека, которому суждено стать ее мужем; взаимная любовь на всю жизнь соединила примерную семейную пару.
От матери Викки унаследовала ум, умение любить только раз в жизни, но глубоко и всецело, и вкус к власти. Зная, что когда–нибудь ей придется править страной вместе с Фридрихом, она долго и прилежно этому училась, приобщаясь, насколько возможно (а это трудно), к политической жизни своей новой родины.
К несчастью, в Берлине английская принцесса, явно тяготевшая к скандальным сравнениям, а они редко были в пользу Пруссии, не пользовалась любовью и уважением. Бисмарк быстро учуял врага в этой высокой молчаливой женщине, которой удалось так быстро завладеть умом мужа и приобщить его к принесенным ею с собой идеям либерализма и миролюбия. Когда Фридрих, решая военные вопросы, покидал ее по необходимости, Викки жила в изоляции, как какая–нибудь королева Испании. Находила себе утешение в мыслях о муже, занималась воспитанием своих семерых детей (исключая Вильгельма — очень быстро у нее забрали), поддерживала интенсивную переписку с матерью; кстати, окружение ее наблюдало за этой перепиской с подозрением, но, естественно, не смело обвинить жену наследника престола в шпионаже в пользу Англии.
Долгие годы Викки с горечью пришлось наблюдать, как старший сын все больше от нее отдаляется, высказывая лишь Бисмарку свое восхищение и честолюбивые желания. Мать первая обнаружила: сердце юного Вилли не что иное, как один из органов кровообращения.
Когда ужасная болезнь стала подтачивать здоровье отца, будущий Вильгельм II Проявил лишь легкое сожаление, увидев в ней возможность взойти на императорский трон намного раньше, чем надеялся.
Но вернемся в Сан–Ремо: императорская корона прибыла туда по назначению в аллегорическом виде — простой синей бумажки, которую телеграфист передал в руки одному из адъютантов. Эту новость Фридрих уже ждал: получил первую телеграмму с сообщением — состояние отца резко ухудшилось. Жене, обеспокоенной тем, что ему предстоит сделать, и опасавшейся, что неизбежная поездка в Берлин в разгар зимы повредит его здоровью, он лишь прошептал едва слышным голосом, на что обрекла его болезнь:
— Есть в жизни ситуации, дорогая моя Викки, когда человек обязан рисковать. Мы уедем из Сан–Ремо, сразу как мое присутствие в Берлине станет необходимым.
Будущая императрица посмотрела тяжелым взглядом на лечащего врача мужа. Этого англичанина направила королева Виктория, и, коли уж приходится выносить присутствие у постели больного немецких врачей, сэр Морелл Маккензи — единственный, кому она доверяет: в своем ремесле он признанный авторитет. На молчаливый вопрос принцессы врач ответил улыбкой, имевшей целью лишь ее ободрить.
— Мы примем все необходимые меры предосторожности, мадам, чтобы… император совершил эту продолжительную поездку без чрезмерных страданий.
Он и принял эти меры, когда 10 марта Фридрих III со своей свитой выехал из Сан–Ремо на поезде. Монарх путешествовал лежа и получил строжайший запрет издавать хоть малейший звук. С королем Италии Виктором Эммануилом II, сопровождавшим его до самой Швейцарии, объяснялся исключительно с помощью вырванных из блокнота листков бумаги — императрица, ни на секунду его не покидавшая, помогала писать слова.
В Лейпциге в поезд сел новый пассажир — Бисмарк: приехал приветствовать своего нового повелителя. Встреча получилась протокольной и очень прохладной. Их не связывали чувства дружбы и уважения, и император уже знал: канцлер предпримет все возможное и невозможное, чтобы воспротивиться его политике — на проведение ее у него, он надеялся, хватит времени. Что касается старого льва, то он прикидывал молча и хладнокровно, сколько еще времени болезнь даст прожить государю. Возможно, Фридриха прямо сейчас сошлют в его имение Варзин, к большим деревьям — он так их любил, но они никоим образом не заменят ему опьяняющую игру во власть. Бисмарка, однако, тут же успокоили.
— Мы сохраняем наше доверие к вам, — сказал ему Фридрих; он понимал, что отбавка канцлера вызовет возмущение армии. — Надеюсь, что мы сумеем примирить Наши воззрения во благо империи. — «Примирить»? — Странное слово в понимании Бисмарка! Он и не понимает смысла этого слова и не собирался мириться с людьми, против которых готов сражаться. Ничего не ответив, ограничился глубоким поклоном и вернулся в свое купе.
В Берлине на вокзале Карлоттенбург прибытия поезда ожидал новый наследник, принц — предвкушал момент, когда воочию убедится в состоянии здоровья отца. Закутавшись в доломан и подняв воротник, окруженный своим генеральным штабом, Вилли смотрел на дверцу императорского вагона с нетерпением, которого не доставало сил скрыть: надеялся увидеть носилки. Не должен император стоять в буране, яростно кружившем над Пруссией…
Ждали поезда и тысячи берлинцев, они пришли к вокзалу, чтобы тоже приветствовать дорогого им принца. Когда поезд въехал в здание вокзала, зазвонили все колокола города, а по бокам длинной красной ковровой дорожки сверкающим плотным строем выстроились гвардейцы.
Внезапно раздались радостные крики толпы: появился император — именно император, а не больной на носилках. Стоя на подножке вагона, в мундире с высоким воротником, надежно прикрывавшем ужасную дыхательную трубку, в каске, положив руку на эфес сабли, Фридрих III слушал гром радостных приветствий и ощущал на себе удивленный взгляд сына…
Император затратил героическое, но изматывающее усилие на то, чтобы предстать перед народом в парадной форме. По прибытии во дворец Карлоттенбург ему пришлось лечь в постель. На все упреки жены в крайней неосторожности он отвечал улыбкой, в которой читалась радость от того, что на него нахлынула огромная волна любви народа.
— Счастье — лучший лекарь, Викки! Постараюсь протянуть подольше… сколько смогу. При хорошем поведении и прекрасной организации жизни это вполне возможно.
— Хорошее поведение? При такой тяжелой работе — уделе монарха? Если бы вы позволили мне взять на себя часть этой работы, разгрузить вас!
— Не хочу заставлять вас бороться с Бисмарком. Вы всегда враждебно относились Друг к другу, и надо бы унять эту неприязнь. Работа будет выполняться, не беспокойтесь!
И правда, умирающий взялся за дело с героической энергией. Сразу по восхождении на престол он обнародовал три рескрипта: в первом заявил о своей верности принципу «конституционной и мирной»монархии; во втором изложил свою программу правления, настаивая на религиозной терпимости и сглаживании социального неравенства; наконец, в третьем дипломатично воздал должное деятельности князя Бисмарка, но призвал все народ Германии помочь ему исполнить тяжелую задачу, выпавшую на его долю.
К сожалению, из этих трех рескриптов Бисмарк дал ход лишь третьему: едва болезнь несчастного Фридриха снова дала обострение, моментально развязав руки канцлеру, — тот жестоко подавил выступления социалистов и дал почувствовать кнут Эльзасу и Лотарингии.
Император продолжал бороться с раком и смертью так отважно, что это вызывало восхищение. С полностью пораженной глоткой, он продолжал принимать королей, съезжавшихся со всей Европы на похороны старого Вильгельма, — императрице пришлось вместе с сэром Мореллом Маккензи проявить всю свою энергию, чтобы запретить императору присутствовать на нескончаемой похоронной панихиде в сибирские холода. Сам он требовал, чтобы жизнь его была отлажена, как часовой механизм. Вставал девять утра, спускался вместе с Викки в оранжерею к половине десятого, совершал короткую прогулку в сопровождении супруги и врачей, затем работал до обеда и обедал в семейном кругу. Потом послеобеденный отдых, встреча с канцлером и наследным принцем, занятия государственными делами до восьми вечера. Затем ужин; спать он ложился ровно в десять вечера.
К несчастью, вокруг этого героического больного врачи вели изнурительную борьбу за влияние. Немцы, естественно, бессмысленно сражались с англичанами. Маккензи, противясь удалению гортани, которое, по его мнению, лишь ускорит неизбежную кончину, противостоял коалиции немецких коллег, использовавших все средства, чтобы его победить. Дошло даже до того, что стали утверждать — его фамилия была не Маккензи, а Маркович и он «польский еврей». Утверждение надуманное и совершенно беспочвенное, но из–за него известный врач и верноподданный королевы Виктории едва не умер от разрыва сердца.
Кстати, этих немецких врачей поддерживал любезный наследный принц Вилли, а когда доведенная до крайности императрица прогнала прочь одного из клеветников, будущий «Господин Война» удостоил его продолжительной аудиенции и заверил его своем глубоком личном уважении.
В это же время его союзник Бисмарк посмел нагло не подчиниться воле монарха и сделал это по причинам скорее личной характера. Когда император снял с поста министра внутренних дел, его шурина фон Путткаммера, по серьезному обвинению в коррупции, канцлер устроил в честь опального министра большой прием, имевший сильный резонанс. На этом ужине присутствовал и Вилли, что стало причиной 6урного выяснения отношений между императрицей и Бисмарком. Канцлер, как обычно, был резок и неучтив — прекрасно знал: то, что он считает своей личной победой, скоро наступит; он не считал нужным поэтому сохранять в разговоре с Викторией принятые внешние приличия и уважение. Она остается его врагом, и он испытывал явное удовольствие, давая ей почувствовать, что власти ее суждено в ближайшее время закончиться.
Увы, затихшая как будто болезнь снова обострилась и стала прогрессировать; 12 апреля у Фридриха III случились приступ кашля. Пришлось поменять трубку, вставленную в горло, на новую модель, обеспечивающую лучшие условия дыхания. Но больной слабел день ото дня.
И все–таки 24 мая, когда ему стало немного лучше, он нашел в себе силы принять участие в церемонии свадьбы своего второго сына Генриха, взявшего в жены княжну Елену, дочь великого князя Людвига Гессенского. Но это усилие сделалось началом его конца — на следующий день все решили, что у императора началась агония.
Агония? Не торопитесь! Спустя пять дней Фридрих снова встал на ноги и в автомобиле, при мундире и в каске, провел смотр трех полков императорской гвардии. Гвардейцы, восхищенные нечеловеческой отвагой Фридриха, радостно его приветствовали. Больше того, спустя еще два дня он лично посетил могилу отца.
Придя в ужас от этих поступков, которые считала безумной неосторожностью, Викки стала умолять его уехать из Берлина и поселиться хотя бы в летнем дворце в Потсдаме. Фридрих согласился, и его по воде повезли в прекрасный дворец, построенный его предком Фридрихом Великим. Перевозившему его судну «Александра» пришлось плыть под настоящим ливнем цветов — их бросали тысячи берлинцев, собравшихся на обоих берегах реки. Короткое путешествие стало его новым триумфом, увы, последним и, вероятно, самым трогательным. Никогда больше Фридриху III не суждено испытать всенародную любовь, столь милую его сердцу.
Седьмого июня врачи констатировали, что трахейная артерия внезапно открылась, а десятого числа сэр Морелл Маккензи вынужден с грустью в голосе признаться своему августейшему больному: — С сожалением вынужден констатировать, государь, что состояние Вашего Величества не улучшается.
«Поверьте, дорогой доктор, мне горько это слышать, — письменно ответил умирающий (уже несколько недель он объяснялся только этим способом). — Мне так хотелось доставить вам удовольствие».
Однако 11 июня его охватило некое подобие рабочей лихорадки, равно как его отца в момент смерти охватила лихорадка словесная. Он писал почти весь день, прекрасно сознавая, что часы его жизни уже сочтены. Двенадцатого июня не смог есть сам, пришлось кормить его искусственно.
И все же еще умудрился принять короля Швеции. Но на сей раз все — началась агония; она продолжалась целых три дня.
Пятнадцатого июня в одиннадцать часов утра наконец–то прекратились длительные мучения и царствование императора и человека доброй воли, продлившееся всего лишь девяносто восемь дней.
И тогда императрица подпала под власть глубокой боли. Потеряв единственного мужчину, которого любила, дорогого спутника жизни, она так от этого и не оправилась.
Но далеко не все испытывали ту же печаль. Едва Фридрих II испустил последний вздох, как новый император Вильгельм буквально наполнил дворец Потсдама своими войсками; им отдан строжайший приказ: никого не впускать во дворец и никого из него не выпускать.
Беспардонное поведение сына преследовало цель дать новому монарху возможность захватить все личные бумаги отца — публичное и наглое оскорбление убитой горем матери. Добрый Вилли уже сорвал маску, даже не подозревая, что навлекает на свой род странное проклятие.
Но обесчестил он себя совершенно напрасно. Хорошо зная сына, Фридрих принял меры предосторожности: незадолго до кончины сложил все свои бумаги в сафьяновый портфель и доверил его своему другу полковнику Шванну; тот незамедлительно покинул Германию и уехал в Лондон. Таким образом, все личные документы германского императора, а также его завещание попали в руки королевы Виктории.
Глубокое уважение и настоящая любовь соединяли старую монархиню и ее первого зятя. В течение последних недель перед его смертью Виктория съездила в Потсдам, чтобы в последний раз с ним увидеться. Этот важный визит заставил тогда Бисмарка и его ученика вести себя сдержаннее и позволил Фридриху отдать распоряжения, которые еще могли быть исполнены.Но, естественно, захват ее дворца солдатами сына глубоко оскорбил вдовствующую императрицу. Она возмутилась и вскоре покинула дворец, который считался запятнанным; прежде чем удалиться в замок Фридрихсхоф, решила заехать к Бисмарку и высказать ему все, что думает по поводу его оскорбительного поведения.
Увы, решив, видимо, что больше нет необходимости любезничать с женщиной, которая уже никто, канцлер просто–напросто отказался ее принять, сославшись на слишком большую занятость на службе новому императору.
Подвергнутая новому оскорблению Императрица отказалась принимать участие в похоронах супруга, считая это не только лицемерным, но и оскорбительным для себя мероприятием, — ей пришлось наблюдать, как невестка занимает ее место. В своем новом жилище она организовала специальную церковную службу и по–своему почтила того, кого любила больше всего на свете.
Кстати, Бисмарку и его ученику пришлось приложить много упорства, чтобы представить слишком короткое правление Фридриха III как незаконное, ссылаясь на то, что подорванное здоровье монарха не дало ему возможности получить ни королевскую корону Пруссии, ни императорскую корону — для этого необходимо поехать в Аахен.
Его вдова с горечью написала матери: «Вильгельм II сменил Вильгельма I, применив те же системы, преследуя те же цели, придерживаясь тех же традиций…» Она еще не знала, что Бисмарку уже не суждено долго править Германией и тесные связи между ним и дорогим Вилли уже начали особенно сильно тяготить нового императора.
Не прошло и двух лет, как Вильгельм II поблагодарил Бисмарка, сделав его князем Лойенбургским, и щедро разрешил ему пользоваться всеми правами после «заслуженной» отставки — бывший канцлер считал ее явно преждевременной. У него хватило смелости обратиться за помощью к Викки… Естественно, его ждал прием, о котором нетрудно догадаться.
К несчастью, Викки ненадолго пережила любимого супруга. 24 июля 1901 года она скончалась в замке Фридрихсхоф, тоже от рака, в возрасте 61 года.
Долго еще после кончины Фридриха III продолжался спор врачей по поводу его лечения. Этот спор не кончился каким–нибудь конкретным результатом; ясно одно — рак горла навис смертельной опасностью над будущим Европы: правь Фридрих III дольше — никогда не случилось бы войны 1914—1918 годов. Со своим проясненным разумом и пацифистскими настроениями, он желал, чтобы между Германией и Францией не нарушался мир. Увы, он пробыл на троне только одну весну, а его преемник, любивший топот сапог и военные парады, приучил Германию к крикливым заявлениям, прежде чем кончил свои дни в глухой голландской деревушке, занимаясь вырезанием по дереву, чтобы заполнить время. К несчастью, Германия не разучилась маршировать на больших парадах и делать громогласные заявления.
Последняя царица
НЕЖДАННЫЙ БРАК
21 декабря 1891 года невысокий молодой человек 23 лет, наследник престола огромной Российской империи, написал в своем личном дневнике, который вел много лет: «Я мечтаю жениться на Аликс Гессенской. Люблю ее уже давно, но особенно страстно и глубоко — с 1889 года, когда она провела шесть месяцев в Петербурге. Напрасно пытался я бороться со своими чувствами, убеждая себя, что это невозможно, но после того, как Эдди[5] отверг мысль жениться на ней или она отказалась выйти за него замуж, мне кажется, единственное препятствие между нами — вопрос вероисповедания. Других преград нет — уверен, она разделяет мои чувства. Все в руках Божьих, и я, искренне веря в милосердие Его, жду будущего спокойно и покорно…»
Однако вопреки написанному молодым Царевичем Николаем та, кто стала предметом его большой любви, ничего и не подозревала, а мысль стать императрицей всея Руси никогда не приходила ей в голову.
Девятнадцатилетняя Алиса–Виктория–Елена–Луиза–Беатриса Гессен–Дармштадтская доводилась внучкой английской королеве Виктории, но, всего лишь принцесса маленького германского княжества, была, кажется, лишена честолюбия, а ее довольно сложный характер не предрасполагал провести жизнь в беспощадном блеске, свойственном обычно императорскому трону.
Лишившись матери в шестилетнем возрасте, она провела часть жизни в Англии, при бабушке, отнюдь не отличавшейся избытком нежности, а другую часть — в Дармштадте у сестер (по крайней мере, до того, как они вышли замуж), которые были значительно старше ее по возрасту, при отце, довольно от нее далеком.
Застенчивая и болезненно чувствительная, Аликс с трудом находила общий язык со своим окружением, страдала вплоть до замужества сестер от своего ничтожного положения третьей сестры. Очень надменная, вынужденная скрывать это, не выносящая, если любая другая женщина независимо от своего положения в чем–то ее превосходила.
Замужество старших сестер — одна вышла замуж за Людвига Баттенберга, другая — за русского великого князя Сергея — дало ей изоляцию дамы первого ранга, о чем она
мечтала, оставшись одна при отце и взяв на себя все обязанности хозяйки дома. Она вполне довольствовалась положением первой дамы Дармштадта.
Когда в 1892 году отец взял ее с собой в Россию, в гости к сестре Елизавете, Аликс не приложила ни малейшего усилия, чтобы проявить себя любезной. Это относилось даже к юному Николаю — тот весь светился счастьем от того, что так скоро вновь ее увидел, и глядел на нее влюбленным взором: он всего лишь на вторых ролях.
Впереди него, даже над ним, стоял его отец Александр III, коронованный гигант, император такого масштаба, что нетрудно понять: молодой и хрупкий Николай вряд ли когда–нибудь сравнится с ним. А еще императрица Мария Федоровна, урожденная принцесса датская Дагмар, явно не желала, чтобы ее сын влюбился в красивую немку.
Аликс не нравилось, когда ею пренебрегали. Ведь на самом деле она очень красивая: высокого роста, белокурая, у нее великолепные голубые, с поволокой глаза, тонкая, гибкая талия, кроме того, она обладает врожденной величавостью и каким–то неуловимым очарованием — во всяком случае, если очень этого хочет, что, правда, случается редко.
Во время злосчастного посещения Петербурга по ее поведению тамошний высший свет нашел Аликс неуклюжей, неприятной, невоспитанной и, совсем уж непростительно, крайне безвкусной. И посему, когда отец и дочь уехали, а Николай осмелился рассказать о своих чувствах родным, мать встретила его признание более чем прохладно.
— Мы с отцом не желаем, чтобы ты женился на немецкой принцессе. Помимо того, что характер Аликс тебе никоим образом не подходит — да и кому, впрочем, он подойдет, — мы стремимся к сближению с Францией. Нас вполне устроит дочь графа Парижского Елена. — Так ответила Мария Федоровна.
Нерешительный и скрытный, Николай больше не настаивал. «Во время разговора с мамой сегодня утром, — записал он в дневнике, — сделан намек на Елену, дочь графа Парижского, и это внесло путаницу в мои мысли. Передо мной два пути: я хочу пойти в одном направлении, а в то же время мама хотела бы, чтобы я избрал второе. Что же будет дальше?»
Очевидно все слабоволие молодого человека, а ведь уже готовился править огромной империей; надеялся лишь на помощь провидения. А пока, несмотря на то, что страстно любил Аликс, отправился утешиться к очаровательной танцовщице Матильде Кшесинской: вот уже четыре года она была его любовницей, она оказывала на него сильное влияние.
Между тем именно провидению суждено ему помочь. Отец Аликс, великий князь Людвиг, умер в Дармштадте почти сразу после возвращения из России. Сын его, Эрнест Людвиг, взошел на трон и поначалу ничего не менял в установившемся порядке. Еще холостой, видел одни преимущества в том, что его молодая, горячо любимая сестра продолжает играть при нем ту же роль, что при отце.
Алике радовалась — остается первой дамой Гессена — и полагала, что это продлится долго. По ее мнению, ни одна женщина не смогла бы так же достойно, как она, занимать место ее матери.
Летом 1893 года Эрнест Людвиг совершил вояж в Англию. В Балморале, куда его пригласила бабушка, королева Виктория, он встретил девушку, которая произвела на него неизгладимое впечатление, — Викторию Сакс–Кобургскую, герцогиню Эдинбургскую. Будучи парнем, не умеющим скрывать свои чувства, он открылся королеве; Виктория благословила этот брак, а поскольку ничто на свете не любила так, как Устройство браков, активно принялась готовить свадьбу. Другими словами, не подумав спросить мнение девушки, королева Дала понять юной Виктории: пусть готовится в ближайшее время выйти замуж за великого князя Гессенского. А тот, обезумев от счастья, поспешил телеграфировать сестре, надеясь, что она разделит его.
Увы, по прочтении телеграммы у Аликс случился первый из ужасных нервных срывов — впоследствии она с успехом стала воздействовать ими на слишком впечатлительного мужа. Когда Эрнест Людвиг вернулся в Дармштадт, ему пришлось иметь дело с обезумевшей фурией.
Но он–то был другой закалки, чем Николай! И дав время пройти и утихнуть гневу, прямо и открыто заявил сестре: намерен жениться, нравится ей это или нет, и хотел бы, чтобы она проявила любезность к золовке, а коли не в состоянии сделать над собой это небольшое усилие, он не препятствует ее отъезду из Дармштадта вместе с какой–нибудь фрейлиной в один из замков великого княжества.
— Я назначу тебе ренту, и ты сможешь жить пристойно и вполне независимо, — добавил он.
Растерявшись от такого отношения Аликс сначала зарыдала, а потом смирилась. Согласилась даже написать юной Виктории письмо с приглашением; однако отправляясь с братом в Кобург, где предстояла свадьба, очень грустила. Надо, чтобы личная судьба изменилась — ни за что она не смирится с положением лишь второй дамы Гессена.
По случаю свадьбы в Кобурге собралось большинство европейских принцев. Сама королева Виктория приехала принять участие в церемонии бракосочетания внука. Именно к ней и обратилась Аликс: раз уж она так умело устроила судьбу брата, почему ей не заняться и судьбой внучки — ведь в воспитании ее королева приняла определенное участие.
— Я тоже этого желаю, — отвечала королева, — но ты отказалась выходить замуж за Кларенса. За кого бы ты хотела выйти?
— Не знаю… но это должен быть человек знатного рода, что позволило бы мне занять то место, на которое я могу претендовать по рождению.
Виктория пожала плечами.
— Разве тебе не известно то, о чем все только и говорят? Это бросается в глаза — Царевич безумно в тебя влюблен! Ты одна лишь этого не замечаешь!
— Да нет же, я знаю об этом, бабушка, но, пусть Николай и хочет на мне жениться, он в этом одинок: его родители не желают видеть меня своей невесткой.
— Они могут изменить свое отношение. Предоставь это мне… мне и, конечно, Англии — так приятно будет увидеть тебя императрицей всея Руси!
Великолепие этого титула заставило Аликс покраснеть. Что ж, она и правда может желать более высокого, великого: в мире никого высокопоставленнее, чем она. По крайней мере когда царь Александр покинет этот мир, а в ожидании ей придется пока довольствоваться положением второй дамы империи, после этой Марии Фёдоровны — ее она инстинктивно ненавидела. И привела другой аргумент.
— Для этого мне придется перейти в другую религию. Я не хочу стать вероотступницей, не хочу быть проклята из–за какой–то короны! — царственно произнесла она.
— Какая глупость! Хочешь, чтобы я выдала тебя замуж, — предоставь все дело мне. В противном случае возвращайся в Дармштадт и готовься к горькой судьбе старой девы.
Перед Викторией ничто и никто не могло устоять, когда она хотела чего–то добиться: 5 апреля 1894 года Николай написал дневнике: «Аликс я нашел еще более похорошевшей с нашей последней встречи, но она была грустна. Мы остались с ней вдвоем, и между нами наконец состоялся разговор, которого я одновременно желал и боялся. Мы проговорили до полудня, но безрезультатно: она не может решиться поменять религию. Бедная девушка пролила много слез, но немного успокоилась, когда мы прощались…»
Спустя три дня победа одержана: Аликс дала себя уговорить. «Великолепный и незабываемый день — день моей помолвки с любимой и несравненной Аликс…»
Событие это произвело эффект грома и молнии — женитьба Эрнеста Людвига, из–за которой все здесь и собрались, отошла на второй план. Аликс, обласканная всеми, сразу стала пользоваться огромным уважением не только в глазах своих подданных (это нетрудно, она всегда ценила себя очень высоко), но и всей Европы.
Королева Виктория, естественно, была очень рада, но в семье российского императора мнения разделились. Так, императрица открыто заявила, что недовольна этим браком. Кроме сестры Аликс, никто из великих княгинь не испытывал ни малейшей симпатии к невесте. Больше того, многие опасались, что ее прибытие в Россию повлечет нежелательное английское вмешательство в государственные дела. Тем более нежелательное, что состояние здоровья Александра III — это ни для кого, кроме ближайшего окружения, не секрет — вызывает серьезные опасения.
Это означает, что в случае кончины императора до свадьбы наследника престола или сразу после нее принцесса не успеет пройти все промежуточные этапы, прежде чем стать императрицей, и у нее совсем не останется времени подготовиться к выполнению столь тяжелой задачи. Аликс, к примеру, говорит только на английском и немецком, но не знает ни русского, ни французского. А именно эти два языка в ходу при императорском дворе.
Жених и невеста провели все лето в Англии, при дворе Виктории. Именно там Аликс приобщилась с помощью исповедника царя отца Янышева к основам будущей своей новой религии (позднее так в ней укрепилась, что это стало походить на фанатизм). Именно там поняла, что любит жениха. В дневнике написала: «Мне приснилось, что я любима, а проснувшись, поняла, что так оно и есть. На коленях поблагодарила за это Господа. Настоящая любовь — это ниспосланный нам дар Божий, и с каждым днем она становится более глубокой, наполненной, чистой…»
Эти несколько проведенных в Англии недель стали периодом опьянения. Окруженная почестями и комплиментами, Аликс получила из России множество дорогих подарков, сказочные украшения, драгоценные кружева и еще более дорогие меха… Всю жизнь она мечтала о такой роскоши — и не могла ее иметь. Ее семья не в состоянии ей этого дать. И вот теперь она завалена ею!
Приняла все это как должное. Через короткое время — ни у кого уже нет сомнений, что царь быстро угасает, — она станет всемогущей императрицей, почти божественным созданием, чьи суждения и мысли непререкаемы. И посему она не видит никакого смысла проявлять любезность к тем, кто к ней приближается, особенно если это русские: свой будущий народ она считала отсталым, диковатым и в большинстве своем развратным.
Впрочем, ей вскоре пришлось отправиться в Россию. Здоровье Александра III потребовало ускорить свадьбу; 5 октября Аликс Гессенская в сопровождении единственной фрейлины покинула свою страну и отправилась в Ливадию, чтобы там встретиться с тем, кто вскоре сделается ее мужем и кого она еще так плохо знает.
Приехала она вовремя: спустя неделю, 20 октября, император скончался. Жених ее, ставший теперь царем Николаем II, написал: «Боже! Боже! Какой ужасный день! Господь призвал к себе нашего любимого, обожаемого папочку! Голова моя идет кругом!..»
На следующий день невеста императора впервые причастилась по православному обычаю. Она сразу перестала называться Именем, которое до сих пор носила: Аликс Гессенская умерла — осталась Александра Федоровна. Последовало возвращение в Санкт–Петербург с телом усопшего царя; похоронили его в Петропавловском соборе, где покоились все российские императоры. А 2 ноября пышно отпраздновано бракосочетание нового царя; однако в набожной и суеверной толпе, собравшейся вдоль пути следования свадебного кортежа, многие крестились при виде идеально красивой невесты, — кажется, она совсем не умеет улыбаться… Люди шептали:
— Она приехала сюда вместе с гробом и не принесет нам счастья…
День коронации в Москве только усилил эти пессимистичные предчувствия: под весом толпы рухнули подмостки, и около тысячи человек погибли. Это случилось 14 мая 1896 года. Для императора уже закрылись сердца части его подданных, а императрица, старавшаяся как могла отгородиться с ним от всех, оказалась отвергнута большей частью российского дворянства.
ТОБОЛЬСКИЙ МУЖИК
В годы после свадьбы дела у Александры Федоровны так и не наладились. Слишком отсталые у нее взгляды на формы правления, не подходящие для России, — отметала даже мысль о любой реформе, которая привела бы страну к намеку на конституционную монархию. Твердо убежденная, что надо укреплять самодержавие, в штыки воспринимала любую идею ограничить некоторые императорские привилегии. К несчастью, это находило полное понимание у Николая.
Замкнувшись с мужем в узком мирке, Александра Федоровна вызвала враждебность всей императорской семьи, включая даже собственную сестру и ее мужа, великого князя Сергея, в свое время горячих сторонников их брака.
Появление на свет детей еще больше усилило изоляцию от общества узкого кружка, в котором так нравилось вращаться императрице. Вначале родились четыре девочки; их появление на свет всякий раз сопровождалось припадками рыданий и отчаяния: всего лишь дочери, а Александра отчаянно желала родить сына для мужа и всей России.
Но всех девочек, очаровательных, красивых великих княжон — Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, — мать, несмотря на все пережитые разочарования, горячо любила. И вот 12 августа 1904 года в Петергофе родился мальчик, царевич Алексей, — для отчаявшейся матери все в мире стало неважным, кроме него. Из–за этой чрезмерной любви пригласили ко двору и даже ввели в ближайшее окружение царя, куда имели доступ лишь редкие избранные, одного из самых странных и противоречивых людей в истории человечества.
Все началось однажды вечером 1911 года в Санкт–Петербурге, в огромном дворце, где уже три дня царила особенная тишина — предвестница больших несчастий: уже целых три дня и три ночи императрица на коленях молилась у постели сына.
Ребенок страдал гемофилией и, несмотря на постоянный присмотр нянек, утром упал, бегая в саду. С того момента в колене у него образовалась гематома, она все увеличивалась, колено посинело, и врачи были бессильны остановить внутреннее кровотечение. Все уже считали, что царица скоро сойдет с ума, — ведь маленький Алексей всегда был предметом ее постоянной заботы и огромной любви. Она проводила с ним львиную долю времени, забывая даже о дочерях; не отходила от ребенка, поклялась себе вылечить его вопреки всем и вся…
По причине безнадежности положения запретила говорить об этом, когда обнаружилось, что ребенок болен наследственной болезнью. Российскому народу не следует знать, что от Александры, которую народ и без того недолюбливал, сын унаследовал тяжелую болезнь — она поражает мужчин, но передается женщинами. Самолюбие и материнская гордость делали для нее невыносимой саму мысль — простолюдины жалеют царевича, наследника огромной Российской империи и ее сына!
Вымаливая у неба немыслимое выздоровление, она прибегала ко всем существовавшим в то время эмпирическим средствам, не говоря уже о бесконечных молитвах и различного рода епитимьях, подсказанных ее мистицизмом. Но теперь случился серьезный кризис, и Александра буквально не знала, какому святому молиться.
И тогда на сцене появился этот странный тип; через императрицу он практически правил Россией и ускорил падение уже сильно пошатнувшегося режима.
Вечером третьего дня страданий маленького Алексея в комнату его вошла женщина. То была великая княгиня Анастасия Николаевна, вторая жена великого князя Николая. Одна из дочерей короля Черногории, вышедших замуж в России, она, как и ее сестра Милица, увлекалась оккультизмом и жила окружении группы более или менее странных ясновидцев и предсказателей, свято им верила и, естественно, хорошо платила. Эта вера привлекала к ней, как и к ее сестре, многих любителей общения с потусторонними силами. В тот вечер она приблизилась к кровати светловолосого, голубоглазого мальчика, издававшего непрерывные стоны, с таким радостным выражением лица, что императрица посмотрела на нее возмущенно.
— Как ты можешь улыбаться, когда мое дитя…
Великая княгиня без тени смущений погладила мокрые от пота волосы маленького больного и произнесла:
— Если ты, Александра, встретишься с человеком, которого я привела с собой, твой сын не только оправится от этого несчастного случая, но и совсем выздоровеет.
— Что ты такое говоришь? Кто этот человек и как мне в это поверить?
— О, это совсем простой человек, крестьянин… но он послан нам Богом! Манеры у него, согласна, никоим образом не похожи на придворные, но вот я заговорила с ним об Алексее…
— Рассказала про Алексея… ты посмела это сделать… крестьянину?!
— Мне следовало сказать — когда мы заговорили об Алексее, разговор начал он. Так вот, когда мы об этом заговорили, он приказал мне: «Иди и скажи императрице, чтобы больше не плакала! Я вылечу ее сына, и, когда он станет солдатом, у него будут розовые щеки…»
Александра молитвенно сложила ладони.
— Если бы так!.. О, Анастасия, если б ты и впрямь нашла того, кто способен вылечить моего ребенка… требуй тогда от меня всего, что пожелаешь! На коленях стояла бы перед ним, как перед Божьим человеком. Но кто он такой?
Человека этого звали Григорий Ефимович Распутин. Крестьянин из Тобольской губернии, где у него жена и дети, однажды утром он, «призванный Господом», все бросил и отправился странствовать по дорогам России, посещая в основном монастыри; познакомился со странной религиозной сектой, под названием «Божьи люди», проповедовавшей, что наилучший способ достичь святости и заслужить вечную жизнь — греховодничать.
«Только когда чувства пресыщены, инертны по причине слишком долгого служения, сердце очищается и люди становятся ближе к Богу!» — провозглашали эти необычные верующие, развивая, таким образом, общепринятое учение: Господь больше заботится о заблудших агнцах, чем о послушно пасущихся в стаде.
Вдохновившись учением, так совпадавшим с собственными тайными вожделениями, Распутин полностью посвятил себя служению заинтересованному Богу. Стал он кем–то вроде «старца», которых Достоевский описывал как «помесь бродячего священника, колдуна, защитника от злой силы… и прихлебателя».
— Вся его сила, — заключила великая княгиня, — сосредоточена в поистине незабываемом взгляде и в ладонях, которые он накладывает на больных. Те сразу чувствуют большое облегчение. Хочешь его увидеть? Мне кажется, ты ничем не рискуешь.
— Так он здесь?
— Ждет в прихожей. Но, может 6ыть, стоит предупредить твоего мужа — только царь решает, можно или нельзя подходить к его ребенку.
Ни разу Николаю не приходило в голову, что мнение его может отличаться от мнения Александры, — и Григорий Распутин вскоре появился в комнате больного ребенка.
Дрожа одновременно от страха и надежды, супруги увидели мужчину лет сорока, высокого и крепкого, в обычной для российских крестьян одежде, только очень грязной; немытые густые черные волосы, с пробором посреди большой головы, свисают до длинных усов и разделенной надвое бороды.
Человек этот выглядел скорее отталкивающе, но, как сказала Анастасия, взгляд его и правда незабываем: прозрачные светло–голубые зрачки, цвета льда, впивались в глаза собеседника и больше их не оставляли. Один глаз был обезображен лимфатическим узлом, но люди видели только зрачки на этом обыкновенном лице, со шрамом на лбу. Когда его странный взгляд остановился на императрице, она помимо воли вздрогнула.
Впрочем, поразились только она и Николай; Распутин, вступив в роскошную комнату, ничуть не смутился, хотя и оказался лицом к лицу с правителями России. Тяжелой походкой подошел к ним и расцеловал сначала одного, потом другую, словно кузенов из провинции, — у опешивших монархов не достало даже сил на это отреагировать. Затем приблизился к постели, где стонал царевич.
Почувствовав чье–то присутствие рядом, маленький Алексей с трудом поднял веки, встретился глазами с незнакомцем — и испуганно дернулся. Тогда Распутин взял в ладони его горячую ручку, лежавшую на одеяле. — Не боись, Алеша, — обратился он к нему, — теперь тебе станет лучше. Посмотри на меня!.. Посмотри внимательно! У тебя уже ничего не болит, совсем не болит!…
Сделал магические пассы, отбросил одеяло и охватил ручищами больную ногу. Потом велел ребенку спать.
— Завтра все кончится, — пообещал он, затем обернулся к Александре — она уже снова опустилась на колени. — Верьте в мои молитвы, и ваше дитя будет жить!
Случайное ли совпадение или реальное действие силы, но на другой день ребенку сделалось лучше; опухоль на колене начала спадать… Александра едва не обезумела от радости, захлебывалась в рыданиях от счастливого избавления. С тех пор она перестала принадлежать самой себе — видела мир только глазами старца, Божьего человека, излечившего ее сына. Очень скоро она станет всего лишь инструментом в его огромных руках… А с ней и вся Россия.
Новость о необычном благоволении императорской четы, которым вскоре начал пользоваться Распутин, облетела Санкт–Петербург с молниеносной скоростью — по большей части благодаря лирическим рассказам великой княгини Анастасии и ее сестры Милицы. Затем из столицы Петра Великого новость долетела до Москвы и до других городов Святой Руси.
Дом «святого человека» днем и ночью осаждали толпы просителей и больных. Сгибаясь под тяжестью даров, толкались в прихожей большой квартиры дома 64 по Гороховой улице, где Распутин поселился вместе со своей родственницей Дуней — она вела хозяйство и занималась посетителями. Часто очереди стояли даже на улице; прошло, однако, немного времени — и вопрос уже заключался больше в завоевании влияния, чем в излечении.
Этот царь и эта царица, «недосягаемые почти так же, как микадо в своем дворце–пагоде» — такой упрек бросил им однажды великий князь Сергей, — оказались легко доступны для хамоватого, грязного мужика, больше того, он ими управлял. Желания его принимали силу закона; пусть даже некоторые его не лишенные здравого народного смысла советы немного облегчали иногда становившуюся все более невыносимой жизнь российского народа — большую часть своего времени Распутин занимался распределением должностей, пенсий и льгот среди тех, кто ему нравился или больше подносил; иной раз это делалось в угоду какой–нибудь женщине, которой удавалось его соблазнить. К нему тек народ, и ни один министр не был уверен, что сохранит свой пост или портфель, если не построит наилучшие отношения со старцем. Но не одни просители становились завсегдатаями квартиры, пропахшей прогорклым маслом и щами. В столовой, примыкавшей к прихожей, толпились знатные посетители и особенно посетительницы. Дамы собирались вокруг самовара, подталкиваемые любопытством или смутным благоговением. Они непременно хотели видеть в этом мужике святого, несмотря на практиковавшиеся им странные религиозные обряды — участвовать в них он приглашал этих дам.
По окончании «рабочего дня» Распутин присоединялся к этому избранному обществу: садился в кресло–качалку, пока Дуняша занималась самоваром, и пил чай, беседуя со всеми этими дамочками. А отхлебнув последний глоток чая, почти ежедневно привлекал к себе одну из посетительниц, всегда молодую и красивую, обнимал сальной рукой, с грязью под ногтями, и шептал нежно:
— Пойдем, голубка! Пойдем со мной!…
Пока все остальные возносили ему славословия, он уводил избранницу в соседнюю комнату, запирался с ней там и проводил встречу личного характера, о церемонии прохождения которой нет смысла рассказывать…
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НИКАК НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ
В квартиру дома 64 на Гороховой улице приходило слишком много самых разных людей, чтобы религиозные обряды ее жильца не получили своеобразной рекламы. По Санкт–Петербургу пошли толки: многие дамы, иногда даже очень знатные, познакомились с узкой железной кроватью Распутина.
Поговаривали также, что фанатично верившие в него, околдованные и очарованные старцем матери, не обладая такой красотой, чтобы надеяться на его благосклонность, без колебаний приводили к нему дочерей, которым выпало несчастье быть красивыми… и девственницами, что, по мнению «святого человека», делало особо ценным это пожертвование нового рода. Мало–помалу среди мужской половины всех, пусть и различных, слоев общества нарастал глухой ропот недовольства против человека, который поверг Россию в коррупцию и разврат по одной простой причине: держал в своих грязных лапах глухую, слепую и до безобразия доверчивую императорскую чету.
Началась война 1914—1918 годов, русская армия потерпела первые поражения и некоторые подумывали над тем, что пришло время попытаться изменить такое положение вещей.
В декабре 1916 года за закрытыми дверями, запахнутыми ставнями и глубоко в подвалах вызревало вино революционного мщения, а обстановка на фронте достигла критической отметки. Однако Николай II никак на все это не реагировал, продолжая находиться в плену инерциального мышления: силы для этого черпал лишь в собственном понимании своего положения и обязанности всех подчиняться монарху, стремящемуся оставаться абсолютным самодержцем. Казалось, он потерял все рефлексы, весь свой разум. Поведение его привело к тому, что при дворе и в городе стали ходить странные слухи: говорили, что Распутин через царицу пичкает его наркотиками и они подавляют его волю с целью принудить отказаться от престола в пользу сына. А тот слишком молод, чтобы править страной, — Александра Федоровна, став регентшей, сделает своего незаменимого старца кем–то вроде оккультного царя и настоящим властелином России. Члены императорского дома ясно это сознавали и не желали допустить — любой ценой.
Вечером того самого декабря 1916 года пятеро мужчин собрались в библиотеке просторного дворца на набережной Мойки: хозяин дома великий князь Феликс Юсупов; двоюродный брат его великий князь Дмитрий, кузен царя по германской линии; депутат Государственной думы Пуришкевич; доктор Лазоверт; капитан Сухотин.
За стенами дворца замерзший город дремал под снегопадом, а тут огромные отделанные изразцами камины поддерживают приятное тепло… Воздух библиотеки наполнен синеватым дымом сигарет, смешанным с ароматом французского коньяка. Однако эти пятеро собрались в великолепной комнате вовсе не для того, чтобы наслаждаться изысканной роскошью, а чтобы обсудить смерть человека…
Все они ненавидели Распутина по разным причинам, все решили избавить от него Россию: народ умирает от голода, гибнут на войне молодые люди, в то время как шайка ни на что не способных людей, вознесенных на вершину призрачной власти благодаря влиянию старца, с каждым днем толкает страну все ближе к пропасти…
Кое–кто из них имел, кроме того, и личные обиды. Бесстыдство этого мужика уже не знает границ, нет ни одной женщины из порядочной семьи, ни одной мало–мальски красивой девушки, которые чувствуют себя защищенными от его поползновений. Говорят даже, в своих притязаниях он зашел так далеко, что пожелал увидеть в своей постели красивую и гордую великую княгиню Ирину, совсем недавно ставшую женой Юсупова. Естественно, именно он и вел собрание.
— Хочу, — произнес он, — просто передать вам слова председателя Думы Родзянко. Он сказал мне вчера: «Единственное возможное спасение — убийство этого негодяя, но в стране не найдется ни одного человека, у которого хватит смелости сделать это. Не будь я так стар, сделал бы это сам».
— Возраст тут ни при чем, — пожал плечами великий князь. — Родзянко, как и другие, просто боится.
— Вот потому–то я и считаю, что эта задача ложится на нас, — снова заговорил Юсупов. — Мы должны очистить Россию от этой скверны!
— Я полностью согласен с тобой, но Распутин хитер. Он прекрасно знает, что мы его ненавидим, и опасается. Заманить его в западню будет нелегко.
— Как знать… Да будет вам известно, господа, что этот мужлан с некоторых пор выказывает ко мне завидное расположение и давно требует, чтобы я удостоил его чести
посетить этот дом. Почему бы нам этим не воспользоваться?
Почему старец проявляет расположение к Феликсу Юсупову, не очень понятно. Естественно, большую роль тут играет очарование великой княгини Ирины, но, возможно, влияет и личность самого князя. Красота непреодолимо привлекает «божьего человека», а мало кто из мужчин сравнится красотой с молодым князем, имеющим все внешние достоинства в сочетании с признаками высокого происхождения. Если кто–то и способен завлечь старца в ловушку, так это он.
Решили этим воспользоваться — разработан сценарий, исключающий всякую случайность: Юсупов пригласит Распутина к себе в дом пропустить по стаканчику вместе с ним и женой. Это в любом случае сработает — старец уже давно и настойчиво намекает, желая, естественно, увидеться наконец с гордой Ириной.
— Придет он сюда, — объяснял князь, — проведу его в столовую: жена пока занята наверху с друзьями, они скоро уйдут. Столовая выглядит так, словно гости только что вышли из–за стола, но останется достаточно блюд, которые вызовут у гостя аппетит. Нам остается сделать так, чтобы эти яства стали для него последними…
Вечером 29 декабря заговорщики снова собрались во дворце на Мойке, чтобы подготовить сцену к убийству. На кружевную скатерть стола, убранного серебром и цветами, поставили четыре прибора в беспорядке, свидетельствующем об окончании ужина; затем — две тарелки с надрезанными пирожными двух видов: на одной — пирожные с розовым кремом, старец их очень любит, на другой — с шоколадом. Еще не сколько недопитых бутылок вина: мадеры и крымского.
Доктор Лазоверт надел резиновые перчатки, вынул из кармана герметично закрытый флакон, взял нож, разрезал пополам, стараясь не разломать, несколько розовых пирожных. Посыпал на нижние их половинки цианистого калия, сложил половинки, оставив крошки на тарелке. На другой тарелке оставил одно пирожное с шоколадом, откусив половину так, чтобы остались следы зубов. Потом снял перчатки и бросил в огонь.
В это время князь Феликс вынул из стола два флакона с раствором цианида и протянул их Пуришкевичу, попросив наполнить им наполовину два фужера из четырех стоящих на столе: это надо сделать спустя ровно двадцать минут после того, как Юсупов поедет за Распутиным.
Сделав все это, князь Феликс ушел. Наступило время начать казнь. Чтобы не вмешивать ни во что слуг, Юсупов отправил их спать, а доктор Лазоверт, переодевшись шофером, сел за руль шикарного лимузина князя. Поехали на Гороховую…
Распутин отправился с ними, ничего не подозревая. Перспектива провести веселый вечер в интимном кругу, с Феликсом и недоступной, но такой красивой княгиней Ириной — не сомневался, ее снисходительный муж предоставит на десерт (многие мужья именно так и поступали), — привела его в хорошее настроение. Войдя в вестибюль дворца, однако, насупил брови, услышав шум голосов и эхо американской песенки, доносившейся из граммофона…
— Это еще что такое?.. Здесь что, праздник? Я думал, будем одни…
— Пустяки, к жене пришли друзья, они все в салоне на втором этаже, скоро уйдут. Идемте в столовую — подождем, пока она с ними простится, а пока выпьем чаю, чтобы скоротать время.
Большая столовая на первом этаже красовалась в описанном состоянии. Распутин посмотрел на мебель, украшение комнаты, на столовое серебро, но вначале отказался от вина.
— Ты пригласил меня выпить чайку, вот и выпью! — заявил он растерявшемуся хозяину.
Тот мысленно обругал себя дураком, но опомнился, увидев, что Распутин, налив чаю, с удовольствием съел одно розовое пирожное, потом другое, потом третье…
Юсупов, затаив дыхание, ждал: старец под действием яда в любую секунду может упасть к его ногам… Ничего подобного: явно ничего не чувствуя, тот без устали говорил, похваляясь своими достоинствами и необычайной защитой, что оказывает ему Господь всемогущий.
Чай все же не утолил его жажды — попросил налить вина. Князь налил крымского в бокал с раствором цианистого калия и протянул старцу. Тот стоя выпил все до последней капли… и остался стоять.
— Тебе нехорошо, батюшка? — осведомился князь, увидев, что старец поднес руку к горлу.
— Ничего, запершило в горле… Налей–ка мне лучше мадеры — люблю!
Поданный коктейль из цианида и мадеры выпил залпом, как до этого крымское, и не проявил ни малейшего признака недомогания. На лбу у Юсупова выступили капли пота. Распутин пил, ел отравленные пирожные — несколько лошадей могли бы убить — и не обращал ни на что внимания… Что же это за человек?! Феликс боролся с безумным желанием осенить себя крестом. А время идет…
— Да где же твоя женушка? — нетерпеливо осведомился старец. — Заставляет себя ждать.
— Пойду взгляну, как там дела. — Князь обрадовался представившемуся случаю скрыться от бредовой сцены, — несмотря на всю свою храбрость, задыхался при виде человека, который отказывается умирать.
Взбежал на второй этаж, где его ждали четверо других заговорщиков, и срывающимся голосом все им рассказал.
— Однако доза яда огромная, — напомнил доктор. — Он все съел?
— Все! Что мне делать?
— Возвращайтесь к нему. Яд должен скоро подействовать… но, если через пять минут не произойдет ничего нового, приходите сюда. Вместе решим, что предпринять.
Юсупов, однако, почувствовал, что не в состоянии дальше переносить это жуткое пребывание с глазу на глаз, — решил покончить лично. Уже очень поздно, нельзя допустить, чтобы труп Распутина оставался во дворце до утра. Он взял пистолет, зарядил, спрятал под шелковой рубахой и вернулся в столовую.
Распутин стал ему жаловаться на жжение в желудке, потребовал налить еще мадеры, она ему показалась лучше прежней, — потом встал, чтобы лучше рассмотреть понравившуюся ему мебель. Когда он повернулся спиной, Юсупов вынул пистолет и выстрелил. Издав дикий рык, старец упал на ковер… На звук выстрела прибежали все: Распутин недвижно лежал на полу… крови не видно — вероятно, внутреннее кровотечение.
Доктор Лазоверт встал на колени у тела, чтобы его осмотреть: пуля прошла недалеко от сердца.
— На сей раз мертв, — подытожил врач. — Остается избавиться от этого громоздкого трупа.
Решили так: великий князь и доктор Сделают вид, что отвозят домой Распутина–роль его сыграет Сухотин, — стараясь произвести возможно больше шума, а затем вернутся каждый по отдельности и помогут сбросить труп в Неву.
Юсупов и Пуришкевич остались с трупом. Пуришкевич нагнулся, взял запястье Распутина, поискал пульс: нет пульса…
— Он точно мертв. — И вышел из столовой, взять в рабочем кабинете сигареты.
И в этот момент князю показалось — сходит с ума: едва он остался наедине с трупом, мертвец открыл глаз, потом другой… поднялся на ноги и с горящими ненавистью глазами бросился на молодого человека, пытаясь его задушить… С криками ужаса Юсупов выскользнул из его рук, выбежал из столовой и бросился к лестнице, призывая на помощь Пуришкевича. Тот вскоре появился — с револьвером в руках…
От ужаса у депутата волосы встали дыбом: труп идет… вот он вышел из дворца на заваленный снегом двор… Тогда он выстрелил в высокую фигуру — и промазал: труп продолжал уходить… Второй выстрел — тоже мимо; третья пуля угодила в позвоночник Распутину. Он остановился, но не упал, а словно окаменел в вертикальном положении. В отчаянной ярости Пуришкевич выстрелил в четвертый раз — пуля попала в голову… На этот раз труп свалился и больше не вставал. Очень вовремя: оба участника страшного действия чуть не потеряли сознание.
Спустя час трое возвратившихся заговорщиков отнесли труп старца на Петровский остров. Над его головой навеки сомкнулись ледяные воды Невы… Но слишком поздно — не остановить ход истории. Ничто уже не спасет царский режим…
ДОМ ИПАТЬЕВА
Новость о смерти Распутина восприняли в Санкт–Петербурге по–разному. Многие — бурными проявлениями радости, особенно в театрах; возбуждение толпы вообще было очень велико. Всюду появились портреты Феликса Юсупова и великого князя Дмитрия. Члены императорского семейства ликовали, а убитая горем императрица, охваченная жаждой мести, вызвала новый всплеск ненависти к себе.
Царь, вернувшийся в Царское Село из ставки в Могилеве для участия в траурной панихиде, устроенной Александрой по своему фавориту, под давлением жены предпринял жестокие санкции против главных заговорщиков: Юсупов сослан в самое отдаленное из своих имений. Что касается великого князя Дмитрия, его отправили в захолустный угол Персии, несмотря на все протесты и мольбы императорской семьи.
Атмосфера вокруг монархов сделалась столь напряженной и неспокойной, что посол Англии сэр Джордж Баченен попросил аудиенции у Николая II, чтобы убедить его умерить самодержавные методы правления и пойти на установление полуконституционной монархии, которая разделит с ним ответственность за завершение этой ужасной войны. Голодные, необмундированные, плохо обученные солдаты царской армии гибли как мухи, несмотря на проявляемый ими героизм. А пока они пытались сдержать натиск немецких войск, большевики взорвали оружейные заводы в Казани.
Революция, к которой призывают Ленин и Троцкий, вот–вот охватит всю страну; рассчитывать на армию не приходится. Посол постарался внушить царю: в случае всеобщей смуты пусть рассчитывает лишь на небольшое число сторонников.
Но он напрасно потерял время: ничто не шло в сравнение с влиянием Александры, требовавшей от мужа биться до конца за сохранение столь милого ее сердцу самодержавия прошлого века. Поглощенная своим горем, она, казалось, не предчувствовала, не представляла вовсе, что готовится в стране. 19 февраля 1917 года великий князь Михаил явился во дворец, чтобы умолять брата вернуться в Ставку: он надеялся, что само присутствие царя в армии усмирит надвигающуюся угрозу бунта.
Николай II согласился крайне неохотно, тем более что в самом Санкт–Петербурге уже началась смута и ему пришлось прибегнуть к помощи казаков, чтобы разогнать толпу — народ пришел в отчаяние от нехватки продуктов питания. Но никто в Царском Селе, менее всего сама императрица, как будто не понимал серьезности положения. А для нее важно лишь одно: дети ее заболели краснухой: забыв, что она императрица, Александра стала обеспокоенной матерью и сиделкой при больных детях.
Увы, Николай II вернулся в действующую армию лишь на очень короткий срок: 2 марта он вынужден отречься от престола сам и заявить об отречении сына. Отрекся он в пользу своего брата, великого князя Михаила: тому пришлось также отречься, на другой же день, когда он узнал, что новый режим, конституционных демократов и октябристов, во главе с прогрессивно настроенным князем Львовым посчитал его провозглашение незаконным. На этот раз царский режим пал окончательно.
Эту ужасную новость императрице принес великий князь Павел. С той самой минуты необычайное превращение произошло с этой странной женщиной: она не сумела быть великой на вершине власти, но стала таковой на пределе горя. В глазах ее стояли слезы, но она приняла убийственное известие с большим достоинством и не выразила ни единым словом сожаления по поводу утраченного высочайшего положения.
— Я больше не императрица, — произнесла она, — но продолжаю оставаться сестрой милосердия и хочу, чтобы ко мне относились как к таковой.
И вернулась к постелям больных детей и к постели своей близкой подруги, также заболевшей краснухой, Анны Вырубовой, которую любила больше других, — та, однако, стала ее злым гением.
Как тут было не сравнивать Александру и Марию Антуанетту: ни та, ни другая не смогли стать монархинями, но и та, и другая сделались мученицами.
Все последовавшие за этим дни — время великой тревоги для этой женщины: она не получала вестей от мужа и с минуты на минуту ждала сообщения, что он убит. Кроме того, жила почти в полном одиночестве — дворец опустел, словно по мановению волшебной палочки. В нем оставались лишь немногие верные люди: старый граф Бенкендорф; доктор Боткин, кому суждено пойти до конца и до самой своей смерти наблюдать страдания императорской семьи; две фрейлины и единственный адъютант императора граф Замойский — поляк, к нему Александра до последнего времени относилась очень плохо. Петля понемногу затягивалась. Еще несколько дней — и императрица стала пленницей в своем дворце, без права общаться с редкими друзьями. И тогда к ней присоединился Николай II, такой же пленник, чтобы разделить ее судьбу.
Когда они вновь встретились, Николай разрыдался в ее объятиях, и Александра думала лишь об одном — успокоить, ободрить, помочь ему, ставшему таким беспомощным. Поведение ее подчинялось теперь лишь божественной воле: она никогда не роптала сама и не позволяла роптать на судьбы никому из своего окружения. Очень, кстати, малочисленного: даже великий князь Михаил не добился разрешения встретиться с братом.
А потом последовали унижения, оскорбления, намеренные грубости от охранников, вчера еще падавших ниц в их присутствии. И все это она переносила с высоко поднятой головой и редким мужеством.
Через посредство сэра Джорджа Баченена британское правительство предоставило убежище свергнутому царю, — возможно, слишком запоздалое! — но правительство князя Львова отказалось выпустить царскую семью, утверждая, что у него нет достаточно сил, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пленников до Англии: рабочие грозят разобрать рельсы перед поездом.
Безопасность императорской семьи — вымышленный повод, чтобы вывезти ее из Царского Села и выбрать для нее другое место пребывания. Ну и выбрали — город Тобольск, в Западной Сибири. Именно этот захолустный, холодный городишко — оттуда прибыл злосчастный Распутин; в огромной империи не нашлось другого места, кроме кошмарной сибирской дыры.
В августе под покровом ночи царь и его семейство покинули дворец; вернуться туда им было уже не суждено — это конец книги, первая глава восходит к очень далеким временам.
Зима в Тобольске наступила очень суровая — об этом свидетельствуют письма царицы к Анне Вырубовой: «Вяжу носки для малыша, попросил связать — старые кругом в дырках. Получаются теплые и толстые, как те, что я раздавала раненым, помните? Теперь я все делаю сама. Брюки отца порвались и все заштопаны, белье детей превратилось в лохмотья. Разве это не ужасно?»
Тобольск оказался для них предпоследним этапом; в России все менялось с ужасающей быстротой. На смену правительству князя Львова пришло Временное правительство Керенского, продержался он у власти до октября 1917 года. В октябре вернулся в Россию Ленин, скрывавшийся с марта в Германии; получил там убежище, оттуда создал первые Советы; стал германским агентом из–за ненависти к царскому режиму[6]. Он сверг Керенского и стал с того момента абсолютным хозяином страны. Хозяином тем более беспощадным, что среди сторонников царя сформировалась белая армия: генералы Краснов и Мамонтов подняли казаков; Деникин, Алексеев и Корнилов повели за собой Северный Кавказ, Врангель готовился сделать то же на границе с Польшей, а в самой Сибири адмирал Колчак сформировал целую армию.
Именно успехи этой армии и ненависть Ленина заставили большевистское правительство перевезти императорскую семью из Тобольска в Екатеринбург: часть ее прибыла туда 30 апреля, а другая часть–23 мая. Несколько верных императору людей, собравшихся в Тобольске, попытались последовать за императорской семьей, но им в этом грубо отказали.
Дом богатого купца Ипатьева был довольно вместителен; двухэтажный, стены выкрашены в белый цвет; построен в вычурном стиле. Довольно комфортабельный, но внутренняя обстановка свидетельствовала о полном отсутствии вкуса. Окружен садиком, но его вскоре не стало видно с улицы: быстро возвели забор из двойного ряда досок, с вышками для часовых по углам, и дом стал похож на настоящий укрепленный пункт (чтобы сторожить горстку людей, выделены пятьдесят три охранника).
Несчастному царскому семейству оставалось жить еще три месяца. Свидетельства, которые потом собрал и обнародовал писатель Мишель де Сен–Пьер, дают нам ясную и страшную картину этой жизни. Грубость и хамство неудержимыми грязными потоками обрушились на нежного, молчаливого человека, горделивую, безмолвную женщину и на полных очарования, бесконечно трогательных пятерых детей.
Старшей из великих княжон Ольге двадцать два года, Татьяне — двадцать, Марии — восемнадцать, самой молодой, Анастасии, — шестнадцать лет. Юному царевичу Алексею всего четырнадцать; он болен и не может передвигаться самостоятельно, его приходится переносить на руках — это делают его отец и верный матрос Нагорный, который привязался к мальчику и никогда от него не отходил.
Один из охранников, по фамилии Проскуряков, так описал эти последние недели жизни: «Пленники вставали в восемь или в девять часов утра и все вместе молились. Собирались в одной комнате и молились. Обед подавали в три часа дня. Ели все вместе в одной комнате, слуги сидели за столом. В девять вечера ужин, чай, потом ложились спать. День проходил так: царь читал, императрица тоже читала или шила с дочерьми. Работать на свежем воздухе им запрещалось… Вениамин Сафонов начал хамить. В доме лишь один туалет для императорской семьи. На стенах вокруг туалета Сафонов писал разные мерзости. Однажды взобрался на забор прямо под окнами и стал петь похабные песни. Андрей Стрекотнин нарисовал в комнатах на первом этаже грязные карикатуры…»
Из других показаний: «Авдеев (человек, управлявший этим ужасным домом. — Ж. Б.) вел себя отвратительным образом. Слуги и комиссары ели за одним столом с Их Величествами. Однажды Авдеев, принимая участие в обеде, не снял с головы фуражку и курил папиросу. Подали котлеты; он взял свою тарелку и, просунув руку между Их Величествами, положил себе. Когда клал котлету себе на тарелку, согнул руку и локтем ударил императора по лицу.
Если великие княжны шли в туалет, их встречал часовой; он грубо с ними шутил и спрашивал, куда и зачем идут. После того, как они заходили в туалет, охранник прислонялся спиной к двери…»
Матрос Нагорный возмущался: «С Их Величествами грубо обращались. Жили в жутком режиме, и каждый день этот режим становился все хуже. Вначале им разрешали гулять двадцать минут, потом сократили прогулку до пяти минут. Не разрешалось делать физические упражнения. Царевич болен… Поведение охранников было особенно гнусным по отношению к великим княжнам: молодые девушки не могли пойти в туалет без красногвардейца. По вечерам их заставляли играть на пианино…»
Это тяжкое заключение в кошмарном окружении продлилось бы дольше, возможно, если бы новости с фронта не обеспокоили палачей последнего царя и его семьи: белые уже подошли к Уралу и приближались к этому городу — Екатеринбургу. И тогда…
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года, между полуночью и часом ночи, когда в доме купца Ипатьева все спали, в помещение ворвался отряд во главе с комиссаром Юровским, председателем местной ВЧК. Пленников разбудили и приказали спуститься в маленькую, узкую подвальную комнату, с голыми стенами… Там собрались царь, с сыном на руках, царица, четыре великие княжны, доктор Боткин, верная горничная Демидова и двое слуг.
Палачи явно торопились: едва Николай II вошел в комнату, Юровский наставил на него револьвер. — Ваши хотели спасти вас, но это им не удалось — мы вынуждены вас расстрелять. — И, продолжая говорить, нажал на курок.
Царь стал оседать на землю, а вокруг него загрохотали выстрелы — безжалостно убиты десять взрослых и больной ребенок. Когда стихла стрельба, одна из великих княжон, юная Анастасия, еще дышала; ее прикончили ударом штыка…
Затем не теряя времени одиннадцать трупов побросали в грузовик и отвезли на опушку леса Коптяки, примерно в 20 верстах от города. Там с тел сорвали одежду, расчленили, облили серной кислотой, потом бензином и подожгли. Все, что не сгорело, бросили в затопленную водой шахту. вместе с пеплом от одежды…
Спустя несколько дней Екатеринбург взяли белые. Всего несколько дней!..
Спустя четыре года разбитый параличом Ленин уступил пост генерального секретаря партии Сталину[7].
[1] Гортензия унаследовала это имение от матери, императрицы Жозефины, умершей за год до этих событий — 29 мая 1814 года.
[2] Все четыре принцессы — сестры короля Людовика I Баварского.
[3] В то время императорская вилла еще не принадлежала императору, он ее снимал.
[4] Знаменитая королева Луиза Прусская, с которой Наполеон встретился в Тильзите
[5] Английский кузен Николая герцог Клэренс.
[6] Свидетельство немецкого генерала Людендорфа: «Наше правительство, посылая Ленина в Москву, взяло на себя очень большую ответственность. Это путешествие оправдано с военной точки зрения: необходимо поставить Россию на колени…»
[7] Автор ошибся — очевидно, имеется в виду пост председателя Совета Народных Комиссаров; Сталин стал генеральным секретарем задолго до смерти Ленина. — Примеч. пер.

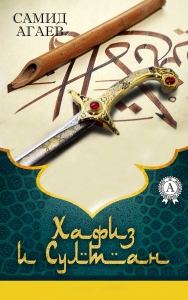



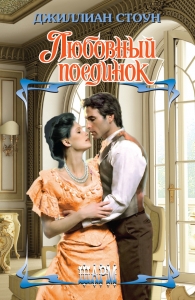
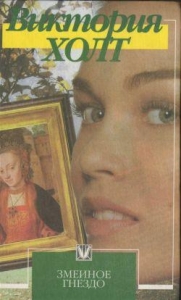

Комментарии к книге «Страсти по императрице», Жюльетта Бенцони
Всего 0 комментариев