Уилки Коллинз Опавшие листья
Печатается по изданию 1879 года.
Пролог
Глава I
Непреодолимое влияние, самовластно действующее иногда на наши бедные сердца и располагающее нашей грустной, короткой жизнью, нередко имеет таинственное начало и доходит до нас через сердца и жизнь совершенно посторонних нам людей.
Когда молодой человек, главное лицо нашего романа, только что надел детскую курточку, семейное несчастье, обрушившееся на посторонний для него дом, должно было иметь громадное влияние на его счастье и всю его жизнь.
Вследствие этого я считаю необходимым представить в кратких словах историю случившегося в этом семействе, а также и то, каким образом это приключение отразилось на нашем герое.
Буду описывать моря и сушу, мужчин и женщин, ясные и пасмурные дни, пока не дойду до конца и не поставлю все на свои места.
Глава II
Старый Вениамин Рональд (торговец бумагой) женился в пятьдесят лет на молоденькой девушке. Брачные узы не изменили его скучной и однообразной жизни. Он не отказался от старых холостяцких привычек и проводил по-прежнему почти все время в своем магазине, находившемся в торговой части Лондона – Сити, с той только разницей, что теперь с ним была жена.
Когда наступали осенние праздники, и она умоляла его совершить маленькое путешествие чтобы немного развлечься, он всегда ей отказывал одними и теми же словами:
– Путешествие по железной дороге и морю, – говорил он, – повредит твоему и моему здоровью. Зачем выезжать для перемены воздуха, когда и в Сити можно дышать всяким воздухом? Любоваться природой можно и в Финсбери-сквер, где все так прекрасно устроено. Нам с тобой хорошо только в Лондоне, в другом месте мы не уживемся.
Он, как все упрямые и эгоистичные люди, не терпел никаких противоречий. Кроткая мистрис Рональд всегда уступала ему, и муж мог вполне доволен тем обстоятельством, что женитьба не изменила его старых привычек.
Однако никакой деспотизм, слабый или сильный, не остается безнаказанным. Мистер Рональд испытал это осенью 1856 года.
У них было двое детей: две дочери.
Старшая вышла замуж против воли отца за бедного человека. Отец, смертельно оскорбленный ее поступком, поклялся, что не пустит ее через порог своего дома, и сдержал слово.
Младшая (ей было уже 18) также причиняла много беспокойств отцу. Он чувствовал ее пассивное, но явное непризнание его авторитета. Последнее время ей нездоровилось. Мистрис Рональд несколько раз уговаривала мужа обратить внимание на состояние здоровья дочери, наконец терпение ее истощилось. Она настояла, да, положительно настояла на необходимости везти младшую дочь Эмму на берег моря.
– Что с тобой? – спросил старый Рональд, заметив что-то для него непонятное в лице и манерах жены в достопамятный день, когда она в первый раз в жизни показала, что у нее есть своя воля.
Человек более наблюдательный заметил бы следы плохо скрываемого беспокойства и испуга на лице бедной женщины.
Муж не заметил непонятную для него перемену.
– Пошли за Эммой, – сказал он. Врожденная хитрость внушила ему мысль поставить мать и дочь лицом к лицу и посмотреть, что из этого выйдет.
Явилась Эмма, девушка небольшого роста, полная, с большими голубыми глазами, пухлыми губками и великолепными золотистыми волосами. Движения ее были вялы, лицо очень бледно. Отец мог сам убедиться, что его не обманывали: она была действительно больна.
– Ты сам видишь, – сказала мистрис Рональд, что девочка чахнет от недостатка воздуха. Мне советовали свезти ее в Рамсгэт.
Старый Рональд посмотрел на дочь. Это было единственное существо, которое он хотя немного любил, однако, уступил очень неохотно.
– Посмотрим! – сказал он.
– Нельзя терять времени! – настаивала мистрис Рональд, – я намерена увезти ее завтра же в Рамсгэт!
Мистер Рональд, посмотрел на свою жену, как собака смотрит на бешеную овцу, которая бросается на нее.
– Ты, – повторил торговец. – Еще что? Где же ты возьмешь денег, скажи на милость?
Мистрис Рональд не захотела спорить с ним в присутствии дочери. Она взяла Эмму под руку и отвела ее подальше к двери. Там она остановилась и сказала:
– Я тебе уже говорила, что девочка больна, и опять тебе повторяю, что ей нужен морской воздух. Ради Бога, не затевай ссоры. У меня и без этого довольно неприятностей! – Она затворила дверь за собой и за дочерью и оставила своего господина в раздумье над его оскорбленным авторитетом.
Что произошло после такого домашнего конфликта, когда зажгли свечи и разошлись по своим комнатам, разумеется, осталось тайной. Достоверно только, что на следующий день утром все вещи были уложены и карета стояла у подъезда. Мистрис Рональд наедине прощалась с мужем.
– Надеюсь, что я не употребила слишком сильных выражений, говоря о необходимости везти Эмму на берег моря, – сказала она тихим, умоляющим голосом. – Меня беспокоит здоровье нашей девочки. Если я оскорбила тебя – видит Бог у меня не было этого намерения, прости меня прежде, чем я уеду. Я всегда старалась быть тебе верной и преданной женой. И ты всегда веришь мне, не правда ли? Веришь и теперь – я уверена в этом.
Она горячо пожала его худощавую, холодную руку, глаза ее остановились на нем с выражением странной тревоги и робости. Годы мало ее изменили: у нее осталось тоже привлекательное, спокойное лицо, тоже изящество и грация, как и в былые времена, когда ее неожиданное замужество с человеком, годившимся ей в отцы, удивило и рассердило ее друзей.
От сильного волнения щеки ее разгорелись, глаза блестели. В эту минуту ее легко можно было принять за сестру Эммы. Муж с недоумением вытаращил свои старые, злые глаза.
– Из-за чего столько шума? – спросил он. – Я тебя не понимаю.
Мистрис Рональд вздрогнула от этих слов, точно почувствовала удар. Она молча поцеловала его и поспешно села в карету, где ее уже ожидала дочь.
В этот день Рональд придирался ко всем служащим. Ему было не по себе. Он приказал закрыть ставни раньше обыкновенного. Вместо того, чтобы отправиться в клуб, он совершил длинную ночную прогулку по безлюдным и полутемным улицам Сити. Он не мог больше обманывать себя: странное поведение жены при прощании сильно его беспокоило. Рональд проклинал ее, ворочаясь на своей одинокой постели.
– Черт побери эту женщину! Что она хотела сказать?
Крик души выражается в различных формах. Таков был крик возмущенной души старого Рональда.
Глава III
На следующее утро он получил письмо из Рамсгэта.
«Я пишу тотчас же, чтобы известить тебя о нашем благополучном прибытии. Мы нашли удобную квартиру на площади Альбион (ты увидишь это по адресу в начале письма). Эмма и я благодарим тебя за доброту, с которой ты снабдил нас средствами для нашей маленькой поездки. Погода стоит великолепная, море тихое и лодки спущены на воду. Мы, конечно, не ждем тебя сюда, но если ты решишься хоть ненадолго покинуть Лондон, прошу тебя известить заблаговременно о своем приезде, чтобы я могла сделать все необходимые приготовления. Я знаю, что ты не любишь никаких писем, кроме деловых, поэтому и не буду писать слишком часто. Пожалуйста, не верь никаким сплетням, пока не услышишь чего-либо от меня. Если у тебя будет свободная минута, надеюсь, что ты напишешь о себе и о магазине. Эмма тебя целует, и я также».
Этим заканчивалось письмо.
– Нечего им бояться, что я помешаю. Спокойное море и лодки. Какой вздор!
Такое впечатление произвело сначала письмо жены на старого Рональда. Через некоторое время он опять прочел письмо, нахмурил брови и задумался. Я «прошу тебя известить заблаговременно о своем приезде» повторил он, точно эта просьба оскорбляла его. Рональд открыл ящик бюро и бросил туда письмо. По окончании дневных занятий он отправился в клуб, но весь вечер был не в духе.
Прошла неделя. Рональд написал коротенькое письмо жене.
«Я здоров и дела идут, по обыкновению, хорошо».
Он переслал два или три письма, адресованных на имя мистрис Рональд, Никаких известий не было из Рамсгэта. «Они, вероятно, веселятся, – подумал он. – Дом кажется пустынным без них, я пойду в клуб».
Он просидел там дольше обыкновенного и много пил в этот вечер. Вернулся домой в час ночи, отпер дверь двойным ключом и отправился спать на верх.
На туалетном столе лежало письмо. – «Мистеру Рональду в собственные руки». Почерк адреса был ему совершенно незнакомый, буквы разбегались в разные стороны, на конверте не было штемпеля. Он подозрительно осмотрел его со всех сторон, наконец, распечатал и прочел следующие строки:
«Преданный друг советует вам, не теряя времени, отправиться к своей жене. Странные дела совершаются на берегу моря. Если вы мне не верите, спросите мистрис Тернер, № I, Слайс-ро Рамсгэт».
Ни адреса, ни числа, ни подписи – анонимное письмо, первое в продолжение его долгой жизни.
Выпитое Рональдом вино не подействовало на его крепкую голову. Он опустился на постель, машинально свертывая и развертывая письмо. Указание на мистрис Тернер, не произвело на него никакого впечатления. Никто из его знакомых и посетителей не носил этой самой обыкновенной фамилии. Если бы не одно обстоятельство, он с презрением бросил бы письмо, но странное поведение жены при прощании вдруг пришло ему в голову. Это воспоминание придавало некоторую важность анонимному предостережению. Он спустился в контору, вынул из бюро письмо жены и медленно прочел его. А! сказал он, дойдя до фазы, заключавшей в себе просьбу известить заблаговременно, если ему задумается ехать в Рамсгэт. Он подумал о том, как странно жена настаивала на доверии к ней, вспомнил ее нервные беспокойные взгляды, густую краску лица и поспешный отъезд. Подозрение, поддерживаемое этими невольными мыслями, овладело им мало-помалу. Она могла совершенно невинно просить его дать знать заранее о своем приезде, чтобы сделать необходимые приготовления, все-таки, ему это не нравилось, нет, ему это не нравилось. Его жесткое, морщинистое лицо как-то съежилось. Он показался гораздо старше своих лет посмотрев в зеркало, когда сел у бюро перед зажженной свечкой. Анонимное письмо лежало перед ним подле письма жены. Вдруг он поднял седую голову, сжал кулак и ударил по ядовитому предостережению, точно оно было живое существо и могло чувствовать.
– Кто бы ты ни был, – вскричал он, – я последую твоему совету!
Он даже не лег в постель в эту ночь. Трубка помогла ему скоротать скучные, томительные часы. Раз или два он подумал о дочери. Почему мать так побеспокоилась о ней? Зачем она увезла ее в Рамсгэт? Уж не надо ли ей было скрыть что-нибудь?
Чтобы не оставаться без дела, он уложил мешок с необходимыми вещами. Как только служанка проснулась, он приказал сварить чашку крепкого кофе.
Потом мистеру Рональду нужно было по обыкновению поприсутствовать при открытии магазина. К своему удивлению, он увидел, что приказчик открывает ставни вместо швейцара.
– Что это значит? – спросил он. – Где Фарнеби? Приказчик посмотрел на своего господина и в испуге остановился со ставнем в руках.
– Господи, что с вами случилось? – закричал он. – Вы больны?
Старый Рональд сердито повторил вопрос: «Где Фарнеби?»
– Не знаю, – отвечал приказчик.
– Не знаете? Вы ходили в его комнату?
– Да.
– Ну?
– Ну, его нет в комнате. И что еще удивительно, постель его не смята. Фарнеби отправился никто не знает куда.
Старый Рональд тяжело опустился на ближайший стул. Вторая тайна, следующая за тайной анонимного письма, ошеломила его. Он, однако, не забывал о делах и передал ключи приказчику.
– Возьмите кассовую книгу, – сказал он, – и посмотрите, целы ли все деньги?
Приказчик взял ключи, но возразил:
– Это вам ничего не объяснит.
– Делайте, как я говорю.
Приказчик открыл денежный ящик, пересчитал фунты, шиллинги и пенсы, полученные накануне вечером до закрытия магазина, сравнил итог с кассовой книгой и отвечал:
– Верно до последнего пенни.
Успокоившись насчет денег, старый Рональд решился воспользоваться помощью своего подчиненного для выяснения обстоятельств происшедшего.
– Если ваши слова имеют какое-нибудь значение, – сказал он, – то вы, видимо, подозреваете причину, по которой Фарнеби оставил службу у меня. Назовите мне ее.
– Вы знаете, что я никогда не любил Фарнеби, – начал приказчик. – Я согласен, что он расторопный и умный малый, но все-таки он плохой слуга. Он лицемер, мистер Рональд, лицемер до мозга костей.
Терпение мистера Рональда начало истощаться.
– Представьте мне факты, – закричал он, – почему Фарнеби уехал, не сказав ни слова никому? Вы знаете это?
– Я не знаю больше вашего! – отвечал приказчик хладнокровно. – Не сердитесь. Не торопите меня, и я представлю вам факты. Обдумайте их хорошенько и посмотрите, к чему они приведут. Три дня тому назад у меня не осталось марок, я отправился на почтамт. Фарнеби стоял у конторы, где выдают деньги по объявлениям. Я подкрался и заглянул ему через плечо. Я видел как ему выдали деньги – пять фунтов золотом, которые лежали на конторке, и подле был банковский билет, который он смял в руке. Не знаю, какой он был стоимости, знаю только, что это был банковский билет. Подумайте, каким образом у швейцара, мать которого прачка, а отец горький пьяница, вдруг появился корреспондент посылающий ему пять соверенов и банковский билет неизвестной стоимости? Предположим, что он по секрету давал деньги под залог. Объявление показывает, что ему посчастливилось. Скажите мне, почему же он в таком случае бежит с места, как вор, ночью? Он не невольник. Он даже не подмастерье. Если он думает улучшить свое положение, ему нет надобности скрывать, что он намерен оставить вашу службу. Быть может, с ним случилось несчастье, но я не думаю этого. Он затевает какую-нибудь гадость! А теперь надо решить вопрос: что нам делать?
Мистер Рональд слушал своего приказчика, опустив голову, не перебивая его ни разу.
– Оставьте все это, – ответил он. – Оставьте до завтра!
– Почему? – спросил приказчик без церемонии.
Мистер Рональд опять дал странный ответ.
– Потому что я принужден уехать из города сегодня. Присмотрите за делами. Торговец железными товарами поможет вам закрыть ставни ночью. Коли меня спросят, скажите, что я вернусь завтра. – Отдав эти приказания, не обращая ни малейшего внимания на впечатление, произведенное на приказчика, он посмотрел на часы и вышел из магазина.
Глава IV
Уже раздался звонок, извещающий, что осталось пять минут до отхода поезда. В то время как все путешественники спешили на платформу, две личности спокойно стояли в стороне, как будто не решили еще ехать ли им с этим поездом. Одна из этих личностей – нарядный молодой человек в длинном дорожном костюме, с румяным лицом и беспокойно бегающими черными глазами и густыми вьющимися волосами. Другая – женщина средних лет в старом платье, высокая, толстая, с хитрым и злым выражением лица. Нарядный молодой человек стоял сзади угрюмой особы, используя ее вместо ширмы, чтобы незаметно следить за пассажирами, направляющимися к вагонам. Когда дали звонок, женщина поспешно обернулась к своему товарищу и показала на часы.
– Ты решишься, когда поезд уйдет? – заметила она.
Молодой ее спутник нахмурил брови.
– Я жду одного человека, – сказал он. – Если он поедет с этим поездом, мы тоже поедем с ним. В противном случае мы вернемся назад, дождемся следующего поезда и весьма возможно, что нам придется ждать до ночи.
Женщина не спускала своих маленьких, злых глаз с молодого человека, пока он говорил.
– Послушай, – закричала она, – я люблю видеть дорогу под ногами. Я тебя, сударь, не знаю. Может быть, ты мне дал фальшивое имя и адрес. Это для меня безразлично. Вымышленные имена попадаются теперь чаще настоящих. Но прими к сведению, что я не сделаю шага, не получив половины денег и билета туда и обратно.
– Молчи! – вдруг шепотом перебил молодой человек. – Все в порядке. Я возьму билеты!
Говоря это, он смотрел на пожилого господина, который, опустив голову, никого не замечая, машинально подвигался вперед. Господин этот был мистер Рональд. Молодой человек, узнавший его в эту минуту, был его сбежавший швейцар – Джон Фарнеби.
Возвратясь с билетами, швейцар взял свою неприятную спутницу под руку и поспешно потащил ее в вагон.
– Деньги, – прошептала она, когда они заняли свои места.
Фарнеби отдал ей деньги, завернутые в кусок бумаги. Она развернула бумагу, убедилась, что с ней не сыграли никакой шутки, и прислонилась к скамейке, чтобы заснуть. Поезд тронулся. Старый Рональд ехал во втором классе, швейцар с спутницей ехали за ним в третьем.
Глава V
Было еще рано, когда мистер Рональд спускался по улице, которая идет от станции Юго-Восточной железной дороги к гавани Рамсгэт. Спросив дорогу у первого попавшегося полицейского, он повернул налево и достиг скалы, на которой расположены дома Альбиона.
Фарнеби следовал за ним на некотором расстоянии, женщина шла за Фарнеби.
У дверей квартиры Рональд остановился перевести дух и немного успокоиться. Чувства его изменились, когда он взглянул на окна: его поступок показался ему в настоящем свете. Ему стало стыдно самого себя. Неужели после двадцатилетней спокойной супружеской жизни он заподозрил свою жену по наущению неизвестного лица, даже имя которого было ему незнакомо? Если бы она вышла на балкон и увидела меня здесь, подумал он, каким бы дураком я ей показался. Когда он, поднял молоток, чтоб постучаться в двери, ему захотелось опять тихонько опустить его и вернуться в Лондон. Но нет, уж поздно!
Служанка вывешивала птичью клетку за окно и увидела его.
– Здесь живет мистрис Рональд? – спросил он.
Девушка подняла брови, открыла рот, посмотрела на него в сильном смущении и, не ответив ни слова, скрылась в кухне.
Этот странный прием разозлил его. Он начал громко стучать, чтобы на чем-нибудь сорвать злость.
Хозяйка отворила дверь и посмотрела на него строго и удивленно.
– Здесь живет мистрис Рональд? – повторил он вопрос.
Хозяйка отвечала ему медленно, взвешивая каждое слово, прежде чем произнести его.
– Мистрис Рональд наняла здесь квартиру, но еще не переехала.
– Не переехала? – Слова эти так озадачили его, точно были сказаны на незнакомом ему языке. Он молча и бессмысленно стоял на пороге, вся злоба прошла, всепоглощающее чувство страха охватило его. Хозяйка взглянула на него и подумала: «Мои подозрения верны, у них неладно!»
– Может быть, вы не поняли меня, сударь, – продолжала она серьезно и вежливо. – Мистрис Рональд сказала мне, что живет в Рамсгэте со знакомыми. Она хотела переехать ко мне, когда уедут знакомые, – но они еще не назначили день своего отъезда. Она приходит сюда за письмами и даже сегодня была здесь, чтобы заплатить за квартиру. Я спросила, когда она думает переехать, но она не могла дать мне определенного ответа: знакомые еще ничего не решили. Я должна сказать, что это показалось мне немного странным. Прикажете ей передать что-нибудь?
Он достаточно оправился, чтобы говорить. Можете вы мне сказать, где живут ее знакомые? – спросил он. Хозяйка покачала головой.
– Нет. Я предлагала мистрис Рональд пересылать письма или карточки на настоящую ее квартиру, избавить ее от труда приходить за ними, но она не согласилась и никогда не упоминала своего адреса. Не хотите ли войти и отдохнуть? Я позабочусь о вашей карточке, если вы пожелаете ее оставить.
– Благодарю вас, не нужно, – прощайте.
Хозяйка смотрела, как он сходил с лестницы.
– Это муж, Пегги, – сказала она стоявшей сзади нее служанке. Бедный старик! И какая почтенная, по наружности, дама!
Когда мистер Рональд машинально дошел до конца улицы, перед ним открылось величественное зрелище беспредельного простора моря и неба. У решетки, окружающей скалу, было несколько скамеек.
Он беспомощно опустился на одну из них.
Ничто так не изнуряет человека физически и нравственно, как голод. Мистер Рональд со вчерашнего дня выпил только чашку кофе. В голове его был хаос, в котором он сам не мог найти ни начала, ни конца. Он ничего не помнил, мысли перенесли его в прошедшее, ему как-то особенно живо представилась одна сцена из детства, когда он играл в крикет и шар ударил ему в голову. Он совершенно машинально, не думая о том, что делает, снял шляпу и приложил руку ко лбу. «Так же голова кружится, – повторял он бессмысленно, – так же голова кружится».
Он откинулся на скамью, пристально глядя на море, не понимая, что с ним делается. Фарнеби и женщина наблюдали за ним из-за угла.
На голубом небе не было ни одного облачка: легкий ветерок пробегал по сверкающим волнам. До него доносились крики погонщиков, смех детей, играющих на берегу моря, отдаленные звуки вальса и тихий плеск волн, разбивающихся о песок.
На соседней скамье грязный лодочник говорил с глупым старым туристом. Мистер Рональд прислушался к их разговору, слова доходили до его слуха, как бы сквозь сон, вместе с другими звуками, наполнявшими воздух.
«Да, это Гудвинская мель, вон где маяк, а вон тот пароход, что ведет судно на буксире, называется Рамсгэтским буксирным пароходом. Знаете, чего бы мне хотелось? Чтобы этот пароход взлетел на воздух. Почему? Я скажу вам почему. Я живу в Бродстэрсе, а не в Рамсгэте. Отлично. Я здесь баклушничаю, как вы видите, без гроша в кармане. Каким ремеслом я занимаюсь? Никаким, я лодочник, а моя лодка гниет в Бродстэрсе, потому что работы нет. А кто виноват в этом? Виноват пароход. Он лишил нас куска хлеба, меня и моих товарищей.
Постойте, я вам расскажу, каким образом он это сделал. Когда в доброе, старое время корабль садился на мель, на Гудвинскую мель, что с ним происходило? Он разбивался при сильном ветре и через некоторое время шел ко дну. Что мы делали (в доброе, старое время), когда видели погибающий корабль? Мы спускали лодки, во всякую погоду спускали лодки. И спасали жизнь экипажа, говорите вы? Ну, мы, конечно, спасали и людей, но ведь нам за это не платили. Мы преимущественно спасали груз, сударь, и получали же вознаграждение! Сотни фунтов, говорю я вам, делились между нами по закону. Но вот соединяются несколько подлецов и собирают подписку для построения буксирного парохода. Теперь, если корабль попадет на мель, буксирный пароход выходит во всякое время дня и ночи, приводит его в гавань и отнимает у нас кусок хлеба. Это срам, по-моему, чистый срам!»
Последние слова жалобы лодочника неясно донеслись до слуха мистера Рональда, в глазах у него помутилось, он совершенно потерял сознание. Вдруг какой-то толчок заставил его очнуться. Над ним стоял лодочник и тряс его за ворот.
– Придите в себя, сударь, что с вами?
Какая-то сострадательная барыня предлагала ему склянку с нашатырным спиртом. – Вам, кажется, дурно, сэр? Он поднялся со скамейки и машинально поблагодарил барыню. Лодочник из Бродстэрса, надеясь на вознаграждение, взял несчастного под свое покровительство и повел его в ближайший трактир.
– Вам надо съесть биток и выпить стакан водки, – сказал милосердный самаритянин девятнадцатого столетия. – Я сам проголодался и составлю вам компанию.
Рональд не противился и последовал за ним, как собака. Он пришел в себя только тогда, когда кончил есть. Пища подкрепила его силы. Он вскочил и с невыразимым удивлением посмотрел на своего товарища. Лодочник открыл было сальные губы, но замолчал, увидев золотую монету в руке мистера Рональда.
– Не говорите со мной, заплатите по счету и принесите мне сдачу на улицу. Когда лодочник присоединился к мистеру Рональду, тот расхаживал взад и вперед по улице, держа какое-то письмо в руках, изредка произнося отрывочные фразы.
– Господи, помоги мне. Я, кажется, сошел с ума. Я не знаю, что делать. Он опять взглянул на письмо: «Если Вы мне не поверите, спросите мистрис Тернер, № 1, Слайс-ро, Рамсгэт». Эти строки заставили его очнуться. Он положил письмо в карман и обратился к лодочнику.
– Проведите меня немедленно в Слайс-ро, – сказал он, – сдачу можете оставить себе. Лодочник, по-видимому, не нашел слов для выражения своей благодарности. Он весело хлопнул по карману и повел Рональда сперва под гору, потом опять на гору, наконец повернул в восточную часть города.
Когда лодочник повернул на восток, Фарнеби, все еще следивший за ними с женщиной, остановился и посмотрел на название улицы.
– Я знаю теперь, куда он идет, – сказал он. – Вперед! Мы придем туда раньше его другой дорогой.
Мистер Рональд и его проводник достигли ряда маленьких бедных домиков, окруженных жалкими садиками. Задние окна выходили на луга и поля, лежащие по обе стороны дороги в Бродстэрс. Место было уединенное. Проводник остановился и почтительно спросил.
– Какой номер, сударь?
Мистер Рональд успел совершенно прийти в себя.
– Никакого, – сказал он. – Вы можете идти.
Лодочник медлил. Он никак не мог понять, что в его покровительстве не нуждаются больше.
– Вы уверены, что я вам не нужен? – спросил он.
– Совершенно уверен! – ответил мистер Рональд.
Лодочник удалился, утешая себя мыслью, что получил хорошее вознаграждение.
№ 1 находился в самом конце длинного ряда домов. Шпионы уже были на месте, когда мистер Рональд позвонил. Женщина стояла на мостовой недалеко от двери. Фарнеби караулил за углом, облокотись, на низкий деревянный забор огорода.
Неповоротливый мужчина в одной рубашке отворил дверь.
– Дома ли мистрис Тернер? – спросил мистер Рональд.
– Да, она дома, но она занята и не может никого принять. Что вам угодно?
– Мистер Рональд настаивал, отказываясь отвечать на вопросы.
– Мне необходимо сейчас же видеть мистрис Тернер, – сказал он, – по очень важному делу. Его настойчивый тон подействовал на ленивого мужчину.
– Ваше имя? – спросил он. Мистер Рональд отказался назвать себя.
– Передайте только мою просьбу, – сказал он. – Я не задержу мистрис Тернер больше минуты.
Мужчина неохотно отворил дверь в гостиную. Какая-то старуха крепко спала на изорванном диване. Он прошел в соседнюю комнату. Там никого не было.
– Подождите, пожалуйста, здесь, – сказал он и вышел исполнить поручение.
Обстановка гостиной была самая бедная. В открытое окно видно было белье, развешенное в огороде для просушки. Колода грязных карт и простое шитье лежали на маленьком столике. Над камином, висели дешевые американские часы, а на полу валялась изорванная газета, забрызганная пивом. Воздух был пропитан запахом лука. Все это произвело гнетущее впечатление на старого Рональда. Его начала бить лихорадка, он опустился на один из сломанных стульев. Минуты медленно шли за минутами. Наконец наверху раздался шум шагов, где-то отворили и опять захлопнули дверь, потом послышался шелест женского платья на лестнице, ручка двери повернулась. Рональд встал, ожидая увидеть мистрис Тернер. Дверь отворилась, и он очутился лицом к лицу со своей женой.
Глава VI
Джон Фарнеби, карауливший у забора, вдруг поднял голову и взглянул на открытое окно гостиной. Он подумал с минуту и присоединился к своей союзнице, стоявшей на улице перед домом.
– Ты мне нужна в огороде, – сказал он, – пойдем!
– Сколько еще времени мне придется торчать тут? – спросила она.
– Сколько мне вздумается, если ты хочешь получить остальные деньги. Он показал ей деньги, и она молча последовала за ним. Подойдя к забору, Фарнеби указал на окно и полуотворенную калитку огорода.
– Говори тише, – прошептал он. – Слышишь ты голоса в доме?
– Я не могу разобрать, что они говорят.
– Я также. Теперь слушай, что я тебе скажу: мне нужно пробраться ближе к окну. Спрячься за забор так, чтобы тебя не видно было из дома. Если ты услышишь шум, значит, меня поймали. В таком случае поезжай в Лондон со следующим поездом и жди меня завтра к двум часам. Если ничего не случится, подожди моего возвращения. Он оперся рукой о низкий забор и перепрыгнул через него. Белье, развешенное в огороде, скрывало его от взоров людей, находившихся в комнате. Он воспользовался этим и пробрался по боковой дорожке, поворачивавшей под прямым углом от окна гостиной. Здесь за кустом нашел он безопасное убежище, пока никого не было в саду. Фарнеби присел и стал прислушиваться.
Первый голос дошедший до его слуха был голос мистрис Рональд. Твердость ее тона поразила его.
– Выслушай меня до конца, Вениамин, – говорила она. – Я имею право требовать этого от моего мужа и требую. Если бы я заботилась только о спасении репутации нашей бедной девочки, ты имел бы полное право меня бранить за то, что я скрыла от тебя постигшее нас несчастье.
Суровый голос мужа прервал ее.
– Несчастье? Скажи лучше позор, вечный позор!
Мистрис Рональд не слышала его слов. Она продолжала печально и терпеливо:
– Но у меня была другая задача, еще труднее. Мне нужно было спасти ее против ее собственной воли от злодея, который навлек на нас этот позор. Он действовал все время совершенно хладнокровно. Женитьба на Эмме представляет ему много выгод, и он хочет вынудить у нас согласие на брак. Ради Бога, не говори громко. Она наверху, над нами и твой голос может ее убить. Не думай, что я бросаю слова на ветер, я видела его письмо к ней, я заставила горничную сознаться во всем. Господи, что она мне рассказала! Эмма отдалась ему и душой, и телом! Я знаю это! Я знаю, что она посылала ему деньги (мои деньги) отсюда. Я знаю, что горничная (по ее просьбе) известила его по телеграфу о рождении ребенка.
О, Вениамин, не проклинай бедного, беспомощного младенца (такая прелестная девочка!) Не думай о нем, не думай о нем! Покажи мне письмо, которое заставило тебя приехать сюда, я хочу видеть это письмо.
А! Я могу тебе сказать, кто его написал! Он написал его, чтобы достигнуть своей цели. Неужели ты сам не понимаешь? Если мне удастся скрыть от всех этот позор и несчастье, если я увезу Эмму за границу под видом болезни, – наступит крах его надежде стать твоим зятем и компаньоном. Да! Низкий бродяга, закрывающий ставни твоего магазина, надеется быть твоим компаньоном и наследником после смерти. Неужели ты все еще не понимаешь цели его письма? Она ясна, как день. Ему хочется довести тебя до бешенства, предать имя Эммы позору, чтобы вырвать у нас согласие на брак как на единственное спасение от страшного скандала. Разве я не обязана была пожертвовать всем прежде, чем позволю нашей девочке, нашей собственной плоти и крови, связать себя на всю жизнь с таким человеком? Ты простишь меня, не правда ли? Как могла я сказать тебе всю правду перед отъездом, зная твой характер? Как я могла ожидать терпения от тебя, ожидать, что ты согласишься принять чужое имя, согласишься прятаться, пожертвовать всем, чтобы удалить Эмму от этого человека? Нет, я не знаю где Фарнеби.
– Молчи, звонят! Доктор всегда приходит в это время. Я тебе опять повторяю, я не знаю, даю тебе мое честное слово, что не знаю, где Фарнеби.
Тише! Тише! Доктор идет наверх. Он не должен ничего слышать.
До сих пор мистрис Рональд удавалось сдерживать мужа, но теперь бешенство, накопившееся во время рассказа, совершенно им овладело.
– Ты лжешь, – закричал он в исступлении. – Ты все знаешь, ты должна знать, где Фарнеби. Я убью его, хотя и попаду за это на виселицу. Где он? Где он?
Крик наверху заставил его замолчать прежде, чем миссис Рональд успела произнести хоть одно слово. Дочь услышала его, дочь узнала его голос. С криком ужаса бедная мать бросилась наверх, опять где-то отворилась и затворилась дверь. Потом наступило молчание. Наконец наверху раздался голос мистрис Рональд, зовущей сиделку, уснувшую в гостиной на диване. Ее ответ неясно долетел до Фарнеби. Потом опять наступило молчание, прерванное другим голосом – голосом незнакомым, раздавшимся у окна.
– Идите сейчас же за мной наверх, сэр, – говорил кто-то очень повелительно. – Как доктор вашей дочери, я говорю вам, что вы ее серьезно испугали. Она находится в таком критическом положении, что я не отвечаю за ее жизнь, если вы не постараетесь поправить сделанное вами зло. Пойдите, приласкайте ее, скажите, что вы ей прощаете. Нет! Мне нет никакого дела до ваших домашних ссор, я обязан думать о своей пациентке. Чего бы она ни попросила, вы должны исполнить. Если у нее начнутся конвульсии, она умрет, и вы будете причиной ее смерти.
Так говорил доктор. Мистер Рональд все реже и реже перебивал его и наконец повиновался. Послышались поспешные мужские шаги, потом снова наступило молчание, продолжительное молчание, прерванное голосом мистрис Рональд наверху.
– Отнесите ребенка в гостиную, няня, и подождите меня. В это время дня там прохладнее!
Плач ребенка и грубое ворчание няни были следующими звуками, долетевшими до Фарнеби.
Няня ворчала, потому что ее разбудили.
– Нужно же человеку отдохнуть после бессонной ночи.
В этом доме никому покоя не дают. У меня голова тяжела, как камень, и все кости ломит.
Вскоре восстановившаяся тишина показала, что ей удалось убаюкать ребенка. Фарнеби впервые позабыл об осторожности, его лицо пылало от волнения, он подходил все ближе и ближе к окну в своем нетерпении узнать, что будет дальше. Наконец он услышал тяжелое дыхание, доказывавшее, что нянька заснула. Окно было низкое. Когда тяжелое дыхание перешло в храп, он влез на окно и заглянул в комнату. Нянька крепко спала в кресле, ребенок спал у нее на коленях.
Он неслышно спрыгнул на землю, снял башмаки, положил их в карман и поднялся по двум или трем ступенькам, которые вели в полуотворенную дверь, выходившую в огород. В коридоре он мог слышать голоса наверху. Они все еще были заняты своим несчастьем, только служанка могла его заметить. Плеск воды в кухне убедил его, что и с этой стороны не представлялось никакой опасности: она, вероятно, что-нибудь мыла. Фарнеби успокоился, неслышно отворил дверь гостиной и подкрался к креслу няньки.
Одна из ее рук все еще лежала на ребенке. Надо было действовать осторожно, хладнокровно, чтобы не разбудить ее. Если она проснется, все пропало!
Он взглянул на американские часы, висевшие над камином и немного успокоился, было еще не очень поздно. Чтобы не потерять равновесия, он встал на колени у кресла няньки и осторожно положил руку под ребенка. Так же осторожно, беспрестанно останавливаясь, чтобы не разбудить ее, он взял у нее ребенка. Рука ее так потихоньку опустилась на колени, что она не проснулась. Самое трудное было сделано. Положив ребенка на левую руку, он правой отворил дверь. В саду лицо малютки сморщилось, маленькое, нежное создание задрожало от свежего воздуха. Он тихонько набросил на лицо ребенка угол шерстяного платка, в который он был завернут. Ребенок спал на его руке так же спокойно, как на коленях няньки.
Через минуту Фарнеби был у забора. Женщина поднялась ему навстречу и улыбнулась в первый раз после отъезда из Лондона.
– Ты достал ребенка? – сказала она. – Ну, ловок же ты!
– Возьми его, – ответил он раздраженно. – Нам нельзя терять ни минуты.
Остановившись только, чтобы надеть башмаки, он повел их в центр города. Первый попавшийся мужчина указал им дорогу на станцию. Она была недалеко. Через пять минут женщина и ребенок были в безопасности в поезде, отправлявшемся в Лондон.
– Вот остальные деньги, – сказал он, подавая их ей в открытое окно.
Женщина смотрела на ребенка с выражением сомнения на лице.
– Все пойдет хорошо, пока деньги не кончатся, – сказала она. – А потом что?
– Разумеется, я приеду к тебе, – ответил он.
Она пристально посмотрела на него и тремя словами выразила насколько она верит его обещанию.
– Разумеется, ты приедешь!
Поезд тронулся. Фарнеби посмотрел ему вслед с выражением сильного облегчения.
– Теперь, – подумал он, – и репутация Эммы спасена. Незаконный ребенок не должен нам мешать после свадьбы.
С платформы он отправился в буфет и выпил стакан воды с водкой, чтобы подкрепить силы для предстоящего ему дела. Еще на пути в Рамсгэт он тщательно обдумал все, что нужно было сделать, избавившись от ребенка.
– Когда пропажа ребенка переполошит весь дом, будущий муж Эммы будет первым лицом, которое она пожелает видеть. Если у старого Рональда осталась хоть капля чувства, он должен (после того, что я сделал) согласиться на наш брак.
Обсудив все таким образом, он возвратился в Слайс-ро и позвонил у двери, как подобает гостю, которому нет надобности скрываться.
В доме уже поднялась паника из-за исчезновения ребенка. Ни слуги, ни хозяин дома не спешили отворить дверь. Фарнеби терпеливо ждал. В некоторых случаях мужчина обязан заботиться о своей наружности. Он вынул карманную гребенку и с большой ловкостью и быстротой привел в порядок бакенбарды. Наконец послышались шаги в коридоре. Фарнеби положил назад гребенку и поспешно застегнул пальто. «Теперь за дело!» – сказал он про себя, когда отворили дверь.
Повествование
Глава I
Прошло шестнадцать лет после ужасного открытия, сделанного мистером Рональдом в Рамсгэте, т. е. в 1872 году пароход «Аквила» вышел из Нью-Йоркской гавани по направлению к Ливерпулю. Был сентябрь месяц. Осенью отправление пароходов из Америки в Англию было бы крайне невыгодно для судовладельцев, если бы не компенсировалось платою за груз, так как в это время года все путешественники направляются в противоположную сторону. Американцы возвращаются из Европы домой. Туристы откладывают путешествие в Соединенные Штаты до прекращения августовской жары и наступления прелестного курортного сезона. И за столом, и в каютах пассажирам «Аквилы» было очень просторно. Лакомые куски доставались буквально всем за обильным обедом.
Ветер дул попутный, погода стояла прелестная. На всем корабле нельзя было встретить ни одного недовольного лица. Любезный капитан угощал всех за столом с видом джентльмена, принимающего у себя гостей. Красивый доктор прогуливался по палубе под руку с дамами, поправляющимися после первых приступов морской болезни. Корабельный инженер – страстный музыкант – в свободное время играл на свирели в своей каюте, ему обыкновенно аккомпанировал «Аполлон» Атлантического океана, унтербаталер.[1] Только на третий день путешествия утром общее согласие было нарушено мимолетным раздором, причиной которого послужило неожиданное прибавление к пассажирам в образе заблудившейся птички.
Это была уставшая птичка, (занесенная ветром, как предполагают ученые) она уселась на мачту отдохнуть и оправиться после долгого полета.
Как только маленькое существо было замечено, ненасытная страсть англосаксов к истреблению птиц, начиная от величественного орла до ничтожного воробья, проявилась во всей своей силе. Экипаж забегал по палубе, пассажиры бросились в каюты, чтобы поскорее схватить ружья и подстрелить птичку. Счастливец, которому первому попалось губительное оружие, был старый квартирмейстер[2]«Аквилы». Он прицелился и уже хотел спустить курок, как вдруг на него налетел один из пассажиров, молодой, худощавый, загорелый, живой мужчина, выхватил у него ружье, разрядил его через борт корабля и с негодованием воскликнул: Негодяй! Вы хотите убить бедную, уставшую птичку, которая доверилась нашему гостеприимству и ничего не требует от нас, кроме отдыха. Это маленькое, безвредное существо такое же создание Божье, как и вы. Мне стыдно за вас – у вас на лице написано убийство, я прихожу в ужас от вашего поступка. Квартирмейстер, высокий, серьезный мужчина, очень медленный в движениях, выслушал этот выговор, вытаращив глаза и открыв рот от удивления, из которого потекла желтая от табака струйка слюны. Когда пылкий молодой человек остановился, чтобы перевести дух, моряк обратился к публике, собравшийся вокруг них.
– Господа, – сказал он с римским лаконизмом, – этот молодой человек сумасшедший.
Голос капитана остановил общий взрыв хохота.
– Довольно, – сказал он. – Никто не должен стрелять в птицу. Позвольте заметить, сэр, что вы могли бы проявить свои гуманные чувства и не в таких выражениях. Пылкий молодой человек опять заволновался.
– Вы совершенно правы, сэр! Я заслужил это замечание. Он побежал за квартирмейстером и схватил его за руку. – Прошу у вас прощения, прошу от всего сердца. Вам следовало выбросить меня за борт за все то, что я наговорил вам. Пожалуйста, извините мою горячность, простите меня.
– Что вы говорите? Кто старое помянет, тому глаз вон! Вот это прекрасно! Вы отличный, малый! Если я могу быть вам полезен (вот моя визитная карточка, в ней и адрес в Лондоне), пожалуйста, дайте мне знать, умоляю вас, исполнить это.
Он поспешно вернулся к капитану.
– Я помирился с моряком, он простил мне, он не сердится. Позвольте мне поздравить вас: у вас хороший христианин на службе. Я бы желал походить на него. Извините меня, господа, – обратился он к присутствующим, – за произведенный мной переполох. Я вам обещаю, что этого впредь не случится.
Мужчины переглянулись и, казалось, согласились с мнением квартирмейстера о их спутнике. Женщины, тронутые его чистосердечием и очарованные красивым лицом, раскрасневшимся от волнения, подумали, что он был прав, спасая бедную птичку и что прочим мужчинам не мешало бы более походить на него.
Разговоры о происшествии еще не прекратились, когда зазвонил колокол, возвещавший о завтраке.
Все пассажиры разошлись с палубы, за исключением двух. Один из них был пылкий молодой человек, другой – господин средних лет с седой бородой и проницательными глазами, он молча следил за происшедшей сценой и теперь воспользовался удобным случаем, чтобы познакомиться с героем происшествия.
– Вы не будете завтракать? – спросил он.
– Нет, сэр. Люди, с которыми я жил, не едят каждые три или четыре часа.
– Извините меня, – продолжал первый, – но мне хотелось бы знать, с какими это людьми вы жили? Мое имя Хеткот, я был когда-то членом коллегии для воспитания юношества. Из того, что я видел и слышал сегодня утром, я заключил, что вы не были воспитаны ни по одной из принятых теперь систем. Не так ли?
Пылкий молодой человек вдруг обратился как бы в статую покорности и заговорил, будто отвечал урок.
– Я Клод Амелиус Гольденхарт. Мне двадцать один год. Я единственный сын покойного Клода Гольденхарта из Шефильд-Хата, Букингам-шайра в Англии, воспитывался Первобытными Христианскими Социалистами в Тадморской Общине, в штате Иллинойс, наследовал ежегодный доход в пятьсот фунтов и теперь, с одобрения Общины, отправляюсь в Англию, чтобы посмотреть на тамошнюю жизнь.
Мистер Хеткот выслушал этот многословный отчет, недоумевая, насмешка это или просто оригинальное сообщение фактов. Клод Амелиус Гольденхарт увидел, что впечатление, произведенное им, неблагоприятно и поспешил его сгладить.
– Извините меня, сэр, – начал он, – я не смеюсь над Вами, как Вы, кажется, предполагаете. Нас в Общине учат быть вежливыми со всеми. Говоря откровенно, во мне есть что-то странное (право я не знаю что именно), заставляющее незнакомых мне людей спрашивать, кто я такой. Вы, может быть, помните, что между Иллинойсом и Нью-Йорком расстояние большое, а любопытные люди не редки в дороге. Когда нужно часто повторять одно и то же, то раз принятая форма выводит из затруднения. Так я облек в форму свои сообщения и передаю их всем желающим со мною познакомиться. Довольны вы, сэр? Так дайте мне руку, чтобы доказать это.
Мистер Хеткот с большим удовольствием пожал ему руку. Невозможно было устоять против честных карих глаз и простого, задушевного обращения молодого человека с оригинальной манерой и странным именем.
– Мистер Гольденхарт, – сказал он, опускаясь на скамью, сядем и поговорим.
– Все, что хотите, сэр, только не называйте меня мистер Гольденхарт.
– Почему?
– Потому что это слишком церемонно. Вы могли бы быть моим отцом, моя обязанность называть вас мистер или сэр, как мы называли старших в Тадморе. Я оставил всех своих друзей в Общине и чувствую себя очень одиноким в этом большом океане, между чужими. Сделайте мне одолжение. Называйте меня по имени.
– Какое же из Ваших имен лучше выбрать? – спросил мистер Хеткот, исполняя просьбу оригинального юноши. – Хотите я вас буду называть Клод?
– Нет. Первобытные христиане говорили, что Клод французское имя. Называйте меня Амелиусом или просто Мель, (так меня звали в Тадморе), я буду чувствовать себя как дома.
– Хорошо, – сказал мистер Хеткот. – Теперь, мой друг Амелиус или Мель, я буду говорить так же откровенно, как и вы. Христианские Социалисты, должно быть, очень доверяют своей системе воспитания, если пустили вас одного по белому свету?
– Вы угадали, сэр, – отвечал Амелиус хладнокровно. – Я могу служить доказательством.
– У вас, вероятно, есть родные в Лондоне? – продолжал мистер Хеткот.
По лицу Амелиуса впервые пробежала тень.
– У меня есть родственники, – сказал он, – но я обещал никогда не видеться с ними. Это бессердечные люди, и они сделали бы из меня бессердечного светского человека. Это сказал мне отец на своем смертном одре.
Он снял шляпу, упомянув об отце, и замолчал, в глубоком раздумье опустив голову. Спустя минуту он опять надел шляпу и взглянул на мистера Хеткота со своей светлой, ласковой улыбкой.
– Мы читаем небольшую молитву за упокой души любимых нами людей. Когда приходится упоминать о них, – сказал он, – мы молимся молча, чтобы не обратить на себя внимание, так как ненавидим ханжество в нашей Общине.
– Я вполне согласен с Общиной, Амелиус. Но, милый мой юноша, неужели ни один друг не встретит вас в Лондоне?
Амелиус таинственно поднял руку.
– Позвольте? – сказал он, вынимая из бокового кармана письмо.
Мистер Хеткот, все время следивший за ним, заметил, что он смотрит на адрес с гордостью и удовольствием.
– Один из братьев нашей Общины, – объявил Амелиус, – дал мне это рекомендательное письмо, сэр, к человеку замечательному, человеку, который может служить примером для всех нас. Из бедного швейцара он становится, благодаря своей настойчивости и честности, одним из самых уважаемых торговцев Лондона. – Произнеся этот панегирик,[3] Амелиус подал письмо мистеру Хеткоту. На нем был следующий адрес: Джону Фарнеби, эсквайру, дом Рональда и Фарнеби бумажных торговцев, улица Альдерсгэт, Лондон.
Глава II
Мистер Хеткот посмотрел на адрес с удивлением, которое не ускользнуло от внимания Амелиуса.
– Вы знаете мистера Фарнеби? – спросил он.
– Я немного знаком с ним, – отвечал Хеткот неохотно.
Амелиус продолжал расспрашивать: что он за человек? Будет ли он чувствовать предубеждение против меня за то, что я воспитывался в Тадморе?
– Я должен лучше познакомиться с вами и с Тадмором, прежде чем буду в состоянии ответить на ваш вопрос. Скажите мне лучше, каким образом попали вы в общество Социалистов?
– Я был тогда еще ребенком, мистер Хеткот.
– Очень хорошо. Но ведь и у детей есть память. Может быть, по какой-нибудь причине вы не желаете рассказать мне то, что помните?
Амелиус отвечал немного грустно, не поднимая глаз с палубы.
– Я помню, что случилось что-то, бросившее тень на всю нашу жизнь, помню, что моя мать была в этом замешана. Когда я вырос, я не смел расспрашивать отца, и он никогда не рассказывал мне ничего. Я помню только, что она сделала ему какое-то зло, а он простил и позволил ей остаться дома, все родные и друзья порицали его и отдалились от него с этих пор. Вскоре (я был в школе тогда) мать моя умерла. За мной послали, и я шел за ее гробом вдвоем с отцом. Когда мы вернулись и остались одни, отец посадил меня к себе на колени и поцеловал.
– Амелиус, – сказал он, – хочешь остаться в Англии с дядей и теткой или ехать со мной в Америку, чтобы никогда сюда не возвращаться? Подумай хорошенько! Мне нечего было думать, я ответил: поеду с тобой, папа.
Он испугал меня, вдруг разразившись рыданиями.
Я никогда еще не видал его в таком состоянии. Теперь мне все стало понятно. Сердце его было разбито. У него не осталось никого на свете, кроме маленького сына. Итак, в конце недели мы уехали, на палубе корабля нас встретил добродушный господин с длинной, седой бородой, он приветствовал отца, а мне дал пирожок. Я думал, что он капитан. Ничуть не бывало. Это был первый социалист, которого я когда либо видел, он-то и уговорил моего отца оставить Англию.
Насмешливая улыбка мелькнувшая по лицу мистера Хеткота обнаружила, какого он мнения о социалистах.
– И вы поладили с добродушным господином? – спросил он. – Обратив вашего отца, он обратил… и вас пирожком?
Амелиус улыбнулся.
– Будьте справедливее к нему, сэр, он не доверился пирожку. Когда Америка была уже в виду, он сказал маленькую проповедь, предназначавшуюся исключительно для меня.
– Проповедь? – повторил мистер Хеткот. – В ней, я думаю, мало было речи о религии.
– Очень мало, сэр, – ответил Амелиус. – Не больше, чем в Евангелии. Я не мог еще вполне понимать его тогда, он написал мне проповедь на одной из моих книг и велел читать, когда надоедят сказки. Книг со мной было немного, когда весь запас истощился, я поневоле принялся за проповедь и прочел ее столько раз, что, кажется, и теперь помню ее.
«Мой милый мальчик, Христианская религия, как учил ей Христос, давно перестала быть религией Христианского мира. Эгоистичное и жестокое лицемерие заменило ее. Пример твоего отца доказывает справедливость моих слов. Он исполнял первую и главную обязанность христианина: прощать обиды. Этот поступок, по мнению его друзей, покрыл имя его позором, они все отстранились от него. Он прощает им и хочет успокоиться, отдохнуть в Новом Свете между подобными ему христианами. Ты не раскаешься, что поехал с ним, ты будешь членом любящей семьи и, когда вырастешь, сам изберешь себе образ жизни! Вот все, что я знал о социалистах, когда мы приехали в Тадмор после продолжительного путешествия».
Мистер Хеткот опять обнаружил предубеждение.
– Бесплодное место, – сказал он, – если судить по имени.
– Бесплодное? Бог с вами! Я никогда не видал и, вероятно, никогда не увижу места красивее этого. Светлая, извилистая река, впадающая в голубое озеро, гора, покрытая цветниками и великолепными, тенистыми деревьями. На вершине горы кирпичные и деревянные здания Общины, окруженные верандами и до такой степени покрытые ползучими растениями, что нет возможности различить их архитектуру. Позади домов деревья, а по другую сторону горы – нивы, необозримые, блестяще-желтые нивы, расстилающиеся до самого горизонта.
Вот какая картина открылась перед нами, когда мы вышли из дилижанса в Тадморе.
Мистер Хеткот все еще не уступал.
– А каковы обитатели этого земного рая? – спросил он. – Святые, да?
– О нет, сэр! Они совершенно непохожи на святых, едят и пьют, как все люди, предпочитают чистое белье грязной власянице и никогда не прибегают к бичеванию, чтобы избежать искушения. Святые! Они, как школьники, выбежали к нам навстречу, расцеловали нас и угостили вином своего изделия. Святые! О, Мистер Хеткот, в чем вы нас еще обвините! Я не успею уничтожить одного подозрения, как у вас уже появляется другое. Вы не обидитесь, если я вам скажу, что мне пришло в голову? Вы, должно быть, священник Англиканской церкви!
Мистер Хеткот был, наконец, побежден, он расхохотался.
– Как вы могли это угадать, несмотря на то, что я путешествую в охотничьем костюме и цветном галстуке?
– Это легко объяснить, сэр. Всевозможные посетители допускаются в Тадмор. Их очень много бывает осенью. Все их лица выражают большую или меньшую подозрительность. Они осматривают все, едят и пьют за нашим столом, принимают участие в наших удовольствиях и очень любезны с нами. Но, когда наступит время отъезда, мы узнаем, что это за люди. Если на лице гостя, который весь день смеялся и был весел, при отъезде выражается прежняя подозрительность, вы можете быть уверены, что это священник. Не обижайтесь, мистер Хеткот, я с удовольствием замечаю, что ваши сомнения рассеялись. Вы не очень похожи на священника, сэр. Я еще не отчаиваюсь обратить вас.
– Продолжайте рассказ, Амелиус. Я давно не встречал подобных вам оригиналов.
– Не знаю, сэр, продолжать ли мне. Я уже рассказал Вам, как я приехал в Тадмор, какое это место и что за люди живут в нем. Если я буду рассказывать дальше, то должен буду перескочить к тому времени, когда уже начал изучать правила Общины.
– Ну, так что же?
– Некоторые правила, мистер Хеткот могут оскорбить вас.
– Ничего, попробуйте!
– Хорошо, сэр, не браните же меня, я не стыжусь наших правил. Теперь я должен говорить серьезно о серьезном предмете, а начну с наших религиозных убеждений. Мы следуем духу Евангелия, а не букве. Нельзя веровать в слова этой книги по трем причинам. Во-первых, английский перевод не везде точен и верен. Во-вторых, мы знаем, что (со времени изобретения книгопечатания) нет ни одного экземпляра этой книги без опечаток, и что до книгопечатания ошибки были еще многочисленнее и серьезнее. Это, однако, не представляет большой важности для нас. В духе Евангелия мы находим самое совершенное учение, которое когда-либо излагалось человечеству, и мы довольны. Почитать Бога и любить ближнего, как самого себя: этих двух заповедей достаточно. Мы отвергаем все собрание догматов веры (как их называют), даже не теряя времени на их обсуждение. Мы прилагаем к ним слова Христа: «по плодам их узнаете их». Плоды догматов в прошедшем (я приведу только три примера) Испанская инквизиция, Варфоломеевская ночь и Тридцатилетняя война, а в настоящее время плоды их – раскол, ханжество, и оппозиция всем полезным реформам. Долой догматы! Долой их в интересах Христианской религии.
– Любить врагов наших, прощать обиды, помогать нуждающимся, быть милосердными и вежливыми, не осуждать других и не возносить себя. Это учение не ведет к пыткам, избиениям, войнам, не ведет к зависти, ненависти, хитрости, – поэтому мы и доверяем ему. Вот религия, сэр, изложенная в правилах Общины.
– Хорошо, Амелиус, я вижу, что Община несколько похожа на папу – она непогрешима. Вы сообщили мне ваши убеждения. Как же они прилагаются к делу? Богатство не допускается, вероятно?
– Вы ошибаетесь, сэр! Все могут приобретать богатство, если от этого никто не страдает. Правда, мы не очень заботимся о деньгах, все занимаемся каким-нибудь ремеслом, и заработанные деньги (все знают, что они достаются нам честным трудом) отдаем в общую кассу. Богатые люди кладут свой капитал в общую кассу, когда поступают в Общину, и, таким образом, дают нам возможность принимать бедняков. Все члены пользуются одинаковым комфортом, пока остаются в Общине, проценты с капитала делятся между всеми поровну, из них вычитается только сумма на непредвиденные расходы. Всякий, оставляя Общину, имеет неоспоримое право взять свои деньги назад, а бедные уходят с капиталом, составившимся из их доли процентов.
– Только раз, во все время моего пребывания в Общине вышло недоразумение из-за денет. Я хотел отдать в кассу свой капитал. Он был мой, я получил его в наследство от матери, когда достиг совершеннолетия. Старшины и совет не хотели слышать об этом: «Мы обещали его отцу, что позволим ему самому выбрать себе карьеру, когда он вырастет», – говорили они. «Пусть он вернется в старый свет, чтобы узнать жизнь. Тогда он сам выберет себе образ жизни». Как вы думаете, мистер Хеткот, чем это кончится? Вернусь ли я в Общину или останусь в Лондоне?
Мистер Хеткот ответил без малейшего колебания:
– Вы останетесь в Лондоне.
– Хотите держать пари, сэр, что он вернется в Общину? – произнес чей-то голос, позади них. Амелиус и мистер Хеткот обернулись и увидели совершенно незнакомого им мужчину, длинного, худого, серьезного, в огромной войлочной шляпе, почти скрывавшей его лицо.
– Вы подслушивали наш разговор? – спросил мистер Хеткот высокомерно.
– Да, я слушал с большим интересом, – отвечал серьезный господин. – Этот молодой человек показал мне человечество в новом свете. Хотите пари? Мое имя – Руфус Дингуэль, я живу в Кульспринг Массе. Вы никогда не держите пари? Позвольте мне выразить вам глубокое сожаление и иметь удовольствие сесть около вас. Как ваше имя? Хеткот? У нас есть ваш однофамилец в Кульспринге. Он пользуется общим уважением. Мистер Клод Гольденхарт, я вас знаю. Я спросил ваше имя у квартирмейстера, когда случилось маленькое происшествие из-за птицы. Ваше имя очень меня удивило.
– Почему? – спросил Амелиус.
– Ваша фамилия напоминает Pilgrim's Progress, но не в том дело. Я уже знаю вас по слухам.
Амелиус, казалось, не понимал.
– По слухам? – повторил он. – Что это значит?
– Это значит, сэр, что вы занимаете видное место в одном из последних номеров нашего популярного журнала – «Кульспрингский Демократ». Романическая причина, заставившая мисс Меллисент выйти из вашей Общины, произвела сильное общественное волнение в Кульспринге. Все дамы вам сочувствуют. Вы были самым популярным человеком в Кульспринге, когда я уехал. Имя Клода Гольденхарта слышалось всюду.
Амелиус слушал, краснея от досады и огорчения.
– Нет возможности скрыть что-нибудь в Америке, – сказал он с раздражением. – Какой-нибудь шпион, по всей вероятности пробрался к нам, наши никогда не выдали бы бедной леди. Что бы вы почувствовали, мистер Дингуэль, если бы газеты заговорили о частной жизни вашей жены или дочери?
Руфус Дингуэль отвечал с полной искренностью, составляющей одно из неоспоримых достоинств его нации.
– Я не рассматривал дело с этой точки зрения, хотя у меня нет ни жены, ни дочери, как вы предположили, но ваше рассуждение сильно на меня подействовало.
Он взглянул на мистера Хеткота, который сидел молча, видимо недовольный его фамильярностью, и употребил все свои силы, чтобы задобрить его.
– Вы, вероятно, ничего не знаете об этом деле? Не хотите ли прочесть статью, о которой мы говорим? – Он вынул из кармана газету и предложил ее удивленному англичанину. – Я хотел бы знать ваше мнение о взгляде нашего друга, Клода Гольденхарта.
Прежде чем Хеткот смог отвечать, Амелиус запальчиво вскричал.
– Дайте мне газету! Я хочу сначала ее прочесть. Он хотел схватить газету. Руфус остановил его серьезно и спокойно.
– Я флегматик, сэр, но это не мешает мне любоваться горячностью других, когда она не переходит границ. – Сделав этот намек, американец позволил Амелиусу, завладеть газетой.
Мистеру Хеткоту удалось наконец вставить слово.
– Я прошу вас обоих принять к сведению, – сказал он высокомерно – что я не хочу вмешиваться в чьи бы то ни было частные дела.
Ни один из его товарищей не обратил внимания на это заявление. Амелиус читал газету, а апатичный Руфус следил за ним. Через минуту Амелиус смял газету и бросил ее на палубу.
– Все ложь! – закричал он.
– Статья уже разошлась по всем Соединенным Штатам, – заметил Руфус. – В Ливерпуле мы, вероятно, услышим, что английские газеты ее перепечатали. Последуйте моему совету и отнеситесь хладнокровно к газетным толкам.
– Мне все равно, что бы обо мне не писали, – ответил Амелиус с негодованием. Я думаю о бедной женщине. Как мне оправдать ее?
– На вашем месте, – сказал Руфус, – я послал бы всем пассажирам объявление, что вечером, если позволит погода, будет по этому поводу прочитана лекция. Вот как мы поступили бы в Кульспринге.
Амелиус не согласился с его мнением.
– Разумеется, теперь незачем держать дело в тайне, но я не понимаю, почему я должен еще больше разглашать его. – Он остановился и посмотрел на мистера Хеткота.
– Это несчастное дело случайно касается одного из правил Общины, о котором я не успел упомянуть, когда мистер Дингуэль к нам присоединился. Мне будет легче, если я перед кем-нибудь опровергну ложь, мне бы хотелось (если вам это не неприятно) узнать, что вы думаете о моем поведении. Ваше мнение подготовит меня к тому, что меня, быть может, ожидает в английских газетах.
С этим предисловием он начал свой печальный рассказ, шутливо озаглавленный в газетах: «Мисс Меллисент и Гольденхарт из Тадморских социалистов».
Глава III
– Около шести месяцев назад, нас известили о приезде незамужней англичанки, желающей вступить в нашу Общину. Вы поймете, почему я не назову ее фамилии: даже в газетах она названа только по имени. Я не хочу вас обманывать и потому скажу прямо, что мисс Меллисент не хороша и не молода. Ей было тридцать восемь лет, когда она к нам приехала: каждый мог ясно видеть следы, оставленные годами и заботой на ее лице. Несмотря на это, она показалась нам очень интересной женщиной. Я не знаю, что именно нам нравилось в ней, нежный ли голос или выражение ее лица, – выражение терпения и доброты, точно она никого не осуждала и ничего не ожидала от будущего. Одним словом, я не могу это объяснить, я могу только сказать, что ни одна молодая, красивая женщина в Тадморе не казалась нам такой привлекательной, как мисс Меллисент. Это странно, не правда ли?
Мистер Хеткот сказал, что он понимает эту странность. Руфус задал, кстати, вопрос:
– У вас есть фотографическая карточка этой леди?
– Нет, – сказал Амелиус, – но я хотел бы ее иметь! Итак, когда она приехала, мы приняли ее в «общей комнате», называемой так потому, что мы все сходимся там по вечерам, по окончании дневных занятий. Мы там читаем какую-нибудь поэму или роман, слушаем музыку, танцуем, играем в карты или на биллиарде. Прием новых членов происходит в этой же комнате. Я стоял около старшего брата (так называется глава Общины), когда две из наших женщин ввели мисс Меллисент.
– Брат этот славный старик, проведший первую часть своей жизни в Западных лесах. У него до сих пор прорываются выражения, напоминающие его прежнюю жизнь. Он нахмурил свои густые, седые брови, пристально посмотрел на мисс Меллисент и прошептал: «Боже мой, еще один из опавших листьев». Я знаю, кого он подразумевал под этим: людей, которым не посчастливилось в жизни, которые добивались счастья, а нашли только горе и обман, людей одиноких, несчастных, разбитых горем – вот каких людей наш добрый старший брат называет опавшими листьями. Мне самому нравится это название. Оно идет к нашим несчастным, павшим братьям. – Он замолчал, задумчиво вглядываясь в беспредельное море и небо. Мимолетное облако грусти заволокло его лицо. Его собеседники безмолвно смотрели на него, чувствуя (но как различно) сострадание. Какая жизнь ему предстояла? Что он сделает из нее?
– На чем я остановился? – спросил он, внезапно пробуждаясь от задумчивости.
– Вы оставили мисс Меллисент в «общей комнате»: почтенный гражданин с седыми бровями занимался нравоучительными размышлениями, – ответил Руфус.
– Совершенно верно, – продолжал Амелиус. – Маленькая, худая, в белом платье, с черным шарфом через плечо, она дрожала и конфузилась, очутившись среди незнакомых людей. Старший брат взял ее за руку, поцеловал в лоб и приветствовал от имени всей Общины. Женщины последовали его примеру, а все мужчины пожали ей руку. Тогда наш глава предложил три вопроса, которые обязан предлагать всем, вступающим в Общину.
– Поступаете вы к нам по вашему добровольному желанию? Есть у вас письменная рекомендация от одного из наших братьев, которая уверяла бы нас, что мы не причиняем вреда ни себе, ни другим, принимая вас в нашу Общину? Знаете ли вы, что никакие обеты не связывают вас с нами, и что вы свободно можете оставить нас, если жизнь вам не понравится?
Потом последовало чтение правил и наказаний за преступление их. Вы уже знаете некоторые правила, остальные менее важные, не стоит рассказывать. Теперь перейдем к наказаниям. Легкие наказания состоят в публичном выговоре или временном удалении от общей жизни. Если вы заслуживаете тяжелого наказания, вас или удаляют на время из Общины (вы можете вернуться или нет, по желанию), или вычеркивают из списка членов и совсем изгоняют. Предположим, что мисс Меллисент молча согласилась на все эти предварительные правила и перейдем к концу церемонии – к чтению правил, касающихся любви и супружества.
– А! – сказал мистер Хеткот. – Мы наконец дошли до затруднений Общины.
– Дошли ли мы также до мисс Меллисент? – спросил Руфус. – Как гражданин свободной страны, которая позволяет мне любить в одном Штате, жениться в другом и развестись в третьем, я не интересуюсь вашими правилами, а интересуюсь только вашей дамой.
– И то и другое неразлучны в этом случае, – отвечал Амелиус серьезно. – Коли я заговорю о мисс Меллисент, я должен говорить о правилах. Наша Община деспотически распоряжается любовью и женитьбой. Например, она положительно запрещает всем страдающим хронической болезнью вступать в супружество. Совет имеет право разрешить или запретить какую бы то ни было предполагающуюся свадьбу. Мы даже не имеем права влюбиться, не доложив об этом старшему брату, который в свою очередь сообщает это совету, собирающемуся ежемесячно, а совет уже решает, может ли сватовство продолжаться или нет. Это еще не самое худшее! В некоторых случаях, когда мы не чувствуем ни малейшей склонности влюбиться друг в друга – старшины принимают на себя инициативу. Вам двум хорошо было бы соединиться, если вы этого не видите, то мы видим. Подумайте-ка об этом! Вы можете смеяться сколько хотите, но самые счастливые союзы были устроены таким образом. Члены нашего совета действуют по установившемуся правилу. Вот оно в кратких словах. Опыт показал во всем свете, что подходящий выбор жены или мужа составляет исключение из общего правила, и что мужья и жены были бы гораздо счастливее, если бы их союзы устраивались компетентными советниками с обеих сторон. Эти законы и другие одинаковой строгости, о которых я еще не упомянул, не могли быть приведены в силу без серьезных затруднений, как вы и предположили, мистер Хеткот, затруднений, которые угрожали самому существованию Общины. Когда я вырос, окружающие меня мужья и жены признавали, что правила исполнили свое назначение и дали большинству величайшее счастье. Все это, вероятно, кажется смешным с вашей точки зрения. Но наши странные правила подходят к тексту: «по плодам их узнаете их». У нас супруги не живут на разных половинах, дети здоровы, жены не знают, что такое побои и ни один адвокат не заработал бы себе куска хлеба в нашем разводном суде. Молено ли сказать то же само о законах Европы? Как вы думаете, господа?
Мистер Хеткот отказался высказать свое мнение. Руфус все еще интересовался леди.
– Что сказала на это мисс Меллисент? – спросил он.
– Она всех нас поразила, – отвечал Амелиус. – Когда старший брат прочел первые слова, касающиеся до любви и супружества из книги правил, она побледнела, как смерть, и вскочила со своего места с внезапным взрывом мужества или отчаяния, (не знаю).
– Вы будете читать это мне? – спросила она. – Любовь и замужество меня не касаются.
Старший брат положил книгу правил.
– Если вы страдаете хронической болезнью, – сказал он, – городской доктор вас осмотрит и сообщит нам.
Она отвечала:
– У меня нет никакой хронической болезни.
Старший брат опять взял книгу. – Совет со временем решит, моя милая, выходить ли вам замуж или нет.
Он прочел правила. Она опустилась на стул, закрыла лицо руками и молча, не изменяя положения, прослушала их. Последовали обыкновенные вопросы. Согласна ли она на все? Согласна. Подпишет ли она, в таком случае, правила? Да. Наступил час ужина и музыки. Она извинилась, как ребенок. – Я очень устала, могу я идти спать? – спросила она. Незамужние женщины, помещавшиеся в одном дортуаре[4] с ней, ожидали услышать от нее целый роман, когда она привыкнет к своим новым друзьям, но ошиблись.
– Моя жизнь была долгим обманом, – вот все, что она сказала. – Вы меня много обяжете, если примете меня такой, какая я есть и не будете ни о чем расспрашивать. Она не могла никого оскорбить желанием сохранить свою тайну. Я не видал женщины добрее и милее ее: она всегда жертвовала собою для других. Случайное открытие сделало меня ее близким другом: оказалось, что она провела детство па моей родине в Шефильд-Хите, Букингамшире. Она очень любила меня расспрашивать и делиться со мной своими воспоминаниями. «Я люблю это место, – говорила она, – единственные счастливые годы моей жизни были проведены там». Даю вам честное слово, что мы не говорили ни о чем другом. Что могло быть общего у двадцатилетнего юноши с женщиной сорока лет? Что мне оставалось делать, когда бедное обманутое создание встречалось мне на горе или у реки и говорило: «Вы идете гулять, можно мне с вами?» Я никогда не добивался ее доверия, я даже ни разу не спросил, почему она вступила в Общину? Вы угадываете, что случилось потом? Я ничего не подозревал. Я не понимал, почему молодые женщины, встречая нас вместе, смотрели на меня (не на нее) с насмешливой улыбкой. Мои глупые глаза были, наконец, открыты. Сделала это женщина, спавшая с ней рядом в дортуаре, женщина, которая годилась мне в матери и ухаживала за мной, когда я был еще ребенком в Тадморе. Случилось это следующим образом: Я шел однажды ловить рыбу, и она остановила меня. Амелиус, – сказала она, – не ходи к реке, Меллисент там ждет тебя. Я вытаращил глаза от удивления. Она погрозила мне пальцем: Берегись, глупый мальчик, ты попадешь в неловкое положение. Ты ничего не подозреваешь? Я обвел глазами всю комнату и ничего особенного не заметил. Что вы хотите сказать? – спросил я.
– Ты будешь смеяться надо мной, если я тебе скажу. – Я обещал не смеяться. Она оглянулась, не подслушивает ли нас кто-нибудь, и открыла мне тайну, – Амелиус, возьми отпуск, уезжай на время… Меллисент влюблена в тебя.
Глава IV
Меллисент влюблена в тебя!
Амелиус посмотрел на своих слушателей с сомнением, желая убедиться серьезно ли они относятся к его рассказу. Выражение их лиц показывало, что он имел основание сомневаться. Он этим обиделся, и тотчас же высказал это. – Я признаюсь к своему стыду, что сам тогда расхохотался, – сказал он. – Но вы оба старше и умнее меня, и я не ожидал, что вы тоже будете смеяться над бедной мисс Меллисент.
Мистеру Хеткоту не понравился этот неловкий намек.
– Успокойтесь, Амелиус! Над смешным нельзя не смеяться. Когда сорокалетняя женщина влюбляется в очень молодого человека…
– То она становится смешна, – договорил Руфус, – а между тем, любовь сорокалетнего мужчины к молоденькой девушке никого не поражает. Я решительно не понимаю, почему женщины должны отказаться от любви раньше мужчин и желал бы слышать их мнение об этом.
Мистер Хеткот сделал ему знак, чтобы он прекратил рассуждение о женщинах.
– Расскажите нам конец, Амелиус. Итак, вы пошли к реке и нашли там, разумеется, мисс Меллисент?
– Она по обыкновению пошла мне навстречу, – начал опять Амелиус, – но вдруг отняла руку, которую протянула было мне. Вероятно, она заметила что-нибудь на моем лице. Не знаю почему, но я не мог обращаться с ней так, как прежде. Она никогда не видала меня таким серьезным.
– Я оскорбила вас? – спросила она. Я, разумеется, начал ее успокаивать, но безуспешно. Она задрожала всем телом и спросила:
– Вам наговорили что-нибудь на меня? Вам надоело мое общество? – Бесполезно было разуверять ее. Отчаяние совершенно овладело ею. Она опустилась на землю и начала плакать, не громко, нет, это был какой-то тихий, безропотный плач, точно она привыкла к оскорблениям и не ожидала жалости ни от кого. Ее слезы произвели на меня тяжелое впечатление, я принялся утешать ее. У меня были хорошие намерения, но я вел себя, как дурак. Человек благоразумный поднял бы ее и оставил одну успокаиваться. Я же обвил рукой ее талию. Она взглянула на меня и вся вспыхнула. Я никогда ни прежде, ни после не видел, чтобы женщины так краснели. Яркая краска залила не только лицо, но и всю шею. Она, казалось, помолодела на двадцать лет. Прежде чем я успел выговорить хоть слово, она схватила мою руку и поднесла ее к губам.
– Не презирайте меня, – воскликнула она, – не смейтесь надо мной. Выслушайте историю моей жизни, тогда вы поймете, почему всякое слово меня волнует. – Она подозрительно осмотрелась кругом. – Я не хочу, чтобы нас слышали, – сказала она, – и во мне еще осталось немного гордости. Пойдемте к озеру, вы меня покатаете немного в лодке.
Я согласился на ее просьбу. Наш разговор, конечно, нельзя было подслушать, но мы забыли, что наше катанье могли видеть с берега и вывести из него должное заключение.
Мистер Хеткот и Руфус многозначительно переглянулись. Они не забыли правила Общины, касающегося взаимной склонности двух членов. Амелиус продолжал: Мы поплыли по озеру. Я работал веслами, а она изливала предо мною свою душу.
Ее несчастья начались со смерти матери и вторичной женитьбы отца. У нее были брат и сестра, сестра вышла замуж за немецкого купца и поселилась в Нью-Йорке, брат завел ферму в Австралии. Итак, вы видите, она осталась одна во власти мачехи. Я сам ничего не понимаю в таких делах, но мне говорили, что обыкновенно обе стороны виноваты. К тому же они были бедны, единственной богатой родственнице – сестре первой жены не понравилась вторичная женитьба вдовца, она перестала к ним ездить. У мачехи был злой язык, что Меллисент первая испытала на себе. Ее начали упрекать, что она сидит на шее у отца вместо того, чтобы самой работать. Мачехе не пришлось много раз повторять этих жестоких слов. На другой же день Меллисент начала искать место, а в конце недели уже зарабатывала себе хлеб уроками.
Руфус прервал рассказ вопросом.
– Могу я спросить, сколько она получала?
– Тридцать фунтов в год, – отвечал Амелиус.
Она давала уроки с десяти часов до двух, а потом возвращалась домой.
– На это еще нельзя жаловаться, – заметил мистер Хеткот.
– Она и не жаловалась, – возразил Амелиус. – Она была довольна своим заработком, но была недовольна своей жизнью. Кроткая, маленькая женщина сердилась на себя, говоря об этом.
– У меня не было причины жаловаться на моих хозяев. Они обращались со мной вежливо и платили аккуратно, но я не сошлась с ними. Я пробовала подружиться с детьми и иногда думала, что мне удается, но, Господи, как горько мне было, когда они ленились и мне приходилось заставлять их учиться. В книгах нам представляют детей совершенными ангелами, это невинные, благочестивые, прелестные создания, которые не жадничают, не дуются и не обманывают; к моему несчастью мне такие дети не попадались никогда. Трудно было жить на свете, Амелиус. Мне кажется, нельзя представить себе ничего ужаснее жизни бедного среднего класса в Англии. С начала года до конца только тяжелая борьба за приличное существование и одуряющая скука однообразной жизни. Мы жили в переулке предместья.
Уверяю вас, что в продолжение бесконечного, тоскливого года, мы выезжали только один раз в концерт, ежегодно устраиваемый священником в пользу школ. День делился обыкновенно на две части, утром я бегала по урокам, вечером обшивала всю семью. У моего отца было много религиозных предрассудков, он не позволял ездить в театр, запрещал танцы, легкое чтение, запрещал даже останавливаться перед окнами магазинов, потому что у нас не было лишних денег. Он уходил на службу утром, возвращался поздно, засыпал после обеда, просыпался только, чтобы прочитать вечерние молитвы и снова засыпал, а на другой день опять служба, сон после обеда и вечерние молитвы: Так проходили целые недели и месяцы. Только воскресенье несколько отличалось от прочих дней, да и то одно воскресенье совершенно походило на другое: та же церковь, та же служба, тот же обед и чтение проповедей вечером.
– Раз в год мы ездили на берег моря, всегда в то же самое место, на ту же дешевую квартиру. Немногие друзья наши вели такую же жизнь и совершенно отупели от ее однообразия. Все женщины, кроме меня, несчастной, казались довольными своей жизнью. Я, однако, немногого требовала, всего лишь изредка маленького разнообразия и немного сочувствия, когда на меня находила тоска. Мне хотелось трудиться для кого-нибудь и получать в награду улыбку и доброе слово. Матери качали головой, а дочери смеялись надо мной. Разве мы можем сентиментальничать? Времени так мало, надо штопать, чинить, выворачивать платья, смотреть за детьми и стирать на них, и тут еще сахар и чай дорожает, и муж ворчит каждую неделю, когда просишь у него денег на расход. Лучше и не говорить ничего! Как вы думаете, приятно было смотреть на людей, упавших так низко? Меня дрожь пробирает, когда я думаю о последних днях моей жизни.
Вот на что она жаловалась, мистер Хеткот. Мы были посреди озера и никто не мог ее слышать, кроме меня.
– У нас, сэр, – заметил Руфус, – бюро дало бы ей возможность пользоваться дешевыми удовольствиями. И, мне кажется, хорошо было бы ей выйти замуж и приехать к нам для разнообразия.
– Вот самая грустная часть ее истории, – сказал Амелиус. – Два года тому назад ее жизнь изменилась было к лучшему. Богатая тетка (сестра матери) умерла, и как вам это покажется, завещала ей 5000 фунтов.
– Для нее солнце проглянуло наконец. Бедная учительница превратилась в наследницу, имеющую право располагать своим состоянием. Дома впервые устроили что-то вроде праздника, все обнимались, поздравляли друг друга, даже купили новые платья и подарки всем. Кроме того, случилось Другое удивительное событие. В семейном кругу появилось новое лицо: господин, который встречал Меллисент в одном из домов, где она давала уроки. Она ему очень понравилась, и он решился, наконец, сделать ей предложение.
– За нее никогда никто не сватался, а он был замечательно красивый мужчина, прекрасно одевался, пел, играл и выказывал такую страстную любовь к ней. Что же тут удивительного, что она не отказала ему, когда он предложил ей руку и сердце. Я нисколько не удивляюсь. Первые недели солнце светило очень ярко, потом набежали тучи. Меллисент получила несколько анонимных писем, в которых красивого господина прямо называли подлецом. Она, в негодовании изорвала их, даже не показав ему.
Потом пришли письма от дяди и тетки к ее отцу с подобным же предостережением: если ваша дочь выйдет за него, посоветуйте ей беречь деньги.
Несколько дней спустя явился гость: брат этого господина. Услышав о сватовстве, он счел своей обязанностью, как ему ни было горько, сказать им, что брату запрещен вход в его дом. Сделав это, он умыл руки и не вмешивался более. Вы оба знаете жизнь, вы поймете, чем все кончилось. Начались ссоры, бедная обманутая женщина слепо верила своему жениху, воображая, что на него клевещут.
Она чуть с ума не сошла, когда он объявил, что не хочет вступить в семью, где его все подозревают. Я выхожу из себя, когда думаю о несчастной женщине, и почти сожалею, что начал этот рассказ. Знаете ли, что он сделал? Она, разумеется, была совершено свободна. Никто не имел права контролировать ее действия. Назначили день свадьбы. Отец объявил, что не поедет в церковь, а мачеха заставила его сдержать слово. Меллисент поехала одна в церковь, где жених должен был ее встретить.
– Он не явился, он бросил ее, бросил безжалостно в день свадьбы, когда она пожертвовала ему своими родными. Ее без чувств привезли домой, воспаление мозга было следствием сильного потрясения. Доктора не отвечали за ее жизнь. Отец взглянул на ее чековую книжку. Из своих шести тысяч она тихонько отдала четыре негодяю, который ее обманул и бросил. Месяц спустя он женился на молодой девушке, конечно, с состоянием. О таких поступках читаешь в газетах или книгах, но они производят совершенно другое впечатление, когда о них рассказывают пострадавшие лица, в особенности, если весь век проживешь с честными людьми. Этот рассказ поразил меня.
Он умолк. Из каюты доносился смех и говор, сопровождаемый звонким стуком ножей и вилок. Яркое солнце освещало необозримое море.
Все, что они видели и слышали мало гармонировало с несчастной историей. Все трое встали и начали ходить взад и вперед по палубе, прибегая к физическим движениям, чтобы избавиться от тяжелого впечатления. Они безмолвно согласились отложить на несколько минут конец рассказа.
Глава V
Мистер Хеткот первый прервал молчание.
– Я понимаю, почему бедное создание вступило в вашу Общину, – сказал он. – С ее чувствительностью жизнь с такими родными должна была быть просто невыносимой. Где она слышала о Тадморе и социалистах?
– Ей попалась одна из наших книг, – ответил Амелиус, – а замужняя сестра жила в Нью-Йорке, следовательно, она могла остановиться у нее. Были минуты после болезни, когда ей хотелось лишить себя жизни. Религиозные убеждения спасли ее. Сестра и зять приняли ее ласково. Они предложили ей остаться у них учить детей. Нет! Вновь предложенная ей жизнь слишком походила на старую, она была разбита и телом, и душой, у нее не хватило духу приняться за прежнее дело. У нас есть постоянный агент в Нью-Йорке, он-то и устроил все для ее поездки в Тадмор. Этот период ее жизни не так грустен. Бедная душа благословляла день, в который поступила к нам. Никогда еще не приходилось ей жить с такими добрыми людьми. Никогда… – он смутился и не договорил. Услужливый Руфус закончил за него фразу.
– Никогда еще не встречала она такого обворожительного человека, как К. А. Г. Вы слишком скромны, это не годится в нынешнем веке.
Амелиус еще не совсем оправился от смущения.
– Мне бы не хотелось продолжать, – сказал он, – но она оставила Тадмор; чтобы оправдать ее от газетных сплетен, я должен вам сказать о причине ее отъезда. Две из наших молодых женщин встретили нас на берегу и спросили, много ли я наловил рыбы. Они просто шутили, не имея намерения нас оскорбить, но в выражении их лиц нельзя было ошибиться.
Мисс Меллисент, страшно смутившись, испортила все дело. Она вспыхнула, вырвала у меня руку и побежала одна к дому. Девушки, наслаждаясь произведенным ими эффектом, поздравили меня с победой; Я был не в духе, меня, вероятно, расстроил разговор в лодке. Я вспылил, наговорил им дерзостей и ушел. Вечером я нашел письмо в своей комнате:
«Ради вас самих, меня не должны больше видеть наедине с вами. Тяжело лишиться вашего общества, но я покоряюсь. Не поминайте меня лихом. Последний разговор с вами принес мне много добра».
Письмо состояло из этих строк, подписанных начальными буквами имени мисс Меллисент. Я имел неосторожность сохранить его, вместо того, чтобы изорвать. Все могло бы, однако, хорошо кончиться, если бы она не изменила своему решению. К несчастью, приближался день моего рождения, его хотели торжественно отпраздновать в Общине. Я встал в этот день с восходом солнца, у меня была работа, и мне хотелось от нее отделаться вовремя. Я возвращался домой ближайшей дорогой через лес. В лесу я встретил ее.
– Одну? – спросил мистер Хеткот.
Руфус с обычной прямотой выразил свое мнение о благоразумии этого вопроса.
– Философы заметили, что если мужчина и женщина поступают не благоразумно, женщина всегда виновата. Разумеется, она была одна.
– Она приготовила мне маленький подарок, – объяснил Амелиус, – кошелек своей работы и не хотела отдавать мне его при молодых женщинах, боясь их насмешек.
– Я желаю вам всего, что только есть лучшего на свете, Амелиус, – сказала она, – вспоминайте иногда обо мне, открывая этот кошелек.
– Прогнали ли бы вы ее, на моем месте, когда она произнесла эти слова и сунула мне в руку подарок?
– Нет, клянусь, вы не могли бы так поступить, если бы она смотрела на вас в ту минуту.
На длинном, худом лице Руфуса Дингуэля впервые показалась улыбка.
– В газетах есть еще некоторые подробности, – промолвил он лукаво.
– Черт побери газету, – отвечал Амелиус.
Руфус поклонился с невозмутимою вежливостью человека, принявшего проклятие за невольный комплимент американской печати.
– В газетах говорят, что она поцеловала вас.
– Все ложь! – закричал Амелиус.
– Может быть, в газеты вкралась опечатка, – настаивал Руфус. – Может быть, вы поцеловали ее?
– Это вас не касается, – ответил сердито Амелиус.
Мистер Хеткот счел своей обязанностью вмешаться.
– В Англии, мистер Дингуэль, джентльмены не имеют привычки рассказывать о подобных…
– Поцелуях в лесу, – подсказал Руфус. – У нас не считают постыдным поцелуй в лесу или в другом каком-либо месте. Совсем нет, уверяю вас. Амелиус успокоился и поспешил прекратить неприятный для него разговор.
– Не будем делать из мухи слона, – сказал он. – Ну, да, я поцеловал ее. Бедная женщина подарила мне хорошенький кошелек и желала мне счастья со слезами на глазах, что же мне оставалось делать, как не поцеловать ее. Нечего поглядывать на газету. Бедняжка действительно положила мне голову на плечо и сказала:
– О, Амелиус, я думала, что мое сердце превратилось в камень. Посмотрите, как вы заставили его биться! Я чуть-чуть сам не расплакался, вспомнив все рассказанное ею – все было так невинно и жалко.
Руфус протянул ему руку с американским радушием.
– Уверяю вас, у меня не было дурного намерения, – сказал он.
– Вы совершенно правы, а газета!.. – Он свернул ее и бросил за борт.
Мистер Хеткот одобрительно наклонил голову.
Амелиус продолжал рассказ.
– Я почти кончил, – сказал он. – Если бы я знал, что это займет столько времени… Ну теперь все равно. Мы наконец вышли из леса, мистер Руфус, вышли, не подозревая, что за нами следят.
Я сказал ей (когда уже было слишком поздно), что мы должны быть впредь осторожнее. Вместо того, чтобы серьезно отнестись к моим словам, она расхохоталась.
– Вы изменили свое мнение с тех пор, как писали мне? – спросил я.
– Разумеется, изменила. Когда я вам писала, я забыла о разнице в наших летах. Я боюсь только, что надо мной будут смеяться, больше я ничего не боюсь!
– Я употребил все свои усилия, чтобы разубедить ее. Я сказал ей прямо, что люди неравных лет – женщины старше мужчин и мужчины старше женщин, вступали у нас иногда в супружество. Совет заботился только, чтобы характеры были подходящие, а на лета не обращал никакого внимания. Мои слова не произвели впечатления, бедняжка была слишком счастлива и не хотела думать о будущем. Кроме того, празднество в честь моего рождения заставило ее забыть сомнения и неприятный страх. А на следующий день другое событие поглотило все наше внимание: письмо от лондонского адвоката известило меня о наследстве, оставленном мне матерью.
– Было решено, как вы знаете, что я отправлюсь посмотреть на свет, и сам изберу себе образ жизни, но день моего отъезда не был еще назначен. Два дня спустя гроза, собиравшаяся в продолжении целых недель, разразилась над нами, – нам приказали явиться в совет, чтобы ответить за нарушение правил. Все, что я вам рассказал, и некоторые другие обстоятельства, которые я скрыл от вас, были записаны на листе, лежавшем на столе совета, а к нему было приколото найденное в моей комнате письмо Меллисент. Я принял всю вину на себя и требовал, чтобы меня поставили лицом к лицу с неизвестным доносчиком. Совет ответил на мое требование вопросом:
– Признаем ли мы написанное за правду? Мы не могли отвечать отрицательно. Тогда совет решил, что нет надобности вызывать доносчика. Я и теперь не знаю имени этого шпиона. Ни у меня, ни у Меллисент не было врагов в Общине. Девушки, видевшие нас на озере, и другие члены, встречавшие нас вместе, дали показание только по принуждению, да и то все перепутали, так им было жаль нас обоих.
На другой день совет произнес приговор. Правила предписывали им их обязанность. Нас приговорили к шестимесячному удалению из Общины с правом возвратиться или нет по желанию. Жестокий приговор, господа (что бы мы о нем ни думали), для бездомных, одиноких людей, для опавших листьев, занесенных в Тадмор. Мой отъезд был решен раньше. После всего случившегося мне велели выехать через двадцать четыре часа и запретили возвращаться до окончания срока изгнания. С Меллисент поступили еще строже. Ее одну не отпустили. Одной из женщин Общины поручили доставить ее в дом замужней сестры в Нью-Йорке: она должна была выехать на другой день, на заре. Мы, разумеется, оба поняли, что нам хотели воспрепятствовать ехать вместе. Они могли бы избавить себя от этого труда.
– В отношении вас, вероятно? – спросил мистер Хеткот.
– В отношении ее также, – ответил Амелиус.
– Как она приняла все это? – спросил Руфус.
– Со спокойствием, которое нас всех удивило, – ответил Амелиус. – Мы ожидали слез и мольбы о пощаде. Она стояла совершенно спокойно, гораздо спокойнее меня, повернув ко мне голову и устремив глаза на мое лицо. Представьте себе женщину, совершенно погруженную в созерцание будущего, видящую там что-то такое не видимое для всех окружающих, поддерживаемую надеждой, которую никто с ней не мог разделять, и вы поймете, как она выслушала свой приговор.
Члены Общины, всегда расстававшиеся с блудным братом или сестрой с любящими и милосердными словами, были более или менее растроганы, прощаясь с ней. Большинство женщин плакали, целуя ее. Они повторяли несколько раз те же ласковые слова. Нам, мол, вас очень жаль, милая, мы будем очень рады увидеть вас опять.
Они запели обычный прощальный гимн и не могли его кончить от волнения. Она их утешала! В продолжение всей печальной церемонии она была также спокойна и смотрела вдаль тем же глубоким, загадочным взором. Я подошел к ней последним и, признаюсь, от волнения не мог говорить. Она взяла мою руку в свои. На минуту нежная лучезарная улыбка озарила ее лицо, потом оно приняло то же сосредоточенное выражение.
Ее глаза, все еще устремленные на меня, казалось смотрели куда-то вдаль. Она заговорила тихим голосом.
– Утешься, Амелиус, конец еще не настал. – Она обвила мою голову руками и привлекла ее к себе.
– Ты вернешься ко мне! – прошептала она и поцеловала в лоб при всех. Когда я поднял голову, ее уже не было. Я не видел ее с тех пор. Вот и все, господа. Теперь позвольте мне пойти полюбоваться морем, чтобы успокоиться от волнения.
Глава VI
«О, Руфус Дингуэль, какой дождь льет целый день. Улица, которая видна из окна гостиницы, представляет такой грязный, печальный вид.
Знаете ли, мне кажется, что я уже не тот Амелиус, который обещал вам писать, когда мы расстались в Куинстоуне. Я начинаю стареть. Не знаю, в состоянии ли я теперь рассказать Вам первое впечатление, произведенное на меня Лондоном. Может быть, мое мнение изменится. В настоящее же время (вот между нами) мне не нравятся ни Лондон, ни его жители, исключал двух дам, которые заинтересовали и очаровали меня совершенно различным образом.
Кто эти дамы? Я сообщу вам, что слышал о них от мистера Хеткота, а потом опишу их сам.
Последний день путешествия к Ливерпулю показался мне очень скучным без вас. Мистер Хеткот, напротив, фамильярнее и доверчивее общался со мной.
В последнюю нашу ночь на корабле мы много говорили о семействе Фарнеби. Вы не слушали его рассказов об этом семействе, когда были с нами, потому что оно не интересовало вас, но теперь вы должны внимательно все выслушать, если хотите познакомиться с дамами. Позвольте мне прежде всего сообщить вам, что у мистера и мистрис Фарнеби нет детей, они усыновили сироту, дочь сестры мистрис Фарнеби. Сестра, как оказывается, умерла много лет тому назад, пережив своего мужа только несколькими месяцами. Чтобы дополнить историю, я скажу вам, что смерть похитила старого мистера Рональда – основателя бумажной торговли, и его жену, мать миссис Фарнеби. Я не отрицаю, что это сухие факты, но продолжение будет интереснее. Далее я должен вам рассказать, как мистер Хеткот познакомился с мистрис Фарнеби. Ну, Руфус, мы добрались наконец до романа.
Уже несколько лет мистер Хеткот не исполняет обязанностей священника из-за болезни головы, которая не позволяет ему совершать службу и произносить проповеди. Последний его приход был в западной части Лондона; однажды в воскресный вечер после проповеди к нему в ризницу пришла дама за духовным советом и утешением. Она была постоянной прихожанкой этой церкви и вечерняя проповедь сильно на нее подействовала. Мистер Хеткот беседовал с ней после этого вечера несколько разу нее в доме. Он очень интересовался ей, но ее муж не нравился ему, и потому, оставив свою должность, он перестал их посещать. Я не могу вам ничего сказать про горе мистрис Фарнеби. Мистер Хеткот был очень серьезен и грустен, когда сказал мне, что его разговоры с ней должны остаться тайной. „По всей вероятности, вы не поладите с мистером Фарнеби, – сказал он мне, – но я буду очень удивлен, если его жена и племянница не произведут на вас благоприятного впечатления“. Вот все, что я знал, когда представил рекомендательное письмо мистеру Фарнеби в его магазине.
Это величественное здание с большими зеркальными окнами, все обновленное и перестроенное (как мне говорили) после смерти мистера Рональда. Мою карточку и письмо отнесли в контору и через некоторое время я последовал за ними. Меня принял худой, среднего роста человек, в черном сюртуке, застегнутом наглухо; у него в руке было мое рекомендательное письмо. Лицо его отличалось здоровым румянцем, не часто попадающемся в Лондоне, насколько я мог заметить, седые волосы и бакенбарды (в особенности бакенбарды) были так тщательно напомажены и причесаны, точно он только что вышел от парикмахера. Я был утром в Зоологическом саду, когда он взглянул на меня, его стеклянные, злые глаза напоминали мне глаза орла. У меня есть недостаток, от которого я не могу избавиться. Я составляю свое мнение о людях при первом знакомстве, не обдумывая верно оно или нет. С той минуты, когда взоры наши встретились, я возненавидел мистера Фарнеби.
– Здравствуйте, – заговорил он громким, резким голосом. – Ваше письмо удивило меня!
– Я думал, что написавший его ваш старый друг, – сказал я.
– Старый друг, – повторил мистер Фарнеби, – друг, заблуждения которого я оплакиваю. Я считал его пропащим человеком с той минуты, как он присоединился к вашей Общине. Я удивляюсь, что он написал мне!
– Быть может я ошибался, не зная светских приличий, но этот прием показался мне очень грубым. Шляпа моя лежала на стуле, я взял ее и обратился к грубияну с напомаженными бакенбардами:
– Если бы то, что вы сказали, было мне известно раньше, я никогда не обеспокоил бы вас этим письмом. Прощайте. Мои слова его нисколько не оскорбили, странная улыбка показалась на его лице, глаза широко раскрылись, рот скривился на сторону.
Он протянул руку, чтобы остановить меня. Я думал, что он хотел извиниться, но нет, он сделал только замечание.
– Вы молоды и вспыльчивы, – сказал он. – Сожаление о заблуждениях моего друга не помешает мне исполнить долг старой дружбы. Вы, вероятно, не знаете, что в Англии социалистам не сочувствуют.
Я отразил удар.
– В таком случае немного социализма не повредило бы Англии. Мы считаем своим долгом сочувствовать всем людям, честным в убеждениях, как бы ни были ложны эти убеждения. Мне показалось, что я попал в цель, я опять взялся за шляпу, чтобы ретироваться со славой.
Мне стыдно за себя, Руфус. Я должен был дать ему мягкий ответ, отвращающий злобу, – мое поведение было позором для общества. Что меня заставило так поступить, воздух Лондона? Или дьявольское наваждение? Он остановил меня во второй раз, нисколько не смутившись от того, что я сказал ему. Его твердое убеждение в своем превосходстве над молодым искателем приключений представляло великолепное зрелище. Он отдал мне справедливость – этот фарисей отдал мне справедливость! Представьте себе, он заговорил о моих хороших сторонах, точно он принимал меня за молодого быка на выставке скота.
– Извините меня за замечание, – сказал он. – У вас очень порядочные манеры и вы говорите по-английски без всякого акцента, несмотря на то, что воспитывались в Америке. Что это значит?
Это меня совсем вывело из терпения.
– Это, вероятно, значит, – ответил я, – что мы в Америке не только обрабатываем землю, но занимаемся и своим собственным воспитанием. У нас есть книги и ноты, хотя вы, кажется, думаете, что мы покупаем только топоры и лопаты. Англичане не выделяются своими хорошими манерами в Тадморе. Мы не замечаем никакой разницы между американским джентльменом и английским. Что же касается до акцента, американцы также осуждают нас за это.
Улыбка опять появилась на его лице.
– Как глупо! – сказал он с великолепным состраданием к невежественным американцам. Ему, по-видимому, надоело мое общество. Он отделался от меня приглашением.
– Я буду очень рад видеть вас у себя и представить Вас жене и племяннице жены – нашей дочери. Вот адрес. В будущую субботу в 7 часов у нас будут обедать несколько друзей. Не присоединитесь ли вы к ним?
Мы все знаем разницу между вежливостью и радушием, но я не понимал, как громадна эта разница, пока не получил приглашения от мистера Фарнеби. Если бы мне не хотелось (после всего рассказанного мистером Хеткотом) видеть миссис Фарнеби и племянницу, я, разумеется, отказался бы от приглашения. Но любопытство меня мучило, и я обещал обедать с напомаженными бакенбардами. Он подал мне руку, прощаясь. Она была влажная и холодная, как лягушка. Выйдя из дома, я отправился в ближайший трактир и спросил вина. Сказать вам, что я еще сделал? Пошел в умывальню и смыл мистера Фарнеби с руки. (Если бы я поступил так в Тадморе, меня подвергли бы легкому наказанию, т. е. приказали бы обедать одному и запретили бы вход в „общую комнату“ на 48 часов). У меня характер все больше и больше портится в Лондоне – не съездить ли мне к вам в Ирландию? Что говорит Томас Мур о своих соотечественниках? Он должен их знать хорошо, я полагаю? Хотя они любят женщин и золото, но еще больше любят честь и добродетель. Во времена Мура все они, вероятно, были социалистами. Мне следовало бы жить в такой стране. Я должен был прервать письмо. Сильный туман поднялся для разнообразия. Я велел затопить камин и спустить шторы в половине двенадцатого утра и начинаю чувствовать себя как дома. Терпение, мой друг, терпение! Я сейчас расскажу про дам.
Войдя в дом мистера Фарнеби в назначенный день, я познакомился еще с одним из бесчисленных недостатков английской жизни. Если в другой какой-нибудь стране тебя пригласят обедать в семь часов, ты можешь приехать в семь. В Англии же надо являться в половине восьмого или даже без четверти восемь. В семь часов я был единственным человеком в гостиной мистера Фарнеби. В десять минут восьмого вышел сам Фарнеби. Мне очень хотелось встать на его место около камина и сказать: Фарнеби, я очень рад вас видеть, но я посмотрел на его бакенбарды, и они сказали мне – не делай этого!
Через пять минут к нам присоединилась мистрис Фарнеби. Я хотел бы быть писателем или скорее хорошим портретистом, чтобы послать вам портрет этой женщины. Я, право, не знаю, какими словами описать ее. Мой милый друг, она почти испугала меня. Я никогда не видал такой женщины и, вероятно, никогда не увижу. В ее фигуре и движениях не было ничего особенного. Она небольшого роста, полная и ступает тяжело, как мужчина. Мне хочется представить вам ее лицо так же ясно, как я его видел, – оно-то и напугало меня.
Насколько я могу судить, у нее в молодости было свежее, миленькое личико. Она и теперь, кажется, недурна. На лице нет ни пятен, ни морщин, волосы совершенно светлые, цвет лица прелестный. Белизна его, может быть, искусственная, не знаю. Что касается до ее губ, они как будто, созданы для поцелуев.
Одним словом, несмотря на то, что она уже шестнадцать лет замужем, (как мне сказал один из гостей после обеда), она была бы очаровательной маленькой женщиной, если б не глаза. Поймите меня хорошенько.
Эти большие голубые глаза, вероятно, в прежнее время составляли главную прелесть лица, но теперь они смотрят с таким глубоким выражением страдания, долгого безутешного страдания, с такой тоской, тоской и отчаянием, что сердце сжимается от жалости при виде ее.
Я могу поклясться, что домашняя жизнь этой женщины настоящий ад, что она страстно желает смерти, а между тем она так сильна и полна жизни, что до глубокой старости должна будет влачить свое тяжелое бремя. Я рву пером бумагу, так мне досадно, что не умею вам передать свои чувства. Можете вы себе представить больную душу, заключенную в здоровое тело? Мне все равно, что бы ни говорили книги и доктора. Как можно иначе объяснить противоречие между здоровым лицом, полной фигурой, твердой поступью и выражением страшной муки в глазах?
Бесполезно говорить мне, что такого противоречия не может быть. Я видел женщину, она существует. Да, я представляю себе, как вы смеетесь над моим письмом, я слышу, что вы говорите:
– Где это он набрался опытности, желал бы я знать?
У меня нет опытности, ноу меня есть что-то заменяющее ее, я сам не знаю что. Старший брат в Тадморе называл это симпатией, но ведь он сентиментальный человек. Итак, мистер Фарнеби представил меня своей жене. Потом отошел, как будто мы оба ему надоели, – и стал смотреть в окно.
Моя наружность почему-то поразила мистрис Фарнеби. Муж, как видно, не сказал ей, что я еще очень молод. Она оправилась от минутного удивления, движением руки пригласила меня сесть рядом с ней и произнесла необходимые слова приветствия, очевидно, думая все время о другом. Глаза, полные тоски и отчаяния, были устремлены куда-то в сторону.
– Мистер Фарнеби говорил мне, что вы жили в Америке.
Она сказала странным, монотонным голосом. Такие голоса у одиноких переселенцев на далеком западе, которым не с кем перемолвиться словом. Неужели мистрис Фарнеби тоже не с кем обменяться словом?
– Вы англичанин, не так ли? – продолжала она. Я ответил да и начал подыскивать предмет для разговора. Она избавила меня от этого труда, подвергнув меня настоящему допросу. Я после узнал, что она всегда так занимает незнакомых ей людей. Встречали вы когда-нибудь рассеянных людей, которые машинально задают вопросы, нисколько не интересуясь ответами? Она начала.
– Где вы жили в Америке?
– В Тадморе, в штате Иллинойс.
– Что за место Тадмор?
При таких обстоятельствах, я не мог особенно хорошо описать место.
– Что заставило вас ехать в Тадмор?
Невозможно было ответить на это, не говоря об Общине. Предполагая, что Община не может ее интересовать, я сказал о ней только несколько слов. К моему удивлению она заинтересовалась. Допрос продолжался, но теперь она не только слушала, но ждала с нетерпением ответов.
– В вашей Общине есть женщины?
– Женщин почти столько же, как и мужчин.
В ее глазах блеснул живой луч интереса, совершенно преобразивший их. Она заговорила быстро.
– Между приехавшими из Англии есть женщины, не имеющие ни родных, ни друзей?
– Да, у некоторых нет никого.
Я думал о Меллисент, говоря это. Уж не интересовалась ли она Меллисент? Следующий вопрос привел меня в совершенное недоумение и показал, что мое предположение было ошибочно.
– Между ними есть молодые женщины?
Мистер Фарнеби, стоявший до сих пор спиной к нам, вдруг обернулся и посмотрел на нее, когда она спросила есть ли между ними молодые женщины.
– О да, – сказал я. – Есть совершенные девочки.
Она так придвинулась ко мне, что ее колени касались моих.
– Каких лет? – спросила она.
Мистер Фарнеби оставил окно, подошел к дивану и прервал нас.
– Отвратительная стоит погода, не правда ли? – сказал он. – Вероятно, климат Америки…
Мистрис Фарнеби перебила своего мужа.
– Каких лет? – повторила она громче.
Вежливость требовала, чтобы я ответил хозяйке дома.
– Некоторым от 18 до 20 лет, другие моложе.
– Много моложе?
– Есть шестнадцати– и семнадцатилетние. – Волнение ее увеличилось, она схватила мою руку, чтобы совершенно овладеть моим вниманием.
– Американки или англичанки? – спросила она. Ее толстые, твердые пальцы держали мою руку, как в тисках.
– Вы будете в городе в ноябре? – спросил мистер Фарнеби опять намеренно прерывая нас. – Если вы хотите видеть Лорда-Мэра…
Мистрис Фарнеби с нетерпением потрясла меня за руку.
– Англичанки или американки? – повторила она еще настойчивее.
Мистер Фарнеби взглянул на нее. Если бы он мог одной силой воли бросить ее в пылающий огонь и сжечь в одну минуту, он сделал бы это. Его румяное лицо побледнело от сдержанного бешенства, когда он обернулся ко мне.
– Пойдемте, я вам покажу свои картины, – сказал он.
Его жена все еще крепко держала меня за руку. Нравилось ли ему это или нет, я должен был опять отвечать ей.
– Есть и американки, и англичанки, – сказал я.
Глаза ее широко раскрылись от ожидания. Она наклонилась так близко ко мне, что ее горячее дыхание касалось моих щек.
– Родившиеся в Англии?
– Нет, в Тадморе.
Она отпустила мою руку. Взгляд ее вдруг потух, она отвернулась, как будто совершенно забыв о моем присутствии, поднялась с дивана и села на стул у камина.
Мистер Фарнеби, побледнев еще сильней, подошел к ней, когда она переменила место. Я встал, чтобы посмотреть на картины, висевшие на стене: вы заметили, очевидно на пароходе, что у меня очень тонкий слух. Хотя мы были на противоположных концах комнаты, я слышал, что он шепнул, наклонившись к ней. – Чертовка ты этакая! – Вот что мистер Фарнеби сказал своей жене.
Часы на камине пробили половину восьмого. Гости стали входить один за другим. Они произвели на меня слабое впечатление, так как я был ошеломлен только что виденной мной сиеной из супружеской жизни. Мысли мои поглощены виденным и слышанным мной. Быть может, мистрис Фарнеби была немного помешана? Я прогнал эту мысль, как только она появилась. Ничто не оправдывало такого предположения. Вероятнее всего, она глубоко интересовалась какой-нибудь отсутствующей (может быть, погибшей) молодой девушкой, которой, судя по ее волнению и тону, не могло быть более шестнадцати или семнадцати лет. Сколько времени лелеяла она надежду видеть девушку или услышать о ней? Во всяком случае, надежда пустила очень глубокие корни, потому что она потеряла самообладание, когда я случайно коснулся этого предмета. Что касается ее мужа, это обстоятельство не только было ему неприятно, но даже приводило его в такое бешенство, что он не мог сдержать себя в присутствии третьего лица, приглашенного в его дом. Не сделал ли он какого-нибудь зла девушке? Не был ли он виновником ее исчезновения? Знала ли это его жена или только подозревала? Кто была эта девушка? Почему миссис Фарнеби принимала в ней такое удивительное участие, миссис Фарнеби, все интересы которой должны бы быть сосредоточены на приемной дочери, на сироте-племяннице, так как у нее не было своих детей? Я совершенно запутался в этих предположениях.
Разгадайте мне эту загадку и позвольте мне вернуться к обеду мистера Фарнеби, ожидавшему на столе.
Слуга распахнул дверь гостиной, и самый почетный гость повел мистрис Фарнеби в столовую. Я начал наблюдать за тем, что происходило вокруг меня. Не приглашали ни одной дамы, а мужчины все были уже пожилые. Я тщетно искал прелестную племянницу. Она, может быть, была нездорова? Я осмелился задать этот вопрос мистеру Фарнеби. Он ответил мне не очень любезно.
– Вы ее увидите за чайным столом, когда мы пойдем в гостиную. Молодым особам не место на званых обедах.
Когда я вышел в залу, я взглянул наверх, не знаю почему, может быть, на меня подействовал магнетизм. Во всяком случае я был вознагражден. Красивое, молодое лицо наклонилось над перилами и тотчас скромно спряталось. Кроме меня и мистера Фарнеби, все были еще в столовой. Уж не на молодого ли социалиста она смотрела?
Опять прервал письмо, благодаря перемене в погоде. Туман исчез, лакей гасит газ, и сероватая мгла врывается в комнату. Я спросил идет ли еще дождь. Он улыбается, потирает руки и говорит.
– Кажется, скоро прояснеет, сударь. – Волосы этого человека седые, он всю жизнь был официантом в Лондоне и все-таки весело смотрит на жизнь. Сколько силы и ума потрачено на пустяки!
Ну, теперь расскажу об обеде Фарнеби.
– Мне еще тяжело, Руфус, когда я думаю о нем. Так много было блюд, а мистер Фарнеби непременно требовал, чтоб ели всего. Его взор останавливался на мне, если я оставлял что-нибудь на тарелке и, казалось, говорил: „Я заплатил за этот роскошный обед и хочу, чтобы вы его ели“. В меню обеда было напечатано, какие вина мы обязаны пить после каждого блюда. Уже в самом начале обеда я попал в беду. Вкус хереса, например, мне положительно противен, а Рейнвейн превращается в уксус, когда я его глотаю. Я спросил вина, которое мог пить. Вы бы посмотрели на лицо мистера Фарнеби, когда я нарушил порядок его обеда! Это был единственный забавный случай во время пира, заставивший меня на минуту забыть о миссис Фарнеби. Взор ее выражал ту же тоску и отчаяние, мысли, очевидно, были очень далеки от всего происходившего вокруг нее. Она засыпала и смущала гостей, сидевших по правую и левую ее сторону, целым градом рассеянных вопросов, так же как смущала меня. Я узнал, что один из этих господ адвокат, а другой судохозяин из их ответов на рассеянные вопросы мистрис Фарнеби. Она не переставала есть, задавая вопросы. Ее здоровое тело требовало пищи. Она, вероятно, пила бы так же много, как ела, если бы ей это позволяли, но мистер Фарнеби иногда бросал на буфетчика взгляд, и буфетчик спокойно обносил ее. Еда и вино не произвели в ней никакой перемены, она могла есть бесконечно. Лицо ее нисколько не изменилось, когда она встала, повинуясь заведенному в Англии порядку, и удалилась в гостиную. Мужчины, оставшись одни, заговорили о политике. Сначала я слушал, думая почерпнуть какие-нибудь сведения.
В Тодморе мы читали о господствующем политическом положении средних классов в Англии со времени Билля о Реформе. Все гости мистера Фарнеби принадлежали к среднему классу коммерсантов и промышленников. Они все говорили очень быстро, я и старый господин, мой сосед, были единственными слушателями. Я просидел все это утро в курильной гостиницы, читая газеты. И что оке я услышал, когда начали разглагольствовать о политике? Я услышал, как все мысли передовых статей выдавались хладнокровно за свои собственные. Все отнеслись к обману с таким спокойствием и доверием, что мне стало стыдно за них. Ни один человек не сказал: я читал это сегодня в „Таймсе“ или „Телеграфе“. Ни у одного из присутствующих не было своего собственного мнения или, если оно было, его не высказывали. Ни у одного не хватило смелости сознаться в незнании дела. Постыдный обман, которому все будто сговорились верить, вот точное определение политических убеждений гостей мистера Фарнеби; я вывожу суждения не из одного этого случая, нет, я бывал в клубах и на публичных торжествах и везде я слышал то же, что и в столовой мистера Фарнеби.
Не надо быть пророком, чтобы видеть, что такое положение вещей не может продолжаться в стране, еще не окончившей своих реформ.
В Англии наступит время, когда будут выслушивать людей, имеющих убеждения, когда парламент будет принужден открыть им свои двери.
Вот вам взрыв республиканской свободы! Что думает о ней мой несчастный друг, ожидающий все время быть представленным племяннице мистрис Фарнеби? Я рассказываю по порядку, Руфус. Племянницу я увидел после политики и потому расскажу о ней после. Я сообщу вам сначала, что сказал о ней мой сосед, – странный старик, доктор, отказавшийся от практики, насколько я помню. Ему, по-видимому, так же, как и мне, надоело слушать извлечение из газет, он весь просиял, когда я заговорил о мисс Регине. Упоминал я ее имя? Если нет, знайте, что ее полное имя мисс Реджина Мильдмей.
– Я называю ее смуглянкой, – сказал старый господин. – У нее каштановые волосы, карие глаза и смуглый цвет лица. Нет, она не брюнетка, волосы ее слишком светлы, – она скорее шатенка, подождите, сами увидите! Она похожа на отца. Он был очень красив в свое время, мать его была иностранка. Мисс Регине дали такое странное имя в честь бабушки. Не обращайте на него внимания! Она прелестная особа. Выпьем за ее здоровье. – Мы выпили за ее здоровье. Вспомнив, что он назвал ее смуглянкой, я заметил, что она еще, вероятно, очень молода.
– Лучше того, – ответил доктор, – она во цвете лет. Я называю ее так по привычке. Пойдите, сами увидите.
– Хорошо она сложена?
– А вы, как турки, не довольствуетесь красивым лицом, а требуете еще хорошего сложения. Мы понравимся вам – мы высоки и стройны, с походкой богини. Горда ли она? О, нет. Это простая, добрая девушка. Она всегда одинакова, я никогда не видал ее не в духе, она никогда не злословит. Человеку, которому она достанется, можно позавидовать!
– Она уже помолвлена?
– Нет. У нее было много женихов, но она всем отказывала.
Она посвятила себя мистрис Фарнеби и любит только своих пансионских подруг. Великолепная девушка, всегда спокойная, задумчивая, невозмутимая. Передайте мне оливки. Представьте себе! Человек, открывший оливки, неизвестен, ему не воздвигли статуи ни в одном уголке цивилизованного мира. Я не знаю более разительного примера человеческой неблагодарности.
Я задал очень смелый вопрос, не об оливках, конечно.
– Мисс Регина не скучает в этом доме?
Доктор осторожно понизил голос.
– Многие женщины умерли бы здесь от скуки, но Регина в детстве вела очень тяжелую жизнь. Ее мать была старшей дочерью мистера Рональда. Старый негодяй до самой смерти не простил ей того, что она вышла замуж против его воли. Миссис Рональд тихонько от мужа помогала ей чем могла, но деньги все были у старого Рональда, он один мог распоряжаться ими. С самого раннего детства Регины в доме всегда была нужда.
Отец, осаждаемый кредиторами, бросался от одного дела к другому, но они все ему не удавались, мать и дочь принуждены были закладывать самую необходимую одежду, чтобы купить хлеба. Я лечил их, они не могли от меня скрыть нищету, хотя из гордости и скрывали ее от всех. Вы можете себе представить, каким раем показался ей этот дом! Я не говорю, чтобы настоящая уединенная жизнь вполне ее удовлетворяла, нет, но переход от нищеты к роскоши все-таки чувствителен. Она одна из тех женщин, которые любят жертвовать собой для других, и вполне посвятила себя мистрис Фарнеби. Надеюсь, что мистрис Фарнеби достойна этой жертвы. Регина, разумеется, не ожидает благодарности, а жертвует собой из доброты. Она оживляет весь дом. Фарнеби немало выиграл, приняв ее к себе. Доброе создание считает его своим благодетелем и не подозревает, что давно отплатила за все сделанное ей добро. Фарнеби много потеряет, когда она выйдет замуж:. Не думайте, что я осуждаю нашего хозяина, он мой старый приятель, но он слишком мало придает цены счастью, выпавшему на ее долю. Я так часто говорил ему это в глаза, что имею право повторить вам то же самое. Вы курите? Хоть бы они бросили свою политику и шли курить. Послушайте, Фарнеби! Мне хочется выкурить сигару.
Все отправились в курильную под предводительством доктора. Я начал удивляться, почему так долго не вижу мисс Регину, но мне предстояло еще увидеть новую сторону характера моего хозяина и возвыситься в его мнении. Когда мы встали из-за стола, один из гостей заговорил со мной о поездке, совершенной им в ту часть Букингэмшира, где я родился.
– Мне показали замечательно красивый старый дом на лугу, – сказал он. – Мне говорили, что Голъденхарты жили там несколько столетий. Они родственники вам? – Я отвечал, что родился в этом доме и думал, что тем дело и кончится. Так как я был самый младший из гостей, я пропустил всех вперед. Мы с мистером Фарнеби остались одни. К величайшему моему изумлению, он взял меня под руку и повел из столовой с добродушной фамильярностью старого друга.
– Я вам дам сигару, – сказал он, – какой вы ни за какие деньги не достанете в Лондоне. Надеюсь, что вы не скучали? Теперь мы знаем, какое вы любите вино, вам не придется спрашивать его в следующий раз у буфетчика. Заходите к нам обедать, когда вздумается. – Он остановился в зале, в его резком голосе послышалось что-то похожее на уважение. – Вы были в вашем родовом имении с тех пор, как приехали в Англию?
Он, вероятно, слышал разговор друга со мной. Странно, что он интересовался родовым поместьем людей совершенно ему незнакомых. На его вопрос легко было ответить. Я сообщил ему, что отец, уезжая из Англии, продал дом.
– Очень, очень жаль/ – сказал он. – Родовые поместья не следует продавать. Величию Англии способствуют люди древнего рода. Они могут быть бедны или богаты, все равно. Ничто не заменит древнего имени, грустно смотреть, как родовые имения переходят к богатым фабрикантам, которые не знают своего дела. Позвольте мне спросить, какой девиз у Гольденхартов?
Признаться ли вам? Так как за столом пили много вина, я подумал, не пьян ли он. Я сказал, что, несмотря на все мое желание, не могу ответить на его вопрос, так как не знаю девиза. Он был очень поражен.
– Кажется, я видел у вас кольцо, – заметил он, оправившись от удивления. Он взял мою руку своей холодной, мокрой лапой. Я ношу только простое золотое кольцо с шифром отца на печати.
– Господи, у вас даже герба нет на печати, – воскликнул мистер Фарнеби. – Я гораздо старше вас и позволю себе сделать вам маленькое замечание. Ваш герб, вероятно, находится в Геральдии? Почему вы не достанете его? Хотите я съезжу. Мне это доставит большое удовольствие. К таким вещам не надо относиться небрежно.
Я слушал с безмолвным удивлением. Что он смеялся над древним родом? Мы наконец дошли до курительной, и мой друг, доктор, объяснил мне все, отойдя в угол. Мистер Фарнеби говорил серьезно. Этот человек, обязанный своим возвышением из самого низкого сословия только самому себе, имеющий полное право презирать людей, гордящихся своими предками, рабски преклоняется перед древним именем. Бедное человечество! сказал кто-то. Я вполне согласен с ним.
Мы пошли в гостиную, и меня наконец представили смуглянке. Какое впечатление произвела она на меня? Знаете, Руфус, мне почему-то не хочется продолжать это бесконечное письмо, хотя и дошел до самой интересной его части. Я сам не могу объяснить своего настроения, я только знаю, что мне не хочется писать. Описание молодой девушки не затрудняет меня так, как описание ее тетки. Я вижу ее перед собой, как живую. Я даже помню (это очень удивительно в мужчине) какое платье было на ней. И все-таки мне не хочется писать о ней, точно в этом заключается что-то дурное. Сделайте одолжение, добрый друг, позвольте отослать все эти листы, произведение ленивого утра, не прибавив к ним ничего. В следующем письме обещаю исправиться и написать портрет мисс Регины во весь рост, а пока не подумайте, что она произвела на меня неблагоприятное впечатление. Далеко нет. Вы слышали мнение старого доктора. Мое мнение еще более лестное».
Примечание. На письме странная приписка, сделанная спустя несколько месяцев после получения письма: «О, бедный Амелиус! Лучше бы ему вернуться к мисс Меллисент и примириться с ее летами. Какой он был веселый, славный малый! Прощай Гольденхарт!» Эти строки не подписаны. Однако известно, что почерк Руфуса Дингуэля.
Глава VII
«Приезжай непременно, милая Сесилия, завтракать к нам послезавтра. Не говори себе: у Фарнеби скучно, Регина слишком глупа для меня и не думай о расстоянии между вашим имением и Лондоном. Это письмо очень интересно – у меня есть для тебя новость. Что ты скажешь, если я обещаю показать тебе молодого человека умного, красивого, приятного и, что еще удивительнее, совершенно непохожего на всех молодых людей когда-либо виденных тобой. Ты его увидишь за завтраком.
Я вложу его карточку в письмо, чтобы ты могла заранее привыкать к его странной фамилии. Он был у нас вчера вечером в первый раз. Когда мне его представили за чайным столом, он не удовольствовался поклоном – я должна была протянуть ему руку. У нас, объяснил он, неловкость первого знакомства облегчается радушием. Он смотрел на свою чашку с видом человека, который сказал бы многое, если бы ему позволили. Разумеется, я ободрила его.
– Вероятно, пожатие руки в Америке равняется поклону в Англии? – спросила я.
Он взглянул на меня и покачал головой. – Здесь слишком много формальностей. Гостеприимство, например, в Англии сделалось пустой формальностью. В Америке если новый знакомый приглашает вас к себе, он, действительно, хочет вас видеть. Здесь же из десяти случаев девять, когда пригласивший удивляется, если вы поймаете его на слове. Я терпеть не могу притворства, мисс Регина, а, возвратясь на родину, я нашел, что притворство вошло в число обычаев, принятых в английском обществе. „Не могу ли я вам быть полезным?“ – говорят вам. Попросите их о чем-нибудь и вы увидите, что значат эти слова. „Благодарю вас за приятно проведенный вечер!“ Сядьте с ними в карету, когда они поедут домой и вы услышите: „Какая тоска!“. „Господин такой-то, позвольте мне поздравить вас с новым назначением“. Господин такой-то отходит и вы узнаете, что значит это поздравление. „Жадное животное! Ему заплатили за подачу голоса при последнем разделении Парламента.“ „О, мистер Блэнк, какую вы прелестную книгу написали!“ Блэнк отходит, и вы спрашиваете, что он написал. „По правде сказать, я не читал ее. Шш, он принят при дворе, такие вещи необходимо говорить.“ На днях один приятель возил меня на обед Лорда-Мэра. Мы поехали сперва в клуб, многие именитые гости сошлись там перед обедом, Господи, как они отзывались о Лорде-Мэре! Один не знал его имени и не желал его знать, другой не знал наверно, торговец ли он свечами или пуговичный фабрикант, третий, встретивший его где-то, говорил, что он осел, четвертый сказал: „О, не судите его так строго, он просто старый дурак без всякого характера“. Когда наступило время ехать на обед, все единогласно закричали: какая тоска! Я шепнул своему другу: „Зачем же они едут? Это необходимо“, – отвечал он. Когда мы приехали в Mansion Home, их узнать нельзя было. Эти самые люди, которые выказывали полное презрение к Лорду-Мэру за его спиной, говоря речь, льстили ему в глаза с таким лакейским бесстыдством, с таким полным равнодушием к своей подлости, что мне положительно сделалось тошно.
– Я ушел подышать чистым воздухом и после такого общества освежиться сигарой. Нет, нет, бесполезно излагать подобные вещи. (Я мог бы привести множество других случаев, замеченных мной) говоря что это пустяки, когда подобные пустяки обращаются в привычку от них трудно отвыкнуть. Весь общественный строй Англии никуда не годится. Если вы хотите знать одну из причин, обратите внимание на общепринятое притворство и лицемерие в английской жизни.
Ты, разумеется, понимаешь Сесилия, что все это не было выговорено залпом, как я написала. Некоторые суждения были ответами на мои вопросы, а остальные были высказаны в промежутках разговора, чаепития и смеха, но я хочу тебе показать, как не похож этот молодой человек на всех молодых людей, которых мы привыкли встречать, и потому передаю тебе весь его разговор.
Милая моя, он положительно красив (я говорю о нашем обворожительном Амелиусе); оживленное веселое лицо его представляет приятный контраст с бесстрастным спокойствием обыкновенного молодого англичанина. Улыбка прелестна, движения его так лее грациозны, как движения моей итальянской левретки.
Он воспитывался в среде самых странных людей в Америке, и (представь себе) он социалист. Не пугайся. Он привел нас всех в негодование, объявив, что весь его социализм взят из Евангелия. Я потом убедилась, читая Евангелие, что он прав.
О, я забыла, молодой социалист играет и поет. Когда мы попросили его спеть что-нибудь, он тотчас же согласился. Я не настолько хорошо пою, сказал он, чтобы позволять себя упрашивать. Он спел несколько английских песен с большим вкусом и чувством. Один из наших гостей, которому, по-видимому, он не понравился заговорил с ним, как мне показалось, немного дерзко.
– Социалист, который поет и играет, – сказал он, – совершенно безвреден. Я начинаю убеждаться, что мой банкир в безопасности и что Лондон не будет подожжен петролеумом на этот раз. За это ему досталось, уверяю тебя.
– Зачем нам поджигать Лондон? Лондон берету вас ежегодно часть дохода, нравится ли нам это или нет, следуя социальным принципам. У вас есть деньги, и социализм говорит: вы должны и будете помогать людям, не имеющим ничего. То же самое говорит и ваш закон о бедных каждый раз, как сборщик податей оставляет у вас бумагу. Не правда ли, очень умно? И подействовало тем сильнее, что сказано было добродушно. Кажется, я ему понравилась, Сесилия: он не спускал с меня глаз весь вечер. Когда я отходила от него к кому-нибудь из гостей, чувствуя, что нехорошо заниматься им одним, он ухитрялся найти себе место около меня. Голос его изменялся, когда он обращался ко мне. Сама все увидишь послезавтра, но, пожалуйста, не выводи никаких заключений из моего письма. О нет, я не собираюсь в него влюбляться, потому что не могу полюбить никого. Помнишь, что сказал обо мне последний мой жених? У нее в левом боку машинка, из которой кровь расходится по всему телу, ноу нее нет сердца. Мне жаль женщину, которая выйдет замуж за этого человека!
Еще одно слово, моя милая. Этот странный Амелиус, как и мы, замечает безделицы, которые вообще ускользают от внимания мужчин. К концу вечера бедная мама Фарнеби впала в бессознательное состояние, она почти спала на диване в гостиной.
– Ваша тетка меня интересует, – прошептал он. – У нее, вероятно, было страшное горе в жизни. Представь себе, что мужчина это заметил. Он сделал несколько намеков, которые показали, что он ломает себе голову, чтобы узнать, как я с ней лажу и пользуюсь ли ее доверием, он даже решился спросить, какого рода жизнь веду я с дядей и теткой. Милая моя, все это было сказано так деликатно, с таким очаровательным сочувствием и уважением, что я испугалась, когда ночью вспомнила, как откровенно с ним говорила. Я не выдала никакой тайны, потому что не больше других знаю о прежней жизни моей бедной милой тетки, но я рассказала ему, как осталась сиротой и была принята в этот дом, как великодушно они оба поступили со мной и как я счастлива, что могу немного оживлять их грустную жизнь.
– Мне бы хотелось быть наполовину таким добрым, как вы, – сказал он. – Я не могу понять, как вы могли привязаться к мистрис Фарнеби. Может быть, вы полюбили ее из сочувствия и сострадания? – Представь себе, что это сказал мужчина! Он начал рассказывать свои недоразумения, точно мы были знакомы с детства.
– Меня немного удивляет, что мистрис Фарнеби присутствует на таких вечерах, ей лучше было бы у себя.
– Она не хочет оставаться в своей комнате, – отвечала я, – она думает, что если не будет присутствовать на вечерах, все начнут говорить, что муж стыдится ее или что она боится показаться в обществе, а ей не хочется, чтобы о ней говорили дурно. – Можешь ты понять, почему говорила с ним так откровенно? Вот тебе образчик моего увлечения в обществе этого господина, Сесилия.
Он так мил и скромен, а между тем так мужествен. Мне хочется знать, устоишь ли ты против него с твоей твердостью и знанием света. Но я еще не рассказала тебе самого странного происшествия, потому что не знаю, как его описать, а мне хочется, чтобы ты заинтересовалась так же глубоко, как и я. Я расскажу его как можно проще: пусть оно само за себя говорит.
Как ты думаешь, кто пригласил Амелиуса завтракать? Не папа Фарнеби, он его приглашает только обедать. И не я, разумеется. Кто же? Сама мама Фарнеби! Он ее так заинтересовал, что она думала о нем в его отсутствие и даже видела его во сне! Я услышала сегодня ночью, что она, бедненькая, говорит и скрежещет зубами во сне, и вошла в комнату, чтобы, по обыкновению, успокоить ее, положив холодную руку на ее лоб. (Старый доктор говорит, что это магнетизм, но это вздор.) Ну ни этот раз моя рука не помогла, она продолжала бормотать и скрипеть зубами. Изредка можно было расслышать отдельные слова. Связанного ничего не было в них, но я сделала открытие, что она положительно видела во сне американского гостя.
Я, разумеется, ни о чем не упомянула, когда утром принесла ей наверх чашку чаю. Как ты думаешь, что она потребовала прежде всего? Перо, чернила и бумагу. Следующая просьба была, чтобы я написала адрес мистера Гольденхарта на конверте.
– Вы собираетесь ему писать? – спросила я. „Да“, – сказала она, – мне хочется говорить с ним, пока Джон занят.
– О секретах? – спросила я смеясь. Она отвечала серьезно:
– Да, о секретах. – В его гостиницу послали письмо с приглашением на завтрак в первый свободный день.
Он назначил послезавтра. Чтобы проникнуть в тайну, я спросила у тетки, надо ли мне присутствовать при завтраке. Она задумалась.
– Я хочу, чтобы он был в хорошем расположении духа, когда я буду говорить с ним, – ответила она наконец.
– Да, ты будешь с нами завтракать и пригласи Сесилию. Она опять задумалась. – Помни, пожалуйста, что дядя не должен ничего знать, – продолжала она. – Если ты ему скажешь, я никогда больше не буду с тобой говорить. – Не удивительно ли это? Что бы она ни видала во сне, сон произвел на нее сильное впечатление. Я твердо уверена, что она уведет его к себе в комнату после завтрака. Милая Сесилия, помоги мне помешать этому. Она никогда не доверяла мне своих тайн: может быть, они очень невинны, но, во всяком случае, нельзя позволить, чтобы она доверилась молодому человеку, которого видела только один раз, она непременно сделает какую-нибудь глупость. Ради старой дружбы, помоги мне. Напиши только одну строчку, дорогая, чтобы я была уверена, что ты приедешь».
Глава VIII
Это был послеполуденный концерт, новейшая немецкая музыка господствовала в программе. Терпеливая английская публика сидела тесными рядами, слушая напыщенный инструментальный шум, нагло предложенный ей вместо мелодии. Когда эти покорные жертвы самого худшего из всех квартетов (музыкальных) выдержали уже целый час муки, между слушателями произошло легкое волнение, возбудившее интерес: с одной дамой сделалось вдруг дурно от жары. Ее тотчас вывел из концертной залы джентльмен, сопровождавший ее и еще двух молодых леди, которым он сказал шепотом несколько слов в объяснение случившегося. Оставшись одни, молодые леди переглянулись и, сказав что-то друг другу, приподнялись было с мест, сконфузились, увидев, что общее внимание обратилось на них, и наконец, решились оставить зал и последовать за своими спутниками. Первая дама имела, как видно, свои причины не желать оправиться здесь в прихожей. Когда сопровождавший ее джентльмен спросил, не подать ли ей стакан воды, она резко отвечала:
– Позовите извозчика, и как можно скорее.
В ту же минуту привели кабриолет, по ее приглашению джентльмен сел с ней.
– Лучше ли вам теперь? – спросил он.
– Тут дело идет не обо мне, – спокойно ответила она, – велите извозчику погонять хорошенько.
Исполнив приказание, джентльмен (Амелиус) пришел в некоторое смущение. Леди (мистрис Фарнеби) заметила состояние его духа и удостоила объяснением.
– Я имела свои причины пригласить вас сегодня на завтрак, – начала она свойственным ей твердым и откровенным тоном. – Мне нужно было сказать вам несколько слов по секрету. Моя племянница, Регина, не удивляйтесь, что я называю ее моей племянницей, после того как вы слышали, что мистер Фарнеби называет ее дочерью. Она моя племянница. Усыновление ее пустая фраза. Не должно извращать фактов, так как она не дочь ни мне, ни мистеру Фарнеби, не правда ли?
Она закончила вопросом, но, казалось, вовсе не нуждалась в ответе. Лицо ее было обращено к окну кареты, в противоположную сторону от Амелиуса, который принадлежал к числу людей, умеющих молчать, когда им нечего сказать. Мистрис Фарбери продолжала:
– Моя племянница, доброе создание в своем роде, но она подозрительного характера. Она имеет свои причины препятствовать мне сделать вас своим поверенным, а ее приятельница, Сесиль, помогает ей в этом. Да, поездку в концерт устроили они, чтобы помешать мне. Вы должны были поехать, после того как сказали, что любите музыку, и я не могла претендовать на это, так как они взяли четвертый билет для меня. Я должна была отправиться против своего желания, и я это сделала. Ничего нет удивительного, что мне сделалось дурно от жары, ничего нет удивительного и в том, что вы как джентльмен исполнили свою обязанность и проводили меня. Что же из этого вышло? То, что мы остались наедине и на пути в мою комнату, вопреки их стараниям. Все это устроено недурно, таким беспомощным существом как я, не так ли?
Внутренне удивляясь и не понимая, что все это должно значить и чего она от него хочет, Амелиус заметил, что молодые леди могут оставить концертный зал и, не найдя их в прихожей, последовать за ними домой.
Мистрис Фарнеби обернулась и в первый раз посмотрела ему в лицо.
– Предоставьте это мне, – сказала она, – и вы увидите, что я могу еще бороться с ними.
Сказав это, она с минуту твердо, пытливо смотрела в лицо Амелиуса. На ее полных губах появилась грустная улыбка, голова тихо опустилась на грудь.
– Странно, что он считает меня несколько сумасшедшей. Другая женщина на моем месте действительно давно бы сошла с ума. Может быть, это было бы лучше для меня?
Она снова взглянула на Амелиуса.
– Вы добрый малый, – продолжала она. – В благоприятном ли вы расположении духа теперь? Переварили ли свой завтрак? Веселое общество молодых леди хорошо ли вас настроило в отношении женщин вообще? Я бы желала, чтобы вы были теперь в самом лучшем расположении духа.
Она говорила совершенно серьезно. Амелиус, к своему величайшему удивлению, также серьезно отвечал ей, уверяя ее в своей готовности служить ей. Что-то в ее манерах произвело на него неприятное впечатление. Если бы он последовал своему внутреннему побуждению, то сейчас же вышел бы из экипажа и в ту же минуту возвратил бы себе свободу и веселость, убежав прочь.
Извозчик повернул на улицу, в которой жила мистрис Фарнеби. Она приказала ему остановиться на некотором расстоянии от своего дома.
– Вы полагаете, что те леди последуют за нами, – обратилась она к Амелиусу. – Пускай их разыскивают, прислуга не в состоянии будет ничего сообщить им о нас в таком случае. – И она не позволила ему постучать в двери дома. – Теперь время чая, люди внизу, – прошептала она, взглянув на часы. – Вы и я войдем в дом, не известив о том прислугу. Теперь вы меня поняли?
Она вынула из кармана стальное кольцо с несколькими ключами. – Это дубликат ключей мистера Фарнеби, – объяснила она, выбрав один ключ и отпирая уличную дверь. – Иногда мне не спится с раннего утра и я не могу выносить постели, мне необходимо бывает пройтись. Ключ этот служит мне тогда, как служит теперь, никого не беспокоя. Вы хорошо сделаете, если не упомянете об этом мистеру Фарнеби, не то чтоб это было очень важно, но мне пришлось бы отдать ему ключ, если б он потребовал его. Но вы добрый человек и не захотите вносить раздор между мужем и женой. Входите тихо и следуйте за мной.
Амелиус колебался. Ему было неприятно входить таким тайным образом в дом постороннего человека.
– Прекрасно, – прошептала мистрис Фарнеби, поняв его мысли. – Руководитесь своим достоинством, пойдите к двери, постучитесь и спросите, дома ли я. Мне нужно только избежать хлопот и перерыва в нашем разговоре, когда вернется Регина. Если прислуга не будет знать, что мы здесь, то она ответит Регине, что мы еще не возвращались, и нам никто не помешает.
Странно было бы противоречить после этого. Амелиус покорно последовал за ней на дальний конец салона. Здесь она отворила дверь в длинную, узкую комнату, находившуюся в задней части дома.
– Это моя берлога, – сказала она Амелиусу, знаком приглашая его войти. – Пока мы находимся здесь, никто нам не помешает. – Она сняла и положила подле себя шляпку и шаль и указала ему на ящик сигар, стоявший на столе. – Возьмите сигару, – прибавила она, – я курю, когда никто меня не видит. Это была одна из причин, вследствие которых Регина не хотела допустить вас в мою комнату. Я нахожу, что курение успокаивает меня, что вы на это скажете?
Она зажгла сигару и подала спичку Амелиусу. Находя, что нужно покориться необходимости, он со свойственной ему легкостью примирился с обстоятельствами. Он закурил сигару, подвинул стул к камину и осматривался кругом со спокойным достоинством, не хуже Руфуса Дингуэля.
Комната не представляла ничего похожего на будуар. Старый, полинялый турецкий ковер покрывал пол. Простой красного дерева стол ничем не был накрыт, ситец, которым были обиты стулья, служил, как видно, немало лет. Некоторые снаряды и украшения скорей указывали на мужскую комнату. Гимнастические ядра и палицы, употребляемые в атлетических упражнениях, висели над колпаком очага, большая дубовая безобразная мебель, не то гардероб, не то сундук стояла у противоположной стены. Над токарным станком висели рядом четыре картины в старых почерневших рамах, которые и привлекли к себе внимание Амелиуса. Они выцвели от времени и все представляли один сюжет в разных видах: детей, или убегавших от своих родителей, или похищаемых. Здесь был и Моисей в своей плетушке на берегу реки, и святой Франциск, бродивший по улицам и собиравший зимней ночью покинутых детей. На третьей картине был представлен воспитательный дом старого Парижа с поворачивающейся в стене клеткой и звонок, за который дергали, когда ребенок был положен на место. На последней была изображена цыганка, похищающая ребенка у заснувшей кормилицы. Эти печальные картины были единственным украшением стен. Не видно было ни книг, ни нот, ни шитья, не было и следа изящных дамских безделушек, ни фарфора, ни цветов, ни тонких кружев, ни драгоценностей, ничего, указывающего на присутствие женщины, а между тем комната эта принадлежала мистрис Фарнеби.
– Мне нужно многое сказать вам, – начала она, – только прежде нужно решить одно. Дайте мне свое честное слово, что вы никогда ни одному живому существу не передадите того, что я вам скажу. – Она откинулась на спинку стула, затягивалась и выпускала из рта дым в ожидании ответа.
Амелиус был молод и доверчив, эта бесцеремонная манера пугала его. Его врожденный такт и здравый смысл говорили ему, что мистрис Фарнеби требует от него слишком многого.
– Не сердитесь на меня madame, – сказал он, – я должен вам напомнить, что вы собираетесь поверять мне ваши тайны без малейшего с моей стороны желания на то…
Она прервала его.
– Что это значит, – спросила она резко.
Амелиус был упрям, он продолжал:
– Прежде чем дать слово я хотел бы знать, не нанесу ли я кому-нибудь этим вреда.
– Вы окажете услугу несчастному существу, – отвечала она так же спокойно, как всегда, – и дав мне обещание, вы не нанесете вреда никому: ни себе, ни другим. Это все, что я могу сказать. Ваша сигара погасла, возьмите огня.
Амелиус с покорностью собаки исполнил ее приказание. Он был в сильном смущении. Она ждала, спокойно наблюдая за тем, как он зажигал и приводил в порядок свою сигару.
– Хорошо? – спросила она. – Теперь даете вы мне слово?
Амелиус обещался.
– Священное честное слово? – настаивала она.
Он повторил ее слова. Она села глубоко в кресло.
– Мне нужно говорить с вами, как со старым другом, – объяснила она. – Могу я называть вас просто Амелиус?
– Конечно.
– Итак, Амелиус, я должна сказать вам, что я совершила грех много лет тому назад. Я понесла наказание, я несу его до сих пор. Еще в молодости на мое сердце обрушилось тяжелое бремя горестей. Я не примирилась с этим, не могу покориться и ныне, не примирюсь и не покорюсь никогда, хотя бы мне пришлось прожить сто лет. Хотите вы подробностей или будете милосердны ко мне и удовлетворитесь тем, что я вам скажу.
Это было сказано не умоляющим, не нежным и не смиренным тоном, она говорила с дикой, сдержанной покорностью в манерах и голосе. Амелиус снова забыл о своей сигаре, и она снова напомнила ему о ней. Он отвечал ей, побуждаемый своим великодушным характером:
– Не говорите мне ничего такого, что может причинить вам хоть моментальное огорчение, скажите только, чем могу я вам помочь.
Она подала ему спички и сказала:
– Ваша сигара опять потухла.
Он отложил сигару прочь. В течение своей короткой жизни он не видел еще человеческого горя, выражавшегося таким образом.
– Извините меня, – проговорил он, – я не желаю курить теперь.
Она также оставила свою сигару, скрестила руки на груди и смотрела на него. В глазах ее сверкнул луч нежности, какого он еще ни разу не видал у нее.
– Друг мой, – промолвила она, – ваша жизнь будет печальна, мне жаль вас. Свет будет наносить раны такому чувствительному сердцу, как ваше, свет будет попирать ногами такую великодушную натуру. Может быть в скором времени вы будете так же несчастны, как я. Но не будем более говорить об этом. Встаньте, мне нужно показать вам кое-что.
Поднявшись с места, она направилась к безобразной мебели и снова вынула из кармана связку ключей.
– Здесь мое старое горе, – продолжала она. – Будьте с самого начала справедливы ко мне, Амелиус. Я не старалась питать и лелеять свое горе, как делают многие женщины. Нет, я искала облегчения от муки, овладевшей моей душой. Я могу привести вам как один пример, так и сотни, судите сами.
Она вложила ключ в замок. Он сначала не поддавался ее усилиям, но она с нетерпением и употребив всю силу наконец отворила дверки. Глазам представился на левой стороне целый ряд полок, на правой выдвижные ящики с медными ручками. Она затворила левую половинку двери, с гневом захлопнув ее, как если б тут было что-нибудь такое, чего она не желала, чтоб видели. Взор Амелиуса случайно упал в ту сторону. В этот короткий момент он успел заметить на полке тщательно сложенное длинное, полотняное детское платьице и чепчик, пожелтевшие от времени.
Частью рассказанное прошлое было теперь наполовину высказано. Эти драгоценные детские реликвии бросали свет на причину, побудившую выбрать один и тот же сюжет на картинах. Покинутое и потерянное дитя! Дитя, которое может быть было еще живо.
Она вдруг повернулась к Амелиусу.
– Здесь нет ничего интересного для вас, – сказала она. – Посмотрите в выдвижные ящики, откройте их сами. – Она отступила, говоря это, и указала на верхний из них. На нем был наклеен узенький лоскуток бумаги с надписью: «погибшее утешение».
Амелиус выдвинул ящик, он был полон книг.
– Посмотрите их, – сказала она.
Амелиус повиновался. Тут были диксионеры, грамматики, упражнения, поэмы, романы, история, все на немецком языке.
– Иностранный язык служил облегчением, – спокойно промолвила мистрис Фарнеби. – Прошли месяцы за старательным изучением, и теперь все забыто. Старое горе поднялось вопреки всему. Погибшее утешение! Откройте следующий ящик.
В нем оказались сухие краски и рисовальные материалы, сваленные в кучу в углу, прочее место занимали разные рисунки. Как произведения искусства они были плохи в высшей степени, как знак трудолюбия и прилежания также никуда не годились.
– У меня не оказалось таланта для продолжения этого занятия, как сами видите, – сказала мистрис Фарнеби. – Но я настойчиво работала неделю за неделей, месяц за месяцем. Я думала так: «Я ненавижу это занятие, оно стоит мне такого громадного труда, оно так мучает, тяготит, унижает меня, что должно овладеть моим умом и душой, должно отвлечь мысли мои от самой себя». Но нет, старое горе восставало передо мной и смотрело мне в лицо из-за бумаги, которую я портила, из-за красок, которых не научилась употреблять. Это второе погибшее утешение, Амслиус. Закройте его.
Она сама выдвинула третий и четвертый ящики. В одном была копия Левкида и решенные проблемы, в другом микроскоп и наставление как употреблять его. Все те же усилия, – продолжила она, запирая дверцу шкафа, и все тот же результат. Они, я думаю, вам надоели, – и мне также, – и, повернувшись, она указала еще на токарный станок, стоявший в углу, на палицу и гимнастические ядра над очагом. На эти я могу смотреть терпеливо, продолжала она, они доставляли мне физическое облегчение. Я работаю на станке до тех пор пока заболит спина, действую гирями до того, что падаю от утомления. Тогда я ложусь здесь на ковер, засыпаю и забываю себя часа на два. Пойдемте к огню. Вы видели мои умершие погибшие утешения, вы должны услышать о моих живых утешениях. Отдавая справедливость мистеру Фарнеби… Боже, как я его ненавижу!
Она с горячностью произнесла последние слова и как бы для себя, но с такой горечью и презрением, что тон невольно возвысился и можно было их расслышать другому. Амелиус посмотрел украдкой на дверь. Нет ли надежды на то, что Регина со своей приятельницей вернутся и прервут этот разговор? После всего виденного и слышанного чем может он утешить миссис Фарнеби? Он мог только удивляться тому, какую цель она имела в виду, избрав его в поверенные. Неужели мне суждено всегда путаться с женщинами? – думал он про себя. Сначала бедная Меллисент, а теперь эта. Что же потом? – Он снова зажег сигару. Только любители курения, они одни могли понять, каким утешением служила ему в эту минуту сигара.
– Дайте мне огня, – сказала мистрис Фарнеби, вспомнив при этом о своей сигаре. – Мне нужно, впрочем, узнать одно, прежде чем я буду продолжать. Амелиус, я наблюдала за блеском ваших глаз во время завтрака. Скажете ли вы мне всю правду? Влюблены вы в мою племянницу?
Амелиус вынул сигару изо рта и смотрел на нее.
– Смело говорите правду! – сказала она.
Амелиус сдержанно отвечал:
– Я удивляюсь ей и нахожу ее прекрасной.
– Ах, – заметила мистрис Фарнеби, вы не знаете ее так, как я.
Пренебрежительный тон ее раздражал Амелиуса. Он был еще настолько молод, что верил в благодарность, а мистрис Фарнеби оказывалась неблагодарной. Кроме того, он был настолько влюблен в Регину, что чувствовал себя оскорбленным, когда о ней говорили презрительно.
– Я очень удивлен слыша то, что вы говорите о ней, – пробормотал он. – Она так предана вам.
– О да, – небрежно отвечала мистрис Фарнеби. – Она очень предана мне, конечно, она живое утешение, о котором я вам только что говорила. Это была мысль мистера Фарнеби – усыновить ее. Мистер Фарнеби думал так: «Вот готовая дочь для моей жены, вот все, что нужно для этой скучной женщины, чтоб утешить ее, так и сделаем». – Знаете вы как я это называю? Рассуждением идиота. Человек может быть очень искусным в своих делах и истым дураком в других отношениях. Дочь другой женщины будет служить мне утешением! Тошно подумать об этом! Я обладаю одним достоинством, Амелиус: я никогда не лицемерю. Моя обязанность заботиться о дочери моей сестры, и я исполняю добровольно свою обязанность. Регина добрая девушка, я против этого не спорю, но она скрытна и в сущности очень упряма. О, я отдаю ей справедливость: я не отрицаю, что она мне предана, как вы говорите. Но мне мало радости оттого. Вы должны знать и узнаете, что это живое утешение, пожалованное мне мистером Фарнеби, не более утешает меня, чем те вещи в шкафу. Мы теперь покончили с Региной. Впрочем нет, нужно еще объяснить одно: что вы подразумеваете под словами: «удивляюсь ей». Хотите вы на ней жениться?
Один раз в жизни Амелиус сохранил достоинство.
– Я слишком уважаю молодую особу, чтоб отвечать вам на вопрос, – гордо сказал он.
– В случае если вы имеете такое намерение, – продолжала мистрис Фарнеби, – я постараюсь воспрепятствовать вам в том. Одним словом, я вас не допущу до этого.
Это откровенное заявление изумило Амелиуса. Он обнаружил истину одним вопросом.
– Зачем? – сказал он резко.
– Подождите минуту, успокойтесь, – отвечала она. Наступило молчание. Они сидели рядом подле огня и внимательно наблюдали друг друга.
– Теперь вы готовы? – снова начала мистрис Фарнеби. – Вот какая причина. Если вы женитесь на Регине или на ком-нибудь другом, вы поселитесь на одном месте и станете вести скучную жизнь.
– А почему же нет, если это мне нравится, – спросил Амелиус.
– Потому что мне нужно, чтобы вы оставались странствующим холостяком: сегодня здесь, завтра отправились по всему свету и видели всех и все.
– Что же будет для вас в том хорошего, мистрис Фарнеби?
Она поднялась со своего места, приблизилась к Амелиусу и, став прямо перед ним, тяжело опустила руку на его плечо. Глаза ее оживились и запылали внезапным огнем, когда она устремила их в его лицо.
– Потому что я ожидаю живого утешения, которое могу получить, – сказала она. – Послушайте, Амелиус. После всех протекших лет вы тот человек, который приведет его ко мне.
Во время последнего минутного молчания они услышали стук в наружную дверь.
– Это Регина! – воскликнула мистрис Фарнеби.
Едва это имя сорвалось с уст ее, как она бросилась к двери и повернула ключ в замке.
Глава IX
Амелиус невольно поднялся со стула. Мистрис Фарнеби обернулась в эту минуту и сделала ему знак оставаться на месте.
– Вы дали мне слово, – прошептала она. – Все, чего я требую от вас, это молчания. – Она вынула ключ из двери и показала ему его. – Вы не можете выйти, или вы отнимете у меня ключ силой?
Все, что мог сделать Амелиус в таком положении, – молчать и покориться необходимости. Он спокойно уселся подле огня и мысленно решил, что вперед ничто не заставит его согласиться на секретное свидание с мистрис Фарнеби.
Слуга отпер наружную дверь. Голос Регины был слышен в этой комнате.
– Тетушка вернулась?
– Нет, мисс.
– Вы ничего не слыхали о ней?
– Ничего, мисс.
– Был здесь мистер Гольденхарт?
– Нет, мисс.
– Очень странно! Куда же они девались, Сесиль?
Послышался голос другой леди.
– Мы, вероятно, не заметили их, уходя из концертного зала. Не беспокойся, Регина. Я отправлюсь назад, карета ожидает меня. Если я увижу твою тетушку, я скажу ей, что ты ожидаешь ее дома.
– Подожди минуту, Сесиль. (Фома, вы можете не ждать.) Ты в самом деле не любишь мистера Гольденхарта?
– Как! Уж до этого дошло? Я постараюсь полюбить его, Регина. До свидания.
Стук наружной двери возвестил, что молодые леди расстались. Потом слышно было, как отворилась и затворилась дверь столовой. Мистрис Фарнеби вернулась на свое место.
– Регина пошла в столовую ожидать нас, – сказала она. – Я вижу, вам не нравится ваше положение, и я не удержу вас более пяти минут. Вы не совсем поняли то, что я вам говорила, когда стук в дверь прервал наш разговор. Итак, садитесь на свое место, мне неприятно видеть, что вы стоите и смотрите на свои сапоги. Я говорила вам, что мне осталось одно утешение. Судите сами, какое значение имеет для меня эта надежда, если я вам сознаюсь, что без этого я давно бы покончила с жизнью. Не подумайте, что это нелепость, я говорю, что думаю и чувствую. Одно из величайших моих несчастий заключается в том, что я не имею религиозных убеждений, которые бы меня удержали от того. Было время, когда я думала, что религия может меня утешить. Я однажды открыла душу свою священнику, почтенному человеку, который употребил все старание, чтоб помочь мне. Все было тщетно! Мое сердце окаменело, должно быть. Но дело не в том, я хочу дать вам еще одно доказательство того, что я говорю совершенно серьезно. Терпение! Терпение! Я приблизилась к цели. Я задала вам несколько странных вопросов, когда вы обедали здесь в первый раз. Вы, может быть, забыли о них?
– Помню как нельзя лучше, – отвечал Амелиус.
– Вы помните? Как будто вы думали после о том? Хорошо, скажите мне откровенно, что вы подумали.
Амелиус откровенно объяснил ей все. Она более и более заинтересовывалась тем, что он говорил и пришла в сильное волнение.
– Совершенно справедливо! – воскликнула она, вскочив с места, и начала быстрыми шагами ходить взад и вперед по комнате. Дело идет о потерянной дочери, которую я хочу найти, и ей теперь между шестнадцатью и семнадцатью годами. Заметьте! Я не имею никакого основания – ни тени основания верить, что она еще жива. Во мне говорит только упорное внутреннее убеждение, оно укоренилось – здесь, и она прижала руки к сердцу – ничто не может изгнать его оттуда. Я живу с этой верой, не спрашивайте меня сколько времени. Это случилось так давно! – Она остановилась посреди комнаты. Дыхание ее было быстро и прерывисто, первые слезы, смягчившие ожесточенное сердце несчастной, полились теперь из ее глаз и озарили лицо ее божественной красотой материнской любви. – Я не желаю долго задерживать вас, – сказала она, топнув об пол ногой и не в состоянии побороть вспыхнувшую страсть. – Дайте мне одну минуту, и я снова овладею собой.
Она упала на стул, тяжело опустила руки на стол и положила на них голову. Амелиус вспомнил о детском платьице и чепчике, хранившихся в шкафу. Его мужественная, благородная натура сочувствовала несчастной женщине, тайна которой смутно открылась перед ним. Себялюбивая досада на неловкое положение, в которое она его поставила, исчезла, чтоб не возвращаться более. Он приблизился к ней и нежно опустил руку на ее плечо.
– Я искренно жалею вас, – сказал он. – Объясните мне, как и чем могу я вам помочь, и я с радостью сделаю все.
– Вы, действительно, хотите этого? – Она вытерла слезы и поднялась со стула, произнося эти слова. Положив одну руку на его плечо, другой рукой она откинула волосы со лба Амелиуса. – Я хочу видеть все ваше лицо, – сказала она, – оно будет говорить за вас. Да, вы хотите этого. Свет еще не испортил вас. Верите вы снам?
Амелиус взглянул на нее, изумленный таким резким переходом. Она с ударением повторила вопрос, прибавив:
– Я спрашиваю серьезно, верите ли вы снам? Амелиус отвечал ей также серьезно: «По совести я не могу сказать ни да, ни нет».
– А! – воскликнула она, – так же, как и я. Я не верю снам, но я хотела бы им верить. Во мне нет суеверия, я слишком черства и жалею об этом. Я встречала людей, которых поддерживало их суеверие, счастливы люди, в которых живет вера. Верите вы, что сны иногда исполняются?
– Этого никто не может отрицать, – отвечал Амелиус. – Такие случаи бывали нередко. Но на один исполнившийся сон бывает…
– Сто не исполнившихся, – договорила госпожа Фарнеби. – Прекрасно, я имею это в виду. Какими пустяками может питаться надежда. Но я рассчитываю, что сон, который я прошлой ночью видела о вас, может исполниться, и эта слабая надежда побудила меня сделать вас своим поверенным и просить вас помочь мне.
Эта странная исповедь, это грустное отчаяние, бессознательно обольщавшее ее под видом надежды, еще более усилили сострадание и симпатию к ней Амелиуса.
– Что видели вы обо мне во сне? – спросил он мягко.
– Почти нечего рассказывать, – отвечала она. – Я находилась в комнате совершенно мне незнакомой, отворилась дверь, и вы ввели за руку молодую девушку. Вот она, сказали вы – будьте наконец счастливы. Сердце мое тотчас же узнало ее, хотя глаза мои не видали ее с первого дня ее рождения. Я проснулась, плача от радости. Подождите, еще не все сказано. Я снова заснула и опять видела то же, проснулась, некоторое время пролежала, потом опять заснула и опять видела то же. Три раза одно и то же. Это произвело на меня сильное впечатление. Я стала думать, что это судьба. У меня на всем свете нет человека, который бы помог мне, с которым я могла бы говорить откровенно. Вам нет надобности говорить мне, что есть разумное объяснение моему сну. Я вычитала это в библиотечной энциклопедии. По мнению ученых людей, те мысли, что сознательно или бессознательно теснятся у нас в голове в течение дня, воспроизводятся ночью во сне. То же было и со мной. Когда вы были у нас в первый раз и когда я услышала, откуда вы прибыли, я тотчас же подумала, что она, может быть, находится среди покинутых созданий, нашедших приют в вашей Общине, и что я могу отыскать ее с вашей помощью. Эта мысль преследовала меня, когда я ложилась в постель, скажете вы, и, таким образом, получится объяснение моего сна. Нет! В этом то и заключается одна из ста случайностей. Вы вспомните обо мне, Амелиус, если встретитесь с ней.
Это сознание в своем несговорчивом, упрямом характере, в отсутствии религии, которая могла бы облагородить его, и мыслей, которые бы его очистили, бессознательное проявление нежного и любящего инстинкта, боровшегося с жизнью, без симпатий для поддержки, без света для руководства, все это растрогало бы сердце каждого не вконец развращенного человека. Амелиус заговорил с горячностью юношеского энтузиазма.
– Я пошел бы на край света, если б смог этим сделать вам добро. Но положение безнадежно!
– Не говорите этого! Вы свободны, у вас есть деньги, вы будете путешествовать по свету и доставлять себе удовольствие. В одну неделю вы увидите более, чем люди, живущие на одном месте, увидят в течение года. Откуда вы знаете, что готовит вам будущее? У меня есть своя идея. Она, может быть, затерялась в лабиринтах Лондона, а, может быть, находится за сотни и тысячи миль отсюда. Веселитесь, Амелиус, развлекайтесь. Завтра или через десять лет, но вы можете встретить ее!
Из сострадания к несчастному созданию Амелиус не решался потворствовать ее фантазиям.
– Если предположим даже, что это когда-нибудь случится, – возразил он, – то как же я узнаю потерянную девушку? Вы не можете описать мне ее наружность, вы не видали ее с самого детства. Знаете ли вы что-нибудь о ней с того времени, как она пропала?
– Ничего не знаю.
– Решительно ничего?
– Решительно ничего.
– Вы даже не имеете никаких подозрений насчет того, как это случилось?
Лицо ее вдруг изменилось, она сердито посмотрела на него.
– Не имела в продолжение недель и месяцев, пока не было поздно, – сказала она. – Я была больна. Когда мой разум прояснился, я стала подозревать одну особу, подозрения возникали мало-помалу, замечались пустяки, которые наводили потом на разные мысли. – Она остановилась, очевидно, сдерживая себя, чтоб не сказать слишком много.
Амелиус старался вызвать ее на откровенность.
– Вы подозреваете? – начал он.
– Я подозреваю, что он выбросил в свет беспомощное существо, – вдруг с яростью воскликнула мистрис Фарнеби. – Не спрашивайте меня больше об этом, или я выйду из себя и прибью вас. – Она сжала кулаки, произнося эти слова. – Счастлив тот человек, – пробормотала она сквозь зубы, – что я не пошла дальше подозрений и не добралась до истины. Зачем вы взволновали меня таким образом? Вы не должны были этого делать. Напомните мне, о чем мы говорили минуту тому назад. Вы высказали какие-то возражения? Вы говорили?..
– Я говорил, – напомнил ей Амелиус, – что если б и встретил пропавшую девушку, то не узнал бы ее. И мало того, вы сами не могли бы узнать ее, если б она стояла перед вами в эту минуту.
Он говорил очень мягко, боясь раздражить ее. Она не обнаружила ни малейшего гнева, смотрела на него и слушала его внимательно.
– Вы расставили мне западню? – спросила она, и закричала прежде, чем Амелиус успел ответить ей. – Нет, я не настолько подла, чтоб не доверять вам, я забылась. Вы совершенно невинно вызвали у меня вспышки гнева. Я не могу допустить предположения, что я не узнаю ее. Дайте мне время подумать. Я должна как-то объяснить это.
Она старалась собраться с мыслями, не спуская глаз с Амелиуса.
– Я буду говорить откровенно, – заявила она с внезапной решимостью. – Послушайте. Когда я захлопнула дверку шкафа, я сделала это для того, чтоб вы не видели вещей, лежавших на полке. Видели вы что-нибудь несмотря на это?
Нелегко было отвечать на этот вопрос. Амелиус колебался. Мистрис Фарнеби настаивала на ответе.
– Видели вы что-нибудь? – повторила она.
Амелиус сознался, что видел. Она отвернулась от него и стала смотреть на огонь. Ее голос стал таким тихим, когда она заговорила, что он с трудом расслышал ее слова.
– Это были вещи, принадлежавшие ребенку?
– Да.
– Детское платьице и чепчик? Отвечайте мне. Мы зашли слишком далеко, чтоб возвращаться назад. Мне не нужно ни аналогий, ни объяснений, а только да или нет.
– Да.
Наступило молчание, она не шевелилась и смотрела на огонь, точно вся прошлая жизнь ее рисовалась в пылавших углях.
– Вы меня презираете? – спросила она наконец совершенно спокойно.
– Бог свидетель, что я только жалею вас! – отвечал Амелиус.
Другая бы женщина залилась слезами, эта только смотрела на огонь.
– Какой он добрый малый, – проговорила она про себя.
Наступила новая пауза. Она так же быстро повернулась к нему, как перед этим отвернулась от него.
– Я хотела пощадить себя, пощадить и вас, – промолвила она. – Если истина обнаружилась, то не из-за вашего любопытства и против моей воли. Я не знаю, относились ли вы ко мне прежде как друг, теперь вы должны быть моим другом. Не говорите! Я знаю, что могу доверять вам. Еще одно, последнее слово о моем пропавшем ребенке. Вы сомневаетесь в том, что я узнала бы его, если б он стоял предо мной. Это могло бы быть справедливо, если б мной руководила только тревога и слабая надежда. Но у меня есть нечто другое, и после всего происшедшего между нами, вы можете узнать что это. При случае это может даже помочь вам. Не беспокойтесь, в этом нет ничего ужасного. Но как объяснить это? – пробормотала она про себя в недоумении. – Это было бы удобнее показать. Впрочем, почему же нет? – Потом она обратилась к Амелиусу. – Я странное существо, – заговорила она. – Во-первых, я беспокою вас своими делами, смущаю вас, заставляю вас жалеть меня, а теперь (как бы вы думали!) позабавлю вас. Амелиус, любите вы хорошенькие ножки?
Амелиус слышал и читал в книгах, что бывают люди, которых обманывает их собственный слух. Теперь он стал понимать это и сочувствовать этим людям. Однако он объявил, что он любитель хорошеньких ножек, и ждал, что будет далее.
– Когда у женщины хорошенькие ручки, – продолжала мистрис Фарнеби, – она не стесняется их показывать. Отправляясь на бал она выставляет грудь и часть спины. Теперь скажите мне, если не считают неприличным показывать обнаженную грудь, может ли быть что-либо неприличное в голой ноге?
Амелиус согласился, но проговорил как во сне: «Что же тут, в самом деле!» После этого ждал, что будет далее.
– Посмотрите в окно, – сказала мистрис Фарнеби.
Амелиус повиновался. Окно было открыто вверху на несколько дюймов, очевидно, для вентилирования воздуха в комнате. Выходило оно во двор, на дальнем конце которого находились конюшни, а посередине выдавалось потолочное окно кухни. Когда Амелиус взглянул туда, то увидел, что в кухне нуждались в сильном приливе свежего воздуха. Огромное окно в стене кухни без шума тихо отворилось настежь, между тем как такое же окно по другую сторону было уже отворено. Судя по наружности можно было заключить, что обитатели кухни обладали редким между прислугой достоинством: пониманием законов вентиляции и дорожили свежим воздухом.
– Все готово, – сказала мистрис Фарнеби, – можете обернуться.
Когда Амелиус повернулся, то увидел на ковре ботинки и чулки мистрис Фарнеби, а одна из ног ее лежала на стуле.
– Посмотрите сначала на мою правую ногу, – сказала она важным и серьезным тоном.
Это была чрезвычайно красивая по форме и цвету кожи нога, подъем прекрасно выгнутый и высокий, лодыжка нежная и сильная, пальцы с розовыми кончиками. Одним словом это была ножка достойная того, чтоб с нее сняли фотографии, вылили из гипса, лелеяли и целовали ее. Амелиус пытался выразить свое восхищение, но она не дала ему выговорить и трех слов.
– Нет, это не из тщеславия, – сказала она, – это простое исследование. Вы видели мою правую ногу, и вы видели, что она нормально выглядит. Прекрасно. Теперь посмотрите левую.
Она подложила левую ногу на стул.
– Обратите внимание на промежуток между третьим и четвертым пальцем.
Исполнив ее приказание, Амелиус заметил, что красота ноги была нарушена странным недостатком. Между двумя пальцами была перепонка, связывающая их до самого ногтя.
– Вас удивляет, что я показываю вам недостаток своей ноги? Амелиус! У моей бедной девочки был такой же недостаток, и я хотела, чтоб вы знали, каков он именно, потому что ни я, ни вы не знаем, какую услугу может это оказать в будущем. – Она замолчала, как бы давая ему возможность заговорить. Человек от природы пустой и легкомысленный нашел бы такое заявление глупым и смешным. Амелиус был печален и молчалив. – Вы мне нравитесь все более и более, – продолжала она. – Вы не принадлежите к числу обыкновенных людей: девять из десятерых подняли бы слова мои на смех, девять из десятерых сказали бы: «Разве я могу просить каждую встречную девушку показывать мне ноги?» Вы выше этого, вы поняли меня. Могу я надеяться, что узнаю свою дочь?
Она улыбнулась и сняла ногу со стула. После минутного размышления она снова вернулась к этому разговору.
– Сохраните это втайне, – сказала она. – В прошлом, когда я привлекала для розысков ее чужих людей, это была моя единственная защита от обмана. Плуты и мошенники думали о каких-либо других приметах и знаках, но никак не об этом. С вами ли ваш бумажник, Амелиус? На случай разлуки я хочу записать вам имя и адрес личности, которой мы можем довериться. Я, как видите, хочу быть предусмотрительной для будущего. В этом может заключаться одна из ста случайностей, которая может привести мой сон в исполнение, у вас впереди много лет жизни, и так много девушек можете вы встретить за это время.
Она возвратила Амелиусу поданный ей бумажник, записав имя и адрес на одной из чистых страниц.
– Это был поверенный моего отца, – прибавила она в пояснение, – он и сын его, оба люди, которым можно доверять. Предположите, что я больна, в настоящую минуту это кажется нелепым, так как я всего один раз в жизни была больна. Предположите, что я умерла (вследствие какого-нибудь несчастного случая или наложила на себя руки), поверенный имеет мои письменные распоряжения на случай, если дочь моя найдется. Наконец – так как я странная, причудливая женщина, – если я уеду куда-нибудь, у поверенного будет находиться адрес и приказание сообщить вам его по секрету от всех. Я не извиняюсь перед вами, Амелиус, что беспокою вас. Судьба так страшно преследует меня, может быть, я никогда не увижу вас, как видела во сне, входящим в мою комнату под руку с моей дочерью. А между тем эта мысль заставляет меня переходить от надежды к отчаянию и обратно. Вы вспомните это когда-нибудь. Спустя много лет, когда я буду покоиться в земле, когда вы будете в зрелом возрасте и человек женатый, вы расскажете своей жене, как некогда странная женщина возложила на вас свою надежду и сидя уютно у камина вы скажете друг другу: «Может быть, эта потерянная дочь еще жива и не знает кто была мать ее». Нет, я не хочу, чтоб вы видели слезы на моих глазах, я наконец освобожу вас.
Она отправилась к двери и отперла ее.
– Прощайте, благодарю вас, – сказала она. – Мне нужно остаться одной с маленьким платьицем и чепчиком, которые вы видели вопреки моему желанию. Ступайте и скажите моей племяннице, что все обошлось благополучно и не вздумайте сделать глупость, полюбить девушку, которая не отплатит вам тем же. – Она выпроводила Амелиуса в зал. – Вот он, Регина, – закричала она, – я покончила с ним.
Прежде чем Амелиус успел заговорить, она вернулась в свою комнату.
Глава X
Амелиус пошел через зал и встретил Регину в дверях столовой.
Молодая девушка заговорила первая.
– Мистер Гольденхарт, – сказала она с холодной вежливостью, – не будете ли вы так любезны, не объясните ли мне, что все это значит?
Она вернулась в столовую. Амелиус молча последовал за ней. Вот опять попал в затруднительное положение с женщиной, подумал он про себя. Неужели мужчины вообще так несчастливы, как я?
– Нет никакой надобности затворять дверь, – язвительно заметила Регина. – Все в доме могут свободно слышать то, что я хочу сказать вам.
Амелиус допустил сначала промах: он пытался выпутаться с помощью смирения. Трудно найти пример, когда бы смирение мужчины умиротворило разгневанную женщину. Самая лучшая и самая худшая из них обладают одним общим свойством: тайным презрением к мужчине, который не осмеливается защищаться, когда они на него сердятся.
– Надеюсь, я не оскорбил вас? – робко спросил Амелиус.
Она покачала головой и запальчиво ответила:
– Я могу чувствовать себя оскорбленной только людьми, которых я уважаю, а не личностями, которые входят в дом так, что прислуга этого не знает, и позволяют себе таинственно запираться в комнате моей тетки.
Во время короткого знакомства ее с Амелиусом она, как нарочно, никогда не казалась такой очаровательной, как теперь. Нервное раздражение, овладевшее ею, придало лицу ее особенное оживление, которого недоставало ей в обычное время. Ее спокойные, темные глаза метали искры, ее гладкие смуглые щеки горели ярким румянцем, высокая стройная фигура, одетая в великолепное шелковое пурпуровое платье с черными кружевами, была полна достоинства. Она не только возбудила в нем удивление, но бессознательно возвратила ему самообладание, совершенно им потерянное несколько минут тому назад. Он был человек чрезвычайно чувствительный к презрению женщины вообще и в особенности той, любовь которой желал бы приобрести. Он вдруг ответил ей с такой твердостью в тоне и взоре, что она была поражена.
– Вы бы лучше говорили прямо, мисс Регина, порицали бы меня за то, что я родился мужчиной.
Она отступила на шаг.
– Я вас не понимаю, – сказала она.
– Не обязан ли я быть терпеливым с женщиной, которая обращается ко мне с просьбой? – продолжал Амелиус. – Если б мужчина предложил мне украдкой пробраться в дом, я бы сказал ему… сказал бы то, что лучше не повторять. Если б между мной и дверью стоял мужчина, когда вы вернулись домой, я бы взял его за ворот и отстранил с дороги. Мог ли я поступить таким образом с мистрис Фарнеби?
Регина увидела слабую сторону этой защиты с быстрой сообразительностью, свойственной женщинам.
– Ваше оправдание вполне достойно вас, – заметила она с беспощадным сарказмом. – Вы сваливаете всю вину на тетку.
Он открыл было рот, чтоб протестовать, но одумался и благоразумно продолжил начатую речь.
– Если вы позволите мне договорить, то вы лучше поймете меня. Если тут есть какая-нибудь вина, то я готов взять ее на себя, мисс Регина. Я хотел только напомнить вам, что попал в неловкое положение и не находил удобного способа, чтоб выйти из него. Что касается до вашей тетушки, я могу сказать одно: я не знаю жертвы, которой не принес бы для того, чтоб быть ей полезным. После того что я услышал, побывав в ее комнате…
– Что за важная тайна между вами? – прервала его Регина.
– Я обязан хранить ее, так как это тайна. Только одно могу сказать вам, не нарушая обещания. Мистрис Фарнеби напомнила… возбудила во мне хорошее чувство к ней. Она имеет полное право на мою симпатию, и я очень дорожу этим правом. И я останусь верным этому чувству на всю мою жизнь.
Амелиус не так уж красноречиво выражался, но голос его обнаруживал истинное чувство: он прерывался, лицо его пылало. Он стоял перед ней, говоря с такой искренностью, исходившей прямо из сердца, и женское сердце это тотчас же почувствовало. Она боялась, что он окажется смешным, так как внезапное доверие ее тетки могло выставить его в неблагоприятном свете. Она молча, с серьезным лицом села на место, укоряя сама себя за поспешно, необдуманно нанесенную ему обиду, намереваясь просить извинения, но все еще колебалась произнести эти простые слова.
Он придвинул свой стул и, положив руку на его спинку, кротко спросил:
– Вы теперь несколько лучшего мнения обо мне?
Она сняла перчатки и молча вертела их в руках.
– Ваше хорошее мнение очень для меня дорого, – продолжал он, еще ближе придвигаясь к ней. – Я не могу выразить, как было бы мне грустно… – он остановился, потом прибавил с ударением, – у меня не хватило бы духу вернуться еще раз в этот дом, если б я полагал, что вы дурного обо мне мнения.
Женщина, равнодушно к нему относящаяся, спокойно ответила бы на это. Сердечное спокойствие Регины было нарушено, что-то предостерегало ее, говорило не доверять себе. Амелиус, нимало не догадываясь смутил, взволновал этот хладнокровный темперамент. Он проник в тихий, глубокий уголок, где таилась нежность, которую она едва ли сознавала сама, пока его влияние не оживило ее. Она боялась взглянуть на него, боялась, что глаза ее выдадут истину. Она протянула ему свою хорошенькую, смуглую ручку вместо всякого ответа.
Амелиус взял ее, посмотрел на нее и осмелился поцеловать ее (это была первая фамильярность, которую он себе позволил). Она только тихо промолвила:
– Не нужно.
– Королева позволила бы мне поцеловать свою ручку, если б я был при дворе, – сказал Амелиус с твердым убеждением, что нашел прекрасное для себя извинение.
Она невольно улыбнулась.
– Королева не позволила бы вам так долго удерживать ее в своих руках, – сказала она, высвободив свою руку и взглянув на него. Мир был заключен без дальнейших объяснений. Амелиус был подле нее.
– Я совершенно счастлив теперь, когда вы меня простили, – заметил он. – Вы не знаете, как я удивляюсь вам и как желаю угодить вам.
Он еще немного придвинул к ней свой стул, его глаза ясно говорили ей, что речь его станет горячее, если с ее стороны будет хоть малейшее поощрение. Это заставило ее переменить тему разговора. Ее сожаление в допущенной к нему несправедливости уступило место жестокости. Низкие душевные проявления в определенных случаях дают о себе знать. Любопытство, неодолимое любопытство овладело ее душой и побуждало ее проникнуть в тайну свидания Амелиуса с ее теткой.
– Вы сочтете меня очень нескромной, – хитро начала она, – если я исповедуюсь вам.
Амелиус пламенно желал услышать ее исповедь: это дало бы ему повод на нечто подобное с его стороны.
– Я удивляюсь, – продолжала Регина, – не тому, что с теткой моей стало дурно от жары в концертном зале, это был предлог уехать с вами. Но что меня удивляет, это ее доверие к вам после такого короткого знакомства. Вы ведь… как бы это сказать?., еще новый друг наш.
– Много ли времени потребно на то, чтоб я стал старым другом? – спросил Амелиус. – Мне кажется, – прибавил он с особенной выразительностью, – что я ваш старый друг.
Регина оставила эти его слова без замечания.
– Я приемная дочь миссис Фарнеби, – продолжала она. – Я живу с ней с самого моего детства, и она никогда не поверяла мне никаких своих секретов. Не подумайте, что я побуждаю вас изменить моей тетке, я не способна на подобный поступок.
Амелиус увидел возможность сказать ей комплимент, который имел прелесть новизны, что касалось до него. Он готов был сказать ей, что она не способна ни на что такое, что было бы неприлично такой прелестной особе, но она не дала ему времени, она горячо продолжала свою речь. Я желала бы знать, не имел ли на тетку мою влияния тот сон, который она видела о вас.
Амелиус вздрогнул.
– Говорила она вам о своем сне? – спросил он с некоторым беспокойством.
Регина покраснела и остановилась в нерешительности.
– Моя комната рядом с ее комнатой, – объяснила она. – Мы оставляем дверь отворенной, я перехожу из одной в другую, когда она тревожно спит. Она говорила во сне и произносила ваше имя, вот и все. Может быть, мне бы вовсе не следовало упоминать об этом. Может быть, я не должна ждать от вас ответа.
– Не может быть никакого вреда от моего вам ответа, – сказал Амелиус. – Сон, по всему вероятию, имел влияние на ее доверие ко мне. Теперь, когда вы это знаете, вы не можете думать неодобрительно о ее поведении.
– Речь совсем не о том, что я думаю, – с некоторым смущением отвечала Регина. – Если тайна моей тетки представляется вам интересной, какое право имею я возражать? Я понимаю теперь, что мужчина мог быть ее лучшим советником, чем женщина. Хотя она и всегда как-то своеобразно действовала, не может же, однако, не показаться странным, что выбор ее пал именно на вас. Дела моей тетки заставят вас оставить Лондон.
Она так ловко поставила этот вопрос, что он серьезно смутил Амелиуса. Тот попытался прибегнуть к комплименту вместо ответа.
– Оставить Лондон значило бы оставить вас, а я не могу даже подумать об этом.
Регина, услышав такой ответ, умело скрыла свою досаду под маской иронического одобрения.
– Совершенно справедливо, – сказала она. – Вы не могли более деликатным образом уличить меня в нескромности, искренне благодарна вам, мистер Гольденхарт. Я говорила не из любопытства. Мне пришло в голову, что подумает мой дядя, если вы вдруг измените свои планы. Впрочем он ничего не будет знать о случившемся сегодня. Я, конечно, не скажу ничего. Хотя я не удостоена ни теткиного, ни вашего доверия, вы увидите, что я умею хранить тайну.
Она в двадцатый раз сложила свои перчатки и, встав с места, побудила Амелиуса удалиться. Он сделал над собой усилие, чтоб возвратить потерянное им самообладание и не изменить доверие мистрис Фарнеби.
– Я уверен, что вы умеете хранить тайну, – сказал он. – Я бы рад вверить вам одну из моих тайн на хранение, но не решаюсь теперь на такую вольность.
Она очень хорошо знала, что именно хотел он сказать. Ее сердце стало усиленнее биться, но она с гордостью отвечала ему:
– Вы один раз обедали у нас, один раз завтракали и были приглашены сюда сегодня. Я не похожа на свою тетку, я должна прежде хорошо узнать человека и тогда только могу сообщать ему свои секреты. Я не удерживаю вас более, может быть, у вас есть дела.
Амелиус почувствовал намек, молча осмотрелся кругом, ища свою шляпу. На столе позади него лежал английский журнал, раскрытый на жалкой новейшей иллюстрации, показывавшей до какой степени упало в настоящее время искусство в Англии. Молодой гигант в развевающейся одежде стоял в саду и таращил глаза на рослую женщину с громадными глазами и круглыми бедрами, которая бессмысленно вертела зонтиком в траве. Картинка эта сама по себе не способная объяснить мысли живописца, была подписана: «Любовь с первого взгляда». За эти замечательные слова Амелиус ухватился в отчаянии, как утопающий за соломинку. Ему представился удобный случай защищать свое дело косвенным путем, который не мог оскорбить самой щепетильной леди.
– Верите вы в это? – спросил он, указывая на иллюстрацию.
Регина сделала вид, что не понимает его.
– Во что? – спросила она.
– В любовь с первого взгляда.
Это было сказано суровым тоном, как бы уличавшим ее во лжи. Она же в мягкой форме скромно скрыла истину.
– Я ничего не знаю об этом, – сказала она.
– А я знаю, – сказал Амелиус многозначительно.
Она продолжала смотреть на иллюстрацию, эта злополучная картинка не заражала ли глупостью? У нее не хватило воображения понять его даже теперь. Она с самым невинным видом спросила его:
– Знаете что?
– Что такое любовь с первого взгляда, – живо проговорил Амелиус.
Регина стала перелистывать журнал.
– Так вы читали эту историю, – сказала она.
– Историю я не читал, – отвечал Амелиус. – Я знаю, что я чувствовал сам, встретившись с одной молодой особой.
– С молодой особой в Америке? – спросила она с вызывающей улыбкой, взглянув на него.
– Нет, в Англии, мисс Регина. – Он пытался взять ее руку, но она быстро отняла ее. – В Лондоне, – продолжал он, впадая в свой обычный откровенный тон. – На этой самой улице, – и схватил ее руку прежде, чем она успела убрать ее. Но Регина была находчивее его: она ловко воспользовалась его фамильярностью, чтобы вежливым образом спровадить его, и дружески пожав ему руку, сказала:
– Прощайте, мистер Гольденхарт.
Амелиус покорился своей участи. В ее взоре было что-то говорившее ему, что он уж слишком далеко зашел сегодня.
– Могу я вскоре прийти опять? – спросил он жалобным голосом.
– Нет! – произнес голос в дверях, голос этот они оба тотчас же узнали, это была мистрис Фарнеби.
– Да, – шепотом сказала ему Регина, пока тетка входила в комнату. Вмешательство мистрис Фарнеби после приключений этого дня задело молодую леди, отличавшуюся обыкновенно мирным характером, и Амелиус воспользовался этим.
Мистрис Фарнеби подошла прямо к нему, взяла его за руку и вывела в зал.
– У меня возникли подозрения, – сказала она, – и они оправдались. Уже два раза предостерегала я вас против моей племянницы. В третий и в последний раз говорю вам, что она холодна, как лед. Она будет водить вас за нос, пока это будет льстить ее тщеславию, и бросит вас, как уже она бросала многих. Издевайтесь сами, пока не женитесь на ком-нибудь. Не приходите в этот дом ни к кому, кроме меня. Я буду ждать вестей от вас. – Она было замолчала, но указывая на одну из статуй, украшавших зал, прибавила:
– Посмотрите на эту бронзовую женщину с часами в руках, это Регина, удаляйтесь от нее. Прощайте.
Амелиус очутился на улице. Регина смотрела из окна столовой. Он послал ей воздушный поцелуй, она улыбнулась и поклонилась.
– Черт с ними, с другими! – пробормотал Амелиус про себя. – Я вернусь сюда завтра же.
Глава XI
Вернувшись в свой отель, он нашел на столе три письма.
Первое, распечатанное им, было от его хозяина и содержало в себе счет его за последнюю неделю. Когда Амелиус взглянул на итог, он представлял собой тип серьезного молодого человека. Он взял перо, чернила, бумагу и стал, прилежно делать вычисления. Деньги, которые он великодушно раздавал или ссужал, выставлены были в его отчете так же, как и деньги, потраченные им на самого себя. Результат можно было вкратце выразить следующими словами: «Нужно проститься с гостиницей и перебраться на квартиру».
Придя к этому благоразумному решению, он распечатал другое письмо. Оно было написано стряпчим, который имел с ним сношения еще в Тадморе по делам наследства.
«Дорогой сэр, прилагаемое письмо с не правильным адресом, что вы и сами заметите, дошло до нас только сегодня.
Прошу и т. д.»
Амелиус развернул вложенное письмо и взглянул на подпись. Имя, находившееся там, мгновенно перенесло его в Общину, писавшая была мистрис Меллисент.
Письмо начиналось следующими словами:
«Помните ли вы, что я говорила вам, когда вы уезжали из Тадмора? Я говорила: успокойтесь, Амелиус, это не конец. То же самое повторяю и теперь. Вы вернетесь ко мне?
Я напоминаю вам об этом, друг мой, и адресую свое послание к стряпчему, имя которого я запомнила, когда его письмо к вам публично читали в общей комнате. Раз или два в году я буду напоминать вам о моих прощальных словах, наступит время, когда вы меня поблагодарите за это.
А пока моими письмами зажигайте свою трубку, их не для чего оставлять. Если я сколько-нибудь утешу вас и примирю вас с жизнью, много лет спустя, когда вы, мой Амелиус, станете, может быть, таким же опавшим листом, как я, то я жила и страдала не даром. Мои последние дни на земле будут счастливейшими днями в моей жизни.
Вы, пожалуйста, не отвечайте на эти строки, а также и на последующие, если вы будете счастливы и довольны. С этой стороной вашей жизни я не могу иметь никакого отношения. Вы найдете друзей, где бы вы ни были, в особенности между женщинами. Ваша благородная натура ясно отражается на вашем лице, ваша мужественная нежность и доброта звучат в каждой ноте вашего голоса, нас, бедных женщин, привлекает к вам такая притягательная сила, против которой мы не в состоянии устоять. Не полюбили ли вы уже какую-нибудь молодую, красивую англичанку? О, будьте осторожны и осмотрительны! Прежде чем отдадите ей сердце, убедитесь, достойна ли она того! Так много женщин обманчивых и бессердечных. Одни будут уверять, что вы приобрели их любовь, между тем как вы только польстили их тщеславию, другие, слабые создания, увлекаются интересом и поддаются дурным советам, когда вас нет с ними. Берегитесь, друг мой, берегитесь!
Я живу у сестры, в Нью-Йорке. Дни и недели проходят спокойно, вы живете в моих мыслях и молитвах. Мне не на что пожаловаться. Я жду и надеюсь. Когда кончится срок моего изгнания из Общины, я снова отправлюсь в Тадмор, и там вы найдете меня, Амелиус. Я первая приветствую вас, когда ваш дух изнеможет под бременем жизни и ваше сердце снова обратится к друзьям вашей юности. Прощайте, мой дорогой, прощайте».
Амелиус положил в сторону письмо, растроганный и опечаленный безыскусственной преданностью, в нем выражавшейся. Он испытал какое-то неприятное удивление, прочитав строки, в которых намекалось на любовь его к молодой, красивой англичанке. Здесь (по совершенно различным побуждениям) повторялось предостережение мистрис Фарнеби другой женщиной с другого конца света! Это было странное совпадение. После минутного размышления он обратился к третьему письму. Ему было тяжело, душа его нуждалась в облегчении.
Третье письмо было от Руфуса Дингуэля, он извещал, что окончил свою поездку в Ирландию и в скором Бремени явится к Амелиусу в Лондон. Превосходный американец со свойственной ему откровенностью и простотой высказывал свое горячее восхищение ирландским гостеприимством, ирландской красотой и ирландским виски. «Для этой дивной страны недостает одного, чтоб быть настоящим земным раем, – писал Руфус, – но настанет день, когда мы отправим американского министра для Ирландской республики». Рассмеявшись над этой забавной вспышкой, Амелиус перевернул страницу. Как только глаза его упали на первый параграф, он изменился в лице и уронил письмо на пол.
«Еще одно слово (писал американец) о вашем длинном, приятном письме. Я читал его с величайшим вниманием и долго размышлял о нем. Не обижайтесь, друг Амелиус, если я скажу вам, что ваше знакомство с Фарнеби мне не нравится, даже более того. Я против этого семейства. Вы хорошо сделаете, если прекратите сношения, в особенности с этой смуглой мисс, которая так быстро произвела на вас такое благоприятное впечатление. Сделай это для меня, мой добрый мальчик. Подожди, пока я повидаю ее».
Мистрис Фарнеби, Меллисент, Руфус, все трое совершенно посторонние, незнакомые друг другу, и все наперерыв стараются отговорить его от молодой, красивой англичанки! Не буду обращать внимания, сказал себе Амелиус, женюсь на Регине, если согласится выйти за меня.
Глава XII
В течение трех недель сколько могло случиться происшествий, сколько перемен! Что касается Амелиуса, то он в один из пасмурных, дождливых ноябрьских дней перебрался в весьма приличные меблированные комнаты и за умеренную плату. Он стоял у огня и грел спину с видом солидного англичанина. Недорогое зеркало над камином отражало голову и плечи нового Амелиуса. На нем было другое платье, его социальное положение изменилось. Он уже стал строго экономить. В скором времени он будет женатым человеком.
Хорошо быть экономным, но еще лучше (может быть) сделаться мужем красивой молодой особы. Главное же стремиться к нравственному совершенствованию и уметь примириться с обстоятельствами. На лице нового Амелиуса выражалась тревога, и расположение его духа было не совсем спокойное.
В первый раз в жизни он занимался пошлым вопросом о полу шиллингах и об уплате наличными, что приводило его в раздражение. Но у него были более серьезные причины для тревоги, чем эти. Он не мог пожаловаться на свою возлюбленную. Не прошло еще двенадцати часов, как он запинаясь, с сильно бьющимся сердцем спросил Регину: любите ли вы меня настолько, чтоб выйти за меня замуж? И она тихо ответила «да, если вы того желаете». Какой восторг овладел им, когда она в первый раз позволила ему поцеловать себя и согласилась, после усиленных просьб с его стороны, возвратить ему один поцелуй, только один. Но затем преследовал Амелиуса целый ряд серьезных рассуждений, даже и после того, как он распростился с ней.
У него были два врага, две женщины, готовые энергично противодействовать его браку.
Советница и друг Регины, Сесиль, сразу его невзлюбившая, (сама не знала за что) упорствовала в своем неблагоприятном мнении о новом друге семейства Фарнеби. Это была молодая замужняя женщина, и она имела большое влияние на Регину, которая обещала ей при случае покориться ее воле, забывая свою собственную. Другое, еще более сильное и неблагоприятное влияние, было влияние мистрис Фарнеби. Невозможно себе представить более родственной благосклонности, сестринской или материнской нежности, которую она выказывала Амелиусу при редких встречах с ним, нисколько не стесняясь присутствием третьего лица. Не упоминая о том, что произошло между ними в то достопамятное свидание, мистрис Фарнеби осыпала его вопросами и откровенно показывала, что потерянная надежда, которую она возложила на него, твердо укоренилась у нее в душе. «Много ли вы разъезжали по Лондону?» «Много ли видели девушек, которые занимали ваше воображение?» «Не соскучились ли вы сидеть на одном месте, не скоро ли соберетесь в путешествие?» Вот вопросы, которые она задавала ему, когда они оставались наедине. Если же случалось Регине войти в это время в комнату или Амелиусу удавалось отправиться к ней в какую-нибудь другую часть дома, мистрис Фарнеби мешала их свиданию и прерывала беседу влюбленных. Она по-прежнему твердо хотела подвергнуть Амелиуса случайностям и приключениям холостой жизни. На последней неделе ему удалось добиться от Регины тайного свидания, благодаря хорошо оплаченной преданности ее горничной. Теперь он намеревался переговорить с мистером Фарнеби и просить руку его приемной дочери и был уверен, что два женских влияния будут действовать против него, даже если б удалось ему получить благоприятный ответ от самого хозяина дома.
При таких обстоятельствах, сидя один в дождливый ноябрьский день в квартире, находившейся на скучной восточной стороне Тоттемганской дороги, Амелиус имел очень грустный вид. Он сердился на сигару за то, что она беспрестанно тухнет, рассердился на бедную глухую работницу, вошедшую в комнату и возвестившую:
– Вас кто-то спрашивает.
– Какой черт этот кто-то? – закричал Амелиус.
– Этот кто-то – гражданин Соединенных Штатов, – отвечал Руфус, спокойно входя в комнату. – И очень сожалеет, найдя температуру настроения Гольденхарта на точке кипения.
Он нимало не изменился после того, как покинул пароход в Куинстоуне, не растолстел от ирландского гостеприимства, переход с моря на сушу не произвел никакой перемены в его одежде. На нем была все та же огромная войлочная шляпа, в которой он представился на палубе корабля. Работница с почтительным удивлением таращила глаза на длинного, сухощавого иностранца в шляпе с широкими полями.
– Честь имею кланяться, мисс, – сказал Руфус с своей обычной важной приветливостью, – я затворю дверь.
Выпроводив служанку своим любезным намеком, он нежно пожал руку Амелиуса.
– Я называю это сочным утром, – заметил он, точно они сошлись в столовой парохода после нескольких часов отсутствия.
Минуту спустя лицо Амелиуса просветлело от присутствия его спутника.
– Я искренне рад видеть вас, – сказал он. – В этих новых кварталах очень пустынно, глухо, когда не привык к ним.
Руфус снял шляпу и пальто и молча осмотрелся кругом.
– Я широк в костях, – сказал он, подозрительно осматривая прекрасную изящную мебель комнаты, – я несколько тяжелее, чем кажусь. Не сломаю ли я стул, если сяду на него? – Обойдя вокруг стола, заваленного книгами и письмами, отыскивая себе более подходящий стул, он случайно уронил исписанный лоскуток бумаги. «Список моих лондонских друзей, которых нужно известить о перемене моей квартиры» – прочел он, подняв бумажку. – Вы отлично употребили свое время, сын мой, с тех пор, как я расстался с вами в Куинстонской гавани. Я подразумеваю, что этот длинный список знакомств, сделанных молодым иностранцем в Лондоне.
– Я встретился в отеле с одним из старинных друзей моего семейства, – объяснил Амелиус. – Это была большая потеря для моего отца, когда он отправился в Индию, а теперь он вернулся и был очень любезен со мной. Я обязан ему знакомством со многими из значащихся здесь лиц.
– Да? – спросил Руфус вопросительно, как человек, который думал услышать гораздо больше. – Я слушаю, хотя и не так думаю. Продолжайте.
Амелиус посмотрел на своего гостя, недоумевая, в каком направлении должен он продолжать.
– Я не любитель пристрастных сведений, – продолжал Руфус. – Я люблю полную откровенность, с какой обыкновенно поступаю сам. Здесь находятся имена, о которых вы никогда не упоминали. Кто это снабдил вас, сэр, таким запасом новых друзей?
Амелиус отвечал неохотно:
– Я встречал их в доме мистера Фарнеби.
Руфус посмотрел на список с видом человека, изумленного неприятным известием.
– Как? – воскликнул он, употребляя старое английское слово вместо новейшего «Что?»
– Я встречал их в доме мистера Фарнеби, – повторил Амелиус.
– Получили вы мое письмо, отправленное из Дублина? – спросил Руфус.
– Да.
– Вы не придали никакого значения моему совету?
– Напротив.
– И вы, несмотря на то, продолжали свои сношения с мистером Фарнеби и его семейством?
– Я имел свои причины оставаться с ним в дружеских отношениях, но не имел времени объяснить их вам.
Руфус протянул ноги и уставил свои проницательные серые глаза прямо в лицо Амелиуса.
– Друг мой, – спокойно сказал он, – в отношении вашего внешнего вида и приятной остроты вашего ума я нахожу вас изменившимся к худшему. Причиной тому может быть печаль, может быть и любовь. Я полагаю, что вы слишком молоды для болезни печени, следовательно, тут замешана смуглая мисс. Я инстинктивно ненавижу эту особу, сэр.
– Милая манера говорить о молодой леди, которую вы никогда не видели! – вспылил Амелиус.
Руфус скорчил гримасу.
– Продолжайте, – сказал он, – если вам приятно ссориться со мной, продолжайте, сын мой.
Он опять осмотрел всю комнату и, засунув руки в карманы, засвистел. Зоркие глаза его, остановившись вторично на столе, заметили фотографию в открытом письменном бюро, которое Амелиус использовал незадолго до того. Прежде чем можно было Руфусу воспрепятствовать, карточка очутилась в его руках.
– Могу вас заверить, что мне приятно познакомиться с ней таким образом. Прекрасно, теперь я объявляю, что это великолепное создание. Да, сэр, я отдаю справедливость вашему отечественному продукту – вашей прекрасной толстомясой англичанке! Но я вам вот что скажу: после одного или двух ребят такая порода заплывает жиром. И вы имели успех, Амелиус, у такой великорослой, толстой женщины?
Амелиус почувствовал себя оскорбленным.
– Прошу вас говорить о ней более почтительным тоном, – заметил он, – если вы желаете, чтоб я отвечал вам.
Руфус вытаращил глаза от изумления.
– Я всячески расхваливаю ее, – запротестовал он, – а вы недовольны. Друг мой, вы напоминаете мне кошку, когда ее гладят против шерсти. Вы становитесь почти неприличным. Я нахожу, что лондонский воздух вам совсем не годится. Впрочем, это дело не мое, но я люблю вас. На море или на суше я все-таки люблю вас. Вы должны узнать, что бы я сделал на вашем месте, если б лавировал около смуглой мисс. Я бы… одним словом, я бы исчез. Что будет худого в том, если вы будете дрейфовать перед другой или даже перед двумя девушками прежде, чем сдадитесь совсем. Я бы с гордостью представил вас нашей тонкой, стройной, гибкой породе в Кульспринге. Да, сэр, я думаю, что говорю. Я готов отправиться с вами обратно на ту сторону Садка.
Выразившись таким непочтительным образом об Атлантическом океане, Руфус протянул ему руку в знак своей глубокой преданности и готовности служить ему.
Кто мог противостоять подобному человеку? Амелиус, всегда впадавший в крайности, горячо схватил его руку.
– Я был не в духе, – сказал он, – я был груб, мне стыдно за себя. Для меня возможно только одно извинение, Руфус. Я люблю ее всем моим сердцем и душой, я сделал ей предложение, и она приняла его. Теперь вы должны понимать мои побуждения, я… одним словом… я расстроен.
После такого характерного предисловия он описал свое положение настолько подробно, насколько мог, со всевозможным уважением и сдержанностью относительно мистрис Фарнеби. Руфус с начала до конца слушал с величайшим вниманием, не скрывая неприятного впечатления, произведенного на него известием о его помолвке. Когда он затем заговорил, то вместо того, чтоб по обыкновению смотреть на Амелиуса, он опустил голову и мрачно, уныло уставил глаза на свои сапоги.
– Да, – сказал он, – вы поступили безрассудно за это время, и это факт. Но скажите, она не выставляла никаких затруднений, за которые мужчина мог бы ухватиться.
– Она была мила и добра, – отвечал Амелиус с энтузиазмом.
– Она была мила и добра, – машинально повторил Руфус, погруженный в рассматривание своих собственных сапог. – А дядюшка Фарнеби? Может быть, он также мил и добр или суров и груб?
– Я не знаю, я еще не говорил с ним.
Руфус быстро поднял глаза. Луч надежды блеснул на его продолговатом сухощавом лице.
– Хвала провидению! В этом заключается ваша последняя надежда, – заметил он. – Дядюшка Фарнеби может сказать «нет».
– Мне нет дела до того, что он скажет, – отвечал Амелиус. – Она в таких летах, что может сама располагать собой. Он не имеет права помешать ее замужеству.
Руфус в знак протеста поднял кверху указательный палец.
– Он не может помещать ее замужеству, – возразил благоразумный американец, – но он может не выдать денег, сын мой. Узнайте, как он относится к вам, прежде чем наступит следующий день.
– Я не могу пойти к нему сегодня вечером, – отвечал Амелиус, – он не обедает дома.
– А где он теперь?
– Занят делами в конторе.
– Отправьтесь к нему туда. Отправьтесь сейчас же, – вскричал Руфус, с внезапной энергией вскочив с места.
– Я не думаю, чтоб это ему понравилось, – возразил Амелиус. – Это вовсе нелюбезный господин, и положительно невыносим, когда занят делами.
Руфус подошел к окну и посмотрел в него. Его перестал интересовать мистер Фарнеби.
– Говоря откровенно, – продолжал Амелиус, – в нем есть что-то, что меня от него отталкивает. И хотя он на свой лад очень вежлив со мной, не думаю, чтоб ему нравилось открытие, что я христианин-социалист.
Руфус вдруг отошел от окна и снова стал внимателен.
– А вы ему сообщили об этом? – спросил он.
– Конечно, – резко заявил Амелиус. – Или вы полагаете, что я стыжусь принципов, на которых воспитан?
– Вы не заботитесь о том, знает ли весь свет о ваших принципах, – настаивал Руфус, с умыслом раздражая его.
– Не забочусь! – воскликнул Амелиус. – Я желал бы, чтоб весь свет слышал меня. Тогда бы услышали о моих принципах, я говорил бы не переводя дух, заверяю вас.
Наступило минутное молчание. Руфус снова вернулся к окну.
– А когда Фарнеби бывает дома, где он живет? – спросил он, продолжая смотреть на улицу.
Амелиус сказал адрес.
– Уж не намереваетесь ли вы отправиться туда? – спросил он с беспокойством.
– Да, признаюсь, мне хотелось бы захватить его до обеда. Вы как будто боитесь сами переговорить с ним. Я ваш друг, Амелиус, и я переговорю за вас.
Одна мысль об этом свидании привела Амелиуса в ужас.
– Нет, нет! – вскричал он. – Премного вам обязан, Руфус. Но в подобном деле я не желаю возлагать ответственность на своего друга. Через день или через два я переговорю сам с мистером Фарнеби.
Руфус был этим очевидно недоволен.
– Я полагаю, – начал он, – что вы в этой столице не единственный мужчина, влюбленный в мисс Регину. Если вы будете еще дальше откладывать разговор свой с мистером Фарнеби… – Он остановился и посмотрел на Амелиуса. – А, я вижу, что мне нет надобности распространяться об этом предмете, что другой поклонник существует? То же самое происходит и в моей стране. Не знаю, как он поступает с вами, но с нами бывает так, что он отворачивается, когда мы хотим видеть его.
Был действительно другой поклонник, старше и богаче, чем Амелиус, он был одинаково любезен с теткой и племянницей, смиренно вежлив со своим соперником. Это был человек по летам и темпераменту совершенно способный воспользоваться враждебным влиянием мистера Фарнеби для успеха своих собственных интересов. Кто мог знать, какой будет результат в случае, если он сделает предложение прежде, чем Амелиус заручится согласием хозяина дома? В теперешнем состоянии нервной раздражительности он готов был верить в стечение самых несчастных обстоятельств. Богатый соперник был человек деловой и близкий сосед мистера Фарнеби в Сити. Они могли быть вместе в настоящую минуту, и верность Регины к ее возлюбленному могла подвергнуться испытанию более тяжелому, чем она могла выдержать. Амелиус вспомнил милую, примирительную улыбку, с которой его скрытная возлюбленная приняла его первый поцелуй, и, не дожидаясь дальнейших выводов, быстро схватился за свою шляпу.
– Руфус, подождите меня здесь как добрый товарищ. Я схожу только в магазин письменных принадлежностей.
С этими словами он торопливо вышел из комнаты.
Предоставленный самому себе, Руфус принялся обшаривать карманы своего длинного сюртука. Вытащив полную руку писем, он выбрал самый большой конверт, высыпал из него несколько маленьких писем, выбрал одно и стал читать последнюю страницу с величайшим вниманием.
«Я вкладываю сюда рекомендательное письмо к секретарю литературных учреждений в Лондоне и в других более важных городах Англии. Если пожелаете вы заняться чтением или кто-либо из ваших друзей будет расположен к тому, то в вашей власти будет содействовать интересам нашего дела. Заметьте, прошу вас, что все учреждения, имеющие наиболее успеха и наиболее готовые оказать покровительство религии, политике и нравственности, все отмечены на конвертах красными чернилами. Конверты же с простыми адресами назначаются в учреждения, где твердо держатся старые британские предрассудки, и попасть туда представляет гораздо более славы, чем проникнуть в святилище свободной мысли».
Руфус положил письмо и, выбрав один из конвертов, отмеченных красными чернилами, прочел его содержание.
«Если б одно из этих учреждений прислало приглашение Амелиусу, – подумал он, – он, вероятно, с величайшим удовольствием занялся бы чтением о христианском социализме. Желал бы я знать, как отнеслись бы к этому смуглая мисс и ее дядюшка».
Он улыбнулся, вложил письма в конверт и на минуту задумался. Несмотря на странную, грубую внешность, это был добрейший, мягкосердечнейший господин. Руфуса не понимали в его маленьком кружке, а в нем была сильная потребность симпатии и сочувствия. Амелиус, весьма обходительный со всеми, тронул сердце этого великого человека. Он увидел опасность, крывшуюся в странном, одиноком положении его спутника, ничего не знавшего о свете, такого молодого и впечатлительного. Его чувство к Амелиусу было чувством отца к сыну. Глубоко вздохнув, он собрал письма и снова спрятал их в карман. «Подожду, – решил он. – Бедный малый искренно полюбил ее, и, может быть, девушка настолько хороша, что составит его счастье». Он встал и начал ходить взад и вперед по комнате. Вдруг он остановился, у него мелькнула новая мысль. «Почему не убедиться мне в том самому? – проговорил он про себя. – У меня есть ее адрес, я пойду и поговорю».
Он сел к письменному столу и написал несколько строк на случай того, если Амелиус вернется домой первый.
«Дорогой мой, я нахожу, что фотография не передает мне того, что я желал бы знать. Мне хочется видеть живой оригинал. Так как я ваш друг, то вежливость требует, чтоб я засвидетельствовал свое почтение семейству. Подождите моего беспристрастного мнения, когда я возвращусь.
Ваш Руфус».Сложив записку и надписав адрес, он взял свое пальто, и задумался, надевая его. Смуглая мисс была британская мисс. Иностранец из Новой Англии должен позаботиться о своей наружности, прежде чем осмелится предстать перед ней. Побуждаемый этой мыслью, он приблизился к зеркалу и критическим взором окинул свою фигуру.
«Я, по всему вероятно, покажусь лучше, – подумал он, – если причешу волосы и немного надушусь. Да, займусь своим туалетом. Где же это, однако, спальня Амелиуса?»
Он заметил дверь и отворил ее. Судьба благоприятствовала ему – он очутился в спальне своего друга.
Туалетный стол Амелиуса, как ни был прост, представлял нечто таинственное для Руфуса. Он был в большом недоумении насчет помады и духов. В небольшой шкатулке находилось несколько флаконов и баночек, но все без ярлычков, означающих их содержимое. Он рассматривал их все по очереди и остановился на новоизобретенном французском мыле для бритья. «Это пахнет очень хорошо, – сказал он, принимая мыло за какую-то редкую помаду. – Как раз подходит для моей головы». Он до тех пор смазывал свои щетинистые седые волосы, пока руки заболели. Потом, спрыснув свой носовой платок и себя самого сначала розовой водой, потом одеколоном, он нашел себя в состоянии произвести приятное впечатление на нежный пол. Пять минут спустя он уже направлялся к дому мистера Фарнеби.
Глава ХIII
Дождь, начавшийся утром, продолжал лить и после обеда. Посмотрев в окно, Регина решила провести остаток дня за чтением романа у себя дома. Положив ноги на решетку камина, а голову на спинку своего любимого мягкого кресла, она открыла книгу. Прочитав первую главу и часть второй, она перевернула листы, отыскивая любовную сцену, и в ту минуту, когда новелла возбудила в ней наибольший интерес, ее внимание вдруг отвлекли к действительной жизни. Дверь комнаты тихо отворилась, и горничная явилась в смущении.
– Извините, мисс, пришел какой-то иностранец джентльмен от мистера Гольденхарта. Он желает лично переговорить с вами…
Она остановилась и оглянулась. Странный запах, смесь мыла и духов, проник в комнату, и вслед за тем появился высокий, спокойный мужчина, весьма плохо одетый, положил сухую желтую руку на плечо горничной и отстранил ее прежде, чем она успела промолвить слово.
– Не трудитесь докладывать, милая, я ведь и окончу за вас. – Проговорив ласково эти слова, он приблизился к Регине и намеревался пожать ей руку. Регина вскочила и уставилась на него. Этот взор должен был бы устрашить самого храброго человека, но не произвел никакого действия на этого человека. Он все еще протягивал руку, и его худощавое лицо озарилось приятной улыбкой.
– Мое имя Руфус Дингуэль, – сказал он. – Я из Колспринга и являюсь от лица Амелиуса к вам и вашему семейству.
Регина молча выслушала его и холодно поклонилась, а потом, обратившись к горничной, остановившейся в дверях, сказала: «Вы останетесь здесь, Феба». Руфус внутренне недоумевавший на что здесь нужна Феба, продолжал изъявлять сердечные чувства, приличествовавшие обстоятельствам.
– Я слышал о вас, мисс, и очень рад с вами познакомиться.
Законы вежливости и приличий требовали, чтоб Регина сказала что-нибудь.
– Я никогда не слышала вашего имени от мистера Гольденхарта, – заметила она. – Вы с ним старые друзья?
Руфус с живостью объяснил:
– Мы с ним вместе переехали Атлантический океан, мисс. Я люблю малого, он честный, славный, он меня оживляет. Мы придерживаемся дружбы в нашей стране. Как вы себя чувствуете, мисс? Желаете вы пожать мне руку? – Он взял ее руку, не ожидая ответа и от всего сердца пожал ее. Регина слегка вздрогнула. Она прибегла к помощи на случай дальнейшей фамильярности: «Феба, позовите тетушку».
Руфус прибавил со своей стороны.
– И скажите, милая, что я сердечно желаю познакомиться с тетушкой мисс Регины и прочими членами ее семейства.
Феба, улыбаясь, вышла из комнаты. Такой забавный посетитель был редкость в доме Фарнеби. Руфус посмотрел ей вслед с невыразимым одобрением. Горничная, казалось, была ему гораздо более по вкусу, чем госпожа ее.
– Какое прелестное создание, – сказал он, обращаясь к Регине. – Она напоминает мне наших американских девушек: стройная, тонкая фигура и так мило держит голову. Сколько ей лет?
Регина вместо ответа на этот вопрос, молча и с достоинством указала ему на стул.
– Благодарю, мисс, этот стул мне не годится, вы видите, какие у меня длинные ноги, если я сяду так низко, то для сохранения равновесия мне придется положить ноги на решетку. А это не принято в Великобритании.
Он выбрал себе самый высокий стул, полюбовался работой и отделкой и поставил у камина.
– Самый великолепный и изящный этот стиль, так называемой эпохи Возрождения.
Регина с ужасом заметила, что у него не было в руках шляпы, как обыкновенно у всех посетителей, он, без сомнения, оставил ее в зале, у него был такой вид, точно он расположился провести тут весь день и остаться обедать.
– Я видел ваш портрет, мисс, – продолжал он, – и не могу похвалить фотографию после того, как увидел вас лично. Он возбудил во мне не совсем благоприятные чувства. Я читал в Кульспринге лекцию о портретной фотографии, и я вкратце раскритиковал ее по справедливости беспощадно. Слушатели поняли мою мысль, она им понравилась. Кстати, я вспомнил об Амелиусе. Вы, мисс, ничего не имеете против того, что он принадлежит к общине христиан-социалистов?
Взор молодой особы, когда она отвечала, не пропал для Руфуса. Он запечатлел его в памяти, на случай надобности.
– Амелиус скоро бросит все эти глупости, пожив подольше в Лондоне, – сказала она.
– Может быть, – согласился Руфус. – Малый без ума влюблен в вас. Да, он вас любит. Я это заметил и вполне в том уверен. Могу только сказать, что ему потребна взаимная любовь. Вы, мисс, без сомнения сами заметили это.
Регина отнеслась к последнему замечанию, как к покушению на ее личность. «Что еще скажет он? – думала она. – Я должна указать этому человеку его место». Она бросила на него уничтожающий взор и заговорила в свою очередь.
– Могу я спросить, мистер… мистер…
– Дингуэль, – напомнил Руфус.
– Могу я спросить, мистер Дингуэль, вы пожаловали сюда по просьбе мистера Гольденхарта?
Как ни был прост и добродушен Руфус, как ни желал он оценить по достоинству молодую леди, которая будет со временем женой Амелиуса, он почувствовал тон, которым были сказаны эти слова. Нелегко было раздражить этого человека, скромно сознающего свое достоинство. Но холодное презрение, небрежное обращение Регины истощили снисхождение этого терпеливого человека.
«Помилуй Бог, Амелиуса от женитьбы на вас», – думал он, поднимаясь со стула и приближаясь к ней, чтоб проститься.
– Мне не пришло бы в голову явиться к вам, мисс, если б мы не разлучались с Амелиусом. Извините, пожалуйста.
В моей стране я был бы благосклонно принят как его друг и доброжелатель. Я ошибся…
Он остановился. Регина вдруг изменилась в лице. Она смотрела не на него, но через его плечо, по-видимому, на что-то, находившееся позади него. Он обернулся посмотреть, что это было. Невысокого роста, плотная сильная леди с диким грустным взором неслышно вошла в комнату. Пока он говорил, она, как видно, ожидала, чтоб он закончил то, что хотел сказать. Когда они очутились лицом к лицу, она пошла к нему навстречу твердыми, тяжелыми шагами и протянув руку вперед, чтоб его приветствовать.
– Вы можете быть вполне уверены в дружеском приеме, сэр, – сказала она свойственным ей спокойным тоном.
– Я тетка этой молодой особы и очень рада видеть друга Амелиуса у себя в доме. – И прежде чем Руфус успел ответить ей, она обратилась к Регине. – Я давала вам возможность и время объясниться с этим джентльменом, я боюсь, что он принял вашу холодность за умышленную грубость.
Румянец вспыхнул на лице Регины, она с минуту колебалась между гневом и слезами. Но хорошая сторона ее натуры одержала верх, и она, несмотря на свойственную ей застенчивость и сдержанность, сказала Руфусу, подняв на него свои большие прекрасные глаза.
– Я не имела никаких дурных мыслей, сэр, я не привыкла принимать иностранцев. А вы задавали мне такие странные вопросы! – прибавила она вдруг с твердостью. – Посторонние люди не имеют обыкновения говорить о таких вещах у нас в Англии.
Она взглянула на мистрис Фарнеби, слушавшую ее с непоколебимым спокойствием и смутилась. Ее тетка способна заговорить с незнакомцем об Амелиусе в ее присутствии и Бог весть, чего не придется ей еще вынести. Она снова обратилась к Руфусу.
– Извините меня, я оставлю вас с теткой, у меня есть дело. – И под этим предлогом она удалилась из комнаты.
– У нее нет никакого дела, – резко заметила мистрис Фарнеби, когда дверь затворилась за ней. – Садитесь, пожалуйста.
В первый раз в жизни Руфус чувствовал себя неловко.
– Я умею ладить с людьми, миледи, – сказал он. – Я не могу понять, чем оскорбил вашу племянницу.
– Моя племянница имеет некоторые хорошие качества, но она особа ограниченного ума, – объяснила мистрис Фарнеби. – Вы не принадлежите к разряду тех людей, которых она привыкла видеть. Она не поняла вас, вы необыкновенный джентльмен. Например, – продолжала она с серьезной важностью женщины, недоступной для юмора, – вы что-то странное сделали со своими волосами. С них течет и вместе с тем пахнет мылом. Не употребляйте на это своего платка, им вы этого не сотрете. Я сейчас дам вам полотенце. – Она отворила маленькую дверь, которая открыла узкий проход в комнату с ванной. – Я самая сильная женщина в доме, – все тем же важным тоном объявила она, вернувшись с полотенцем в руках.
– Сидите смирно и не беспокойтесь. Я вытру вас досуха. – И она начала действовать полотенцем, точно мать Руфуса, вытиравшая его в дни отрочества. Голова шла у него кругом от силы трения, и пораженный контрастом холодного приема оказанного ему племянницей и дружеского обращения тетки, Руфус сидел в покорном и безмолвном изумлении.
– Теперь вы можете спокойно отправляться домой, никто не будет смеяться над вами, – заявила мистрис Фарнеби. – Вы, должно быть, очень рассеянный господин. Вы хотели вымыть голову и забыли о теплой воде и полотенце, не так ли?
– От всего сердца благодарю вас, мадам, я принял мыло за помаду, – отвечал Руфус. – Позволите вы мне еще раз пожать вашу руку? Ваш радушный прием останется у меня навсегда в памяти. С тех пор как я оставил Новую Англию, я не встречал такой доброй души. Неужели мои волосы оттолкнули от меня мисс Регину? Я не совсем понимаю вашу племянницу. Я почти боюсь, что она наговорит на меня Амелиусу, а Богу известно, что не было ничего худого в моих намерениях.
Тайное побуждение мистрис Фарнеби, заставившее ее с такой живостью действовать полотенцем, мало-помалу обнаружилось. Тон ее американского гостя сделался таким дружеским и интимным, какого она именно желала добиться. При некоторой ловкости можно было приобрести в нем союзника и помощника в противодействии браку Амелиуса.
– Вы очень любите своего молодого друга? – спокойно спросила она.
– О, да, сударыня.
– Он сообщил вам, что влюблен в мою племянницу?
– Да, и показал ее портрет.
– Показал вам ее портрет. И вы вздумали пойти сюда и своими глазами убедиться, что это за девушка?
– Само собой разумеется.
Мистрис Фарнеби, без дальнейшего колебания, раскрыла имевшуюся у нее в виду цель.
– Амелиус еще очень молод, – начала она. – Вся жизнь у него еще впереди. Очень было бы печально, если б он женился теперь на девушке, которая не принесет ему счастья. – Она повернулась на стуле и указала на дверь, в которую вышла Регина. – Сказать между нами, – продолжала она, понизив голос до шепота, – думаете вы, что моя племянница сделает его счастливым?
Руфус колебался.
– Я выше семейных предрассудков, – сказала мистрис Фарнеби. – Не бойтесь оскорбить меня, говорите откровенно.
Руфус высказал бы прямо свое мнение всякой другой женщине, но эта женщина избавила его от смешного, она досуха вытерла его голову. Итак, он отвечал уклончиво:
– Мне кажется, что я не понимаю молодых леди этой страны.
Но мистрис Фарнеби нелегко было провести.
– Если б Амелиус был вашим сыном и просил бы вашего согласия на брак с моей племянницей, сказали ли бы вы «да»? – спросила она.
Этого было слишком для Руфуса.
– Нет, если б он даже ползал передо мной на коленях.
Мистрис Фарнеби была наконец удовлетворена.
– Таково и мое мнение, – сказала она. – Не удивляйтесь! Разве я не сказала вам, что не имею семейных предрассудков. Не знаете ли вы, говорил он с моим мужем или нет?
Руфус посмотрел на часы и отвечал:
– Он, должно быть, говорит с ним теперь.
Мистрис Фарнеби замолчала и задумалась. Она уже пыталась восстановить мистера Фарнеби против Амелиуса и получила решительный отпор.
– Мистер Гольденхарт окажет нам честь, если пожелает вступить с нами в родство. Он представитель старинного английского рода. – При таких обстоятельствах весьма возможно, что предложение Амелиуса будет принято. Мистрис Фарнеби тем не менее решилась воспрепятствовать этому браку и воспользоваться помощью нового союзника.
– Когда сообщит вам Амелиус о результате своих переговоров? – спросила она.
– Когда я вернусь домой.
– Так ступайте и помните одно. Если вы найдете какое-нибудь средство разлучить этих молодых людей, (ввиду их собственной пользы) и если я могу помочь вам – я с радостью помогу. Я так же люблю Амелиуса, как вы. Спросите его, не употребила ли я всевозможных усилий, чтобы удалить его от моей племянницы. Спросите, не говорила ли я ему, что она не подходящая ему жена? Приходите ко мне, когда вам будет угодно. Я очень люблю американцев. Прощайте.
Руфус пытался выразить ей благодарность свойственным ему лаконичным и красноречивым языком. Но его не выслушали, мистрис Фарнеби взяла его за плечи и вывела из комнаты.
– Если б эта женщина была американской гражданкой, – думал Руфус, идя по улицам, – она была бы первой женщиной – президентом Соединенных Штатов.
Его удивление энергии и решительности мистрис Фарнеби, выразившееся в этих сильных словах, имело, однако, свои границы. Как ни высоко ставил он ее, но тем не менее было что-то неприятное в ее глазах, что пугало и смущало его.
Глава XIV
Руфус нашел своего друга дома, лежавшим на софе и курившим с ожесточением. Прежде чем они успели обменяться хоть одним словом, американец увидел, что что-то неладно.
– Ну, что же сказал Фарнеби? – спросил он.
– Чтоб черт его побрал!
Руфус почувствовал тайное внутреннее облегчение.
– Я называю это нелегким испытанием, – спокойно заметил он, – но значение его ясно. Фарнеби сказал нет.
Амелиус подпрыгнул на софе и мигом очутился на ногах.
– Вы ошиблись на этот раз, – сказал он, засмеявшись с горечью. – Что больше всего раздражает меня, это именно то, что он не сказал ни да, ни нет. Усатый черт – если б вы только видели его! – начал с того, что сказал да. «Такой человек, как я, потомок старинного английского благородного рода делает ему великую честь своим предложением, он не может желать более блестящей партии для своей приемной дочери. Она заняла бы такое высокое положение и поддержала бы его с достоинством». Таким лестным образом начал он свою речь. Он жал мою руку своей холодной, потной лапой, мне даже тошно сделалось, даю вам честное слово. Подождите немного, вы еще не слышали самого интересного. Он вскоре переменил тон и стал меня расспрашивать «подумал ли я об обстановке». Я не понял, что он хотел сказать, а он объяснялся на чистом английском языке, он хотел узнать о моем состоянии. «Этот вопрос легко решить, – отвечал я. – Я получаю ежегодно пятьсот фунтов дохода, и все до последнего фартинга будет принадлежать и Регине». Он опустился или скорее упал в кресло. Он побледнел, или вернее позеленел. Сначала он мне не поверил, заявил, что я шучу. Я немедленно заверил его в истине своих слов. Тогда он сделался наглым, положительно нахальным.
– Разве вы, сударь, не заметили, как Регина привыкла жить в моем доме? Пятисот фунтов! Боже милостивый. При величайшей экономии пятисот фунтов хватит ей, чтоб уплатить по счету модистке и содержать экипаж и лошадь. Кто же будет платить за все прочее: за обстановку, за обеды и балы, за поездки за границу, а расходы на детей, кормилиц, докторов? Подумайте, мистер Гольденхарт. Я готов принести жертву для вас как для человека дворянского происхождения, жертву, которой бы я не принес для другого. Увеличьте свой доход вчетверо, и я ручаюсь вам, что после смерти своей оставлю Регине ежегодного дохода тысячу фунтов. Таким образом, вы будете получать три тысячи в год. Я знаю кое-что о домашних расходах и определенно говорю вам, что с меньшим жить невозможно.
Вот как он говорил, Руфус. Не могу описать вам наглость его тона. Если б я не думал о Регине, я обошелся бы с ним не как христианин, а взялся бы за свою палку и отколотил бы его.
Руфус не выразил удивления и не предложил никакого совета. Он погрузился в размышления о богатстве Фарнеби.
– Книжная торговля, как видно, приносит в этой стране большие барыши, – сказал он.
– Книжная торговля? – повторил Амелиус с пренебрежением. – У него двадцать других дел. Он издает газеты, У него есть медицинский патент, какой-то новый банк и еще Бог знает что. Это говорил мне один из его друзей. «Никто не знает: богат или беден Фарнеби, он, может быть, умрет миллионером или банкротом». Желал бы я дожить до того дня, когда социализм поставит на должное место таких людей!
– Попробуй прежде республики по нашему образцу, – сказал Руфус. – Когда Фарнеби упоминал о том, как привыкла жить его племянница, что хотел он этим сказать?
– Он подразумевал под этим экипаж для выездов, шампанское за столом и швейцара, чтоб отпирать дверь.
– Идеи Фарнеби переплыли моря и поселились в Нью-Йорке, – заметил Руфус. – А что вы отвечали ему?
– Я возражал! Все это пустое тщеславие! – сказал я. – Почему не можем мы с Региной начать скромную жизнь? К чему нам карета для выездов, шампанское, швейцар? Мы любим друг друга и будем счастливы. В Англии есть тысячи благородных семейств, которые желали бы иметь пятьсот фунтов дохода и довольствовались бы им. Дело в том, мистер Фарнеби, что вы преисполнены любовью к деньгам. Возьмите Новый Завет и прочтите, что сказал спаситель о богатых людях. Как бы вы думали, что он сделал, когда я заговорил таким образом – он с видом ужаса поднял руку кверху.
– Я не могу допускать святотатства у себя в конторе, – сказал он. – Я слушаю Евангелие в церкви каждое воскресенье, сударь.
– Этот христианин продукт новейшего времени. Он был упрям, как вол, не уступил ни на один дюйм. Его приемная дочь, твердил он, привыкла к известной обстановке. В такой обстановке она должна жить и выйти замуж, и это так будет, пока он имеет голос в этом деле. Впрочем, если она с пренебрежением отнесется к его желаниям и чувствам, то он от нее откажется, а она в таком возрасте, что может поступать, как ей угодно. В таком случае он заявит ей, так же откровенно как и мне, что он не даст ни фартинга, чтоб помочь ей и не упомянет имени ее в своем завещании. Честь же родства со мной он и теперь по-прежнему чувствует и признает, но при настоящих условиях не может принять ее. При другом положении дел он бы с гордостью повел Регину со мной к алтарю и с гордостью сознавал бы, что исполнил свою обязанность в отношении своей приемной дочери. Я оставлял его говорить, и когда он кончил, спокойно спросил его, не укажет ли он мне средство обратить мой доход в двухтысячный. Как бы вы думали, что он мне ответил?
– Он, может быть, предложил вам поместить ваш капитал в его предприятие? – сказал Руфус.
– Нет. Он считает торговлю унизительной для меня. Мой долг как джентльмена избрать какую-нибудь профессию. По некотором размышлении он нашел, что лучше всего сделать попытку на юридическом поприще, стать адвокатом – могут представиться выгодные дела, и средства улучшатся лет через десять. Вот перспектива, которую он мне представил, если я прошу его совета. Я спросил его, не шутит ли он. Конечно, нет! Мне всего еще двадцать два года, много времени для улучшения своих средств, и если я женюсь в тридцать лет, то буду еще достаточно молод. Я взял шляпу и на прощание высказал ему свое мнение. «Если вы действительно придерживаетесь такого взгляда, – сказал я, – то подумали ли вы о том, что Регина истомится и состарится за это время и что я могу не устоять против искушений, представляющихся молодым людям в Лондоне, или вы полагаете, что я проживу монахом в продолжение этих десяти лет? Нужна карета для выездов, шампанское и швейцар! Сохраните для себя ваши деньги, мистер Фарнеби, мы с Региной обойдемся и без них. Чему вы смеетесь, Руфус? Я думаю, что вы сами действовали бы не лучше моего».
Руфус вдруг принял снова свой важный вид.
– Говорю вам, Амелиус, – отвечал он, – вы представляете собой плод наполненный клещами, да?
– Что хотите вы этим сказать?
– Вы помните, я полагаю, когда мы были с вами на пароходе и вы рассказывали нам о том, что случилось с вами в Общине, рассказ этот обнаруживал соединение врожденного красноречия и чистого здравого смысла. Я теперь спрашиваю себя, сэр, что произошло с этим благовоспитанным, скромным молодым христианином, которого так изменило пребывание в Англии и знакомство с мистером Фарнеби? Я не могу отрицать, что вижу его во плоти по ту сторону стола, но также верно и то, что не вижу ни его духа, ни ума.
Амелиус опустился на софу.
– Иными словами, – сказал он, – вы находите, что я поступал тут как дурак.
Руфус закинул свои длинные ноги одну на другую и молча, утвердительно кивнул головой. Вместо того чтобы обидеться, Амелиус задумался.
– Я не обратил на это внимание сначала, – сказал он, – но теперь, когда вы об этом упомянули, я понимаю, что должен был показаться страшным простаком. Причина, как я полагаю, заключается в том, что я привык вращаться в обществе, которое вовсе не похоже на здешнее. Фарнеби – люди совершенно для меня новые. Когда речь идет о моей жизни в Тадморе, о том, что я видел, чему научился и что чувствовал в Общине, то я думаю и выражаюсь благоразумно, потому что тогда думаю и говорю о вещах, которые я знаю. Взвесьте и сообразите различие обстоятельств. Сверх того я влюблен, а это изменяет человека, и, как я слышал, не всегда к лучшему. Как бы то ни было, я имел дело с Фарнеби и прошлого не воротишь. Я не найду покоя до тех пор, пока не переговорю с Региной. Я прочел оставленную мне вами записку. Видели вы ее, побывав в доме?
Спокойный тон, которым был задан этот вопрос, удивил Руфуса. После приема, оказанного ему Региной, он ожидал, что от него потребуют отчета в его вольности. Но Амелиус был так поглощен настоящими заботами, что забыл о пошлых требованиях этикета. Слыша, что Руфус видел Регину, ему не пришло в голову спросить, какое впечатление произвела она на его друга. Мысли его были заняты препятствиями, которые могли возникнуть для его свиданий с ней.
– Фарнеби, после происшедшего между нами, непременно разлучит нас, – сказал Амелиус, – а мистрис Фарнеби будет ему помогать в том. Они не подозревают вас. Не можете ли вы еще побывать у них (вы в таких летах, что можете быть ей отцом) и под каким-нибудь предлогом увести ее гулять.
Ответ Руфуса был очень лаконичен. Он указал на окно и промолвил: «Посмотрите, какой дождь».
– Итак, я должен еще раз прибегнуть к услугам ее горничной, – сказал Амелиус безропотно. Он взял шляпу и дождевой зонт. – Не покидайте меня, старый товарищ, – прибавил он, отворяя дверь. – Это критический момент в моей жизни, я сильно нуждаюсь в друге.
– Вы думаете, что она выйдет за вас замуж против воли тетки и дяди? – спросил Руфус.
– Я в этом уверен, – отвечал Амелиус, выходя из комнаты.
Руфус грустно посмотрел ему вслед. Симпатия и сожаление выражалось в каждой черте его лица. Бедный малый! Как перенесет он, если она скажет нет? Что будет с ним, если она скажет да? Он с ожесточением потер рукой лоб, как человек, которого тревожат его собственные мысли. Минуту спустя он запустил руку в карман и снова вытащил оттуда рекомендательные письма к секретарю общественных учреждений.
– Если есть спасение для Амелиуса, – пробормотал он, – то оно должно заключаться тут.
Глава XV
Посредницей между Амелиусом и горничной Регины была старая женщина, торговавшая журналами и газетами неподалеку от дома мистрис Фарнеби. Отсюда письма его передавались горничной вместе с газетами и здесь же к вечеру находил он ответы. «Если б только Руфус мог увести ее на прогулку, я увидел бы Регину сегодня же», – думал Амелиус. «А теперь я должен ждать до завтра, а может быть и еще дольше. Вот соверен Фебы». И он вздохнул. Соверены становились редкостью в кошельке молодого социалиста.
Приблизившись к газетной лавочке, Амелиус заметил вышедшего оттуда мужчину, направившегося в дальний конец улицы. Когда он минуту спустя сам вошел в лавочку, торговка вынула письмо из-под счетов.
– Молодой человек сейчас принес это для вас, – сказала она.
Амелиус узнал на адресе почерк горничной. Мужчина, которого он только что видел, был посланным Фебы.
Он открыл письмо. Госпожа ее, как объяснила Феба, была слишком взволнована чтоб писать. Хозяин дома удивил всех домашних, возвратившись из конторы тремя часами ранее обыкновенного. Он нашел мистрис Ормонд (друга и приятельницу Регины, Сесиль) в гостях у своей племянницы и просил ее переговорить с ним наедине, прежде чем она оставит дом. Результатом этих переговоров было приглашение, сделанное Сесилью Регине погостить у нее в окрестностях Гарроу. Обе леди сегодня после полудня покинули Лондон в карете мистрис Ормонд. После долгих увещаний дяди, тетки и своей приятельницы Регина должна была уступить. Но она не забыла Амелиуса. Она хотела бы тайно повидаться с ним на следующий день. Приехать может он с тем поездом, который приходит в Гарроу в одиннадцать часов утра. Если будет дождь, то он должен отложить поездку до другого дня до вышеозначенного часа. Место, где он должен был ожидать ее, описывалось подробно, и этими сведениями заканчивалось письмо.
Быстрота, с которой мистер Фарнеби привел в исполнение свое намерение разлучить влюбленных, показала Амелиусу в ярком свете слабохарактерность Регины. Почему не воспользовалась она своими правами, как девушка совершеннолетняя, и не отказалась оставить Лондон, не повидавшись со своим женихом и не выслушав его? Амелиус оставил своего американского друга с уверенностью, что решение Регины будет в его пользу, когда ей придется выбирать между им и дядей. Теперь впервые почувствовал он, что его доверчивость могла обмануть его. Он вернулся домой в таком унынии, что сострадательный Руфус уговорил его пойти обедать в трактир, а оттуда в театр. Совершенно упавший духом Амелиус подчинялся влиянию своего друга. Он даже не удивился, когда Руфус по дороге в трактир остановился у мрачного разукрашенного здания с греческим портиком и оставил там письмо и карточку.
По счастливой случайности на следующий день погода была прекрасная. Амелиус исполнил данные ему в письме предписания. Солнце светило, когда он вышел на станции в Гарроу. Душа его была полна сомнений и беспокойства, он приветствовал бледное ноябрьское солнце как хорошее предзнаменование.
Дача мистера и мистрис Ормонд стояла, отдельно от прочих, на их собственной земле. Деревянный забор с одной стороны отделял ее от грязной, узкой дороги, ведущей на соседнюю ферму. У калитки, через которую можно было войти в питомник, Амелиус ожидал появления горничной.
Спустя пять минут верная Феба приблизилась с ключом в руках.
– Где она? – спросил Амелиус, когда калитка была отперта.
– Ожидает вас в кустах. Постойте, сэр, мне нужно нечто сообщить вам.
Амелиус вынул кошелек и предложил ей соверен. Он уже заметил, что Феба очень падка на деньги.
– Благодарю вас, сэр, потрудитесь теперь посмотреть, на ваши часы. Вы не должны оставаться с мисс Региной ни минутой больше четверти часа.
– Почему это?
– Потому что ровно столько времени мистрис Ормонд бывает занята со своим поваром и ключником. Как только распоряжения будут сделаны, она присоединяется к мисс Регине, и обе идут вместе гулять. Вы погубите меня, сударь, если вас здесь застанут.
После этого предостережения горничная повела его по извилистой тропинке к питомнику.
– Я должен поблагодарить вас за ваше письмо, Феба, – сказал Амелиус, следуя за ней. – Кстати, кто был ваш посланный?
– Молодой человек, сударь, – был уклончивый ответ.
– Откровенно говоря, ваш возлюбленный, я полагаю. Теперь молчание послужило красноречивым ответом.
Она повернула за угол и указала на госпожу свою, стоявшую у входа в старую, развалившуюся беседку.
Регина поднесла к глазам носовой платок, когда горничная скромно удалилась.
– О, – тихо промолвила она, – боюсь, что я дурно поступаю.
Амелиус отстранил платок с некоторым усилием и в утешение поцеловал ее. Начав таким образом свои объяснения, он спросил ее:
– Зачем приехали вы сюда?
– Что же мне было делать? – тихо сказала она. – Все были против меня. Что же могла я сделать?
Тогда Амелиус решил, что в ее лета она могла иметь свою собственную волю, но мысль эту сохранил при себе и, подав ей руку, повел ее по дорожке.
– Вы слышали, я думаю, чего требует от меня мистер Фарнеби.
– Да, милый.
– Я нахожу его чересчур корыстолюбивым, в высшей степени жестоким.
– О, Амелиус, не говорите так.
Амелиус вдруг остановился.
– Вы с ним согласны? – спросил он.
– Не сердитесь, мой дорогой. Я только нахожу, что он заслуживает извинения.
– В чем извинения?
– Он очень высокого мнения о вашем семействе и думал, что вы богаты. И… я знаю, вы сделали это неумышленно, Амелиус… вы обманули его.
Амелиус опустил ее руку. Эта настойчивая защита мистера Фарнеби вывела его из себя.
– Может быть, я обманул и вас? – спросил он.
– О, нет, нет! Как вы жестоки! – Слезы выступили на ее прекрасных глазах, тихие, милые слезы, не поднимавшие бури в ее груди и не оставлявшие неприятных следов на лице. – Не будьте суровы со мною, умоляла она, как беспомощное, большое дитя.
Иной мужчина мог бы устоять против этого, но Амелиус был не таков. Он схватил ее руку и нежно пожал ее.
– Регина, любите вы меня? – спросил он.
– Вы знаете, что люблю.
Он обвил рукой ее талию и, сосредоточив всю страсть свою во взоре, смотрел ей прямо в глаза.
– Вы любите меня так же нежно, как я люблю вас? – прошептал он.
Она любила его со всей маленькой страстью, на которую была способна. После минутного колебания она обняла его за шею и, наклонив его голову, прижала ее к своей груди. Ее полная, крепкая, мускулистая фигура дрожала, точно она была самой слабой женщиной.
– Дорогой Амелиус! – пробормотала она едва слышно. Он пытался заговорить, но голос изменял ему. Она совершенно невинно воспламенила в нем кровь. Он все крепче и крепче прижимал ее к себе, повернул ее голову и страстно покрывал лицо и губы ее поцелуями. Она не в силах была противиться ему, но его горячность пугала ее. Она вдруг высвободилась из его объятий: «Я не думала, что вы будете так грубо обращаться со мной». С этим нежным укором она повернулась и пошла по тропинке, ведущей к дому. Амелиус последовал за ней, умоляя простить его и пожертвовать ему еще пять минут. Он скромно свалил всю вину на ее красоту, жаловался, что не мог устоять против ее прелести. Когда же этот столь обыкновенный комплимент, не производил своего действия? Регина улыбнулась со свойственным ей добродушием.
– Обещаете вы прилично вести себя? – спросила она, и Амелиус обещал.
– Пойдемте в беседку, – просил он.
– Там очень уныло в настоящее время года, – благоразумно отвечала Регина. – Пожалуй, там мы озябнем, лучше походим.
И они стали мирно прохаживаться.
– Мне нужно поговорить с вами насчет нашего брака, – начал Амелиус.
– У нас еще много времени впереди, – сказала она, вздохнув, – успеем об этом подумать.
Он оставил ее возражение незамеченным и продолжал:
– Вам известно, что я имею пятьсот фунтов годового дохода?
– Да.
– Сотни тысяч ремесленников с большими семействами живут в довольстве с меньшими доходами, чем мои.
– Неужели, милый?
– И многие дворяне также. Викарии, например. Видите вы, к чему я веду, моя дорогая.
– Нет.
– Можете вы жить со мной в небольшом коттедже с хорошеньким садиком и с одной служанкой, делая два или три новых платья в год?
Регина как бы в экстазе подняла свои прекрасные глаза к небесам.
– Это звучит очень соблазнительно, – заметила она нежным голосом.
– А все это можно иметь на пятьсот фунтов годового дохода, – продолжал Амелиус.
– Можно, милый?
– Я рассчитал все необходимое и уверен в том, что говорю. Я сделал более, я разузнал, что можно быть уволенным от оглашения. Я могу найти квартиру здесь по соседству, и мы можем быть обвенчаны в Гарроу через две недели.
Регина вздохнула, раскрыла большие глаза и смотрела на Амелиуса с выражением недоверия и изумления.
– Обвенчаны через две недели? А что бы сказали на это дядя и тетка?
– Ангел мой, наше счастье не зависит от дяди и тетки, оно зависит от нас самих. Никто не имеет власти распоряжаться нами. Я мужчина, вы девушка в летах, мы имеем полное право вступать в брак когда захотим.
Амелиус произнес последние слова тоном оратора, высоко подняв голову и с внутренним убеждением.
– Без разрешения моего дяди! – воскликнула Регина. – Без согласия тетки! Без подруг, без друзей, без свадебного завтрака! Ах Амелиус! Как могло это придти вам в голову? – Она отступила на шаг и смотрела на него с изумлением.
На минуту, только на одну минуту Амелиус потерял с ней терпение.
– Если б вы действительно меня любили, – сказал он с горечью, – вы не подумали бы о подругах и завтраках!
У Регины ответ был наготове в кармане, она вынула платок и поднесла его к глазам. Амелиус тотчас же овладел собой.
– Нет, нет, – сказал он, – я этого не думаю, я уверен, что вы меня любите. Дайте мне опять вашу руку. Знаете, Регина, я сомневаюсь, чтоб дядя сообщил вам обо всем, что произошло между нами. Известно вам, какие предлагал он условия? Он требует, чтоб я увеличил доход свой до двух тысяч, и только тогда даст свое согласие на наш брак.
– Да, милый, он говорил мне об этом.
– У меня столько же надежд увеличить мой доход, Регина, как стать английским королем. Говорил, он вам это?
– Он с вами в этом не согласен, мой милый, он говорит, что (с ловкостью) вы можете довести его до двух тысяч в течение десяти лет.
На этот раз пришла очередь Амелиуса смотреть на Регину в беспомощном изумлении.
– Десяти лет, – повторил он. – Вы равнодушно относитесь к десятилетнему ожиданию нашей свадьбы? Боже милостивый! Неужели вы также думаете о деньгах? Неужели вы не можете жить без кареты, шампанского, лакея и другой тщеславной роскоши?..
Он остановился. На этот раз Регина нашла, что ей следует рассердиться.
– Вы должны бы стыдиться, позволив себе говорить со мной таким образом, – вскричала она с негодованием. – Если вы обо мне такого мнения, то я вовсе не пойду за вас замуж, если бы у вас было пятьдесят тысяч дохода. Разве я не знаю своих обязанностей в отношении тетки и дяди, доброго человека, который был мне отцом? Вы считаете меня настолько неблагодарной, что я могу пренебречь его желанием. Да, я знаю, вы его не любите, я знаю, что многие его не любят, но мне до этого нет дела. Без дорогого дяди Фарнеби я была бы в доме призрения, терпела бы голод и холод, была бы несчастной работницей. И я должна забыть это из-за того, что у вас нет терпения, что вы думаете только о себе! Жалею я, что встретилась с вами, что полюбила вас! – После этого признания она отвернулась от него и снова прибегла к носовому платку. Амелиус смотрел на нее в безмолвном отчаянии. После тона, которым она говорила о своих обязанностях к дяде, тщетно было бы ожидать каких-нибудь благоприятных результатов своего влияния на Регину. Вспомнив все, что он видел и слышал в комнате мистрис Фарнеби, Амелиус не сомневался более, что Фарнеби взял в дом свой Регину с целью успокоить и умиротворить свою жену. Было ли бы неблагоразумно или несправедливо утверждать, что сирота ничем не обязана мистрис Фарнеби за то, что та, сознавая свой долг в отношении сестры, оказала родственное покровительство ее дочери. Бесполезно было бы представлять Регине такие резоны. Ее утрированное понятие о благодарности к дяде не подчинилось бы рассудку. Ничего нельзя было выиграть сопротивлением и противоречием, оставалось только сказать несколько примиряющих слов и покориться.
– Простите меня, Регина, если я оскорбил вас, вы так жестоко обманули мои ожидания. Я говорил без умысла обидеть вас, более я не могу ничего сказать.
Она проворно обернулась и взглянула на него. В его голосе слышалась такая зловещая покорность, такое угрюмое самоотречение, что она испугалась. Она никогда не видала у него такого страждущего вида, как теперь.
– Я прощаю вас от всего моего сердца, Амелиус, – сказала она и робко протянула ему руку.
Он взял ее, молча поднес к губам и снова опустил ее. Она вдруг побледнела. Она любила Амелиуса насколько могла. Сердце ее замерло, она с ужасом спрашивала себя, не потеряла ли она его.
– Я боюсь, не я ли оскорбила вас, Амелиус. Не сердитесь на меня. Не делайте меня еще более несчастливой.
– Я не сержусь на вас, – отвечал он со спокойной покорностью, которая привела ее в ужас. – Вы не могли полагать, Регина, что я радостно отнесусь к десяти годам ожидания.
Она взяла его руку и сжала ее в своих, точно любовь его к ней заключалась тут, и она не хотела выпустить ее.
– Если вы хотите предоставить это мне, то срок будет не так долог, – заговорила она. – Будьте к моему дяде ласковы и почтительны вместо того, чтоб говорить ему жесткие слова. Или позвольте мне умилостивить его, если вы слишком горды для этого. Могу я сказать ему, что вы не имели намерения оскорбить его и что вы мне предоставляете наше будущее?
– Конечно, – отвечал Амелиус, – если вы полагаете, что это может принести пользу. – Его тон высказал гораздо более, он прямо выражал: «Я не верю ему, как вы».
– Это может принести большую пользу, – настаивала она. – Он позволит мне вернуться домой и не будет препятствовать вам посещать нас. Он не любит, чтоб ему оказывали пренебрежение и недоверие. Да кто это любит? Будьте терпеливы, Амелиус. Я уговорю его требовать от вас менее денег, лишь то, что можете вы приобрести своими способностями в продолжение десяти лет. – Она ждала ответа, который бы хоть сколько-нибудь ободрил ее, но он только улыбнулся. – Вы говорите, что любите меня, – сказала она, отступив от него с укоризненным взглядом, – а вы даже не верите моим словам.
Она замолчала и обернулась назад с легким криком. Поспешные шаги послышались по ту сторону вечно зеленой чащи. Амелиус пошел назад по дорожке и встретил Фебу.
– Не оставайтесь здесь ни минуты дольше, сударь, – закричала девушка. – Я из дома, там нет мистрис Ормонд, и никто не знает, где она. Идите скорее к калитке, пока есть еще время.
Амелиус вернулся к Регине.
– Я не должен вводить девушку в беду, – сказал он. – Вы знаете, куда писать мне, прощайте.
Регина сделала горничной знак удалиться. Никогда Амелиус не расставался с ней так, как теперь. Она забыла горячие объятия и страстные поцелуи, она приходила в отчаяние при мысли, что потеряет его.
– Амелиус, не сомневайтесь в моей любви. Скажите мне, что вы верите, что я люблю вас. Поцелуйте меня прежде чем уйдете.
Он поцеловал ее, но не так, как прежде. Он произнес слова, которых она желала, но не от сердца. Она позволила ему идти, упреки были бы теперь неуместны. Феба застала ее бледной и неподвижной на том месте, на котором они расстались.
– Дорогая моя мисс, что с вами? – вскричала она. И госпожа ее мрачно ответила ей словами, которые никогда прежде не сходили с уст ее: «О, Феба, я желала бы умереть!»
Глава XVI
Таково было впечатление, оставленное в душе Регины свиданием в питомнике.
Впечатление же, оставленное в душе Амелиуса, выразилось вечером того дня в сильных словах, сказанных в ответ на вопрос его друга: «Что нового?»
– Займите чем-нибудь мой ум, Руфус, или я все брошу и отправлюсь к черту.
Этот житель Новой Англии был слишком умен, чтоб беспокоить Амелиуса расспросами при подобных обстоятельствах. «Так вот что!» – промолвил он и только. Вынув из кармана письмо, он спокойно положил его на стол.
– Ко мне? – спросил Амелиус.
– Вы требуете какого-нибудь занятия для вашего ума, – отвечал Руфус. – Здесь вы найдете его.
Амелиус прочел письмо. На нем стоял штемпель Гемаденского заведения. Секретарь приглашал Амелиуса в самых лестных выражениях прочесть в зале заведения лекцию о христианском социализме, применяемом на практике в Общине Тадмора. Ему предлагали две трети сбора за места и предоставляли свободу назначить какой угодно вечер и какое угодно увеселение по окончании чтения. О дальнейших подробностях мог он условиться с секретарем, если примет это предложение.
Прочитав письмо, Амелиус взглянул на своего друга.
– Это устроили вы? – спросил он.
Руфус сознался со свойственной ему откровенностью. У него было рекомендательное письмо к секретарю, и он представил его сегодня утром. Заведение нуждалось в чем-нибудь новом, чтоб привлечь к себе его членов и публику. Не намереваясь читать сам, он подумал об Амелиусе и выразил свою мысль. «Я заметил – прибавил Руфус смиренно, – что не ручаюсь, что вы согласитесь взойти на подмостки, но секретарь человек горячий и заявил, что попытается».
– Зачем мне отказываться? – раздраженно спросил Амелиус. – Секретарь рассыпается передо мной в любезностях и доставляет мне случай высказать наши принципы. Вы, может быть, думаете, – прибавил он спокойнее после короткого размышления, – что я не гожусь для этого. В таком случае я не буду вам противоречить.
Руфус покачал головой.
– Если б вы провели свою жизнь на этом небольшом, мизерном острове я, может быть, сомневался бы в вас. Но Тадмор лежит в Соединенных Штатах. Здесь не упражняются молодые люди в красноречии, и не говорили ли вы мне, что есть американец, гражданин, имеющий голос в этом обществе. Вы не угадываете, нет? Хорошо, я подразумеваю мистера Фарнеби, я говорю себе, конечно, не секретарю, Амелиус должен уважать взгляды мистера Фарнеби. А что скажет на это дядюшка Фарнеби?
Горячий темперамент Амелиуса мгновенно дал о себе знать.
– Какой черт! Что мне за дело до взглядов Фарнеби, – вспылил он. – Если есть в Англии человек, которому нужно бы вколотить в тупую голову принципы христианского социализма, так это мистер Фарнеби. Увидитесь вы еще с секретарем?
– Я могу повидаться с ним сегодня же вечером, – отвечал Руфус.
– Скажите ему, что я берусь читать, и передайте ему мою благодарность и приветствия. Если я буду иметь успех, – продолжал Амелиус, воодушевляясь новой идеей, – я могу приобрести себе имя как профессор, а имя те же деньги, а деньги будут побивать Фарнеби его собственным оружием. Это будет попытка в критический момент моей жизни, Руфус.
– Да, – согласился Руфус, – я повидаюсь с секретарем.
– А почему не пойти мне с вами? – спросил Амелиус.
– Почему нет? – ответил Руфус.
Они вместе вышли из дому.
Поздно ночью Амелиус сидел один в своей комнате, составлял конспект для лекции, которую обязался прочесть, через неделю. В Америке (как предполагал Руфус) он произносил несколько раз публичные речи и потому мог слышать звук собственного голоса в безмолвной аудитории, не дрожа с ног до головы.
В Тадморе получали английские газеты, и политика Англии часто обсуждалась в маленьком парламенте Общины. Разумеется, мысль о новых слушателях, враждебно к нему расположенных, немного пугала его, но самой главной его заботой была ограниченность времени, данного для лекции. За лекцией должны были последовать публичные прения, секретарь советовал Амелиусу говорить не больше часа. «О социализме трудно рассказать в час», – заметил Амелиус. Секретарь вздохнул и ответил: «Не будут слушать дольше».
Делая время от времени заметки о различных сторонах предмета, на которых надо было дольше останавливаться, Амелиус все более и более погружался в воспоминание о прошлом. Он положил перо, когда часы соседней церкви пробили час, и глубоко задумался. Мысли перенесли его в горы и долины Тадмора. Одна за другой восставали перед ним картины из его прошлой жизни. Вот опять добрый старший брат передает ему чистое христианское учение, как оно вышло из уст самого вдохновенного учителя, опять он работает в саду и в поле, голоса товарищей сливаются с его голосом в вечернем гимне, а робкая Меллисент стоит подле него с нотами и слушает. Как бедна, как испорчена казалась его настоящая жизнь в сравнении с прежними счастливыми днями! Он забыл простые правила христианского смирения, христианского незлобия и самообладания, которые, как надеялись его учителя, должны были предохранить его от пагубного влияния света. В последние два дня он не хотел извинить заблуждений человека, потратившего всю жизнь на низкую борьбу за богатство, – и что еще хуже, глубоко огорчил любившую его девушку, потому что дал волю страстям, сдерживать которые было его первой и главной обязанностью. Воспоминание это в настоящем его настроении было невыносимо. Он схватил перо с обычной горячностью, чтобы в этот же вечер загладить вину. Он написал мистеру Фарнеби, извинился за презрительные слова, вырвавшиеся у него во время их свидания и выразил надежду, что более близкое знакомство поведет к взаимным уступкам. Письмо к Регине было гораздо длинней и написано в выражениях полных горячей любви и раскаяния. Он не успокоился даже, вложив письма в конверты. Несмотря на поздний час, ему хотелось самому опустить их в почтовый ящик. Он тихо сошел вниз, неслышно отпер дверь и побежал к ближайшему ящику. Когда он вернулся домой, совесть, наконец, перестала его мучить. – Теперь, – подумал он, зажигая свечку, – я могу идти спать.
Первым событием следующего дня было появление Руфуса. Оба они занялись составлением необходимого объявления о лекции. Оно должно было привлечь внимание известного сословия, так как начиналось, воззванием ко всем бедным, недовольным людям.
«Придите и выслушайте средство, придуманное христианским социализмом, чтобы помочь вашим нуждам, его объяснит вам друг и брат, плата за вход не более шести пенсов». Необходимое извещение о времени и месте лекции следовало за этим воззванием, дальше предлагались отдельные места дороже. По совету секретаря объявление не было послано ни в один из журналов, выписываемых богатыми людьми. Оно появилось в одной ежедневной газете и двух недельных: эти три газеты расходились каждая в количестве не менее 4000 экземпляров. Предположим, что только пять человек читают один экземпляр, вскричал пылкий Амелиус, и у нас может быть два миллиона слушателей.
Амелиус не обратил внимания на неизбежный результат такой гласности. Его объявления должны были свести людей, которые иначе никогда бы не встретились под одной крышей в громадном Лондоне. Он приглашал провести с собой вечер незнакомых людей из всей Англии, Шотландии и Ирландии. При таких обстоятельствах люди, совершенно потерявшие друг друга из вида, могли легко столкнуться и вступить в разговор, в который иначе никогда бы не вступили, а за последствия придется отчасти ответить и герою вечера, так как он виновник их встречи. Человек, отворяющий дверь и приглашающий всех без разбора войти к нему, играет горючими материалами, которые легко могут воспламеняться. Руфус сам отнес объявления в ближайшую типографию. Амелиус остался дома и занялся лекцией. Его занятия были прерваны письмом от мистера Фарнеби. Господин с напомаженными бакенбардами писал вежливо и осторожно. Ему, видимо, польстило и понравилось извинение Амелиуса и (ввиду таких обстоятельств) он охотно разрешал ему видеться с племянницей, но в то же время ограничивал число свиданий, «Пока вы можете видеть ее раз в неделю. Регина, без сомнения, напишет вам, когда вернется в Лондон».
Регина отвечала со следующей почтой. На другое утро Амелиус получил от нее очаровательное письмо. Она никогда не любила его так горячо, она страстно желала его видеть и упросила мистрис Ормонд поехать домой и заступиться за нее перед дядей и теткой. Они должны были вернуться вместе в Лондон на следующий день. Амелиус может ее увидеть, если зайдет во время вечернего чая.
На другой день, около четырех часов, Амелиус оканчивал свой туалет, когда ему доложили, что его желает видеть молодая особа. Гостья была Феба. Она поднесла платок к глазам и предалась горести, смиренно подражая своей барышне.
– Боже мой, – воскликнул Амелиус, – уж не случилось ли что с Региной?
– Нет, – пробормотала Феба под платком, – мисс Регина дома и совершенно здорова.
– Так о чем же вы плачете?
Феба забыла о своей роли и отвечала, разразившись рыданиями:
– Я погибла, сударь!
– Что вы хотите этим сказать? Кто вас погубил?
– Вы.
Амелиус вздрогнул. У него не было никаких отношений с Фебой, кроме денежных. Она была видная, красивая девушка с хорошенькой фигурой. Физиономист заметил бы дурные черты в линии ее бровей и рта. Хотя Амелиус не был физиономистом, он слишком любил Регину, чтобы обращать внимание на кого бы то ни было. Только люди за сорок лет могут, ухаживая за госпожой, не пренебрегать и служанкой.
– Садитесь, – сказал Амелиус, – и объясните мне, что все это значит?
Феба села и вытерла глаза.
– Мистрис Фарнеби ужасно со мной поступила, – начала она и остановилась, подавленная воспоминанием об оскорблении, нанесенном ей. Она была слишком рассержена, чтобы следить за собой. Мстительный характер девушки отразился на ее лице. Амелиус заметил перемену и почувствовал сомнение насчет того, достойна ли она того места, которое занимала до этого дня в его уважении.
– Вероятно, вышло какое-нибудь недоразумение, – сказал он. – Когда же мистрис Фарнеби могла вам что-нибудь сделать, вы только что вернулись в Лондон?
– Извините, сэр, мы вернулись раньше, чем думали. У мистрис Ормонд было дело в Лондоне, и она отпустила мисс Регину у подъезда почти два часа тому назад.
– Ну?
– Ну, сэр, не успела я снять шляпу и шаль, как мистрис Фарнеби прислала за мной.
– Вы разложили свои вещи? – спросила она. Я ответила, что еще не успела этого сделать.
– Не трудитесь раскладываться, сказала она, вы не находитесь более в услужении мисс Регины. Вот ваше жалованье. Я прибавила вам жалованье за месяц, вместо обычного предупреждения.
Я только бедная девушка, но я рассердилась и заговорила так же прямо, как и она.
– Я могу знать, – сказала я, – за что мне так невежливо отказывают. Я не в состоянии повторить, что она ответила. У меня кровь кипит, когда я думаю об этом, – сказала Феба с мелодраматическим жаром. – Нас кто-то выдал, сударь. Кто-то донес мистрис Фарнеби о вашем тайном свидании с мисс Региной в саду и о деньгах, которые вы мне дали. Мне кажется, мистрис Ормонд виновата во всем: помните никто не знал, где она, когда я думала, что она толкует с кухаркой в доме. Верного я вам ничего не могу сказать. Я знаю только, что со мной говорили, как с самой низкой женщиной. Мистрис Фарнеби отказывает мне даже в рекомендации. Она даже сказала, что пошлет за полицией, если я не оставлю дом через полчаса. Как я могу найти другое место без рекомендации? Я погибшая девушка – вот что я такое – и все через вас! – И она разразилась рыданиями.
Чтобы прекратить эту сцену, Амелиус попробовал ее утешить совереном.
– Почему вы не поговорите с мисс Региной? – спросил он. – Вы знаете, что она вам поможет!
– Она сделала все, что могла. Я не имею ничего против мисс Регины: она добрая барышня. Она вошла в комнату, просила, умоляла и приняла всю вину на себя. Мистрис Фарнеби не хотела ничего слышать.
– Я здесь хозяйка! – сказала она, тебе лучше уйти в свою комнату! А, мистер Амелиус, уверяю вас, что она не ко мне одной относится враждебно, но и к вам, и никогда не позволит вам жениться на своей племяннице. Попомните мое слово, сударь, вот причина ее гнусного поведения со мной. Моя совесть чиста, слава Богу. Я служила истинной любви и не стыжусь этого. Однако скоро и на моей улице будет праздник! Я ничего более как бедная служанка, выгнанная без рекомендации. Погодите, вы увидите, что я скоро поквитаюсь с мистрис Фарнеби. Я знаю кое-что и ничего более не скажу. Она проклянет день, – воскликнула Феба, опять впадая в мелодраму, – в который выгнала меня из дома, как воровку.
– Тише, тише! – сказал Амелиус резко. – Вы не должны так говорить.
Феба получила деньги и могла действовать открыто. Она поднялась со стула. Дерзость, обыкновенно неразлучная с чувством обиды в ее классе, выразилась в ответе Амелиусу. – Я говорю, как думаю. У меня есть характер. Я не позволю топтать себя в грязь. Мистрис Фарнеби узнает это очень скоро.
– Феба, Феба, вы говорите, как язычница! Если мистрис Фарнеби поступила с вами с незаслуженной строгостью, покажите ей пример умеренности. Вы христианка и должны прощать обиды.
Феба расхохоталась.
– Ха, ха, ха! Благодарю вас и за проповедь и за соверен. Вы, право, очень добры! – Она вдруг перешла от иронии к злобе. Меня никогда еще не называли язычницей! Вы могли бы, по крайней мере, отплатить мне вежливостью за все, что я для вас сделала. Прощайте!
Она подняла вздернутый носик и с достоинством вышла из комнаты.
Это очень заняло Амелиуса на минуту. Он, смеясь, подошел к окну, когда услышал, как парадная дверь захлопнулась, чтобы последний раз взглянуть на Фебу в роли оскорбленной христианки. Улыбка его мгновенно исчезла, он изменился в лице и отшатнулся от окна.
Мужчина ждал Фебу на улице. В ту минуту, как Амелиус посмотрел в окно, она взяла его под руку. Он оглянулся на дом, когда они отошли. Амелиус тотчас же узнал в товарище (и любовнике) Фебы бродягу ирландца, прозванного Жерви, лицо которого он в последний раз видел в Тадморе. Он был один из агентов Общины в соседнем городе, его прогнали за дурное поведение, но потом опять приняли по просьбе одной почтенной личности, поверившей его обещаниям исправиться. Амелиус подозревал, что этот-то господин и был шпион, услужливо донесший на него и Меллисент, но молчал, не находя никаких улик для подтверждения своего подозрения. Появление Жерви в Лондоне можно было объяснить только вторичным изгнанием из службы Общины за какую-нибудь серьезную провинность, заставившую его сбежать в Англию. Феба не могла выбрать себе более дурного знакомства. При ее теперешнем мстительном настроении он был очень опасным товарищем и советником. Это не на шутку испугало Амелиуса, и он решился последовать за ним, чтобы узнать, где живет Жерви. К несчастью, он пришел к такому решению только по прошествии двух или трех минут. Было уже слишком поздно, когда он выбежал на улицу, они исчезли. По дороге к мистеру Фарнеби он решил рассказать все Регине. Тетка поступила неблагоразумно, отказав горничной в рекомендации. Ей следовало помириться с Фебой, пока не было слишком поздно.
Глава XVII
Мистрис Фарнеби стояла в дверях своей комнаты и смотрела на племянницу с презрительным любопытством.
– Ну, вы, кажется, достаточно наговорились с женихом. Что тебе нужно?
– Амелиусу необходимо поговорить с вами, тетя!
– Скажи, чтоб он не беспокоился. Он может примирить твоего дядю с мыслью о свадьбе, но не примирит меня.
– Не об этом, тетя, а о Фебе.
– Уж не хочет ли он заставить меня опять взять Фебу?
В эту минуту Амелиус вошел в залу и сам ответил на вопрос:
– Я хочу вас предостеречь!
Мистрис Фарнеби угрюмо улыбнулась. – Это интересно! – ответила она. – Ты мне не нужна! – прибавила она, обращаясь к племяннице.
– Так вы согласны ждать Регину десять лет, – продолжала мистрис Фарнеби, оставшись с Амелиусом. – Я ошиблась в вас. Вы бедное слабое создание. Ну что же об этой дуре, Фебе?
Амелиус откровенно рассказал ей все, что произошло между ним и прогнанной горничной, не забыв предостеречь насчет товарища Фебы.
– Этот человек способен на все, – сказал он. – На вашем месте я бы не доводил ее до крайности. – Мистрис Фарнеби презрительно осмотрела его с головы до ног. – У вас прежде был характер мужчины, – сказала она. Общество Регины превратило вас в мокрую тряпку. Хотите знать мое мнение о Фебе и ее любовнике? – Она остановилась и щелкнула пальцами. – Вот что я думаю о них. Теперь идите к Регине. Я могу вам сказать одно – она никогда не будет вашей женой.
Амелиус взглянул на нее с удивлением.
– Ваше обращение очень странно, – сказал он, – после всего, что вы сказали мне в последний раз, когда я был в этой комнате. Вы ожидаете от меня помощи для исполнения самого горячего желания в вашей жизни, и делаете все, чтобы помешать исполнению самого горячего желания в моей жизни. Ведь всякому терпению бывает предел. Если я откажусь помочь вам?
Мистрис Фарнеби посмотрела на него с удивительным хладнокровием.
– Вы не посмеете этого сделать! – отвечала она.
– Не посмею? – воскликнул Амелиус.
– Разве вы принимаете меня за дуру? – продолжала мистрис Фарнеби. – Вы думаете, что я не знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. – Она близко пододвинулась к нему и заговорила тихим, нежным голосом. – Если мне выпадет счастье, – продолжала она, – и вы действительно встретите мою бедную девочку, будете знать, что это она, – неужели, как бы я дурно ни поступила с вами, вы не скажете мне ничего? Разве такое сердце бьется у меня под рукой? Это ли христианское учение, преподанное вам в Тадморе? Полноте, глупый вы мальчик! Идите к Регине и скажите, что вы пробовали испугать меня, но вам не удалось.
На другой день была суббота. Объявления о лекции появились в газетах. Руфус сознался, что позволил себе занять полстраницы в двух недельных журналах. «Читатели», объяснил он, имеют дурную привычку пропускать скромные объявления. Надо, чтобы объявление бросилось им в глаза, когда они развернут газету, иначе они его не заметят.
Мистрис Фарнеби была в числе публики, заметившей объявление. Она удостоила Амелиуса визитом.
– Я назвала вас вчера мокрой тряпкой (это были первые ее слова при входе в комнату), я говорила, как дура. Вы славный малый, я уважаю ваше мужество и приеду на лекцию. Не обращайте внимание на Регину и Фарнеби. Мелкая душонка Регины, вероятно, возмущена. Не надейтесь видеть мою племянницу в числе слушателей. Фарнеби глуп по обыкновению. Он делает вид, что поступок ваш приводит его в ужас и говорит о разрыве, но в душе сгорает от любопытства узнать, как вы выпутаетесь. Уверяю вас, он прокрадется в зал и встанет где-нибудь позади, чтобы его никто не видел. Я поеду с ним, а когда вы взойдете на кафедру, подниму платок, вот так. Это будет значить, что он приехал. Проберите его хорошенько, Амелиус, проберите его хорошенько! Где ваш друг, Руфус? Только что ушел? Мне нравится этот американец. Передайте ему мой поклон и скажите, чтобы он зашел ко мне. – Она исчезла так же быстро, как и вошла. Амелиус посмотрел ей вслед с изумлением. Мистрис Фарнеби была непохожа на себя. Мистрис Фарнеби была в веселом расположении духа.
Мнение Регины о лекции пришло по почте.
Половина слов в письме были подчеркнуты.
Почти все фразы начинались восклицаниями. Регина была смущена, удивлена, испугана. Что еще Амелиус выдумает? Зачем он обманул ее? Он разрушил все хорошее впечатление, произведенное его очаровательными письмами на отца и на нее. Он не имеет понятия об отвращении и омерзении, которое все порядочные люди почувствуют к его ужасному социализму. Неужели у нее не будет больше счастливой минуты? И Амелиус будет причиной? И т. д. и т. д.
Потом следовал протест мистера Фарнеби, выраженный им самим. Он не снимал перчаток во время визита, говорил с пафосом и торжественностью во имя предков Амелиуса, сожалел о древнем роде, «превращающемся в прах в безмолвной могиле». Он не хотел ничего решать, не подумав хорошенько, но чувства его дочери были поруганы, и он боялся, что будет принужден отказать Амелиусу. Амелиус очень добродушно предложил ему даровой билет, попросил его послушать лекцию и решить, есть ли в ней что-нибудь дурное.
Мистер Фарнеби отвернулся от билета, как будто самый вид его был неприличен.
– Грустно! Грустно! – вот его прощальные слова джентльмену-социалисту.
В воскресенье (единственный день в Лондоне, в который уличная музыка не мешает работать мозгу). Амелиус составил лекцию. В понедельник, по обыкновению, отправился к Регине.
Ему сказали, что она выехала с мистрис Ормонд. Амелиус написал ей в мягких, нежных выражениях, прося как он просил ее дядю, не осуждать лекции, не прослушав ее. Он умолял ее вспомнить, что они обещали быть вечно верными друг другу, не взирая на социализм.
Ответ он получил через посланного. Тон его был серьезен. Убеждения Регины не позволяли ей присутствовать на лекции социалиста. Она выражала надежду, что Амелиус серьезно говорит о вечной верности.
На следующей странице строгость немного смягчалась припиской. Регина будет ждать Амелиуса на другой день после его злополучного появления перед публикой.
Лекция была назначена во вторник вечером.
Руфус лично поместился в кассе для продажи билетов, имея в виду интересы Амелиуса. «Даже полушиллинги прилипают иногда к пальцам при переходе от публики в денежный ящик», заметил он. Полушиллинги быстро прибывали, следовательно, объявления имели успех. Отдельные места расходились очень медленно. Членов организации, имевших бесплатный вход, явилось множество, и они заняли лучшие места. Около восьми часов (час назначенный для начала лекции) требование на места в шесть пенсов все еще продолжалось. Руфус узнал в толпе опоздавших Фебу, сопровождаемую мужчиной в одежде джентльмена, но с видом мошенника. За ними шла толстая дама, которая горячо пожала руку Руфуса и сказала: «Позвольте мне представить вам мистера Фарнеби». Рот и подбородок мистера Фарнеби были закутаны шарфом, шляпа была надвинута на глаза. Руфус заметил, что он как будто стыдится самого себя.
Высокая, грязная, дикая с виду старуха, отвратительно одетая, протянула полушиллинг кассиру, в то время как оба господина пожимали друг другу руки, нечего говорить, что пример подал Руфус. Старуха пристально посмотрела на глаза и бакенбарды мистера Фарнеби (единственная видимая часть его лица) при свете газовой лампы в коридоре. Она тотчас же отступила назад, хотя получила билет, подождала пока мистер Фарнеби заплатил за себя и жену и последовала за ними в зал.
Почему же нет? Воззвание относилось к несчастной старухе, так как она принадлежала к бедному и недовольному классу. Шестнадцать лет тому назад Джон Фарнеби отдал свою дочь на руки этой женщины и с тех пор не видел ни той, ни другой.
Войдя в зал, мистер Фарнеби без труда нашел себе скрытное, незаметное местечко, которое искал. Дешевые места были расположены, по обыкновению, очень далеко от кафедры. Галерея, находившаяся на этом конце зала, бросала тень на задние скамьи и проход к ним. В этом-то мраке и поместился мистер Фарнеби, он встал со своей благоверной супругой в углу, образуемом двумя сходившимися стенами здания. Незаметно пробираясь за ними в толпе, старуха остановилась у задней скамьи. Она пристально взглянула на разряженного молодого человека, занимавшего крайнее место и открыто ухаживавшего за хорошенькой девушкой, сидевшей рядом с ним, и шепнула ему на ухо: Жерви, подвинься немного для тетки Соулер!
Мужчина вздрогнул и оглянулся.
– Вы здесь! – воскликнул он с проклятием.
Прежде чем он смог ответить, Феба прошептала с другой стороны: «Какая противная старуха! Где ты с ней познакомился?» В ту же минуту мистрис Соулер повторила просьбу повелительным тоном.
– Слышишь, Жерви, слышишь? Подвинься!
У Жерви были, очевидно, свои причины относиться с уважением к желаниям мистрис Соулер. Наговорив кучу извинений, он попросил соседей сделать ему одолжение сдвинуться немного и ухитрился таким образом очистить маленькое местечко на самом краю скамьи.
Феба подвинулась неохотно и опять зашептала.
– Как она смеет называть тебя Жерви? Она похожа на нищенку. Скажи ей, что твое имя Жервей.
Ответ заставил ее прикусить язык.
– Молчи, у меня есть причины обращаться с ней вежливо. Ты тоже будь повежливее.
Он обратился к мистрис Соулер, покоряясь обстоятельствам. Под его красивой наружностью и свободными манерами скрывались бездушная подлость и непроницаемая хитрость. Это был совершенный тип умного убийцы, умеющего избегать преследований полиции. Если бы он мог совершить преступление безнаказанно, он убил бы без угрызений совести отвратительную старуху, которая сидела рядом с ним. Она столько знала из его прошлой жизни, что могла бы отправить его на пожизненную каторгу. Ввиду таких обстоятельств он обратился к ней с напускным снисхождением и добродушием. Я вас, кажется, десять лет не видел мистрис Соулер? Что вы поделывали в это время?
Женщина нахмурилась, отвечая ему:
– Разве ты не видишь? Голодала! – Она с жадностью взглянула на его блестящие часы и цепочку. – У тебя, кажется, есть деньги? Ты составил себе состояние в Америке?
Он пожал ей руку.
– Тише, – прошептал он. – Мы поговорим об этом после лекции. – Он бросил украдкой взгляд на Фебу. Мистрис Соулер заметила его. Девушка отдала свою трудовую копейку за его часы и одежду.
Она молча злилась на дерзость, с которой он велел ей молчать, и сидела надувшись, подняв вздернутый носик кверху. Жервей попробовал незаметно втянуть ее в разговор со старухой.
– Эта молодая особа, – сказал он, – знает мистера Гольденхарта и уверена, что он провалится, мы пришли посмотреть на потеху. Я не одобряю социализма, я, как говорит моя любимая газета, стою за церковь и престол. Одним словом, придерживаюсь консервативной политики.
– Ваша политика заключается в кармане девушки, – проворчала мистрис Соулер, – на сколько времени еще хватит ее денег? Жерви сделал вид будто не слышит ее слов.
– А что вас привело сюда? – продолжал он самым заискивающим тоном. – Вы читали объявление в газетах? – Мистрис Соулер отвечала так громко, что голос ее покрыл шум толпы. – Я зашла в трактир выпить водки и увидела газету. Я принадлежу к числу недовольных бедняков, ненавижу богатых и готова отдать последний пенс, чтобы услышать, как их отделают.
– Слушайте, слушайте! – сказал мужчина, похожий с виду на башмачника.
– Я надеюсь, что он отлично отделает аристократа, – прибавил один из соседей башмачника, грум без места.
– Меня тошнит от аристократов, – закричала женщина с багровым лицом и смятой шляпкой, – они поглощают все деньги, как они смеют строить дворцы и разводить парки, когда у моего мужа нет работы, а дети умирают с голода? – Башмачник слушал одобрительно.
– Хорошо сказано, – проговорил он, – очень хорошо сказано.
Эти выражения народного чувства дошли до слуха почтенного мистера Фарнеби.
– Слышишь ты этих негодяев? – спросил он у жены. Мистрис Фарнеби обрадовалась случаю рассердить его.
– Бедняжки! – ответила она. – На их месте мы говорили бы то же самое!
– Тебе бы следовало взять отдельное место, – заметил муж, отворачиваясь от нее с отвращением. – Там свободно. Зачем ты стоишь здесь?
– Я не могу тебя оставить, милый! Как тебе понравился мой американский друг?
– Я удивляюсь, как ты осмелилась представить его мне. Ты знаешь отлично, что я здесь инкогнито. Какое мне дело до бродяги американца?
Мистрис Фарнеби продолжала еще с большим лукавством.
– А, но видишь ли ты, он мне нравится. Бродяга американец мой союзник!
– Твой союзник! Что ты хочешь сказать?
– Господи, какой ты недогадливый! Разве ты не знаешь, что я против свадьбы племянницы? Я была в восторге, когда услышала о лекции, потому что она может расстроить все. Она не нравится ни тебе, ни Регине, а мой милый американец первый подал о ней мысль. Шш! Вот Амелиус. Какой он интересный! Какой грациозный и изящный! – воскликнула мистрис Фарнеби, замахав платком, чтобы Амелиус мог их увидеть. – Я готова сделаться социалисткой, прежде чем он откроет рот.
Глава XVIII
Наружность Амелиуса поразила его слушателей. Публика не привыкла видеть на кафедре людей молодых и красивых. Появление оратора было встречено общим взрывом рукоплесканий. Рукоплескания повторились, когда Амелиус, положив на стол маленькую книгу, объявил, что будет не читать, а говорить. Отсутствие неизбежной рукописи с самого начала успокоило публику.
Оратор начал.
– Милостивые господа и государыни, мыслящие люди, привыкшие следить за ходом событий в своем отечестве и в других государствах Европы, все (сколько я знаю) пришли к заключению, что до конца нынешнего столетия произойдут важные перемены в государственном строе. Одним словом, революция очень возможна и не так далека, как думают высшие и богатые классы европейского населения. Я принадлежу к числу тех, которые думают, что предстоящая революция будет революцией социальной и что во главе ее станет не военный или политический деятель, а великий гражданин, вышедший из народа и посвятивший себя народному делу. У меня не хватит времени говорить с вами о государственном и общественном строе других народов, даже если б я обладал знаниями и опытностью необходимыми для выполнения этой трудной задачи. Я ограничусь только указанием причин, которые вскоре произведут перемену в общественном и политическом положении страны и докажу вам, что единственные средства от существующих злоупотреблений могут быть найдены в учении, которое христианские социалисты извлекли из этой маленькой книги на столе – книги, известной вам всем под названием Евангелия. Прежде чем приступлю к своей задаче, я считаю своим долгом объяснить, почему обращаюсь к вам. Я не люблю говорить о себе, но мое положение принуждает меня к этому. Вы меня не знаете, я еще очень молод. Позвольте же мне рассказать вам в коротких словах о моей жизни и воспитании, а потом решайте сами, достоин ли я вашего внимания.
– Очень хорошее начало, – заметил башмачник.
– Красивый малый, – сказала женщина с багровым лицом, – мне бы хотелось его поцеловать.
– Он чересчур вежливо объясняется, – пробормотала мистрис Соулер. – Я бы желала вернуть свои деньги.
– Подожди, – прошептал Жервей, – он еще разгорячится. Я нахожу, Феба, что он не умел начать как следует. Не думаю, чтоб нам пришлось посмеяться сегодня вечером.
– Какой дивный оратор! – заметила мистрис Фарнеби своему супругу. – И такому человеку жениться на идиотке Регине!
– Все еще счастье будет у него впереди, пока он не женат на такой женщине, как вы, – свирепо отвечал мистер Фарнеби.
Между тем Амелиус заявил о своем национальном родстве с публикой и вкратце очертил свою жизнь в Тадморе. Покончив с этим, он обратился к предмету лекции. Его искренность и простота расположили к нему слушателей, они отвечали ему взрывом рукоплесканий.
– Итак, – заявил Амелиус, – будем продолжать. Окинем беглым взором (на большее у нас не хватит времени) настоящее положение нашей религиозной системы. Каков общий вид так называемого христианства в Англии? Сотни сект, отличающихся друг от друга. Основная церковь распалась в различных направлениях при беспрерывных ссорах и спорах о черных или белых одеждах, о подсвечниках на столе или поодаль, о поклонах на запад или на восток, о доктринах, которые доставляют более дохода, о доктринах в моей, вашей или иной чьей-либо церкви. Оставьте эти бесчисленные и беспрерывные раздоры и взгляните на высшие области, в которых действуют высшие, почтенные представители религии. Христиане ли они? Если так, то укажите мне на епископа, который осмелился бы в палате лордов отстаивать свое христианство, когда министр найдет выгодным начать войну! Где этот епископ и какую поддержку найдет он между своими собственными подчиненными? Вы, может быть, порицаете меня за дерзкую речь, и полагаете, что слова мои несправедливы. По откройте священную книгу Нового Завета, и вы увидите, что христианство делает людей честными, гуманными, смиренными, в высшей степени деликатными и снисходительными в их сношениях с ближними. Может ли христианство различных церквей и сект произвести такой результат? Посмотрите на торжища страны, на занятия, которым предаются англичане различных сословий, посмотрите наконец на нашу торговлю! Какова социальная сторона дела, предписываемая моралью этой книги, что у меня в руках? Пускай ответят на этот вопрос организованные системы лжи и обмана, гнездящиеся в банках и различных компаниях, мне нет надобности отвечать на это. Вам самим известно, какие почтенные имена замешаны в бесстыдных подделках, ложных отчетах, беспощадных разорениях нескольких тысяч жертв. Вам известно, как наши бедные индийские покупатели были обмануты бумажными материями, как дикарь, честно торговавший оружием, нашел наши ружья никуда негодными, как женщина, чуть не умирающая с голоду, покупая катушку ниток, находит в ней не более половины ярдов, означенных на ярлыке, вам известно, что на европейских рынках чужестранные товары вытесняют английские, потому что чужестранные фабриканты честнее наших, вам известно, наконец, и то, что хуже всего, что высшие коммерческие авторитеты смотрят на этот жестокий, злодейский обман, как на какое-то соперничество, на конкуренцию, извинительную в торговле. Неужели вы верите в честное приобретение богатств людьми, которые держатся таких мнений и совершают подобные обманы? Я не верю! Неужели вам представляется более светлая и чистая картина, когда вы смотрите на людей, обманывающих вас в широких размерах, чем на тех, которые обманывают вас в мелочах? Мне – нет! Все, что мы пьем, едим, носим, все более или менее поддельно! И за эту подделку торговцы заставляют нас платить обидную цену, не обязаны ли мы защищаться от всего этого социалистическими принципами, открывая свои магазины на кооперативных началах? Подождите, дослушайте меня прежде чем будете аплодировать! Поймите цель моей речи, не подумайте, что я слеп и не вижу светлых сторон начерченной мной мрачной картины. Загляните в честную жизнь, и вы увидите истинных христиан среди духовенства и среди светских людей, вы увидите мужчин и женщин, достойных называться Христовыми учениками. Но я хочу говорить не о частной жизни, предметом моей речи должен служить общий вид, общее положение религии, нравственности и политики в этой стране, а это положение, повторяю опять, представляет обширное поле испорченности и злоупотреблений и обнаруживает ожесточенное и оскорбительное равнодушие нации к зрелищу своей собственной деморализации и упадка.
Здесь Амелиус остановился и выпил воды.
Отдельные места были, казалось, заняты людьми очень осторожными. Избранная публика, сидевшая ближе к оратору, хранила скромное молчание. Но усердные рукоплескания со стороны шестипенсовых слушателей вполне вознаграждали оратора. В этом открытом нападении было достаточно горячности и силы, – опиравшихся на истинные, неопровержимые факты – затрагивавших большинство слушателей. Мистрис Соулер начала думать, что сделала хорошее употребление из своих шести пенсов, а мистрис Фарнеби все сказанное о коммерции применила прямо к своему мужу и кивала на него головой.
Амелиус продолжал.
– Теперь обратимся к следующему: наша настоящая система правления обещает ли нам мирные реформы, обеспечивает ли от упомянутых мной злоупотреблений? К тому же не следует забывать и других ужасных злоупотреблений, представляющихся в нашем национальном потреблении и усиливающихся с каждым годом. Я не желаю отнимать у вас драгоценное время, рассуждая о палате лордов, по трем причинам: во-первых, это общество не избрано народом и не имеет права на существование в свободной стране. Во-вторых, из его четырехсот восьмидесяти пяти человек не менее ста восьмидесяти пользуются общественными деньгами. В-третьих, если б нижняя палата имела желание и возможность приняться за необходимые реформы, то палата лордов нимало не обязана следовать им или поднимать революцию, которой едва избегла четыре года тому назад. Что вы на это скажете? Следует ли говорить о палате лордов?
Громкий крик раздался из толпы: Нет! Нет! Дворник гостиницы и женщина с багровым лицом кричали проклятия. Там и сям послышались свистки, поднятые Жервеем в интересах «алтаря и престола».
Амелиус снова заговорил.
– Хорошо, поможет ли нам нижняя палата сделаться истинными христианами при законном введении реформ? Позвольте мне еще раз напомнить вам, что эта палата имеет силу, но имеет ли она желание? В этом вопрос! Число членов состоит из шестисот пятидесяти. Только пятая часть представляет (или воображает, что представляет) торговые интересы страны. Что же касается членов, представляющих интересы рабочего класса, то их нетрудно сосчитать, их всего двое! Вы, пожалуй, спросите, что делают остальные члены? Они представляют военные и аристократические интересы. В настоящее время при упадке представительных учреждений нижняя палата носит ложное название. Народ здесь не имеет представителей, члены ее принадлежат к классам нимало не интересующимся народными нуждами и не заботящимся об облегчении его тягостей. Одним словом, для нас нет никакой надежды на нижнюю палату. А кто в том виноват? К сожалению и стыду виноват в том сам народ. Да, я говорю откровенно, позор и опасность Англии заключаются в том, что сам народ избрал представителей, не ведающих его потребностей. Вы, подающие голоса в городах и деревнях, располагали свободой и волей в исполнении своей священной обязанности, и вот в настоящее время нижняя палата доказала вам, что вы недостойны этого права.
Эти смелые слова подняли взрыв негодования в среде слушателей, которые минуту тому назад были совершенно порабощены голосом говорившего. Они приготовились с неистощимым терпением выслушивать перечисление своих добродетелей и обид, а не за то заплатили по полушиллингу, чтоб их уличали в недостатках и вредном участии в новейшей политике. Стали кричать, визжать, свистеть, они почувствовали, что прекрасный молодой оратор оскорбил их.
Амелиус спокойно ждал, пока затихнет весь этот шум.
– Очень жалею, что рассердил вас, – сказал он, улыбаясь. – Причина этого смятения заключается в том, что вы не привыкли слушать правду, сказанную вам в глаза. Да, друзья мои, народ этой страны, недостойной великого доверия и силы, данной ей мудрыми и гуманными английскими учреждениями, так многочислен, что может делиться на различные классы. Есть класс, получивший высшее образование, он отчаивается и держится в отдалении. Есть средний класс, не обладающий сознанием собственного достоинства, лишенный понимания общественного блага, его можно подкупить косвенным путем, дав хорошее место, предложив концессию, пригласив участвовать в собрании с женами и дочерьми. Есть класс еще низший, продажный, развращенный, бессовестный, испорченный до мозга костей, готовый продавать себя и свои права за деньги и вино. Когда я начал эту речь и упоминал о великих предстоящих переменах, я намекал на революционные перевороты. Неужели я возмутитель? Неужели я не знаю средств для мирных реформ, которые избавили бы Англию от революции? Никогда не буду я отрицать истины или тревожить вас без необходимости. Но история показывает мне, если я оглянусь хоть на первую французскую революцию, что бывает социальная и политическая испорченность так глубоко вкоренившаяся, въевшаяся, так сказать, в нацию, что только революционные волнения в состоянии вырвать ее. Я имею причины опасаться – и люди старше и умнее меня согласны со мной, – что испорченность, которую я подразумеваю, распространилась в Англии, несмотря на преобразования, совершенные мирным путем, преобразования, удовлетворявшие нас в прошлые годы. Или я ошибаюсь в своих взглядах, чего я желаю от души, или события будущего докажут, что я прав, во всяком случае начала прочных, полных, благих преобразований могут быть найдены лишь в этой книге. Умоляю вас, не поддавайтесь мудрствованиям близоруких философов, утверждающих, что божественное значение христианства уничтожилось с течением времени. Уничтожились злоупотребление и извращение христианства, как должны уничтожиться всякая фальшь и ложь. С того времени как Христос и его апостолы указали людям путь сделаться лучшими и более счастливыми, с того времени никогда еще люди так сильно не нуждались в этом учении во всей его чистоте и простоте, как теперь. Никогда род человеческий не нуждался так, как в настоящее критическое время в премудром и премилосердном голосе, который не перестает утешать, возвышать и очищать человечество, даже умирая на кресте! Неужели это вздорные слова энтузиаста? Неужели это мечты о земном рае, в который безумно верить? Я могу привести вам в доказательство существование одной общины, (между многими другими), имеющей сто членов, пользующейся полным довольством и счастьем, все правила которой основаны лишь на простой заповеди Нового Завета: «Любите бога и ближнего, как самого себя!»
Теперь Амелиус дошел до второй части своей речи. Он изложил довольно пространно и в избранных выражениях религиозные правила и социальные принципы Тадморской общины, рассказанные уже им своим двум спутникам во время пути его в Англию. Пока он ограничивался описанием образа жизни, совершенно нового для его слушателей, он приковал к себе общее внимание. Но когда он стал распространяться о применении христианского социализма в правлении, доказывать, что было хорошо для сотен людей, то может быть хорошо и для тысяч, что шло успешно в Тадморе, могло иметь успех и в Лондоне, внимание публики стало ослабевать. Вспомнили о кашле и простуде, начали перешептываться и осматривать друг друга. Мистрис Соулер, все время бросавшая украдкой взоры на мистера Фарнеби стала теперь посматривать на него смелее, когда он стоял в своем углу, не спуская глаз с другого конца зала. Он начал чувствовать, что чтение изменило общее настроение, что недалеко до взрыва, который может послужить достаточным предлогом отказать Амелиусу от дому.
– Будет с меня, пойдем домой, – сказал он вдруг, обратившись к жене.
Если б мистрис Фарнеби могла предугадать, что она стоит в этой толпе не как посторонний зритель, но как женщина, над головой которой висит страшная опасность, или если б взор ее случайно упал на Фебу и она почувствовала бы отвращение при мысли о каком-нибудь дерзком замечании со стороны прогнанной служанки, она ушла бы из зала со своим мужем и отвратила бы опасность, возникшую для нее с роковой минуты, когда она вступила в зал. Но она отказалась идти.
– Вы забываете предстоящие прения, – заметила она. – Подождите и вы увидите, как Амелиус будет отстаивать свои убеждения.
Она говорила настолько громко, что ее могли слышать сидевшие поблизости. Феба, критически рассматривавшая леди, находившихся в отдельных местах, повернулась на скамье и только теперь заметила присутствие мистера и мистрис Фарнеби.
– Посмотри, – прошептала она Жервею, – здесь негодяйка, выгнавшая меня из дома, и с ней супруг.
Жервей оглянулся, сомневаясь в словах своей возлюбленной.
– Не может быть, чтоб они поместились в полушиллинговые места, – сказал он. – Уверена ли ты, что это мистрис и мистер Фарнеби?
Он говорил осторожно, тихо, но мистрис Соулер заметила, что он оглядывается на джентльмена в углу и тщательно прислушивалась к тому, что он скажет.
– Который мистер Фарнеби? – спросила она.
– Мужчина, что стоит в углу, в белом шелковом шарфе, закрывающем его бороду и в шляпе надвинутой на глаза.
Мистрис Соулер с минуту смотрела кругом, чтоб убедиться, что мужчина, о котором говорит Жервей, тот самый, о котором она думает. После некоторого размышления она наклонилась через Жервея к его спутнице и заговорила:
– Милая моя, не носил ли когда-нибудь этот господин имени Морган и не посылали ли ему письмо в Тулей-стрит, дом Джоржа и Драгона?
Феба с удивлением подняла кверху брови, что служило утвердительным ответом.
– Представь себе важного мистера Фарнеби под чужим именем и получающим письма в гостинице, – сказала она Жервею.
Мистрис Соулер не задавала более вопросов, она бормотала про себя: «Бакенбарды его поседели, но я помню его глаза. Я готова поклясться, что не ошибаюсь в его глазах!» Потом вдруг обратилась к Жервею: «Богат он?» – Купается в золоте, – был ответ. – А где живет он? – Жервей был слишком осторожен, чтоб отвечать на этот вопрос. Он посоветовался с Фебой: «Сказать ей?» – Феба воскликнула с горячностью: «Какое мне дело до того, что ты ей скажешь, меня выгнали из дома». Жервей снова обратился к старухе: «А на что вам нужно знать, где живет он?» – Он мне должен, – сказала мистрис Соулер.
Жервей пристально посмотрел на нее и спустя некоторое время многозначительно присвистнул. Соседям их надоел этот шепот и они, гневно глядя кругом, стали требовать молчания. Жервей решился сказать еще несколько слов.
– Тебе, кажется, наскучило все это, – заметил он Фебе, – пойдемте в какой-нибудь трактир. – Она тотчас же поднялась с места, а Жервей, проходя мимо мистрис Соулер, потрепал ее по плечу и прошептал:
– Пойдемте ужинать, я буду угощать.
Все трое были замечены своими соседями. Мистрис Фарнеби увидела Фебу, когда уже было слишком поздно. Мистер Фарнеби также заметил старую женщину, но шестнадцать лет нищеты изменили ее, и при слабом освещении он не узнал ее. Он только нетерпеливо повернулся к жене и повторил: «Пойдем». Но мистрис Фарнеби была упряма.
– Иди! Если хочешь, – сказала она. – Я останусь.
Глава XIX
– Три дюжины устриц, хлеба с маслом и бутылку крепкого вина, отдельную комнату и хороший огонь! – Отдавая эти приказания по прибытии в таверну, Жервей был немало удивлен вмешательством со стороны его почтенной гостьи. Мистрис Соулер хотела сама заказать ужин.
– Ничего холодного для меня, ни пищи, ни питья, – сказала она. – Ни днем, ни ночью, ни во сне, ни наяву, мне никогда не тепло, всегда холодно. Посмотри сам насколько я потеряла вес с тех пор, как ты меня знаешь! Кусок горячего поджаренного мяса и можжевеловой водки с горячей водой, вот мой ужин.
– Исполните приказания, – сказал Жервей слуге, – и сведите нас в отдельную комнату.
Таверна была устроена на старинный английский лад и вполне пренебрегала французским комфортом и изяществом. Отдельная комната представляла собой музей, в котором была собрана грязь и нечистоты во всевозможных видах. На небольшой ржавой решетке потухал слабый огонек.
Мистрис Соулер с шумом потребовала дров и угля, развела огонь собственными руками и придвинула к нему как можно ближе свой стул. Минуту спустя успокаивающее влияние тепла оказало свое действие: голова этой несчастной, почти умирающей с голода женщины низко опустилась, ею овладело оцепенение – частью слабость, частью сон.
Феба со своим возлюбленным в ожидании ужина сидели друг против друга на маленькой софе, в конце комнаты. Имея в виду некоторую цель, Жервей обвил рукой ее талию и смотрел, и говорил самым нежным, заискивающим голосом.
– В продолжение часа или двух потерпи мистрис Соулер, будь с ней вежлива, дорогая моя, – сказал он. – Я знаю, что она тебе не компания, но могу ли я отвернуться от старого друга?
– Это-то и удивляет меня, – отвечала Феба. – Я не могу понять, как мог у тебя быть такой друг.
Всегда готовый, находчивый на ложь, когда того требовали обстоятельства, Жервей выдумал чувствительную историю в двух частях. Первая часть: мистрис Соулер была богатая и уважаемая вдова, жила в своем собственном загородном доме и разъезжала в каретах. Вторая часть: подлый стряпчий злоупотребил ее доверием, раздавал зря деньги под проценты, умер, а мистрис Соулер совершенно разорилась.
– Не говори с ней о ее несчастьях, когда она проснется, – прибавил он, – а то она разразится слезами и жалобами. Скажи мне, пожалуйста, неужели ты отвернулась бы от несчастного создания только за то, что она пережила всех своих друзей и осталась без фартинга. Как я ни беден, я все же могу предложить ей поужинать.
Феба выразила свой восторг к этим благородным чувствам и пустилась в излияния своей нежности, так необходимой для целей Жервея. Он метил прямо на ее кошелек, а попал в сердце. Однако он попытался сделать намек.
– Не знаю останется ли у меня от ужина шиллинг или два, чтобы дать мистрис Соулер. – Он при этом вздохнул и вынув из кармана несколько мелких монет в красноречивом молчании смотрел на них. Наконец Феба поняла, она протянула ему свой кошелек.
– Что мое, то будет также и твоим, когда поженимся, – сказала она. – Отчего же не быть этому теперь же?
Жервей тотчас же выразил ей чувства благодарности и повторил драгоценные слова: «Дорогая моя». Феба опустила свою голову на его плечо, позволила ему целовать себя и в безмолвном экстазе, закрыв глаза, наслаждалась этими поцелуями. Негодяй ласкал ее и наблюдал за ней до тех пор, пока увидел, что она вполне поддалась его влиянию. Тогда, и только тогда рискнул он постепенно открыть ей причину, побудившую его покинуть зал, прежде чем окончились прения.
– Слышала ты, что сказала мне мистрис Соулер перед тем, как мы оставили зал? – спросил он.
– Нет, милый.
– Ты помнишь, что она спрашивала у меня адрес Фарнеби?
– Да, и она хотела еще знать, не носил ли он когда фамилии Морган. Забавно, не так ли?
– Я в этом не уверен, моя дорогая. Она сказала мне, что Фарнеби должен ей сколько-то денег. Он не разом составил себе состояние, я полагаю. Как знать, кем он был во время своей юности и как он поддел слабую женщину. Подождем, пока старуха согреет свои старые кости горячим грогом, и я постараюсь разузнать побольше о долге Фарнеби.
– Зачем, милый? Какое тебе до этого дело?
Жервей задумался на минуту и потом решил, что наступило время говорить откровеннее.
– Во-первых, – сказал он, – это дело человеколюбия помочь мистрис Соулер возвратить свои деньги. Ты это видишь сама, конечно. Хорошо. Я ведь не социалист, ты это знаешь, совершенно напротив. В то же время я чрезвычайно справедливый человек и, признаюсь, был поражен когда мистер Гольденхарт рассказывал о Тадморских правилах в отношении богатых людей. «Человек, наживший богатство, обязан по законам христианской нравственности помогать неимущим». Таковы были, как мне помнится, его слова. «Человек собирающий богатства из-за себялюбивых мотивов, по скупости или из желания обогатить свое семейство после своей смерти, во всяком случае, не истинный христианин и нуждается в просвещении и указании христианского закона». При этих словах, если ты помнишь, раздался ропот и мистер Гольденхарт, прервав свою речь, прочитал несколько строк из Нового Завета, которыми подтверждались его слова. Мистер Фарнеби, милая, по моему мнению, принадлежит к числу людей, на которых указывал молодой джентльмен. Судя по внешности, он должен быть очень черствый человек.
– Это верно, он тверд как железо! Смотрит на слуг, как на грязь под своими ногами и никогда не скажет им доброго слова.
– Итак, я угадал! Он не особенно щедр на свои деньги, не правда ли?
– Он? Он только тратит на себя и на свое величие, но за всю жизнь не дал никому ни полпенни.
Жервей в порыве благородного негодования указал на камин.
– А вот бедная старая женщина, умирающая с голода, когда он должен ей! Да, я согласен с социалистами, следует пустить кровь такого рода людям. Посмотри на себя и на меня. Не должны ли бы нам оказать помощь? Мы могли бы вступить в брак, если б у нас было сколько-нибудь денег. Я многое видел на свете, Феба, и моя опытность говорит мне относительно этого долга Фарнеби, что тут что-то неладно. Отчего нам не нажить пяти фунтов стерлингов от этого скупого, сурового человека?
Феба была осторожна.
– А это не будет противозаконно?
– Предоставь мне заботиться о законах, – отвечал Жервей. – Я до тех пор не вступлю в дело, пока не уверюсь, что он не осмелится обратиться к полиции. Тогда будет все легко. Ты так долго жила в семействе, что должна знать слабые его стороны. Нельзя ли будет на него действовать через жену?
Феба вдруг покраснела до корней волос.
– Не говори со мной о его жене! – вскричала она. – Только бы дождаться мне дня, когда я смогу рассчитаться с этой леди… – Она посмотрела на Жервея и вдруг остановилась. Тот с очевидным любопытством наблюдал за ней.
– Я вовсе не желаю втираться к тебе в доверие, моя милая, и выпытывать твои маленькие тайны, – заметил он самым убедительным тоном. – Но если тебе нужен какой-нибудь совет, то ты знаешь, что я весь к твоим услугам.
Феба взглянула на мистрис Соулер, дремавшую у огня.
– Нужды нет, – сказала она. – Я полагаю, что не следует мужчине ввязываться в такие дела между мной и мистрис Фарнеби. Делай что тебе угодно с ее мужем, я об этом не забочусь, он скотина, и я ненавижу его. Я настаиваю лишь на одном, я требую, чтоб мисс Регину не подвергали никаким неприятностям, помни это! Она доброе создание. Вот прочитай письмо, написанное ей ко мне, и суди сам.
Жервей посмотрел на письмо, оно было довольно коротко, и он решился взять на себя труд прочесть его.
«Милая Феба, не унывай. Я всегда останусь твоим, другом и помогу тебе найти другое место. Очень сожалею, что должна сказать тебе, что во всем виновата мистрис Ормонд. Она имела подозрения, подкараулила нас и все рассказала тетке. В этом она созналась мне своими собственными устами. „Я готова на все, моя дорогая, чтоб спасти вас от неудачного замужества“, – сказала она. Я этим очень огорчена, так как не могу более смотреть на нее, как на моего друга. Тетка моя одинакового мнения с мистрис Ормонд. Ты должна снизойти к ее горячему характеру. Вспомни ее доброту ко мне, а ты тайно помогала мне в том, что она всячески желает устранить. Это очень рассердило ее, со временем она обойдется. Чтоб не тратить свои сбережения до получения места, ты уведомь меня. Мой кошелек к твоим услугам.
Твой друг Регина».– Очень мило, – заметил Жервей, возвращая письмо и зевая, – и очень удобно на случай, когда мы будем иметь нужду в деньгах. А вот и ужин! Теперь, мистрис Соулер, пора проснуться.
Он поднял старуху со стула и посадил ее к столу как маленького ребенка. Вид горячего кушанья и питья возбудил в ней волчий аппетит. Она пожирала мясо не только зубами, но и глазами, пила водку громадными глотками и со вздохом облегчения поставила стакан на стол.
– Еще один, – воскликнула она, – и я согреюсь. Жервей наблюдал за ней, сидя по другую сторону стола рядом с Фебой и, имея свои причины заставить ее говорить, поощрял ее желание еще выпить. Он потребовал второй стакан горячего грога. Феба, жеманно двигая устрицы вилкой, казалась шокированной грубой манерой, с которой мистрис Соулер пила и ела. Она сидела, опустив глаза на свою тарелку и чопорно тянула солодовый напиток. Когда Жервей, окончив свой ужин, зажег сигару, она ласково напомнила ему, что он обязан уважением к леди почтенных лет: «Я люблю, когда курят, милый, но, может быть, мистрис Соулер этого не любит».
Мистрис Соулер разразилась при этих словах громким смехом.
– Похожа ли я на то, чтоб быть чувствительной к табачному запаху? – спросила она с диким презрением к своей собственной бедности, что было одним из опасных элементов ее характера. – Посмотрели бы вы, молодая женщина, где я живу, и тогда бы говорили о табаке!
Это было очень грубо. Феба сняла вилкой последнюю устрицу из раковины и уставила глаза в тарелку. Заметив, что второй стакан грога был почти пуст, Жервей попытался вызвать мистрис Соулер на откровенность.
– Кстати, насчет долга мистера Фарнеби, – начал он. – Давно он вам должен?
Мистрис Соулер была настороже. Другими словами, голова мистрис Соулер разгорячалась от горячего грога только тогда, как она употребляла его в большом количестве. Она отвечала, что долг давнишний и не прибавила ничего более.
– Уже прошел семилетний срок?
Мистрис Соулер опорожнила свой стакан и пристально посмотрела на Жервея через стол.
– У меня плохая память, – сказала она.
Жервей весьма любезно предложил ей третий стакан.
– Нечетное число приносит, говорят, счастье.
Мистрис Соулер приняла предложение в том же духе, в каком оно было сделано, справилась со своей памятью даже прежде появления третьего стакана.
– Семь лет? Спрашиваете вы, даже более чем дважды семь лет. Что вы думаете об этом?
Жервей не терял времени на думы, он поспешно продолжал:
– Уверены ли вы, что человек, которого я указал во время чтения, тот самый, что назывался Морганом и письма которого адресовались в гостиницу?
– Вполне уверена. Готова принять присягу, что это его глаза.
– И вы никогда не требовали с него долга?
– Как могла я требовать, когда я не знала, как его зовут до той минуты, как вы мне сказали это?
– Сколько он вам должен?
Имела ли мистрис Соулер четвертый стакан грога в виду или думала, что пора приняться за расспросы, нужные ей самой, трудно решить, но каковы бы ни были побуждения, только теперь она покачала головой и сказала:
– Деньги – мое дело. Вы только скажите мне, где он живет, и я заставлю его заплатить.
Жервей был готов на всякий случай.
– Вам не нужно делать ничего подобного.
Мистрис Соулер недоверчиво засмеялась.
– Так вы думаете, мой умница?
– Я не думаю, я уверен в том. Во-первых, Фарнеби может не признать долга по истечении семилетнего срока, во-вторых, взгляните на себя в зеркало. Вы полагаете, прислуга пустит вас к нему в дом, когда вы постучитесь в двери? Вам нужен ловкий помощник или вы никогда ничего не получите.
Мистрис Соулер была доступна голосу рассудка, несмотря на три стакана грога. Она прямо спросила:
– А сколько вы возьмете за это?
– Ничего, – отвечал он, – я вовсе не желаю, чтоб вы платили за комиссию.
Мистрис Соулер с минуту подумала и поняла его.
– Повторите это при молодой женщине, чтоб она была свидетельницей ваших слов.
Жервей толкнул под столом молодую женщину, предостерегая ее, чтобы она не сделала какого-нибудь возражения и предоставила бы все ему. Объявив во второй раз, что не возьмет ни фартинга с мистрис Соулер, он продолжал свои расспросы.
– Я действую в ваших интересах, мистрис Соулер, – сказал он, – и потеряете вы сами, если не будете терпеливо отвечать на мои вопросы и не скажете мне правды. Я опять возвращаюсь к долгу. Откуда взялся он?
– За содержание ребенка в продолжение шести недель должен он мне по десяти шиллингов в неделю.
Феба подняла глаза от тарелки.
– Чьего ребенка? – спросил Жервей, заметив движение Фебы.
– Ребенка Моргана, того самого, что вы называете Фарнеби.
– А вы знаете, кто была его мать?
– Желала бы знать. Давно получила бы я деньги от нее.
Жервей украдкой взглянул на Фебу, она была бледна и прислушивалась к разговору, не спуская глаз с мистрис Соулер.
– Давно ли это было? – продолжал Жервей.
– Шестнадцать лет тому назад.
– Фарнеби сам отдал вам ребенка?
– Своими собственными руками, через садовую решетку дома в Рамсгэте. Он сам и посадил меня на поезд, отправившийся в Лондон. При этом он дал мне десять тысяч фунтов стерлингов и больше ничего. Он обещал увидеться со мной в течение месяца и дать мне денег. Я никогда не видела его до сегодня, когда встретила у кассы, платившим за билеты.
Жервей снова взглянул на Фебу. Она не подозревала, что за ней наблюдают. Все внимание ее было поглощено ответами мистрис Соулер. Обсудив все слышанное, Жервей оставил речь о долге и начал расспрашивать о ребенке.
– Я уже обещал вам, что не возьму с вас ни одного фартинга, – прибавил он. – Скольких лет был ребенок, когда вам отдал его Фарнеби?
– Скольких лет? Ему не было и недели!
– Не было и недели, – повторил Жервей, устремив пытливый взор на Фебу. – Боже мой, да это был новорожденный младенец?
Волнение девушки достигло до высшей степени. Она наклонилась над столом, чтоб не проронить ни одного слова.
– А долго ли этот бедный ребенок оставался на ваших руках? – продолжал Жервей.
– Как могу я сказать с точностью после такого долгого отрезка времени? Несколько месяцев, должно быть. Знаю только, наверное, что сверх полученных мной десяти фунтов, он прожил еще не менее шести недель, а потом… – Она остановилась и посмотрела на Фебу.
– А потом вы от него освободились?
Мистрис Соулер почувствовала, что Жервей многозначительно толкает ее ногой под столом.
– Я не сделала ничего такого, чего бы должна была стыдиться, – сердито обратилась она к Фебе. – Будучи слишком бедна, чтоб содержать малютку на свой счет, я отдала ее одной доброй леди, которая ее усыновила.
Феба не могла более сдерживаться. Прежде чем Жервей успел открыть рот, она обратилась к мистрис Соулер с вопросом:
– А знаете вы, где теперь находится эта леди?
– Нет, не знаю.
– Вы знаете, где найти ребенка?
Мистрис Соулер взялась за, грог.
– Я знаю об этом не больше вашего. Намерены вы задавать еще вопросы, мисс?
Сильное возбуждение до того ослепляло Фебу, что она не заметила очевидной перемены к худшему в расположении духа старой женщины. Она опрометчиво продолжала:
– Никогда не видали вы леди с тех пор, как отдали ей девочку?
Мистрис Соулер опустила вдруг свой стакан в ту мину, ту, как подносила его к губам?.. Жервей остановился пораженный и не зажег второй сигары.
– Девочку? – медленно повторила старуха, устремив подозрительный и удивленный взор на Фебу. – Ее? – Она обратилась к Жервею. – Разве я сказала, что это была девочка? Разве вы меня спрашивали о том?
– И не думал, – отвечал Жервей.
– Неужели я сказала это, не будучи о том спрошена?
Жервей оставил Фебу на произвол старой, неумолимой женщины, перед которой она себя выдала. Этим единственным путем мог он выпытать что-либо от девушки.
– Нет, вы не говорили этого, – отвечал он.
Мистрис Соулер снова обратилась к Фебе.
– Откуда же вы знаете, что это была девочка?
Феба дрожала и ничего не говорила. Она сидела, опустив голову и сложив руки на коленях.
– Могу я спросить вас, – продолжала Соулер с необычайной вежливостью, – сколько вам лет, мисс? Вы настолько молоды и красивы, что для вас не может быть неудобств отвечать на подобный вопрос.
Опытность Жервея изменила ему. Он не успел предостеречь Фебу от расставленной ей западни.
– Двадцать четыре, – отвечала она.
– А ребенок был мне отдан шестнадцать лет тому назад, – сказала мистрис Соулер. – Вычтя шестнадцать из двадцати четырех получишь восемь. Я еще более прежнего удивлена тем, что вам известно, мисс, что это была девочка. Это не может быть ваш ребенок.
Феба вскочила в припадке сильнейшего гнева.
– Слышишь ты это? – обратилась она к Жервею. – Как осмелился ты привести меня сюда, чтобы слушать оскорбления от старой пьяной негодяйки?
Мистрис Соулер тоже быстро поднялась. Старуха схватила свой пустой стакан, чтобы бросить им в Фебу. В тот же момент Жервей удержал ее за руку, вывел из комнаты и затворил за ней дверь.
На площадке стояла скамья. Одной рукой он усадил на нее старуху, другой вынул из кармана кошелек, данный ему Фебой.
– Вот вам фунт в уплату вашего долга, – сказал он. – Ступайте мирно домой, а завтра вечером подождите меня у дверей этого дома.
Мистрис Соулер раскрыла было рот для протеста, но быстро закрыла его опять при виде золота. Она схватила деньги и сделалась податливой и любезной.
– Сведите меня вниз, мой дорогой, и посадите в кеб, – сказала она. – Я боюсь ночного воздуха.
– Еще одно слово прежде, чем я посажу вас в кеб. Что сделали вы с ребенком?
Мистрис Соулер отвратительно оскалила зубы и прошептала:
– Продала его Маль-Давису за несколько пенсов.
– Кто был, этот Давис?
– Разносчик.
– И вы действительно ничего не знаете ни о нем, ни о ребенке?
– Разве я тогда нуждалась бы в вашей помощи? – спросила она. Они, может быть, оба давно исчезли с лица земли, я ничего о том не знаю.
Жервей усадил ее немедленно в кеб. «Теперь примемся за другую», – сказал он про себя, и поспешил в отдельную комнату.
Глава XX
Иному показалось бы нелегкой задачей успокоить Фебу при настоящих обстоятельствах. Но Жервей имел громадное преимущество: в нем не было ни малейшего чувства к девушке, и в его распоряжении находился большой запас самоуверенности и лести. Менее чем в пять минут слезы Фебы были осушены и возлюбленный сидел подле нее, обвив своей рукой ее талию, как человек которого любят и простили.
– Теперь, мой ангел, – сказал он (Феба с наслаждением вздохнула, до этой минуты он никогда еще не называл ее ангелом), – расскажи мне все по секрету. Ты только сообщи мне факты, и я сумею вперед защитить тебя от мистрис Соулер. Ты сделала необычайное открытие. Придвинься ко мне ближе, дорогая. Как это случилось?
– Это я подслушала из кухни, – отвечала Феба.
– А слышал это кто-нибудь другой? – спросил Жервей.
– Нет. Вся прислуга была в комнате экономки, смотрела индийские редкости, присланные ей ее сыном из Канады. Я оставила свою птицу на кухонном столе и, вспомнив о кошке, побежала убрать клетку в более безопасное место. Одно из огромных окон в потолке было открыто, и я услышала голоса в задней комнате, в которой живет мистрис Фарнеби.
– Чьи услышала ты голоса?
– Мистрис Фарнеби и мистера Гольденхарта.
– Мистрис Фарнеби! – воскликнул он с удивлением. – Уверена ли ты в том?
– Еще бы! Или ты полагаешь, что я не знаю голоса этой ужасной женщины. Она говорила необычные вещи, спрашивала, есть ли что-нибудь неприличное в том, чтоб показать голую ногу. Голос, отвечавший ей, был голос мистера Гольденхарта. Тебе также любопытно было бы послушать дальше, если б ты был на моем месте, не правда ли? Я открыла второе окно, чтоб ничего не пропустить из того, что будет говориться. И что же я услышала, как бы ты думал?
– Ты говоришь о мистрис Фарнеби?
– Да. Я услышала ее слова: «Посмотрите на мою правую ногу, в ней ничего нет особенного». После минутного молчания она прибавила: «Теперь посмотрите на левую ногу». Слыхано ли такое нахальство замужней женщины в отношении молодого человека?
– Продолжай, продолжай. Что он сказал?
– Ничего. Он, как видно, смотрел на ногу.
– На левую ногу.
– Да. Левой ногой ей нечего было хвастаться, могу сказать. По ее собственному признанию у нее был какой-то недостаток между третьим и четвертым пальцем. Что это был за недостаток, я не знаю, я слышала только, как она говорила: «Бедная девочка родилась с таким же недостатком, и этот признак служил мне орудием против мошенников, которых я нанимала для ее розысков». Да! Она сказала так. Я слышала отлично. И потом она называла ее «бедной потерянной дочерью», которая, может быть, жива и теперь, а не знает, кто ее мать. Весьма естественно, что когда эта старая пьяница заговорила о ребенке, отданном ей на воспитание мистером Фарнеби, я припомнила все это. Что это милый, как ты странно смотришь? Что с тобой?
– Я только очень заинтересовался, больше ничего. Но тут есть нечто для меня непонятное. Какое до всего этого дело мистеру Гольденхарту?
– Разве я не сказала тебе?
– Нет.
– Хорошо, так я скажу теперь. Мистрис Фарнеби не только бессердечная тварь, которая лишает бедную девушку места и отказывает ей в рекомендации, она к тому же сумасшедшая. Это показывание голой ноги должно было служить мистеру Гольденхарту указанием в случае, если он встретит когда-либо ее дочь во время своих прогулок и путешествий, по этому недостатку он должен был убедиться, что это действительно она…
– Так! Я понимаю. Но почему же именно мистер Гольденхарт?
– Потому что она видела во сне, что мистер Гольденхарт нашел ее пропавшую дочь, и потому что из ста снов бывает один в руку. Слыхал ли ты когда-нибудь о подобном безумии? Насколько я поняла, она и до сих пор плачет о ней. И эта женщина выгнала меня на улицу! Представь себе это! Я сохранила бы ее тайну – к тому же это не мое дело, если б она не поступила со мной так бесчеловечно. Я хочу отплатить ей, полагаю, что слышанное мной на кухне поможет мне обличить ее. Не знаю еще как, но еще довольно времени впереди. Ты, надеюсь, сохранишь тайну, милый. Скоро между нами секретов не будет, все будет общее, когда мы будем мужем и женой. Что ты меня не слушаешь? Что с тобой?
Жервей вдруг поднял глаза. Его вкрадчивая манера вдруг исчезла, он заговорил грубо и нетерпеливо.
– Мне нужно знать кое-что. Есть у мистрис Фарнеби свои собственные деньги?
Феба совсем растерялась от перемены, происшедшей в ее любовнике.
– Ты говоришь таким тоном, точно сердишься на меня, – заметила она.
Жервей снова вернулся к своему заискивающему тону, хотя с некоторым затруднением.
– Дорогая моя, я люблю тебя! Как могу я на тебя сердиться? Ты заставила меня задуматься, поразила своим рассказом, вот и все. Но известно ли тебе, имеет ли мистрис Фарнеби свои собственные деньги?
На этот раз Феба отвечала: «Я слышала от мисс Регины, что отец мистрис Фарнеби был богатый человек».
– Как его звали?
– Рональд.
– Знаешь ты, когда он умер.
– Нет.
Жервей снова задумался и в волнении забарабанил пальцами по столу. Минуты две спустя у него родилась мысль. «Это я узнаю по могильному памятнику»! – воскликнул он как бы про себя и прежде чем Феба успела выразить свое удивление, он спросил ее, не знает ли она, где похоронен мистер Рональд.
– Да, я слышала об этом, – отвечала девушка. – На Хайтгетском кладбище. Но зачем тебе это знать?
Жервей посмотрел на часы.
– Уже поздно. Я провожу тебя домой.
– Но я хотела бы знать…
– Надень шляпку и подожди, пока мы выйдем на улицу.
Жервей заплатил по счету, не забыв притом и официанта. Он был щедр и вежлив, но, очевидно, не очень спешил дать Фебе обещанное объяснение. Они вышли из трактира. Жервей несколько минут шел молча, совершенно погрузившись в свои размышления. Терпение Фебы лопнуло.
– Я рассказала тебе все, – сказала она с упреком, – по-моему нечестно после этого скрывать от меня что-нибудь.
Он тотчас же очнулся.
– Дорогая моя, ты совершенно меня не понимаешь!
Он, по обыкновению, не затруднялся ответом, но сейчас ответил довольно рассеянно. В эту самую минуту он только решился рассказать Фебе часть затеваемого им дела. Ему было бы несравненно приятнее иметь сообщницей одну мистрис Соулер, но он знал Фебу слишком хорошо, чтобы подвергнуть себя подобному риску. Если б он отказался удовлетворить ее любопытство, она не задумалась бы следить за ним тайно и легко могла бы сказать или написать своей барышне что-нибудь такое, что привело бы к самым ужасным последствиям. Необходимо было настолько познакомить ее с делом, чтобы собственные выгоды заставили ее молчать.
– У меня нет ни малейшего желания, – продолжал он, – скрывать от тебя что-нибудь. Ты будешь знать все, что знаю я. – Предоставив себе таким образом право лгать, когда сочтет это за нужное, он улыбнулся и ждал расспросов.
Феба повторила вопрос, который задала в трактире:
– Зачем нужно Жервею знать, где похоронен мистер Рональд?
– Памятник мистера Рональда, моя милая, сообщит мне в каком году, месяце, какого числа он умер, – заметил он. – Узнав год, месяц, число, я отправлюсь в одно место, около собора Святого Павла, называемое Doctor's Commons, заплачу там шиллинг, и мне позволят взглянуть на завещание мистера Рональда.
– Какая же тебе польза от этого?
– Странный вопрос, Феба! В нашем положении нельзя бросать даже шиллинга, но на мой шиллинг я узнаю многое. Я узнаю, какой капитал мистер Рональд оставил своей дочери и может ли муж мистрис Фарнеби распоряжаться им.
– Так? – спросила Феба, еще нисколько не заинтересованная, – а потом?
Жервей осмотрелся кругом. Они находились на многолюдной площади. Он молчал, пока не повернули на более пустынную улицу.
– Никто не должен слышать того, что я тебе скажу. Здесь, милая, мы никого не встретим, и я могу говорить без опасений. Я обещаю тебе две хорошие вещи: ты расплатишься с мистрис Фарнеби, и у нас будет достаточно денег, чтобы сыграть свадьбу, когда тебе вздумается.
Феба заинтересовалась его словами и потребовала полного объяснения.
– Ты заставишь мистера Фарнеби дать тебе денег? – спросила она.
– Я не буду связываться с мистером Фарнеби, если он не имеет права распоряжаться деньгами жены. То, что ты слышала в кухне, совершенно изменило мои планы. Постой, ты поймешь сейчас, что я хочу. Как ты думаешь, сколько мне даст мистрис Фарнеби, если я найду пропавшую дочь?
Феба вдруг остановилась и в изумлении посмотрела на низкого негодяя, искушавшего ее.
– Но никто не знает, где эта дочь, – возразила она.
– Мы оба знаем, что у нее недостаток на левой ноге, – ответил Жервей, – и знаем где именно. В таком случае можно добыть денег без всякого риска. Я могу изложить это дело в письме, даже не называя себя? Ведь мистрис Фарнеби наверно даст денег, если я для доказательства, что знаю дочь ее, назову ей этот недостаток и, таким образом, докажу ей, что на меня можно положиться?
Феба все еще не хотела или не могла понять.
– Но что ты сделаешь, – спросила она, – если мистрис Фарнеби захочет видеть дочь?
В голосе девушки слышался не то страх, не то подозрение. Жервей стал действовать осторожнее. Он отлично знал как поступить, если случится то, что говорила Феба. Ничего не могло быть проще. Надо было только назначить мистрис Фарнеби свидание в какой-нибудь день и обратиться в бегство, оставив письмо, в котором объяснялось бы, что он ошибся, а денег, по бедности, возвратить не может. До сих пор он говорил правду, но последнее он не намерен был теперь же открыть ей. Феба была тщеславна, мстительна и глупа, но она не способна была хладнокровно дать согласие на низкий поступок. Жервей взглянул на нее и увидел, что нужно прибегнуть ко лжи.
– В этом-то все затруднение, – сказал он, – я не знаю, как тут поступить? Не можешь ли ты мне посоветовать что-нибудь?
Феба вздрогнула и отступила на шаг.
– Посоветовать тебе! – воскликнула она. – Мне даже страшно подумать об этом. Если она поверит тебе, а потом откроет, что ты обманул и обокрал ее, она может сойти с ума.
Жервей ответил с негодованием.
– Разве можно представлять себе такие ужасы? Если ты считаешь меня способным на такую жестокость, иди сейчас же к мистрис Фарнеби и предупреди ее.
– Как ты смеешь говорить мне это? – возразила Феба горячо. – Ты знаешь, что я умру скорее, чем сделаю тебе какое-нибудь зло. Сейчас же проси у меня прощение, или я уйду от тебя!
Жервей очень смиренно попросил прощения. Он достиг своей цели: он мог теперь отложить дальнейшие объяснения, не возбуждая в Фебе никакого недоверия.
– Оставим это, – сказал он, – после обдумаем дело хорошенько, а теперь будем говорить о более приятных предметах. Поцелуй меня, моя дорогая, никто не увидит.
Таким образом, он помирился со своей любовницей и добился полной свободы действий, в которой так нуждался. Если Феба вздумает его расспрашивать, он может теперь ответить ей:
– Дело представило трудности, которых я сначала не предвидел, и я от него отказался.
Ближайшая дорога в квартиру Фебы шла через улицу, на которой находилось Hampden Institution. Проходя по противоположному тротуару, они увидели, что боковая дверь отперта. Два господина вышли из нее. Третий закричал изнутри:
– Мистер Гольденхарт, вы забыли в приемной список полученных денег. – На что он мне, – ответил Амелиус, – денег получено так мало, что и вспомнить неприятно. – На моей родине, – произнес третий голос, – если бы он прочел такую лекцию, как вчера, я заплатил бы ему триста долларов золотом (шестьдесят фунтов на английские деньги) и получил бы сам большую прибыль. Англичане не любят более умственных развлечений. Прощайте.
Жервей поспешил удалиться с Фебой, когда два господина стали переходить через улицу. Он не забыл происшествий в Тадморе и не хотел возобновлять знакомства с Амелиусом.
Глава XXI
Руфус и его друг молча дошли до большой площади. Тут они остановились, потому что должны были разойтись в разные стороны.
– Я дам вам маленький совет, друг мой, – сказал уроженец Новой Англии. – Я замечаю, что ваш барометр указывает на сильный упадок вашей нравственной атмосферы. Пойдемте ко мне, вам нужно подкрепиться водкой.
– Нет, благодарю, мой дорогой, – грустно отвечал Амелиус. – На меня напала тоска, это правда. Видите ли, я ожидал, что эта лекция улучшит мое положение. Я совершенно равнодушен к деньгам, но женитьба моя зависит от увеличения моего дохода, первая попытка потерпела такое фиаско. Я не знаю на что решиться, когда думаю о будущем, и это тяжело ложится мне на сердце. Нет, водка мне не поможет. Мне нужен моцион и свежий воздух, к которому я привык в Тадморе. У меня голова болит после вчерашних прений. Продолжительная прогулка меня вылечит.
Руфус хотел сопровождать его. Амелиус покачал головой.
– Сделали ли вы в вашей жизни хоть милю пешком, если была возможность ехать? – спросил он добродушно. – Я намереваюсь походить часа четыре или пять. Мне пришлось бы отвозить вас домой в кебе. Благодарю, мой друг, за ваше братское участие. Я буду завтракать с вами завтра в вашей гостинице. Спокойной ночи.
Странное предчувствие овладело добрым американцем. Он крепко сжал руку Амелиуса и сказал очень серьезно:
– Не по душе мне это шатание ночью, право, не по душе! Доставьте мне удовольствие, отправляйтесь прямо домой. – Амелиус засмеялся и высвободил у него свою руку.
– Я не усну, если лягу. Завтра я буду с вами завтракать в десять часов. Еще раз, прощайте!
Он пошел так скоро, что Руфус поневоле не мог за ним следовать. Он стоял и смотрел ему вслед, пока тот не скрылся в темноте.
– Как я привязался к этому юноше за несколько месяцев, – подумал Руфус, направляясь к своей гостинице. – Дай Бог, чтобы с беднягой не случилось ничего дурного в эту ночь!
Между тем Амелиус быстро шел вперед, не обращая никакого внимания на дорогу, наслаждаясь только свежим воздухом и движением.
Сначала он не думал о своей женитьбе. Все его мысли были заняты лекцией, в конце которой он оправдывал свой взгляд на будущее страшной нищетой, распространенной между миллионным населением Лондона.
Он говорил на эту печальную тему с красноречием истинного чувства и произвел сильное впечатление даже на тех из слушателей, которые более всего восставали против защищаемых их мнений. Он был убежден, что в конце своей лекции не уронил ни себя, ни своего дела. Воспоминание о последовавших прениях производило другое впечатление. Сдержанные противники (все старше его), поднимавшиеся один за другим для опровержения его взглядов, воспользовались его горячностью, его искренней верой в справедливость своих убеждений. Он выходил из себя и не раз был принужден извиняться.
Его выручал никогда не терявшийся Руфус, который принял участие в борьбе с благородным намерением прикрыть его отступление. Нет! думал он с горьким смирением, я не гожусь для публичных прений. Если бы я мог вступить завтра в парламент, меня постоянно пришлось бы призывать к порядку и я ничего нужного не сделал бы.
Он дошел до берега Темзы с восточной стороны.
Все так же бессознательно подвигаясь вперед, он перешел Ватерлооский мост и вступил в улицу, тянувшуюся прямо перед ним. Он опять задумался о будущем. Регина занимала теперь его мысли.
Женитьба представляла единственную надежду на спокойную и счастливую жизнь, наполненную не одними удовольствиями, но и обязанностями. Эти обязанности, быть может, заставили бы его найти подходящее поприще для дальнейшей деятельности. Какие препятствия были на его пути? Низкий денежный расчет, тщеславие не позволяли ему жить скромно на свои собственные маленькие средства, и заставляли его купить семейное счастье ценой мишурного великолепия, необходимого для богатого торговца и его друзей. А Регина, имевшая полное право свободно следовать своим побуждениям, в сердце своем признававшая его властелином, преклонялась перед кумиром всего дома перед золотом и говорила покорно: любовь подождет!
Вдруг он очнулся от глубокой задумчивости. Когда он переходил через улицу, какой-то человек грубо схватил его за руку и этим спас от опасности быть раздавленным. Этот человек держал метлу в руке, он только что мел улицу.
– Мне кажется, что я заработал пенни, сэр! – сказал он. Амелиус дал ему полкроны, он перекинул метлу на плечо и в сильном восторге подбросил деньги. – С этим я могу идти домой! – сказал он, подхватив на лету монету.
– У вас есть семья дома? – спросил Амелиус.
– У меня только одна дочь, сэр, – ответил рабочий. – Все прочие умерли. Она самая добрая и красивая девушка на свете, хотя и не должен бы я говорить этого. Благодарю вас, сэр. Покойной ночи!
Амелиус посмотрел вслед бедняку, счастливому на эту ночь. – Зачем я не влюбился в дочь этого рабочего, – подумал он с горечью, – она бы вышла за меня замуж. Он взглянул вдоль улицы, она делала поворот, конца не было видно. Дойдя до следующего переулка влево, Амелиус повернул в него: ему надоело идти по одному направлению. Он не знал, куда ведет переулок. В настоящем его настроении сознание, что он заблудился в Лондоне, было ему приятно.
Короткая улица оказалась широкой, свет газа ослепил ему глаза, он услышал крик бесчисленных голосов.
В первый раз со времени приезда в Лондон он очутился на одном из рынков для бедных людей.
По обе стороны мостовой тележки с яблоками, принадлежащие бродячим торговцам большой дороги, были расставлены рядами, и каждый из них возвещал собственным голосом о своих товарах. Рыба и овощи, глиняная посуда и писчая бумага, зеркала, соусники и раскрашенные картинки – все вместе взывали к скудным кошелькам толкавшихся на мостовой бедняков. Один торговец стоял по колено в яблоках на старой телеге, запряженной ослом, и продавал полную меру за пенни, крича громче всех других. «Никто еще не видывал таких яблок! Они сладки, как мед. Кто это выдумал, что бедным плохо, – кричал он со страшной иронией, – когда они могут есть такой яблочный соус со свининой? Вот прекрасные яблоки, вот вам еще лишек за ваши деньги! Опять продал! Эй вы, вы, кажется, голодны. Ловите! Вот вам яблоко даром, можете попробовать. Подходите, не зевайте, а то все распродам!» Амелиус прошел несколько шагов и был почти оглушен криками мясников: «Купите, купите, купите!» – обращенными к толпе оборванных женщин, которые с жадностью перебирали говядину. Немного дальше, слепой продавал шнурки для корсетов и пел псалом, а за ним престарелый солдат играл народный гимн на оловянном флажолете. Единственным молчаливым лицом в этом грязном сборище был нищий с печатным плакатом на шее, обращенным к «Милосердной Публике». Он сальной свечкой освещал подробный рассказ о своих несчастьях, единственным его читателем был толстяк, который, почесав в голове, объявил Амелиусу, что не любит иностранцев. Голодные девочки и мальчики бродили между тележками яблочников и под предлогом продажи спичек и юмористических песен жалобно просили милостыни. Разъяренные женщины стояли у дверей кабаков и кричали на мужей, тратящих деньги на водку. Посреди улицы густая толпа входила и выходила из кухмистерской. Здесь люди представляли скорее трогательный, чем ужасный вид.
Это были терпеливые бедняки, покупавшие куски горячего овечьего сердца и печенки по пенни за фунт, маленькие кусочки горохового киселя, зелени и картофеля на полпенни. Бледные дети ужинали чашкой супа в углах и с голодной завистью смотрели на счастливых соседей, которые в состоянии были купить на два пенса заливных угрей. Всюду: и у старых, и у молодых видна была благородная покорность своей ужасной судьбе. Ни нетерпения, ни жалоб. В этом месте можно было встретить искреннюю признательность, благодарность добродушному кухмистеру, прибавившему ложку подливки даром, здесь бедные отдавали лишний пенни нищим, и отдавали добровольно. Амелиус истратил все свои шиллинги и пенсы на дополнение мизерных обедов и вышел со слезами на глазах. Он почти дошел до конца улицы. Окружающее его несчастье и сознание, что он не может ему помочь, тяжело действовали на него. Он подумал о спокойной и счастливой жизни в Тадморе. Неужели счастливые братья Общины и эти несчастные люди были созданиями одного милосердного Бога? Страшные сомнения, испытываемые всяким мыслящим человеком, сомнения, которые нельзя уничтожить, нападая на них с кафедры – восстали в его уме. Он ускорил шаги. Скорее отсюда, говорил он самому себе, скорее отсюда.
Нелегко было пробраться через толпу шатающихся и болтающих людей. По мостовой идти было лучше. Он хотел сойти с тротуара, когда сзади него нежный, приятный, хотя и очень слабый голос произнес: будьте добры, помогите, сэр?
Он обернулся и очутился лицом к лицу с несчастным созданием.
Сердце его сжалось от сострадания, когда он посмотрел на нее, так она была молода и бедна. Падшее создание, по-видимому, только что перешло из детства в юность – ей не могло быть более пятнадцати или шестнадцати лет.
Прелестные голубые глаза остановились на Амелиусе с выражением безотчетного терпения, которое бывает у больных детей. Мягкий овал лица представлял бы совершенство красоты, если б не бледные впалые щеки. На нежных губах не было ни кровинки, а хорошенький подбородок был изуродован пластырем, скрывавшим какую-то рану. Она была мала и худа, поношенное, старое платье обрисовывало тонкую, еще не вполне сформировавшуюся фигуру. Маленькие обнаженные руки покраснели от сырого ночного воздуха. Она дрожала, когда Амелиус смотрел на нее с состраданием и удивлением. Если бы не слова, сказанные ей, невозможно было бы поверить, что она ведет такую печальную жизнь. Во всей ее фигуре было что-то девственное и непорочное, казалось, она прошла через всю грязь уличной жизни, не дотронувшись до нее, не пугаясь и даже не понимая ее. В белой одежде, обратив нежные голубые глаза к небу, она могла бы служить живописцу прекрасной моделью святой или ангела. Критикующий мир сказал бы: «Вот идеал – сам Рафаэль мог бы написать это!»
– Вы очень бледны, – заметил Амелиус, – больны вы?
– Нет, сэр, только голодна.
Глаза ее полузакрылись, она зашаталась, произнося эти слова. Амелиус поддержал ее и осмотрелся кругом. Они были около лавки, где продавались кофе и куски хлеба с маслом.
Он велел налить кофе и предложил ей. Она поблагодарила его и попробовала есть.
– Я не могу, – сказала она слабо.
Хлеб выпал из ее руки, утомленная голова опустилась на его плечо.
Две молодые женщины из самого низшего слоя общества проходили мимо в эту минуту. «Она слишком слаба, чтобы есть, – сказала одна из них. – Я знаю, что ей принесет пользу, но согласитесь ли вы войти в кабак».
– Где он? – спросил Амелиус. – Укажите скорее!
Одна из женщин пошла вперед, другая помогала Амелиусу поддержать девочку. Они вошли в кабак, полный народа. Меньше чем за минуту первая женщина протолкалась через толпу пьяных посетителей к прилавку и вернулась со стаканом портвейна и чесноком.
Девушка очнулась, когда проглотила подкрепляющий напиток. Она открыла свои невинные голубые глаза с некоторым удивлением. – Я не умру теперь, – сказала она спокойно.
В незанятом углу кабака стоял маленький пустой бочонок. Амелиус заставил бедное создание сесть и отдохнуть немного. У него в кошельке было только золото, когда женщина, заплатив за вино, разменяла деньги, он предложил ей несколько мелких монет. Она отказалась взять их. «У меня есть несколько шиллингов, – сказала она, – и я могу работать. Отдайте деньги Простушке Салли».
– Вы спасете ее от побоев, хоть на одну ночь, – заметила другая женщина. – Мы называем ее Простушкой Салли, потому что она простая, добрая душа – ум ее совсем не развит. Дайте ей немного денег. Вы сделаете доброе дело.
Самые лучшие качества женщины: ангельская доброта и самоотвержение остались также прекрасны и непорочны в этих женщинах – в этом отребье большой дороги.
Амелиус обернулся к девушке. Голова ее в дремоте упала на грудь. Она подняла голову, когда он подошел к ней.
– Вас бы сегодня прибили, – спросил он, – если бы вы не встретили меня?
– Отец всегда бьет меня, – отвечала Простушка Салли, – если я не приношу денег. Вчера ночью он пустил в меня ножом, мне не очень было больно – только здесь немного порезано, – заметила она, показывая на пластырь на щеке.
Одна из женщин дотронулась до плеча Амелиуса и шепнула ему: Он столько же ей отец, как и я. Она беспомощное существо – и он пользуется этим. Если бы я могла ее куда-нибудь отдать, я бы не пустила ее больше к нему. Покажи барону грудь, Салли.
Она открыла свою поношенную шаль. На прелестной, все еще не сформировавшейся груди был страшный синяк.
Простушка Салли улыбнулась и сказала: «Мне было очень больно. Ножик лучше».
Некоторые из ближайших посетителей обернулись и засмеялись. Амелиус нежно закрыл шалью холодную грудь девушки. – Ради Бога, уйдем отсюда! – сказал он.
Глава XXII
Свежий, ночной воздух совершенно восстановил силы Салли. Она могла теперь есть. Амелиус предложил вернуться в кухмистерскую[5] и достать там чего-нибудь, но она предпочла кофе и хлеб с маслом. Толстые ломти, поданные на тарелке, казались ей роскошью. Один ломоть удовлетворил ее аппетит. Я думала, что могу съесть всю тарелку, – сказала девушка, отходя от прилавка с бессознательной покорностью, которую Амелиус не мог видеть без грусти. Он купил еще хлеба с маслом на случай, если ей захочется есть. Пока он завертывал его в бумагу, одна из старших ее товарок дотронулась до него и шепнула:
«Вот он!» – Амелиус с недоумением взглянул на нее. – «Животное, которое называет себя ее отцом!» – объяснила женщина нетерпеливо.
Амелиус обернулся и увидел, что какой-то полупьяный негодяй, одетый с ног до головы в грязные лохмотья схватил Салли за руку.
Это было одно из диких животных Лондона, составляющих опасность и позор английской цивилизации.
Заметив, что Амелиус смотрит на него, он отвел девушку в сторону. «Ты поймала господина на этот раз, – сказал он ей, – я буду ждать золота сегодня ночью или!..» – Он окончил фразу, поднося огромный кулак к ее лицу. Как ни тихо были сказаны эти слова, они достигли до тонкого слуха Амелиуса.
В порыве негодования он бросился вперед. Еще минута и он свалил бы с ног негодяя, но вмешался закон в лице полисмена. – Оставьте его, – сказал он добродушно. – Ну, а ты, Адский огонь (вот под каким прекрасным именем он здесь известен), убирайся! – Дикое двуногое животное испугалось голоса власти, как пугаются врагов дикие четвероногие звери: он мгновенно исчез в темноте.
– Я видел, как он грозил ей кулаком, – сказал Амелиус с негодованием в голосе. – Он страшно ушиб ей грудь. Разве нет возможности защитить бедное создание.
– Есть, сэр, – ответил полисмен, – вы можете его предать суду, если хотите, его приговорят к месячному заключению, но девушке будет еще хуже, когда его выпустят.
Взгляд полисмена на положение девушки нельзя было оспорить. Амелиус мягко обратился к ней, она вся дрожала от холода или ужаса, может быть, от того и другого. Скажите мне, – спросил он, – этот человек в самом деле ваш отец?
– Боже мой! – воскликнул полисмен, удивленный непонятливостью господина, – у Простушки Салли нет ни отца, ни матери, не так ли, милая?
Она не слушала полисмена. Грусть и сочувствие, отразившиеся на лице Амелиуса, наполнили ее ребяческим любопытством и удивлением. Она смутно понимала, что он печалился о ней. Она испугалась одной мысли причинить горе этому новому другу, доброта и сочувствие которого так ее поражали.
– Не беспокойтесь за меня, сэр, – сказала она робко, – я равнодушна к тому, что у меня нет ни отца, ни матери, а на побои я не обращаю внимания. Она повернулась к одной из женщин:
– Мы ко всему привыкаем, не так ли, Женни?
Амелиус не мог больше слушать.
– Сердце разрывается, глядя на вас! – сказал он и вдруг отвернулся. Он был очень тронут, только страшным усилием, потрясшим его с головы до ног, удалось ему вернуть самообладание. – Я не позволю бедной девочке терпеть побои и голод! – сказал он гордо полисмену. – Посмотрите на нее! Как она беспомощна и молода!
Полисмен вытаращил глаза. Слова эти показались ему очень странными, но искреннее чувство всегда возбуждает уважение. Полисмен с глубоким уважением обратился к Амелиусу.
– Это очень грустно, сэр, – сказал он. – Салли тихая, добрая девушка, и эти две женщины тоже. Они никому не отдаются и не пьют. Впрочем они все ведут себя порядочно, пока не напьются. Большей частью мужчины виноваты, когда они пьют. Может быть, ее примут на ночь в рабочий дом. Что это у тебя в руке, милая? Деньги? – Амелиус поспешил объяснить, что он дал ей эти деньги.
– Рабочий дом! – воскликнул он. – Самое название его ужасно!
– Успокойтесь, сэр, – сказал полисмен, – ее не примут с деньгами в рабочий дом.
Амелиус, в совершенном отчаянии, спросил нет ли поблизости гостиницы. Полисмен показал на истасканное, грязное платье Салли и предоставил ему отвечать за себя.
– Здесь есть какая-то кофейня, – прибавил он с видом человека, не решавшегося рассказывать подробностей.
Слишком озабоченный или недостаточно знакомый с жизнью Лондона, Амелиус решился попытать счастья в кофейной. Подозрительная на вид старуха встретила их в дверях и заметила полисмена. Не дожидаясь вопроса, она ответила: «Все занято» – и захлопнула дверь.
– Нет ли еще какого-нибудь места? – спросил Амелиус.
– Есть ночлежный дом, – ответил полисмен, еще с большим сомнением, – но теперь поздно. Там, вероятно, уже набилось народа, как сельдей в бочке. Пойдите сами посмотрите.
Он повел их в слабо освещенную улицу и постучал ногой в трап, сделанный в мостовой. Дверь отворил мальчик с блестящими глазами в грязном ночном колпаке.
– Вам нужно которого-нибудь из них? – спросил мальчик, увидев полисмена.
– Что он хочет сказать? – спросил Амелиус.
– Между этими людьми попадаются воры, – объяснил полисмен. – Сойди с дороги, Яков, и дай барину посмотреть.
Он вынул фонарь и осветил подвал. Амелиус посмотрел вниз. Выражение полицейского «набилось, как сельдей в бочке» подходило к тому, что он увидел. На полу кухни мужчины, женщины и дети валялись вместе.
Страшно бледные лица поднялись в испуге из темноты, когда свет фонаря упал вниз. Амелиусу стало тошно от ужасного запаха, наполнявшего воздух, он с дрожью отшатнулся.
– Что твоя голова, Яков? – спросил полисмен. – Это умный мальчик, – объяснил он Амелиусу. – Я с ним всегда приветлив.
– Теперь лучше, благодарю вас, – ответил мальчик с блестящими глазами. «Прощай, Яков». «Прощайте, сэр».
Трап опустился, и ночлежный дом исчез как страшное ночное видение.
Наступило минутное молчание в группе, оставшейся на мостовой. Нелегко было решить вопрос, что делать дальше.
– Трудно поместить куда-нибудь девушку на ночь, – заметил полисмен.
– Почему нам не взять ее с собой? – сказала одна из женщин. – Я знаю, что она охотно согласится спать втроем на одной постели.
– Понятное дело! – отвечала другая. – Ты знаешь, что он прежде всего явится к нам, если Салли не вернется домой?
Амелиус с обычной горячностью устроил дело.
– Я позабочусь о ней, – сказал он. – Салли, доверишься ты мне?
Она вложила свою руку в его с видом ребенка, готового идти домой. Ее истощенное лицо просияло в первый раз.
– Благодарю вас, сэр, – сказала она, – я пойду с вами куда угодно.
Полисмен улыбнулся. Женщины были, казалось, поражены. Прежде чем они смогли опомниться, Амелиус сунул им немного денег и радушно пожал им руки.
– Вы добрые создания, – сказал он горячо, – мне вас от души жаль. Но, мистер полисмен, покажите мне, где найти кеб и возьмите это за труды. В вас есть человеколюбие, вы делаете честь полиции.
Через пять минут Амелиус ехал с Простушкой Салли на свою квартиру. Неосторожный поступок его казался ему только обязанностью христианина. Ни малейшее сомнение не беспокоило его. Я как-нибудь устрою ее, думал он весело. Он взглянул на нее. Бедная девушка спала в углу кеба. Она дрожала во сне. Амелиус снял пальто и закутал ее им. Как посмеялись бы над ним его клубные друзья, если бы могли его видеть в эту минуту. Он должен был разбудить ее, когда кеб остановился. Он отпер дверь, зажег свечу в зале и повел ее наверх.
– Ты скоро опять заснешь, Салли? – шепнул он. Она осмотрела маленькую гостиную с сонным удивлением.
– Как здесь, должно быть, приятно жить, – сказала она.
– Ты голодна? – спросил Амелиус. Она покачала головой и сняла обтрепанную шляпу, прекрасные, светло-каштановые волосы рассыпались на ее лицо и плечи.
– Я слишком устала, чтобы хотеть есть. Могу я взять подушку с дивана и лечь на ковер?
Амелиус отворил дверь своей спальни.
– Ты проведешь ночь гораздо удобнее, – ответил он. – Вот тебе постель.
Она вошла за ним и осмотрела спальню, любуясь всем, что видела. При виде щетки и гребенки она захлопала руками от восторга.
– О какая разница с моими! – воскликнула она.
– Гребенка черепаховая, сэр, как в окнах магазинов?
Ванна и полотенца бросились ей потом в глаза, она стояла и смотрела на них с завистью, совершенно забыв об удивительной гребенке.
– Я часто заглядывала в магазины железных изделий, и всегда мечтала о такой ванне. У меня только один маленький кувшин, и меня бранят, если я прошу его наполнить водой более одного раза. Мне никогда еще не давали воды, сколько мне нужно. Она остановилась и задумалась на минуту. Опять на лице ее появилось несчастное, бессмысленное выражение, омрачавшее красоту ее голубых глаз. – Тяжело будет вернуться домой, повидав все эти прекрасные вещи, сказала она и вздохнула с покорностью судьбе, которую грустно было видеть в таком молодом существе.
– Ты никогда не вернешься к той ужасной жизни, – возразил Амелиус. – Никогда и не думай о ней больше. Не смотри на меня так странно.
Она слушала с выражением страдания на лице и вдруг схватилась руками за голову. То, что он сказал ей, было так удивительно, что она не могла сразу понять.
– У меня голова кружится, – сказала она. – Я такая бедная, глупая девочка, что ничего не могу сообразить, когда такой господин, как вы, дает новое направление моим мыслям. Не потрудитесь ли вы повторить ваши слова, сэр?
– Я повторю их завтра утром, – отвечал ласково Амелиус.
– Ты устала, Салли, отдохни.
Она очнулась и взглянула на постель.
– Это ваша постель.
– Она твоя на нынешнюю ночь, – сказал Амелиус. – Я буду спать в соседней комнате на диване.
Взор ее на минуту остановился на нем с невыразимым удивлением, потом она посмотрела опять на постель. – Вы позволите мне спать одной? – спросила она удивленно.
В ее взгляде и манерах, когда она произнесла эти слова, не было ничего нескромного, самый развращенный человек не мог бы найти в ней и тени порочности.
Амелиус вспомнил, что одна из ее подруг сказала ему:
– Ум ее не развился с детства. Кроме ума многие другие чувства были неразвиты в бедной жертве. Он затруднялся ответить ей с уважением, которое должно было оказывать ее неведению. Его молчание удивило и испугало ее.
– Я рассердила вас чем-нибудь? – спросила она.
Амелиус не колебался более.
– Бедная моя девочка, – сказал он, – я жалею тебя от всей души. Спи спокойно, Салли, спи спокойно. Он поспешно оставил ее и затворил за собой дверь.
Она следовала за ним до запертой двери и остановилась, стараясь понять его, но напрасно! Через несколько времени она решилась шепнуть через дверь. – Пожалуйста, сэр… – Она замолчала, испуганная своей смелостью. Он не слыхал ее, он стоял у окна и задумчиво вглядывался в ночную темноту, уже не испытывая прежней уверенности в будущем.
Она в отчаянии стояла у двери, вполне уверенная, что оскорбила его чем-нибудь. Она подняла было руку, чтобы постучать, но опять опустила ее. Наконец сделала над собой страшное усилие и постучала в дверь. Он тотчас же отворил ее.
– Мне очень жаль, если я сказала что-нибудь дурное, – начала она, задыхаясь от слез. – Простите меня, пожалуйста, и пожелайте мне спокойной ночи. – Амелиус взял ее за руку и простился с ней ласково и грустно. Она еще не вполне утешилась.
– Не можете ли вы, сэр? – Она неловко остановилась, боясь продолжать. Ее смущение было такое ребяческое, что Амелиус улыбнулся. Перемена, в нем происшедшая, возвратила ей смелость: прелестная улыбка заиграла на ее нежных, бледных губах. – Не можете ли вы, сэр, поцеловать меня? – сказала она.
Амелиус поцеловал ее. Пусть его осуждает тот, кто может честно сказать, что поступил бы иначе на его месте.
Он опять затворил дверь. Она была совершенно счастлива теперь. Он слышал, как она пела, укладываясь в постель. Она напугала его в эту бессонную ночь. Он услышал крик боли или ужаса в спальне.
– Что случилось? – спросил он через дверь. – Что тебя напугало? – Ответа не было.
Две или три минуты спустя крик повторился. Он отворил дверь и заглянул в комнату. Она спала и, должно быть, видела страшный сон. Худенькая, белая ручка была поднята кверху, точно защищая голову. – Не убивайте меня, – бормотала она тихим, жалобным голосом, – не убивайте меня! – Амелиус нежно взял ее руку и положил на одеяло. Его прикосновение, казалось, имело на нее какое-то успокаивающее действие: она вздохнула и повернула голову на подушке, слабый румянец слегка окрасил щеки и опять сменился бледностью, она погрузилась в глубокий спокойный сон.
Амелиус вернулся на свой диван, сон его был очень тревожен.
Ночь прошла. Первые слабые лучи рассвета влились в комнату и разбудили его.
Он вскочил и посмотрел на дверь спальни. Что делать? Эта была первая его мысль при пробуждении: он начинал наконец чувствовать свою ответственность.
Глава XXIII
Хозяйка квартиры решила, что делать.
– Вы потрудитесь, сэр, тотчас же выехать из моего дома, – заявила она. – Я не требую недельной платы, потому что не предупредила вас. Это порядочный дом, и он должен во что бы то ни стало остаться порядочным. Амелиус объяснил ей все, обращался к чувству справедливости, к обязанностям доброй христианки. Но рассуждение, неопровержимое в Тадморе, в Лондоне никуда не годилось. Хозяйка была недоступна, как египетский сфинкс. – Если та тварь, что находится в спальне, не оставит моего дома через час, я пошлю за полицией. – Ответив таким образом на возражения своего жильца, она вышла из комнаты и хлопнула дверью.
– Благодарю вас за вашу доброту, сэр. Я сейчас же уйду и тогда, может быть, хозяйка простит вас.
Амелиус оглянулся. Простушка Салли все слышала. Она стояла в своем оборванном платье у дверей спальни и плакала.
– Погоди немного, – сказал Амелиус, вытирая ей глаза своим собственным платком, – мы уедем вместе. Я хочу купить тебе новое платье и не знаю, как это сделать. Не плачь, милая, не плачь!
В то время, как он говорил, вошла глухая служанка. Она тоже плакала. Амелиус всегда был добр к ней, а она была виновницей открытия, сделанного хозяйкой.
– Если бы вы предупредили меня, сэр, – говорила она в раскаянии, – я не сказала бы ни слова. Я вошла по обыкновению в вашу комнату с горячей водой и до того испугалась, что уронила кувшин и побежала опять вниз! – Амелиус остановил ее.
– Я вас не обвиняю, Мария, – сказал он, – я нахожусь в большом затруднении. Помогите мне, вы сделаете доброе дело.
Мария расслышала только часть его слов. Боясь говорить очень громко, чтобы не услышала хозяйка, он спросил, умеет ли она читать написанное. «Да, если крупно написано». Амелиус тотчас же написал крупными буквами то, что ему было нужно.
Мария была в восторге. Она знала поблизости лавку, в которой продавали готовое женское платье, ей понадобились только два куска шнурка. Одним она смерила рост Салли, а другим ее тонкую талию.
Амелиус, между тем, открыл ящик и достал последние деньги, которыми мог располагать. Он только что запер ящик, когда послышался голос немилосердной хозяйки, повелительно звавший Марию. Служанка подала шнурки Амелиусу.
– В магазине вам помогут, – сказала она, и поспешно вышла из комнаты.
Амелиус обратился к Салли. «Я пойду и куплю тебе новое платье», – заявил он.
Девушка его остановила, она не в состоянии была слушать дальше. Лицо ее мгновенно просияло. Она захлопала руками. – О, – закричала она, – новое платье! Чистое платье! Позвольте мне идти с вами.
Даже Амелиус понимал, что невозможно среди белого дня вести ее с собой в таком виде.
– Нет, нет, – сказал он, – подожди здесь нового платья. Я вернусь через полчаса. Запрись, если боишься, и не впускай никого, пока я не вернусь! – Салли колебалась, она казалась очень испуганной. – Подумай о новом платье и хорошенькой шляпке, – сказал Амелиус, говоря с ней, как с ребенком, которому обещают игрушку. Это на нее подействовало. Ее лицо опять просияло.
– Я сделаю все, что вы хотите, – сказала она. Он отдал ей ключ и тотчас же вышел на улицу.
У Амелиуса было одно достоинство, очень редко встречающееся у англичан. Он нисколько не боялся насмешек, когда совесть оправдывала его поступки. Улыбка и хихиканье продавщиц, когда он сказал, что ему нужно, и подал два шнурка, нисколько не рассердили его. Он тоже засмеялся.
– Не правда ли, – сказал он, – смешно, что мужчина покупает женские платья и другие принадлежности туалета. Но вот видите ли, она сама не может прийти, и вы посоветуете мне что купить, не правда ли? – Они так хорошо посоветовали молодому, красивому посетителю, что в десять минут он приобрел серый костюм для прогулок, черную суконную кофту, простую шляпку, пару черных перчаток и бумажку булавок. В ближайшей лавке он купил сундук для всех этих сокровищ, а первый попавшийся кеб довез его до квартиры ровно через полчаса. Во время его отсутствия случилось только одно событие. Хозяйка постучалась в дверь, закричала страшным голосом: «Еще полчаса» – и ушла, не дождавшись ответа.
Амелиус отнес ящик в спальню.
– Одевайся, как можно скорее, Салли, – сказал он и оставил ее одну наслаждаться новым платьем.
Когда она отворила дверь и показалась, перемена в ней была так разительна, что Амелиус не мог выговорить слова.
Радость окрасила ее бледные щеки и светилась в нежных голубых глазах. Преображенная счастьем и гордостью, она была самым прелестным созданием, из когда-либо виденных Амелиусом. Она побежала к нему и обвила обеими руками его шею.
– Позвольте мне быть вашей служанкой, – воскликнула она. – Я хочу всю жизнь провести с вами. Подбросьте меня! Я с ума схожу, мне хочется улететь из окна. – Она увидела себя в зеркало и вдруг стихла и приняла серьезный вид. – О, – сказала она с благоговением, – есть ли на свете еще шляпка, подобная этой. Посмотрите на нее, пожалуйста, посмотрите! – Амелиус подошел, чтобы взглянуть на шляпу. В эту минуту дверь гостиной без церемонии отворили, и Руфус вошел в комнату.
– Уже половина одиннадцатого, – сказал он, – и завтрак совсем остыл.
Прежде чем Амелиус мог извиниться, что совершенно забыл о приглашении, Руфус увидел Салли. Американец всегда был вежлив со всякой женщиной старой или молодой, к какому бы обществу она не принадлежала.
Он подошел к Салли своим обычным широким шагом и пожал ей руку.
– Как ваше здоровье? Я очень рад с вами познакомиться. – Девушка обернулась к Амелиусу широко раскрыв глаза от удивления.
– Пойди на минуту в соседнюю комнату, Салли, – сказал он. – Этот господин мой друг, и мне нужно с ним поговорить.
– Какая проворная девочка! – сказал Руфус, когда она убежала в спальню. – Она мне напоминает одну из наших в Кульспринге, право. Но кто же такая эта Салли?
Амелиус отвечал по обыкновению совершенно откровенно.
Руфус с непроницаемым выражением лица и безмолвно ждал, пока он кончил рассказ, потом тихо взял его за руку и повел к окну. Положив руки в карманы и расставив свои длинные ноги, американец тщательно изучал лицо своего молодого друга при ярком дневном свете.
– Нет, – спокойно проговорил наконец Руфус, – юноша не помешался, насколько я могу судить. Он, кажется, говорит совершенно искренно. Так вот к чему приводит Община Тадмора! Гражданская и религиозная свобода иногда очень дорого стоят в Соединенных Штатах – это факт!
Амелиус занялся укладкой чемодана.
– Я не понимаю вас, – промолвил он.
– Я это хорошо знаю, – ответил Руфус. – Я точно так же не понимаю вас. Я считаю себя очень наблюдательным человеком, но в настоящем случае я совершенно теряюсь. Могу я спросить, что сказал бы почтенный глава христиан в Тадморе о затруднении, в котором я сегодня утром нашел моего молодого социалиста?
– Что бы он сказал? – повторил Амелиус. – То же, что сказал, когда к нам приехала Меллисент. Вот, господа, еще один из опавших листьев! Как бы мне хотелось, чтобы добрый старик был здесь и помог мне. Он бы сумел возвратить бедное, голодное, поруганное создание на место, назначенное ей Богом на земле!
Руфус схватил его за руку.
– Это ваше намерение? – спросил он.
– А какое же еще могло бы быть, – ответил резко Амелиус.
– Ведите ее завтракать в гостиницу! – сказал Руфус, видимо, облегченный от опасений. – Я, разумеется, не могу вам заменить вашего почтенного начальника, но я могу найти вам подходящую женщину, она совершенный ангел – без крыльев. – Он постучался в дверь спальни, не слушая дальнейших расспросов Амелиуса. – Завтрак ждет! – закричал он, – и я должен вам сказать, что характер нашего повара не отличается терпением. Теперь, Амелиус, век выставок. Если когда-нибудь будет выставка неумения укладывать чемоданы, золотую медаль единогласно присудят одному молодому человек из Тадмора. Отойдите и предоставьте это дело мне.
Он стащил сюртук и живо окончил все дело, как будто всю жизнь свою ничем иным не занимался. Даже сама хозяйка, явившаяся с безжалостной точностью по истечении часа, как будто смиловалась и стала вежливее в присутствии любезного, невозмутимого Руфуса. Он пожал ей руку, был очень рад с ней познакомиться, уверял, что она ему напоминает жену одного генерала из Кульспринга, и позволил себе спросить ее, не родственница ли она ей. Под прикрытием этого светского разговора, Амелиус незаметно вывел Салли из комнаты. Руфус последовал за ними, продолжая разговор с хозяйкой на лестнице и у парадной двери.
В то время, когда Амелиус ожидал своего друга перед домом, молодой человек, проезжавший мимо в кебе, высунулся и посмотрел на него. Молодой человек этот был Жервей, ехавший от могилы мистера Рональда в Doctor's Commons.
Глава XXIV
День был так же полон событиями, как и утро. После завтрака Руфус снял номер в гостинице для своих двух молодых друзей. Потом надо было купить Салли необходимые, но интимные принадлежности туалета, о которых Амелиус сначала не подумал. Послали записку в ближайший магазин, и в ответ на нее явилась нарядная дама с мальчиком и большой корзиной. Довольно трудно было уговорить Салли остаться одной с незнакомой ей женщиной. Несчастная боялась всех, кроме Амелиуса. Даже добрый американец не заслужил ее доверия. Недоверие, которому научила ее ужасная жизнь, было инстинктивное недоверие дикого зверя.
– Зачем мне другие люди? – жалобно шепнула она Амелиусу. – Я хочу только быть с вами. – Рассуждать с ней было так же бесполезно, как было бы бесполезно объяснять удобства клетки только что пойманной птице. Оставалось одно средство заставить ее повиноваться. Амелиус сказал.
– Сделай это Салли, чтобы доставить мне удовольствие. – Салли вздохнула и послушалась.
В ее отсутствие Амелиус снова начал расспросы о неизвестной особе, которую Руфус, не задумываясь, назвал ангелом без крыльев.
Дама эта (как объяснил Руфус в коротких словах) была англичанка – жена одного американца, поселившегося в Лондоне для торговли. Он был с ними коротко знаком до отъезда их из Соединенных Штатов, и старая дружба возобновилась, когда он приехал в Англию. Мистрис Пейзон, принадлежавшая ко многим благотворительным обществам, была членом комитета, доставлявшего убежище одиноким женщинам, в особенности молодым девушкам, оказавшимся в столь же несчастном положении, как и Салли. Руфус предложил написать мистрис Пейзон записку с просьбой назначить час, в который она может принять их, и испросить им разрешение посетить приют. Амелиус принял предложение после некоторого колебания. Только что отправили посланного с запиской, как появилась нарядная магазинщица с объявлением, что все необходимое для молодой леди было сделано, и с неизбежным счетом. У Амелиуса не хватило денег. Он занял их у Руфуса, обещая взять часть своего капитала из банка. В его ответе на протест друга о неблагоразумии такого поведения слышалось учение Общины. – Мой милый друг, я обязан возвратить вам деньги в интересах наших бедных братьев. Другой нуждающийся, который у вас займет денег, может быть, не будет с состоянии заплатить вам.
Амелиус некоторое время ждал возвращения Салли, но так как она не приходила, он послал за ней горничную. Руфусу это не понравилось.
– Зачем мешать бедной девушке любоваться собой в зеркале? – сказал старый холостяк с насмешливой улыбкой.
В глазах Салли не отражалось прежнее удовольствие, когда она вошла, у нее был болезненный вид. Она отвела Амелиуса в сторону и шепнула ему:
– У меня иногда болит то место, где синяк, теперь мне очень больно. – Она взглянула со странной, скрытой ревностью на Руфуса. – Я не приходила, – объяснила она, – потому что мне не хотелось, чтобы он знал. – Она умолкла, приложила руку к груди и крепко стиснула зубы. – Ничего, – сказала она весело, когда боль утихла, – я могу переносить это.
Амелиус со свойственной ему пылкостью велел подать самую удобную карету гостиницы. Он слышал страшные рассказы о последствиях удара, нанесенного женщине в грудь.
– Я покажу ее лучшему доктору в Лондоне, – объявил он. Салли шепнула ему опять, не спуская глаз с Руфуса.
– Он едет с нами?
– Нет, – ответил Амелиус, – один из нас должен остаться здесь, чтобы получить письмо. – Когда они вместе уходили из комнаты, Руфус очень серьезно смотрел им вслед.
Амелиус узнал от хозяйки гостиницы адрес знаменитого доктора, пока Салли одевалась.
– Почему тебе не нравится мой добрый друг? – спросил он у Салли, когда они поехали. Дочь Евы дала прямой ответ:
– Потому что вы его любите! – Амелиус переменил разговор и спросил, не чувствует ли она боли. Она нетерпеливо покачала головой. Она забыла об этом. Ее занимала мысль, уже высказанная ей перед отъездом с квартиры, мысль – стать его служанкой.
– Вы позволите мне оставить мое хорошенькое новое платье для воскресений? – спросила она. – Старые мои вещи пригодятся, когда я буду вам служить. Я могу чистить сапоги и платье, убирать комнату и буду очень стараться, если вы мне дадите возможность учиться стряпать. – Амелиус опять попробовал переменить разговор. Она не обратила ни малейшего внимания на его слова, великолепная перспектива сделаться его служанкой поглощала все ее внимание.
– Я мала и глупа, – продолжала она, – но, мне кажется, могла бы научиться готовить, если бы знала, что делаю это для вас. – Она остановилась и посмотрела на него с беспокойством. – Позвольте мне попробовать! – умоляла она, – у меня мало было удовольствий в жизни, – а мне так бы хотелось этого! – Невозможно было устоять против нее.
– Я доставлю тебе возможное счастье, Салли, – ответил Амелиус. – Ты немногого просишь!
Эти слова сострадания обратили ее мысли на другое. Грустно было смотреть, с каким трудом ей давалась новая мысль, на которую навели ее.
– Хотела бы я знать, сможете ли вы сделать меня счастливой? – сказала она. – Вероятно, я была счастлива когда-нибудь, но теперь не помню. Я не помню дня, в который не чувствовала бы голода и холода. Постойте. Мне кажется, я была счастлива однажды. С тех пор прошло много времени, мне было очень трудно, но я выучилась играть арию на скрипке. Старик и его жена учили меня по очереди. Кто-то меня отдал старику и его жене, не знаю кто, и я не помню их имен. Они были музыканты и пели на улицах богачей гимны, а на улицах бедняков юмористические песни. Разумеется, было холодно стоять босиком на мостовой, но мне доставалось много пенсов. Люди говорили, что стыдно таскать такую маленькую девочку по улицам, и давали мне пенни. Я ужинала хлебом и яблоками и спала в славном углу под лестницей. Знаете, мне, кажется, было очень весело в то время.
Амелиус попробовал навести Салли на другие воспоминания. Он спросил, сколько ей было тогда лет.
– Не знаю, – ответила она, – я не знаю, сколько мне теперь лет. Я ничего не помню до скрипки. Не помню, через какое время со стариком и его женой случилась беда. Их посадили в острог, и я не видала их с того времени. Я убежала со скрипкой, чтобы заработать себе что-нибудь. Мне кажется, я заработала бы много денег, если бы не уличные мальчишки. Они такие злые, эти мальчишки. Они сломали мою скрипку. Я пробовала продавать карандаши, но никто их не покупал. Я стала просить милостыню. Меня поймали и привели к… как называется господин, который сидит на высоком месте за пюпитром? Господи, как я испугалась, когда меня привели к этому господину! Он, казалось, был в большом затруднении. Подведите ее поближе, сказал он, она так мала, что я ее едва могу видеть. Господи, прибавил он, что же мне делать с этим несчастным ребенком? Много было народу в доме. Кто-то сказал: ее должны принять в рабочий дом. Потом пришла дама. Я возьму ее, говорит, если вы мне ее отдадите. Он знал ее и позволил меня взять. Она отвела меня в место, которое называют приютом для бездомных детей. В приюте было очень строго. Нас кормили, конечно, хорошо, и учили нас. Нам рассказывали о нашем Отце на небесах. Я сказала, что не хочу, чтобы он был на небе, хочу, чтобы он сюда сошел. Всем им было очень стыдно за меня, когда я это сказала. Я была дурная девочка, я сделалась неблагодарной. Через некоторое время я убежала. Видите ли, там было очень строго, а я привыкла к улицам. Я встретила шотландца на улице. Он играл на свирели. Он научил меня плясать и одел меня шотландкой. У него была странная жена, получерная женщина. Она плясала также на ковре, чтобы не испортить прекрасные башмаки. Меня научили петь песни: сначала одну шотландскую песню. Раз его жена сказала, что она англичанка (не знаю, как получерная женщина могла быть ей), и я должна была выучить английскую песню. Они поссорились из-за этого. Она настояла на своем и научила меня петь «Салли в нашей аллее». Вот почему меня и прозвали Салли. У меня никогда не было своего имени, а только прозвища. Последним было Салли, и оно-то у меня осталось. Надеюсь, что оно вам нравится! О, какой красивый дом. Неужели мы в него войдем? Меня впустят? Какая я глупая! Я забыла о своем хорошеньком платье. Вы не скажете ничего, если меня примут за леди?
Карета остановилась у крыльца знаменитого доктора, приемная была полна больных. Одни пробовали читать книги и газеты, разложенные на 5 столах, другие смотрели друг на друга без всякого сочувствия, даже с каким-то недоверием и недоброжелательством.
Прошло два часа, прежде чем слуга позвал Амелиуса в кабинет доктора. Салли заснула на стуле от усталости. Он оставил ее в приемной, так как ему надо было расспросить доктора об отсталом развитии ее ума, что нельзя было сделать в ее, присутствии.
Доктор с необыкновенным интересом выслушал рассказ о событиях предыдущей ночи.
– Вы совсем не похожи на других молодых людей, – сказал он, – могу я спросить, где вы воспитывались? – Ответ удивил его. – Это показывает социализм в новом свете, – сказал он. – Ваше поведение казалось мне очень неблагоразумным сначала, но теперь, я вижу, что оно результат вашего учения. Посмотрим, чем я могу помочь вам.
Он был очень серьезен и молчалив, когда ему представили Салли. Его мнение об ушибе на ее груди успокоило Амелиуса: некоторое время ей, может быть, будет больно, но других последствий опасаться нечего. Написав рецепт и задав несколько вопросов Салли, он ласково отправил ее в приемную. – У меня есть маленькие дочери, – сказал он, когда дверь затворилась, – и я не могу не жалеть несчастное создание, когда сравниваю ее жизнь с их жизнью. Насколько я могу видеть, развитие ее чувств – высших и низших было задержано, как и рост, голодом, страхом, постоянным холодом, другими влияниями, связанными с жизнью, которую она вела. При здоровой пище, чистом воздухе и ласковом, заботливом обращении я уверен, что она станет умной и здоровой женщиной. Извините меня, если я позволю себе дать вам совет. Вы хорошо сделаете, если поместите ее куда-нибудь. Вы очень молоды и можете со временем раскаяться, что слишком доверились своим хорошим намерениям. Приезжайте ко мне опять, если я могу быть вам полезен. Нет, – продолжал он, отказываясь взять деньги за визит, – я даром дал совет бедной девушке. – Он пожал руку Амелиусу. Этот врач делал честь благородному сословию, к которому принадлежал.
Прощальный совет доктора, следовавший за оригинальным предложением Руфуса, подействовал на Амелиуса. Он был очень задумчив и молчалив, когда опять сел в карету.
Салли посмотрела на него со смутным страхом. Сердце ее сильно билось от опасения, что она опять сделала или сказала что-нибудь, оскорбившее его.
– Я дурно сделала, что заснула на стуле? – спросила она. Успокоенная на этот счет, она все-таки хотела узнать причину его задумчивости. После долгого колебания и продолжительного раздумья она решила задать другой вопрос.
– Господин выслал меня из комнаты, он сказал вам что-нибудь против меня?
– Господин не сказал ничего дурного о тебе, – ответил Амелиус, – и подал мне надежду, что ты можешь быть счастлива впоследствии.
Она ничего на это не сказала, неопределенные уверения были ей непонятны, она смотрела на Амелиуса с собачьей привязанностью. Вдруг она упала на колени в карете, закрыла лицо руками и тихо заплакала. Удивленный и огорченный Амелиус хотел ее поднять и утешить.
– Нет, – сказала она упрямо, – я чем-то рассердила вас, а вы не хотите мне сказать. Пожалуйста, скажите, что случилось!
– Мое милое дитя, – сказал Амелиус, – я только беспокоился о твоей будущности.
Она быстро взглянула на него.
– Как! Вы уже забыли! – воскликнула она. – Я буду вашей служанкой. – Она вытерла глаза и веселая села подле него. – Вы испугали меня, – сказала она, – и совершенно напрасно. Вы не хотели этого сделать?
Человек старше его решился бы, может быть, разубедить ее, но Амелиус не в состоянии был этого сделать. Он попробовал опять заставить ее рассказать печальную, но такую обыкновенную и ужасную, лишенную всякой поэзии и чувства, историю ее прошлой жизни.
– Нет, – ответила она, инстинктивно поняв производимое ею впечатление. – Я не хочу вас огорчать, а вы были огорчены, когда я рассказывала о ней. Это была вечная жизнь на улицах с большими и маленькими девочками, постоянный голод и холод, и к тому же дурное обращение! Я хочу быть счастливой! Я хочу наслаждаться своим новым платьем. Расскажите мне про себя, почему вы так добры? Я не могу этого понять, несмотря на все свои старания.
Они нескоро вернулись в гостиницу. Амелиус велел ехать в Сити, чтобы сделать необходимые распоряжения в банке.
Возвратясь наконец в гостиницу, он застал своего друга в обществе седой дамы, с оживленным, добродушным лицом, серьезно разговаривавшей с ним. Как только Салли увидела незнакомое лицо, она убежала в спальню и заперлась там. Амелиус, после некоторого колебания вошедший в комнату, был представлен мистрис Пейзон.
– Когда я прочла письмо моего друга, – сказала дама, улыбаясь и показывая на Руфуса, – я решила, что лучше всего самой ответить на него. Я еще не слишком стара, чтобы действовать под влиянием минуты, и очень рада, что так поступила. Я услышала историю, очень меня заинтересовавшую. Мистер Гольденхарт, я уважаю вас и докажу вам это, помогая всем сердцем спасти бедную девочку, которая от меня убежала. Пожалуйста, не извиняйтесь, я убежала бы тоже в ее лета. Мы условились, – продолжала она, взглянув опять на Руфуса, – что я повезу вас обоих в приют сегодня. Если мы сумеем уговорить Салли поехать с нами, то преодолеем одно из главных затруднений. Скажите мне номер ее комнаты. Я хочу попробовать подружиться с ней. Я привыкла к таким бедняжкам и не отчаиваюсь, даже надеюсь, что она придет сюда под руку с ужасной, напугавшей ее дамой.
Двое мужчин остались одни. Амелиус хотел заговорить.
– Молчите, – сказал Руфус, – не высказывайте никакого мнения. Подождите, пока она уговорит Салли и покажет нам рай бедных девушек. Он в Лондонском округе, вот все, что я об нем знаю. Были вы у доктора?
– Господи, что случилось с юношей? Он, кажется, оставил цвет лица в карете. Ему самому, по-видимому, нужна медицинская помощь!
Амелиус объяснил, что не спал ночью, а днем не было времени отдохнуть.
– С утра столько случилось событий, что у меня голова кружится от усталости, – сказал он. Не говоря ни слова, Руфус приготовил лекарство. Все необходимое было на столе, он предложил ему подкрепиться водкой.
– Хотите еще? – сказал американец спустя некоторое время.
Амелиус отказался, он растянулся на диване, а его друг взял газету, чтобы не мешать ему. В первый раз в этот день мог он наконец отдохнуть и подумать. Не прошло и минуты, как он должен был отказаться от отдыха. Он вспомнил о Регине.
– Боже мой! – воскликнул он. – Она ждет меня, а я совсем забыл об этом.
Он посмотрел на часы: было уже пять. – И что мне делать? – спросил он беспомощно.
Руфус отложил газету и, внимательно подумав, посоветовал.
– Мы должны ехать с мистрис Пейзон в приют, – сказал он, – и, вот что я вам скажу, Амелиус, с Салли нельзя шутить: надо скорее ее устроить. На вашем месте я вежливо написал бы мисс Регине и отложил свидание до завтра.
Обыкновенно всякий человек, следовавший совету Руфуса, поступал вполне благоразумно, но произошли события (неизвестные ни Руфусу, ни его другу), благодаря которым совет американца был самым дурным советом, какой только возможно было дать в этом случае. Через два часа Жервей и мистрис Соулер должны были встретиться у дверей трактира.
Единственная возможность защитить мистрис Фарнеби от ужасной интриги, жертвой которой она стала, заключалось в исполнении обещания, данного Амелиусом Регине. Мистрис Фарнеби, всегда по возможности мешавшая им, воспользовалась бы удобным случаем, чтобы поговорить с молодым социалистом о лекции. В продолжение разговора мысль, которая еще не приходила Амелиусу, мысль, что несчастная девушка могла оказаться пропавшей дочерью, возможно пришла бы ему на ум, и заговор был бы разрушен в момент исполнения. Если же он поступит по совету американца, следующая почта принесет мистрис Фарнеби письмо от Жервея с ложными вестями, Амелиус забудет о своих предположениях, когда она скажет ему, что пропавшая дочь найдена, и найдена другим лицом.
Руфус показал на письменные принадлежности, лежавшие на боковом столике. К несчастью, предлог к извинению легко было найти. Недоразумение с хозяйкой принудило Амелиуса выехать в течение часа из квартиры, и он должен был отыскивать себе новое жилье. Записка была написана. Руфус, сидевший ближе к звонку, протянул было руку, чтобы позвонить. Амелиус вдруг остановил его.
– Она будет недовольна, – сказал он. – Я не останусь там долго, через полчаса могу вернуться.
Совесть его была не совсем спокойна. Мысль, что он забыл Регину, как бы это ни было извинительно, мучила его. Руфус не возражал, колебание Амелиуса делало ему есть.
– Если вы должны ехать, друг мой, – сказал он, – поезжайте скорее – мы подождем вас.
Амелиус взял шляпу. Дверь отворилась, когда он подошел к ней, и мистрис Пейзон вошла в комнату, ведя Салли за руку.
– Мы все поедем вместе посмотреть на мое большое семейство в приюте, – сказала добрая старушка. – Мы можем поговорить в карете. До приюта час езды, а я должна быть дома к обеду.
Амелиус и Руфус переглянулись. Амелиус хотел извиниться, но было слишком неловко. Он не успел еще прийти ни к какому решению, когда Салли подкралась к нему и взяла его под руку. Мистрис Пейзон сделала чудеса – она в некоторой степени победила недоверие девочки к незнакомым лицам, но никакое земное влияние не могло уничтожить ее собачьей привязанности к Амелиусу. Его молчание показалось ей подозрительным.
– Вы должны ехать с нами, – сказала она, – я не поеду без вас.
– Конечно, нет, – заметила мистрис Пейзон, – я, разумеется, обещала ей это заранее.
Руфус позвонил и отправил письмо к Регине. – Ничего не осталось делать, друг мой, – шепнул он Амелиусу, когда они шли за мистрис Пейзон и Салли по лестнице. Они только что подъехали к воротам приюта, когда Жервей и его сообщница сошлись в трактире и в отдельной комнате приступили к совещанию о своем деле. Несмотря на свой несчастный вид, мистрис Соулер не была в совершенной нищете. Разными неблаговидными делами ей удавалось время от времени доставать несколько шиллингов. Она умирала с голоду по очень обыкновенной причине (между людьми ее класса), а именно потому, что тратила деньги на водку. Сообщив ей о деле с обычной своей хитростью, Жервей очень удивился, когда жалкая старуха стала с ним торговаться. Два негодяя были очень близки к ссоре, которая, наверное, замедлила бы исполнение заговора против мистрис Фарнеби, если бы не подлое самообладание Жервея, делавшее его одним из самых ужасных злодеев на свете. Он сделал уступку в дележе денег, и мистрис Соулер отдалась в его распоряжение.
– Встретьте меня завтра, в десять часов около порохового магазина в Гайд-Парке, для получения от меня необходимых инструкций и смотрите оденьтесь приличнее. Вы знаете, где взять напрокат вещи. Если завтра от вас будет пахнуть водкой, я возьму кого-нибудь другого. Нет, теперь я не дам ни копейки. Завтра в десять часов вы получите деньги.
Оставшись один, Жервей потребовал чернил, перо и бумагу. Он написал левой рукой, которой владел так же свободно, как и правой, следующие строки.
«Неизвестный друг извещает вас, что некая молодая особа находится теперь за границей и, может быть, возвращена горько оплакивающей ее матери, если она вышлет сумму, достаточную для расходов, и наградит пишущего эти строки, который (незаслуженно) находится в бедственном положении.
Не вы ли мать, сударыня? Я предлагаю вам этот вопрос, так как знаю, что ваш муж отдал маленького ребенка на воспитание одной женщине.
Я не обращаюсь к вашему мужу, потому что его бесчеловечный поступок с бедным ребенком не позволяет мне довериться ему. Я решаюсь довериться вам. Не помочь ли мне вам узнать ребенка? Слишком было бы глупо говорить откровенно в настоящую минуту. Я сделаю только неясный намек. Позвольте мне употребить поэтическое выражение и сказать, что молодая особа покрыта тайной с головы до ног. Если я обращаюсь к настоящему лицу, то позволю себе назначить место свидания.
Отправьтесь завтра на мост, ведущий через реку около Кенсингтонского сада, держа белый платок в руке. Вы встретите обманутую женщину, которой отдали несчастного ребенка в Рамсгэте, и убедитесь, что доверяетесь людям, действительно достойным вашего доверия».
Жервей вложил это возмутительное письмо в конверт и адресовал его мистрис Фарнеби. Он собственноручно опустил его в почтовый ящик в этот же вечер.
Глава XXV
– Руфус! Мне не нравится, как вы смотрите на меня, вы как будто думаете…
– Говорите не стесняясь. Что я думаю?
– Вы думаете, что я забыл Регину. Вы не верите, что я люблю ее по-прежнему. Дело в том, что вы старый холостяк.
– Это так, но что же в том худого?
– Вы не понимаете…
– Вы ошибаетесь, мой милый юноша. Я понимаю более, чем вы можете себе представить. Самое умное и рассудительное дело совершили вы сегодня вечером, отдав Салли на попечение этих леди в приюте.
– Прощайте, Руфус. Мы поссоримся, если я останусь здесь долее.
– Прощайте, Амелиус. Мы не поссоримся, сколько бы вы здесь ни оставались.
Доброе дело было сделано, жертва, тяжелая жертва была принесена. Мистрис Пейзон по своим зрелым летам могла говорить Амелиусу прямо, серьезно и настоятельно о необходимости его разлуки с Салли без малейшего затруднения.
– Вы видели сами, – сказала она, – что действия этого маленького учреждения зиждутся на неизменном терпении и снисходительности. Что касается Салли, вы можете быть уверены, что она никогда не услышит жесткого слова, не встретит сурового взора, пока она находится на нашем попечении. Ужасное небрежение, от которого так страдала девочка, будет заглажено и заменено нежностью. Если она не будет счастлива между нами, пускай она оставит приют, если пожелает этого, через шесть недель. Сами же вы должны обратить внимание на свое положение, что выйдет из того, если вы возьмете ее к себе. Ваш друг Руфус говорил мне, что вы скоро женитесь. Подумайте, как могут перетолковать ваши поступки, какие сплетни могут рано или поздно дойти до слуха молодой леди, вашей невесты, и какие гибельные могут быть от того последствия. Вспомните, кто научил нас молиться от избавления от искушения, и довершите начатое вами доброе дело, оставив Салли среди друзей и сестер этого приюта.
Что мог ответить на это порядочный человек? После всего сказанного Руфусом и доктором, Амелиусу ничего более не оставалось, как уступить. Он просил, чтоб ему позволили писать Салли и видеться с ней впоследствии, когда она свыкнется со своей новой жизнью. Мистрис Пейзон согласилась на обе просьбы. Руфус искренно поздравил его с таким решением, как дверь вдруг быстро распахнулась и простенькая Салли кинулась в комнату, сопровождаемая прислужницей, в высшей степени изумленной.
– Она показала мне спальню, – с негодованием вскричала Салли, указывая на женщину, – и спросила меня, нравится ли мне спать тут. – Она повернулась к Амелиусу, взяла его за руку и потащила вон. Непреодолимое чувство недоверия овладело ей при виде этой усердной прислужницы. – Я не останусь здесь, – сказала она. – Я уйду с вами.
Амелиус взглянул на мистрис Пейзон. Салли тащила его к двери. Он всячески старался успокоить ее, улыбался, ласково увещевал ее. Но его честное, благородное лицо, всегда говорившее правду, и теперь сказало ей истину. Бедное создание, со своим слабым разумом не способное рассуждать, но способное чувствовать, посмотрело на него и прочло на лице его свой приговор. Она выпустила его руку, поникла головой и без слез, безмолвно упала к ногам его.
Прислужница тотчас же подняла ее и усадила на софу. Мистрис Пейзон видела, как Амелиус мужественно боролся с собой, и почувствовала к нему уважение. Отвернувшись на минуту, она написала несколько строк и возвратилась к нему.
– Уезжайте прежде, чем она придет в чувство, – прошептала она, – и отдайте эту записку извозчику. Вы не беспокойтесь о ней, – говорила добрая женщина. – Я останусь с ней на ночь и употреблю все усилия, чтобы примирить ее с новой жизнью.
Она протянула руку. Амелиус молча поцеловал ее. Руфус вывел его вон. Ни одно слово не слетело с уст его за всю дорогу до Лондона.
Душа его была взволнована разными мыслями, кроме мысли о Салли. Он думал о своем будущем, омраченном сомнительным брачным сговором. Оставшись наедине с Руфусом к концу вечера, он не понял, истолковал в дурную сторону симпатию, с которой относился к нему добрый американец. Их спальни были близко одна к другой. Руфус слышал, как он беспокойно ходил взад и вперед и время от времени разговаривал сам с собой. Несколько минут спустя все стихло. Он, очевидно, устал и лег отдохнуть, что было для него весьма необходимо.
На следующее утро он получил от мистрис Пейзон несколько строк, извещавших его о здоровье Салли и обещавших через день или два снова уведомить о ней.
Успокоенный добрыми вестями и подкрепившись долгим сном, Амелиус около полудня отправился со своим обычным визитом к Регине. Он был уверен, что в этот ранний час никто не помешает их свиданию. Она приняла его спокойно и серьезно и пожала руку его нежнее обыкновенного. Он ожидал жалоб на то, что не был накануне, и выговоров за свое публичное появление на кафедре в качестве социалиста. Из снисхождения ли, или вследствие озабоченности каким-либо другим более важным обстоятельством, только Регина не касалась ни того, ни другого предмета.
– Мне очень отрадно видеть вас, Амелиус, – сказала она, – меня так тревожит положение дяди, и я утомилась от своих собственных мыслей. Что-то случилось неприятное в его делах. Он ходит в Сити раньше и возвращается оттуда позднее обыкновенного. Когда он приходит домой, то не говорит со мной, а запирается в своей комнате. У него был такой измученный и суровый вид, когда я подавала ему утром завтрак. Вы знаете, что он директор одного из новых банков? Вчера было что-то в газетах о банке, что его страшно расстроило. Как только он прочел эти строки, оставил свой кофе и ушел в банк, не позавтракав. Мне не следовало бы тревожить вас этим, Амелиус, но тетка моя не принимает никакого участия в делах мужа и мне будет легче, если я поговорю с вами о моем беспокойстве. Я спрятала газету, посмотрите, что пишут там о банке, и расскажите мне, если поймете, в чем дело.
Амелиус прочел указанный ему параграф. Он так же мало смыслил в банковских делах, как и Регина.
– Насколько я понимаю, – сказал он, – здесь речь идет о деньгах, не правильно выданных акционерам. Как это случилось, не понимаю.
Регина, совсем не удовлетворенная, переменила предмет разговора. Она спросила Амелиуса, нашел ли он жилье, услышав, что все его поиски оставались пока безуспешными, она открыла свой рабочий стол и вынула оттуда карточку.
– Брат одной из моих школьных подруг женится, – сказала она, – у него прелестный небольшой коттедж поблизости Регент-Парка, и он хочет продать его со всей обстановкой. Не знаю, захотите ли вы приобрести свой собственный дом. Сестра его просила меня раздавать эти карточки с адресом и подробностями. Вы, может быть, по дороге зайдете посмотреть коттедж.
Амелиус взял карточку. Женственная сдержанность и скромность Регины, ее спокойный голос, грация ее движений производили очень приятное впечатление на его душу после тревог и беспокойств последних суток. Он смотрел, как она ловко работала, склонившись над вышиванием, и поближе пододвинул к ней стул. Она улыбнулась, сознавая, что он любуется ею, и с удовольствием принимала это.
– Я охотно купил бы коттедж, – сказал Амелиус, – если б знал, что вы будете жить в нем со мною.
Она серьезно взглянула на него, держа иглу в руке.
– Не будем возвращаться к этому вопросу, – отвечала она и снова принялась за свое вышивание.
– Почему же так? – спросил Амелиус.
Она продолжала работать очень усердно, точно бедная швея, которая спешит заработать кусок хлеба.
– Бесполезно говорить о том, что может случиться лишь спустя долгое время.
Амелиус помешал ее вышиванию, взяв ее за руку. Такое усердие к работе раздражало его.
– Посмотрите на меня, Регина, – сказал он, старательно сдерживая себя. – Я хочу предложить вам сделать обоюдные уступки, я не желаю очень торопить вас, я подожду, но срок должен быть умеренный. Деньги тяжело достаются, моя дорогая, если судить о том по вашему дяде, сколько он выстрадал, пока достиг богатства. Не может ли это служить для нас предостережением вместо того, чтобы служить примером! Неужели вы предпочитаете видеть меня несчастным, и все из-за внешнего блеска. Полно! Полно! Подумаем лучше о себе. Зачем будем мы лучшие дни нашей жизни проводить врозь, когда мы оба свободны и можем быть счастливы вместе. У меня есть еще друг, кроме Руфуса, хороший друг моего отца. Он в прекрасных отношениях со многими высокопоставленными людьми и поможет мне найти должность. Месяцев через шесть у меня прибавится жалованье к моему доходу. Одно милое слово, моя дорогая, скажите, что вы согласны выйти за меня через шесть месяцев.
Неспособна женская натура оставаться нечувствительной к таким мольбам. Она растаяла.
– Желала бы сказать да, мой милый! – отвечала она со вздохом.
– Так скажите! – нежно настаивал Амелиус.
Она снова искала убежища в своей работе.
– Если вы мне дадите время, – промолвила она, – я, может быть, и скажу да.
– Время на что, моя возлюбленная?
– Чтоб переждать, пока мой дядя не будет так тревожиться, как теперь.
– Не говорите о вашем дяде, Регина. Вы так же хорошо, как и я, знаете, что он скажет. Боже милостивый! Почему не можете вы решиться сами? Я ничего не хочу больше слышать о том, чем вы обязаны мистеру Фарнеби, я уже достаточно наслушался об этом в наше последнее свидание. Дорогая моя, пожалейте меня! Имейте хоть один раз свою волю!
Последние слова были оскорблением ее достоинства.
– Мне кажется, слишком жестоко с вашей стороны говорить, что у меня нет своей воли, – отвечала она, – и так же жестоко настоятельно требовать от меня ответа, когда я расстроена.
Явился на сцену неизбежный носовой платок и усилил протест, а слезы очень трогательно показались в прелестных глазах девушки.
Амелиус встал с места и отошел к окну. Последняя ссылка на тревоги мистера Фарнеби истощила его терпение. Она не может забыть своего дядю и его банк, даже когда я говорю ей о нашем браке, – подумал он.
Он изменился в лице при этой мысли. Мгновенно возник в его воображении образ Простушки Салли. Непреодолимая сила заставила его думать о ней, не как о бедной, умирающей с голоду, опозоренной уличной бродяжке, но как о признательной девушке, считавшей за счастье быть его служанкой, упавшей в обморок при одной мысли о разлуке с ним. Сознание собственного достоинства, верность к обрученной невесте восстали в нем против заключения, к которому привели его эти мысли. Он снова вернулся к Регине и заговорил так громко и горячо, что слезы ее замерли от удивления.
– Вы правы, моя дорогая, вы правы, я должен дать вам время. Я постараюсь сдержать свой нетерпеливый характер, но, конечно, сначала это будет плохо удаваться мне. Простите, пожалуйста. Я сделаю все, что вы желаете.
Регина, удивленная горячностью его извинений, любезно и ласково простила его. Она оставила свое вышивание и подставила ему лицо свое для поцелуя.
– Вы такой милый, когда не горячитесь и бываете благоразумнее. Очень жаль, что вы воспитывались в Америке. Не останетесь ли вы позавтракать?
К счастью для Амелиуса, в эту минуту вошел в комнату слуга и доложил ему:
– Моя госпожа желает видеть вас у себя, прежде чем вы уйдете отсюда.
Это был первый случай, когда мистрис Фарнеби изъявила свое желание через слугу и не появилась сама между влюбленными. Любопытство Регины было несколько возбуждено.
– Странное желание, – сказала, она. – Что бы это значило? Моя тетка выходила сегодня со двора ранее обыкновенного, и я с тех пор не видала ее. Разве она хочет посоветоваться с нами о делах моего дяди?
– Пойду и узнаю, – отвечал Амелиус.
– И останетесь здесь завтракать? – повторила Регина.
– Только не сегодня, моя дорогая.
– Так завтра?
– Да завтра.
С этими словами он ушел. Отворив дверь, он оглянулся и послал ей воздушный поцелуй. Регина подняла голову и прелестно улыбнулась. После этого она снова усердно принялась за вышивание.
Глава XXVI
Дверь в комнату мистрис Фарнеби, находившуюся в нижнем этаже задней части дома, была настежь отворена. Она поджидала Амелиуса.
– Войдите! – закричала она, как только Амелиус появился в сенях. Она втащила его в комнату и захлопнула за ним дверь. Ее лицо горело, глаза дико сверкали.
– Мне нужно кое-что сообщить вам, добрый юноша, – начала она, – сообщить по секрету, чтоб это осталось между мной и вами. – Она вдруг остановилась и взглянула на него со страхом и тревогой. – Что с вами? – спросила она.
Вид комнаты, заявление о секрете, ожидание вторичной интимной беседы подняли в душе Амелиуса воспоминание о первом достопамятном его свидании с мистрис Фарнеби. Жалостные, полные надежды слова матери в разговоре ее о потерянной дочери, казалось, слышались ему в настоящую минуту. «Она, может быть, затерялась в лабиринте Лондона. Вы можете встретить ее завтра или через десять лет. Из тысячи случайностей, может быть, сто счастливых». В его мозгу мелькнула внезапно возможность этой встречи, точно луч света среди мрака, «Не встречал ли я ее?»
– Не обманывайте себя тщетными надеждами! – сказал он горячо. – Обещайте мне это, прежде чем я буду говорить.
Она отрицательно махнула рукой.
– Надежды! – повторила она. – Я покончила с надеждами, покончила с беспокойствами, я получила, наконец, известие.
Он был слишком взволнован, чтоб внимать ее словам, все мысли его были поглощены предстоящим открытием. «Две ночи тому назад, – заговорил он, – я бродил по Лондону и встретил…»
Она расхохоталась.
– Продолжайте! – воскликнула она с насмешливой веселостью.
Амелиус остановился испуганный и встревоженный.
– Чему вы смеетесь? – спросил он.
– Продолжайте! – повторила она. – Попытайтесь удивить меня. Кончайте, кого вы встретили?
Амелиус продолжал, подозрительно наблюдая за ней:
– Я встретил на улице бедную девушку…
Она вдруг изменилась при этих словах и посмотрела на него с суровым укором.
– Довольно! – прервала она его. – В продолжении стольких ужасных лет я не ожидала такого жалкого конца. – Ее лицо вдруг просияло, на нем появились нежность и торжество и сделали ее опять молодой и счастливой. – Амелиус, – продолжала она, – послушайте, что я скажу вам. Сон мой осуществился, моя девочка жива! Она найдена благодаря вам!
Амелиус с тревогой взглянул на нее. Говорила она о том, что действительно случилось, или снова бредила?
Поглощенная своим блаженством, она не обращала внимания на его молчание.
– Я видела женщину, – сказала она, – в это прекрасное, благословенное утро видела я женщину, которой была отдана моя малютка. Негодяйка клялась, что она не виновата. Я старалась простить ее, почти простила ее от радости, которую она пробудила во мне всем рассказанным ей. Я никогда не услышала бы этого, если б вы не читали вашей превосходной лекции. Женщина была в числе ваших слушательниц, она никогда не заговорила бы об этих прошлых днях, никогда не подумала бы обо мне…
При этих словах мистрис Фарнеби вдруг остановилась и отвернулась от Амелиуса. Подождав несколько минут и видя ее все безмолвной и неподвижной, он решился спросить:
– А вас не обманывают? Вы, как помнится, сообщали мне, что вас надували не раз во время розысков.
– Я имею доказательства того, что меня не обманывают, – отвечала мистрис Фарнеби, все еще не оборачивая к нему своего лица. – Один из них указывает мне на недостаток, существующий на ее ноге.
– Один из них? – повторил Амелиус. – Сколько же их?
– Двое. Старая женщина и молодой человек.
– Как их зовут?
– Они еще не сказали мне своих имен.
– А разве это не подозрительно?
– Один из них знает о недостатке на ее ноге, – повторила мистрис Фарнеби.
– Могу я спросить, который из двоих? Старая женщина, как я полагаю?
– Нет, молодой человек.
– Это странно! Видели вы этого молодого человека?
– Нет, я знаю о нем только то, что говорила мне старая женщина. Он писал мне.
– Могу я посмотреть письмо?
– Нет, я не смею его показывать.
Амелиус не задавал больше вопросов. Если б он мог предполагать, что разговор мистрис Фарнеби, когда она поверяла ему свою тайну, был подслушан кем-нибудь через кухонное окно, то он, может быть, вспомнил бы мстительные речи Фебы, заподозрил бы ее и ее любовника. Единственное и весьма естественное заключение вывел он, по несчастью, из всего этого, а именно, что для мистрис Фарнеби Простушка Салли не представляет никакого интереса и что ему не предстоит больше никаких забот по этому делу. Как ни казалось странно таинственное открытие, то обстоятельство, что незнакомец знал физический недостаток ребенка, говорило в его пользу. Амелиус только внутренне удивлялся, каким образом женщина, которой был поручен ребенок, узнала обо всем от другого человека. Если б он знал, что мистрис Соулер «во время оно» брала детей на воспитание и что у нее их было много на руках, то он понял бы, что ей и в голову не приходило внимательно осмотреть хоть одно из несчастных созданий, вверенных ее попечениям. Жервей, прежде чем дал ей свои инструкции, убедился, что она не имеет ни малейшего понятия об уродстве той или другой ее ноги.
Приняв последний ответ мистрис Фарнеби за намек на то, что разговор окончен, Амелиус встал и взялся на шляпу.
– От всего сердца надеюсь и желаю, чтоб такое хорошее начало имело такой же хороший конец, – сказал он. – Если при этом я могу быть на что-нибудь полезен…
При этих словах она приблизилась к нему и ласково положила ему руку на плечо.
– Не подумайте, что я не доверяю вам, – заговорила она серьезно, – я против воли оскорбляю вас. Эта великая радость имеет также свою темную сторону. Моя несчастная замужняя жизнь бросает свою тень на все, что до меня касается. Сохраните от всех в тайне то, что я вам сказала, вы погубите меня, если скажете о том кому-нибудь хоть слово. Я не должна была бы открывать вам свою душу, но как могла я это сделать, когда счастье пришло ко мне через вас? Когда вы сегодня проститесь со мной, Амелиус, то проститесь в последний раз в этом доме. Я ухожу отсюда. Не спрашивайте меня зачем, это относится к числу тех вещей, которых я не должна сообщать вам. Вы услышите обо мне или увидите меня, я вам обещаю это. Дайте мне надежный адрес, укажите место, где бы не было любопытной женщины, которая могла бы прочесть мое письмо в ваше отсутствие.
Она подала ему свою записную книжку. Амелиус записал в ней адрес своего клуба.
– Думайте обо мне дружески, – сказала она, взяв его за руку. – И не бойтесь, что я буду опять обманута. Я уже научена, и буду настороже. Старая женщина сегодня утром всячески старалась выпытать у меня, какой именно недостаток в ноге моей дочери. Но я думала про себя: «Если б ты более заботилась о моей бедной малютке, то рано ли, поздно ли сама узнала бы о нем». Ни слова не сорвалось с уст моих. Не беспокойтесь, когда будете думать обо мне. Я так же хитра, как и они. Я дожидаюсь, пока писавший мне мужчина откроет мне, что именно он знает. Я уверена, что мне все станет ясным уже в первый раз, как я увижу его или услышу о нем. Все это должно остаться между нами, не говорите ничего. Я знаю, что могу довериться вам. Прощайте и простите мне, что я так часто становилась между вами и Региной. Вперед этого не будет. Женитесь на ней, если вы думаете, что она сделает вас счастливым. Мне нет больше никакой надобности в том, чтоб вы оставались странствующим холостяком для отыскания моей девочки. Вы знаете, что она найдена. О, как я счастлива!
Она залилась слезами и движением руки просила Амелиуса оставить ее. Он молча пожал ей руку и вышел.
Едва успела дверь затвориться за ним, как странная женщина снова изменилась. Она стала быстро ходить по комнате взад и вперед. Слезы иссякли, губы были плотно сжаты, во взоре светилась дикая решимость. Она села за конторку и выдвинула ящик. «Прочту еще раз, – сказала она про себя, – прежде чем запечатаю».
Она вынула из ящика письмо, написанное ее собственной рукой и, развернула его. Облокотившись на стол и запустив руки в волосы, она перечитала следующие строки.
«Джон Фарнеби, я всегда подозревала, что вы были виновником исчезновения моего ребенка. Теперь я наверное знаю, что вы бросили нашу дочь на произвол судьбы и обрекли вашу жену на несчастное существование.
Я имею доказательства этому. Я говорила с женщиной, которая ожидала в Рамсгэте за изгородью сада, пока вы украли ребенка и отдали его ей на руки. Она видела нас с вами на лекции и вполне уверена, что узнала вас.
Благодаря этой встрече я напала на след моей бедной утраченной дочери. Сегодня утром я слышала от женщины всю историю. Она держала у себя ребенка, ожидая, что его потребуют, держала, пока могла. Она встретила женщину, которая пожелала усыновить малютку, взяла ее и увезла в чужие края. Там и теперь живет она и будет возвращена мне на условиях, которые я узнаю через несколько дней.
Эта история может быть частью справедлива, частью ложна, немудрено, что женщина лжет из-за своих собственных интересов.
Когда вы вернетесь домой из своей конторы, вы не найдете меня больше, я покидаю вас, и покидаю навсегда. Даже мысль увидеть вас когда-нибудь приводит меня в ужас. Я имею свои средства и пойду своей дорогой. Берегитесь отыскивать меня. Торжественно объявляю вам, что прежде, чем допущу вас осквернить вашим взором мою бедную дочь, я убью вас своими собственными руками и пойду на эшафот. Коли она когда-либо спросит меня об отце, я окажу вам услугу и из уважения к человеческой природе скажу ей, что отец ее умер. Это будет не совсем ложно. Я отрекаюсь от вас и вашего имени, с этого времени вы для меня умерли.
Подписываюсь именем моего отца Эмма Рональд».Подумав немного, она запечатала и отложила письмо. Потом отперла деревянный шкаф, в котором хранилось детское платьице и чепчик и другие воспоминания прошлого, которые она называла «утраченными утешениями». Опорожнив ящики, она написала на карточке «Отдать посланному от моего банкира», и прилепила карточку к углу жестяного ящика, который заперла на замок. Она поставила ящик на шкаф так, чтобы его всякому было видно при входе. Позаботившись, таким образом, о своих сокровищах, она взяла запечатанное письмо, спустилась по лестнице и положила его на стол в уборной своего супруга. Она поспешно вышла оттуда, точно вид этого места был ей невыносим.
Пройдя на другой конец коридора, она вошла в свою спальню и взяла плащ и шляпку. На постели лежал кожаный мешок. Она взяла его и с отвращением окинула взором большую, роскошную комнату. Что она выстрадала в этих четырех стенах, никто не знал, кроме ее самой. Она так же поспешно оставила эту комнату, как и мужнину уборную.
Регина была в гостиной. Подойдя к этой двери, она остановилась в нерешительности. Девушка была к ней добра, к тому же это была дочь ее сестры. Она так быстро отворила дверь, что Регина вздрогнула и слегка вскрикнула.
– Ах, тетя, как вы испугали меня! Вы идете на прогулку?
– Да, я ухожу, – был короткий ответ. – Подойди сюда, поцелуй меня.
Регина с удивлением взглянула на нее. Мистрис Фарнеби с нетерпением топнула ногой. Регина встала и любезно приблизилась к ней.
– Милая тетя, как это странно! – воскликнула она и поцеловала ее, с удивлением подняв кверху брови.
– Да, – отвечала мистрис Фарнеби, – это одна из моих странностей. Занимайся своей работой. Прощай.
Она оставила комнату так же быстро, как и вошла. Своим обычным твердым шагом спустилась она в сени, вышла из дверей и затворила их, чтобы никогда больше сюда не возвращаться.
Глава XXVII
Амелиус оставил мистрис Фарнеби сильно взволнованный и расстроенный. Ее необычайная история об открытии дочери, ее решительное намерение покинуть дом, отказ объяснить причину, возложенное на него обязательство молчать, все это отрицательно подействовало на его нервы. «Я ненавижу тайны, – думал он, – а с самого приезда в Лондон, какая-то роковая судьба замешала меня в них. Неужели она на самом деле покинет мужа и племянницу? Как поступит Фарнеби? Что станет с Региной?»
Думать о Регине значило думать о новом отказе, полученном от нее. Снова обращался он к ее любви, и снова отказалась она выйти за него замуж в назначенный им срок.
Он был в особенности раздражен и рассержен, когда думал о странном, непоколебимом влиянии, какое имел на нее дядя. Все сочувствие Регины было обращено на мистера Фарнеби и его дела. Амелиус лучше понял бы ее, если б она рассказала ему о том, что произошло между ней и дядей, когда тот в сильнейшем негодовании вернулся с лекции. Испугавшись разрыва, она принуждена была сознаться, что слишком любит Амелиуса, чтоб быть в состоянии расстаться с ним. Если он еще раз выступит на кафедру проповедовать о своих социалистических принципах, то она сознавала, что его невозможно будет принимать в дом как жениха. Но она молила о прощении первой ошибки ради ее собственного спокойствия, а не ради его. Мистер Фарнеби, растроганный своими коммерческими делами, слушал снисходительнее и рассеяннее, чем обыкновенно, и согласился на ее просьбу, как человек, занятый другими мыслями. Между ними было условлено, что оскорбление, нанесенное чтением, будет оставлено без внимания. Признательность Регины за эту уступку возбудила в ней сочувствие к дяде в его растерянном состоянии. Она хотела было сообщить Амелиусу о случившемся, но врожденная сдержанность характера в соединении с женской гордостью не позволили ей сознаться в своей слабости человеку, который сам был причиной ее. «Когда он будет меньше горячиться и будет любезнее, тогда я, может быть, скажу ему это», – думала она.
Так Амелиус шел по улицам в состоянии недоумения и раздражения. Дойдя до гостиницы, он остановился и осмотрелся кругом.
Невозможно было не сознавать, что затаившееся чувство сожаления снова возникло у него в душе, когда он подумал о Салли. По всему вероятию, он поссорился бы с человеком, который стал бы обвинять его в сетовании на отсутствие девушки и желании ее возвращения. Он вспоминал ее прекрасные голубые глаза, их простодушный, терпеливый взор и ее детские вопросы, задаваемые таким мягким, нежным голосом, вот и все. Что же было предосудительного в таких воспоминаниях? Утешив себя таким рассуждением, он сделал еще шага два и снова остановился. При таком настроении он не хотел присутствия Руфуса. Амелиус читал в его душе, как в книге, он станет задавать вопросы, которые будут раздражительно действовать на него. Он повернулся спиной к отелю и посмотрел на часы. Когда он вынимал их, пальцы его коснулись какого-то постороннего предмета в кармане. Это была карточка, данная ему Региной, карточка с указанием адреса коттеджа. Ему нечего было делать, некуда идти. Почему не взглянуть на коттедж? Может быть, он недурен, зоологический сад находится поблизости, а в жизни человека бывают периоды, когда он после общества двуногих животных рад отдохнуть в обществе четвероногих.
День был великолепный, и он направлялся к Регент Парку.
Коттедж находился в переулке подле парка, коттедж в настоящем смысле слова. Гостиная, библиотека, спальня, все в небольших размерах и потом кухня и еще две комнаты, очень хорошенькое жилище сверху донизу. Обстановка была проста, но красива, домик был окружен небольшим садом и поляной. Библиотека была в особенности комфортна и выходила окнами в сад, стены были обставлены книжными шкафами из резного дуба, в ней царствовала тишина и тень.
Едва Амелиус осмотрелся кругом, как у него в мозгу вспыхнула новая идея. Другие мужчины стали бы искать утешения и развлечения в книгах. Почему же и ему не сделать того же? Почему в этой прекрасной уединенной комнате не погрузиться в научные занятия? Может быть, в один прекрасный день ему удастся удивить Регину и мистрис Фарнеби, выступив в свет автором какой-нибудь великолепной книги. Два дня тому назад Амелиус мечтал прославиться как лектор, теперь он мечтал о новой славе, славе писателя. Женщина, показывавшая ему коттедж, сообщила, что в это утро коттедж осматривал какой-то джентльмен, которому он очень понравился. Амелиус тотчас же дал ей шиллинг, сказав: «Я оставляю его за собой». Удивленная женщина дала ему адрес агента, ведущего это дело, и держалась на почтительном расстоянии от горячего господина, когда провожала его. Час спустя Амелиус уже приобрел коттедж и вернулся в свою гостиницу, внеся новый интерес в свою жизнь и сделав сюрприз Руфусу.
Как всегда в непредвиденных случаях, американец не терял времени на разговоры. Он тотчас же отправился посмотреть коттедж и переговорить с агентом. Результат этих исследований оказался благоприятным для Амелиуса. Если он раскается в своей поспешности, то джентльмен, осматривавший перед ним коттедж, готов у него купить его немедленно.
Вернувшись в отель, Руфус застал Амелиуса готовым перебраться в новое жилище и горячо стремившимся к предстоящей уединенной жизни, наполненной трудом. Отлично предугадывая, чем окончатся эти новые проекты, американец попытался подвергнуть его искушению. Он собирался, как говорил он, провести время в Париже и приглашал Амелиуса сопутствовать ему. Но это искушение не произвело ни малейшего действия. Амелиус отвечал как закоренелый затворник на закате дней своих: «Благодарю вас, – промолвил он с забавной важностью, – я предпочитаю, общество своих книг и уединение своей библиотеки». После этого заявления он продал свои фонды и отправился к книгопродавцу, который составил ему огромный счет.
На следующий день в два часа Амелиус явился в дом Фарнеби. Он был не настолько поглощен своими собственными проектами, чтоб забыть мистрис Фарнеби. Напротив, он даже беспокоился о ней.
На наших страницах мы уже немного упоминали о средних лет господине, занимающемся торговыми делами, верном поклоннике Регины, который весьма терпеливо и покорно отнесся к торжеству своего молодого соперника. Этот джентльмен, только что вышедший из своего экипажа, встретился с Амелиусом у дверей. Он держал в руках визитную карточку, и физиономия его прямо говорила о случившейся катастрофе.
– Бы, без сомнения, слышали печальные новости? – спросил он своим густым басом, придавая ему грустно сочувственный тон.
Слуга отпер дверь прежде чем Амелиус успел что-либо ответить. Средних лет джентльмен сейчас же принялся за расспросы: «Что мистер Фарнеби? Не лучше ему? А мисс Регина? Очень расстроена? Боже мой, боже мой! Передайте, что я был». И с этими словами он подал карточку с меланхоличным видом, подобающим при таких обстоятельствах. – Очень грустно, не правда ли? – обернулся он к сопернику с родительской снисходительностью. – Прощайте. – Он раскланялся с печальным видом и направился к своему экипажу.
Амелиус посмотрел вслед богатому коммерсанту, когда его быстро уносили горячие его кони.
– Что же, – подумал он с горечью, – может быть, она была бы с этим богатым подлецом счастливее, чем со мной. – Он вошел в сени и обратился к слуге, у которого ответ был уже наготове: «Мисс Регина увидится с мистером Гольденхартом, если он потрудится подождать в столовой».
Регина явилась бледная и встревоженная, ее глаза были воспалены от слез.
– Ах, Амелиус, – воскликнула она, – не можете ли вы объяснить нам, что значит это ужасное несчастье? Зачем она покинула нас? Когда она вчера призывала вас к себе, что говорила она вам?
Амелиус мог дать только один ответ:
– Ваша тетушка сказала мне, что она уходит отсюда, но, – добавил он, и весьма справедливо, – она отказалась объяснить мне, зачем она это делает и куда она отправляется. Я совершенно не в состоянии понять ее, так же, как и вы. Что намерен делать ваш дядюшка?
Поведение мистера Фарнеби, как заявила Регина, еще более запутывало дело: он не намерен ничего делать.
Его нашли на ковре перед камином в его уборной, его, как видно, поразил удар в ту минуту, как он сжигал какие-то бумаги. Нашли пепел на каминной решетке подле него. Когда он пришел в чувство, его первой заботой было узнать, сгорело ли письмо. Успокоенный насчет этого, он приказал созвать всю прислугу и строго запретил им отпирать дверь в комнату госпожи, если б даже она когда-нибудь вернулась в дом. На вопросы и увещания Регины, когда они остались вдвоем, он отвечал следующими словами: «Если ты желаешь сохранить мое родственное к тебе расположение, то поступай так же, как я, забудь, что когда-либо существовала особа, называвшаяся твоей теткой. Мы поссоримся, если ты когда-нибудь произнесешь имя ее в моем присутствии». Сказав это, он тотчас же переменил тему разговора, просил Регину написать мистеру Мильтону (средних лет сопернику), извиниться перед ним, что не может у него обедать сегодня, как предполагал. Рассказывая это, Регина рассыпалась в благодарности мистеру Мильтону. «Он такой добрый, – говорила она. – Оставил вечером своих гостей, приехал и просидел у дяди не менее часа». Амелиус не обратил на это внимание, он снова заговорил о мистрис Фарнеби.
– Она как-то упоминала мне о своих поверенных, не знают ли они чего о ней?
Ответ на этот вопрос показал, что окончательное решение мистера Фарнеби было связано с таким же решением его жены.
Один из членов этой фирмы попросил у Регины свидания, чтоб переговорить о делах. Мистрис Фарнеби была у них в конторе накануне и выразила желание предоставить своей племяннице небольшой годовой доход. Уклонившись от объяснений, она дождалась, пока был приготовлен необходимый документ, просила известить Регину об этом обстоятельстве и после этого простилась и ушла. Услышав, что она покинула своего мужа, поверенный заявил, что ничего тут не понимает.
– А что сказал доктор? – спросил Амелиус.
– Что дядя должен быть совершенно спокоен и некоторое время совсем не заниматься делами, – отвечала Регина. – Мистер Мильтон со свойственной ему добротой взялся вести его дела. В противном случае дядя, тревожась о делах банка, ни за что не согласился бы исполнить предписания доктора. Он отказывался оставить дела, а доктор отказался взять на себя ответственность за его жизнь. Завтра будет консилиум. Ах, Амелиус, я так любила свою тетку, у меня сердце разрывается от такой перемены.
Наступило минутное молчание. Если бы тут был мистер Мильтон, он сказал бы несколько приятных, любезных слов. Амелиус, точно дикарь, не умел найти ни слова в утешение. Тадмор ознакомил его с социальными и политическими вопросами новейшего времени и научил его говорить в публике. Но Тадмор, богатый книгами и газетами, был очень беден сведениями о светских разговорах.
– Предположите, что мистеру Фарнеби нужно будет поехать в чужие края, как вы поступите? – спросил он спустя несколько минут.
Регина взглянула на него с печальным изумлением.
– Я исполню свою обязанность, – отвечала она серьезно. – Я буду сопровождать дорогого дядю, если он этого пожелает. – Она посмотрела на часы над камином. – Ему пора принимать лекарство, – прибавила она. – Вы меня извините, я полагаю. – Она пожала ему руку очень нежно и поспешила из комнаты.
Амелиус вышел из дома с убеждением, которое приводило его в отчаяние, с убеждением, что он никогда не понимал Регину и впоследствии не поймет ее. Чтоб отвлечь мысли свои от этого вопроса, он стал рассуждать о странном поведении мистера Фарнеби при его домашней катастрофе.
Вспомнив все подмеченное им самим и слышанное от мистрис Фарнеби в то время, как она поверила ему тайну о пропавшем ребенке, он пришел к заключению, что ребенок был не единственной причиной отчуждения между мужем и женой, но что муж был виноват еще в чем-то. Если эта теория соответствует действительности, встреча матери с ребенком в его доме представляла серьезные препятствия. Отъезд мистрис Фарнеби в таком случае становился понятным, и необъяснимое поведение мистера Фарнеби можно было приписать жестокому равнодушию ко всему относящемуся до его жены и ребенка. Дойдя до этого заключения после долгого процесса размышлений, Амелиус не думал больше об этом предмете. В начале его знакомства с Фарнеби Руфус советовал ему избегать тесных с ним сношений, при настоящем настроении он почти готов был признаться, что Руфус был прав.
Он позавтракал в отеле со своим американским другом. Прежде чем успели собрать со стола, мистрис Пейзон прислала сказать, что ей нужно сообщить несколько слов о Салли.
Нельзя было отрицать, что девушка держала себя постоянно чересчур скрытно и была весьма молчалива. В других же отношениях отзыв был благоприятен. Она повиновалась правилам заведения, всегда была готова оказать какую могла услугу своим товарищам, была всегда прилежна за уроками чтения и письма, даже нужно было заставлять ее положить книгу и аспидную доску. Когда учитель предлагал ей какую-нибудь награду за хорошее поведение и спрашивал, чего бы она желала, маленькое грустное личико сияло, и верное создание всегда отвечало одно и тоже: «Я бы желала знать, что он теперь делает». (Увы, для Салли «он» значило Амелиус).
– Вы должны еще подождать писать ей, – закончила мистрис Пейзон, – и нужно дать пройти еще некоторому времени, прежде чем увидеться с ней. Я уверена, что вы согласитесь на это ради Салли.
Амелиус молча поклонился. Он ни одной живой душе не сознался бы в том, что он чувствовал в эту минуту.
Мистрис Пейзон, наблюдавшая за ним с женской проницательностью, смягчилась немного. «Я могу передать ей от вас, – заметила добрая старушка, – что вы были рады услышать о ее хорошем поведении».
– А сможете ли передать ей это? – спросил он.
Он вынул из бумажника фотографию коттеджа, которую нашел на конторке домового агента и взял ее с собой.
– Это теперь мой коттедж, – сказал он немного запинаясь. – Я буду жить в нем, Салли будет приятно увидеть его.
– Салли увидит его, – согласилась мистрис Пейзон, – если вы позволите мне прежде отрезать вот это, – и она указала на адрес коттеджа, напечатанный под фотографией. Прежние ее опыты в приюте не позволяли ей доверить Салли адрес Амелиуса в Лондоне.
Руфус подал ей перочинный ножик, и мистрис Пейзон, отрезав адрес, положила фотографию в свой бумажник.
– Теперь Салли будет счастлива, – сказала она, – и от этого не может произойти никакой беды.
– Я знаю вас, мадам, почти двадцать лет, – заметил Руфус, – и в первый раз слышу из уст ваших такое опрометчивое замечание.
Глава XXVIII
Три дня спустя Амелиус перебрался в коттедж. Он приобрел себе прислугу так же быстро, как жилище. В отеле был иностранец слуга, седой француз старой школы, слывший за человека неуживчивого нрава, увлекшийся веселым добродушием Амелиуса со свойственной его нации горячностью. Молодой англичанин говорил с ним просто и ласково, как с другом, выслушивал его жалобы, принимал участие в его горестях, никогда не обращал их в смешную сторону и не смеялся над ним, а даже ласково говорил ему: «Надеюсь, что вы не обижаетесь на меня за то, что я называю вас вашим прозвищем», когда тот объяснил ему, что его христианское имя «Теофил» и что английская прислуга наспех сократила его имя в «Тофа»: «С самого начала, сэр, как вы стали называть меня Тофом, я считал это за честь». Спрашивая всех и каждого, не может ли кто рекомендовать ему слугу, Амелиус однажды утром задал такой же вопрос Тофу, когда тот принес ему горячей воды. Старый француз низко поклонился с выражением преданности.
– Я знаю, сэр, только одного человека, которого могу рекомендовать вам, – сказал он. – Возьмите меня.
Амелиус был очень рад, только сделал одно предупреждение.
– Я не могу держать двух прислуг, – заметил он, когда Тоф помогал ему одеваться.
– Зачем вам двух прислуг, сэр? – возразил француз.
– Не могу же я требовать, чтоб вы занимались постелью.
– Почему нет? – сказал Тоф и в пять минут убрал постель. Он быстро вышел из комнаты и вернулся со щеткой. – Судите сами, сэр, умею ли я хорошо вымести ковер? – Он поставил Амелиусу стул и заявил:
– Позвольте мне избавить вас от труда бриться самому. Довольны ли вы? Очень хорошо. Я также могу подстричь ваши волосы и срезать мозоли, если вы страдаете ими. А теперь не прикажете ли что-нибудь приготовить к вашему завтраку?
Полчаса спустя он принес новое кушанье.
– Oeufs a la tripe, это образчик того, что я могу сделать как повар. Попробуйте, пожалуйста. – Амелиус съел все и в самых восторженных выражениях поблагодарил повара. – Благодарю вас за одобрение. Я могу представить еще образчик своих способностей. Вы можете заболеть, ведь это весьма возможно, но отчего, помилуй Бог! Так вот, прочтите этот документ.
Он подал Амелиусу бумагу, датированную несколько лет тому назад в Париже и подписанную английским именем.
«Сим свидетельствую свою благодарность Теофилу Леблонд, ухаживавшему за мной во время продолжительной болезни с чрезвычайным усердием и большим умением, которые я и ценю весьма высоко».
– Дай Бог, сэр, чтоб вам не пришлось использовать в деле эти мои способности, – заявил Тоф. – Я только хотел показывать вам, что я не так стар, как кажусь, и что мои политические убеждения изменились с летами, из красного республиканца я стал умеренным либералом. Еще должен признаться, что я страстный поклонник прекрасного пола.
Он прижал руку к сердцу и ждал, что скажет Амелиус.
Таким образом, коттедж обзавелся двумя обитателями, Амелиусом и Тофом.
Руфус остался в Лондоне еще ненадолго и занялся наблюдениями над характером француза, он нашел, что жалобы на его дурной характер были напрасны и что его недостатки ограничивались тем, что «он старался придать себе вид джентльмена и не понимал шутки». Что же касалось честности и воздержанности, то рекомендация содержателя отеля не оставляла желать ничего лучшего. К величайшему удивлению Руфуса, Амелиус не скучал от своей спокойной жизни и не искал развлечений от скромного общества своих книг. Он аккуратно ходил в дом мистера Фарнеби, совершал продолжительные прогулки, никогда не упоминал имени Салли, потерял всякое желание ходить в театр и не появлялся более в курильной комнате клуба. Некоторые, заметив перемену, происшедшую в его горячем характере, принимали ее за хороший признак для будущего. Американец же видел глубже, его не так-то легко было обмануть. «Мой милый юноша обескуражен и упал духом, – решил он про себя. – Мрак поселился в душе его на месте бывшего там света, и что всего хуже, это то, что он сосредоточивается в себе». После тщетных стараний заставить Амелиуса открыть ему свою душу Руфус отправился в Париж не совсем спокойный за своего друга.
После отъезда американца ход событий изменился и неестественно спокойная жизнь Амелиуса была нарушена.
Явившись с обычным визитом в дом Фарнеби, он нашел всех в сильном волнении. Был созван второй консилиум вследствие опасных признаков, появившихся у больного. На этот раз доктора объявили ему, что он жертвует жизнью из-за упрямства, оставаясь в Лондоне и занимаясь делами. По счастью, дела банка могут поправиться при могущественном вмешательстве мистера Мильтона. При такой перспективе мистер Фарнеби по просьбе племянницы покорился предписанию врачей. Он боялся путешествия, и по его желанию Регина должна была ехать с ним. «Я ненавижу около себя людей посторонних и иностранцев, а между тем не люблю быть один, если ты не поедешь со мной, я останусь здесь и умру!» – так мистер Фарнеби говорил Регине хриплым голосом и сердито нахмурив брови.
– Мне очень грустно уезжать от вас, дорогой Амелиус, – сказала Регина, – но что могу я сделать? Я была бы рада, если б вы могли ехать с нами. Я было намекнула на это, но…
Ее опущенное вниз лицо договорило за нее. Амелиус почувствовал, что у него похолодела кровь при одной мысли быть спутником мистера Фарнеби в путешествии. Мистер Фарнеби со своей стороны испытывал такое же «приятное» ощущение.
– Я буду писать часто, – прибавила Регина, – и вы тоже, не правда ли? Скажите, что вы любите меня и придете завтра до нашего отъезда.
Она нежно поцеловала Амелиуса и минуту спустя быстро заглушила вспыхнувшее в Амелиусе чувство, прибавив: «Дядя любит, чтоб белье его было хорошо уложено, и никто не угодит ему, кроме меня, я должна бежать вниз».
Амелиус вышел на улицу, повесив голову и плотно сжав губы. Он находился недалеко от дома мистрис Пейзон. «Отчего мне не зайти, – думал он, а совесть прибавляла:
– и не узнать о Салли».
Там услышал он хорошие вести. Девушка расцветала и умственно и физически, она была на хорошем пути и обещала не быть более Простушкой Салли, если останется в заведении. Амелиус спросил, передала ли она фотографию коттеджа. Мистрис Пейзон рассмеялась. «Бедное дитя спит даже с ней, кладет ее под подушку и смотрит на нее по пятидесяти раз в день». Достойная матрона, богатая опытностью, увлеклась женской чувствительностью и сообщила Амелиусу о фотографии.
Вместо того чтоб продолжать разговор об успехах Салли, Амелиус к величайшему изумлению мистрис Пейзон, неловко извинившись, быстро оставил ее.
Он чувствовал потребность оставаться одному, он сознавал какое-то недоверие к себе, унижавшее его в собственных глазах. Уж не жертва ли он роковой случайности, как он читал в книгах? Ничтожное обстоятельство усилило его участие к Салли как раз в то время, когда Регина обманула его ожидания. Он был твердо убежден, что наносит оскорбление Регине и оскорбляет вместе с тем свое собственное достоинство, позволяя себе делать сравнения между погибшим созданием и молодой леди, которая должна была со временем стать его женой. Однако Салли занимала его мысли, несмотря на все его старания изгнать ее из головы. Существовала в нем, очевидно, какая-то развращенность. Если б в настоящую минуту было перед ним зеркало, он не осмелился бы взглянуть себе в лицо.
Находившись до утомления, он отправился в свой клуб. Швейцар подал ему письмо, как только он вошел в прихожую. Мистрис Фарнеби сдержала свое обещание и писала ему. Курильная комната была совершенно пуста в это время дня. Он развернул письмо, прочел его, нетерпеливо смял и сунул в карман. Даже мистрис Фарнеби не интересовала его в эту критическую минуту. Его собственные дела поглощали его. После того, что он слышал о Салли, им овладела одна мысль: сделать последнюю попытку ускорить свою свадьбу до отъезда Регины из Лондона. «Если б я мог только быть уверен в Регине…»
Мысли его остановились на этом. Он ходил взад и вперед по маленькой комнате тревожный, взволнованный, недовольный собою, отчаявшись в будущем. «Могу же я попытаться, однако», – решил он вдруг и сел за стол, чтоб написать письмо.
Все члены его семейства умерли, с тех пор как отец его оставил Англию. Ближайшим родственником оставался дядя, младший брат отца, занимавший важный пост в министерстве иностранных дел. К этому-то джентльмену он и писал теперь, извещая его о своем прибытии в Англию и о желании поступить на государственную службу.
«Будьте так добры, назначьте время, когда я могу видеть вас, – заканчивал он, – и я надеюсь, что вы останетесь мной довольны, если употребите свое влияние в мою пользу».
Он отправил письмо с рассыльным и велел ему подождать ответ. Ему было тяжело вступать с сношение с этим человеком, он не мог забыть его жестокие поступки с его отцом. Чего же мог ожидать сын? Была только одна надежда, что по прошествии такого долгого времени он захочет загладить прошлое и почтить память старшего брата, исполнив просьбу племянника.
Последние слова отца, выражавшие предостережения, его собственное детское обещание не завязывать сношений с родными в Англии живо восстали в уме Амелиуса, пока он ожидал возвращения посланного. Его единственное оправдание заключалось в побудившей его к тому причине. Обстоятельства, которых не мог предвидеть его отец, ставили ему в обязанность сделать эту попытку. Не было сомнения, что человек, подобный мистеру Фарнеби сделает уступку, если Амелиус заявит ему, что будет получать жалование от правительства и что сильное влияние родственника в скором времени доставит ему приличное место.
Посланный возвратился со следующим ответом:
«При обычных обстоятельствах я, без сомнения, употребил бы свое влияние, чтоб дать вам дорогу в свете. Но после того как вы усвоили себе ужасные политические взгляды и публично провозгласили их с кафедры, я удивляюсь, как вы осмелились написать мне. Между нами не может быть никаких сношений. Как социалист вы для меня человек посторонний».
Амелиус принял эту новую неудачу со зловещим спокойствием. Он курил, сидя в пустой комнате с дядиным письмом в руках.
О других плачевных результатах лекции газеты говорили вкратце. Погруженный в свои тревоги Амелиус совсем забыл об этом, когда писал к своему родственнику. «Очень похоже на меня», – подумал он, бросив письмо в огонь. Его последняя надежда улетела в каминную трубу вместе с легким дымом от сожженной бумаги. Теперь не оставалось более другого средства сократить срок, назначенный для его свадьбы. Он обращался к доброму другу, о котором упоминал Регине. Ответ, весьма дружески написанный, не принес ни малейшего утешения.
«Я должен прежде заняться некоторыми своими соображениями.
Все это я могу сделать и сделаю. Не приходите в отчаяние. Я только прошу вас подождать».
Амелиус встал, чтоб отправиться домой, и снова опустился в кресло. Его обычная энергия, казалось, покинула его, ему нужно было сделать усилие, чтобы уйти из клуба.
Он стал просматривать газеты одну за другой. Ни один писатель и корреспондент не понравился ему в этот несчастный день. Только закурив вторую сигару, он вспомнил о непрочтенном письме мистрис Фарнеби.
В эту минуту ему порядочно наскучили и свои собственные дела. Он стал читать письмо.
«Люди, в руках которых находится мое счастье, очень жадны и действуют медленно, – писала мистрис Фарнеби, – но то немногое, что мне удается выпытать от них, весьма благоприятно для моих надежд, к величайшей моей досаде, я имею личные сношения только с ненавистной старой женщиной. Молодой же человек доставляет мне сведения или через посланных, или пишет по почте. В последний раз он в точности описал недостаток на ноге моей дочери и даже положение перепонки. Это, вы сами согласитесь со мною, явно доказывает, что они говорят правду.
Но кроме этого обстоятельства многое возбуждает во мне подозрение: упорное желание молодого человека оставаться мне неизвестным, его предостережения против женщины, служащей нам посредницей, и его советы держать от нее в тайне содержание его писем. Я чувствую, что я должна быть осторожна с ним относительно денег, а я в нетерпении увидеть свое дитя готова отдать ему все, что бы он у меня ни спросил. При таком настроении и неизвестности меня еще, странное дело, удерживает и старая женщина. Она предостерегает против своего компаньона и говорит, чтоб я не давала ему денег, пока он ничего не сделал. „Это единственная сила, которую вы имеете над ним“, – говорит она, и так я сдерживаю пожирающее меня нетерпение.
Нет, я не могу описать вам состояние моей души. Если я вам скажу теперь, что я боюсь умереть прежде, чем обниму свою дочь, вы, может быть, поймете и пожалеете меня. Когда наступает ночь, я совсем сума схожу.
Посылаю вам свой настоящий адрес в надежде, что вы мне напишете и несколько успокоите меня. Я не могу еще просить вас придти повидаться со мной, я к этому не способна и к тому же я дала слово, что при настоящем положении дел не буду принимать никого из своих друзей. Сделать это нетрудно, так как у меня один друг – вы, Амелиус.
Отнеситесь ко мне с состраданием, добросердечный человек. В продолжение стольких лет в душе моей жила одна надежда, которая теперь готова исполниться. Не было никогда симпатии между мужем моим и мной (напротив того, какая-то тайная неприязнь отталкивала нас друга от друга), отец и мать мои оба были огорчены моим замужеством, и имели на то основание, сестра моя умерла в нищете, вот жизнь бездетной женщины! Лишь бы не оставаться долее в этом положении.
Прощайте пока, Амелиус. Прошу вас, не думайте, что я унываю. Когда я хочу быть счастливой, я смотрю в будущее».
Это грустное письмо еще более усилило печальное настроение Амелиуса. В нем возникли смутные, неопределенные опасения за мистрис Фарнеби. Ввиду ее собственных интересов ему хотелось бы посоветоваться с Руфусом (не упоминая, конечно, имен), если б американец был в Лондоне. Со вздохом положил он письмо в карман. Даже и мистрис Фарнеби в тяжелые минуты имеет в виду утешение. «Все, кроме меня», – подумал Амелиус.
Размышления его были прерваны появлением одного молодого члена клуба, его знакомого. Новоприбывший заметил его озабоченность и предложил ему отобедать и провести вечер вместе. Амелиус согласился, человек, который в настоящую минуту избавлял его от самого себя, становился его другом с этого дня. Отступив от своей привычки к умеренности, он пил более обыкновенного, вино возбуждало его, и расположение духа становилось еще тяжелее, вечерние развлечения имели тот же результат. Он вернулся в свой коттедж, до того упав духом, что жалел о дне, в который покинул Тадмор.
Но он решил на следующее утро идти проститься с Региной. Карета стояла у подъезда и за ней кеб, нагруженный багажом. Мистер Фарнеби сердился и уверял, что они опоздают на поезд. Его грубый голос и кроткие замечания Регины доносились из столовой до слуха Амелиуса, когда он вошел.
– Я не намерен ждать прибытия джентльмена социалиста, – заявил мистер Фарнеби с саркастической язвительностью.
– Дорогой дядя, у нас еще, по крайней мере, четверть часа впереди.
– Нет, ничего подобного, нам нужно еще сдавать багаж. Затем послышался голос горничной, доложившей:
– Мистер Гольденхарт, мисс.
Мистер Фарнеби быстро вышел в зал.
– Прощайте, – сказал он Амелиусу в дверях и поспешно направился к экипажу. – Я не буду ждать, Регина, – закричал он выходя.
– Пускай он отправляется один, – сказал Амелиус с негодованием, когда Регина бросилась из комнаты.
– Полно, полно, дорогой, он может услышать вас. Ни одна неделя не пройдет без писем от меня, обещайте мне тоже, Амелиус. Один поцелуй, о, мой дорогой…
Ее прервал слуга, скромно появляясь в комнате.
– Извините, мисс, но господин мой спрашивает вас, едете вы с ним или нет.
Регина не дала ему говорить более, она кинула на своего жениха прощальный взор и бросилась из комнаты.
Внутренняя испорченность, которую Амелиус открыл недавно в своей натуре, возбудила в нем запретные мысли, когда он смотрел вслед удалявшейся карете. «Если б бедная Салли была на ее месте?..» Он сделал над собой усилие и остановился на этой мысли, «каким подлым может быть человек, сам того не подозревая».
Он сошел с крыльца, скромный слуга пожелал ему доброго утра с каким-то радостным уважением, он был рад, что в продолжении нескольких месяцев не увидит своего сурового господина. Амелиус остановился и обернулся, грустно улыбнувшись. Он был в таком расположении духа, что готов был, чтоб сколько-нибудь развлечься, шутить со слугой.
– Ричард, – спросил он, – собираетесь вы жениться? – Ричард, пораженный изумлением, скромно признался, что помолвлен с горничной из соседнего дома. – И скоро свадьба? – продолжал Амелиус, играя тросточкой. – Как только я скоплю немного денег, сэр.
– Будь прокляты эти деньги! – вскричал Амелиус и, ударив тросточкой по мостовой, пошел дальше, бросив последний взор на дом, который в эту минуту был ему ненавистен. Ричард проводил молодого джентльмена и, с недоумением покачав головой, запер дверь.
Глава XXIX
Амелиус отправился прямо домой в коттедж с отчаянным намерением вернуться к своим старым планам и зарыться в книгах. Осматривая с нетерпением школьника свои хорошо снабженные полки, он, по несчастью, попал на историю Англии Гуме. Он взял первый том. Менее чем в полчаса он убедился, что Гуме ничего не может для него сделать. Премудро вдохновленный, он обратился к более близкой истории, которую люди называют вымыслом. Писатель в высшей степени талантливый, превосходивший всех романистов, как Шекспир всех драматургов, Вальтер Скотт занимал почетное место в его библиотеке. Коллекция его романов в Тадморе была неполна. Амелиус тотчас же принялся за «Роб-Роя». Он открыл книгу и до конца дня занимался любовью его к Диане Верной. Когда же поднимал глаза и устремлял их в сад, чтоб дать им немного отдохнуть, то увидел Андрю Файрсервиза, хлопотавшего около цветочных клумб.
Он окончил последнюю страницу благородного рассказа, когда Тоф пришел в комнату накрывать на стол.
Господин за столом и слуга, стоя за его стулом, привыкли разговаривать во время обеда. Амелиус из всех сил старался болтать по-прежнему. Но он уже покинул прелестный мир мечтаний, открытый перед ним Вальтером Скоттом. Тяжелая действительность его будничной жизни восставала перед ним со всех сторон. Наблюдая его с величайшим вниманием, француз заметил перемену в его настроении и отсутствие аппетита, которым в другое время отличался его господин.
– Могу я осмелиться сделать замечание, сэр? – спросил Тоф после довольно продолжительного молчания.
– Конечно.
– И могу я позволить себе выразить свободно свои чувства?
– Можете.
– Дорогой сэр, у вас отличный обед сегодня, – начал Тоф. – Простите мне, что я хвалю самого себя, я нахожусь под влиянием весьма естественной гордости, состряпав такой обед. Все было так вкусно, так хорошо, а вы почти ничего не кушали, и вместо обычного приятного разговора вы были погружены в меланхоличное молчание, преисполнившее меня сожалением. Вас ли следует обвинять за это? Нет, жизнь, которую вы ведете. Я называю это жизнью монаха, затворника, жизнью, не подходящей для молодого человека. Извините за горячность моих выражений, я желал бы сделать язык свой, как можно изящнее. Могу я сослаться на песню? Это старая, старая французская песня, давно забытая, называвшаяся: мужья холостяки. В этой песне две строки, которые часто певал мой отец и которые я хочу применить к вам. «Любовь, нежность и веселость, вот девиз настоящего француза». Вы, сэр, обладаете нежностью и веселостью, только последняя в продолжение нескольких дней находится под спудом. L'amour! Love, как вы называете по-английски! Где та прелестная женщина, которая должна служить украшением этому очаровательному коттеджу? Почему не видать ее? Исправьте этот недостаток, сэр. Вы здесь в загородном раю. Вследствие моей долголетней опытности прошу вас, пригласите сюда Еву. А, вы улыбаетесь, потерянная веселость возвращается, и вы это сознаете так же, как и я. Могу я предложить вам еще стаканчик Бордосского и кусочек мяса под соусом?
Невозможно было оставаться грустным в обществе такого человека. Амелиус потребовал еще соуса и выпил стакан вина.
– Мой добрый друг, – сказал он, несколько оживившись, – вы говорите о прекрасных женщинах и вашей долголетней опытности. Дайте возможность мне услышать о том, какого рода вы имели опыты.
Сначала Тоф сконфузился, но, быстро оправившись, заговорил:
– Вы почтили меня названием вашего друга, сэр. После этого я уверен, что вы не захотите прогнать меня, если я сообщу вам всю истину. Нет! Мое сердце говорит мне, что я не напрасно взываю к вашему снисхождению. Дорогой сэр, в праздничные дни, когда вы отпускали меня отдохнуть, я оставлял надежного человека, который заботился о доме в мое отсутствие, не правда ли? Один из них был красивый молодой человек, если вы помните. Это сын мой от первой жены, в настоящее время ангела на небесах. Другой, стороживший ваш дом, был черноглазый мальчик, чудо скромности для его лет. Это сын мой от второй жены, – тоже ангел на небесах. Простите мне, я еще не кончил. На днях вам показалось, что вы слышали детский крик внизу лестницы. Как подлый негодяй, я солгал, сказал, что это ребенок в соседнем доме. Ах, сэр, это был мой собственный херувим, ребенок от третьей жены, ангела, живущего на улице Эджевар, в маленьком модном магазине, из которого выходят великие произведения. Промежутки между моими женитьбами не заслуживают вашего внимания, были только мимолетные прихоти, сэр, мимолетные фантазии! Чтоб резюмировать все, как говорят в Англии, достаточно сказать, что я не могу противостоять женскому полу. Если умрет мой третий ангел, я вырву все свои волосы, но не замедлю приискать четвертого.
– Возьмите хоть дюжину, если вам это нравится, – сказал Амелиус, – но к чему вы все это мне рассказываете?
Тоф повесил голову.
– Я полагаю, что это один из моих недостатков. Публикации прислуг в ваших английских газетах пугают меня. Как самый лучший слуга-мужчина публикует о себе, когда он нуждается в хорошем месте? Он говорит «свободный, не обремененный». Боже милостивый, какое ужасное выражение относительно бедных, прелестных малюток! Я боялся, сударь, что вы будете иметь что-нибудь против моего «бремени». Молодой человек, мальчик и дитя-херувим, не говорю уж о священной памяти двух жен и восхитительного, случайного присутствия третьей, – все это опутывает жизнь влюбленного, достойного француза. Вот достаточно причин для колебаний. Но не в том дело. Я благословляю мою звезду, что теперь освобожден от дальнейших предосторожностей. Позволю себе обратить ваше внимание на Рокфорский[6] сыр, сударь.
Обед был окончен, и Амелиус остался, наконец, один. Наступил вечер, было так тихо, что ветер не шевелил даже листьев на деревьях в саду. Ни одна тележка не проезжала по боковой дороге около коттеджа. От времени до времени слышался снизу лестницы разбитый голос Тофа, распевавший песни, между тем как он мыл тарелки и блюда и приводил все в порядок. Амелиус посмотрел на полки и решил, что после Роб-Роя ему в этот вечер нечего более читать. Минуты медленно тянулись за минутами, смертельное уныние снова охватило его душу. Чем мог он этому помочь? Его благоразумные привычки в Тадморе предлагали лишь одно средство. Каковы бы ни были его тревоги, у него был самый простой метод избавляться от них. Он пошел гулять.
Часа два бродил он по предместью Лондона. Может быть, дурная погода, может быть, плохо переваренный обед тяжело действовали на него, только он так утомился, что должен был вернуться в коттедж на извозчике.
Тоф отпер дверь, но не с обычной живостью. Амелиус был слишком утомлен, чтоб заметить это ничтожное обстоятельство. В противном случае он бы увидел какое-то странное выражение на увядшем лице француза. Он с участием и беспокойством смотрел на своего господина, когда брал у него шляпу и пальто, но вместе с тем сардоническое и веселое выражение преобладало у него над другими, более серьезными ощущениями. «Тяжелый, неприятный вечер», – сказал Амелиус. А Тоф, всегда столь говорливый, теперь только ответил: «Да, сэр», – и удалился в кухню.
Амелиус отправился в библиотеку и уселся в своем любимое, мягкое кресло. Огонь горел в камине, занавесы были спущены, на столе стояла лампа для чтения со своим зеленым абажуром, нельзя было найти комнаты более комфортабельной и удобной после долгой прогулки. Развалившись в кресле Амелиус подумал, не позвонить ли ему и не потребовать ли чего-нибудь подкрепляющего, хоть водки с водой, но не успел он подумать, как уснул, а пока спал, видел сон.
Сон ли это был?
Правда, он видел библиотеку фантастически изменившейся, но видел ту же самую комнату, и те же предметы, что наяву. Но вскоре совершившееся событие заставило его сомневаться в действительности. Простодушная Салли, находившаяся в приюте за несколько миль от Лондона, явилась в библиотеке. Он увидел, как раздвинулись занавески и из-за них выступила девушка, остановилась и робко посмотрела на него. Она была одета в то платье, которое он купил ей, и казалась прелестнее обыкновенного. К красоте юности присоединилась теперь красота здоровья: щечки ее пополнели и бледные губки стали ярко-розовыми. Страх ее мало-помалу прошел, она улыбнулась, тихо прошла через комнату и остановилась подле него. Посмотрев на него несколько минут с выражением нежности и радости, она оперлась руками на ручки его кресла и мягким, приятным голосом, который он так хорошо помнил, проговорила: «Мне хочется поцеловать вас». Она наклонилась к нему и спокойно, невинно, как ребенок, поцеловала его. Потом она приподнялась и осмотрелась кругом. «Достаточно огня в камине», – пробормотала она и в ту же минуту погасила лампу. Стало темно, ему не стало ее видно, не стало и слышно. Наступила тишина, он совсем уснул. Его последующее ощущение было ощущение холода, он вздрогнул и проснулся.
Впечатление сна было очень живо в минуту пробуждения. Он испугался, приподнявшись в кресле. Сон ли он видел? Нет, он не спал. И в комнате было действительно темно.
Он все смотрел и смотрел, но ничто не опровергало и не объясняло виденного. В камине огонь едва мерцал и оставлял комнату во мраке, но можно было различить на столе погашенную лампу.
Он раздул огонь и только что протянул руку к колокольчику, чтоб позвать Тофа, как раздумал. На что ему свет лампы? Он слишком утомлен, чтоб читать, лучше уснуть и увидеть опять Салли во сне. Что может быть худого в грезах о маленьком, милом создании, находившемся от него так далеко? Самыми счастливыми часами в его жизни были часы, проведенные во сне.
Когда свежие угли слегка вспыхнули, он снова взглянул на лампу. Странно, что свет ее погас именно в то время, когда он видел все это во сне. И в комнате не осталось никакого запаха. Ему было лень, или он был слишком утомлен, чтоб выяснять этот вопрос. Пускай тайна остается тайной, а он отдохнет в мире. Он спокойнее расположился в кресле. Чего ради ломать голову над лампой вместо того, чтоб закрыть глаза и снова заснуть!
В комнате была такая приятная температура. Он поправил подушки так, чтоб голове его было как можно удобнее, и принял самую покойную позу. Но влияние только что виденного им отогнало сон, как он ни располагался, ни устраивался, все было тщетно. Едва закрывал он глаза, как перед ними являлось то же видение. Он покорился обстоятельствам, протянул ноги и стал смотреть на приятный огонек.
За последнее время он стал чаще вспоминать свою прошлую жизнь в Тадморе. Мысли его и теперь перенеслись к тем дням. Часы на камине пробили девять. В это время в Тадморе ужинают и толкуют о событиях дня. Он видел и себя за длинным столом, рядом с мистрис Меллисент и с любимой собакой у ног его. Где то теперь Меллисент? Грустное было письмо ее, в котором она выражала странную уверенность, что он со временем вернется к ней. Было что-то симпатичное и привлекательное в этом маленьком создании, так много страдавшем и прожившем дома такую тяжелую жизнь. Утешительно было думать, что она снова вернется в Общину. Где может она найти более счастливую жизнь? Будет ли она заботиться о его собаке до его возвращения. Все обещали быть добрыми к его любимому животному, но собака была очень привязана к Меллисент, ей было бы лучше с ней, чем с кем-либо другим. И его ручной олень и его птицы – что-то они поделывают? Он даже не писал, не справлялся о них, он был жестоко забывчив в отношении этих добрых, безгласных друзей своих. В настоящем одиночестве, при мрачных сомнениях насчет своей будущности, чего не дал бы он, чтоб чувствовать собаку, прижимавшуюся к его груди, и оленя, лижущим его руку. Голова его болела, болезненное ощущение сдавливало грудь. Он пытался встать и потребовать огня, возбуждал свое мужество, чтобы пересиливать и сопротивляться этим ощущениям. Но все было тщетно; куда девалась его энергия? Что случилось со свойственной ему веселостью, он снова опустился в кресло, от стыда за свою слабость закрыл лицо руками и залился слезами.
Вдруг он почувствовал прикосновение нежных пальцев. Его руки были тихо отняты от лица, знакомый, милый голос произнес: «О, не плачьте». Из-за слез смутно увидел он маленькую фигурку, стоявшую между ним и огнем. В своем невыносимом одиночестве он тосковал по собаке, по оленю. Здесь было несчастное создание, поднятое им на улице, избавленное от неизъяснимых ужасов, всем сердцем желавшее стать его товарищем, другом, слугою! Здесь был ребенок, жертва холода и голода, переходящий от детства к женскому возрасту, чистый, невинный, стремившийся лишь занять место собаки и оленя!
Амелиус смотрел на нее недоверчиво, сомневаясь, видит он ее в действительности или во сне.
– Господи, Боже мой! Неужели я опять грежу? – воскликнул он.
– Нет, – сказала она просто. – Теперь вы не спите. Позвольте мне вытереть ваши глаза, я знаю, куда вы положили свой носовой платок. – Она опустилась на колени, вытерла его слезы и поправила волосы на лбу. – Я боялась показаться вам, когда услышала, что вы плачете, – продолжала она. – Тогда я подумала, что вы не можете сердиться на меня теперь, я вышла из-за занавески. Старый слуга впустил меня сюда. Я не могу жить, не видя вас, я употребляла все усилия, но не могла больше выдержать. Я прямо сказала это старому слуге, когда он отпер мне дверь. Я сказала ему: «Мне необходимо его видеть, неужели вы меня не впустите?» Он отвечал: «Господи, помилуй, вот Ева, войдите!» Я не знаю, что он хотел этим сказать, но он впустил меня, а это все, чего я желала. Он такой забавный, этот старый иностранец. Отошлите его, теперь я буду служить вам. О чем вы плакали? Я очень часто плакала о вас. Но я не могу думать, не могу надеяться, что вы плакали обо мне. Я ожидаю только, что вы меня побраните, я нехорошая девушка, я знаю.
Она подозрительно взглянула на него и опустила голову, ожидая, что он будет бранить ее. Амелиус потерял всякое самообладание. Он схватил ее в свои объятия и осыпал поцелуями. «Вы доброе, благородное создание!» – воскликнул он и вдруг остановился, но слишком поздно – неосторожность была уже допущена. Он оттолкнул ее от себя, заговорил строгим голосом, задал несколько вопросов и сделал немало заслуженных упреков. Но Салли была слишком счастлива, чтоб слушать его. «Теперь все хорошо, – прокричала она. – Я никогда, никогда не вернусь больше в приют. О, как я счастлива! Зажжем лампу!»
Она нашла спички на камине. Минуту спустя комната осветилась. Амелиус смотрел на нее, совершенно неспособный решить, что он должен сказать или сделать. Для довершения его недоумения послышался голос заботливого старого француза, скромно говорившего из-за двери.
– Я приготовил небольшой, весьма аппетитный ужин, – сказал Тоф. – Потрудитесь позвонить, когда вы и молодая леди пожелаете кушать.
Глава XXX
Вмешательство Тофа имело свое действие. Упоминание об ужине, наивно означавшее принятие Салли в коттедж, напомнило Амелиусу об его ответственности. Он вышел в коридор и затворил за собой дверь.
Старый француз ожидал, что его разбранят или поблагодарят, и стоял, опустив голову, подняв кверху плечи и скрестив руки с видом безмолвной покорности обстоятельствам.
– Знаете ли вы, что поставили меня в страшно неловкое положение? – начал Амелиус.
Тоф поднес одну руку к сердцу.
– Вам известна моя слабость. Когда это прелестное создание появилось в дверях, изнемогая от усталости, я не мог устоять и исполнил бы ее просьбу, если б для этого мне пришлось перепрыгнуть через крышу этого коттеджа. Если я виноват, не обращайте внимания на верность, с которой я служил вам, велите мне убираться, но не требуйте от меня жестокости и суровости в отношении очаровательной мисс. Это не по моему характеру. – И при этих словах Тоф торжественно поднял к воображаемому небу полные слез глаза. – Священное слово честного француза, я скорее умру, чем поступлю так.
– Не говорите глупостей, – прервал его Амелиус с нетерпением. – Я не браню вас, но вы поставили меня в скверное положение. Чтоб исполнить свой долг, я должен бы послать сейчас же за извозчиком и отправить ее назад.
Тоф вытаращил свои глаза в полном изумлении. – Как! – вскричал он. – Отправить ее назад! Не дав отдохнуть, не предложив ужина! И это вы называете долгом? Как ужасен, как безобразен должен быть долг, который заставляет быть таким негостеприимным в отношении женщины! Извините, сударь, я должен высказать свои чувства или я лопну. Вы, может быть, скажете, что я не имею понятия о долге. Извините, сознание моего долга здесь.
И он отворил дверь в диванную. Несмотря на свою тревогу, Амелиус разразился смехом. Неистощимая находчивость француза превратила диванную в спальню для Салли. На софе была постлана чистая, белая постель. Гребенка, головная щетка и флакон одеколона были приготовлены на столе, таз и кувшин с теплой и холодной водой стояли у камина, под ними было разостлано шерстяное одеяло для безопасности ковра.
– Я не смею противоречить вам, сэр, но вот мое понятие о долге, – сказал Тоф. – В кухне другое выражение моего понятия, вы можете убедиться в том с лестницы, посредством вашего обаняния. Салми из куропаток под соусом с чесноком. О, сэр, позвольте этому бедному ангелу отдохнуть и освежиться! Добродетельная суровость ужасная добродетель для ваших лет. – Он говорил совершенно серьезно, с видом моралиста, провозглашающего принципы, делающие честь его уму и сердцу.
Амелиус вернулся в библиотеку.
Салли оставалась в мягком кресле с подушками. Ее поза, показывала, что она очень утомлена.
– Я сделала большую, большую прогулку, – сказала она, – и не знаю, что более болит у меня, спина или ноги. Но это мне все равно, я вполне счастлива тем, что нахожусь здесь. – Она спокойно расположилась в кресле. – Вас удивляет, что я так смотрю на вас? – продолжала она. – Но я так давно вас не видела.
В ее голосе звучала нежность, невинная нежность, откровенно обнаруживаемая. Живительное влияние жизни в приюте сделало многое, но еще большее оставалось сделать. Ее худое личико пополнело, губы и щеки возвратили свой натуральный цвет, она была такою, какой видел ее Амелиус во сне. Но ее глаза в спокойном состоянии сохранили прежний покорный взор, ее манеры, более плавные и уверенные, не потеряли детской прелести. Ее переход от ребенка к женщине происходил с примерной постепенностью.
– Как вы полагаете, приедут за вами сюда из приюта? – спросил Амелиус.
– Я не думаю, – спокойно сказала она, посмотрев на часы. – Уже прошло много времени с тех пор, как я ушла оттуда через заднюю дверь. У них строгие правила в отношения бежавших оттуда девушек, даже в случае, если друзья привезут их назад. Если вы отправите меня назад… – Она замолчала и задумчиво устремила глаза на огонь.
– Что вы сделаете, если я отправлю вас назад?
– Что сделала одна из наших девушек прежде, чем ее приняли обратно в приют. Она бросилась в реку, приняла ванну, как она выражалась. Это была большая, сильная девушка. Ее вытащили и спасли. Она говорила, что не чувствовала никакой боли, никакого страдания, пока ее не привели в чувство. Я маленькая и слабая, я не думаю, чтоб меня вернули к жизни, как бы это сделать ни старались.
Амелиус попробовал порассуждать с ней, убедить ее, что она дурно поступила, бежав из приюта. Ответ Салли сделал все дальнейшие упреки излишними. Вместо того чтоб защищаться, она тяжело вздохнула и сказала: «У меня не было денег, я пришла сюда пешком».
Благоразумные увещания Амелиуса перешли в сострадательное изумление.
– Как, бедная крошка, да ведь тут семь или восемь миль, – воскликнул он.
– Полагаю, – отвечала Салли. – Но что мне до того теперь, когда я нашла вас.
– Но как вы нашли меня? Кто сказал вам, где я живу? Она улыбнулась и вынула из-под лифа фотографию коттеджа.
– Но мистрис Пейзон отрезала адрес, – заметил Амелиус.
Она повернула фотографию и показала заднюю сторону, на которой было написано имя и адрес фотографа.
– Мистрис Пейзон не подумала об этом, – промолвила она с лукавой усмешкой.
– А вы подумали о том? – спросил Амелиус.
– Я слишком глупа для этого, – сказала она, покачав головой. – Меня надоумила та девушка, что хотела утопиться. «Вы непременно решились бежать?» – спросила она меня. «Да», – отвечала я ей. «В таком случае вы пойдете к человеку, делавшему эту фотографию, он должен знать место», – заявила она. Я расспрашивала у всех о месте его жительства, нашла его, и он сказал мне ваш адрес. Он добрый человек, он предложил мне стакан вина, так как нашел, что у меня очень утомленный вид. Я сказала ему, что мы, вы и я, ваша служанка, придем к нему на днях сфотографироваться. Могу я сказать старому чудаку французу, что он может убираться теперь, как я пришла к вам? – Простота, с которой она обнаруживала свою ревность к Тофу, заставила Амелиуса улыбнуться. Салли, наблюдавшая за малейшим изменением в его лице, сейчас же сделала из этого свое заключение. – Ах! – радостно воскликнула она, – я буду убирать вашу комнату чище, чем он. Я заметила пыль на занавесях, когда скрывалась от вас.
Амелиус подумал о своем сне.
– Вы выходили из-за занавески, когда я спал? – спросил он.
– Да, мне нечего было бояться вас, когда вы спали. Мне было удобно смотреть, на вас, и я вас поцеловала. – Она сделала это признание без малейшего смущения, ее прекрасные голубые глаза смотрели ему прямо в лицо. – Но вы спали беспокойно, – продолжала она, – и я испугалась, погасила лампу и думала, что если вы будете меня бранить, то мне легче будет снести это в темноте.
Амелиус слушал в удивлении. Так он видел наяву то, что казалось ему грезой. Между ним и Салли была какая-то таинственная симпатия. Эти тайные рассуждения были прерваны вопросом Салли.
– Могу я снять свою шляпу и привести в порядок свой туалет. – Некоторые мужчины сказали бы нет, но Амелиус не принадлежал к числу их.
Из библиотеки была дверь в диванную, спальня Амелиуса находилась на другом конце коттеджа. Когда Салли увидела комнату, приготовленную Тофом, она остановилась в дверях в безмолвном удивлении перед представившейся ей роскошью. От времени до времени Амелиусу слышался плеск воды и безыскусная английская песня, от которой и произошло ее имя. Потом она постучала в дверь и спросила из-за нее: «Здесь есть духи на столе, можно мне взять немножко?» Потом Тоф постучался в другую дверь, выходившую в коридор, и спросил, скоро ли прелестная молодая мисс будет готова к ужину? Салли как будто уже имела свое место в маленьком хозяйстве. «Что мне делать?» – спрашивал себя Амелиус. Тоф, вошедший в эту минуту в комнату, почтительно ответил: «Поторопите молодую особу, сэр, не то салми остынет».
Она вышла из своей комнаты, осторожно ступая больными ногами, такая свеженькая, такая прелестная, что Тоф, залюбовавшись ею, не так, как следовало, свернул салфетку, что случилось с ним первый раз в жизни.
– Прикажете шампанского, сэр, – спросил он потихоньку Амелиуса. Явились куропатки, одушевляющее вино заискрилось в стаканах, Тоф превзошел самого себя за ужином. Салли забыла о приюте, забыла ужасные улицы и смеялась, веселилась, как самая счастливая девушка на свете. Амелиус, оживившись в приятной атмосфере юности и хорошего, веселого настроения, стряхнул с себя заботу об ответственности и стал хорошим товарищем. Пылкая веселость этого вечера доходила уже До высшей степени, страшный признак долга, приличий, благоразумия давно исчез из комнаты, как вдруг Немезида, богиня возмездия, возвестила о своем прибытии стуком колес и потом решительным, громким звонком.
В комнате наступила мертвая тишина. Амелиус и Салли смотрели друг на друга. Опытный Тоф тотчас же смекнул в чем дело.
– Это ее отец или мать? – спросил он Амелиуса с беспокойством. Услышав, что она не знает ни отца, ни матери, он весело щелкнул пальцами и на цыпочках отправился в зал. – У меня родилась идея, – прошептал он. – Послушаем.
Послышался высокий, решительный женский голос, говоривший, по-видимому, с извозчиком.
– Доложите, что я приехала от мистрис Пейзон и должна немедленно видеть мистера Гольденхарта.
Салли задрожала и побледнела. «Надзирательница, – тихо пробормотала она. – О, не впускайте ее сюда». Мистер Гольденхарт увел перепуганную девушку в библиотеку, Тоф последовал за ними, почтительно спрашивая, что значит «надзирательница». Получив необходимые объяснения, он решил, что надзирательница означает женщину, которая держит прелестных девушек в плену, отворил дверь библиотеки и ушел в зал. Облегчив таким образом свою душу, он вернулся к своему господину и, подняв пальцы, представил, что натягивает нос.
– Я полагаю, сэр, что вам вовсе нет надобности видеть эту бешеную женщину? – сказал он. Прежде чем Амелиус успел что-нибудь ответить, раздался снова звонок, возвещавший, что бешеная женщина желает видеть Амелиуса. Тоф прочел желание своего господина на его лице. Этот непредвиденный случай, однако, не застал его врасплох, он также готов был справиться с надзирательницей, как справился с ужином. «Ставни закрыты, занавеси спущены, – напомнил он своему господину. – Света не видать снаружи. Пускай ее звонит, мы все спать легли». Он обратился к Салли, восхищаясь своей выдумкой. «Что думаете вы об этом, мисс?» Когда он произносил эти слова, раздался третий звонок. «Звони, госпожа надзирательница! – воскликнул он. – Мы все уснули, попробуй разбудить нас». Четвертый звонок был последний. Резкий треск возвестил о том, что проволока была порвана, и вслед затем зазвенела железная ручка, упавшая на каменистую дорожку сада. Калитка, так же как и люди, была избавлена от нападений матроны. «Успокойтесь, мисс, – сказал Тоф, – если б она вздумала перелезть через калитку, то напоролась бы на гвозди. – В следующую минуту стук отъезжавшего экипажа возвестил о неудаче надзирательницы и решил вопрос о ночлеге Салли».
Она молча сидела у окна, когда Тоф вышел из комнаты, открыла занавески и посмотрела на темное небо.
– Что вы смотрите? – спросил Амелиус.
– Я смотрю на звезды.
Амелиус подошел к окну.
– Сегодня нет звезд, – заметил он.
Она опустила занавеску.
– Я думала о вечерах, проведенных мною в приюте. Днем, вы знаете, я занималась чтением и писанием. Я хотела научиться. Мое сердце замирало от страха, что вы презираете такое невежественное создание, как я. Я всегда старательно готовила свои уроки. Я мечтала о том, что сделаю вам сюрприз, написав вам хорошенькое письмо. Одна из учительниц (она оставила школу) была очень добра ко мне. Я привыкла разговаривать с ней, и когда я что-нибудь не правильно говорила, она исправляла и учила меня. Она говорила, что вы будете лучшего обо мне мнения, если я буду хорошо выражаться, и я стала говорить лучше, не правда ли? Это все происходило днем, самое тяжелое время приходило с наступлением ночи, когда другие девушки спали, а я думала о том, как я далеко от вас. Я вставала, завертывалась в одеяло и подходила к окну. В хорошие ночи звезды были моим обществом. Были две звезды, очень близкие друг к другу, которые я полюбила. Не смейтесь, я привыкла думать, что одна из них – вы, другая – я. Я загадывала, который из нас умрет, вы или я, прежде чем я вас увижу. И почти всегда случалось, что моя звезда исчезала прежде вашей. Боже, как я плакала! Мне казалось, что я никогда больше вас не увижу. Я и убежала от этого. Вам нечего говорить, это было так глупо, что мне теперь стыдно за себя. Мне хотелось увидеть сегодня вечером вашу и мою звезду. Я сама не знаю зачем. Ах, я так люблю вас! – Она опустилась на колени, взяла его руку и прижала к своей голове. – Она так горит, – сказала она, – и ваша добрая рука освежит ее.
Амелиус ласково поднял ее и повел к двери.
– Моя бедная Салли, вы совсем истомлены и нуждаетесь в отдыхе и сне. Простимся.
– Я сделаю все, что бы вы мне ни велели, – отвечала она. – Если мистрис Пейзон придет завтра, вы не позволите ей увезти меня? Благодарю вас. Покойной ночи.
Она обвила своими руками его шею, с чистой, невинной фамильярностью, приподнялась на цыпочках и поцеловала его как сестра.
Салли давно уже спала в своей постели, а Амелиус все еще сидел у камина в библиотеке, погруженный в думы.
Воспоминание о чувствах и мечтаниях молодой девушки, так безыскусственно обрисовавшихся в рассказе о звездах, служивших ей «обществом», не только растрогали и заинтересовали его, но наполнили его душу тревогой и сомнением за будущее. Таинственное влияние, под которым совершалось развитие девушки, действовало нравственно и физически. Пройдут безвредно недели и месяцы, но наступит время, когда их невинные отношения подвергнутся опасности. Амелиус, не способный ни на чем остановиться, смутно сознавал эту истину. Выражение лица его было тревожно, когда он зажег свечу и пошел в свою спальню. «Я не могу уяснить себе как следует, как должен я поступить, – размышлял он. – Когда же это кончится?»
Глава XXXI
На следующее утро в восемь часов Тоф разбудил Амелиуса. Принесли письмо с надписью «Весьма срочное» и, посланный ожидал ответа.
Письмо было от мистрис Пейзон. Она писала коротко и ясно. После, безуспешного посещения надзирательницы мистрис Пейзон заявляла:
«Я требую, чтоб вы немедленно дали мне знать, где Салли нашла убежище, у вас ли провела она ночь. Если это было так, как я полагаю, то мне остается только уведомить вас, что двери приюта согласно с нашими правилами закрыты для нее навсегда. Если же я ошибаюсь, то моя обязанность объявить немедленно о том полиции».
Амелиус стал отвечать под впечатлением минуты, как это было ему свойственно. Он писал с горячностью о бесчеловечных и нехристианских правилах приюта. Не дошел еще он и до половины своих рассуждений, как посланный заявил, что ему приказано возвратиться, как можно скорее и что он надеется, что мистер Гольденхарт не поставит его в затруднительное положение, долго задерживая его. Прерванный среди прилива своего красноречия, Амелиус с досадой оставил свои увещания неоконченными и ответил мистрис Пейзон, написав ей деловым тоном всего одну строку:
«Уведомляю вас, что вы не ошиблись».
После минутного размышления он нашел, что такой ответ леди будет не только невежлив, но в отношении мистрис Пейзон лично покажет еще его неблагодарность. Третья попытка оказалась удачнее.
«Салли провела ночь у меня, как гостья. Она страдала от сильной усталости, было бы бесчеловечно отослать ее назад в таком состоянии. Очень сожалею о вашем решении, но беспрекословно покоряюсь ему. Вы как-то сказали, что, безусловно, верите в чистоту моих намерений. Отдайте мне эту справедливость, верьте мне, хотя бы вы и порицали мои поступки».
Отправив эти строки, на душе Амелиуса как будто стало легче. Он отправился в библиотеку и прислушался, нет ли движения в комнате Салли. Полнейшая тишина известила его, что измученная накануне девушка еще спала. Он распорядился, чтоб ее не беспокоили, а сам пошел завтракать.
Он сидел еще за столом, как появился Тоф с таинственным видом и шепотом доложил ему: «Пришла еще другая».
– Другая, – повторил Амелиус. – Что хотите вы сказать?
– Она не похожа на прелестную маленькую мисс, – продолжал Тоф. – На этот раз это дьявольская красота, как мы выражаемся во Франции. Она не доверяет мне и кажется сильно взволнованной, и то и другое нехорошие признаки. Не избавить ли мне вас от нее, пока та мисс спит?
– Не сказала она своего имени? – спросил Амелиус. Тоф отвечал с чужестранным акцентом:
– Только одно имя: Фейфей.
– Вы хотите сказать Феба?
– А разве я не так сказал, сэр?
– Приведите ее сюда.
Тоф посмотрел на дверь в комнату Салли, пожал плечами и повиновался приказанию.
Вошла Феба, бледная и взволнованная. Ее обычная самоуверенность исчезла, она остановилась у порога, точно боялась ступить в комнату.
– Войдите и садитесь, – сказал Амелиус. – Что случилось?
– Я очень встревожена, – отвечала Феба. – Я знаю, что я слишком дерзко поступаю, осмелившись придти к вам. Но я вчера обращалась за советом к мисс Регине и узнала, что она уехала с дядей из города. Мне нужно сообщить нечто о мистрис Фарнеби, и нельзя терять времени. За отсутствием мисс Регины а не знаю никого, кроме вас, к кому бы я могла обратиться. Лакей сказал мне ваш адрес.
Она остановилась, ее замешательство было очевидно. Амелиус старался ободрить ее.
– Если я могу быть в чем-нибудь полезен мистрис Фарнеби, – сказал он, – то говорите, я готов.
Глаза Фебы опустились перед его испытующим взором.
– С вашего позволения, сэр, я не буду никого называть по имени, – со смущением проговорила она. – Дело идет о человеке, которым я интересуюсь и которому я не желаю сделать никаких неприятностей. Его обманывают, я уверена в том, что его обманывает другая особа, старая пьяная женщина, которую бы следовало посадить в тюрьму, так как она этого заслуживает. Я сама заслуживаю порицания, я это знаю. Я подслушивала, сэр, чего не должна была делать, и еще передала слышанное (правда по секрету) тому человеку, о котором я уже упоминала. Не старой женщине, но той личности, которой я интересуюсь. Надеюсь, вы понимаете меня, сэр. Я буду говорить Откровенно о мистрис Фарнеби.
Амелиус вспомнил о мстительных, злых речах Фебы, когда он видел ее в последний раз. Он устремил взор на конторку, стоявшую в углу комнаты, куда он положил письмо мистрис Фарнеби. В душе его возникло инстинктивное недоверие к посетительнице. Обращение его изменилось, он повернулся к своей тарелке и продолжал завтракать.
– Можете вы говорить искренно? – сказал он. – Мистрис Фарнеби предстоит какое-нибудь огорчение?
– Да, сэр.
– И я могу чем-нибудь помочь ей?
– Я уверена, что можете, если знаете, где найти ее.
– Я знаю, где она. Она писала мне о том. Когда я видел вас в последний раз, вы так плохо говорили о ней, вы были очень сердиты на нее.
– Теперь я желаю ей только добра, сэр.
– Прекрасно. Почему же не можете вы пойти сами, переговорить с ней, если я дам вам ее адрес.
Бледное лицо Фебы вспыхнуло.
– Я не могу этого сделать, сэр, – отвечала она, – после того, как мистрис Фарнеби так дурно обошлась со мной. И если б она знала, что подслушала ее разговор с вами… – она остановилась, ее смущение, видимо, усиливалось.
Амелиус положил ножик и вилку.
– Послушайте, – сказал он. – Я не люблю такой манеры. Если вы не можете говорить прямо, оставим его и будем говорить о чем-нибудь другом. Я боюсь, – продолжал он, нимало не стесняясь, – что вы не добрая девушка. Что вы хотели сказать? Какой между нами разговор подслушали вы?
Феба поднесла платок к глазам.
– Жестоко так говорить со мной, – сказала она, – и именно тогда, когда я сожалею о том, что сделала, и желаю предупредить зло, которое может произойти из-за того.
– Что же вы сделали? – закричал Амелиус, соскучившись слушать эти уклончивые, бестолковые объяснения.
Глаза его загорелись нетерпением, когда он задал этот вопрос, заставивший наконец Фебу заговорить откровеннее. Она рассказала ему, что она слышала в кухонное окно, рассказала также подробно и чистосердечно, как рассказывала Жервею, с той только разницей, что не позволила себе ни малейшей дерзости в отношении мистрис Фарнеби.
Выслушав все молча, Амелиус вскочил, отпер конторку и достал письмо мистрис Фарнеби. Он прочел его, отвернувшись от Фебы, с минуту подумал и, вдруг обернувшись, устремил на нее такой взор, что она вздрогнула.
– Негодяйка! – сказал он. – Вы бессердечная негодяйка!
Феба в испуге хотела бежать из комнаты. Амелиус остановил ее.
– Сядьте, – сказал он. – Я хочу знать всю истину.
– Вы ее знаете, сэр, – проговорила Феба, приободрившись. – Я не могла бы ничего больше сказать вам, даже если б лежала на смертном одре.
Амелиус развернул письмо мистрис Фарнеби и грозным жестом указал на него.
– Не хотите ли вы отрицать свое участие в этом подлом заговоре? – спросил он.
– Помилуй меня, Бог, я до вчерашнего дня ничего не слышала о том!
Тон, которым были произнесены эти слова, показывал, что они были искренни, и убедил в том Амелиуса.
– Два человека надувают и обирают эту несчастную леди, – продолжал он. – Кто они?
– Я уже вам говорила, что не упомяну имен, сэр.
Амелиус снова посмотрел в письмо. После всего им слышанного нетрудно было узнать в невидимом «молодом человеке», о котором говорила мистрис Фарнеби, ту личность, которой интересовалась Феба. Кто это был? Не успел он задать себе этого вопроса, как ему вспомнился бродяга, виденный им с Фебой на улице. Не было больше сомнения: мошенник, устроивший этот заговор, был никто иной, как Жервей. Амелиус непременно обнаружил бы свое открытие, если б Феба не остановила его. Его вторичное обращение к письму мистрис Фарнеби и внезапное молчание после того возбудили в ней подозрения.
– Если вы причините неприятности моему другу, – воскликнула она, – вы не услышите более ни слова из моих уст.
Амелиус воспользовался предостережением.
– Храните свои тайны, – сказал он. – Я желаю только избавить мистрис Фарнеби от ужасного разочарования. Но что я скажу ей, когда приду? Не можете ли вы сообщить мне, как вы открыли это гнусное мошенничество?
Феба с готовностью объяснила ему. Сократив ее длинный рассказ, мы получим следующее: мистрис Соулер, пригласив ее к себе, всячески старалась выпытать у нее известную ей тайну мистрис Фарнеби. Так как ловушка не действовала, то она решилась подкупить ее: обещала Фебе разделить с ней поровну большую сумму, если она скажет ей тайну, уверяла ее, что Жервей способен не сдержать слово насчет своей женитьбы на ней и оставит их обеих в петле, когда получит деньги и положит их в свой карман. Таким образом узнала Феба, что заговор, который она считала оставленным, успешно подвигается вперед втайне от нее. Она ничего не сказала мистрис Соулер, боясь возбудить в ней подозрения, и поспешила к Жервею, чтоб объясниться с ним. Он не оказался дома. Тогда она отправилась к мисс Регине также безуспешно. На этом и кончилась ее история.
Амелиус не задал ей вопросов и сказал только несколько слов, после того как она кончила:
– Я пойду сегодня же утром к мистрис Фарнеби.
– Вы уведомите меня, чем это кончится? – спросила она.
Амелиус подал ей через стол записную книжку и карандаш и указал на чистую страничку, на которой она могла написать свой адрес. Пока она этим занималась, в комнату вошел внимательный Тоф и, устремив свой взор на Фебу, сказал что-то шепотом своему господину. Он слышал, что Салли зашевелилась. Не лучше ли при настоящих обстоятельствах подать ей завтрак в ее комнату? Забавно было видеть удивление Тофа, когда Амелиус отвечал: «Конечно, нет. Подайте ее завтрак сюда».
Феба встала. Ее прощальные слова обнаружили двойственную натуру: хорошую и дурную в постоянной борьбе между собою.
– Я прошу вас не упоминать обо мне мистрис Фарнеби, сэр, – сказала она. – Я не простила ей ее поступка со мною. Я не желаю ей добра, но не хочу, чтоб ей делали такое зло. Я знаю ее характер, знаю, что ей предстоит смерть или сумасшествие, если ее не предостеречь во время. Я не забочусь о том, что ее лишат ее денег. У нее их довольно, хоть бы двадцать раз обобрали, какое мне дело. Но я не хочу, чтоб ее манили надеждой, что она увидит своего ребенка, и разбили ей сердце, когда она узнает, что все это плутовство. Я ненавижу ее, но я не могу и не хочу, чтобы продолжали это зло. Прощайте, сэр.
Когда она ушла, у Амелиуса на сердце точно стало легче. Минуту или две сидел он, бессознательно мешая ложкой свой кофе и погруженный в думу о том, как он исполнит свою ужасную обязанность и откроет мистрис Фарнеби гнусное мошенничество. Тоф прервал его размышления, приготовляя на столе завтрак для Салли. И почти в ту же минуту сама Салли, свежая и розовая, полуотворила дверь и выглянула оттуда.
– Вы отлично и долго спали, – сказал Амелиус. – Совершенно ли вы оправились от вчерашней прогулки?
– О, да, – весело отвечала она. – Только ноги мои помнят о прогулке. Я не могу надеть свои ботинки. Не одолжите ли вы мне свои туфли?
– Свои туфли! Но вы потонете в них, Салли! Что же такое с вашими ногами?
– Они обе распухли. А на одной из них, кажется, нарыв.
– Пойдите сюда и покажите мне.
Она пришла босиком, прихрамывая.
– Не браните меня, – просила она. – Я не могу надеть чулки, они такие грязные, да и не высохли до сих пор.
– Я пошлю вам за новыми чулками и туфлями, – сказал Амелиус. – На какой ноге у вас нарыв?
– На левой, – отвечала она, указывая на ногу.
Глава XXXII
– Покажите мне нарыв, – сказал Амелиус.
Салли тоскливо взглянула на огонь.
– Нельзя ли мне прежде погреть ноги? – попросила она. – Они такие холодные.
Эта просьба отодвинула открытие, которое могло изменить весь ход событий. Амелиус думал теперь лишь о том, чтоб избавить ее от холода. Он приказал Тофу подать самые теплые из своих носков и спросил его, сумеет ли он их надеть ей. Она, смеясь, покачала головой и надела их сама.
Когда они достаточно посмеялись над забавным видом ее маленькой ножки в большом носке, они совсем забыли о нарыве и перешли к другим темам разговора. Салли вспомнила об ужасной надзирательнице и спрашивала, не слыхали ли о ней чего в это утро. Узнав, что мистрис Пейзон написала и что двери заведения заперты для нее навсегда, она развеселилась и спрашивала, возвратит ли ей разгневанное начальство ее платья. Тоф предложил навести справки об этом вечером, так как теперь нужно было позаботиться о чулках и туфлях, что он и предполагал сделать во время завтрака. Амелиус это одобрил, и Тоф отправился в путь, взяв для мерки один из ботинок Салли.
В это время часы пробили уже десять утра. Амелиус, стоя у камина, разговаривал, Салли завтракала. Объяснив сначала причины, по которым она не могла остаться в коттедже в качестве горничной, он удивил ее, возвестив, что он берет на себя наблюдение за ее воспитанием. Они будут учителем и ученицей, пока будут продолжаться уроки, в прочее же время братом и сестрой и посмотрят, как будут успевать в своих намерениях, не предаваясь ненужным тревогам о будущем. Амелиус чистосердечно верил, что он пришел к самому лучшему, единственно возможному решению в настоящих обстоятельствах. А Салли радостно восклицала:
– О, как вы добры! Наконец-то наступит счастливая жизнь!
В те минуты, когда эти слова вырвались из уст дочери, открытие гнусной проделки обрушилось на мать во всем его ужасе и низости.
Подозрения, что ее обманывает хозяин, заставившие мистрис Соулер попытаться втереться в доверенность к Фебе, побудили ее посетить квартиру Жервея в тот же день, только несколько позднее. Услышав (как и Феба), что его нет дома, она вернулась опять, пару часов спустя. Этим временем хозяин дома услышал, что Жервей вывез тайком все свое имущество и скрылся сам, не заплатив ему за две лучшие комнаты в доме.
После случившегося, поняв, как нельзя лучше, действия своего союзника, мистрис Соулер использовала оставшуюся часть вечера на розыски пропавшего, но не нашла никаких следов до восьми часов следующего утра.
В десять часов, как раз в то время, когда Феба посетила Амелиуса, мистрис Соулер, решившись узнать самое худшее, вошла в комнату, занимаемую мистрис Фарнеби.
– Я хочу говорить с вами об известном нам обеим молодом человеке, – начала она резко. – Имели вы о нем известия за последнее время или видели его?
Мистрис Фарнеби, находившаяся постоянно настороже, отвечала уклончиво:
– На что это вам нужно знать?
– Потому что я имею основание думать, что он бежал с вашими деньгами в кармане, – был готов ответ.
– Он не сделал ничего подобного, – возразила мистрис Фарнеби.
– Он взял у вас денег? – настаивала мистрис Соулер. – Говорите мне правду, и я так же буду говорить с вами. Он оплел меня и надул. Если он то же самое сделал с вами, то в ваших собственных интересах требуется не терять время и постараться найти его. Полиция может еще задержать его. Взял он у вас деньги?
Женщина говорила серьезно, весьма серьезно, это доказывали ее глаза и ее голос. Она стояла как живое олицетворение подозрений и опасений, описанных мистрис Фарнеби в письме к Амелиусу. В ее руках была власть, мистрис Фарнеби чувствовала это вопреки своей воле. Она созналась, что дала денег Жервею.
– Послали вы их ему или дали самому? – спросила Соулер.
– Я дала их ему.
– Когда?
– Вчера вечером.
Мистрис Соулер сжала кулаки в припадке бессильной ярости.
– Это подлейший мошенник, какой только может быть на свете! – с гневом вскричала она, – а вы страшнейшая дура! Надевайте шляпку и пойдемте в полицию. Если вы получите обратно свои деньги прежде, чем он истратит их, то не забудьте, что этим вы обязаны мне.
Наглость этой женщины вывела из себя мистрис Фарнеби. Она указала на дверь.
– Вы наглая тварь, – сказала она. – Мне не о чем говорить с вами.
– Вам не о чем говорить со мной, – повторила Соулер. – Вы все устроили между собой с этим молодым человеком. – Она презрительно захохотала. – Вы думаете еще увидеть его?
– Я увижу его сегодня в десять часов утра, – отвечала она разгорячившись.
– И вместе с ним потерянную молодую леди?
– Не смейте говорить о моей потерянной дочери! Я не желаю от вас слышать о ней!
Мистрис Соулер села.
– Посмотрите на часы, – сказала она. – Я останусь здесь до десяти часов. Вам придется поднять скандал в доме, если вы захотите меня выгнать отсюда. Я должна дождаться здесь десяти часов.
Совсем уже готовая на резкий ответ, мистрис Фарнеби, однако, сдержалась.
– Вы хотите вызвать меня на ссору, но вам не удастся испортить счастливейшее утро в моей жизни. Можете дожидаться здесь.
Она отворила дверь в свою спальню и удалилась туда. Совершенно неспособная почувствовать себя оскорбленной при подобном поступке, Соулер с сардонической улыбкой посмотрела на дверь и стала ждать.
Часы в зале пробили десять. Мистрис Фарнеби вернулась в столовую и стала ходить взад и вперед по комнате, беспрестанно приближаясь к окну.
– Видите его? – спросила Соулер.
Его и следа не было. Мистрис Фарнеби придвинула стул к окну и села. Руки ее были холодны как лед. Она, не спуская глаз, смотрела на улицу.
– Теперь я могу объяснить случившееся, – решила мистрис Соулер. – Я человек податливый, вы знаете, и я должна поговорить с вами. Сначала о деньгах. Взял у вас молодой человек денег на путешествие? Он должен был отправиться в чужие края, чтоб привезти оттуда вашу дочь? Угадала я? Я так хорошо знаю его. А что случилось вчера вечером, скажите, пожалуйста. Обещал он вам привезти ее? Сказал он вам, что не покажет ее до тех пор, пока вы не заплатите ему издержки на путешествие и не вознаградите за труд? И вы забыли мои предостережения и поверили ему? Видите, я верно отгадала. Что же не видно его?
Мистрис Фарнеби посмотрела в окно. Ее обращение совершенно изменилось, она стала весьма вежливой с мучившей ее женщиной.
– Прошу извинить меня, сударыня, если я оскорбила вас, – сказала она тихо. – Я очень расстроена, я так беспокоюсь о моей бедной дочери. Вы, может быть, сами мать. Вы не должны пугать меня, вы должны мне сочувствовать. – Она остановилась и прижала руку к голове. – Он сказал мне вчера вечером, – продолжала она тихо и как бы бессознательно, что моя бедная девочка у него на квартире, что она утомлена долгим путешествием, нуждается в отдыхе, прежде чем придет ко мне. Я просила его сказать мне свой адрес и позволить пойти туда. Он уверял, что она спит и ее не нужно беспокоить. Я сказала, что пройду на цыпочках и только посмотрю на нее, я предлагала ему денег вдвое больше, чем обещала, но он оставался непреклонным. Он только и твердил, что я должна подождать до завтра, и потом простился, пожелав мне покойной ночи. Я было бросилась за ним, но упала на лестнице, мне стало дурно. Сбежавшиеся жители этого дома были очень добры ко мне. – Она снова обернулась к окну и стала смотреть на улицу. – Я должна быть терпеливой, – прибавила она, – он только немножко опоздал.
Мистрис Соулер встала и сильно ударила ее по плечу.
– Все ложь! – проговорила она. – Он столько же знает, где ваша дочь, сколько я, и он скрылся с вашими деньгами.
От прикосновения ненавистной женщины в мистрис Фарнеби вспыхнул прежний гнев. Ее характер снова показал себя.
– Вы лжете! – воскликнула она. – Оставьте мою комнату.
Когда она произносила эти слова, отворилась дверь, и в комнату вошла служанка с письмом в руках. Мистрис Фарнеби взяла его машинально и посмотрела на адрес.
Почерк Жервея был ей знаком. Она тотчас же узнала его, и жизнь, казалось, готова была ее покинуть. Она стояла бледная и безмолвная, держа в руках нераспечатанное письмо.
Наблюдая за ней с коварным любопытством и вполне владея собою, мистрис Соулер посмотрела на письмо и в свою очередь узнала почерк.
– Постойте, – закричала она горничной, которая только что приблизилась к двери, – на письме нет штемпеля, кто же принес его? Ждет посланный ответа?
Почтенная женщина отвечала кратко и неохотно.
– Нет.
– Принес мужчина или женщина? – был следующий вопрос.
– Должна я отвечать этой госпоже, сударыня, – обратилась служанка к мистрис Фарнеби.
– Отвечайте мне немедленно, – приказала Соулер. – Этого требуют собственные интересы мистрис Фарнеби. Неужели вы не видите, что она не в состоянии говорить.
– Хорошо, – отвечала служанка, – это был мужчина.
– Косой.
– Да.
– В какую сторону он пошел?
– К северу.
Мистрис Соулер бросила письмо на стол и поспешно выбежала из комнаты. Служанка приблизилась к мистрис Фарнеби.
– Вы еще не читали своего письма, сударыня, – сказала она.
– Нет, – бессознательно отвечала мистрис Фарнеби, – я еще не открывала его.
– Боюсь, что оно содержит дурные вести, сударыня.
– Да, полагаю, что так.
– Могу я что-нибудь сделать для вас?
– Нет, благодарю вас. Да, одно. Распечатайте письмо.
Странное было поручение. Служанка удивлялась, но повиновалась. Она была добросердечная женщина, жалела бедную леди. Но движимая любопытством, она спросила, как только вынула письмо из конверта: «Должна я прочесть его, сударыня?»
– Нет, положите его на стол. Я позвоню, когда вы мне понадобитесь.
Мать осталась одна, одна со смертным приговором, ожидавшим ее на столе.
Часы пробили половину одиннадцатого. Она в первый раз пошевелилась после получения письма, встала, подошла к окну и посмотрела на улицу. Это продолжалось не более минуты. Она вернулась опять, сказала с презрением к себе: «Какая я безумная!» и взяла развернутое письмо.
Она посмотрела на него и положила его назад.
– Зачем я буду читать его? – проговорила она про себя, – ведь я не читая знаю, что в нем написано.
На стене в деревянных рамах висели иллюстрации, на одной из них была изображена сцена спасения после кораблекрушения, на переднем плане мать обнимает дочь, вызволенную из пучин спасательной шлюпкой. Внизу подписано: «Благость провидения». Мистрис Фарнеби несколько минут смотрела на нее с особенным вниманием. «Провидение ей благоприятствовало, – пробормотала она, – мне – нет».
Подумав немного, она отправилась в свою спальню, вынула из шкатулки какие-то бумаги. Оказались рецепты. Она вернулась к камину, на нем стояли два пузырька с лекарствами. Она взяла один из них, в нем была какая-то бесцветная жидкость. На ярлычке значилась доза «две столовых ложки», и также номер, соответствовавший номеру рецепта. Она прочитала рецепт. Это была микстура из двууглекислой соды и синильной кислоты для облегчения пищеварения. Она посмотрела на число и вспомнила о редком случае, когда она прибегла к помощи врача. Это было серьезное нездоровье, случившееся с нею после парадного обеда, данного хорошими ее знакомыми. Она очень умеренно поела какого-то кушанья, от которого пострадали и некоторые другие гости. Потом оказалось, что это кушанье было изготовлено в медной, нелуженой кастрюле. У нее случилось расстройство пищеварения, и только вследствие чего доктор и прописал ей это лекарство. Она выпила две ложки, хотя со своим здоровым темпераментом она презирала лекарства. Микстура и теперь была в склянке.
Она о чем-то задумалась, потом пошла опять к камину и взяла другую склянку.
В ней тоже была бесцветная жидкость, склянка была меньше, и лекарство было не тронуто. Она с необычайным вниманием рассматривала разницу пузырьков. Она имела также рецепт этого лекарства, но не оригинал, а копию, сделанную аптекарем по просьбе знакомого. Дата, значившаяся на ней, показывала, что он выписан три года тому назад. На кусочке бумажки, приколотой к рецепту, имелось несколько строк, написанных женской рукой: «Я не думаю, моя дорогая, чтоб с вашим здоровьем и сложением вам понадобилось когда-нибудь тоническое средство. Но на всякий случай прилагаю рецепт. Будьте осторожны, принимая лекарство, в нем яд». В рецепте три составных части: стрихнин, хинин и хлористоводородная кислота. Предписывалось принимать по пятнадцати капель в воде. Мистрис Фарнеби зажгла спичку и сожгла записку своей приятельницы. «Давно уж я собиралась покончить с собою, – думала она, глядя на горевшую бумагу, – почему же не привести в исполнение этого намерения?»
Уничтожив бумагу, она убрала рецепт для пищеварения в шкатулку, несколько минут оставалась в нерешимости, потом открыла окно спальни и осмотрела маленький, пустынный дворик. Она вылила содержимое второго маленького пузырька во двор и поставила его пустой на камин. После вторичной непродолжительной нерешимости она вернулась в столовую со склянкой микстуры и с копией рецепта.; в котором был выписан стрихнин.
Она поставила склянку на стол и, усевшись подле камина, взялась за звонок. Как ни было тепло в комнате, она дрожала от холода. Не предчувствовала ли ее горячая натура возникших в ней намерений и не содрогалась ли от них? Вместо того чтоб позвонить она склонилась к огню и старалась согреться.
– Другие женщины искали бы облегчения в слезах, – подумала она. – Желала бы я быть похожей на других женщин.
Грустная истина заключалась в этом желании. Для нее не было облегчения в слезах, забвения в обмороках. Сильный организм этой женщины не имел снисхождения к невыразимым мукам, терзавшим ее душу. Он удивительно противостоял всему: он превращал ее как бы в камень или железо.
Она отвернулась от огня, сама удивляясь себе.
– Какая низость, мне бояться смерти! Зачем буду я жить?
Лежавшее на столе письмо попало ей на глаза. «Теперь прочтем его», – сказала она, взяла письмо и стала читать.
«Все, что я могу для вас сделать как джентльмен, это избавить вас от дальнейших недоумений и ожиданий. Вы не увидите меня сегодня в десять часов по той простой причине, что я не знаю и никогда не знал, где находится ваша дочь. Желал бы быть богатым, чтоб возвратить вам ваши деньги. Но так как не имею на то никакой возможности, то хочу дать вам добрый совет. Если вы будете когда-нибудь сообщать свои тайны мистеру Гольденхарту, то позаботьтесь о том, чтоб никто не мог вас слышать».
Она прочла эти ужасные строки, не потеряв, по-видимому, своего самообладания. Ее ум не утруждался мыслью о том, кто подслушал и изменил ей. Для обыкновенного любопытства, для обыкновенных ощущений она была нравственно мертва.
Одна мысль овладела ею, мысль об обманувшем ее мужчине.
– Если б он попался мне, я впилась бы в горло его руками и задушила бы его! Но так как… – Преследуя свою мысль, она бросила письмо в огонь и позвонила.
– Снесите это в ближайшую аптеку, – сказала она, отдавая служанке рецепт на стрихнин, – подождите там и принесите мне лекарство.
Оставшись одна, она отперла конторку, вынула оттуда письма и бумаги. Потом взяла перо и написала письмо Амелиусу.
Когда служанка вернулась и принесла ей лекарство, пробило одиннадцать часов.
Глава XXXIII
Тоф возвратился в коттедж с туфлями и чулками.
– Как вы долго ходили, – заметил Амелиус.
– Это не моя вина, сэр, – оправдывался Тоф. – Чулки я добыл без затруднения, но в ближайшем башмачном магазине я не мог найти по мерке туфель, все были слишком велики. Я отправился к своей жене и попросил ее указать мне подходящий магазин. Посмотрите! – воскликнул он, показывая пару шелковых стеганых туфель с голубыми розетками. – Эти, кажется, достойны прелестной ножки. Померьте их, мисс.
Глаза Салли заблестели при виде туфель. Она вскочила с места и бросилась в свою комнату. Амелиус, заметив, что она ступает с трудом, позвал ее.
– Я совсем забыл о нарыве, – сказал он. – Прежде чем вы наденете новые чулки, Салли, покажите мне вашу ногу. – И обратившись к Тофу, он продолжал:
– Вы всегда так находчивы, а не подумали об игле и нитках.
Старый француз отвечал с видом почтительного укора.
– Зная меня, сэр, – сказал он, – могли ли вы сомневаться в том, что я сам чиню свои платья и штопаю свои чулки. – Он отправился в свою спальню и вернулся оттуда с кожаным свертком. «Когда вы будете готовы, сэр?» – прибавил он, развернув сверток и вдев нитку в иглу, между тем как Салли снимала носок с больной ноги.
По указанию Амелиуса она села на стул у окна. Он опустился на одно колено, а на другое поставил ее ногу.
– Повернитесь больше к свету, – сказал он, взял рукой ее ногу, осмотрел и вдруг быстро опустил ее на пол.
Салли вскрикнула от испуга, и Тоф приблизился к ним.
– Посмотрите, – закричала она, – ему дурно! – Тоф посадил Амелиуса на стул. «Господи помилуй, – пробормотал ошеломленный старик, – что случилось?» Амелиус побледнел, как смерть, что бывает с мужчинами крепкого сложения при внезапном потрясении. Он не мог выговорить слова. «Выпейте водки», – посоветовал Тоф, указывая на буфет. Салли тотчас же подала ее. Это несколько взбодрило Амелиуса.
– Очень жалею, что испугал вас, – тихо промолвил он. – Салли! Дорогая маленькая Салли, ступайте оденьтесь поскорее. Вы должны поехать со мной, я скажу вам после зачем. Господи! Почему не знал я этого прежде? Он увидел, что Тоф удивляется и дрожит. «Добрый старик! Не пугайтесь, вы после все узнаете. Бегите, приведите первый попавшийся кабриолет».
Оставшись на минуту один, он немного собрался с духом. Он старался выиграть время, приготовить себя к предстоящему свиданию с мистрис Фарнеби.
– Я должен обдумать, как поступить, – размышлял он, сознавая, какое потрясающее впечатление произвело на него самого это открытие, – она не ожидает, что я приведу ей ее дочь.
Салли возвратилась к нему совсем готовая идти из дома. Она казалась испуганной, когда он подошел к ней и взял ее руку.
– Не сделала ли я чего-нибудь дурного, – спросила она по детски. – Не хотите ли вы меня отвести в какой-нибудь другой приют? – Тон и взор, с которым были произнесены эти вопросы, нарушили сдержанность, взятую на себя Амелиусом ради нее же.
– Дорогое дитя! – воскликнул он. – Можете ли вы выдержать очень большую неожиданность? Я умираю от желания сообщить вам радостную истину, но боюсь сделать это. – Он заключил ее в объятия. Салли дрожала от беспокойства. Вместо того, чтоб отвечать ему, она повторила свой вопрос.
– Вы хотите отвезти меня в какой-нибудь другой приют?
Он не мог выдержать больше.
– Это счастливейший день в вашей жизни, Салли! Я отвезу вас к вашей матери.
Он прижал ее к себе и с тревогой смотрел на нее, опасаясь, что высказался слишком быстро.
Она молча подняла на него свои глаза, в них выражались страх и удивление, не было и следа радости. Священные понятия и чувства, связанные с именем матери, были ей неизвестны. Человек, который проявил к ней сострадание, спас ее, так нежно обошелся с нею, был для нее отцом и матерью. Она опустила голову ему на грудь, изменившийся голос ее показал ему, что она плачет.
– Мать моя возьмет меня от вас? – спросила она. – О, обещайте мне, что вы привезете меня назад в коттедж!
На минуту, и только на одну минуту, Амелиус был разочарован в ней. Великодушие, свойственное его натуре, живо представило ему настоящую точку зрения. Он вспомнил, какова была до сих пор ее жизнь. Сострадание к ней наполнило его душу.
– О, моя бедная Салли! Наступит время, когда вы не будете думать так, как думаете теперь! Я не сделаю ничего, что может огорчить вас. Вы не должны плакать, вы должны быть счастливы и любить свою мать.
Она вытерла слезы.
– Я сделаю все, что вы мне велите, – сказала она, – если вы меня привезете назад, Амелиус вздохнул и ничего не сказал больше. Он серьезно и безмолвно повел ее с собой, когда доложили, что экипаж у дверей.
– Я заплачу вдвое, если вы доставите нас на место в четверть часа, – сказал он извозчику. Было двадцать пять минут двенадцатого, когда извозчик тронулся от коттеджа.
С этой минуты разница в переживаемых чувствах двух спутников все более и более стали обнаруживаться. По мере того, как волнение Амелиуса усиливалось, Салли становилась более спокойной и доверчивой. Первый вопрос, с которым она обратилась к нему, относился не к ее матери, а к странному его состоянию при виде ее ноги. Он отвечал, объяснив вкратце и искренно все положение дела. Рассказ о происшедшем между ним и ее матерью заинтересовал и встревожил ее.
– Как может она так любить меня, не видав в продолжение стольких лет? – спросила она. – Мать моя леди? Не говорите ей, где вы нашли меня, ей будет стыдно за меня. – Она замолчала, и в волнении смотрела на Амелиуса. – Огорчены вы чем-нибудь? Могу я взять вашу руку? – Амелиус подал ей свою руку, и Салли успокоилась.
Когда они подъехали к дому, дверь была отворена. Джентльмен, одетый в черное, поспешно вышел оттуда, посмотрел на Амелиуса и заговорил с ним, когда тот вышел из экипажа.
– Извините, сэр. Могу я спросить вас, не родня ли вы даме, которая живет в этом доме.
– Нет, – отвечал Амелиус. – Но я ее друг и привез ей хорошие вести.
Серьезное лицо незнакомца выразило сострадание.
– Я должен поговорить с вами прежде, чем вы пойдете туда, – сказал он, понижая голос и смотря на Салли, еще сидевшую в кабриолете. – Вы извините, может быть, мою вольность, когда я скажу вам, что я доктор. Войдемте на минуту в сени, но не берите с собою молодую леди.
Амелиус сказал Салли подождать его в экипаже. Она заметила, что лицо его изменилось и просила его не оставлять ее. Он обещал оставить дверь в дом отворенной, чтоб она могла видеть его, и последовал за доктором.
– Очень сожалею, что должен сообщить грустные вести, – начал доктор. – Но дело очень важное, и я должен говорить откровенно. Вы слыхали, вероятно, о том что иногда по ошибке принимают одно лекарство вместо другого. Бедная леди умирает вследствие такого же случая. Постарайтесь владеть собой. Вы можете быть мне полезны, если будете настолько тверды, что займете мое место, пока я буду в отсутствии.
Амелиус моментально приободрился.
– Что я могу сделать, то я сделаю, – отвечал он.
Доктор взглянул на него.
– Я верю вам, – сказал он. – Теперь слушайте. Вместо дозы в пятнадцать капель было принято две столовые ложки, и лекарство, принятое по ошибке, был стрихнин. Один гран этого лекарства был бы гибелен, принято же три. Конвульсии уже начались. О противоядии не может быть и речи, бедняжка не в состоянии проглотить что-нибудь. Опиум облегчает в этом случае, и я отправляюсь за инструментом, чтоб пустить его под кожу. Не то чтоб я очень верил в это средство, но должно же попытать что-нибудь. Хватит ли у вас мужества подержать ее, если повторятся конвульсии в мое отсутствие?
– Ей будет легче, если я стану держать ее? – спросил Амелиус.
– Конечно.
– Так я обещаю.
– Помните, вы должны использовать силу. Там только две женщины, обе совершенно бесполезны в этом случае. Если она будет кричать, напрягайте силы, прижимайте ее крепче. Если вы будете только прикасаться к ней (я не могу вам объяснить почему это), это еще ухудшит положение.
Пока они разговаривали, сверху сбежала служанка.
– Не оставляйте нас, ради Бога, сэр, припадок снова начинается.
– Этот джентльмен поможет вам, пока меня не будет, – сказал доктор. – Еще одно слово, – продолжал он, обращаясь к Амелиусу. – В промежутках между припадками она в полном сознании, может слушать и говорить. Если она пожелает изъявить свою последнюю волю, воспользуйтесь оставшимся временем. Она может каждую минуту умереть от истощения. Я сейчас вернусь.
Он поспешно направился к двери.
– Возьмите мой экипаж, – сказал Амелиус, – берегите время.
– А молодая леди…
– Останется со мной.
Он отворил дверцу и подал руку Салли. Минуту спустя доктор сидел уже в кабриолете.
Амелиус увидел служанку, ожидавшую его в сенях. Он стал говорить с Салли, мягко, осторожно сообщил ей слышанное, прежде чем ввел ее в дом.
– У меня были такие хорошие надежды для вас, – сказал он, – и вот какая ужасная развязка! Хватит ли у вас мужества вынести это, если я позову вас к постели умирающей? Вам будет служить большим утешением впоследствии мысль, что облегчили последние минуты вашей матери.
Салли взяла его руку и сказала кротко:
– Я пойду всюду за вами.
Амелиус ввел ее в дом. Служанка из сострадания к ее молодости позволила себе сделать замечание.
– О, сэр, – воскликнула она. – Вы не допустите молодую леди увидеть такое ужасное зрелище.
– Вы очень добры, – отвечал Амелиус, – благодарю вас. Если б вы знали, что я знаю, вы взяли бы ее туда. Покажите, куда идти.
Салли смотрела на него с безмолвным благоговением, следуя за служанкой. Это был точно другой человек. Брови его были нахмурены, губы плотно сжаты. Он так крепко стиснул ее руку, что ей было больно. Вся внутренняя сила его – решительность, скрывающаяся в чувствительных организмах, – восстала в нем, чтоб встретить страшное испытание. Доктор вполне поверил бы ему, если б видел его в эту минуту.
Они поднялись на первую площадку. Не успела служанка отворить дверь прихожей, как по всему дому разнесся пронзительный крик. Служанка попятилась и, дрожа, схватилась за перила лестницы. В ту же минуту отворилась дверь и из комнаты выскочила другая женщина в страшном испуге.
– Я не могу выносить этого! – закричала она и кинулась вниз по лестнице, не замечая присутствия посторонних людей.
Амелиус вошел в гостиную, держа Салли за руку. Когда он усадил ее в кресло, ужасный крик повторился. Он ободрил ее словом и взглядом и бросился в спальню.
На минуту, но только на одну минуту остановился он, пораженный ужасом при виде отравившейся женщины. От стрихнина каждый мускул у нее напрягался, и все тело сотрясали мучительные конвульсии. Руки у нее были точно вывернуты, голова загнута назад, все тело напряжено, согнуто и приподнято кверху от постели, вытаращенные глаза, мрачное лицо, перекошенные губы, сжатые зубы, – все это было ужасно видеть. После минутного колебания он смело подошел к ней.
Прежде чем она успела закричать еще раз, он охватил ее своими руками. Полного напряжения его сил было едва достаточно, чтоб сдержать страшные конвульсии, перекашивающие все ее тело и поднимавшие его с постели. Он почувствовал постепенно ослабление судорог ее тела и припадок затих. Мертвенная неподвижность глаз стала проходить, и искривленные губы приняли нормальное положение. Она опустилась на постель и отдыхала, на лице выступила испарина. Немного спустя отяжелевшие веки слегка приподнялись. Она взглянула на него.
– Вы узнаете меня? – спросил он, наклонившись над нею, и она прошептала в ответ: «Амелиус».
Он опустился подле нее на колени и поцеловал ее руку.
– Можете вы выслушать меня? Я должен очень важное сообщить вам.
Она с трудом перевела дух, грудь ее сжималась. Он крепко обнял ее своими руками, чтоб положить повыше на постели, в эту минуту из соседней комнаты раздался умоляющий голос Салли:
– Позвольте мне придти к вам, я боюсь здесь одна.
Прежде чем ей ответить, он подождал с минуту, посмотрел на лицо, отдыхавшее у него на груди. По нему распространялась мертвенная тень, холодная, липкая влага покрывала лоб. Он обернулся к двери соседней комнаты, девушка стояла уже в дверях. Он сделал ей знак приблизиться. Она робко подошла, остановилась подле него и смотрела на мать. Амелиус велел ей занять его место.
– Обнимите ее, – прошептал он. – Салли, сообщите ей в поцелуе, кто вы.
Слезы девушки бурно полились, когда она прижала свои губы к щеке матери. Умирающая женщина взглянула на нее вопросительно, потом перевела взор свой на Амелиуса. В ее глазах было сомнение, от которого сжалось его сердце. Устроив подушки так, чтоб она могла оставаться в сидячем положении, он сделал Салли знак приблизиться к нему и снять туфлю с ее левой ноги. Сделав это, он снова посмотрел на постель, посмотрел и содрогнулся. Еще минута, и будет, может быть, поздно. Он поспешно ножом разрезал чулок и, посадив Салли на постель, подтянул ее босую ногу к матери.
– Ваше дитя, ваша дочь! – воскликнул он. – Я нашел вашу любимицу. Ради Бога, приподнимитесь, посмотрите!
Она услышала его, слегка приподняла ослабевшую голову, взглянула, узнала.
На минуту она собралась с угасающими силами. Глаза ее засияли божественной радостью материнской любви, крик торжества вырвался у нее из груди. Тихо, медленно наклонялась она вперед к самой ноге дочери. Со слабым вздохом экстаза она поцеловала ее. Прошла минута, и голова ее не поднялась более. Последний вздох ее был вздохом радости.
Глава XXXIV
День склонялся к вечеру. Несколько часов отдыха и уединения в коттедже в некоторой степени возвратили Амелиусу спокойствие. Он сидел теперь в библиотеке в обществе одной Салли. В комнате царствовало молчание. На открытой конторке подле него лежало письмо мистрис Фарнеби, написанное ему в утро ее смерти.
Он нашел письмо нераспечатанным на полу спальни и, по счастью, успел скрыть его прежде, чем хозяйка дома и служанки решились войти в комнату. Доктор, вернувшийся несколько минут спустя, заявил женщинам о прибытии осмотрщика мертвых тел и тщетно советовал им быть осторожными на язык. Не только причина смерти, но и имя покойной, помеченное на ее белье, скоро стали известными и открыли, что она наняла квартиру под чужим именем, а именно мистрис Рональд, и все это спустя несколько часов сделалось предметом толков во всей округе. При таких обстоятельствах рассказ об этом происшествии был в тот же вечер напечатан в одной из местных газет. Названо было настоящее имя, чтоб уведомить родственников о печальном событии. Если б письмо попало в руки хозяйки дома, то, по всему вероятию, тоже появилось бы в газетах, и тайна жизни и смерти мистрис Фарнеби стала бы общим достоянием.
«Я поручаю вам, только вам одному, – писала она Амелиусу, – исполнить последнее желание умирающей женщины. Вы знаете меня, знаете, как я мечтала о счастливой жизни в уединении с моей дочерью. Единственная надежда, которой я жила, оказалась жестоким обманом. Я открыла сегодня утром, что я была жертвой негодяев, наглым образом обманывавших меня за последнее время. Если 6 я была более счастливая женщина, если б у меня были какие-нибудь другие интересы, которые могли бы поддержать меня в этом ужасном несчастье, тогда другое дело. При настоящих условиях единственное мое спасение – смерть.
Мое самоубийство не должно быть известно никому, кроме вас. Уже несколько лет мысль о самоубийстве под видом ошибки возникла в уме моем. Я хранила это средство (весьма простое), думая, что рано ли, поздно ли кончу этим. Когда вы будете читать эти строки, я успокоюсь навсегда. Вы исполните то, о чем я буду просить вас, в память обо мне, я в этом уверена.
Вам предстоит еще долгая жизнь, Амелиус. Мечта о вас и своей дочери все еще коренится у меня в душе, я все еще верю, что вы можете встретить ее через несколько лет.
Если это со временем случится, я умоляю вас из сожаления ко мне не говорить никому, что она дочь моя. И если Джон Фарнеби будет еще жив тогда, я именем умирающего друга запрещаю вам дать ей увидеть его и даже сообщить ей о его существовании. Угадываете ли вы мои побуждения? Я могу сделать вам теперь постыдное признание, которое объяснит все, так как я знаю, что никогда более вас не увижу. Моя девочка родилась до брака, и человек, сделавшийся впоследствии моим мужем, человек низкого происхождения, был ее отец. Он использовал это обстоятельство, чтоб заставить родителей моих выдать меня за него замуж и составить таким образом его состояние. Теперь я знаю, хотя прежде только подозревала, что он бессовестно бросил своего ребенка, как помеху его карьере. Теперь вы не будете думать, что я требую слишком много, изъявляя желание, чтоб никогда не говорили моей бедной девочке об этом бесчеловечном негодяе. Что же касается до моей доброй славы, то я не думаю о себе. Имея перед собой смерть, я думаю о моей бедной матери и обо всем, что она выстрадала и чем пожертвовала для спасения меня от беды, которую я заслужила. Ради нее, не ради меня, должны вы хранить тайну от друзей и врагов, когда вас будут спрашивать, кто моя девочка. Вы должны сделать исключение только для моего стряпчего. Уже много лет тому назад я отдала в его руки деньги для моей дочери на случай, если она окажется жива. Вы можете показать ему это письмо, как ваше полномочие.
Не забывайте меня, Амелиус, но и не горюйте обо мне. Я отправилась в могилу, как вы отправляетесь спать, когда вы уставши. Я вас любила и благодарна вам: вы были всегда так добры ко мне. Писать больше нечего, я слышу, что служанка вернулась из аптеки и принесла мне освобождение от тяжелого бремени безнадежной жизни. Дай вам Бог быть счастливее, чем я! Прощайте!»
Итак она рассталась с ним навеки. Но роковое соединение скорбей этой женщины с жизнью и счастьем Амелиуса этим не кончилось.
Он без малейшего колебания решился уважить и исполнить желания умершей, нимало не предчувствуя того, что может из этого выйти. Теперь, когда несчастная история прошлого была вполне раскрыта перед ним, он считал себя честью обязанным сохранить тайну дочери ради матери. С таким убеждением он прочел это грустное письмо. С таким убеждением встал он с места, чтоб спрятать под замок ее письмо.
Только что он убрал письмо в потайной ящик своей конторки, как вошел Тоф с карточкой и доложил, что джентльмен желает его видеть. Амелиус, взглянув на карточку, был очень удивлен при виде имени: «Мистер Мильтон». Несколько строк было написано внизу карандашом: «Мне нужно переговорить с вами по весьма важному делу». Не понимая, чего может от него желать этот соперник, Амелиус приказал Тофу ввести посетителя.
Салли вскочила с места с обычным ее недоверием к незнакомым людям.
– Могу я уйти прежде, чем он войдет сюда? – спросила она.
– Если вам угодно, – отвечал Амелиус спокойно. Она была уже в дверях своей комнаты, когда Тоф снова явился и доложил о посетителе. Мистер Мильтон вошел в ту минуту, когда она скрылась, но он успел увидеть ее платье, когда затворялась за нею дверь.
– Я, кажется, вам помешал? – сказал он, не спуская глаз с двери.
Этот пожилой господин был великолепно одет, его шляпа и перчатки могли служить образцом. Он был печален и вежлив, но относился подозрительно к увиденному им в дверях платью. Когда Амелиус предложил ему стул, он взял его с таинственным вздохом, мрачно решившись покориться печальной необходимости сесть на него.
– Я считаю ненужным хитрое вступление или предисловие, – начал он, – так как вы, без сомнения, читали горестное известие в вечерних газетах.
– Я не видал вечерних газет, – отвечал Амелиус, – о каких известиях вы говорите?
Мистер Мильтон откинулся на спинку стула, и выразил сожаление и удивление, высоко подняв брови.
– О, дорогой! Как это грустно! Я полагал, что вам известны все подробности, что вы примирились, как и следует, с неисповедимыми путями провидения. Позвольте мне насколько возможно мягче сообщить вам обо всем. Я пришел узнать, не слыхали ли вы чего о мисс Регине. Поймите мои мотивы! Теперь не должно быть между нами недоразумений по этому предмету. Здесь серьезная необходимость, пожалуйста, будьте внимательны, да, весьма серьезная необходимость немедленных прямых сношений с дядей мисс Регины, а я не знаю никого, кроме вас, кто мог бы иметь так скоро известия о путешественниках. Вы, так сказать, член семьи…
– Позвольте! – воскликнул Амелиус.
– Прошу извинения, – сказал мистер Мильтон, как бы недоумевая, почему его прервали.
– Я не понимаю, что вы хотите сказать, – объяснил Амелиус, – вы говорите околичностями, извините за выражение. Если вы все это ведете к смерти мистрис Фарнеби, я могу сказать вам, что уже знаю об этом.
Спокойное самообладание, выражавшееся на лице мистера Мильтона, было несколько нарушено. Он только что намеревался излиться в приличном обстоятельствам красноречии, с особенными модуляциями его звучного голоса и вдруг его ставят в смешное положение.
– Но вы, кажется, сказали, что не читали вечерних газет, – заметил он глухим голосом.
– Совершенно справедливо, я не видел их.
– Так как же вы узнали о смерти мистрис Фарнеби?
Амелиус отвечал со свойственной ему откровенностью.
– Я попал к бедной леди в утро ее смерти, – сказал он, – ничего не зная о случившемся. Я встретил доктора у дверей и присутствовал при ее смерти.
Неестественное спокойствие мистера Мильтона было опять подвергнуто испытанию этим новым открытием.
Он как самый обыкновенный человек вскочил с места и вскричал с удивлением:
– Господи, помилуй, что же это значит?
Амелиус вообразил, что этот вопрос обращен к нему и спокойно отвечал:
– Я не знаю.
Мистер Мильтон со своей стороны истолковал эти невинные слова в другую сторону, принял за намерение прервать его и холодно заметил:
– Прошу извинения. Я сейчас объясню все. Вы поймете мое удивление. Прочитав вечернюю газету, я отправился по означенному адресу. В отсутствие мистера Фарнеби я, как старый друг его, считал себя обязанным сделать это. Я видел хозяйку дома, а также и доктора. Оба они говорили о джентльмене, приехавшем поутру в сопровождении молодой леди, они рассказывали, что он настаивал, непременно хотел ввести ее с собою. Теперь, когда вы объяснили мне, что присутствовали при последних минутах мистрис Фарнеби, я не сомневаюсь больше, что вы именно были этот «джентльмен». Удивление с моей стороны было весьма естественно. Я никак не ожидал, что вам было известно, куда скрылась мистрис Фарнеби. Что же касается до молодой леди, то я совершенно недоумеваю…
– Вам сказали правду относительно меня, – перебил его Амелиус. – Надеюсь, что этого достаточно. Что же касается молодой леди, то вы меня извините, мне нечего сообщать о ней ни вам, ни кому-либо другому.
Мистер Мильтон поднялся с достоинством и холодно-вежливым тоном сказал:
– Позвольте вас уверить, что я вовсе не желал войти в ваше доверие. Осмелюсь только сделать одно замечание. Вам, без сомнения, легко сохранить ваши секреты, говоря со мною. Но вам встретятся некоторые затруднения, когда придется отвечать судебному следователю. Вам, я полагаю, известно, что вы будете вызваны свидетелем при разбирательстве этого дела?
– Я оставил свой адрес доктору на этот случай, – по-прежнему спокойно отвечал Амелиус, – и готов дать показания всего виденного мною у постели бедной мистрис Фарнеби. Но если даже все следователи Англии станут допрашивать меня о молодой леди, я им скажу то же, что сейчас сказал вам.
Мистер Мильтон иронически улыбнулся.
– Увидим, – заметил он. – Могу я просить вас (в интересах семейства) прислать мне немедленно адрес, как только вы получите известия о мисс Регине. Я не имею другой возможности войти в контакт с мистером Фарнеби. Я могу еще прибавить, что я уже распорядился насчет похорон, уплаты некоторых долгов и так далее. Как друг и представитель мистера Фарнеби…
Тут он был прерван приходом Тофа со счетом в руках.
– Извините, сэр, эта особа дожидается. Она просит только подписать счет. Вещи в зале.
Амелиус рассмотрел счета. Это был формальный документ на получение гардероба Салли, возвращенного из приюта. Когда он взял перо, чтобы подписать бумагу, он взглянул на дверь комнаты Салли. Мистер Мильтон, наблюдавший за ним, собрался уходить.
– Я на минуту прерву вас, – сказал он. – У вас мой адрес на карточке, прощайте.
Выходя из дома, он прошел мимо пожилой женщины, ожидавшей в зале. Тоф поспешил отворить садовую калитку, извозчик, увидев его, обратился к нему. Леди, которую он привез в коттедж, не отдала ему должной платы, он требовал или денег, или адрес этой особы. Спокойно переходя через улицу, мистер Мильтон вскоре услышал женский голос, она получила подписанный счет и проследовала за ним. Во время спора о плате и проделанном расстоянии не раз упоминалось название приюта и местность, в которой он находился. Заполучив эти сведения, мистер Мильтон зашел в свой клуб, потолковал с директором о «благотворительных учреждениях» и пришел к заключению, что он открыл жительницу приюта «погибших женщин» в доме Регинного жениха.
На следующее утро принесли Амелиусу с почты письмо от Регины. На нем был помечен один из отелей Парижа. Ее «дорогой дядюшка» слишком понадеялся на свои силы, отказался отдохнуть ночь в Булони, страшно страдал от утомления после такого продолжительного путешествия и должен теперь лежать в постели. Приглашенный ими английский доктор не мог сказать, скоро ли он будет в состоянии продолжать путешествие, организм больного испытал серьезные перегрузки, он очень ослаб. Заботливо сообщив докторское мнение, Регина позволила себе сказать несколько приветливых слов и уверяла его, что с нетерпением ждет от него известий. Но во всем и всюду «дорогой дядюшка» был на первом плане. Ей нужно идти к мистеру Фарнеби, а потому она и пишет коротко. Бедный больной страдает хандрой, его величайшая отрада это слушать чтение племянницы, и он нуждается в ней теперь. В неизбежном постскриптуме стояло несколько нежных слов. «Как бы я желала, чтоб вы были с нами. Но, увы! Это невозможно!»
Амелиус списал адрес и немедленно послал его мистеру Мильтону.
Было двадцать четвертое число. Поезд отходил из Лондона рано утром, а расследование было отложено по просьбе следователя до двадцать шестого числа. Мистер Мильтон после своего свидания с Амелиусом решил, что случай был настолько серьезен, что давал ему право отправиться в Париж вслед за телеграммой. Это был долг его, как старого друга мистера Фарнеби, сообщить тому об открытии, сделанном в коттедже, и обо всем, что он слышал от хозяйки дома и доктора. Там он сам увидит, как должен он поступить для блага своей племянницы. А какие услуги могут подобные действия оказать самому мистеру Мильтону в его неудачных исканиях руки мисс Регины, он как будто и не замечал. При сознании долга свои собственные дела ставил он на задний план.
В этот же вечер между двумя джентльменами было тайное совещание в Париже. Доктор подтвердил, что пациент его не в состоянии выдержать обратное путешествие в Лондон ни при каких условиях.
При обсуждении вопроса о распоряжениях, необходимых при формальном следствии о смерти мистрис Фарнеби, мистер Мильтон сообщил обо всем происшедшем подробно, как того требовала дружба его к мистеру Фарнеби. К его величайшему удивлению и беспокойству, Фарнеби вдруг приподнялся на постели, объятый паническим страхом.
– Вы говорите, – пробормотал он, как только в состоянии был заговорить, что хотите навести справки об этой девушке.
– Я, конечно, нахожу это необходимым при известных отношениях мистера Гольденхарта к вашему семейству.
– Не делайте ничего подобного! Не упоминайте о том Регине и ни одной живой душе. Подождите, пока я поправлюсь, и предоставьте мне действовать. В моих руках должно быть это дело. Неужели вы сами этого не видите? Посудите сами, могут быть подняты вопросы на следствии, какой-нибудь нахальный присяжный может сунуть нос куда не следует. Вернувшись в Лондон, наймите адвоката, самого сметливого и бойкого, какого только можно найти за деньги. Скажите ему, чтоб он не допускал никаких лишних вопросов: кто девушка, зачем привел ее туда молодой социалист Гольденхарт, и тому подобное вовсе не относится к делу о смерти моей жены. Вы поняли? Я надеюсь увидеть вас немедленно по окончании следствия. Чем меньше будут там говорить, тем лучше. При моем положении этой оглаской воспользуются враги мои. Я слишком нездоров, чтоб еще более распространяться на эту тему. Нет, мне не нужна Регина. Ступайте к ней в столовую и спросите у прислуги чего-нибудь поесть и выпить. И ради Бога не опоздайте завтра утром на булонский поезд.
Оставшись один, он предался ярости, он осыпал Амелиуса руганью и проклятиями.
Он сжег письмо, написанное ему мистрис Фарнеби в ту минуту, когда она покидала его навсегда, но не мог он выкинуть из памяти содержание этого письма. После всего сказанного в нем и после рассказа мистера Мильтона он мог вывести лишь одно заключение. Амелиус был замешан в розысках пропавшей дочери, и ее привел он к умирающей матери. Со своими идиотическими, социалистическими понятиями он способен был сказать правду на следствии. Незапятнанная репутация, которую мистер Фарнеби сумел сохранить с помощью своего лицемерия в течение всей своей жизни, была теперь во власти мечтательного молодого безумца, который верил в то, что богатые созданы для блага бедных, и надеялся изменить общество введением обветшалой нравственности первоначального христианства. Разве возможно сговориться с подобной личностью? Между ними не было ни одной точки соприкосновения. Он в отчаянии упал на подушки и пролежал так несколько минут. Вдруг он снова поднялся, вытер потный лоб и глубоко, с облегчением перевел дух. Неужели болезнь омрачила его рассудок? Как это он сразу не заметил возможность устранить затруднение представляемое самим фактом? Человек, который помолвлен с его племянницей, скрывает у себя в коттедже молодую девушку и имеет смелость привести ее с собой к постели моей умирающей жены. Его можно обвинить в этом публично перед всем обществом, разорвать с ним обязательство, и если гнусный развратник будет защищаться и откроет истину, кто же поверит ему, когда девушку видели в его комнате? А если он откажется отвечать на вопросы: кто девушка?
Не знаю последних жениных распоряжений относительно Амелиуса, не имея понятия о том, что честный человек охраняет репутацию женщины, если она находится в его власти, негодяй обдумывал и замышлял спасти не заслуженную, а похищенную им репутацию. Он по своей собственной низости и подлости судил о других. Его не беспокоил ни стыд, ни укоры совести за то, что он хотел вторично пожертвовать дочерью для своих интересов. Он беспокоился только за себя. У него стучало в висках, стал сохнуть язык, страх усилил его болезнь. Он хлебнул лимонада, стоявшего у его постели, и лег, стараясь заснуть.
Но он сделать этого не мог, глаза его горели, сердце лихорадочно билось в груди и не давало ему заснуть. Он в некоторой степени испытывал возмездие. Мистер Мильтон нежно изъявлял свою симпатию Регине и старался ее утешить в горести, которую причиняла ей смерть тетки. Он предложил ей свои услуги и читал ей священные поэмы, которые она очень любила, когда вошел в комнату слуга и доложил:
– Я сейчас видел мистера Фарнеби и боюсь, не дурно ли ему!
Послали за доктором, он нашел такую серьезную перемену в своем пациенте, что посоветовал взять опытную сиделку. Когда мистер Мильтон отправился на следующее утро в путь, он оставил друга своего в сильном жару.
Глава XXXV
Следствие по делу смерти мистрис Фарнеби началось утром следующего дня.
Мистер Мильтон удивил Амелиуса, заехав за ним и пригласив его туда. Экипаж остановился на улице и к ним присоединился джентльмен, которого Мильтон представил ему как своего адвоката. Тот говорил с Амелиусом о следствии, извиняясь, задавал ему некоторые скромные вопросы, так как на него была возложена обязанность избежать каких бы то ни было печальных открытий. Прибыв в дом, мистер Мильтон и адвокат сказали несколько слов следователю, между тем как присяжные собирались в верхнем этаже.
Первым свидетелем выступила хозяйка дома.
Назвав число, с которого мистрис Фарнеби наняла у ней квартиру, и подтвердив содержание статьи, напечатанной в вечерней газете, она должна была рассказать об образе жизни и привычках покойной. Она описала ее, как почтенную леди, аккуратно вносившую деньги за квартиру, тихую, смирную, получавшую письма, но никогда не принимавшую посетителей. Только одна старая женщина несколько раз приходила к ней, и эти визиты были, видимо, неприятны покойной. Спрошенная насчет того, кто была эта старая женщина и что происходило между ними во время этих свиданий, свидетельница отвечала, что не знает. Старая женщина, приходя в дом, просила всегда служанку доложить о ней, как о «мамке».
Мистер Мильтон был вызван, чтоб засвидетельствовать личность покойной.
Он заявил, что не знает, чем объяснить ее отъезд из дома мужа и другое имя, принятое ею. Когда его спросили о том, хорошо ли жили между собою мистер и мистрис Фарнеби, он отвечал, что это ему неизвестно, что он слыхал от времени до времени, будто они не ладят, но причины этого не знал. Положение, занимаемое мистером Фарнеби, и уважение, которым пользовался Фарнеби в коммерческом мире, сами говорили за себя, он, как джентльмен, был чрезвычайно сдержан в отношении своей жены. Представлено было из Парижа медицинское свидетельство о его болезни, и этим закончился допрос мистера Мильтона.
Третьим свидетелем был вызван аптекарь, отпустивший лекарство. Он признал женщину, приходившую за лекарством, за служанку первой свидетельницы хозяйки дома, почтенной личности, всеми уважаемой в округе и его давнишней покупательнице. Он всегда сам отпускал лекарства, в которых был яд, и налеплял на склянки ярлычок с надписью: «яд». Склянка была представлена и признана им, предъявлен был и рецепт для сличения с копией на ярлыке.
Общий интерес возбудило появление следующей свидетельницы: служанки. Рассчитывали, что она объяснит, каким образом произошла ошибка в лекарствах. Ответив на формальный допрос, она продолжала:
– Когда я пришла на звонок, леди стояла у камина. Склянка с лекарством стояла на конторке. Склянка эта была гораздо больше той, которую сейчас признал аптекарь, и была на три части наполнена бесцветной жидкостью. Покойница дала мне рецепт и приказала мне подождать в аптеке и принести лекарство. «Я чувствую себя нехорошо сегодня утром, – сказала она, – я думала, что это лекарство поможет мне, – при этом она указала на склянку, стоявшую на конторке – но, как видно, мне нужно укрепляющее. Вот такой-то рецепт я и даю вам». Я отправилась к нашему аптекарю и получила требуемое. Вернувшись, я застала ее за писанием, но она тотчас же кончила. Когда я поставила на стол лекарство, она посмотрела на большую склянку и сказала: «Какая я нерешительная, теперь я недоумеваю, не лучше ли продолжать это лекарство, прежде чем примусь за укрепляющее. Это лекарство для желудка, и мне кажется, что я страдаю от дурного пищеварения». Я отвечала ей: «Но вы кушали такой умеренный завтрак сегодня, сударыня. Я, конечно, плохой тут судья, и если вы сомневаетесь, то не лучше ли послать за доктором?» Она покачала головой и заметила, что предпочитает обойтись без доктора. «Попробую лекарство для пищеварения, – сказала она, – а если не поможет, увидим, что нужно будет сделать». Говоря это, она оставила принесенное мною лекарство в бумаге как оно было, взяла большую склянку, прочла предписание: «Две столовых ложки в рюмке два раза в день». Я спросила, есть ли у нее рюмка, она отвечала да и послала меня за нею в спальню, но я не нашла ее. Между тем как я искала, я вдруг услышала крик и бросилась в гостиную, чтоб узнать в чем дело. «О, какая я неловкая, – вскричала она, – я разбила склянку». Она показала мне лекарство от желудка, действительно, у склянки было отбито горлышко. «Поищите в спальне, нет ли пустого пузырька, я перелью лекарство». Там на камине был один только пузырек, я взяла его. Она подала мне разбитую склянку, и пока я переливала лекарство, она развернула принесенное мною из аптеки. Я заметила, что оба пузырька были одинаковой величины и на обоих написано было на ярлычках: «яд». Я сказала ей: «Вы должны быть осторожны сударыня, чтоб не сделать ошибки, так как пузырьки совсем одинаковые». «Это можно предупредить, – сказала она и, обмакнув перо в чернила, она списала рецепт с разбитого пузырька на тот, в который я перелила лекарство. – Теперь вы, надеюсь, будете спокойны». Она говорила весело, как бы шутя, и прибавила: «А где же рюмка?» Я пошла в спальню, но не нашла ее. Она вдруг изменилась и стала сердитой, ходила по комнате взад и вперед и бранила меня за бестолковость. Это вовсе не походило на нее. Она всегда была такая сдержанная. Я снисходительно отнеслась к этому, так как она утром получила письмо с дурными вестями. Да, она это говорила мне. В это время тут присутствовала другая женщина, о которой упоминала моя хозяйка. Женщина посмотрела на адрес письма и, казалось, узнала руку. Я сообщила ей, что косой мужчина принес его, и она вдруг убежала из комнаты. Я не знаю ни куда она пошла, ни дома, где она живет, ни мужчину, принесшего письмо. Я, как уже сказала вам, снисходительно отнеслась к леди, ничего не ответила и принесла ей столовую ложку вместо рюмки. В это время она нервно ходила по комнате, не заметила меня. Я спокойно удалилась из комнаты, видя, что лучше не говорить с нею в таком состоянии. Я не видала ее больше до той минуты, пока мы были встревожены ее пронзительными криками. Мы нашли ее катавшейся по полу. Я побежала и привела доктора, жившего поблизости. Вот вам вся истина, больше я ничего не знаю.
После служанки снова потребовали хозяйку дома и расспрашивали ее о старой женщине. Но она не могла сообщить о ней никаких сведений. Спрашивали о письмах и бумагах покойной леди, но не оказалось ни того, ни другого, только и осталось после нее, что два рецепта. Конторка была пуста.
Следующим свидетелем был доктор.
Он описал состояние, в котором нашел больную. Все признаки были отравления стрихнином. Рассмотрев рецепты и склянки, он убедился в роковой ошибке. Он объяснил на допросе то же, что Амелиус. Рассказав о встрече с Амелиусом в дверях и о последовавших событиях, заключил посмертным исследованием, доказавшим, что смерть произошла от яда, и именно стрихнина.
Снова были вызваны хозяйка дома и служанка. Они должны были в точности определить время с той минуты, как служанка вышла от леди, и до того, как раздались ее крики. Покончив с этим, их спросили, кто, кроме старой женщины, посещал покойную или имел доступ к ней во время ее пребывания тут. Обе твердо отвечали, что дверь была всегда заперта, и ключ от нее находился у хозяйки дома. Это доказывало, что леди не могла иным путем достать себе яда, итак, решив, что смерть произошла от ошибки, вызвали Амелиуса.
Адвокат, нанятый мистером Мильтоном со стороны Фарнеби, до сих пор ни во что не вмешивался, теперь же было очевидно, что он обратил особенное внимание на допрос.
Сначала Амелиус был в нервном состоянии. В Америке привык он выступать перед публикой и с хладнокровием и самообладанием говорить о социальных и политических предметах, но ему в первый раз пришлось выступить на допросе свидетелем. Ответив на обычные формальные вопросы, он с таким горестным волнением описывал страдания мистрис Фарнеби, что следователь приостановил допрос и дал ему несколько минут отдохнуть и собраться с силами. Однако он не мог успокоиться до конца своих показаний. Когда был поставлен вопрос о его отношениях к мистрис Фарнеби, слушатели заметили, что он тотчас же поднял голову и стал смотреть и говорить, как человек принявший твердое решение и уверенный в самом себе.
Следовали вопросы:
Рассказывала ли ему мистрис Фарнеби о своем разладе с супругом? Был ли этот разлад причиной удаления из дома мужа? Уведомляла ли его мистрис Фарнеби о месте своего жительства? На все три вопроса он отвечал утвердительно. Но он отказался отвечать, когда его спросили, какого рода «разлад» был между супругами, мог ли он серьезно удручать душу мистрис Фарнеби, зачем она назвалась ложным именем и почему доверила горести своей семейной жизни такому молодому человеку и знакомому с нею лишь несколько месяцев. «Что доверила мне мистрис Фарнеби, – сказал он, – то я дал честное слово хранить в тайне. После этого присяжные, надеюсь, поймут, что долг мой в отношении покойной обязывает меня сдержать слово».
Тут раздался между слушателями ропот одобрения, в ту же минуту прекращенный следователем. Старшина присяжных поднялся с места и заявил, что подобная совестливость неуместна в таком серьезном деле. Услышав это замечание, адвокат нашел, что теперь пришла его очередь, и заговорил:
«Я нахожусь здесь как представитель супруга покойной леди. Господин Гольденхарт ссылается на законы чести, чтоб оправдать свое молчание. Мне покажется удивительным, если во всем собрании найдется хоть один человек, который не отнесется к этому с одобрением. Но я попрошу позволения, сэр, задать господину Гольденхарту один вопрос. Понравится или не понравится это старшине присяжных, но я, без сомнения, желаю через это разъяснить дело».
Следователь, взглянув на мистера Мильтона, согласился удовлетворить желание адвоката.
– Признания мистрис Фарнеби в семейных неприятностях не дают ли повода предполагать, что они побудили ее к самоубийству.
– Нет, – отвечал Амелиус. – Когда я видел ее в утро смерти, я не предполагал самоубийства. Я шел к ней с хорошими вестями, о чем и сообщил доктору во время моего с ним разговора.
Доктор подтвердил. Старшина присяжных, если и не был убежден, все же замолчал. Один из его собратьев, увлекаемый примером старшины, прервал следствие, обратившись к Амелиусу с другим вопросом: «Мы слышали, что вы приехали тогда в сопровождении молодой леди и ввели ее с собой в комнату больной. Мы хотим знать, что было нужно там этой молодой особе».
Адвокат снова вмешался.
– Я протестую против этого вопроса, – сказал он. – Следствие производится для выяснения, каким образом произошла смерть мистрис Фарнеби. Какое до этого дело молодой леди? Доктор засвидетельствовал, что ее не было в доме в то время, когда он был призван и когда яд уже действовал. Я обращаюсь, сэр, к очевидности дела и к вам, как представителю власти, чтоб подтвердить это. Господин Гольденхарт, знавший обстоятельства жизни покойницы, заявил под присягой, что ничто не побуждает подозревать здесь самоубийства. Свидетельство служанки приводит прямо к заключению, что смерть произошла вследствие злополучной ошибки, вот и все. Зачем же терять время в бесполезных вопросах и к чему мучить, надрывать душу живых родственников, удовлетворяя любопытство посторонних?
Публика громко выразила свое одобрение. Адвокат прошептал мистеру Мильтону: «Все идет хорошо!»
Порядок был восстановлен, следователь заявил, что вопрос присяжного признан неуместным и что показание служанки, подтвержденное доктором и аптекарем, признано удовлетворительным при настоящих обстоятельствах.
Присяжные совещались между собою. Время завтрака приближалось. Достоверность показаний служанки отрицать не было возможности. Следователь напомнил, что покойная леди горячилась, сердилась на служанку, а в таком состоянии легче сделать ошибку, чем в состоянии покоя. Все это не подлежало сомнению. Итак, решили, что смерть произошла от несчастной ошибки. Тайна мистрис Фарнеби осталась ненарушенной, репутация ее подлого супруга сохранилась незапятнанной, а жизнь Амелиуса с этого рокового момента получила новое направление.
Глава XXXVI
По окончании следствия мистер Мильтон, не нуждаясь более ни в Амелиусе, ни в адвокате, отправился домой. Но как человек в высшей степени вежливый, он просил у них извинения, что оставляет их так поспешно, говорил, что его дома ожидает, может быть, телеграмма из Парижа.
Амелиус справился у хозяйки дома, когда будут похороны и, узнав что они назначены на следующее утро, поблагодарил ее и отправился в коттедж.
Там ожидала его Салли, чтоб спросить на счет покупок для траура по ее несчастной матери. Жена Тофа брала на себя все хлопоты. Салли также беспокоилась о том, чем кончилось следствие. Отвечая на ее вопрос, Амелиус предупредил ее на всякий случай, чтоб она, если спутница спросит ее, отвечала, что потеряла мать свою при весьма грустных обстоятельствах. Когда они обе оставили коттедж, он приказал Тофу ввести к нему незнакомца, которого он ожидал, и запереть за ним дверь. Пять минут спустя явился молодой человек, по имени Моркрос, и крайне смутил Тофа. Он был прекрасно одет, имел изящные, самоуверенные манеры, но не походил на джентльмена. В самом деле то был полисмен высшего разряда, в партикулярном платье.
Войдя в библиотеку, он разложил на столе несколько бумаг, написанных рукой Амелиуса, и с отметками, сделанными им на полях красными чернилами.
– Я понимаю, сэр, что вы имеете основание не представлять это дело в суд.
– Очень жалею, но не могу согласиться сделать его гласным из-за людей, еще живущих и умерших. По той же причине я описал подробности интриги с некоторой сдержанностью. Надеюсь, что и этим не поставил затруднений для ваших действий.
– Конечно нет, сэр. Но я хотел бы спросить вас, что намерены вы предпринять в случае, если я разыщу людей, принимавших участие в этой интриге?
Амелиус неохотно сознался, что он не желает ничего предпринимать против женщины, соучастницы в этом деле, «хочу только заставить ее помочь мне доказать другие совершенные им преступления».
– Вы подразумеваете мужчину, называющегося Жервеем, сэр?
– Да, я имею основание полагать, что он оставил Соединенные Штаты вследствие весьма важных проступков…
– Извините, сэр, если я прерву вас. Достаточно ли это важно, чтоб подвергнуть его обвинению при трактате, заключенном между обеими державами?
– Я в этом не сомневаюсь. Я телеграфировал к лицам, которые могут доставить о нем подробности. Я не остановлюсь ни перед какой жертвой, чтоб заставить этого негодяя поплатиться за его деяния.
Этими словами Амелиус со свойственной ему откровенностью обнаружил свои намерения. Ужасные воспоминания о последних минутах мистрис Фарнеби возбудили в его великодушной натуре негодование на несправедливость и жестокость, доставшиеся бедному, страдающему существу, которое верило ему и любило его. Невыносимой была для него мысль, что негодяй, мучивший, обиравший и доведший ее до смерти, останется ненаказанным. Эта мысль мучила его и день, и ночь. Заботясь о будущности Салли, он, по распоряжению мистрис Фарнеби, виделся с ее стряпчим в один из дней между ее смертью и следствием. Узнав, что некоторые необходимые формальности потребуют несколько дней, он решился использовать это время для преследования Жервея. Стряпчий, после тщетных возражений, уступил перед серьезной настойчивостью и благородной честностью Амелиуса и рекомендовал ему сведущего и надежного человека для ведения этого дела. В тот же день доставлено было Моркросу точное описание всего случившегося, и он пришел доложить о результате своих первых действий.
– Я хочу знать одно, прежде чем вы будете продолжать, – сказал Амелиус, – достаточно ли ясно изложено мною дело?
– Настолько ясно, что один из наших служащих узнал его по этому описанию, только он известен ему под другим именем.
– Может это служить помехой для его преследования?
– Он на долгое время исчезал из Англии, сэр, а потому проследить его не совсем легко. Я был у молодой женщины, упоминаемой вами под именем Фебы, она готова помогать нам изловить человека, который ее бросил. Это старая история соблазна, вымогательства тайн и денег, девушки под предлогом женитьбы. Она то приходит в ярость против него, то заливается слезами о нем. Я добыл от нее некоторые сведения, это не много, но может пригодиться. Имя старой женщины, бывшей посредницей в этом деле, Соулер, она известна полиции как жестокая пьяница и негодяйка. Я не думаю, чтоб было трудно найти эту женщину. Что же касается Жервея, молодая женщина утверждает (и я в этом верю ей), что он, получив от упомянутой леди деньги, бежал с ними. Подождите немного, сэр, я еще не закончил со своими открытиями. Я спросил у молодой женщины, не имеет ли она его фотографии. Он малый не промах, у нее была его карточка, но он взял ее под предлогом, что она нехороша и он даст ей лучшую. Потерпев эту неудачу, я спросил ее, не знает ли она, по крайней мере, где он жил в последнее время. Она дала мне адрес, и я виделся с хозяином дома. Он сообщил мне, что косой мужчина, по имени Жервей, жил довольно долго у него в доме и надул его. Судя по его описанию я, кажется, знаю этого человека, и знаю, на что он способен. Дело это потребует времени, а потому я и хотел бы использовать самое действенное средство. Имеете вы что-нибудь против того, чтоб раздать ваши записки о Жервее во все полицейские отделения в Лондоне?
– Я не буду возражать против каких бы то ни было средств, которые помогут нам изловить Жервея. Вы полагаете, что его где-нибудь захватила полиция?
– Вы забываете, что полиция не получила насчет этого никаких предписаний. Я только рассчитываю на случай размена банковских билетов.
– Да?
– Да, сэр. Люди, между которыми он живет, не останавливаются перед пустяками. Если они проведают, что у Жервея кошелек хорошо набит…
– Вы думаете, они его ограбят?
– И убьют, если он будет сопротивляться.
Амелиус поднялся с места.
– Разошлите описания по всем отделениям, не теряя ни минуты, и уведомите меня немедленно о результате.
– Даже если б получил сведения ночью?
– Мне все равно, днем или ночью. Мертвый он будет или живой, я хочу доказать его тождество. Вот ключ от садовой калитки. Приходите этим путем, и я вам покажу сейчас, где моя спальня. Если мы все будем уже в постели, то постучите в это окно, и я через минуту буду готов.
После этих указаний Моркрос удалился. День, в который тело мистрис Фарнеби должно было быть предано земле, был ненастный, дождь лил и лил. Мистер Мильтон и двое или трое из старых друзей провожали покойницу. Когда опускали гроб в могилу, на краю ее стоял молодой человек и молодая женщина. Мистер Мильтон, узнавший Амелиуса, был в недоумении насчет того, кто была его спутница. Невозможно было предположить, чтоб он осквернял священную церемонию присутствием погибшей женщины из коттеджа. Густая черная вуаль закрывала лицо леди. Нельзя было уловить никакого проявления печали. Когда были произнесены над могилой последние торжественные слова, и все провожавшие удалились, эти двое остались. Мистер Мильтон решил сообщить по секрету об этом обстоятельстве в Париж. Телеграмма, посланная Региной в ответ на его телеграмму из Лондона, извещала, что мистер Фарнеби получил облегчение от данного ему лекарства и теперь находится на пути к выздоровлению. В скором времени он будет, значит, в состоянии взять свою племянницу под свое покровительство. Мистер Мильтон со свойственным ему терпением решился ждать разъяснений, которые могут появиться со временем.
– Всегда вспоминайте с нежностью о своей матери, дитя мое, – говорил Амелиус, уходя с кладбища. – Она много страдала в жизни, бедняжка, и любила вас весьма нежно.
– А знаете вы что-нибудь о моем отце? – робко спросила Салли. – Жив он?
– Вы, моя милая, никогда не увидите своего отца. Теперь я должен быть для вас и отцом, и матерью. О, моя бедная девочка!
Она прижала его руку к себе.
– Зачем вы жалеете меня, когда вас дала мне судьба?
Они спокойно провели день вместе в коттедже. Амелиус достал некоторые из своих книг и принялся учить Салли. Тотчас после десяти часов она удалилась в свою комнату. В ее отсутствие он позвал Тофа, чтоб предупредить его насчет возможности ночного посещения, чтоб он не пугался, если услышит в саду шаги, после этого все разошлись по своим комнатам. Старый слуга вошел босиком в библиотеку, когда раздался звонок наружной двери. Амелиус, заглянув в сени, увидел Моркроса и сделал ему знак войти. Полицейский чиновник тщательно запер за собою дверь. Он явился с известием, что Жервей найден.
Глава XXXVII
– Где нашли его? – спросил Амелиус, хватаясь за шляпу.
– Некуда спешить, сэр, – спокойно отвечал Моркрос. – Когда я имел честь видеть вас вчера, вы говорили, что желаете привлечь Жервея к ответственности за совершенный им обман. Вы теперь избавлены от этого труда. Сегодня вечером нашли его тело в реке.
– Утопился?
– На теле его оказалось три раны, нанесенные острым орудием, после чего и был он брошен в реку, таков рапорт освидетельствовавшего его хирурга. Донесение же полиции гласит: «Обобран начисто, так как все карманы оказались пусты».
Амелиус молчал. В его расчеты не входила мысль, что преступление влечет за собою другое преступление и что преступник может таким образом ускользнуть от него. В эту минуту он был разочарован, он сознавал, что жажда мести примешивалась к высоким, одушевлявшим его побуждениям. Он чувствовал неловкость и стыд и по обыкновению спешил скрыться от непрошеных мыслей.
– Уверены ли вы, что это тот самый человек? – спросил он. – Мое описание могло ввести полицию в заблуждение, я бы хотел сам видеть его.
– Если угодно, сэр. Тем временем, если вам будет желательно проследить за украденными деньгами, нам может быть удастся (о чем я уже слышал) узнать о приобретении их косым человеком. Есть основание предполагать, что он принимал участие в грабеже, если не он совершил убийство.
Час спустя Амелиус в сопровождении Моркроса переступил порог мертвецкой, расположенной на южном берегу Темзы, и увидел тело Жервея распростертым на каменных плитах. Сторож, державший в руке фонарь, привычный к таким ужасным зрелищам, заявил, что тело находилось в воде не более двух дней. Всякий, видевший убитого, лицо которого не было нисколько повреждено, мог сейчас же узнать его. Амелиус узнал его мертвого так же хорошо, как узнал живого, когда увидел его с Фебой на улице.
– Теперь, если вы желаете, сэр, – сказал Моркрос, – полицейский инспектор пошлет сержанта за «Зелеными бельмами» – прозвище, данное человеку, подозреваемому в грабеже. – Мы можем взять сержанта с собою в кеб, если желаете.
С южного берега реки отправились они в направлении к западу, час спустя остановились у трактира. Сержант вошел в дом один, чтоб сначала навести справки.
– Мы опоздали на целый день, сэр, – заявил он Амелиусу, вернувшись к кебу. – «Зеленые бельма» был здесь прошлой ночью и с ним мистрис Соулер, судя по описанию. Оба пьянствовали, и женщина в особенности. Трактирщик ничего более не знает о них, но здесь есть мужчина, который сказывал, что слышал о них в Сырне.
– В Сырне? – повторил Амелиус.
Моркрос счел за нужное дать ему некоторые объяснения.
– Это старый дом, сэр, некогда построенный среди поля. Сто лет тому назад там помещалась сырня, и это название осталось за ним до сих пор, хотя теперь это ничто иное, как постоялый двор.
– Самое скверное место по эту сторону реки, – прибавил сержант. – Содержатель освободившийся каторжник, хитрец, принимающий краденые вещи. Между его жильцами можно встретить всевозможных мошенников, начиная от карманников до воров, вламывающихся в дома. Моя обязанность продолжать розыски, но такому джентльмену, как вы, лучше быть подальше от такого места.
Расстроенный зрелищем, представившимся ему в мертвецкой, и возбужденными им воспоминаниями, Амелиус хотел приключений, которые бы облегчили ему душу. Даже перспектива посетить воровской притон казалась ему приятнее возвращения домой.
– Если не представляется к тому серьезных возражений, то я, признаюсь, желал бы повидать это место, – сказал он.
– С нами вы будете в безопасности, – отвечал сержант. – Если вам не противен этот народ и это место, то поедемте, сэр! Извозчик, вези нас к Сырне.
Теперь они повернули к югу через настоящий лабиринт узких и темных улиц. Два раза извозчик должен был спрашивать дорогу. Во второй раз сержант, высунув голову в окно кеба, закричал: «Стой, здесь что-то происходит!»
Они вышли перед длинным, низким домом, совершенной противоположностью новейших построек. Время было позднее, но у дверей собралась целая толпа. Полиция была тут и водворяла порядок.
Моркрос и сержант проложили себе путь через толпу, ведя Амелиуса между собою.
– Что-то неладно в кухне, там позади, – сообщил полицейский сержанту, отворяя дверь с улицы. В конце небольшого коридора была другая дверь, у которой стоял караул. «Здесь надо осторожно спускаться вниз», – сказал караульный, узнав сержанта, и, вынув из кармана ключ, отпер дверь.
– Содержатель Сырни знает своих жильцов, – прошептал Моркрос Амелиусу, – место охраняется, как тюрьма.
Когда они прошли вторую дверь, до них донесся снизу дикий голос, выкрикивавший неразборчивые слова. Навстречу им, прихрамывая, поднялся по лестнице старик с страшным испугом во взоре и с волосами, в беспорядке падавшими ему на лицо.
– О! Господи! Принесли вы какие-нибудь инструменты, чтоб выломать дверь? – спросил он в отчаянии, ломая руки. – Она хочет поджечь дом! Хочет убить мою жену и дочь!
Сержант с живостью оттолкнул его с дороги и, осмотревшись кругом, сказал Амелиусу.
– Это хозяин, держитесь ближе к Моркросу и следуйте за мною.
Они стали спускаться по лестнице, и с каждым шагом неистовые крики слышались громче и громче. Они проложили себе дорогу между ворами и бродягами, столпившимися в проходе. Оставив вправо от себя плотную дубовую дверь, крепко запертую, они вышли через другую железную дверь на вымощенный камнем двор. Здесь в задней стене дома в трех или четырех футах от земли увидели они окно с решеткой. Комната была освещена газом. Несколько человек полицейских сдерживали наиболее любопытных жильцов. Между зрителями был мужчина с отвратительными косыми глазами, он стоял у окна пьяный и смотрел в него в ужасе. Сержант, увидев его, приказал одному из полицейских: «Сведите его в часть, мне нужно поговорить с Зелеными бельмами, когда он протрезвится. А теперь расступитесь, пропустите нас посмотреть, что делается в кухне».
Он взял Амелиуса под руку и провел его к окну. Даже сержант вздрогнул, увидев представившуюся его взорам сцену.
– Боже мой, – вскричал он, – это тетушка Соулер!
Это была действительно тетушка Соулер. Ужасная женщина кружилась посредине кухни, как зверь в клетке, она от пьянства пришла в исступление, называемое белой горячкой. В дальнем углу комнаты укрывались за столом жена и дочь трактирщика, в страхе за свою жизнь. Сильно пущенный газ, высоко поднимаясь к почернелому потолку, резко освещал тяжелые засовы, которыми была заперта крепкая дверь. Разве только таран был бы в состоянии выломать эту дверь с той стороны. Чтоб проложить дорогу через окно, нужно было час работы на то, чтоб перепилить решетку.
– Как она попала сюда? – спросил сержант.
– Сбежала с лестницы и сама заперла засовы в тот момент, когда хозяйка с дочерью были заняты стряпней, – отвечал кто-то из толпы, стоявшей на дворе.
Пока они говорили, из прохода сделана была новая безуспешная попытка выломать дверь. Шум от тяжелых ударов усилил еще более бешенство ужасной женщины, кружившейся в кухне при свете газа. Вдруг она приблизилась к окну и уставилась на людей, стоявших во дворе. Ее глаза были налиты кровью, все лицо горело, волосы распустились, и она рвала их собственными руками. «Кошки! – закричала она, бросая на окно яростные взоры, – миллионы кошек! И все разинули свои пасти на меня! Огня! Огня, чтоб распугать этих кошек!».
Она стала с яростью шарить в карманах и вынула оттуда полную руку бумаг. Одна из них отделилась и полетела на деревянный пресс, стоявший под окном. Амелиус стоял близко и видел, как они упали. «Боже милостивый! – воскликнул он, – это банковские билеты».
– Деньги Зеленых бельм! – зашумели воры во дворе, – она хочет сжечь его деньги!
Сумасшедшая вернулась на средину комнаты, подпрыгнула к газовому рожку и зажгла банковые билеты. Они запылали, и она разбросала их вокруг себя по полу «Прочь!» – кричала она, грозя кулаками воображаемым кошкам. «Прочь, убирайтесь в трубу, убирайтесь в окно!» Она одним скачком очутилась у окна и запустила свои кривые пальцы себе в волосы. «Змеи! – пронзительно закричала она, – змеи впились в мои волосы. Жуки ползают у меня по лицу!» Она рвала волосы до крови, царапала себе лицо ногтями.
Амелиус отвернулся от окна, будучи не в состоянии выносить более вид ее. Моркрос занял его место, с минуту внимательно наблюдал и нашел средство закончить эту сцену.
– Кварту джину! – закричал он. – Живо, прежде чем она отойдет от окна.
Минуту спустя оловянная кружка была у него в руках, и он стучал в окно.
– Джин, тетушка Соулер! Разбейте окно и выпейте джину!
Минуту спустя пьяница преодолела свои страшные видения при виде любимого напитка. Она разбила стекло кулаком.
– Дверь! – закричал Моркрос оцепеневшим от ужаса женщинам, сидевшим за столом. – Дверь! – повторил он, протягивая руку с джином.
Старшая из двух женщин была до того поражена страхом, что не понимала его, но более мужественная младшая выползла из-под стола, бросилась к двери и вынула засовы. Когда бешеная женщина хотела броситься на нее, комната была уже полна людей, во главе которых находился сержант. Трое из них схватили безумную и связали ей руки и ноги. Когда Амелиус вошел в кухню после того, как ее отправили в больницу, пятифунтовый билет лежал на прессе, а от прочих украденных денег оставался лишь пепел на полу кухни.
После терпеливых расследований и розысков наконец слабый свет озарил таинственную смерть Жервея. Доклад Моркроса Амелиусу по окончании расследований был не более как наивная догадка.
– Во-первых, оказалось ясно, что мистрис Соулер проследила за Зелеными бельмами, когда он отнес письмо в квартиру мистрис Фарнеби. Во-вторых, она сообщила ему о деньгах, полученных Жервеем, и им вдвоем удалось отыскать его. Зеленые бельма мастер своего дела, что и доказывают банковые билеты. Мы узнали из допроса, проведенного с присутствовавшими в Сырне зрителями, что Зеленые бельма вынул полную горсть банковых билетов, когда отказались подать джин, не получивши вперед денег. Мы знаем также, что обнаружилось из слов пьяной, обезумевшей тетки Соулер, что она вырвала у него банковые билеты и старалась задушить его, после чего бросилась в кухню и заложила засовы. Наконец, банкир мистрис Фарнеби признал сохранившийся от сожжения билет за один из сорока пяти, выданных им по чеку. Это сведения, касающиеся денег.
«Желал бы я удовлетворить вас и в отношении преступления. Мы не можем ничего поделать с Зелеными бельмами. Он твердит, что не знал о смерти Жервея до тех пор, пока мы сообщили ему о ней, и клянется, что нашел деньги на улице. Нет надобности говорить, что последнее уверение ложь. Мнения разделились насчет того, ответствен ли он за убийство так же как за грабеж, или замешано здесь третье лицо. Мое личное мнение таково: старая женщина завлекла Жервея (использовав молодую женщину как приманку) в какой-нибудь дом по ту сторону реки, и там Зеленые бельма хладнокровно умертвил его. Мы приложили все старания, чтоб распутать дело, и не имели никакого успеха. Доктор не подает нам надежды на содействие тетки Соулер. Если она придет в себя, что весьма сомнительно, то умрет от болезни печени. Одним словом, я боюсь, что это будет одним из тех убийств, которые остаются тайной как для полиции так и для общества».
Описание этого происшествия возбудило интерес, появившись в газетах. Читатели, любящие вмешиваться в чужие дела, писали письма, предлагая полиции глупейшие советы. Некоторое время спустя новое преступление привлекло всеобщее внимание, а убийца Жервея изгладился из памяти публики, как и многие другие, появлявшиеся до него.
Глава XXXVIII
Последний сумрачный ноябрьский день подошел к концу.
Жизнь Амелиуса, не омрачаемая более ни преступлением, ни муками, ни смертью, мирно протекала в уединении, которое озарялось присутствием Салли. Зимние дни последовали один за другим в счастливом однообразии. Занятия сменялись удовольствиями. Утро было занято уроками, послеобеденное время – прогулками, вечером читали, пели, а иногда просто разговаривали. В громадном Лондоне, где соприкасаются огромные богатства с ужаснейшей нищетой, где все социальные болезни заполняют жизнь, в этом мире было одно, в высшей степени невинное и в высшей степени счастливое существо. Салли слышала о рае в небесах, куда можно было попасть лишь после смерти. «Я нашла лучшее небо, – сказала она однажды. – Это здесь, в коттедже, и Амелиус указал мне путь к нему».
Их уединение было в это время полное, у них не было друзей, и они были совершенно чужды и нечувствительны к тому, что было опасного и жалкого в их положении. Они целовались вечером при прощании и целовались утром при встрече, и не способны были с недоверием относиться к будущему. Они жили, как птицы. Никакие гости не появлялись в доме, немногие приятели и знакомые Амелиуса, забытые им, сами забыли о нем. Иногда приходила в коттедж жена Тофа и приносила своего «херувима». Иногда Тоф приносил вниз свою скрипку и скромно говорил: «Музыка помогает проводить время». И играл для молодого господина и для молодой госпожи старые французские песни. Эти маленькие перерывы служили им приятным развлечением, они не были обмануты в ожиданиях, когда кончался день, и после «херувима» и музыки наступали тишина и мир. Так проходили счастливые зимние дни. Вой ветра и холода не приносили им ревматизма, и даже сборщик податей, заглянув в этот земной рай, ушел без проклятий, оставив для Амелиуса маленькую бумажку.
Время от времени внешний мир проникал сюда в виде письма.
Писала Регина, все с тем же спокойным расположением, иногда лишь более распространялась о том, что здоровье «дорогого дяди» медленно поправляется, что ему запрещено всякое напряжение и волнение, так как нервы его сильно расстроены и он легко раздражается. «Я даже не смею упоминать при нем вашего имени, дорогой Амелиус, оно, не знаю почему, приводит его в сильный гнев. Я должна покоряться и ждать пока он опять будет самим собою». Амелиус отвечал в таком же умеренном и любезном тоне, уверял, что письма его скучны от скучной, однообразной его жизни. Он продолжал с совершенно спокойной совестью умалчивать о присутствии Салли. Оставаясь верным Регине, какое основание имеет он укорять себя за покровительство, оказываемое им бедной, осиротелой девушке? Когда он женится, тогда он может поверить тайну своей жене, и Салли будет жить с ним как сестра его жены.
Однажды утром письмо из Парижа было от Руфуса и состояло из нескольких строк.
«Каждое утро, вставая, милый мой юноша, говорю я себе: пора, однако, отправляться в Лондон, и каждое утро откладываю до следующего дня. Хорошее ли питание или что-то особенное в воздухе, напоминающее мне родную атмосферу Кульспринга, удерживает меня здесь, не могу сказать. Вы слышали поговорку: „когда хороший американец умирает, он отправляется в Париж“. Иногда он, может быть, достаточно силен, чтоб дисконтировать свою собственную смерть и рационально насладиться будущим в настоящем. Это, как видите, поэтическая фантазия. Итак, я не могу расстаться с Парижем. Если я не могу отправиться к Амелиусу, то он должен приехать ко мне. Помните адрес: Grand hotel. Укладывайтесь и в путь. Memorandum: смуглая мисс здесь, я увидел ее катающейся в карете и снял шляпу. Она отвернулась. Британская, истая британская манера! Но я не сержусь, я ее покорнейший слуга и ваш друг Руфус».
Следующее утро принесло несколько грустных строк от Фебы. «После всего случившегося я решительно не в состоянии показаться своим друзьям, не в состоянии искать места в своей стране, так как настоящая жизнь сделалась чересчур грустной и безнадежной». Одна благотворительная леди предложила ей отправиться в Новую Зеландию с партией эмигрантов, и она приняла предложение. Может быть среди чуждых, незнакомых ей людей она возвратит уважение к себе и сделается лучшей женщиной. Она прощается с мистером Гольденхартом и извиняется, что берет на себя смелость пожелать ему счастья с мисс Региной.
* * *
Амелиус написал несколько ласковых слов Фебе и приветливый ответ Руфусу, извиняясь тем, что занятия не позволяют ему оставить Лондон. После этого переписка прекратилась. Одно утро следовало за другим, и почтальон не приносил более вестей из внешнего мира.
Уроки продолжались, учитель и ученица были вполне счастливы обществом друг друга. Следя с неутомимым интересом за прогрессом умственного развития Салли, Амелиус не обращал внимания на физическое ее развитие. Он не сознавал, насколько его личное влияние содействовало совершавшейся в ней перемене. Вскоре, в виде первого предостережения, появились недоразумения в их невинных отношениях. Вскоре обнаружились признаки тревоги в душе Салли, остававшейся тайной для Амелиуса и предметом удивления для самой девушки.
Однажды она, остановившись в дверях своей комнаты в белом утреннем капоте, просила его извинить ее, если она начнет сегодня урок позднее обыкновенного.
– Подите сюда, – отвечал Амелиус, – и скажите мне почему.
Она колебалась.
– Вы не сочтете меня ленивой за то, что я являюсь перед вами в капоте.
– Конечно нет. Ваш капот, моя милая, так же хорош, как и другое платье. К молодым девушкам очень идет белое.
Она вошла с рабочей корзинкой и платьем в руках. Амелиус засмеялся.
– Почему же вы его не надели? – спросил он.
Она села и уставила глаза на свою рабочую корзинку.
– Оно мне не годится, нужно перешить его, – сказала она, не поднимая на него глаз.
Амелиус взглянул на нее, на прелестную полную фигуру, на здоровое личико, без прежних угловатостей.
– Это вина портнихи? – глупо спросил он.
Ее глаза не отрывались от рабочей корзинки.
– Это моя вина, – отвечала она. – Вы помните, какая я была маленькая, худенькая, когда вы в первый раз увидели меня. Я… вы меня не разлюбите за это?.. Я толстею. Не знаю отчего. Говорят, будто счастливые люди толстеют. Может быть, оттого. Я никогда не бываю голодна, ничего не боюсь, не испытываю ничего худого. – Она остановилась, платье с руки соскользнуло у нее на пол. – Не смотрите на меня, – сказала она и вдруг закрыла лицо руками. Амелиус увидел, что слезы текли у нее между прекрасных, полненьких пальчиков, которые он помнил такими безобразными и худыми. Он перешел через комнату и дотронулся слегка до ее плеча.
– Милое дитя! Не сказал ли я чего, что могло бы огорчить вас?
– Нет.
– Так отчего же вы плачете?
– Я не знаю. – Она колебалась, взглядывала на него и делала отчаянные усилия, чтоб высказать ему, что у нее было на душе. – Я боюсь, что я вам в тягость. Теперь вам не из-за чего жалеть меня. Вы точно не тот, не совсем тот… Это не то, я не знаю, что со мною, я глупее, чем была когда-либо. Дайте мне урок, Амелиус! Пожалуйста, займемся.
Амелиус взялся за книги, удивленный необычайным желанием Салли начать урок, когда неперешитое платье небрежно валялось у ног ее на полу. Скромное извлечение из истории Англии, изданное для юношества, лежало на полке. Система Амелиусова воспитания подвергалась законам случайности. Они начали с истории, потому что она первая попалась под руку. Салли читала вслух, а учитель ее обыкновенно объяснял, что ей казалось неясным исправляя не правильности. В это странное утро ему не пришлось ни объяснять, ни исправлять.
– Хорошо занималась я сегодня? – спросила Салли по окончании урока.
– Очень хорошо.
Она закрыла книгу и посмотрела на учителя.
– Я удивляюсь и не могу понять, – заговорила она, – почему я лучше учусь здесь, чем в приюте. Впрочем, глупо с моей стороны удивляться этому. Я лучше заучиваю, потому что вы меня учите. Но я недовольна собой. Я остаюсь все тем же беспомощным существом, я чувствую вашу доброту, но не могу ничем отплатить вам за все ваше учение. Я желала бы… – она не досказала свою мысль и открыла чистую тетрадку. – Я буду писать, – промолвила она как-то покорно. – Может быть, я со временем настолько усовершенствуюсь в письме, что буду писать ваши счета и письма.
Она бессознательно взяла перо и принялась писать. Амелиус посмотрел через плечо и засмеялся: она писала его имя. Он указал ей на верхнюю строчку прописей, провозглашавшую неоспоримую истину: «Перемена есть закон природы».
– Вот, моя милая, вы должны списывать это до тех пор, пока устанете, – сказал учитель, – потом мы начнем писать другое, начинающееся с буквы Д.
Салли положила перо. «Перемена есть закон природы» – повторила она, наморщив свои прекрасные брови. – Я прочла эти слова вчера, и они сделали меня несчастной на весь вечер. Я была так безумна, что полагала, что мы всегда будем так жить, как живем теперь, пока не прочла этих слов. Я ненавижу эти прописи! Они представлялись мне, когда я просыпалась ночью, и, казалось, говорили мне, что и мы переменимся со временем. Это дурная сторона учения, когда научатся многому, наступает конец счастью. Мысли приходят к вам непрошеные, нежеланные. Я все думаю о молодой леди, которую мы видели в парке на прошлой неделе.
Она говорила серьезно и грустно. Довольство, сиявшее в ее глазах с тех пор, как она поселилась в коттедже и придававшее ей новую прелесть, исчезло в ту минуту, как Амелиус взглянул на нее. Куда девались ее детские манеры и простодушная улыбка? Он придвинул к ней свой стул.
– О какой молодой леди говорите вы? – спросил он.
Салли покачала головой и стала чертить пером по пропускной бумаге.
– О, вы не могли забыть ее! Молодая леди, ехавшая верхом на белой лошади. Все любовались ею. Я удивляюсь, как вы могли смотреть на меня, после того как проехало мимо вас это прекрасное создание. Ах, она, конечно, знает все, чего не знаю я, она не берет фальшивых нот на фортепиано, она может, не ошибаясь, сказать таблицу умножения и знает все города на свете. Я позволю себе сказать, что она почти такая же ученая, как вы. Если б она жила здесь с вами, разве вы не были бы довольнее, чем теперь со мной? – Она опустила руки на стол и положила на них голову. – Ужасные улицы! – бормотала она тоном отчаяния. – Зачем я думаю об этих ужасных улицах, а вечером я встретила вас и после того видела эту молодую леди. О, Амелиус, я надоела вам? Вы стыдитесь меня? – Она приподняла голову прежде, чем он успел ответить, и с внезапной решимостью стала проверять себя. – Я не знаю, что со мной делается сегодня утром, – сказала она с явным страхом в глазах. – Не обращайте внимания на мое безумие, я сейчас займусь переписыванием. – Она начала писать ужасное изречение: «перемена ест закон природы», пальцы ее дрожали, и она тяжело дышала. Амелиус вынул у нее тихонько перо из руки. Его голос дрожал, когда он заговорил с ней.
– Мы оставим урок на сегодня, Салли. Вы плохо спали ночь, и вам от того не по себе, вот и все. Как вы думаете, в состоянии вы пойти со мной? Свежий воздух, может быть, освежит вас.
Она встала, взяла его руку и поцеловала ее.
– Я полагаю, что если буду умирать, и то буду в состоянии пойти с вами. Могу я попросить у вас милости? Вы не намереваетесь отправиться сегодня в парк?
– Почему вы так невзлюбили парк, Салли?
– Мы можем опять встретить там молодую леди, – отвечала она, опустив голову. – Я бы этого не желала.
– Мы пойдем, куда вам будет угодно, дитя мое. Решайте сами.
Она подняла с полу платье и побежала в свою комнату, даже не оглянулась по обыкновению, когда отворяла дверь.
Оставшись один, Амелиус сидел у стола и машинально перелистывал учебник. Салли смущала и огорчала его. Его способность сохранить мирные, невинные отношения зависела главным образом от безмолвной просьбы, с которой бессознательно обращалась к нему неопытная девушка. Он смутно сознавал это и не в состоянии был следить за непонятным процессом своих мыслей, но в его памяти вдруг ожили мудрые слова старшего брата в Тадморе, когда он искал средство выйти из представившегося ему затруднения. «Вы немало встретите на пути искушений, когда оставите нашу Общину, – сказал ему старец при прощании, – и большая часть из них будет от женщин. Будьте всегда настороже, сын мой, если встретите женщину, которая возбудит в вас сострадание. Это начало страсти, путь к любви, в особенности, если она сама не остерегается». Амелиус в эту минуту почувствовал справедливость этих слов. С недавнего времени появлялись признаки перемены в натуре Салли, но они выражались смутно, деликатно и не привлекали внимание человека, не приготовленного к наблюдению. Только в нынешнее утро они проявились настолько резко, что он заметил их. Только в это утро она смотрела на него и говорила с ним, как до сих пор никогда не смотрела и не говорила. Он стал смутно угадывать опасность, предстоящую для них обоих. Но где средство от этого? Что должен он делать? Эти мысли невольно пришли ему в голову и мучили его.
Он нетерпеливо встал со стула и принялся убирать учебники, что обыкновенно входило в обязанности Тофа.
Все было тщетно, мысли его упорно обращались к Салли. Двигаясь по комнате, он видел перед собой ее глаза, слышал ее голос, когда она говорила о молодой леди, встреченной ими в парке. Слова доброго доктора, с которым он советовался о Салли, также вспомнились ему теперь. «Ее естественное развитие умственных способностей и чувств было так же, как и естественное развитие ее тела, задержано голодом, холодом, страхом и другими влияниями, нераздельными с тем образом жизни, который вела она». Потом доктор говорил о питательной пище, чистом воздухе, мягком обращении, одним словом, о всем том, что она имела в коттедже, и предсказывал, что из нее выйдет умная и здоровая молодая женщина. Опять задался он вопросом: «Что должен я делать?»
Он подошел к окну и посмотрел в него. Ему пришла мысль, что если он соберется с духом и сообщит ей, что он женится, что у него есть невеста?
Нет! Оставя естественную боязнь нанести тяжелый удар бедной, признательной девушке, которая только и знала счастье, что под его кровлей, на пути его стояло отвратительное препятствие – мистер Фарнеби. Салли будет его расспрашивать об его обязательстве и не успокоится до тех пор, пока не получит ответа. Невозможно было скрыть от нее имя ее матери. Открытие об отце, когда она услышит о Регине и ее дяде, было бы просто вопросом времени. На все может быть способен такой человек, какого предательства не совершит он, если вдруг найдет дочь, от которой было избавился? Если б последняя воля мистрис Фарнеби не была священна для Амелиуса, то одно это соображение заставило бы его молчать ради Салли.
Он теперь в первый раз усомнился, разумно ли будет с его стороны открывать грустную историю Салли своей жене. Ревность, которую она могла почувствовать к молодой девушке, возбуждавшей глубокое сочувствие ее мужа, была еще не главным препятствием. Она верила в непогрешимость своего дяди, как верила в религию. Что она скажет, как она поступит, когда ей представят живого свидетеля гнусной подлости Фарнеби? Если Амелиус будет у нее просить покровительства для Салли, которую ее собственный отец бросил еще в детстве, он должен будет сказать ей: «Этот человек ваш дядя».
А между тем у него было в виду то, что он неминуемо должен будет сделать это открытие после своей свадьбы. Ему представлялось злобное лицо Фарнеби. Как может он принять негодяя, которого Регина пригласит в дом? Тут не оставалось никакого выбора, он обязан сказать жене ужасную истину. А каков будет результат? Он вспомнил все время своего знакомства и ухаживания за ней и увидел, что всегда и всюду Фарнеби был на первом плане у Регины. Несмотря на его природное простодушие и веселость, несмотря на врожденное мужество, у него замерло сердце, когда он подумал о предстоящем.
Когда Амелиус отошел от окна, дверь комнаты Салли отворилась, и она явилась, одетая для прогулки. Салли, развеселилась, прелестная улыбка озаряла ее лицо. В отчаянии, не зная, что ему делать или говорить, Амелиус протянул к ней обе руки, приветствуя ее, и воскликнул: «Вот и отлично, Салли! У вас довольный, прелестный вид, моя милая. Будем счастливы, пока можем, и предоставим будущему заботиться о себе».
Глава XXXIX
Капризное счастье в особенности бежит от нас, когда мы настолько безумны, что говорим о нем. Амелиус упомянул о нем. Когда они с Салли оставили коттедж, то направились по дороге, противоположной парку, мимо церкви, и в этой церкви счастье покинуло их.
Целый ряд карет стоял около церкви, сотни праздных людей собрались на ступенях паперти, звуки органа неслись в отворенную дверь, торжественно совершалась парадная свадьба. Салли просила Амелиуса войти с нею в церковь. Они попытались было пробраться в большие двери, но это оказалось совершенно невозможно, так как было тесно. Через боковую дверь им удалось, однако, проникнуть внутрь и занять такое место, откуда им было видно алтарь.
Невеста была высокая, полная девушка, роскошно одетая. Она исполняла свою роль в церемонии со спокойной важностью. Жених же представлял нравоучительное зрелище пожилого человека, приукрашенного искусством. Его волосы, полнота, зубы, грудь, плечи, ноги – все свидетельствовало о том, что могут сделать парикмахер, дантист, камердинер, портной и чулочник для старого богатого человека, который желает иметь юношескую наружность, когда покупает себе молодую жену. Три духовных лица присутствовали при церемонии. Представитель богатой конгрегации удостаивался почета, воздаваемого золотому тельцу. Из всех окружавших только одна старая леди, находившаяся вблизи Амелиуса и Салли, казалась недовольной.
– Я называю это бесчестным, – сказала старая леди, обращаясь к молодой особе, сидевшей подле нее.
Но молодая особа, истый продукт настоящего времени, не более готтентотки симпатизировала вопросам о чувствах.
– Как можете вы говорить так, бабушка! – отвечала она. – У него двадцать тысяч годового дохода, и эта счастливая девушка будет хозяйкой великолепнейшего дома в Лондоне.
– Какое мне дело до этого, – отвечала настойчиво старая леди. – Тем не менее бесчестно домогаться этого. Много бедных одиноких созданий, умирающих с голода на улицах, они имеют более права на нашу симпатию, чем эта бесстыдная девушка, продающая себя в доме Божьем! Я подожду вас в карете, я не могу долго выносить этого зрелища. Салли слегка дотронулась до Амелиуса.
– Выведите меня отсюда, – прошептала она.
Он полагал, что ей дурно от духоты церкви.
– Лучше ли вам? – спросил он, когда они вышли на свежий воздух.
Она крепко держала его руку.
– Пойдемте дальше, – сказала она. – Эта леди идет за нами. Я не хочу, чтоб она видела меня опять. Я одно из тех созданий, о которых она говорила. Неужели на мне остается печать уличной жизни, после всего того, что вы сделали, чтоб стереть ее?
Бурное горе, звучавшее в ее словах, представляло новую сторону развития ее характера, совершенно еще неизвестную Амелиусу.
– Дитя мое, – увещевал он ее, вы очень меня огорчаете, говоря таким образом. Богу известно, что жизнь, которую вы вели до встречи со мною, вели вы не по своей вине, забудьте о ней.
Но душа Салли была полна острых, мучительных ощущений, поднятых в ней словами старой леди.
– Я видела, – воскликнула она горячо, – видела, что она смотрела на меня, говоря это!
– Ей просто было приятнее смотреть на вас, чем на невесту, что весьма естественно, – заметил Амелиус. – Полно, полно, Салли! Будьте сами собой, успокойтесь. Неужели вы хотите сделать меня несчастным, заставить мучиться из-за вас?
Он коснулся чувствительной струнки, она почувствовала раскаяние и просила у него прощения с прежней свойственной ей ласковостью во взоре и в голосе. В одну минуту она стала прежней Простушкой Салли. Они продолжали путь молча. Когда уже скрылась церковь из виду, Амелиус почувствовал, что рука ее стала сильно дрожать. Выражение нежности, смешанное с беспокойством, появилось в голубых глазах ее, когда она смотрела на него. «Я думаю о другом, – промолвила она, – думаю о вас. Могу я задать вам вопрос?»
Амелиус улыбнулся, но улыбка эта не отразилась на лице Салли, как бывало прежде.
– Тут нет ничего особенного, – поспешно объяснила она. – Это пришло мне в голову в церкви. Вы… – она остановилась в нерешимости и искала, в какой форме выразить свой вопрос. – Вы скоро женитесь, Амелиус?
Он уклонился от прямого ответа.
– Я не богат, Салли, как этот старый джентльмен, которого вы сейчас видели.
Она отвела от него свой взор и тихо вздохнула.
– Однако вы женитесь когда-нибудь, – продолжала она. – Хотите вы сделать для меня еще кое-что, когда я умру, Амелиус? Вы помните мой вопрос, когда мы с вами читали в газетах о новом изобретении – сжигании тел после смерти. Вы говорили, что это лучше, чем зарывать в землю, и что вы завещаете сжечь ваше тело, когда придет ваше время. Не согласитесь ли вы на мою просьбу и не измените ли свое намерение относительно себя, когда наступит мое время?
– Милая моя, какие вы странные говорите вещи! Если вы толкуете о том, что я когда-нибудь женюсь, то какое же отношение может это иметь к вашей смерти?
– Дело не в том, Амелиус. Но ведь я могу умереть. Велите зарыть меня в покойном, уединенном месте, далеко от Лондона, где мало могил. И когда вы сделаете свое завещание, не велите сжигать себя. Прожив долгую, долгую жизнь и вполне насладившись счастьем, которое вы заслуживаете, велите зарыть себя подле меня. Мне бы приятно было думать, что одни и те же деревья будут осенять нас и те же цветы покрывать наши могилы. Нет! Не говорите, что я говорю странные вещи, я не могу выносить этого. Я хочу, чтоб вы весело, с добротой отнеслись к этому. Вы хотите идти домой? Я чувствую усталость и сознаю, что плохая собеседница сегодня.
И за обедом разговор не клеился, несмотря на все старания Тофа.
Вечером добряк француз сделал попытку развеселить молодых людей, он пришел со своей скрипкой и заявил, что имеет просьбу.
– Я имею, сэр, некоторые сведения в приятном искусстве танцевать. Не могу ли я поучить мисс танцам? Видите ли, я позволяю себе это, потому что другие уроки – о, значительно полезнее и важнее – несколько серьезны. Нужно что-нибудь для отдыха и развлечения, сэр, вы простите мне это замечание. Я защищаю веселость, позвольте нам потанцевать.
Он сыграл прелюдию на скрипке, стал в позицию и любезно ожидал. Салли поблагодарила, его и извинилась, ссылаясь на усталость. Она пожелала Амелиусу покойной ночи, не дожидаясь, чтоб они остались одни, и ушла в первый раз, не поцеловав его.
Тоф после ее ухода приблизился к своему господину на цыпочках и с низким поклоном.
– Могу я взять на себя смелость – высказать свое мнение? Молодая девушка, отвергающая музыку и танцы, представляет явление крайне важное и серьезное. Не отчаивайтесь, сэр! Я радуюсь и горжусь тем, что никогда не теряюсь, когда дело касается вас. Здесь нужна женщина. Если вы доверяете моей жене, то я приглашу сюда госпожу Тоф.
Он скромно удалился, представляя своему господину свободно обдумать его слова.
Время шло, а Амелиус все думал и не пришел еще ни к какому решению, как услышал, что позади его отворилась дверь. Салли очутилась подле него прежде, чем он успел встать со стула. Ее щеки пылали, глаза горели, волосы были распущены по плечам, она упала к его ногам и прижалась лицом к его коленям.
– Я неблагодарная тварь! – воскликнула она. – Я не поцеловала вас, пожелав вам доброй ночи.
С самыми лучшими намерениями Амелиус сделал худшее, пытаясь успокоить ее: он легкомысленно отнесся к ее волнению.
– Вы, может быть, забыли, – сказал он.
Она подняла голову и посмотрела на него со слезами на глазах.
– Я дурная девушка, – сказала она, – но не настолько же дурна. О, не смейтесь, прошу вас. В этом нет ничего смешного. Вы меня разлюбили? Вы сердитесь на меня за то, что я так нехорошо вела себя сегодня и пожелала вам спокойной ночи, как если б вы были Тоф? Не сердитесь на меня! – Она вскочила, села к нему на колени и обвила шею его руками. – Я не ложилась еще в постель, – прошептала она, – я была слишком несчастна, чтоб спать. Я не знаю, что со мной делалось сегодня. Я, кажется, потеряла и тот небольшой рассудок, который имела прежде. Неужели вы не знаете, что я рада бы умереть за вас, так я люблю вас. А меня одолевают такие горькие мысли, что я вам в тягость, что я не должна была приходить сюда, и вы сами то же сказали бы мне, если б не жалость к несчастной, которой некуда приклонить голову. – Она крепче обвила его рукой и прижалась пылавшей щекой к его лицу. – О, Амелиус, у меня болит душа. Поцелуйте меня и скажите: доброй ночи, Салли.
Он был молод, был мужчина и на минуту потерял самообладание: он поцеловал ее так, как никогда еще не целовал до сих пор.
Но он быстро опомнился, пришел в себя. Нежно отстранив ее от себя, он довел ее до двери в ее комнату и молча затворил за нею дверь. С минуту оставался он один, потом пригласил Тофа.
– Как вы думаете, жена ваша примет Салли в учение? – спросил он.
Тоф с удивлением посмотрел на него.
– Если вы этого пожелаете, сэр, то жена моя, конечно, это исполнит. Она очень сведуща в своем мастерстве… – ему не хватило слов, чтоб выразить громадный талант своей супруги как швеи. Он в энтузиазме поцеловал кончики своих пальцев и сдунул поцелуй по направлению заведения госпожи Тоф. – Однако я должен предупредить вас, что у нее дело маленькое, очень маленькое, – продолжал Тоф. – Но мы все в руках провидения, и, может быть, наступит день, когда дела улучшатся. – Он поднял кверху плечи и брови и казался вполне довольным будущим своей супруги.
– Я завтра утром пойду и переговорю сам с госпожой Тоф, – объявил Амелиус. – Очень может быть, что я буду принужден оставить Лондон на некоторое время, и я должен устроить мисс Салли. Не говорите ей об этом ни слова, Тоф, и не принимайте на себя такого несчастного вида. Если я поеду, то возьму вас с собой. Покойной ночи.
Тоф, подносивший было уж платок к глазам, снова возвратил свою веселость.
– Я постоянно болен на море, – сказал он, – но это не беда. Я последую за вами на другой конец земного шара.
Так честный Амелиус нашел выход из критического положения, в которое попал. Он лег в постель в волнении и тревоге и долго не мог заснуть. Куда отправится он, оставив Салли? Если б он мог знать, что в этот самый день случилось по ту сторону канала, он, может быть, решился бы, несмотря на мистера Фарнеби, удивить Регину прибытием в Париж.
Глава XL
В то утро, когда Амелиус с Салли (в Лондоне) вошли в церковь посмотреть свадьбу, Руфус (в Париже) отправился гулять на Елисейские поля.
Не прошел он половины великолепного авеню, как увидел Регину, совершающую свою ежедневную прогулку в сопровождении пожилой особы. Руфус опять снял шляпу, совершенно равнодушный к холодному приему, встреченному им в первый раз. Однако Регина не только ответила на его поклонно остановила экипаж и заявила, что хочет поговорить с ним. Посмотрев на нее внимательнее, он заметил следы страдания на ее лице, выражение которого совершенно изменилось, насколько он помнил. Ее прекрасные глаза были тусклы и красны, румянец исчез с ее щек, голос дрожал, когда она заговорила с ним.
– Можете вы мне уделить несколько минут? – спросила она.
– Целый день, если вам угодно, мисс, – отвечал Руфус.
– Подождите меня здесь, Елизабет, – обратилась она к сопровождающей ее особе, – мне нужно поговорить с этим джентльменом.
С этими словами она вышла из экипажа. Руфус предложил ей руку. Она взяла ее с такой готовностью, точно они были старыми друзьями.
– Пойдемте по боковой дорожке, – сказала она, – здесь очень пустынно в это время дня. Вы изумлены. Рассчитывая на вашу доброту, я надеюсь, что вы простите мне мой поступок при нашей последней встрече. Может быть, я заслуживаю извинения, так как я сильно расстроена. А вы, может быть, в состоянии облегчить и успокоить мою душу. Вам, вероятно, известно, что я помолвлена?
Руфус взглянул на нее с выражением внезапного сочувствия.
– Речь идет об Амелиусе? – спросил он.
Она едва слышно отвечала: «Да».
Руфус остановил на ней пристальный взор.
– Я не хочу сказать что-либо резкое, – объяснил он, – но если вы намерены жаловаться на Амелиуса, то я попрошу вас смотреть мне прямо в лицо и выражаться ясно.
В смущении и волнении, в каком находилась в эту минуту Регина, она предпочла бы этим двум просьбам все другое, так как не в состоянии была исполнить их. Она упорно смотрела в землю и вместо того, чтобы говорить об Амелиусе, перешла к болезни мистера Фарнеби.
– Я живу в Париже с дядей, – начала она. – Он перенес продолжительную болезнь, но в настоящее время он окреп настолько, что в состоянии говорить со мною о вещах, которые тяготили его душу в последнее время. Он так удивил меня, так огорчил, сообщив об Амелиусе… – она замолчала и поднесла платок к глазам. Руфус не сказал ей никаких слов утешения, он терпеливо ожидал продолжения. – Вы хорошо знаете Амелиуса? – спросила она, – вы любите его, верите ему, не правда ли? Считаете вы его способным подло поступить с доверяющей ему личностью? Возможно ли допустить, что он фальшивит со мною, обманывает меня?
Последний вопрос возбудил негодование Руфуса.
– Кто сказал вам это о нем, сказал ложь! Я поручусь за него, как за самого себя.
Она наконец взглянула на него с выражением внезапного облегчения.
– Я тоже говорила, – заявила она, – что какой-нибудь враг оклеветал его. Дядя не хотел мне сообщить, кто это. Он решительно запретил мне писать Амелиусу. Он объявил мне, что я не должна более видеть его, что он сам напишет ему и разорвет обязательство. О, это жестоко, слишком жестоко!
До сих пор они шли тихо, но теперь Руфус совсем остановился, решив заставить ее высказаться вполне откровенно.
– Примите от меня совет, мисс, – сказал он. – Никогда никому не доверяйте наполовину. Я готов на все, чтоб разъяснить это дело, но я прежде должен узнать все подробно. Что говорят против Амелиуса? Говорите все, я по возрасту своему могу быть вашим отцом и отношусь к вам именно таким образом.
Искренность в тоне и обращении произвела свое действие. Регина покраснела и задрожала, но решилась говорить.
– Дядя говорит, что Амелиус обесчестил себя и оскорбил меня, дядя говорит, что у него… что с ним живет молодая особа… – Она остановилась и слегка вскрикнула. Рука ее, лежавшая на руке Руфуса, заметно отяжелела, когда с уст ее сорвался намек на молодую девушку. – Вы слышали об этом? – вскричала она. – О, помогите мне, Боже, это справедливо!
– Справедливо? – повторил Руфус с суровым презрением. – Что с вами? Разве я не сказал уже вам, что это ложь? Я готов поклясться, что Амелиус верен вам! Довольно вам этого? Нет? Вы упрямы, мисс, да упрямы. Хорошо! Я обязан другу очистить его от клеветы перед вами, если можно сделать это словами. Вы знаете, как он был воспитан в Тадморе? Запечатлейте это в своей душе, и вы узнаете истину, даю вам в том честное слово.
Без дальнейших предисловий он рассказал ей, как Амелиус встретился с Салли, строго настаивал на чистых, человеколюбивых побуждениях, которые заставляли действовать его друга. Регина слушала с упорным недоверием, которое обескуражило бы другого человека. Руфус, однако, стоял на своем и наконец произвел желаемое впечатление. Когда он окончил рассказ, заключив его уверением, что видел собственными глазами, как Амелиус поручил девушку попечениям одной леди, которая была его собственным дорогим и достойным другом, и когда он объявил, что после того они не встречались и даже не имели переписки, Регина наконец созналась, что он имел основание убеждать ее верить Амелиусу, что он совершенно оправдал его. Но даже и при этих условиях все еще гнездилось в душе ее подозрение. Она спросила об имени благотворительной дамы, под покровительство которой Амелиус отдал девушку. Руфус достал из кармана свою карточку и написал на ней имя и адрес мистрис Пейзон.
– Ваша натура, моя милая, далеко не такая доверчивая, какой бы я хотел ее видеть, – сказал он, подавая ей карточку. – Но мы не можем изменить своей натуры. И вам не обязательно верить человеку, подобному мне, без доказательств. Напишите мистрис Пейзон, облегчите свою душу. Пока мы не расстались, скажите мне куда я могу телеграфировать вам завтра. Я уезжаю в Лондон с вечерним поездом.
– Вы хотите сказать, что едете увидеться с Амелиусом?
– Конечно. Я слишком люблю Амелиуса, чтоб оставаться спокойным при виде таких недоразумений. Я уже некоторое время нахожусь в Париже, правда, недолго, но вы можете сказать мне, и вполне справедливо, что я не могу отвечать за то, что случилось в мое отсутствие. Когда мы коснулись этого, нужно с этим покончить. Я намерен увидеться завтра утром с Амелиусом и мистрис Пейзон. Скажите своему дядюшке, чтоб он повременил писать и разрывать обязательство до получения от меня телеграммы. А это ваш адрес? Хорошо, я знаю отель. Отличный вид на Тюильрийский сад, но плохое вино, как я слышал. Я сам живу в Гранд-отеле, если вам что понадобится до вечера. Теперь, как я смотрю на вас, мне сдается, что осталось что-то недоговоренное. Нет? Как угодно. Вот ваша карета, и бедная леди, ожидающая вас, выглядит такой усталой. Все?
– Есть еще одна вещь, – призналась Регина, уставив снова глаза в землю. – Может быть, в Лондоне вы увидите…
– Девушку?
– Да.
– Это мало вероятно. Скажите, что я должен повидать ее, тогда что?
На щеках Регины выступил румянец.
– Если вы увидите ее, – сказала она, – то прошу, умоляю вас, не говорите при ней обо мне. Я умру со стыда, если она сама из жалости будет просить его не покидать меня. Обещайте, что вы не упомянете обо мне, что не скажете о нашем разговоре. Дайте мне честное слово.
Руфус дал слово, не обнаружив ни малейшей нерешительности, не высказав никакого возражения. Когда они пожимали друг другу руки, приблизившись к карете, он на минуту удержал ее руку.
– Извините меня, пожалуйста, мисс, если я задам вам один вопрос, – сказал он так тихо, что никто, кроме нее, не мог слышать его. – Вы действительно любите Амелиуса?
– Меня удивляет, что вы в том сомневаетесь, – отвечала она. – Я страстно люблю его.
Руфус молча усадил ее в карету. «Страстно любит его, – думал он, продолжая прогулку. – Это страсть не преходящая, постоянная».
Глава XLI
На следующий день рано утром Руфус звонил у ворот коттеджа.
– Как поживали все это время, господин француз? Что поделывает Амелиус?
Тоф, стоя у ворот, отвечал с величайшим почтением, но не показывал ни малейшего желания впустить посетителя.
– На Амелиуса находят иногда припадки лености, – продолжал Руфус, – пари держу, что он еще в постели.
– Мой господин встал и оделся час тому назад, сэр, он уже ушел из дома.
– Вот как! Хорошо, так я подожду, когда он вернется. – Он отстранил Тофа и вошел в коттедж. – Ваши иностранные церемонии совершенно излишни со мной, – сказал он, когда Тоф хотел остановить его в зале. – Я дикий американец, был в дороге всю ночь, устал. Я отдам вам некоторые приказания: принесите мне виски, горькой настойки, лимон и льда в библиотеку. – Тоф сделал последнюю отчаянную попытку не допустить посетителя до дверей.
– Тысячу извинений, сэр, я должен почтительнейше просить вас подождать…
Прежде чем он успел объясниться, Руфус отстранил его с дороги.
– Что так волнует этого почтенного старика? – подумал он. – Или он полагает, что я не знаю, куда иду? – Он отворил дверь библиотеки и очутился лицом к лицу с Салли.
Она встала со стула, услышав голоса, и не знала, уйти ей из комнаты или нет. Они пристально смотрели друг на друга в безмолвном смущении. Впервые Руфус был так поражен, что прибегнул к обычным приветствиям, чтобы собраться с мыслями.
– Как поживаете, мисс? Очень приятно возобновить знакомство. Гром и молния!.. Это не то, я совсем потерял голову. Будьте так любезны, молодая женщина, забудьте, что я сказал. Если бы какой-нибудь смертный сказал мне, что я найду вас здесь, я заявил бы, что это ложь, а лгуном оказался бы я сам. Это заставляет человека дурно себя чувствовать, могу сказать. Нет, не убегайте, пожалуйста, в другую комнату, это не исправит дела. Сядьте опять. Так как я здесь, то хочу нечто сказать вам. Но я должен прежде поговорить с мистером французом. Выслушайте, старый сэр, если мне понадобится, чтоб свидетель стоял в дверях, то я позвоню. В настоящую минуту я могу обойтись без вас. Bon shewer, как мы говорим в вашей стране.
И он захлопнул дверь под носом Тофа.
– Я протестую, сэр, против насилий, недостойных джентльмена, – закричал Тоф, пытаясь снова отворить дверь.
– Гневайтесь в кухне сколько вам угодно, – отвечал Руфус, удерживая дверь, – мне здесь вовсе не нужен шум. Если вы знаете, где находится ваш господин, то сходите за ним, и чем скорее, тем лучше.
Он вернулся к Салли и несколько минут рассматривал ее в молчании. Она боялась взглянуть на него, глаза ее были устремлены на книгу, которую она читала, когда он вошел.
– Вы как будто давно уже поселились здесь, – заметил Руфус. – Оставьте книгу пока, вы можете приняться за чтение после того, как мы переговорим с вами.
Он протянул свою длинную руку, взял у нее книгу и положил подле себя на столе. Салли опять промолчала. Он раскрыл книгу и увидел Новый Завет.
– Это мой урок, сэр, я должна выучить до отметки карандашом к приходу Амелиуса. – Она дала это объяснение, дрожа от страха. Вопреки своей воле Руфус стал смотреть на нее менее сурово.
– Так вы зовете его «Амелиус», – сказал он. – Я нахожу это дурным признаком. А давно ли, скажите, пожалуйста, разыгрывает он роль школьного учителя ради вашей милости? Вы не понимаете? Прекрасно, вы не первая жительница Великобритании, не понимающая английского языка. Я объяснюсь толковее. Когда я в последний раз видел Амелиуса, вы учили свои уроки в приюте. Какой дурной ветер принес вас сюда, мисс? Амелиус приезжал за вами, или вы пришли сюда по собственному желанию, не дожидаясь приглашения? – Он говорил отрывисто, но не сердито.
Печальное хорошенькое личико Салли молило о пощаде и, как он сознавал с полным презрением к самому себе, молило не напрасно. – Если я предположу, что вы бежали из приюта, предположение мое будет справедливо? – заключил он.
Она отвечала с полной откровенностью:
– Не осуждайте Амелиуса, я убежала оттуда, я не могла жить без него.
– Вы так молоды, что не знаете, как вы можете жить, пока не изведали этого на опыте. А как поступили при этом в приюте? Послали они за вами, чтоб вернуть вас туда?
– Они не взяли бы меня назад, они прислали только мои вещи.
– А, таковы там правила. Теперь я начинаю понимать, чем все это должно было кончиться. Амелиус дал вам место в доме.
Она гордо посмотрела на него.
– Он дал мне комнату, – сказала она.
Следующий вопрос его был повторением вопроса, заданного им Регине в Париже. Разница была только в ответе.
– Вы любите Амелиуса?
– Я готова умереть ради него.
До сих пор Руфус говорил стоя, теперь он взял стул.
– Если б Амелиус не был воспитан в Тадморе, я взял бы свою шляпу и пожелал вам доброго утра. Но при настоящем положении дел, несколько слов могут быть кстати. Ваше учение здесь согласуется с вашими желаниями, мисс. Вы стали совсем другой девушкой после того как я видел вас.
Она удивила его, выслушав молча это замечание. Лицо ее побледнело. Она с горечью вздохнула. Вид ее смутил Руфуса: он решился сделать о ней свое заключение лишь после того, как узнает больше.
– Вы сейчас сказали, что готовы умереть ради Амелиуса, – продолжал он, внимательно наблюдая за ней. – Это просто женская манера выражать свои чувства. Любите ли вы его настолько, чтоб оставить его, когда вы убедитесь, что эта разлука принесет ему пользу?
Она порывисто отошла от стола и приблизилась к окну. Повернувшись к Руфусу спиной, она заговорила:
– Я приношу ему бесчестье? – спросила она едва слышно. – Я уже этого боялась.
Как он ни любил Амелиуса, его природная доброта могла бы заставить его промолчать на это. Однако он уклонился от прямого ответа.
– Вы помните жизнь, которую вели до встречи с ним?
Вот все, что он сказал.
Грустные голубые глаза смотрели на него с неподдельной скорбью, тихий, нежный голос отвечал: «Да». Но этот взор и это слово в один момент рассеяли сомнения Руфуса.
– Не подумайте, что я говорю это в укор, дитя. Я знаю, что в том не было вашей вины, я знаю, что вас следует жалеть, а не порицать.
Она повернула к нему свое лицо, бледное, спокойное, покорное. «Жалеть, а не порицать, – повторила она. – Следовательно, меня можно простить?»
Его великодушная натура не позволила ему ответить ей, наступило молчание.
– Вы сказали правду, – продолжала она, – что я сделалась другой девушкой после того, как вы меня видели. Да, я стала другой. Я думаю о вещах, о которых прежде никогда не думала, произошла перемена, но я не знаю, как это случилось. О, душа моя жаждет сделаться хорошей! Я бы желала заслужить то, что сделал для меня Амелиус. Вы отняли у меня книгу, мне дал ее Амелиус, мы каждый день читаем ее. Если б Христос был теперь на земле, он не простил бы меня?
– Нет, моя милая, так думать не надо.
– И если я, пока живу, буду стараться вести хорошую жизнь и буду молить Бога, чтоб он взял меня на небо, могу я быть услышана?
– Вы будете услышаны, дитя мое, в этом нет сомнения. Но вы живете в свете, а свет установил свои законы. Их вы не найдете в этой книге. В их основе лежит родовая гордость и обычай прикрываться благотворительными чувствами. Вас будут жалеть, оказывать вам благодеяния, одним словом, сделают для вас многое, но не примут вас в свою среду.
У нее был готов ответ.
– Амелиус принял же меня.
– Амелиус принял вас, – согласился Руфус. – Но он забыл одно: свести счеты. Это, как видно, должен сделать я. Посмотрите сюда, дитя мое. Признаюсь, я сомневался в вас, когда вошел в эту комнату, очень о том сожалею и прошу у вас прощения. Я верю, что вы хорошая девушка, я, может быть, не сумел бы ответить, если б меня спросили, на чем я основываюсь, но я верю, что это так. Я был бы рад, если б не было надобности говорить более, но это нужно, ни я, ни вы не можете избежать этого. Общественное мнение не будет так деликатно обходиться с вами, как я, общественное мнение очень дурно отнесется к вам и так же дурно к Амелиусу. Живя здесь с ним – этого нельзя скрыть, – вы невинным образом становитесь малому поперек дороги, портите ему карьеру. Я не знаю, поняли ли вы меня.
Она снова отвернулась от него и стала смотреть в окно.
– Я поняла вас, – отвечала она. – Когда Амелиус меня встретил, он плохо сделал, взяв меня оттуда. Он должен был оставить меня там, где я была.
– Позвольте! Это совершенно не совпадает с моим мнением. Есть выход всему, и если вы захотите довериться мне, я найду выход для вас.
Она не обращала внимания на то, что он говорил, ее первые слова показывали, что она следила за нитью своих мыслей.
– Я стою ему поперек дороги, порчу карьеру, – пробормотала она. – Вы полагаете, что он может жениться?
Руфус ответил утвердительно.
– Может случиться.
– И его друзья будут приходить к нему, – продолжала она, отвернувшись, и голос ее прозвучал глухо. – Никто теперь не посещает его. Вы видите, я поняла вас. Когда должна я уйти отсюда? Я уйду лучше не простясь, не правда ли? А то это огорчит его. Я могу тихонько скрыться из дома.
Руфус почувствовал неловкость. Он приготовился к слезам, а не к тихой покорности. После минутной нерешительности он приблизился к окну. Она не обернулась к нему, она смотрела прямо перед собою, ее свежее, молодое личико сильно изменилось, оно было бледно и сурово. Он ласково заговорил с ней, советовал ей прежде подумать о том, что он сказал, и не делать ничего слишком поспешно. Она знает отель, в котором он всегда останавливался в Лондоне, и может написать ему туда. Если она решится начать новую жизнь в другой стране, он к ее услугам. Он возьмет ей билет на тот же пароход, на котором отправится сам в Америку. В его лета и будучи хорошо известным во всей округе, их приезд не вызовет никакого скандала. Он найдет ей почтенное и выгодное занятие, какое может взять на себя молодая девушка. «Я буду вам добрым отцом, мое бедное дитя, – сказал он. – Не думайте, что вы будете одинокой, без друзей, если вы оставите Амелиуса. Я позабочусь о вас. Вы будете окружены хорошими людьми и будете пользоваться невинными удовольствиями в вашей новой жизни».
Она поблагодарила его с той же мрачной покорностью.
– Что скажут хорошие люди, когда узнают, кто я? – спросила она.
– Им нет никакой надобности знать это, и они ничего не узнают.
– Опять приходим к тому же – вы должны будете обманывать честных людей или не будете в состоянии ничего сделать для меня. Лучше бы сделал Амелиус, оставив меня там, где я была. Там я не бесчестила никого, не была никому в тягость. Холод, голод и дурное обращение могут быть иногда милосердными друзьями, если б я была им предоставлена до сих пор, они привели бы к успокоению. – Она повернулась к Руфусу прежде, чем он успел сказать ей что-нибудь. – Я не неблагодарна, сэр, я подумаю о том, что вы сказали, и я сделаю все, что может сделать бедное, глупое создание, чтоб быть достойной вашего участия. – Она подняла руки и схватилась за голову с выражением страдания. – У меня такая странная, глухая боль здесь, – сказала она, – которая напоминает мне мою прежнюю жизнь, когда меня били по голове. Могу я пойти немного полежать?
Руфус взял ее руку и молча пожал. Она оглянулась на него, когда отворила дверь своей комнаты.
– Не огорчайте Амелиуса, – проговорила она, – я могу перенести все, кроме этого.
Оставшись один, Руфус стал в волнении ходить взад и вперед по комнате.
– Я обязан был сделать это, – думал он, – и должен быть доволен собою. Но я недоволен. Свет жесток к женщинам, и законы приличий дурное к тому основание.
Дверь из залы вдруг быстро распахнулась. Амелиус вошел в комнату. Он был расстроен и рассержен и не хотел пожать руки, протянутой ему Руфусом.
– Что такое я слышал от Тофа? Вы вошли силой сюда, когда здесь была Салли? Есть границы вольностям, которые можно позволить себе в доме друга.
– Это справедливо, – отвечал Руфус спокойно. – Но если человек не позволял себе никаких вольностей, то о чем же говорить. Салли была в приюте, когда я видел вас в последний раз, и никто не сказал мне, что я могу встретить ее в этой комнате.
– Вы могли оставить комнату, найдя ее здесь. Но вы говорили с нею. Если вы сказали ей что-нибудь о Регине…
– Я ничего не говорил о мисс Регине. Вы очень горячего характера, Амелиус. Подождите минуту и остыньте.
– Какое вам дело до моего характера! Я хочу знать, что вы говорили с Салли. Постойте! Я спрошу саму Салли. – Он перешел через всю комнату и постучался в дверь.
– Пойдите сюда, моя милая, мне нужно поговорить с вами.
Ему был дан тихий ответ через дверь.
– У меня сильно болит голова, Амелиус. Дайте мне немного отдохнуть.
Он вернулся к Руфусу и стал говорить тише. Но его глаза сверкали, он сердился больше прежнего.
– Вы бы лучше ушли, – сказал он. – Я догадываюсь, как вы с ней говорили, я знаю, что это за головная боль. На человека, который огорчает это бедное, преданное создание, я смотрю как на своего врага. Плюю я на все эти светские приличия, которым придают значение люди, подобные вам. Никогда более нежное, доброе создание не существовало в мире. Ее счастье для меня так дорого, что я не могу выразить этого никакими словами. Она для меня священна! И я это доказал, я только что пришел от женщины, которая берется научить ее зарабатывать свой хлеб честным трудом. Ни малейшей тени не пало бы на нее. Если вы или кто-либо подобный вам, думает, что я соглашусь бросить ее на произвол судьбы или заключить в тюрьму под именем приюта, тот не знает моей натуры и моих принципов.
Здесь… – он схватил со стола Новый Завет и подал его Руфусу, – здесь мои принципы, и я не стыжусь их.
Руфус взялся за шляпу.
– Да, но вы будете стыдиться одного, сын мой, когда ваша горячность утихнет и вы в состоянии будете одуматься, вы будете стыдиться слов, сказанных вашему другу, другу, который вас искренно любит. Я сам нисколько не сержусь. Вы напомнили мне случай на корабле, когда квартирмейстер хотел застрелить птицу. Вы помирились с ним, и вы придете в мой отель и помиритесь со мной. И тогда мы пожмем друг другу руки и поговорим о Салли. Если это не будет новой вольностью, я попросил бы у вас огня. – Он достал сам спичку из коробки на камине, зажег сигару и оставил комнату.
Не прошло получаса, как добрая натура Амелиуса заговорила и побуждала его последовать за Руфусом, чтоб извиниться. Но он слишком беспокоился о Салли и не решался оставить коттедж, не повидавшись с нею. Тон, которым она отвечала ему, когда он стучался в дверь, при его необычайной чуткости дал ему понять, что тут дело серьезнее простой головной боли. Более часа прождал он, прислушиваясь к движению в ее комнате, но там все было тихо. Никакой звук не достигал до его слуха, только и слышался что шум от проезжавших по улице экипажей.
Терпение его стало истощаться, когда прошел и второй час. Он приблизился к двери, прислушался – ничего. Его охватил вдруг страх, не в обмороке ли она. Он немного приоткрыл дверь и окликнул ее. Ответа не было. Он заглянул – комната была пуста.
Он бросился в зал и позвал Тофа. Не внизу ли она, может быть? Нет. Не в саду ли? Нет? Господин и слуга молча переглянулись. Салли ушла.
Глава XLII
Тоф первый пришел в себя.
– Мужайтесь, сэр, – сказал он. – Немного подумав, мы решим, каким образом отыскать ее. Грубый американец, разговаривавший с ней сегодня утром, был, может быть, причиной нашего несчастья.
Амелиус не слушал дальше. Могло случиться, что вследствие чего-либо сказанного она искала убежища у Руфуса. Он бросился в библиотеку за своей шляпой.
Тоф последовал за своим господином с другими соображениями.
– Одно слово, сэр, прежде чем вы уйдете. Если американец не может помочь нам, мы должны искать другие средства, другие пути. Позвольте мне сопровождать вас до магазина моей жены. Я полагаю привести ее сюда, пускай она осмотрит хорошенько комнату бедной мисс. Мы подождем вашего возвращения и тогда только будем действовать. А пока, умоляю вас, не отчаивайтесь. Весьма возможно, что мы найдем какие-нибудь указания в ее спальне.
Они вышли вместе и взяли первый попавшийся кеб. Амелиус отправился один в отель.
Руфус был в своей комнате.
– Случилось что-нибудь дурное? – спросил он, как только Амелиус отворил дверь. – Пожмем руки, сын мой, и забудем происшедший между нами сегодня разлад. Ваше лицо меня беспокоит, что-то неладно! Что Салли?
Амелиус вздрогнул при этом вопросе.
– Разве ее нет здесь? – спросил он.
Руфус подскочил. Движение это так же хорошо сказало «нет», как если б оно было произнесено.
– Вы ее не видели? Ничего не слышали о ней?
– Ничего. Но будьте тверды, примите это как мужчина и расскажите мне все случившееся.
Амелиус рассказал все в двух словах.
– Не думайте, что я вспылю, как сегодня утром, – прибавил он. – Я слишком несчастен и слишком беспокоюсь о Салли, чтоб сердиться. Только сообщите мне, Руфус, не сказали ли вы ей чего-нибудь такого?..
Руфус взмахнул руками.
– Я вижу, на что вы намекаете. Но ближе будет к цели, если я сообщу вам, что она говорила мне. С начала до конца, Амелиус, я обращался с ней мягко и отдавал ей должную справедливость. Дайте мне минуту времени, чтоб хорошенько вспомнить. – После непродолжительного размышления он тщательно передал ему все происшедшее между ним и Салли в конце их свидания. «Осмотрели ли вы ее комнату? – спросил он в заключение. – Там, может быть, какие-нибудь пустяки послужат вам указанием».
Амелиус сообщил ему о намерении Тофа. Они вместе вернулись в коттедж. Госпожа Тоф ожидала, чтоб приняться за осмотр.
Первое открытие было сделано легко. Небольшие драгоценности, подарок Амелиуса, которые она постоянно носила, оставлены были ею на туалете завернутые в бумагу. Но ни письма, ничего не было подле них. Приступили к осмотру гардероба и тут-то встретилось поразительное обстоятельство. Все платья, сделанные ей Амелиусом, висели на своих местах. Их было немного, и жена Тофа тщательно осмотрела их. Она была вполне уверена, что все платья были налицо. Должна же была Салли надеть что-нибудь вместо своих новых платьев. Что же она надела?
Осматривая комнату, Амелиус заметил в углу ящик, в котором было принесено платье, купленное им для Салли в тот день, когда он ее впервые встретил. Он хотел открыть его, но ящик оказался запертым, а ключа не нашли. Всегда находчивый Тоф принес из кухни кривой нож и в одну минуту открыл его. Ящик был пуст.
Единственный человек, понявший, что это означало, был Амелиус. Он помнил, что Салли взяла с собою свое старое, истасканное платье и положила его в этот ящик, когда сердитая содержательница номеров потребовала, чтоб они оставили ее дом.
– Я хочу видеть его иногда, – сказала бедная девушка, чтоб помнить, насколько я стала лучше теперь. – В этих жалких отрепьях покинула она теперь коттедж, услышав жестокую истину. «Лучше бы он оставил меня там, где я была, – сказала она. – Холод, голод и дурное обращение доставили бы мне успокоение». Амелиус в безнадежном отчаянии упал подле ящика на колени. Заключение, выведенное им из этого, сделало его малодушным. Она ушла в старых отрепьях, чтобы умереть от холода, голода и ужасов прежней жизни.
Руфус взял его за руку и стал утешать, он осушил слезы на глазах его и поднял на ноги.
– Я знаю, где искать ее, – сказал Амелиус, – и должен сделать это один. – Он решительно отказался дать какие-либо объяснения и не позволил никому сопровождать себя. – Это моя тайна и ее, – отвечал он. – Отправляйтесь в свой отель, Руфус, и молите Бога, чтоб я не принес таких известий, которые сделают вас несчастным на всю жизнь.
С этими словами он вышел из комнаты.
Час спустя он был уже в той местности, где встретил Салли. Не было ни шума, ни суеты яблочного рынка, улица при дневном свете наслаждалась мрачным покоем. Он в ожидании ходил из конца в конец улицы, поддерживаемый единственной надеждой, что она искала приюта у двух женщин, бывших ее друзьями в печальные дни ее жизни. Не зная, где они жили, ему оставалось только ожидать, не появится ли которая-нибудь из них на улице. Он был спокоен и решителен. Он задумал оставаться на улице весь день и всю ночь, если понадобится, и быть неустанно настороже.
Когда он не в состоянии был ходить дольше, он отдохнул и закусил в кухмистерской, которую очень хорошо помнил, и все время сидел у окна, из которого мог видеть улицу. Зажгли газ, и зимняя ночь стала опускаться на землю, когда он снова принялся шагами мерить улицу из конца в конец.
Когда совершенно стемнело, его терпение стало, наконец, истощаться. Проходя мимо «Ссуды под залог», он очутился лицом к лицу с женщиной, быстро шедшей с небольшим узелком под мышкой.
Она узнала его с криком радостного изумления.
– Ах, сэр, как я рада, что встретила вас. Вы пришли узнать о Салли, не правда ли? Да, да. Она у нас, но в каком ужасном состоянии. Она совсем потеряла голову, совсем! Говорит только о вас и все твердит одно и то же. «Я стою ему поперек дороги». И это беспрестанно. Не пугайтесь, однако. Дженни дома и смотрит за ней. Она хочет выйти, в жару и бреду лихорадки хочет выйти. Спрашивает, идет ли дождь. «Дождь может убить меня в этих лохмотьях, – говорит она, – и я тогда не буду стоять ему поперек дороги». Мы стараемся успокоить ее, уверяя, что нет дождя, но все тщетно. Она все решительнее хочет выйти. «Я могу опять получить удар в грудь, – продолжает она, – и на этот раз более меткий». Но нечего бояться негодяя, который бил ее, теперь он сидит в тюрьме. Не пытайтесь увидеть ее теперь, сэр, пожалуйста, не пытайтесь. Я боюсь, что вы ей повредите, если пойдете теперь со мной. Я не осмелюсь на такой риск. Ее нужно бы заставить уснуть, и мы уже думали о том, чтоб взять ей что-нибудь снотворное в аптеке. А лучше всего привести к ней доктора, сэр. Но я не могла позвать доктора. Говоря по правде, я должна была снять простыню с постели, чтоб добыть немного денег, я шла теперь к закладчику. – Она взглянула на узелок, бывший у нее под мышкой, и улыбнулась. – Теперь, встретив вас, я могу снести простыни назад, а здесь совсем поблизости живет хороший доктор, я могу вам указать дорогу к нему. Ах, как вы бледны! Вы очень устали? До доктора недалеко. Я бы предложила руку помощи, но разве вам можно показаться на улице в обществе такой женщины, как я!
Амелиус умственно и физически был в совершенном изнеможении. Грустный рассказ женщины окончательно расстроил его, он не мог ни говорить, ни действовать. Он машинально подал ей кошелек и пошел с ней к дому ближайшего доктора.
Доктор был дома, составлял лекарство в своей аптеке. Едва взглянул он на Амелиуса, как бросился в другую комнату и принес стакан вина.
– Выпейте это, сэр, – сказал он, – или с вами случится обморок от истощения. Не слишком надейтесь на свою молодость и силу и не обращайтесь с собой, точно вы сделаны из железа. – Он усадил Амелиуса и обратился к женщине с расспросами о том, что ей нужно. Спустя несколько минут он объявил ей, что она может идти, что он последует за ней тотчас же, как только джентльмен будет в состоянии сопровождать его.
– Что, сэр, приходите ли вы хоть сколько-нибудь в себя? – Он продолжал составлять лекарство, обращаясь с этим вопросом к Амелиусу. – Вы можете положиться на эту женщину, она как следует позаботится о больной девушке, – продолжал он дружеским тоном, как видно, свойственным ему. – Я вас не спрашиваю, каким образом попали вы в это общество, это не мое дело. Я отлично знаю всех живущих по соседству, и я могу вам сказать одно на случай, если вы беспокоитесь. Женщина, которая привела вас сюда, беднейшая и несчастнейшая на свете, добрейшее существо, и другая, живущая с нею вместе, такая же. Когда я думаю, чему они подвергаются, что выносят, я берусь за трубку и принимаюсь размышлять. Всю свою молодость провел я лекарем на корабле. Я бы нашел обеим женщинам почтенное занятие в Австралии, если б только имел деньги на то, чтоб свезти их туда. Им придется умереть в госпитале, если никто ничего для них не сделает. В минуты своих мечтаний я предполагаю устроить подписку. Что вы на это скажете? Не дадите ли вы несколько шиллингов, чтоб показать пример?
– Я сделаю больше, – отвечал Амелиус, – я имею причины сделать добро этим двум бедным женщинам. И я с радостью беру на себя устроить это.
Добродушный старый доктор протянул руку через прилавок. «Вы добрый, хороший человек, – сказал он. – Я могу показать вам рекомендации, которые удостоверят вас, что я не мошенник. А между тем объясните мне, что с девушкой, вы можете рассказать мне это дорогой».
Он положил лекарство в карман и, взяв Амелиуса под руку, вышел.
Когда они пришли к ужасной квартире, в которой проживали эти женщины, он посоветовал своему спутнику подождать его у двери.
– Я привык к печальным картинам, а вам тяжело будет видеть это жилище. Я не заставлю вас долго ждать.
Доктор сдержал свое слов. Десять минут спустя он присоединился к Амелиусу на улице.
– Не беспокойтесь, – сказал он. – Болезнь не так серьезна, как кажется. Бедное дитя страдает от расстройства мозга и нервной системы, причиненного ей внезапным и сильным огорчением. Мое лекарство доставит ей самое необходимое в ее настоящем положении – спокойную ночь.
Амелиус спросил, скоро ли она будет в состоянии увидеться с ним.
– Ах, мой юный друг, это не так-то легко сказать теперь же. Я смогу лучше ответить на это завтра. Не лучше ли это? К чему высказывать опрометчивое мнение. Она, может быть, достаточно успокоится, чтоб увидеться с вами дня через три – четыре. А когда это время наступит, то я уверен, что вы поможете ей лучше моего.
Амелиус был несколько успокоен, но далеко не удовлетворен. Он спросил, нельзя ли удалить ее из этого неприятного места.
– Совершенно невозможно, не причиняя ей серьезного вреда. У них теперь есть деньги, они доставят ей все, что нужно, и я уже говорил вам, что они будут отлично за ней ухаживать. Я завтра утром навещу ее. Ступайте домой и ложитесь в постель, предварительно поужинав, успокойтесь и отдохните. Завтра в двенадцать часов приходите ко мне, и вы можете увидеть мои рекомендации и услышать известия о моей пациентке. Хирург Пинфольд, Блаквер Буильдинг, вот мой адрес. Прощайте.
Глава XLIII
Руфус, оставшись один, вспомнил, что обещал Регине телеграфировать.
При его строгом отношении к истине нелегко было решить, что он ей напишет. Постараться, если возможно, внушить Регине свою собственную, непоколебимую веру в верность Амелиуса после некоторого размышления оказалось при настоящих обстоятельствах самым лучшим, наиболее честным исходом. С тревожной душой, полной тяжелых предчувствий, он отправил в Париж следующую телеграмму. «Имейте терпение и будьте справедливы к А. Он этого заслуживает».
Окончив свое дело на телеграфе, Руфус отправился к мистрис Пейзон.
Почтенная леди приняла его с холодностью и церемонностью, совершенно противоложной се обычной теплоте и дружелюбию.
– Я вас принимала за человека, выделяющегося из тысячи, – начала она сурово, – а вы оказались не лучше других. Если вы пришли говорить со мной об этом подлом, молодом социалисте, то поймите, что меня не так легко одурачить, как мисс Регину. Я исполнила свою обязанность, я раскрыла глаза этому бедному созданию. А вы должны стыдиться самого себя.
Руфус выслушал все это со свойственным ему самообладанием.
– Может быть, вы и правы, – спокойно заметил он, – но и самый бездельник имеет право оправдываться и требовать объяснений, когда на него нападает леди. Не можете ли вы объяснить мне, старый друг, что вы подразумеваете под этим?
Объяснение было не такого рода, чтоб могло успокоить встревоженного американца. Регина отправила письмо ей с тем же поездом, с которым Руфус приехал в Англию, рассказала все происшедшее между нею и Руфусом в Елисейских полях и обращалась к ней за сочувствием и советом. Получив письмо утром, мистрис Пейзон уже ответила и отправила ответ на почту. Ее опытность и столкновения с несчастными, принимаемыми в приют, не располагали ее верить в невинность убежавшей девушки, подвергаемой искушениям при подобных обстоятельствах. Она вложила в свое письмо записку Амелиуса, в которой тот признавался ей, что Салли провела ночь у него в доме.
«Я уверена, что скажу вам истину, – писала она, – если прибавлю, что девушка с тех пор не покидала коттеджа. Если вы можете согласить подобное положение дел с уверениями мистера Руфуса Дингуэля в верности его друга, то я не имею ни права, ни желания стараться изменить ваше мнение. Но вы просили моего совета, и я не должна отказать вам в нем. Я, как честная женщина, обязана сказать, что поступила бы совершенно так же, как ваш дядя, разорвала бы обязательство, если б моя дочь была поставлена в неловкое и унизительное положение, подобное вашему».
Можно было бы еще сегодня смягчить это суровое мнение, но сколько Руфус ни убеждал мистрис Пейзон изменить свое заключение, все было тщетно. Невозможно было встретить более почтенной и разумной женщины, столь преданной рутине. Она так въелась в нее, так твердо держалась общих правил, что не могла понять, как другие верили в исключения. Двое старых друзей первый раз в жизни расстались весьма холодно.
Руфус вернулся в свой отель ожидать известий от Амелиуса.
День прошел, и один только посетитель нарушил его уединение, то был американец, друг и корреспондент, имевший сношения с агентством, ведшим его дела в Англии. Ему было поручено передать Руфусу важные и спешные сведения насчет денежных дел, к которым посетитель прибавил еще указание относительно надежных спекуляций и предостережения против рискованных и опасных, «как, например, банк Фарнеби…» – прибавил он.
– Нет надобности предостерегать меня против Фарнеби. Я не принял бы в нем участия, если б он подарил мне его.
Американец с удивлением взглянул на него.
– Однако невозможно, чтоб вы уже слышали новость! – воскликнул он. – Еще никто не знает ее на бирже.
Руфус отвечал, что он говорил под влиянием личного впечатления.
– А что же нового? – спросил он.
Ему было по секрету сообщено, что в воздухе носится гроза или, другими словами, в банке сделано весьма серьезное открытие. Несколько времени тому назад банк дал большую сумму взаймы одному коммерсанту за поручительством мистера Фарнеби. Человек этот умер, и по рассмотрении его бумаг оказалось, что он получил лишь несколько сот фунтов в вознаграждение за свое молчание. Большая часть денег перешла к самому мистеру Фарнеби и была поглощена его газетой, патентованными лекарствами и другими никуда негодными спекуляциями, отдельно от его собственных частных дел. «Вы не можете знать этого, – прибавил американский друг, – но Фарнеби вылез из грязи, это выскочка. Его банкротство лишь вопрос времени, и очень может быть, что поведет его на скамью подсудимых. Я слышал, что Мильтон, кредит которого за последнее время значительно увеличился в банке, отправился навестить своего друга в Париже. Говорят, что племянница Фарнеби красива, и Мильтон влюблен в нее. Неудобно для Мильтона». Руфус слушал внимательно, но решился не вмешиваться более в любовные дела своего друга. Весь день и весь вечер ждал он Амелиуса, но тщетно. Было уже около полуночи, когда явился Тоф с поручением от своего господина. Амелиус отыскал Салли и вернулся до того измученным, что нуждается в отдыхе и лег в постель. Утром, как встанет, уйдет снова из дома и в течение дня надеется зайти к нему в отель. Глядя испытующим взором на важное, непроницаемое лицо Тофа, он старался вытянуть от него побольше сведений. Но старый француз сохранил свое достоинство и был весьма сдержан.
– Вы взяли меня за плечи сегодня утром, сэр, и вытолкали меня вон, – сказал он. – Я не желаю подвергаться подобному обращению в другой раз, к тому же я не имею привычки совать нос в тайны моего господина.
– Я не имею привычки долго сердиться, – холодно заметил Руфус. – Чистосердечно прошу вас извинить меня за мое с вами обращение и протягиваю вам руку.
Тоф держался у двери, теперь он приблизился к нему с достоинством, свойственным французу в серьезных случаях его жизни.
– Вы обращаетесь к моему сердцу и моей чести, сэр, – сказал он. – Я предаю забвению утреннее приключение и имею честь пожать вашу руку.
Когда дверь за ним затворилась, Руфус многозначительно улыбнулся. «Вы не имеете привычки совать нос в тайны вашего господина, – повторил он про себя. – Если б Амелиус читал на вашем лице, как я читаю на нем, то завтра утром, выйдя из дома, он оглянулся бы через плечо и увидел бы, что вы следуете за ним на почтительном расстоянии!»
Позднее на следующий день сам Амелиус появился в отеле. Говоря о Салли, он был чрезвычайно сдержан. Заявив, что она больна и нуждается в медицинском уходе, он переменил тему разговора. Пораженный его печальным и встревоженным видом, Руфус спросил его, не имеет ли он известий о Регине. Нет, она дольше обыкновенного не писала ему.
– Я не понимаю этого, – сказал он, – вы не видали ее в Париже?
Руфус сдержал слово, не упомянув ее имени в присутствии Салли, но он не мог не ответить откровенно Амелиусу, которого он так любил.
– Я боюсь, сын мой, что вы получите оттуда неприятности. – После этого предостережения он сообщил ему обо всем, происшедшем между ним и Региной. – Какой-то неизвестный враг ваш наговорил на вас ее дяде, – заключил он. – Вы, как видно, нажили себе врагов с тех пор, как находитесь в Лондоне.
– Я знаю, кто это, – отвечал Амелиус. – Это человек, искавший руки Регины до моей встречи с ней. Его зовут Мильтоном.
Руфус был поражен.
– Я слышал сегодня, что он в Париже у Фарнеби. Но это еще не самое худшее, Амелиус. Другой человек нанес еще больше вреда, и это мой старый друг, которого я знал более двадцати лет. Я убедился теперь, что в характере самой лучшей женщины есть частичка злости, и мужчины замечают это лишь тогда, когда вмешается другая женщина и злость выходит наружу. Подождите немного! – и он рассказал ему о результате своего визита к мистрис Пейзон. «Я телеграфировал мисс Регине, убеждая ее иметь терпение и верить вам. Не пишите ей и не оправдывайтесь, пока не узнаете, сохранили ли вы ее уважение после моего послания. Завтрашняя почта принесет известие».
Так и случилось. Амелиус получил два письма из Парижа. Одно – от Фарнеби, короткое и дерзкое, содержащее в себе уведомление о разрыве, другое, от Регины, строгое, полное порицаний. Ее слабая натура, как и все слабые натуры, впадала в крайности и, чтоб защитить себя, прибегла к гневу, как трусы прибегают к дерзости. Женщина с душой более возвышенной и твердой написала бы с большей справедливостью и более умеренным тоном.
Регина начала предисловием: она не имеет духу упрекать Амелиуса и не хочет говорить о своих страданиях человеку, который так ясно показал, что не имеет ни малейшего уважения к себе и ни малейшей любви и сострадания к ней. Отдавая справедливость себе, она возвращает ему его слово, его письма и его подарки. Ее же письма может он возвратить в запечатанном пакете в контору ее дяди в Лондоне. Она будет молить Бога, чтоб он раскаялся в совершенном им грехе, и вел в будущем жизнь достойную и счастливую. Решение ее неизменно. Его собственное письмо к мистрис Пейзон служит его осуждением, а свидетельство почтенного друга ее дяди доказывает, что бесчестный поступок был совершен не под влиянием минутного увлечения, а представляет обдуманное действие, длившееся в продолжение нескольких недель. С той минуты, как глаза ее открылись, она умерла для него, и теперь прощается с ним навсегда.
– Писали вы ей? – спросил Руфус, прочитав это письмо.
Амелиус покраснел от негодования. Он не сознавался еще самому себе, но его взгляд и выражение прямо говорили, что Регина потеряла свою власть над ним. Ее письмо оскорбило его и возмутило, но не огорчило. Более нежные чувства, волнение огорченного обожателя были в нем убиты ее суровым осуждением и прощанием.
– Неужели вы думаете, что я позволил третировать себя таким образом, не протестуя? – сказал он Руфусу. – Я писал ей, отказываясь принять назад свое слово. Я заверял ее честным словом, что оставался верен ей и своему обязательству, и издевался над подлыми толкованиями, которым дядя и его друг подвергали милосердие христианина. Закончил я письмо очень нежно, сочувствуя ее огорчению и боясь его усилить. Мы увидим, любит ли она меня настолько, чтоб поверить больше моему слову и моей честности, чем ложным наветам. Я хочу дать ей время.
Руфус разумно воздержался от выражения своего мнения. Он дождался следующего утра, которое могло принести ответ из Парижа, и отправился в коттедж.
Не промолвив ни слова, Амелиус подал своему другу письмо, ему было возвращено его собственное письмо к Регине, и на нем была сделана надпись рукою мистера Фарнеби: «Если вы будете присылать еще письма, их будут сжигать непрочитанными». – Так дерзко писал человек, у которого висело над головой банкротство и позор.
Руфус взял за руку Амелиуса. – Теперь все кончено, – сказал он, – никогда эта девушка не была бы для вас хорошей женой. Слава Богу, что все так устроилось. Забудьте, что вы когда-либо знали ее, и поговорим теперь о другом. Что Салли?
При этом неуместном вопросе Амелиус выпустил руку друга. Он был в состоянии такого нервного раздражения, что готов был видеть оскорбление там, где его не было.
– О, вам нечего беспокоиться, – вспылив, сказал он, – бедная девушка не придет более жить ко мне. Она на попечении доктора.
Руфус оставил без внимания сердитый ответ и потрепал его по плечу.
– Я говорю о девушке, – заметил он, – потому что хотел бы помочь ей, и мог бы это сделать, если б вы не препятствовали мне. Я скоро уезжаю в Соединенные Штаты, сын мой. Я хотел бы, чтоб и вы отправились со мной.
– И бросил Салли! – вскричал Амелиус.
– Ничего подобного! Прежде чем отправиться, мы устроили бы Салли как нельзя лучше. Не подумаете ли вы об этом?
Амелиус смягчился. – Хорошо, – сказал он.
Руфус взял шляпу со стола и, не промолвив более ни слова, оставил его. «Тревоги об Амелиусе, – думал он, затворяя дверь коттеджа, – еще не кончились».
Глава XLIV
День, назначенный достойным старым хирургом Пинфольдом для свидания Салли с Амелиусом, пришел и прошел, а вести о ее здоровье были все те же: нужно иметь терпение, сэр, она еще не поправилась настолько, чтоб могла видеть вас.
Тоф, внимательно наблюдавший за своим господином, сильно беспокоился, видя в нем перемену к худшему. То грустный и молчаливый, то сердитый и раздражительный, он расстроился как физически, так и нравственно до того, что казался тенью самого себя. Никогда теперь не обменивался словом со своим верным, старым слугой, только машинально произносил утром и вечером: «Здравствуйте и прощайте».
Тоф не мог более выносить этого. Рискуя тем, что его намерения будут не правильно истолкованы, он повиновался душевному побуждению и заговорил. «Могу я признаться вам, сэр, – начал он смиренно и почтительно, – что мне очень тяжело видеть вас таким больным?»
Амелиус посмотрел на него пытливо.
– Вы, слуги, поднимаете всегда шум из-за пустяков. Я несколько расстроился и нуждаюсь в перемене, вот и все. Я, может быть, отправлюсь в Америку. Вам это не нравится, я не буду в претензии, если вы найдете себе другое место.
Слезы наполнили глаза старика.
– Никогда! – горячо отвечал он. – Моим последним местом будет ваше, если вы прогоните меня.
Это было слишком для чувствительной натуры Амелиуса, и он был тронут.
– Простите меня, Тоф, – сказал он, – я несчастный человек, я больше озабочен состоянием Салли, чем могу выразить это словами. Не может быть никакой перемены в моей жизни, пока я не успокоюсь насчет бедной девушки. Но если я отправлюсь в Америку, то и вы отправитесь со мной, я ни за что не хотел бы лишиться вас, мой добрый друг.
Тоф оставался в комнате, как бы желая еще сказать что-то. Не имея ни малейшего понятия об отношениях Амелиуса к Регине и о случившемся разрыве, он смутно подозревал, что господин его попал в затруднительное положение с какой-то незнакомой ему леди. Ему представлялся теперь удобный случай обратиться к нему с вопросом, и он смиренно заметил.
– Вы едете в Америку жениться, сэр?
Амелиус недоверчиво взглянул на него.
– Как это пришло вам в голову? – спросил он.
– Не знаю, – покорно отвечал Тоф, – такая пришла мне фантазия. Разве есть что-нибудь удивительного в том, что джентльмен ваших лет и с вашей красивой наружностью поведет к алтарю какую-нибудь прелестную девушку?
Амелиус был снова побежден, он слабо улыбнулся.
– Довольно об этих глупостях, Тоф! Я никогда не женюсь, поймите это.
Старое, хитрое лицо Тофа просияло. Он повернулся, чтоб выйти из комнаты, остановился в нерешительности и вдруг снова вернулся к своему господину.
– Нужны вам мои услуги, сэр, или мне можно выйти на один или на два часа? – спросил он.
– Нет, только возвращайтесь к трем часам, я сам тогда уйду из дома.
– Благодарю вас, сэр. Мой мальчик внизу и услужит вам, если что понадобится в мое отсутствие.
Его мальчик, ожидавший у калитки, с удивлением заметил, что отец его весело щелкнул пальцами и затянул первый куплет Марсельезы. «Что-нибудь да случилось», – подумал мальчик Тофа, направляясь к дому.
От Регент-Парка до Блакер Буильдинг громадное расстояние, нужно пройти Лондон с конца в конец. Тоф совершил часть этого путешествия в омнибусе и прибыл в помещение, занимаемое хирургом Пинфольдом, как человек, хорошо знающий свою дорогу. Проницательность Руфуса открыла в самом деле его намерения, он тайком проследил за своим господином до дома хирурга, и побудила его к тому чистая преданность к Амелиусу. Его жизненная опытность сказала ему, что удаление Салли было началом будущих беспокойств и затруднений. «Какая от меня польза моему господину, – рассуждал он, – если я не постараюсь избавить его от беспокойств вопреки ему самому?»
Хирург Пинфольд выписывал рецепты сидевшим перед ним больным.
– Вы разве больны? Нет, – сказал он резко Тофу. – Так ступайте в гостиную и подождите.
Когда пациенты были отпущены, Тоф пытался объяснить цель своего визита, но старый моряк требовал настоятельного объяснения.
– Вас прислал ваш господин, или вы пришли по своему собственному делу?
– По своему собственному, – отвечал Тоф, – мой бедный господин совсем расстроен и изнемогает от ожиданий. Что-нибудь, должно быть сделано для него. О, дорогой, добрый сэр, помогите мне в этом несчастном положении! Скажите мне правду о мисс Салли.
Старый Пинфольд заложил руки в карманы и, прислонившись к стене, смотрел на старого француза с выражением неподдельной симпатии, смешанной с изумлением.
– Вы достойный человек, – сказал он, – и вы узнаете истину. Я был принужден обманывать вашего господина насчет несчастной девушки, я соврал ему, что она еще настолько больна, что не может его видеть. Дело не в том, у нее болезнь, в которой я не могу помочь, это болезнь душевная. Она вбила себе в голову, что уронила себя в его мнении, убежав от него и приютившись здесь. Тщетно уверял я ее, – что, впрочем, весьма справедливо, – что она была не в нормальном состоянии и не может отвечать за то, что тогда делала. Но она неуклонно держится своего мнения. «Что должен он обо мне думать после того, как я добровольно покинула его и вернулась к старой позорной жизни? Я выбросилась бы в окно, если б он вошел в комнату». Вот что она отвечает мне, и это то, что делает положение таким дурным, она постоянно мучается из-за него. Несчастная постоянно жаждет известий о нем, о его здоровье, о его житье, – жалко смотреть на нее. Я боюсь, что ее воспаленный мозг недолго выдержит подобное состояние, и хоть повесьте меня, я не знаю чем помочь тут. Обе женщины преданы ей, но не имеют на нее никакого влияния. Когда я был у нее сегодня утром, она, неблагодарная, обратилась ко мне со следующими словами: «Зачем не даете вы мне умереть?» Какого рода отношения вашего господина к этой несчастной, я не знаю, и это меня не касается, только я хотел бы, чтоб он был другого сорта человек. Когда я не знал его, как знаю теперь, я полагал, что он поможет нам вылечить девушку. Теперь же я изменил свое мнение. Он такой славный малый, такой нежный и добросердечный, что можно сказать утвердительно, что при ее возбужденном состоянии он принесет более вреда, чем пользы. Не знаете ли вы, женится он что ли?
Тоф выслушал все в печальном молчании, теперь он вдруг поднял голову.
– Зачем вы меня спрашиваете об этом, сэр?
– Это бесполезный вопрос, смею сказать, – заметил Пинфольд. – Салли настоятельно утверждает, что она стоит ему поперек дороги и портит карьеру, из всего видно, что она подразумевает тут его женитьбу. – Но постойте! Вы уже уходите?
– Я должен пойти к мисс Салли. Я уверен, что могу сообщить ей вещи, которые ее успокоят. Как вы полагаете, захочет она увидеться со мною?
– Вас зовут Тофом? Она иногда говорит о каком-то Тофе.
– Да, сэр, да. Я Теофил Леблон, иначе Тоф. Где могу я найти ее?
Пинфольд позвонил.
– Мой рассыльный как раз пойдет мимо дома, – отвечал он. – Это очень печальное место, но вы найдете все в чистоте и порядке благодаря доброте вашего господина. Он хочет помочь этим двум женщинам начать их жизнь снова в другой стране, а пока они ожидают свободного места на проезд в Австралию, они заняли комнату extra с приличной обстановкой по желанию вашего господина. А вот и рассыльный, он покажет вам дорогу. Одно слово прежде, чем вы уйдете! Что хотите вы сказать Салли?
– Я скажу ей, сэр, одно, что мой господин себя чувствует несчастным без нее.
Хирург покачал головой.
– Это не особенно поможет вам убедить ее. Вы сделаете ее еще несчастнее, вот все, чего вы достигнете.
Тоф многозначительно приложил свой указательный палец к носу.
– А если я к этому прибавлю еще кое-что? Если я скажу ей, что мой господин и не думает ни на ком жениться.
– Она не поверит, что вам тут известно что-нибудь.
– Она мне поверит, так как я докажу ей это, – важно отвечал Тоф. – Я обращался с этим вопросом к моему господину, прежде чем пошел сюда, и слышал из собственных уст его, что нет никакой молодой леди, с которой он был бы связан словом и на которой думал бы жениться, и это верно, положительно верно. Если я сообщу это мисс Салли, сэр, чем это кончится, как вы полагаете? Хотите вы прозакладывать шиллинг, что это не произведет на нее действия?
– Я не прозакладываю ни фартинга. Последуйте за рассыльным и скажите мисс Салли, что я посылаю ей лучшего доктора, чем я.
Пока Тоф направлялся к Салли, его мальчик доложил Амелиусу о посетителе. На карточке, поданной ему, значилось: «Брат Баукуэл, из Тадмора».
Амелиус взглянул на карточку и бросился в прихожую принимать посетителя с распростертыми объятиями.
– О, я так рад видеть вас! – воскликнул он. – Войдите и расскажите мне о Тадморе.
В брате Баукуэле такой восторженный прием возбудил угрюмое удивление. Это был старый сухой человек, с бледным истощенным лицом, узким наморщенным лбом и такими тонкими губами, что рот его, казалось, совсем был без губ. Пи по летам, ни по характеру не был он способен к дружеским отношениям с молодыми братьями Общины. Но в это тяжелое для Амелиуса время он с сердечной теплотой обращался ко всякому, кто напоминал спокойные счастливые дни в Тадморе. И этот холодный, старый социалист являлся ему желанным другом.
Брат Баукуэл сел на предложенный ему стул и, начиная беседу, в торжественном молчании посмотрел на часы.
– Двадцать пять минут третьего, – пробормотал он и спрятал часы.
– Вы спешите? – спросил его Амелиус.
– На наш разговор достаточно десяти минут, – отвечал он, и в акценте его слышался шотландец, несмотря на то, что он полжизни своей провел в Америке. – Вам, вероятно, известно, что я нахожусь в Англии по поручению Общины со списком двадцати семи особ, с которыми я должен повидаться и переговорить о разных важных делах. К вам, друг Амелиус, у меня не важное поручение, и я могу уделить на него десять минут.
Он вынул из кармана и развернул большой черный бумажник, наполненный массою писем, и, положив два из них на стол перед Амелиусом, он обратился к нему, точно собираясь говорить речь на публичном митинге.
– Я должен обратить ваше внимание на действия совета в Тадморе, собрание состоялось третьего декабря. Речь шла об особе, приговоренной к временному удалению из Общины вместе с вами…
– О Меллисент? – воскликнул Амелиус.
– У нас немного времени, не прерывайте меня, – заметил Брат. – Да, эта особа сестра Меллисент. А перед собранием обсуждалось письмо с ее подписью, полученное второго декабря. Письмо это, – при этом он вынул одну из своих бумаг, – сокращено секретарем совета. В сущности в нем заключалось следующее: что замужняя сестра, под покровительством которой она жила в Нью-Йорке, переселилась с мужем в Англию, что она, то есть сестра Меллисент имеет серьезные резоны не сопровождать своих родственников в Англию и не имеет в Нью-Йорке никаких родственников, у которых могла бы остаться, что она прибегает к милосердию совета и просит при таких обстоятельствах простить ей нарушение правил и принять ее, бесприютную, кающуюся, в свой дом в Тадморе. Нет, друг Амелиус, у нас нет времени на то, чтоб распространяться в выражениях сочувствия, первая половина десяти минут почти прошла. Теперь я должен сообщить вам, что решали большинством голосов следующий вопрос: «Согласна ли с серьезной ответственностью, лежащей на совете, отмена приговора, произнесенного по правилам общества?» Результат вышел замечательный – голоса разделились поровну. В таких случаях, как вам известно, наши законы возлагают решение на Старшего Брата, который подал голос за отмену приговора. Вследствие чего так и было сделано. Сестра Меллисент снова принята в Тадмор.
– Ах, милый, дорогой Старший Брат! – воскликнул Амелиус. – Он всегда на стороне милосердия!
Брат Баукуэл поднял руки кверху в виде протеста.
– Вы, кажется, не имеете понятия о ценности времени, – сказал он. – Будьте покойны! Как представитель совета я обязан еще сказать вам, что приговор, произнесенный против вас, также отменен вследствие его отмены для сестры Меллисент. Итак, вы можете возвратиться в Тадмор, когда вам будет угодно. Но подождите конца, друг Амелиус! Совет решил еще, что выбор ваш между нами и светом должен быть абсолютно свободен от предубеждений. Во избежание прямого или косвенного влияния положено не иметь даже с вами переписки. По тем же самым мотивам мы не приглашаем вас вернуться к нам, это должно быть сделано вами единственно по вашему собственному желанию, без малейшего участия с нашей стороны. Мы только извещаем вас о совершившемся в ваше отсутствие событии, и более ничего.
Он остановился и опять посмотрел на часы. Время творило чудеса, оно замкнуло его уста.
Амелиус отвечал с тяжелым сердцем. Поручение совета перенесло его мысли от воспоминаний о Меллисент к его настоящему положению.
– Мой опыт в свете очень тяжел, – сказал он, – я с радостью отправился бы в Тадмор на этих же днях, но… – он остановился в нерешимости, перед ним встал образ Салли. Слезы наполнили его глаза, и он не договорил. Брат Баукуэл поднялся с места и подал Амелиусу другую бумагу, вынутую им из кармана.
– Вот, – сказал он, – простой, неформальный документ, несколько строк от сестры Меллисент, которая мне поручила передать вам. Потрудитесь прочесть, как можно скорее, и сказать мне, будет ли ответ.
Читать было недолго: «Добрые люди здесь простили меня, Амелиус, и позволили мне вернуться к ним. Я живу теперь счастливо с воспоминаниями о вас. Я делаю теперь прогулки, которые делала в вашем обществе, и иногда, катаясь по озеру, думаю о том времени, когда я вам рассказала свою грустную историю. Ваши любимцы находятся теперь на моем попечении: собака, олень и птицы все здравствуют и вместе со мною, ожидают вас. Моя вера в ваше возвращение сюда нисколько не изменилась. Еще раз повторяю: я первая буду приветствовать ваше возвращение, когда вы изнеможете под тяжестью жизни, а сердце ваше снова обратится к друзьям ваших юных дней. А пока вспоминайте меня иногда. Прощайте».
– Я жду, – заметил брат Баукуэл, держа шляпу в руках. Амелиус с усилием ответил:
– Поблагодарите ее дружески от меня, вот и все.
Промолвив эти слова, он опустил голову и впал в задумчивость, как будто, кроме него, не было никого в комнате.
Но посланный из Тадмора, глядя на минутную стрелку своих часов, снова привлек на себя его внимание.
– Вы сделаете мне одолжение, – сказал Баукуэл, показывая список имен и адресов, – если сообщите, как мне найти особу, записанную восьмой сверху. Уже без двадцати минут три часа.
Указанная особа жила не на далеком расстоянии, в северной части Регент-Парка. Амелиус, молчаливый и задумчивый, проводил его.
– Прошу вас, поблагодарите совет за доброту его ко мне, – сказал он, когда они дошли до места назначения. Брат смотрел на него спокойным, испытующим взором.
– Я полагаю, что вы кончите тем, что вернетесь к нам, – промолвил он. – Когда увижу вас в Тадморе, то воспользуюсь случаем, чтоб сделать вам несколько полезных замечаний о ценности времени.
Амелиус вернулся в коттедж узнать, не возвратился ли Тоф, чтоб потом самому отправиться со своим обычным визитом к хирургу Пинфольду. Он закричал у лестницы: «Здесь вы, Тоф?» И француз поспешно отвечал: «К вашим услугам, сэр».
Между тем небо заволокло тучами, и стал накрапывать дождь. Не найдя своего зонта в прихожей, Амелиус пошел за ним в библиотеку. Едва он затворил за собою дверь, как Тоф и его мальчик появились наверху лестницы, ведущей из кухни, оба шли на цыпочках и, по-видимому, подкарауливали что-то.
Амелиус нашел свой зонт. Но со свойственной ему изменчивостью настроения вдруг опустился на первый попавшийся стул, вместо того чтоб идти из дома. Салли снова занимала его мысли. В нем возникло намерение вопреки докторскому приказанию повидаться с ней, чтобы от того ни последовало.
Он вдруг вздрогнул. Его поразил какой-то звук. Это был слабый звук, скорее шорох, исходивший из давно опустевшей комнаты Салли.
Он прислушался, и снова достиг его слуха этот шорох. Он вскочил с места, его сердце страшно билось, он отворил дверь – она была там.
Руки ее были сложены на груди. Она не смела поднять на него глаз, не смела заговорить, не смела двинуться к нему навстречу до тех пор, пока он не протянул к ней руки. Тогда вся любовь и вся нежность ее маленького сердечка открылась перед ним. Она вскрикнула и с раскрасневшимся лицом упала ему на грудь. Румянец залил даже всю шею: то было безмолвное признание в том, чего она боялась и на что надеялась.
То было время не для слов. Они молча обнялись.
Но вдруг тишина коттеджа была нарушена, в сенях заиграла веселая музыка и послышался ритмический топот ног. Тоф играл на скрипке, а мальчик Тофа танцевал.
Глава XLV
Не получая два дня известий от Амелиуса и ничего не слыша о нем, Руфус отправился в коттедж.
– Мой господин выехал из города, – возвестил Тоф, отпирая дверь.
– Куда?
– Не знаю, сэр.
– С кем-нибудь?
– И этого не знаю, сэр.
– Какие известия о Салли?
– Не знаю, сэр.
Руфус вошел в зал.
– Послушайте, мистер француз, трех раз достаточно. Я уже однажды показал вам, что умею при случае обращаться с вами. Боюсь, что мне придется снова взяться за то же, если я не получу от вас ответа на мой следующий вопрос, у меня уж и руки чешутся. Когда должен возвратиться Амелиус?
– Ваш вопрос весьма определенный, сэр, – сказал Тоф с достоинством, – очень рад, что могу дать вам на него определенный ответ. Господин мой возвратится через три недели.
Получив это сведение, Руфус стал мысленно обсуждать, что ему теперь делать. Он решил, что самое благоразумное (как следует хорошему американцу) отправиться в Париж в ожидании его возвращения.
Дня три спустя, когда проходил он по Тюильрийскому саду и потом по улице Риволи, название отеля напомнило ему Регину. Побуждаемый любопытством, он зашел справиться, в Париже ли мистер Фарнеби и его племянница.
Хозяин отеля стоял у дверей. Насколько ему было известно, мистер Фарнеби с племянницей и одним английским джентльменом отправились в путешествие. Они оставили отель с какой-то таинственностью. Прислуга была отпущена, кучеру наемного экипажа приказано было ехать прямо до дальнейших приказаний. Одним словом, отъезд походил на бегство. Вспомнив сказанное американским агентом, Руфус выслушал эти известия без удивления. Даже, по-видимому, непонятная преданность мистера Мильтона к такому человеку, как Фарнеби, не представляла для Руфуса ничего таинственного. По его мнению, мистер Мильтон поступал таким образом, имея в виду награду, а именно мисс Регину.
По прошествии трех недель Руфус вернулся в Лондон.
Снова встретился он с Тофом на пороге дома. На этот раз старый гениальный француз представлял ослепительный вид. С головы до ног был одет он во все новое, и в его петлице красовался большой белый бант.
– Гром и молния, – вскрикнул Руфус. – Вы женитесь?
Тоф отклонил эту шутку. Он стоял в дверях твердо, с достоинством.
– Извините, сэр. У меня есть жена и дети.
– Вот как! Теперь обратимся к вашим «ничего не знаю». Возвратился Амелиус?
– Да, сэр.
– А какие известия о Салли?
– Хорошие, сэр. Мисс Салли также возвратилась.
– Вы это называете хорошими известиями? Мне нужно сказать несколько слов Амелиусу. Что вы стоите на дороге? Пропустите меня.
– Еще раз извините меня, сэр. Мой господин и мисс Салли не принимают сегодня посетителей.
– Ваш господин и мисс Салли? – повторил Руфус. – Не чересчур ли много старикашка употребил спиртных напитков? Что вы подразумеваете под этим? – воскликнул он, вдруг переменив тон, с грозным удивлением. – Что вы хотите сказать, упоминая вашего господина вместе с Салли?
Наконец Тоф пустил громовую стрелу.
– То, что они будут теперь проводить жизнь вместе. Сегодня утром они повенчались.
Руфус перенес удар молча, он повернулся и пошел в свой отель.
Придя в свою комнату, он открыл шкатулку, в которой хранил свою корреспонденцию, и вынул оттуда длинное письмо Амелиуса, содержавшее в себе описание его знакомства с семейством Фарнеби. Он взял перо и сделал на обороте надпись, пополнившую рассказ:
«Бедный Амелиус! Лучше бы он вернулся к мистрис Меллисент, не обращая внимания на то, что она старше его. Какой славный, достойный был малый!
Прощай, Гольденхарт!»
Исполнится ли предчувствие Руфуса? На этот вопрос получим ответ во второй части «Опавших листьев». Супружеская жизнь Амелиуса представляет собой слишком важный предмет, чтоб можно было его присоединить к рассказанной истории. Первая же часть заканчивается важным событием в его жизни.
Примечания
1
Баталер – помощник капитана в чине унтер-офицера, отвечающий за раздачу команде судна съестных припасов и вина.
(обратно)2
Квартирмейстер – младший унтер-офицер ведающий размещением пассажиров и команды на судне.
(обратно)3
Панегирик – восторженная и неумеренная похвала.
(обратно)4
Дортуар – общая спальня для членов Общины.
(обратно)5
Кухмистерская (устар.) – небольшой ресторан, столовая.
(обратно)6
Рокфор – сорт сыра с плесневым грибком, имеющий острый вкус и запах.
(обратно)

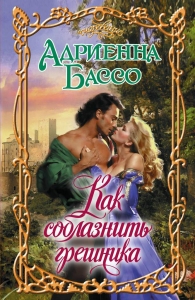

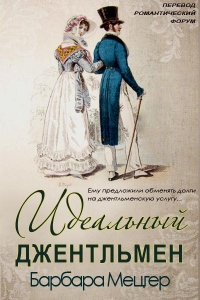
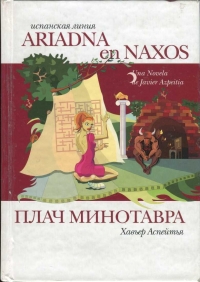
Комментарии к книге «Опавшие листья», Уилки Коллинз
Всего 0 комментариев