Сидони-Габриель Колетт Рождение дня
Неужели, читая мою книгу, вы полагаете, что я пишу свой портрет? Терпение: это только моя модель.
«Рождение дня»Сударь,
Вы приглашаете меня провести дней восемь в вашем доме, то есть рядом с моей дочерью, которую я обожаю. Вам, живущему рядом с ней, известно, как редко я её вижу, каким очарованием для меня наполнено её присутствие, и я тронута тем, что Вы приглашаете меня её повидать. Тем не менее я не приму Вашего любезного приглашения, по крайней мере сейчас. И вот почему: возможно, скоро зацветёт мой розовый кактус. Это очень редкое растение, которое мне подарили и которое, как мне сказали, цветёт у нас только раз в четыре года. А я ведь уже очень стара, и если меня не будет когда зацветёт мой розовый кактус, то мне уже наверняка не удастся увидеть, как он расцветёт ещё раз…
Примите же, Сударь, вместе с искренней благодарностью уверения в лучших чувствах и мои сожаления».
Это послание за подписью «Сидони Колетт, урождённая Ландуа» было написано моей матерью одному из моих мужей, второму по счёту. А год спустя она умерла в возрасте семидесяти семи лет.
В часы, когда я чувствую себя какой-то уничтоженной всем тем, что меня окружает, когда меня угнетает сознание собственной посредственности, когда я с ужасом обнаруживаю, что мышцы утрачивают свою выносливость, желание – свою силу, боль – остроту своего калёного лезвия, я всё же ещё могу выпрямиться и сказать себе: «Я дочь той, которая написала это письмо и многие другие сохранившиеся у меня письма. Десять строчек этого письма мне объясняют, что в семьдесят шесть лет она задумывала и осуществляла путешествия, но что при этом ожидание вот-вот готового раскрыться тропического цветка останавливало всё и наполняло покоем даже её созданное для любви сердце. Я дочь той женщины, которая в своём небольшом краю, жалком, прижимистом и скученном, открыла дверь своего сельского дома бродячим кошкам, нищим и беременным служанкам. Я дочь той женщины, которая, сто раз отчаявшись, что у неё не хватает денег для других, бежала к богатым домам в снегопад, подстёгиваемая ветром, и кричала у каждой двери, что только что у нищего очага родился ребёнок, что его, голенького в таких же голых слабеющих руках, не во что запеленать… Пусть я никогда не смогу забыть, что являюсь дочерью женщины, которая трепетала, склоняя своё очарованное, испещрённое морщинами лицо меж саблями кактуса над ещё не распустившимся цветком, женщины, которая сама без устали не переставала расцветать на протяжении трёх четвертей века…»
Сейчас, когда я постепенно увядаю сама и в зеркале становлюсь всё более похожей на неё, я начинаю сомневаться, чтобы она, вернувшись, признала во мне свою дочь, несмотря на сходство наших черт… Разве что, возвратившись, когда день только забрезжит, она застанет меня на ногах, бодрствующей среди спящего мира, проснувшейся, как это случалось с ней, как это часто случается со мной, раньше всех…
Почти раньше всех, о моё целомудренное и безмятежное привидение; но только я не смогла бы тебе предъявить ни голубого, полного корма для кур фартука, ни садовых ножниц, ни деревянного ведра… Вставшую почти раньше всех, но стоящую на пороге, сохранившем печать ночного шага, но полунагую, в трепещущем, наспех накинутом манто, но с дрожью от страсти в руках и прикрывающую – о стыд, о, спрячьте меня – тень мужчины, совсем тонкую…
«Посторонись, дай я посмотрю, – сказал бы мне мой дорогой призрак… – Ах! Ведь ты обнимаешь мой розовый кактус, который меня пережил, правда? Как он удивительно вырос и изменился!.. И всё же, дочь, вглядываясь, я узнаю твоё лицо. Узнаю по твоему пылу, по твоему ожиданию, по преданности твоих раскрытых рук, по биению твоего сердца и по сдерживаемому тобой крику, по раннему дневному свету, который тебя окружает, конечно, узнаю – это всё моё. Останься, не прячься, и пусть вас обоих оставят в покое – тебя и того, кого ты обнимаешь, потому что на самом деле он и есть мой розовый кактус, который наконец собирается расцвести».
Неужели это он, мой последний дом? Я его вымеряю, вслушиваюсь в него, пока длится то, подобное ночному, затишье, которое здесь наступает сразу вслед за полуденным часом. Потрескивают цикады и новая обшивка террасы, какое-то неведомое мне насекомое гасит горящие угольки в своих надкрыльях, каждые десять секунд раздаётся крик сидящей на сосне красноватой птицы, а западный ветер, осторожно огибающий мои стены, оставляет в покое ровное, плотное, твёрдое море, окрашенное жёсткой синевой, которая к концу дня смягчается.
Неужели это мой последний дом, дом, которому я останусь верна, который уже больше никогда не покину? Он такой заурядный, что у него просто не может быть соперников.
Я слышу, как звенят бутылки, которые несут в колодец, откуда они поднимутся вновь, охлаждённые, к сегодняшнему ужину. Одна из них, цвета розовой смородины, встанет рядом с зелёной дыней; другая, наполненная янтарным, похожим на раскалённый песок вином, будет хорошо смотреться рядом с салатом – залитые маслом помидоры, перец, лук – и со спелыми фруктами.
После ужина нужно не забыть напоить водой бороздки вокруг дынь и вручную полить бальзамины, флоксы, георгины и молодые мандариновые деревца, у которых корни пока ещё не настолько длинные, чтобы брать влагу в глубинах земли, и не настолько много сил, чтобы зеленеть без посторонней помощи под непрестанно пылающим небом… Мандариновые деревца… для кого они посажены? Не знаю. Может быть, и для меня… Часам к десяти в голубом, перенявшем свой цвет от садового вьюнка воздухе кошки станут прыгать вертикально вверх, охотясь за пяденицами. Расщебечется, словно целый выводок, задремавшая чета японских курочек, которая устраивает себе насест на подлокотнике непритязательного кресла. Отстранившись от мирских дел, собаки уже начнут думать о следующей заре, а я смогу выбирать между книгой, постелью и тянущейся вдоль побережья дорогой с рассевшимися на ней жабами-флейтистками…
А завтра я застану красную зарю на смоченных солёной росой тамарисках, на кустах лжебамбука, каждый из которых держит жемчужину на острие своего голубого копья. Дорога по побережью, выходящая из ночи, из тумана, из моря… А потом – купание, работа, отдых… Как всё могло бы быть просто… Неужели я достигла той точки, когда уже ничего не начинается заново? Всё так напоминает мне первые годы моего существования, и постепенно я начинаю различать обратный путь; я различаю его, когда вижу, как сжимается деревенское пространство, когда гляжу на кошек, на состарившуюся собаку, когда чему-то изумляюсь, когда чувствую вдали дыхание безмятежности – его милосердную влагу с обещанием искупительного дождя для моей всё ещё наполненной грозами жизни. Пройдено и преодолено уже так много ступеней. Эфемерный замок, растаявший в отдалении, уступает место этому вот домику. Имения, рассеянные по всей Франции, мало-помалу отступили вглубь, повинуясь желанию, которое прежде я не осмеливалась высказать. Своеобразная смелость объяснятся живучестью прошлого, которое вдохновляет всё вплоть до младших духов настоящего: служители вновь становятся покорными и сведущими. С любовью трудится горничная, работает мылом в мойке кухарка. Значит, и здесь – хотя я и надеялась вновь найти её только по ту сторону жизни, – здесь тоже существует такая садовая тропинка, где я могла бы найти обратный путь по собственным следам? Не оно ли, призрачное видение матери в голубом немодном сатиновом платье, наполняет лейки на краю колодца? Свежесть водяной пыли, сладостный мираж, дух провинции и сама эта невинность – не это ли всё является милым призывом жизненного конца? Как всё стало просто… Всё вплоть до второго прибора, который я порой располагаю напротив моего собственного на затенённом столе.
Второй прибор… Он теперь занимает мало места: зелёная тарелка, толстый старинный, немного помутневший стакан. Если я подам знак, чтобы его убрали навсегда, никакое гибельное дуновение, внезапно принесённое с горизонта, не поднимет дыбом мои волосы и не повернёт – а такое случалось – мою жизнь вспять. И всё-таки я буду есть с аппетитом, если на моём столе не будет этого прибора. Больше нет тайны, нет змеи, притаившейся под салфеткой, которую, чтобы отличить её от моей, зажимает бронзовая лира, раньше она поддерживала над старым, прошлого века офиклеидом пустынные страницы партитуры, где прочитывались только знаки «сильные доли такта», стекающие через равные интервалы, как слёзы… Теперь это прибор друга, который приходит и уходит, это уже не прибор хозяина дома, который в ночные часы расхаживает по звонким половицам в комнате наверху… В те дни, когда напротив меня нет тарелки, стакана и лиры, я не оставлена, я просто одинока. Мои друзья, успокоившись, мне верят.
У меня их остаётся очень мало, два-три друга, те, которые, когда-то оказавшись свидетелями моего первого кораблекрушения, думали, что я погибаю, потому что я сама тоже совершенно искренне в это верила и говорила им об этом. Смерть заботится о том, чтобы одного за другим отправлять их на покой. У меня есть друзья и помоложе, главным образом такие, которые моложе меня самой. Я инстинктивно люблю приобретать и запасать впрок то, что обещает жить и после отпущенного мне срока. Этим друзьям я не причинила столь больших мучений – максимум несколько неприятностей: «Так, ладно, Он, значит, будет и дальше нам её разрушать… До каких же пор Он будет занимать столько места?» Они строили догадки по поводу развязки, её драм, её температурных кривых: «Тяжёлая форма тифа или же доброкачественная сыпь? Небо испытывает нашу подругу, она постоянно умудряется подхватывать такие серьёзные болезни!» Мои истинные друзья всегда давали мне это высшее доказательство преданности: стихийное отвращение к человеку, которого я любила. «А если он, этот, опять исчезнет, сколько забот на нашу голову, сколько трудов, чтобы помочь ей вновь обрести уверенность…»
По существу, они никогда особенно не сетовали, скорее наоборот, – те, кто видел, как я к ним возвращалась, вся разгорячённая борьбой, зализывая раны, подсчитывая свои тактические ошибки, пристрастно утверждая, что испытываю от этого удовлетворение, обвиняя в преступлениях победившего меня врага, чтобы потом начать его без меры обелять, а затем тайно прижимать к груди его письма и портреты: «Он был милым… Мне надо было… Мне не надо было…» Потом приходило благоразумие и так мною не любимое успокоение, и моё слишком поздно научившееся вежливости, слишком поздно научившееся сдержанности молчание, которое, по-моему, хуже всего… Вот и появляется рутина страданий, так же как и привычка к неудаче в любви, так же как и потребность отравлять бессознательно любую жизнь вдвоём…
Итак, значит, всё кончено с моей жизнью воительницы, которой, как мне казалось, не будет конца? Отныне остались только сновидения, чтобы время от времени воскрешать умершую любовь, то есть любовь, очищенную от её кратких и определённых удовольствий. Случается, что во сне та или иная моя любовь возобновляется – с неописуемым гвалтом, с сумятицей слов, претензий, взглядов, которые можно истолковать в двух или трёх противоречащих друг другу смыслах… Без какого-либо перехода или перерыва этот сон заканчивается экзаменами на аттестат зрелости, десятичными дробями, и если при пробуждении подушка под затылком оказывается немного влажной, то это из-за аттестата зрелости. «Ещё секунда, и я бы провалилась на устном», – лепечет память ещё по инерции. «Ах! какой взгляд был у него в моём сне… У кого? У наибольшего общего делителя? Да нет же, у Него, у Него, когда он подсматривал за мной в окно, чтобы узнать, обманываю я его или нет… Только это был не Он, это был… Может, это был..?» Свет усиливается, силой расширяет золотисто-зелёную прогалинку между веками… «Он это был или..? Я уверена, что сейчас уже по крайней мере семь часов, а если уже семь, то я опоздала с поливкой баклажанов: солнце высоко, – и почему всё-таки я не сунула Ему под нос то письмо, где он мне обещает мир, дружбу, взаимное и более глубокое узнавание друг друга и… – за всё лето я ещё никогда не поднималась так поздно…» Потому что возвращение к реальности после сновидения – это всего лишь изменение места и тяжести каких-то угрызений совести…
Маленькое крылышко света бьётся между двумя ставнями и в своём скачкообразном движении касается стены, потом длинного, тяжёлого стола, предназначенного для того, чтобы на нём писать, читать, играть, беспредельного стола, который возвратился из Бретани, как и я сама. Крылышко света окрашивается то в розовый цвет на стене, покрытой розовой известью, то в голубой – на голубом ковре из берберского хлопка. Наполненные книгами посудные шкафы, кресла и комоды вместе со мной совершили большое пятнадцатилетнее путешествие по двум или трём французским провинциям. Непритязательные тонкие кресла с веретенообразными подлокотниками, похожие на крестьянок с изящными запястьями, жёлтые тарелки, звенящие, как колокола, если стукнуть согнутым пальцем, белые блюда с толстой пенкой эмали – мы все вместе с удивлением обретаем вновь наш родной край. Кто бы мне мог показать на Мурийоне, в шестидесяти километрах отсюда, дом моего отца и моих дедушки с бабушкой? Правда, меня баюкали, порой неласково, иные края. У женщины родина везде, где она бывала счастлива в любви. И точно так же она вновь рождается к жизни под всеми теми небесами, где залечивает боль любви. В этом смысле этот берег, расцвеченный помидорами и перцем, является моим вдвойне. Такое сокровище, и как долго я не обращала на него внимания! Воздух лёгок, солнце морщит и засахаривает на виноградной лозе рано созревшую кисть, у чеснока превосходный вкус. Величественная бедность, которую порой земле диктует жажда, элегантная лень, которой учит воздержанный народ, – о мои запоздалые приобретения. Но не будем сетовать. Вы ждали моей зрелости. Моя тогда ещё угловатая молодость поранилась бы, наткнувшись на пластинчатую, чешуйчатую скалу, раздвоенную иголку от сосны, на агаву, занозу морского ежа, горький смолистый ладанник и на смоковницу, каждый лист которой превращается с обратной стороны в язык хищного зверя. Что за страна! Завоеватель одаривает её виллами и гаражами, автомобилями, поддельными «фермами», где устраиваются танцы; дикарь с севера дробит на кусочки, спекулирует, истребляет леса, и с этим, естественно, ничего не поделаешь. Однако сколько похитителей на протяжении веков попадали под обаяние своей пленницы? Придя затем, чтобы погубить её, они вдруг останавливаются и прислушиваются к её сонному дыханию. Потом осторожно закрывают решётку ворот, поправляют изгородь, онемевшие, почтительные; и вот уже, земля Прованса, покорные твоей воле, вновь подвязывают твою виноградную корону, опять сажают сосну, смоковницу, высевают узорчатую дыню и отныне не желают ничего иного, красавица, кроме как служить тебе и в этом находить своё счастье.
Иные тебя неизбежно оставят. Бросят, сначала тебя обесчестив. Только тебе ведь безразлично – одной ватагой больше или меньше. Тебя оставят те, кто приехал, поверив рекламе казино, отеля или почтовой открытке. Они сбегут, обожжённые, укушенные твоим совсем белым от пыли ветром. Храни тех своих любовников, что пьют воду из кувшина, что пьют сухое, зреющее в песке вино; храни тех, кто с религиозным трепетом наливает масло и отворачивается, проходя мимо мёртвой плоти; храни тех, кто встаёт утром и укачивает себя вечером, уже в постели, лёгким прерывистым дыханием праздничных кораблей в заливе, – храни меня…
Созревающий цвет сумерек отмечает окончание моей сиесты. Сейчас, как и положено, развалившаяся на полу кошка вытянется до невероятных размеров, извлечёт из себя переднюю лапу, точная длина которой никому не известна, и скажет своим зевком-цветком: «Хорошо прошли четыре часа». И уже катится к пляжу по собственному облачку пыли первый автомобиль; за ним последуют другие. Какой-нибудь из них на мгновение остановится у решётки и высыплет на аллею под перистую тень мимоз моих друзей без жён и женщин с их любовниками. Я ещё не дошла до того, чтобы закрыть решётку у них перед носом и щерить из-за неё зубы. И всё же моя холодная, на «ты» сердечность не обманывает и их сдерживает. Мужчины любят мою приватную обитель мэтра, её запах, её незапирающиеся двери. Несколько женщин произносят с видом неожиданного исступления: «Ах! какой здесь рай…» – а про себя начинают перечислять, чего здесь не хватает. Однако и те и другие ценят, что я терпеливо слушаю про их проекты – я, у которой нет проектов. Они «без ума от этого края», они хотят купить «небольшую и совсем простую ферму» или же построить «домик на мысу над самым морем, а, что за вид!». Здесь я становлюсь совсем милой. Ведь я слушаю и говорю: «Да, да». Ведь я не претендую на расположенное рядом поле, не покупаю виноградник соседа и не «пристраиваю крыло». Всегда находится приятель, который, внимательно осмотрев мой виноградник, сходит от дома к морю, не спустившись и не поднявшись ни на одну ступеньку, вернётся и заключит: «В общем, эта усадьба, как она есть, вам подходит как нельзя лучше».
А я отвечаю: «Да, да», так же как и тогда, когда он или кто-то ещё начинает меня уверять: «Вы совершенно не меняетесь!» Что означает: «Мы серьёзно настроены на то, чтобы вы больше не менялись».
Что ж, буду стараться опять…
Ветер усиливается, потому что дверь, которая выходит на виноградник – участок, окружённый ажурным кирпичом, – слабо дёргается на петлях. Он сейчас быстро подметёт четверть горизонта и вцепится в зеленоватый, по-зимнему прозрачный север. Вогнутый залив загудит тогда весь как раковина. Прощай, моя ночь под открытым небом на матрасе из рафии… А если бы я стала упорствовать в своём желании спать снаружи, эта гигантская пасть, что дышит холодом и сухостью, от которой гаснут запахи и цепенеет земля, этот враг труда, неги и сна сорвал бы с меня простыни и покрывала, которые он умеет сворачивать в длинные свитки. Странный мучитель, преследующий человека, как какой-нибудь хищный зверь! Нервные люди знают про него больше, чем я. Моя кухарка-провансалка, когда он застаёт её у колодца, ставит вёдра, хватается за голову и кричит: «Он меня убивает!» В ночи мистраля она стонет под ним в своей хижине на винограднике и, может быть, даже его видит.
Оставаясь в своей комнате, я со сдержанным нетерпением ожидаю, когда удалится этот посетитель, для которого не существует закрытых дверей и который уже подталкивает под мою дверь своеобразное подношение из увядших лепестков, из тонко просеянных зёрен, из песка, из помятых бабочек… Давай, давай, мне не раз случалось отпугивать приметы… Сейчас мне уже не сорок лет, и я не собираюсь отворачиваться от увядшей розы. Так неужели с моей жизнью воительницы всё действительно покончено? Чтобы поразмышлять обо всём этом, есть три подходящих момента: сиеста, короткий промежуток времени после ужина, когда комнату неожиданно наполняет шуршание привезённой из Парижа газеты, и ещё бессонница порой среди ночи, перед рассветом… Да, скоро уже три. Только где же в этой неустойчивой середине ночи, которая так быстро идёт навстречу дню, искать ту огромную полосу горечи, которую мне обещали мои былые печали и былые моменты счастья, моя собственная и принадлежащая другим литература. Обычно смиренная перед тем, что мне неведомо, я боюсь обмануться, когда мне кажется, что у нас – между мной и мужчиной – начинается долгая перемена… Мужчина, друг мой, приди, соедини с моим своё дыхание!.. Я всегда любила твоё общество. Ты смотришь на меня сейчас таким ласковым взглядом. Ты смотришь, как я поднимаюсь на поверхность из беспорядочного скопления женского хлама, ещё отягчённая, словно водорослями от кораблекрушения, – голова уже наверху, а тело ещё борется, и уверенности в спасении нет, – ты смотришь, как выплывает твоя сестра, твой сообщник: женщина, которая ускользает от возраста собственно женщины. У неё довольно крепкое, по твоему образу, сложение, телесная сила, откуда постепенно уходит грация, и властность, которая даёт тебе понять, что ты не можешь больше приводить её в отчаяние, разве что платонически. Останемся же вместе: теперь у тебя больше нет оснований покидать меня навсегда.
Из моей жизни уходит одна из великих сует жизни – любовь. Другой великой суетой является материнский инстинкт. Расставшись с тем и другим, замечаешь, что всё остальное и весело, и разнообразно, и неисчерпаемо. Только с этим не расстаются ни тогда, когда хочешь, ни так, как хочешь. Насколько же был разумен упрёк одного из моих мужей: «И значит, ты не можешь написать ни одной книги, чтобы она не была о любви, об адюльтере, о полукровосмесительной связи, о разрыве? Разве в жизни не существует ничего иного?» Если бы он не торопился в этот момент на любовное свидание (поскольку был хорош собой и мил), он, возможно, подсказал бы мне, что же обладает правом занять в романе, да и вне романа, место любви… Однако он уходил, а я, неисправимая, на такой же точно голубоватой бумаге, которая на тёмном столе как фосфоресцирующая направляет сейчас мою руку, убористо записывала какую-то главу, посвящённую любви, тоске по любви, главу, всю ослеплённую любовью. Там я звалась Рене Нере, а ещё раньше я употребляла имя Леа. Теперь же и в документах, и в литературе, и в обиходе у меня осталось только одно имя, моё собственное. Но разве не потребовалось мне, чтобы прийти к этому, чтобы вернуться к этому, всего каких-нибудь тридцать лег моей жизни? В конечном счёте я поверю, что цена оказалась не слишком чрезмерной. Способны ли вы себе представить, как случай вдруг сделал бы меня одной из тех женщин, которые до такой степени сосредоточены на единственном мужчине, что несут с собой до самой могилы – независимо от того, бесплодны они или нет – загустелую наивность старой девы?.. Одна только мысль о такой судьбе – и мой плотный, продубленный солнцем и водой двойник, которого я вижу в наклонном зеркале, вздрогнул бы, умей он ещё дрожать от миновавшей опасности.
Живущая в олеандрах ночная бабочка бражник натыкается на тонкую металлическую сетку, опущенную перед стеклянной дверью, бьётся и бьётся о неё, и натянутая сетка гудит как кожаный барабан. В воздухе прохладно. Струится обильная роса, на этот раз мистраль отложил своё нападение. Дрожат, расширяясь, растягиваемые солёной влагой звёзды. Самая прекрасная ночь предвещает ещё один самый прекрасный день, и я, бодрствуя, наслаждаюсь. О! пусть завтрашний день тоже увидит меня столь же кроткой. Отныне я совершенно искренне не претендую больше ни на что; разве только на нечто недоступное. Быть может, меня кто-то убил, что я стала такой кроткой? Вовсе нет: я уже очень давно не встречала – так, как встречают, упёршись лбом в лоб, грудью в грудь и сплетя ноги, – настоящих злодеев. Это большая редкость – встретить хотя бы раз в жизни истинного злодея, настоящего, чистого, артистичного, В обычном злодее есть примесь доброго человека. Правда, третий час утра склоняет к снисходительности тех, кто вкушает его в полях и кто лишь самому себе назначает свидание под этим большим синеющим окном. Кристальная пустота неба, ставший уже осознанным сон животных, зябкое сокращение закрывающейся снова чашечки цветка – сколько противоядий от запальчивости и несправедливого суда. Однако мне даже и не нужно быть снисходительной, чтобы заявить, что меня в моём прошлом никто не убивал. Страдать – да, страдать я страдала… Только разве это так уж смертельно, страдать? Я начинаю в этом сомневаться. Страдание – это, быть может, какая-то детская забава, что-то вроде недостойного занятия; я имею в виду страдание женщины из-за мужчины и мужчины из-за женщины. Это чрезвычайно болезненно. Согласна, что вынести это трудно. И всё же боюсь, что этот вид боли не заслуживает никакого уважения. Она ничуть не лучше, чем старость и болезнь, к которым я начинаю испытывать всё большее отвращение: они обе скоро соизволят заняться мною основательно. И я заранее затыкаю нос… Страдающие от любви – обманутые, ревнивцы, – должно быть, издают такой же запах.
Я отчётливо помню, что мои зверушки становились менее ласковы со мной, когда я страдала от любовной измены. Они нюхом чуяли моё великое унижение: боль. Я заметила взгляд прекрасной породистой суки, который нельзя забыть: ещё великодушный, но сдержанный, церемонно скучающий, – потому что ей уже не так нравилась сама моя сущность, – взгляд мужчины, взгляд некоего мужчины. Симпатия животного к несчастному хозяину… Неужели так никогда и не удастся искоренить это избитое утверждение, в котором отражается чисто человеческая глупость? Животное любит счастье почти так же, как и мы. Его беспокоит приступ плача, иногда оно воспроизводит рыдания, эпизодически отвечая на нашу печаль. Однако оно как от чумы бежит от несчастья, и мне даже кажется, что в конечном счёте ему удаётся заклинать несчастье…
Как хорошо используют июльскую ночь те два кота, что дерутся во дворе! Эта, воздушные песни котов-самцов столько раз были аккомпанементом ночных часов моего существования, что стали символами бдения, ритуальной бессонницы. Конечно, я знаю, что сейчас уже три часа и что я вот-вот снова засну, а проснувшись, Пуду сожалеть о том пропущенном мгновении, когда голубое молоко начинает пробиваться с моря, завоёвывает небо, распространяется в нём и останавливается у красного надреза на уровне горизонта…
Сильный голос хищника-баритона с долгим дыханием тянется, пробиваясь сквозь острые звуки кота-тенора, искусного в тремоло с высокими хроматическими гаммами, прерываемыми яростными вкраплениями, которые становятся всё более гнусавыми, по мере того как в них нарастает их оскорбительный пафос. Эти два кота не испытывают друг к другу ненависти. Однако светлые ночи располагают к битве и к напыщенным диалогам. Зачем спать? Они могут выбирать и от лета, ночью и днём, берут самое прекрасное. Они могут выбирать… Все животные, с которыми хорошо обращаются, выбирают что только есть лучшего вокруг них и в нас. Был у меня в жизни такой, оставшийся в прошлом, период, когда их относительная холодность поведала мне о моей собственной гадкости… Именно так: гадкости. Чем не основание для того, чтобы покинуть это бренное царство? И что за тягостный привкус у всех этих плохо вытертых слёз, красноречивых взглядов, простаиваний на ногах за полуопущенной шторой, у этой мелодрамы… И что, по-вашему, может думать о такой женщине какое-нибудь животное, например сука, которая сама вся состоит из тайного пламени и секретов, сука, никогда не стенавшая под кнутом и не плакавшая на людях? Само собой, она меня презирала. И если я не скрывала своего несчастья от себе подобных, то перед ней я за него краснела. Правда, мы обе, она и я, любили одного и того же человека. И всё-таки именно в её глазах я читала определённую мысль (я её перечитываю в одном из последних писем моей матери): «Любовь – это чувство, которое не делает чести…»
Один из моих мужей мне советовал: «Годам к пятидесяти тебе бы следовало написать нечто вроде учебника, который научил бы женщин жить в мире с мужчиной, которого они любят, некий кодекс жизни вдвоём…» Может быть, именно его я сейчас и пишу… Мужчина, прежняя моя любовь, как много выигрываешь, как много узнаёшь рядом с тобой! Впрочем, расставание – одна из прелестей даже самой хорошей компании; и я здесь обязуюсь любезно проститься. Нет, ты не убил меня, может быть, и зла ты мне никогда не желал… Прощай же, дорогой мужчина, и добро пожаловать, приходи вновь. По моей постели здорового человека, которая более удобна для того, чтобы в ней писать, чем ложе больного, голубое свечение движется к голубой бумаге, к кисти руки, к предплечью цвета бронзы; запах моря меня извещает, что мы уже близки к тому часу, когда воздух холоднее воды. Встану ли я? Сон так сладок…
«Есть в очень красивом ребёнке нечто такое, чему я не могу найти названия и что наводит на меня грусть. Как выразиться яснее? Твоя маленькая племянница С. сейчас просто пленительно красива. Анфас – ещё не так заметно, но стоит ей повернуться профилем, когда её маленький, точёного серебра носик гордо вырисовывается под прекрасными ресницами, и меня охватывает восторг, в котором есть что-то и от отчаяния. Уверяют, что нечто подобное испытывают перед предметом своей страсти великие влюблённые. Похоже, значит, я тоже своего рода великая влюблённая? Вот новость, которая бы весьма удивила моих двух мужей!..»
Значит, она могла склоняться безнаказанно над цветком человеческим. Безнаказанно, если не считать «грусти»; так она называла то меланхолическое исступление, то возвышение духа, что овладевает нами, едва мы обращаем взор на никогда не тождественные самим себе, никогда не повторяющиеся арабески – спаренные огни глаз, запрокинутые колокольчики-близнецы ноздрей, морскую бездну рта с его пульсацией расслабленной ловушки – на весь этот литейный воск лиц?.. Склонившись над юным и великолепным существом, она дрожала, вздыхала от тоски, которой не находила названия и которая называется искушением. Только ей никогда бы и в голову не пришло, что от детского лица может исходить какое-то брожение, нечто похожее на пар, витающий над сложенным в чане виноградом, и что можно не выдержать… Мои первые беседы с самой собой меня, по крайней мере, просветили, если не уберегли от ошибок: «Руками дотрагиваться до крылышка этой бабочки не надо.
– Ладно, не буду… Ну только совсем чуть-чуть… Только вот тут, где по чёрно-рыжему пятнышку скользит, так что я никак не могу понять, откуда он берётся и куда пропадает, этот фиолетовый огонёк, этот лунный блик…
– Нет, не трогай его. Всё сразу исчезнет, как только ты к нему прикоснёшься.
– Ну совсем чуть-чуть!.. Может быть, в этот раз мне удастся ощутить, как под самым чувствительным, четвёртым пальчиком бежит холодное голубое пламя, по ворсинкам крылышка… по его оперению… по его росе…» След остывшего пепла на кончике пальца, поруганное крыло, ослабевшая букашка…
Моя мать, которая всему училась, по её словам, «только обжигаясь», вне всякого сомнения знала, что обладать можно в воздержании и только в воздержании. Воздержание ли, обладание ли – грех в одном случае почти не более тяжек, чем в другом, для «великих влюблённых» вроде неё – вроде нас. Безмятежная и весёлая рядом с супругом, она становилась возбуждённой, одержимой безрассудством при встрече с людьми, достигшими поры своего наивысшего расцвета. Живя затворницей в своей деревне между двумя сменившими один другого мужьями и четырьмя детьми, она всюду встречала непредвиденные, созданные для неё и ею взлёты, расцветы, метаморфозы, взрывы чудес, которые целиком доставались ей одной. Она, которая ухаживала за животными, нянчила детей, приходила на помощь растениям, она оказалась избавленной от открытий, что где-то есть такое животное, которому хочется умереть, что какой-то ребёнок домогается грязи, что один из нераспустившихся цветков потребует, чтобы его раскрыли силой, а потом затоптали ногами. Её собственное непостоянство сводилось к тому, чтобы летать от пчелы к мышке, от новорождённого к деревцу, от нищего к ещё более нищему, от смеха к муке. Чистота тех, кто щедро себя расточает! В её жизни никогда не было воспоминания о поруганном крыле, а если ей и случалось трепетать от вожделения возле закрытой чашечки цветка, возле ещё завёрнутой в свой лакированный кокон хризалиды, то уж она-то, по крайней мере, терпеливо ждала срока… Чистота тех, кто не совершал взлома! И вот, чтобы восстановить узы, связывающие её со мной, я вынуждена углубиться в те времена, когда драматические грёзы моей матери сопутствовали отрочеству её старшего сына, великого красавца, соблазнителя. В ту пору она мне представлялась взбалмошной, наполненной деланной весёлостью и проклятиями, заурядной, подурневшей, насторожённой… Ах! Вот бы мне увидеть её такой снова, утратившей достоинство, с раскрасневшимися от ревности и ярости щеками! Вот бы мне увидеть её такой, и пускай бы она слышала меня достаточно хорошо, чтобы узнать себя в том, что она бы больше всего осудила! Вот бы мне, теперь тоже набравшейся разума, раскрыть ей, до какой степени я являюсь её нечистой ипостасью, её огрублённым образом, её верной служанкой, которой поручили грязную работу! Она дала мне жизнь и задание продолжить то, что, как поэт, она ухватила и оставила подобно тому, как ловят отрывок неустойчивой, витающей в пространстве мелодии… Какое дело до мелодии тому, чьё внимание направлено на смычок и на руку, которая держит смычок?
Она шла к своим невинным целям с каким-то возрастающим беспокойством. Она вставала рано, потом ещё раньше, потом и того раньше. Она хотела, чтобы мир принадлежал ей, причём мир пустынный, в форме маленького загона, беседки из виноградных лоз и покатой крыши. Ей хотелось девственных джунглей, пусть хотя бы и ограниченных ласточкой, кошкой, пчёлами, большим пауком на своём кружевном, посеребрённом ночной влагой колесе. Её мечтание убеждённой исследовательницы разрушалось от стука соседской ставни, хлопнувшей по стене, и каждый день в тот час, когда начинает казаться, что холодная роса звонкими неровными каплями падает из клюва дроздов, оживало вновь. Она покидала свою постель в шесть часов, потом в пять часов, а к концу её жизни маленькая красная лампа пробуждалась зимой задолго до того, как зовущий к заутрене колокол начинал сотрясать чёрный воздух. В эти, ещё ночные, часы моя мать пела и замолкала тогда, когда её могли услышать. Так же как и жаворонок, который поднимается к самой светлой, наименее населённой части неба. Моя мать всё поднималась и поднималась по часовой лестнице, стараясь завладеть началом начал… Я знаю, что это такое, подобное опьянение. Однако она, она подстерегала горизонтальный, красный луч и бледный цвет серы, который предвещает появление красного луча; она хотела видеть влажное крыло, которое, как руку, вытягивает первая пчела. От летнего ветерка, что рождается перед приближением солнца, она получала свой первый букет ароматов акации и дровяного дыма; раньше всех отвечала на постукивание копыта и негромкое ржание лошади в конюшне по соседству; раскалывала пальцем в ведре на колодце первый, тончайший диск ледяного зеркала, в котором осенним утром отражалась она одна…
Как бы я хотела предложить этому твёрдому и выпуклому персту, способному отщипывать черешки, собирать душистый лист, соскабливать зелёную тлю и вопрошать спящие в земле посевы, как бы я хотела предложить ему то, что ещё недавно было моим собственным зеркалом: нежное, хотя и с какой-то едва заметной мужской грубоватостью лицо, которое мне возвращало мой улучшенный образ! Я бы сказала своей матери: «Посмотри. Посмотри, что я делаю. Посмотри, чего мне это стоит. Стоит ли это того, чтобы я надевала мой оклеветанный маскарадный костюм, который позволяет мне втайне поддерживать своим дыханием ту жертву, из которой, как кажется со стороны, я пью соки. Стоит ли это того, чтобы, отвернувшись от утренних зорь, которые мы с тобой так любим, я уделяла столько внимания векам, ожидая звёздных восходов от их ослепительного блеска. Вглядись и оцени лучше меня самой моё подрагивающее творение, которое я устала созерцать. Ну приготовь же, садовница, свой огрубелый перст!..» Однако было уже слишком поздно. Та, которой я признавалась во всём, к тому времени уже обрела свои вечные утренние сумерки. Её суд на нами, увы, был бы недвусмыслен в своей небесной, не ведающей гнева жестокости: «Отторгни, дочь, свой чудовищный черенок, свой привой, который хочет цвести только за твой счёт. Это же ведь омела. Уверяю тебя, это омела. Я вовсе не говорю тебе, что привечать омелу дурно, потому что зло и добро могут одинаково и цвести, и плодоносить. Только…»
Когда я пытаюсь сочинить за неё то, что она могла бы мне сказать, то всегда дохожу до места, где у меня перестаёт получаться. Мне не хватает слов, особенно главных аргументов: бранных либо неожиданно снисходительных, в равной степени пленительных и лёгких, которые, отделяясь от неё, медленно достигали моей тины, мягко в неё погружались и так же медленно вновь всплывали. Они всплывают во мне сейчас, и порой их находят прекрасными. Однако я отлично понимаю, что хотя они и узнаваемы, но всё же искажены в соответствии с моим личным кодом, из-за моего малого бескорыстия, моего сдержанного великодушия и моей чувственности, у которой, слава богу, глаза всегда были больше, чем чрево.
У нас обеих было по два мужа. Только если оба мои мужа – вы представляете себе мою радость – живы и поныне, то моя мать дважды оставалась вдовой. Верная по своей природе из-за нежности, долга, гордости, она омрачилась при моём первом разводе, ещё больше при моём втором браке, причём давала этому весьма своеобразное объяснение. «Я осуждаю не столько развод, – говорила она, – сколько брак. Мне кажется, что всё было бы лучше, чем брак, только, правда, так не получается». Я смеялась и пыталась ей доказывать, что она сама дважды послужила мне примером. «Так было нужно, – отвечала она. – Я-то ведь из одной с ним деревни. А вот ты, ну что ты будешь делать с таким количеством мужей? К ним привыкаешь, а потом без них уже и не обойтись».
– Но, мама, а что бы ты сделала на моём месте?
– Наверняка какую-нибудь глупость. Ведь вышла же я замуж за твоего отца…
Если она не осмеливалась говорить, какое место он занимал в её сердце, то понять это, уже после того как он навсегда её покинул, позволили мне её письма и ещё – её приступ рыданий на следующий день после похорон моего отца. В тот день мы с ней приводили в порядок ящики секретера из жёлтой туи, где она обнаружила письма, послужной список Жюля-Жозефа Колетта, капитана первого полка зуавов, и шестьсот франков золотом – всё, что осталось от недвижимой собственности, от растаявшей собственности Сидони Ландуа… Моя мать, которая стойко, без признаков слабости, разбирала реликвии, наткнулась на эту горсть золота, вскрикнула и залилась слезами: «Ах! милый Колетт! неделю назад, когда он ещё мог говорить, он мне сказал, что оставил лишь четыреста франков!» Она рыдала от благодарности, и в тот день я начала сомневаться, любила ли я когда-нибудь настоящей любовью… Нет, естественно, такая великая женщина не могла совершать те же «глупости», что и я, и она первая отбивала у меня охоту ей подражать:
– Тебе что, действительно так нравится этот господин X.?
– Но, мама, я ведь люблю его!
– Да, да, любишь… Конечно, ты его любишь…
Она снова задумывалась, делая над собой усилие, чтобы не произнести того, что ей подсказывала её небесная жестокость, а потом снова восклицала:
– Нет! и всё же я недовольна!
Я притворялась скромницей, опускала глаза, стараясь удержать образ прекрасного, умного мужчины, которому многие завидовали, имеющего совершенно блестящие перспективы, и кротко отвечала:
– Тебе трудно угодить…
– Нет, я недовольна… Мне нравился больше тот, другой, молодой человек, которого ты сейчас просто ровняешь с землёй…
– О! мама!.. Он же дурак!
– Вот-вот, дурак… Именно…
Я ещё и сейчас помню, как она наклоняла голову, прищуривала свои серые глаза для созерцания предстающего в выгодном свете, ослепительного образа «дурака»… А она добавляла:
– Сколько бы ты, Киска, написала прекрасных вещей с дураком… А с этим у тебя только и будет занятий, что отдавать ему всё лучшее, что у тебя есть. А в довершение всего, понимаешь ты это, он сделает тебя несчастной. Это самое вероятное…
Я смеялась от всего сердца:
– Кассандра!
– Да-да, Кассандра… А если бы я ещё рассказала тебе обо всём, что предвижу…
Её серые, прищуренные глаза читали вдалеке:
– К счастью, ты не слишком в опасности… Тогда я её не понимала. Потом, наверное, она бы мне объяснила. Теперь я понимаю её двусмысленное выражение «ты не в опасности», которое относилось не только к риску оказаться жертвой несчастного случая. В её понимании я уже преодолела то, что она называла «худшим в жизни женщины – первого мужчину». Умирают только из-за него, а после него супружеская жизнь – либо её подделка – становится карьерой. Карьерой, иногда бюрократией, от которой нас ничто не отвлекает и не освобождает, за исключением игры равновесия, которая в заданный час толкает старость к младости, а Ангела к Леа.
Благодаря климактерическому правилу и при условии, что оно не порождает низменной рутины, мы наконец можем возвыситься над тем, что я назову общей массой любовников. Нужно только, чтобы это возвышение брало своё начало в катаклизме и так же умирало, чтобы оно не стало источником отвратительного упорядоченного голода! Ведь любовь, если ей дать волю, тяготеет к структуре наподобие пищеварительного тракта. Она не упускает ни одной возможности утратить свою исключительность, свой аристократизм истязателя.
«Виноград лишь осенью сбирают…» Быть может, так же и в любви. Что за сезон для чувственной самоотверженности, что за передышка в монотонной череде битв равного с равным и что за чудо эта остановка на вершине, где целуются два склона! Виноград лишь осенью сбирают – привилегию кричать об этом имеют лишь те уста, что как высохшую слезу сохранили лиловатую каплю сока, который ещё не стал настоящим вином. Сбор винограда, стремительная радость, поспешность, с которой в прессе, вместе, в один день, смешивают без разбора и зрелые ягоды, и кислый сок незрелого винограда, ритм, оставляющий далеко позади широкий, мечтательный темп жатвы, самое алое из всех удовольствий, песни, хмельные выкрики, затем тишина, покой, сон молодого вина, заточённого в темницу, отныне недосягаемого, вырвавшегося из перепачканных рук, которые, сострадая, его мучили… Я люблю, когда то же самое происходит с сердцами и телами: вложив сполна, я препоручила свои рокочущие, достигшие сейчас апогея силы юной темнице в образе мужчины. Я даю отбой своему огромному сердцу, которое трепещет, лишившись трёх-четырёх своих чудес. Как хорошо оно билось и сражалось! Так… так… сердце… так… спокойно… отдохнём. Ты пренебрегало счастьем, надо отдать тебе должное. Та, к кому я обращаю свой взгляд, Кассандра, которая не осмеливалась предрекать всё, нам, однако, предсказала: мы не рисковали ни погибнуть во славу любви, ни, слава Богу, удовлетвориться каким-нибудь добротным маленьким блаженством.
Пусть же удаляется, уменьшаясь, тот период моей жизни, который видел меня клонящейся целиком в одну сторону подобно тем аллегорическим фигурам фонтана, которых тянут вниз и увлекают за собой распущенные волосы из струй. Я и вправду тратила себя без оглядки – по крайней мере, так мне казалось. Становиться в горделивую позу классической статуи Изобилия, обречённой как заведённая опорожнять свой наполненный всякой всячиной рог, – значит выставлять себя на критическое лицезрение публики, которая вертится вокруг цоколя и оценивает изваяние, как если бы оно и впрямь было живой, в избытке наделённой красотой женщиной: «Гм… Да разве же так бывает, чтобы выкладываться, как она, и не худеть? С чего бы это она так округлилась?..» Людям нравится, когда дающий хиреет, и по-своему они правы! У пеликана на роду не написано ожирение, а стареющая возлюбленная подтверждает своё бескорыстие, лишь тускнея от благородного похудения в пользу молодых, залитых розовым цветом щёк и алых губ. Такое случается редко. Порок задаривания любовника-юноши не в силах разорить женщину, скорее даже наоборот. Давать превращается в нечто вроде невроза, в жестокое наваждение, эгоистическое неистовство. «Вот тебе новый галстук, или чашка горячего молока, или живая часть меня самой, пачка сигарет, беседа, путешествие, поцелуй, совет, опора моих рук, идея. Бери! И не вздумай отказываться, если не желаешь мне погибели от полнокровия. Я не могу давать тебе меньше, так что как-нибудь устраивайся!»
Между ещё совсем молодой матерью и зрелой любовницей возникает соперничество за то, кто больше даст, и это отравляет два женских сердца и порождает визгливую ненависть, лисиную войну, в которой материнские вопли оказываются ни наименее дикими, ни наименее нескромными. Уж эти мне любимые сыновья! Отполированные женскими взглядами, всуе исцелованные выносившей вас самкой, обожаемые ещё с времён глубокой ночи чрева, прелестные избалованные молодые самцы, вы не можете не совершать измены, пусть невольной, когда вы переходите от одной матери к другой. Даже у тебя, моя милая, такой чистой, как я надеялась, от искушающих меня заурядных преступлений, в твоей переписке я натыкаюсь на слова, написанные старательным почерком, который, однако, не способен скрыть от меня прерывистого биения сердца: «Да, мне так же, как и тебе, госпожа X. показалась очень изменившейся и погрустневшей. А поскольку мне известно, что в её личной жизни нет никакой тайны, то можно держать пари, что у её уже взрослого сына появилась первая любовница».
Надежда иссякнуть мгновенно столь привлекательна, что если бы была возможность истратить себя без остатка в несколько мощных порывов, то многие из нас, тех, кому «больше сорока», не преминули бы этим воспользоваться. Я знаю некоторых, чья реакция была бы незамедлительной: «Решено! Коль скоро ада не избежать, то пусть в нём будет один-единственный бес, а затем – покой, пустота, благотворный абсолютный покой, отрешённость…» Сколько их таких, кто искренне надеется, что старость налетит, как коршун, который после долгого и незаметного парения вдруг отрывается от неба и падает вниз? И что же это такое – старость? Это я узнаю. Правда, когда она наступит, я её уже перестану воспринимать. Моя дорогая, милая предшественница, ты ведь ушла, не объяснив мне, что такое старость. Ведь ты мне пишешь: «Не беспокойся по поводу моего так называемого атеросклероза Мне уже лучше, и доказательство тому – стирка, которую я устроила сегодня утром в своей речке. Я была в восторге. Что это за прелесть, плескаться в чистой воде! Кроме того, я ещё попилила дров и наделала из них шесть маленьких вязаночек. И я опять убираю у себя в доме, из чего ты сама можешь сделать вывод, хорошо ли у меня убрано. И потом, мне вообще-то всего семьдесят шесть лет!»
Ты мне писала в тот день, за год до своей смерти, а завитки твоих прописных Б, твоих Т, твоих Г, несущих сзади нечто вроде гордо заломленной шляпки, все сияют радостью. Как же ты была богата в то утро в своём маленьком домишке! На краю сада резвилась маленькая речушка, такая живая, что вмиг уносила всё, что могло бы её обезобразить… Богата оттого, что получила ещё одно новое утро, одержала новую победу над болезнью, богата оттого, что сделала ещё одно дело, от драгоценных россыпей, сверкающих в бегущей воде, от ещё одного перемирия между тобой и всеми твоими невзгодами… Ты стирала в речке бельё, безутешно вздыхала по поводу смерти твоего возлюбленного, говорила «юиии!» зябликам, думала о том, что расскажешь мне, как прошло твоё утро… О собирательница сокровищ!.. То, что коплю я, не столь ценно. Однако всё из собранного, чему суждено остаться, рождается в параллельной, более глубокой рудной жиле с вкраплениями плодородной почвы, и я довольно скоро постигла, что наступает возраст, когда остаётся позади пора горестных слёз, целебных бальзамов, воспалённого дыхания, затухающего у заключённых в её объятия прекрасных, устремлённых в дальние края ног, возраст, когда всё, что случается с женщиной, её лишь обогащает.
Она складывает и инвентаризирует всё вплоть до следов ударов, вплоть до шрамов – шрам, то есть метка, которой у неё не было при рождении, становится приобретением. Когда она вздыхает: «Ах! Сколько Он мне принёс огорчений!», то невольно взвешивает и определяет цену слова, цену даров. Она их берёт одно за другим, наводит в них порядок. По мере накопления сокровищ их количество и время заставляют её немножко от них отстраниться подобно художнику, рассматривающему своё творение. Она отстраняется, возвращается и снова отстраняется, передвигает в соответствующий ряд какую-нибудь скандальную деталь, приближает к свету какое-нибудь скрытое тенью воспоминание. Совершенно неожиданно она вдруг становится беспристрастной… Неужели, читая мою книгу, вы полагаете, что я пишу собственный портрет? Терпение: это только моя модель.
Когда мужчина наблюдает за некоторыми домашними приготовлениями, особенно за приготовлением пищи, на его лице можно обнаружить смешанное выражение религиозного благоговения, скуки и ужаса.
Мужчина, как кошка, боится подметания, боится зажжённой плиты, боится мыльной воды, которую гонит по плиткам половая щётка.
Для празднования дня местного святого, который традиционно предоставляет повод для пирушки, Сегонзак, Карко, Режи Жинью и Тереза Дорни должны были спуститься с высот своего холма, чтобы отведать мой традиционный южный обед – салаты, фаршированные морские ежи и пампушки с баклажанами, – обыденность которого обычно скрашивалась жарким из какой-нибудь птицы.
У Вьяля, который живёт в трёхстах метрах от меня в доме, напоминающем покрашенный розовой краской кубик, лицо сегодня утром не выражало счастья – угол террасы загромождал утюг, похожий на жаровню с углями, и мой сосед весь съёжился, как охотничья собака в день свадьбы.
– Тебе, Вьяль, не кажется, что они будут в восторге от моего соуса и моих цыплят? От моих четырёх разрубленных вдоль и отбитых обухом топорика цыплят, которых я посолю, поперчу, освящу чистым оливковым маслом и подам с зелёным ёршиком пебреды, листки и вкус которой останутся на жареном мясе? Взгляни-ка на них, ну не красавцы ли?
И мы стоим, на них смотрим. Вьяль и я. Красавцы… На разорванных суставах изуродованных, ощипанных цыплят ещё оставалось немного розовой крови, и можно было различить форму крыльев, молодую чешую, обувавшую маленькие ножки, которые ещё сегодня утром весело семенили, разгребали… Почему бы тогда не взять и не зажарить ребёнка? Моя тирада иссякла, а Вьяль не произнёс ни слова. Взбивая маслянистый кисловатый соус, я вздыхала, прекрасно понимая, что совсем скоро аромат нежного, исходящего соком на горячих углях мяса широко распахнёт мой желудок… Конечно, не сегодня, но в скором времени, размышляю я, я навсегда откажусь от мяса животных…
– Вьяль, завяжи мне фартук. Спасибо. В будущем году…
– Что вы сделаете в будущем году?
– Стану вегетарианкой. Обмакни-ка кончик пальца в соус. Как? Такой соус да ещё на маленьких нежных цыплятках… И всё же… – только не в этом году, сейчас я слишком хочу есть – и всё же я стану вегетарианкой.
– Почему?
– Это долго объяснять. Когда отмирает одна разновидность каннибальства, то другие уходят сами собой, как блохи с умершего ежа. Подлей мне масла, только тихонько…
Он наклонил свой обнажённый торс, отполированный солнцем и солью до такой степени, что в нём отражался свет. Когда он шевелился, его кожа на пояснице казалась зелёной, а на плечах – голубоватой, совсем как у красильщиков из Феса. Когда я сказала «стоп», он разорвал нить золотистого масла, выпрямился, и на мгновение я положила руку на его грудную клетку, как если бы он был лошадью, которую я хотела поласкать. Он взглянул на мою руку, на которой написан мой возраст, – по правде сказать, она мне несколько лет прибавляет, – но я её не отняла. Это маленькая, добрая, потемневшая рука с несколько растянутой у фаланг и на тыльной стороне кожей. Ногти на ней коротко подстрижены, большой палец вздёрнут наподобие хвоста скорпиона, повсюду рубцы и царапины, и всё-таки я её не стыжусь, даже скорее наоборот. Два изящных ногтя – подарок матери и три гораздо менее красивых – память об отце.
– Купался? Уже проделал свои четыреста метров вдоль берега? Тогда почему, Вьяль, у тебя выражение лица как в конце каникул, хотя сейчас всего только июль?
Малейшее нарушение душевного спокойствия искажает правильные, довольно красивые черты Вьяля. Он не выглядит весёлым, но и грустным его никогда не видели. Я говорю, что он красив, потому что здесь после месяца отдыха все мужчины становятся красивыми – от жары, от моря и от наготы.
– Вьяль, ты что мне принёс с рынка? Ты меня уж извини. У Дивины времени хватило только сбегать за цыплятами…
– Две дыни, пирог с миндальным кремом и персиков. Ранние фиги уже отошли, а другие поспеют только…
– Я знаю это лучше тебя, ведь я на своём винограднике гляжу на них каждый день… Ты прелесть… Сколько я тебе должна?
Он сделал жест, показывающий неосведомлённость, и его плечо с вырисовывающимися на нём мускулами заволновалось, поднимаясь и опускаясь, как грудь при дыхании.
– Забыл? Постой, я посмотрю размер дынь… Этот пирог, такой стоит франков шестнадцать, и здесь два килограмма персиков… Четырнадцать и шестнадцать – тридцать, тридцать и пятнадцать – сорок пять… Я тебе должна что-то около сорока пяти—пятидесяти франков.
– На вас под фартуком купальный костюм? Вы не успели искупаться?
– Нет, успела.
Он непринуждённо лизнул мою руку около плеча.
– Да, правда.
– О! впрочем, это могла быть и соль, оставшаяся со вчерашнего вечера… Давай отдохнём, у нас ещё очень много времени, они все непременно опоздают…
– Конечно… Могу я сделать что-нибудь полезное?
– Да, жениться.
– О!.. Мне тридцать пять лет.
– Вот именно. А это тебя омолодит. Тебе не хватает молодости. Она придёт к тебе с возрастом, как сказал Лабиш. Твоя подружка не вернулась с рынка вместе с тобой? Ты, должно быть, её встретил в порту?
– Мадемуазель Клеман доделывает этюд в Лаванду.
– Я вижу, ты не любишь, когда я её называю твоей подружкой?
– Должен признаться. Когда так говорят, то можно подумать, что она моя любовница, а это совсем не так.
Я рассмеялась, остужая слишком горячие угли в утюге. Мне почти совсем не известна порода, к которой принадлежит этот юноша с его тихой жизнью. Он из поколения Карко, Сегонзака, Леопольда Маршана и Пьера Бенуа, Мак-Орлана, Кокто и Диньимона – тех, о ком я говорю, что видела их «совсем малышками», до и во время войны. Не в ту ли самую пору, когда капризные приливы увольнений приносили их в Париж, я усвоила привычку почти всех их называть на «ты», доверившись выражению их лиц – у одних странно пополневших, у других исхудалых, как у слишком быстро выросших школьников? Нет, это всё только потому, что они молоды, и если они меня приветствуют, широко распахнув объятия и шумно целуя в щёку, то и это тоже только потому, что они молоды… Но если самые нежные из них – те, чьи имена я упомянула, и те, чьи имена я опускаю, – называют меня «мадам» либо шутливо «мой дорогой мэтр», то это потому, что они – это они, а я – это я.
Этот почти обнажённый юноша, который наливал мне сегодня утром масло, тоже воевал. Потом, когда речь зашла о том, чтобы вернуться торговать коврами, он заупрямился, испугавшись, по его словам, отца, ещё достаточно бодрого, рьяного в делах и самодовольного. Иногда у меня возникало желание написать историю потомства, до последней косточки перемолотого челюстями своих предков. Я могла бы, например, начать с госпожи Лермье, которая пришила дочку к своим юбкам и, не позволив ей выйти замуж, превратила свою глупую послушную дочь в нечто вроде ссохшейся сестрицы-близнеца, которая не покидала её ни днём, ни ночью и никогда не жаловалась. Однако как-то раз я поймала взгляд мадемуазель Лермье… Ужас! Ужас!.. Я бы позаимствовала также несколько черт у Альбера X., вдохновенной жертвы, беспокойной тени своей матери, у Фернана 3., мелкого банкира, который тщётно ждёт смерти своего ещё крепкого банкира-отца… Их так много, что в выборе недостатка бы не было. Но ведь Мориак уже написал свою «Прародительницу»… Не будем слишком оплакивать судьбу Вьяля-сына по имени… как там его?
– Вьяль, как тебя зовут?
– Эктор.
Удивившись, я перестала расставлять свои первые в этом сезоне георгины, которые сорвала для стола.
– Эктор? А мне кажется, тебя звали… Валером?
– Правильно, но я хотел убедиться, что вы это почти совсем забыли.
…судьбу Вьяля-сына, который хитрит со своим затянувшимся коммерческим несовершеннолетием и заказывает визитные карточки, где написано «Вьяль, декоратор». К коврам он больше отношения не имеет. У него в Париже маленький скромный магазинчик: наполовину книжки и романтика, а наполовину всякая всячина, как обычно… Любовь к обществу художников заставила Вьяля полюбить и их картины.
Среди бумагомарателей, у которых только и свободы что писать, он позволяет себе роскошь читать, делать эскизы мебели и даже судить нас. Обращаясь к Карко, он заявляет, что тому бы следовало публиковать только стихи, а Сегонзаку – что он мистик. Большой «Деде» без улыбки вежливо отвечает: «Валер! Сукин ты сын, голова у ваус не так плохо устроена, как заудница!» А Карко призывает меня в свидетели: «Колетт, если бы такое мне сказал профессионал, я бы его назвал олухом. Но что я должен отвечать обойщику? Господин меблировальщик, ты преувеличиваешь!»
Помимо сказанного я почти ничего не знаю о моём маслочерпии. Впрочем, а что я знаю о других моих друзьях? Искать дружбу, предлагать её – это в первую очередь значит кричать: «Приют! приют!» Всё остальное в нас наверняка менее привлекательно, чем этот крик, что, однако, никто не торопится доказывать.
Я уверена, что присутствие людей в больших количествах утомляет растения. Садоводческая выставка изнемогает и умирает почти каждый вечер, перенасытившись поклонениями; когда мои друзья ушли, сад мне показался усталым. Возможно, цветы реагируют на звуки голосов. А они у меня столь же непривычны к приёмам, как и я сама.
После ухода гостей кошки выползают из своих убежищ, зевают, потягиваются, как если бы их вытащили из дорожной корзины, обнюхивают следы чужаков. Сонный кот стекает с шелковицы подобно лиане. Его восхитительная подруга выставляет на вновь ей возвращённой террасе свой живот, где в облаке голубоватой шерсти торчит всего один розовый сосок, потому что в этом сезоне она кормила только одного котёнка. Уход посетителей ничего не меняет в повадках брабантской суки, которая за мной наблюдает, наблюдает не переставая, которая никогда не переставала за мной наблюдать и только со смертью перестанет одаривать меня вниманием всех отпущенных ей мгновений. Одна только смерть может положить конец драме её жизни: жить со мной или без меня. Она основательно стареет, она тоже…
Вокруг этих трёх власть имущих представителей животного царства зверушки второй ступени занимают места, определяемые скорее зоологическими, нежели человеческими законами: плоские кошки с близлежащих ферм, собаки моей сторожихи в белом маскарадном наряде после принятия пылевой ванны… «Летом, – говорит Вьяль, – здесь все собаки ходят напудренные».
Моя «компания» разошлась, когда ласточки уже принялись пить, припадая к мойке, и ловить подёнок. Разогретый лучами солнца, которое сейчас садится поздно, послеполуденный воздух утратил свой свежий вкус, и наступила сильная жара. Однако солнцу трудно меня обмануть: я клонюсь к закату вместе с самим днём. И к концу каждого дня кошка, оплетая «восьмёркой» мои лодыжки, приглашает меня праздновать приближение ночи. Эта кошка в моей жизни третья, если считать только тех, которые отличались незаурядным характером, выделяясь среди всех остальных котов и кошек.
Устану ли я когда-нибудь восхищаться животными? Вот эта кошка просто исключительна как незаменимый друг, как безупречный возлюбленный. Откуда только берётся та любовь, которую я встречаю с её стороны? Она сама научилась соразмерять свой шаг с моим, так что соединяющая теперь нас друг с другом невидимая связь как бы подсказывает мысль об ошейнике и поводке. У неё было то и другое, и носила она их с таким видом, как если бы вздыхала: «Наконец-то!» От малейшей озабоченности её малюсенькое, стянутое в кулачок, бесплотное личико с каёмкой голубого дождя вокруг чистого золота глаз сразу вдруг стареет и кажется более бледным. У неё есть и превосходные любовники, и стыдливость, и отвращение к навязчивым контактам. Она больше не будет появляться в моём рассказе. Скажу лишь, что она состоит ещё из молчания, верности, душевных порывов, из лазурной тени на голубой бумаге, которая впитывает в себя всё, что я пишу, из безмолвного хода смоченных серебром лапок…
Потом, после неё, далеко позади неё, в моей иерархии следует кот, её великолепный супруг, весь погружённый в сон от собственной красоты, от своего могущества и застенчивый, как все силачи. За ними идут те, кто летает, ползает, скрежещет: живущий в винограднике ёж, бесчисленные ящерицы, которых кусают ужи, ночная жаба, которая, когда её подберёшь на ладонь и поднимешь к фонарю, роняет в траву два хрустальных крика, спрятавшийся под водорослью краб, голубая тригла с крыльями стрижа, взлетающая с волны… Если же она падает на песок, лишённая чувств и вся покрытая мелкими камешками, я её подбираю, погружаю в воду и плыву рядом, поддерживая ей голову… Однако теперь я уже больше не люблю писать портреты и истории животных. Зияющая пропасть между ними и человеком по-прежнему велика, и заполнить её не под силу даже столетиям. Я кончу тем, что и своих собственных животных тоже стану прятать ото всех, за исключением нескольких друзей, которых они выберут сами. Я покажу котов Филиппу Вертело, кошачью мощь – Вьялю, который влюблён в кошку и который вместе с Альфредом Савуаром утверждает, что я могу вызвать появление кота в таком месте, где котов не бывает… Нельзя одновременно любить и животных, и людей. День ото дня я становлюсь всё более подозрительной для себе подобных. Однако если бы они были подобными мне, то я у них подозрения бы не вызывала…
«Когда я захожу в комнату, где ты одна со своими животными, – говорил мой второй муж, – у меня появляется такое ощущение, что я веду себя бестактно.
В один прекрасный день ты удалишься в джунгли…» Не желая размышлять о том, какая за подобным пророчеством могла прятаться лукавая – или же нетерпеливая – подсказка, не переставая ласкать взором предлагаемую им любезную картину моего будущего, я останавливаюсь на этом, чтобы припомнить глубокую, логичную подозрительность слишком очеловеченного человека. Я останавливаюсь на нём как на приговоре, написанном пальцем человека на лбу, на котором, если отвести в сторону покрывающую его листву волос, человеческое обоняние, возможно, различает запах берлоги, заячьей крови, беличьего живота, молока суки… Человек, остающийся рядом с человеком, имеет основания отпрянуть от существа, выбирающего зверя и улыбающегося от сознания своей страшной невинности. «Твоя чудовищная простота… Твоя полная мрака кротость…» Сколько справедливых слов. С человеческой точки зрения чудовищность начинается как раз со сговора с животным. Разве не называл Марсель Швоб «чудовищами-садистами» старых, иссохших заклинателей с сидящими на них птицами, которых можно было видеть в Тюильри? К тому же если бы был только сговор… А то ведь есть ещё и предпочтение. Об этом я умолчу. Я останавливаюсь также на пороге арен и зверинцев. Дело в том, что коль скоро я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы вкладывать в руки публики в напечатанном виде искажённые куски моей внутренней жизни, то, значит, от меня могут потребовать ещё и того, чтобы я в тот же мешок уложила плотно спрессованными все тайны, касающиеся предпочтения, оказываемого зверям, и – это тоже вопрос особого расположения – ребёнку, которому я дала жизнь. До чего же она очаровательна, когда вот так сосредоточенно и ласково гладит шероховатую голову большущей жабы… Тсс! Однажды я допустила такую оплошность: вывела на первом плане романа героиню в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет… Пусть меня простят: тогда я себе не представляла, что это такое.
«Ты удалишься в джунгли…» Ладно. Только не нужно слишком медлить. Не нужно дожидаться, пока я обнаружу в кривой моих связей, моих взаимоотношений с животным первые колебания. Воля к обольщению, а это значит – к господству, различные способы натянуть струну пожелания или приказа и пустить её в цель – пока что они представляются мне гибкими, но только долго ли так будет продолжаться?
Совсем недавно в зверинце одна бедная львица, очень красивая, выделила меня в группе скопившихся перед её клеткой зевак. Остановив свой выбор на мне, она как из сна вышла из своего затянувшегося отчаяния, и, не зная, как показать, что она меня признала, что хочет встретиться со мной лицом к лицу, расспросить меня, возлюбить меня, быть может, до такой степени, чтобы лишь одну меня принять в качестве жертвы, она стала угрожать, сверкать и реветь как пленённое пламя, кинулась на прутья решётки и внезапно затихла, сникнув, продолжая смотреть на меня…
Тот внутренний слух, который у меня направлен на Зверя, всё ещё срабатывает. Драмы птиц в воздухе, подземные битвы грызунов, резко взмывающий тон готового к нападению роя, лишённый надежды взгляд лошадей и ослов – всё это послания в мой адрес. У меня больше нет желания выходить замуж за кого бы то ни было, но, случается, я вижу во сне, как сочетаюсь браком с огромным котом. Я думаю, Монтерлан будет весьма доволен, когда узнает об этом…
В сердце, в письмах моей матери можно было прочитать любовь, уважение к живым тварям. Поэтому я знаю, где он, источник моего призвания, источник, который, лишь только он зарождается, я пытаюсь замутить своим страстным желанием тронуть и расшевелить дно, над которым струится чистый поток. Я обвиняю себя в том, что с юного возраста хотела блистать – не удовлетворённая своей нежной любовью к ним – в глазах своих братьев и сообщников. Честолюбивое это стремление не покидает меня и сейчас…
– Так, значит, вы не любите славу? – спросила меня госпожа де Ноай.
Напротив. Я хотела бы оставить великую память о себе у тех живых существ, которые, сохранив на своей шерсти, в своей душе след моего существования, могли безумно надеяться, хотя бы одно мгновение, что я принадлежу им.
Сегодня утром команда моих юных сотрапезников оказалась приятной. Мужчин было двое, каждый с вполне миловидной молодой женщиной, и обе они выглядели столь сдержанными, как если бы им прочитали наставление: «Ты знаешь, я поведу тебя к Колетт, но только помни, что она не любит ни птичьих выкриков, ни суждений о литературе. Надень своё самое красивое платье: розовое, голубое. Ты будешь наливать кофе». Им известно, что мне нравятся женщины молодые, миловидные и не слишком фамильярные. Они знают, что украшает часы моего досуга: благовоспитанные дети, и молодые женщины, и бесцеремонные животные.
У некоторых художников есть супруги либо любовницы, достойные их самих и той жизни, которую они ведут. Они выглядят кроткими и своими нравами напоминают жён земледельцев. Разве их мужчины не встают с зарёй, чтобы отправиться в поле, в лес, на берег моря? Разве не возвращаются они затемно, усталые, утратившие дар речи от одиночества? В их отсутствие жёны выкраивают себе летние платья из столового белья, салфетки и подстилки для посуды из хлопчатобумажных носовых платков и ходят на рынок без всяких претензий, то есть для того, чтобы покупать продукты, а не для того, чтобы восхищаться «прекрасным материалом» отлакированных красных морских ежей или затянутыми в охру и лазурь животами губанов.
«Мой мужчина? Он пошёл в поле, туда, в сторону Памплоны», – отвечает подружка Люка-Альбера Моро, указывая на горизонт широким жестом крестьянки. Аслен поёт как волопас, а иногда, если напрячь ухо, бриз доносит до вас сладостный голос Диньимона, который выводит какую-нибудь грустную солдатскую или матросскую песенку…
Элен Клеман, которая пришла одна, не была самой некрасивой, отнюдь нет. Она не принадлежит ни к разряду женщин-моделей, ни к разряду тех, что склонны признавать власть мужчин. У неё прямые, светлые как солома волосы. Солнце красит её в гармоничный красный цвет и превращает на всё лето в голубые её отливающие зеленью глаза. Высокая, довольно сухая телом, она ни в физическом, ни в моральном смысле не грешит той излишней прямолинейностью, которая становится одним из проявлений снобизма у девушек в двадцатипятилетнем возрасте. Справедливости ради надо сказать, что я её плохо знаю.
Она рисует в энергичной манере, широкими, мужскими касаниями кисти, плавает, водит свою машину, часто навещает родителей, которые, опасаясь жары, проводят лето в горах. Она живёт на полном пансионе в одной семье, и поэтому никто не остаётся в неведении, что она «очень серьёзная девушка». Тридцать лет назад такую Элен Клеман можно было встретить на пляжах с вышиванием в руках. Сейчас она рисует море и мажет тело кокосовым маслом. От прежних Элен Клеман она сохранила миловидный покорный лоб, благородную стать и особенно почтительную манеру отвечать: «Да, мадам! Спасибо, мадам!», которая в её лексиконе, позаимствованном у художников и испорченных мальчишек, приоткрывает калитку пансионатского сада. Я люблю у этой большой девочки именно этот её вид, как будто она уронила своё былое вышивание, то вышивание, что заменяло у неё тайну. Не исключено, что я ошибаюсь, потому что мало обращаю на Элен внимания. А может быть, именно её незамутнённость души и тела, которой она вроде бы очень дорожит, как раз и подтверждает мою догадку о том грустном состоянии неустойчивости, что является участью – они это отрицают – так называемых независимых женщин, которые не предаются «греху», как по-старинному называли плотские утехи.
Больше уже никто не придёт. Я не оставлю этого стола ради маленького кафе в порту, откуда все наблюдают неистовые закаты солнца. К концу дня светило собирает те крупицы облаков, которые испаряет нагретое море, увлекает их в нижнюю часть неба, воспламеняет и скручивает в огненные лоскуты, растягивает в красноватые брусья и сгорает дотла, коснувшись горной цепи Мор… Однако в этом месяце оно садится слишком поздно. Я смогу любоваться им и во время ужина, в одиночку, прислонившись спиной к стене террасы. Сегодня я уже достаточно насмотрелась на симпатичные лица. Так пойдём же вместе, собака, кошка и я, любоваться тем ярким фиолетовым цветом, по которому узнаёшь восток и который поднимается с моря. Скоро наступит час, когда домой с поля возвращаются старики, мои соседи… Я могу терпеть старых людей лишь тогда, когда они согнуты к земле, когда у них потрескавшаяся, загрубелая, как известняк, кожа, испещрённые бороздами руки и похожие на птичье гнездо торчащие отовсюду волосы. Некоторые из них предлагают мне в нечеловечески иссохшихся и обесцветившихся ладонях свои самые ценные дары: яйцо, цыплёнка, круглое яблоко, розу, виноград. Одна семидесятилетняя провансалка ходит каждый день из порта на своё поле с виноградником и овощами – два километра утром, столько же вечером. Она умрёт, наверное, во время работы, но при этом вовсе не кажется усталой, когда присаживается на минутку перед моей решёткой. Она издаёт лёгкие крики: «Ого! какой красавчик!» Я подбегаю: она ласкает своим источенным, почерневшим, крючковатым пальцем бутон с плоской, как у ужа, головкой, кажется, вот-вот готовой засвистеть, принадлежащий одной из тех береговых лилий, которые устремляются вверх из земли и вырастают так быстро, что не решаешься на них даже взглянуть, распускают свой венчик, распространяя нездоровый аромат раненого зрелого фрукта, а потом возвращаются в небытие…
Нет, он отнюдь не был красавчиком. Он напоминал какого-то крепенького слепого змеёныша. Однако старуха знала, что он станет красивым через несколько дней. Она прожила достаточно долго, чтобы постигнуть это. Временами, когда она идёт нагруженная зелёным перцем, с ожерельем свежего лука вокруг шеи, наполовину сомкнувшая свою похожую на сухую иву кисть вокруг яйца, которое она никогда не уронит, я бы даже могла её любить – если бы вдруг не вспоминала, что, не имея больше сил для созидания, она всё ещё сохраняет силу разрушения и способна раздавить землеройку на дорожке, стрекозу на оконном стекле или только что родившегося, ещё влажного, котёнка. Делает она это с таким же безразличием, как если бы занималась лущением гороха… И тогда я ей говорю: «Прощайте!», прохожу мимо и вписываю поглубже в пейзаж их обоих: её самоё и её тень – очень маленького ветхого человечка, живущего под олеандром, как ящерица, в каменной лачуге. Старуха пока ещё говорит, а он уже не произносит ни слова. Ему нечего и некому сказать. Он царапает землю, поскольку не может больше её копать, а когда подметает порог своей лачуги, то кажется, что он играет, потому что он делает это детской метёлкой. Как-то на днях обнаружили умершего человека, тоже старика. Совсем высохшего, как мёртвая жаба, которую юг известкует раньше, чем она становится добычей хищника. Смерть, лишённая таким образом значительной доли гнилости, нам, живым, кажется более пристойной. Хрупкое и лёгкое тело, полный костяк, жгучее, всё пожирающее солнце – не мой ли это удел? Иногда я пытаюсь об этом размышлять, чтобы заставить себя поверить, что вторая половина моей жизни придаёт мне нечто вроде серьёзности, своего рода озабоченность тем, что наступит после… Но это лишь недолгая иллюзия. Смерть меня не интересует – даже моя собственная.
Мы хорошо поужинали. Прогулялись по дороге вдоль берега, в самой населённой его части, состоящей из узкого цветущего болота, куда посконник, кермек и скабиоза привносят три оттенка сиреневого цвета, высокий цветущий тростник – свою гроздь коричневых съедобных зерён, мирт – свой белый запах, такой белый и горький, что начинает щипать миндалины, белый до тошноты и экстаза, тамариск – свой розовый туман, камыш – свою палицу из бобрового меха. Жизнь в этом месте плещет через край, особенно в самом начале дня и в тот момент, когда птицы устраиваются на покой. Камышовая славка скользит беспрестанно, просто ради удовольствия, вдоль стеблей и каждый раз заливается от радости. Ласточки едва не задевают крыльями море, опьяневшие от собственной смелости синицы отгоняют от этого рая котов-браконьеров, стаи соек, страдающих от жажды ос, а в середине дня над маленькой сладковатой лагуной, взявшей у моря соль, у корней и трав – сахар, летают, неся густой бархат своих крыльев, тяжёлые траурницы, жёлтые, исполосованные, как тигры, огнянки, украшенные готическими нервюрами махаоны; все эти бабочки выкачивают мёд из розовой конопли, из лядвенцов и мяты, сладострастно привязанные каждая к своему цветку. Вечером жизнь животных делается незаметнее, но замирает лишь слегка. Сколько приглушённых смешков, быстрых вольтов у самых моих ног, сколько молниеносных побегов от прыжков шествующих за мной кошек! Облачившись в ливрею ночи, мои спутники становятся опасны. Нежная кошка мгновенно видит всё в кустах, а её мощный самец, проснувшись, своим галопом, как лошадь, переворачивает на дороге камни, и оба они, хотя и нисколько не голодные, жуют мотыльков с пламенеющими глазами.
Вечерняя свежесть здесь у меня ассоциируется с похожей на смех дрожью, с мантией нового воздуха, опускающейся на ничем не стеснённую кожу, с нежностью, обволакивающей меня всё сильнее по мере наступления ночи. Если бы я доверилась этой умиротворённости, то это мгновение стало бы для меня мгновением, когда растут, дерзают, осмеливаются, умирают… Однако я от неё постоянно ускользаю. Расти. Для кого? Осмеливаться… Куда же больше? Мне уже достаточно долго твердили, что жить по любви, потом, что жить без любви является верхом дерзости… Так это хорошо – быть вровень с землёй… И вновь за меня цепляются, притягивают к себе растения, достаточно высокие, чтобы укрыть своей тенью мне лоб, снизу мою руку ищут какие-то лапки, требуют влаги борозды, ждёт ответа нежное письмо, алеет лампа в зелени ночи, тетрадка гладкой бумаги дожидается, когда я вышью её своим почерком, – и возвращаюсь, как в прежние вечера. Как близка заря! В этот месяц ночь отдаётся земле как тайная любовница – быстро и ненадолго. Сейчас десять часов. Через четыре часа ночь перестанет быть настоящей. Впрочем, небом завладевает огромная, круглая, устрашающая пасть луны, а она мне не подруга.
В трёхстах метрах отсюда лампа Вьяля в его доме-кубике смотрит на мою лампу. О чём, интересно, этот молодой человек размышляет, вместо того чтобы шаркать своими верёвочными туфлями, прогуливаясь вдоль нашего небольшого порта, или танцевать – он так хорошо танцует – на маленьком балу у Мола. Он слишком серьёзен. Мне нужно как-нибудь взяться за него основательно и женить – о! естественно, на тот срок, какой им будет угоден, – на этой скромнице Элен Клеман. Сегодня я точно заметила, как у неё изменился оттенок, то есть выражение лица, когда она обратилась к нему. Она смеялась вместе с остальными, больше всего тогда, когда Карко, прищурив, как охотник, свой рыжеватый глаз, посвящал её в один распутный и необычный секрет старой проститутки, которая сумела на протяжении двадцати пяти лет оставаться «девочкой» в Латинском квартале. У Элен уши не недотроги, отнюдь нет. Однако её смех, когда рассказывал Карко, был всё-таки смехом прежней Элен Клеман, той самой, которая куда-то не туда положила своё вышивание, когда её кузен, студент Политехнического – «О! Анри, замолчите, я вас прошу!» – говорил ей, подталкивая качели, что ему удалось заметить икру её ноги… Вьялю Элен Клеман предназначает свой наиболее близкий к её истинной натуре облик: серьёзное лицо девушки, которая всего-навсего хочет быть простой. Не может быть, чтобы Вьяль этого не заметил.
Обычно я не очень склонна организовывать счастье той или иной пары. Однако сейчас мне кажется, что я несу ответственность за возникшую неприятную лёгкую суету, за то, что пришли в движение праздные силы, которые отныне смогут увлечь двух людей, ранее находившихся на расстоянии друг от друга, надёжно защищенных своими маленькими тайнами либо отсутствием личной тайны.
Вчера утром, часов в девять, направляясь в своём автомобильчике на рынок, я обогнала, а потом подобрала Элен Клеман, которая, подняв свою обнажённую и гладкую, как золотое яблоко, голову, держа под мышкой полотно, направлялась к столяру, специалисту по окантовке картин. Проехав двести метров, мы увидели сквозь решётку, как Вьяль на пороге своего «кубика» снимал чехол с древнего, сухого, причудливо изогнутого кресла, тонкого, как куст боярышника зимой.
– Вьяль, тебя не было видно уже два дня! Вьяль, что это за кресло?
Он засмеялся, и белая полоска сверкнула на его тёмном лице.
– Уж его-то вам заполучить не удастся! Я ездил за ним на «Ситроене» аж за Мустье-Сент-Мари.
– Ах, вот так! – сказала Элен. Вьяль поднял нос и спрятал улыбку.
– Что – вот так?
Она ничего не сказала и посмотрела на него с таким опасно глупым видом, что он мог бы прочитать в её зелёно-голубых, не жмурящихся на солнце глазах, всё что угодно. Я выскочила из машины:
– Покажи, Вьяль, покажи! И угости нас белым утренним вином с холодной водой!
Элен вышла за мной, вдохнула запах крошечного незнакомого жилья, вся мебель которого состояла из дивана и корабельного, в форме полумесяца стола, украшенного розовой скатертью и белыми фаянсовыми «мустье».
– Один Хуан Грис, два Диньимона, одна олеография Линдера, – перечисляла Элен. – В этом весь Вьяль, который никогда не знает, с какой ноги танцевать… Вам кажется, что они идут к этим стенам в этом доме?
Вьяль, вытиравший свои испачканные руки, смотрел на Элен. Она опиралась одной ладонью о стену, приподнявшись на носках, вытянув шею и руки, словно желая на неё взобраться, – при этом хорошо смотрелись её щиколотки в накинутых на босу ногу сандалиях. А этот чудесный цвет красной обожжённой глины на всём столь мало прикрытом теле!
– Вьяль, сколько ты заплатил за своё кресло?
– Сто девяносто. Причём оно из ореха, вот под этой краской, в которую его выкрасили какие-то свиньи! Взгляните сюда, на подлокотник, где её нет…
– Вьяль, продай мне его!
Он отрицательно покачал головой.
– Вьяль, коммерсант ты или нет? Вьяль, есть у тебя сердце?
Он опять покачал головой.
– Вьяль, я меняю твоё кресло на… на Элен, а!
– Она, значит, ваша? – сказал Вьяль.
По остроумию и деликатности его реплика вполне стоила моей шутки.
– Идёт, идёт! – подхватила Элен. – Действительно, дорогой, дело стоящее!
Она смеялась, став краснее своего красного загара, и в обоих её зелено-голубых глазах танцевало по одной сверкающей точечке. Однако Вьяль ещё раз покачал головой, и каждая сверкающая точечка превратилась в слезинку…
– Элен!..
Она уже бежала из дома, а мы, Вьяль и я, смотрели друг на друга.
– Что это с ней?
– Не знаю, – сказал холодно Вьяль.
– Это ты виноват.
– Я ничего не сказал.
– Ты сделал вот так: «нет, нет».
– А если бы я сделал вот так: «да, да», это было бы лучше?
– Ты меня, Вьяль, удручаешь… Я пошла… Завтра я тебе скажу, чем всё это кончилось.
– О! вы знаете…
Он пожал одним плечом и проводил меня до калитки сада.
В моей крохотной машине Элен, уже с сухими глазами, напевала, внимательно разглядывая свежее полотно, которое удерживала на коленях.
– Вам это что-нибудь говорит, а, госпожа Колетт? Честно разглядывая этюд, на котором она, желая казаться «настоящим художником», явно переложила краски, я что-то сказала, а потом, забыв об осторожности, добавила:
– Вьяль тебя огорчил? Надеюсь всё-таки, что нет?
Она ответила с холодностью, которая мне показалась похожей на холодность Вьяля:
– Не нужно, госпожа Колетт, не смешивайте унижение и огорчение. Да, да, унижение… Подобного рода неприятности со мной случаются довольно часто в этой среде.
– В какой среде?
Элен повела плечами, поджав губы, и я угадала, что она недовольна собой. Она повернулась ко мне; у моей крохотной машины это движение внезапного доверия превратилось в занос, от чего её повело в сторону на этой поэтичной, но никогда не ремонтируемой дороге.
– Госпожа Колетт, поймите меня правильно. Я говорю «эта среда», потому что, в принципе, это не та среда, в которой я была воспитана. Я говорю «эта среда», потому что, хотя я её и очень люблю, порой я иногда чувствую себя чужой среди художников и их подруг, но при этом мне хватает ума, чтобы…
– …разбираться в жизни.
Она выразила протест всем своим телом.
– Я вас умоляю, госпожа Колетт, не обращайтесь со мной – а у вас так бывает! – как с мещаночкой, которая подделывается под стиль Монпарно. Я ведь понимаю достаточно много вещей и в частности то, что Вьяль, который тоже не принадлежит к «этой среде», производит неприятный эффект, когда шутит определённым образом, когда позволяет себе некоторые вольности. Он не привносит в свои шутки изящества, веселья, и то, что было бы очаровательным и добродушным в устах, например, Деде или Кисса, в его устах – шокирует!..
– Но ведь он ничего не сказал, – внушала я, тормозя перед «Пансионом первой категории», который приютил Элен.
Стоя около моего автомобильчика, задерживая вытянутую руку, моя юная пассажирка не смогла скрыть ни своего раздражения, ни новой влажной искорки, которая окрасила её глаза в голубой, захвативший всё окружающее пространство цвет:
– Не надо, госпожа Колетт, не будем больше об этом говорить! У меня нет никакого желания увековечивать эту историю, которая не стоит того, даже ради удовольствия послушать речь в защиту Вьяля, особенно от вас!.. от вас!..
Она убежала, оставив у меня ощущение несоответствия между её высоким ростом и волнением маленькой девочки. Я ей крикнула: «До свидания! до свидания!» приветливым тоном, чтобы наше внезапное расставание не пробудило любопытства у Лежёна, скульптора, который в своём бесхитростном наряде из коротких полотняных штанов цвета зелёной нильской воды, распахнутой розовой безрукавки и свитере с вышитыми крестиком цветочками пересекал в этот момент крохотную площадь и приветствовал нас, приподняв широкополую тростниковую шляпу, украшенную вишнями из шерсти.
Именно из-за этой глупости Элен, когда Вьяль на следующий день под вечер зашёл ко мне, я чувствовала себя рассеянной и его присутствие переносила с меньшим удовольствием. Между тем он принёс мне нуги в плитках и веточки цератония с зелёными плодами, которые долго остаются свежими, если их втыкать в наполненные влажным песком кувшины.
Искупавшись в пять часов в море, он, как обычно, наслаждался бездельем на террасе. Купались на ветру под лучами опасного – поскольку Средиземное море полно неожиданностей – солнца и в такой холодной воде, что укрываться в розовой комнате мы не стали, а предпочли тёплый, живой глинобитный парапет в светлой тени редких ветвей. Пять часов пополудни – это неустойчивое, окрашенное в золото время суток, когда всеобщая обволакивающая нас голубизна воздуха и воды на какое-то мгновение нарушается. Ветер ещё не поднялся, но в самой лёгкой зелени, например, в оперении мимоз, волнение уже чувствовалось, а на слабый сигнал, посланный одной сосновой веткой, отвечала своим покачиванием другая сосновая ветка…
– Вьяль, тебе не кажется, что вчера было голубее, чем сегодня?
– Что было голубее? – спросил шёпотом бронзовый человек в белой набедренной повязке.
Он полулежал, опершись лбом на свои согнутые руки; обычно он мне нравится больше тогда, когда прячет своё лицо. Не то чтобы он был некрасив, но над чётко очерченным, бодрым, выразительным телом черты его лица кажутся как бы дремлющими. Я как-то раз не удержалась и заявила Вьялю, что его можно гильотинировать и никто этого не заметит.
– Всё было голубее. Или же я… Голубой цвет – это нечто мозговое. Голубой цвет не возбуждает голода, не будит сладострастия. В голубой комнате не живут…
– С каких пор?
– С тех пор, как я это сказала! Разве только в том случае, когда ты больше уже ни на что не надеешься – в таком случае ты можешь жить в голубой комнате…
– Почему я?
– «Ты» – это значит кто угодно.
– Спасибо. Почему у вас на ноге кровь?
– Это моя. Я наскочила на один цветок побережий, имеющий форму дна от бутылки.
– Почему у вас левая лодыжка всё время немного опухшая?
– А ты, почему напоследок ты стал грубо себя вести с малышкой Клеман?
Бронзовый человек с достоинством выпрямился:
– Я вовсе не вёл себя грубо с мал… с мадемуазель Клеман! Но только, мадам, если это вы о женитьбе, то я буду вам тысячу раз благодарен, если вы не будете больше говорить мне о ней!
– Ты, Вьяль, прямо как персонаж романа! Неужели нельзя немножко пошутить? Подвинься-ка, ты занял весь парапет… я тебе сейчас расскажу! Ты не знаешь всего. Вчера, когда она со мной расставалась, она запретила мне тебя защищать! И удалилась с трагическим видом, повторяя: «Только не вы! Только не вы!» Представляешь себе?
Вьяль вскочил на ноги, встал напротив меня, похожий на булочника-подмастерье из какого-нибудь негритянского королевства.
– Она вам такое сказала? Она посмела?
Его искажённое, с вытаращенными глазами лицо позволяло строить самые разные догадки и показалось мне настолько комичным в своей новизне, что я не смогла – сейчас я стала более скорой на смех, чем раньше, – сохранить серьёзность. Та респектабельность, которую придают Вьялю частая молчаливость, опущенный взгляд, определённая устойчивость позы, трещала по всем швам, и я уже не находила его красивым… Он взял себя в руки с приятной быстротой и небрежно вздохнул:
– Бедная малышка…
– Ты её жалеешь?
– А вы?
– Вьяль, мне не очень нравится твоя манера постоянно отвечать вопросом на вопрос. Это невежливо. Я, понимаешь ли, я, если можно так сказать, эту девушку не знаю.
– Я тоже.
– А!.. я полагала… Однако её нетрудно узнать. Она всем своим видом гонит от себя тайну, как если бы это был какой-то микроб… Эй!.. Ау!.. Это не Жеральди ли возвращается из Салена?
– Думаю, да.
– Почему же он тогда не остановился?
– Он вас не услышал, скрежет его коробки передач перекрывает все остальные звуки.
– Услышал, он сюда посмотрел! Это он тебя испугался! Я тебе говорила, что малышка Элен Клеман…
– Вы позволите? Я схожу за свитером. А северяне ещё называют Прованс жаркой страной…
Вьяль удалился, а я стала лучше воспринимать тепло, прохладу, усилившийся наклон лучей, всеобщую голубизну, крылья над морем, ближайшую смоковницу, распространяющую запах молока и сена из цветущих трав. На одной из гор живописно дымился небольшой пожар. Небо, коснувшись шероховатой, в завитках, как шерсть, лазури Средиземного моря, стало розовым, и кошка вдруг начала мне улыбаться без видимой причины. Это потому, что она любит одиночество – я хочу сказать, моё присутствие, – и её улыбка позволила мне отчётливо осознать, что я впервые всерьёз обратила внимание на Вьяля.
Отсутствие Вьяля оставило у меня ощущение пустоты и одновременно ощущение какой-то воздушной лёгкости – значит, его присутствие, заполняя одно, препятствует другому? И я тотчас же поняла, что автомобиль Жеральди не прервал свои стенания пытаемых механизмов перед моей дверью лишь только потому, что Вьяль, которого было видно с дороги, находился рядом со мной… что мои друзья и мои товарищи покорно и единодушно воздерживаются посещать около пяти часов мой имеющий форму полумесяца пляж с его столь крепким и столь белым под тяжёлой голубой водой песком – они уверены, что одновременно со мной встретят там полунемого, пребывающего в неопределённой тоске, совершенно отрезанного от них, плавающего где-то под водой Валера Вьяля.
Дело только в этом… Это же небольшое недоразумение. Я хорошенько подумала, правда, да и какой смысл в долгих раздумьях: и к тому же ничто из того, что меня заботит, таких раздумий не заслуживает. Я не могу поверить, что у этого юноши есть какой-то расчёт. Надо признать, что, хотя я и становилась часто жертвой обмана, недоверию я не научилась… С его стороны я склонна была бы опасаться скорее какой-нибудь формы любовной привязанности. Я написала это вполне серьёзно и, поднимая голову, смотрю на себя в наклонном зеркале, тоже вполне серьёзно, и снова продолжаю писать.
Никакие другие опасения, даже боязнь выглядеть смешной, меня не останавливают, и я продолжаю писать эти строчки, которые будут – я готова к этому риску – опубликованы. Зачем прерывать бег моей руки по этой бумаге, которая вот уже столько лет принимает то, что я о себе знаю, то, что из этого знания я пытаюсь скрыть, то, что я сочиняю, и то, что я угадываю? Любовная катастрофа, её последствия, её фазы никогда, ни в какие времена не составляли действительной интимной жизни женщины. Как могут мужчины – мужчины-писатели или называющие себя таковыми – по-прежнему удивляться тому, что женщина столь охотно отдаёт на суд публики свои любовные признания, любовную ложь и полуложь? Разглашая их, она спасает от огласки те смутные и важные тайны, которые не очень хорошо понимает сама. Огромный прожектор, бесцеремонное око, которым она охотно манипулирует, высвечивает у женщины всегда один и тот же сектор, сотрясаемый приступами блаженства и смятения, вокруг которого густеет темнота. А худшее происходит отнюдь не в освещённой зоне… Мужчина, друг мой, ты с готовностью посмеиваешься над фатально автобиографическими творениями женщины. А на кого же ты рассчитывал, чтобы тебе нарисовали её портрет, чтобы тебе о ней прожужжали все уши, чтобы ей повредили в твоём мнении, чтобы в конце концов пресытили тебя ею? На самого себя? Ты пока ещё слишком недавний мой друг, чтобы я сказала тебе всё, что об этом думаю. Итак, мы говорили, что Вьяль…
Как прекрасна ночь, прекрасна опять! Как хорошо из лона подобной ночи серьёзно созерцать то, что перестало быть серьёзным! Серьёзно, потому что это не повод для насмешки. Уже не впервые смутный, идущий извне пыл пытается сначала сузить, а затем разорвать круг, где я чувствую себя в безопасности. Эти невольные победы не следует соотносить с тем или иным возрастом. У них нужно искать – и здесь уже кончается моя невиновность – литературные корни. Я это пишу смиренно, чувствуя угрызения совести. Когда читатели принимаются писать автору, особенно автору-женщине, то они не скоро оставляют эту привычку. Вьяль, который знаком со мной всего лишь два или три лета, вероятно, пытается понять меня с помощью двух или трёх моих романов… если я позволю себе назвать их романами. Ещё и сейчас попадаются девушки – слишком юные, чтобы обращать внимание на даты издания, – которые мне пишут, что тайком прочитали «Клодину», что ждут ответа на почту до востребования… это если они ещё не назначают мне встречу в чайном салоне. Кто знает, может быть, они представляют меня в школьной форме? В носочках? «Вы оцените лишь позднее силу литературного типа, который вы создали», – говорил мне незадолго до своей смерти Мендес. Как будто я не создала, без всякой мужской подсказки, ещё и другой тип, более достойный долгой жизни, и по своей простоте, и даже по своей достоверности! Однако вернёмся к Вьялю и Элен Клеман…
Старая, поношенная луна прогуливается по самому низу неба, преследуемая небольшим, удивительно чётко очерченным, плотным, как металл, облаком, которое вцепилось в початый диск, как рыба в ломоть плавающего фрукта… Это ещё не предвестие дождя. Дождя нам хотелось бы для садов и огородов. Ночная синева, бездонная и как бы припудренная, делает более розовым, когда я перевожу на них свой взгляд, розовый цвет моих не слишком прикрытых стен. Голые поверхности излучают восточную свежесть, моя непритязательная мебель дышит свободно. Только в этом солнечном краю тяжёлый стол, соломенный стул, увенчанный цветами кувшин и залитое эмалью блюдо могут составлять всю обстановку. Сегонзак украшает свой просторный, как гумно, «зал» исключительно деревенскими трофеями: перекрещёнными косами и граблями, вилами с двумя зубьями из полированного дерева, венками из колосьев и кнутами с красными кнутовищами, витые плети которых грациозно украшают стену своими росчерками. То же самое в «кубике» Вьяля…
Да, вернёмся к Вьялю. Этой ночью я описываю круги вокруг Вьяля подобно той лошади, которую смущает препятствие и которая перед барьером разыгрывает покорность, сопровождая её тысячами своих лошадиных шалостей. Я не боюсь разволноваться, а боюсь, как бы мне не стало скучно. Боюсь той настроенности на драму и на серьёзность, которая живёт в молодых людях, особенно в Элен Клеман. Как Вьяль был любезен вчера! Сегодня уже не так. Я сравниваю, как он смотрел вчера и как сегодня. Помимо своей воли я усматриваю определённый смысл в его добрососедском постоянстве, в его долгих паузах, в его любимой позе, когда он кладёт голову на свои согнутые руки. Я занимаюсь толкованием, воскрешаю интонации его приступов любознательности: «А правда, что… Кто вам подал мысль о таком-то персонаже? Не были ли вы знакомы с таким-то, когда писали такую-то книгу?.. О! вы знаете, если я задаю нескромные вопросы, пошлите меня подальше…» А потом – совсем предел сегодня вечером, эти его: «Она посмела… она посмела?..» И эта мимика первого любовника…
Подобный плод в такую пору моей жизни, когда от любого удовольствия я принимаю лишь цветок, – причём из лучших лучший, коль скоро не требую ничего больше, – плод внесезонный, созреванию которого способствовали как моя проворная фамильярность, – «Эй, молодой человек, угостите меня дюжиной устриц, прямо вот здесь, не садясь, как в Марселе… Вьяль, завтра встаём в шесть и идём на рынок за розами: особое задание!» – так и моя известность, значительно искажающая звуки…
А что, если теперь я стану менее мягкой и к себе самой, и к другим до самого конца этого прекрасного провансальского сезона, разукрашенного бразильской геранью, белыми платьями, надрезанными арбузами, обнажающими подобно треснувшим планетам своё раскалённое сердце? Однако ничто не угрожало моему счастливому лету, наполненному голубой солью и хрусталём, моему лету с раскрытыми окнами, с хлопающими дверями, моему лету с ожерельями из молодого белого, как жасмин, чеснока…
Любовная привязанность Вьяля, не менее любовная досада малышки Клеман, и я, оказавшаяся, помимо собственной воли, между этими двумя излучениями. Я их вопрошаю и комментирую с помощью чернильных знаков, стремительным почерком. С риском попасть в смешное положение… Именно так, здесь есть нечто смешное. Стоит ли, однако, об этом вспоминать, коль скоро через мгновение я всё равно об этом забуду. Ведь не у тебя же, моя самая дорогая, – где ты сейчас бдишь в этот час твоего постоянного бдения? – могла бы я научиться колебаниям в момент, когда нужно помочь, поддержать рукой и плечом уставшее лимонное дерево, подобрать в подол платья испачканную в грязи собаку, приласкать и приютить дрожащего, недружелюбного, не нами созданного ребёнка или возложить на беспристрастные руки груз запинающейся любви, которая склонилась над самыми роковыми безднами… Прости меня, если я перевожу в наш общий пассив какой-то совершенно для тебя неприемлемый беспорядок. «В моём возрасте есть только одна добродетель: никому не делать зла». Ведь это же твои слова. У меня, моя самая дорогая, нога не так легка, как у тебя, и мне доступны не все дороги. Припоминаю, что в дождливые дни на твоей обуви почти не было грязи. И ещё я вижу, как эта лёгкая нога обходит, стараясь не задеть, ужонка, в своё удовольствие растянувшегося на тёплой тропинке. Я лишена твоей слепой и восторженной безмятежности, с которой ты на ощупь узнавала «добро» и «зло», равно как и твоего искусства по собственному коду давать новые имена старым отравленным добродетелям и жалким грехам, которые вот уже много веков ожидают своей доли рая. А в добродетели ты бежала прочь от её зловонной неукоснительности. Как я люблю твоё письмо: «Полдник был организован в честь очень некрасивых женщин. Уж не их ли уродство чествовали? Они принесли своё рукоделие и работали, работали с усердием, которое мне внушает ужас. Почему мне всегда кажется, что они делают что-то дурное?» И ты с отвращением различала запах этой благотворительности, способной не на одно преступление…
А вот и заря. Сегодня она вся состоит из маленьких в форме цветочного дождя облаков – заря для свободных от страстей сердец. Приподнявшись на запястьях, я замечаю уже проступившие из преследуемой светом тени чёрное море ласточек и «кубик», пока ещё не имеющий собственной окраски, «кубик», где отдыхает одинокий молодой человек, в котором зреет ещё одна тайна. Одинокий… У этого слова красивые очертания, а его начальная буква вздымает голову словно змея-покровительница.[1] Мне никак не удаётся избавиться от пробуждаемой им ассоциации с яростным блеском бриллианта. Яростный блеск Вьяля… Бедняга… А почему, интересно, я не восклицаю: «Бедняжка Элен Клеман…»? Люблю поймать себя с поличным. В Марокко я была у крупных землевладельцев, добровольно покинувших Францию и полностью посвятивших себя своим обширным марокканским поместьям. Они сохранили такую забавную манеру при чтении газет набрасываться на слово «Париж» с аппетитом, с праздничными улыбками… Мужчина, родина моя, ты, значит, так и остаёшься главной моей заботой? Что же, я не против. Но только умрите здесь, заботы, малые летние влюблённости, умрите одновременно с тенью, что окружала мою лампу, – до меня докатывается рвущая свою нить крупного круглого жемчуга горделивая песня дрозда. Ещё сохраняющий ночную свежесть аромат сосен скоро рассеется в луч неумолимого солнца. Прекрасный час для того, чтобы войти в не совсем проснувшееся море, где каждое движение моих голых ног рвёт на поверхности, окрашенной в тяжёлый синий цвет воды, плёнку розовой эмали, и собирать водоросли для подстилки, которой я хочу защитить подножие молодых мандариновых деревьев!..
«Киска,
Сейчас пять утра. Я пишу тебе при свете моей лампы и свете пожара, совсем рядом со мной, напротив: это горит гумно госпожи Моро. Может его подожгли нарочно. Оно полно кормов. Пожарники уже здесь и топчут в моём садике клумбы, которые я приготовила для цветов и клубники. Огонь сыплется на мой курятник; какое счастье, что я не захотела разводить кур! Мне было бы отвратительно есть доверчивых, выкормленных мною кур или кормить ими кого-нибудь. Как прекрасен этот огонь! Не унаследовала ли ты мою любовь к катаклизмам? Увы, уже визжат и бегут во все стороны бедные крысы, спасаясь из горящего гумна. Наверное, они спрячутся а моём дровяном сарае. О прочем не беспокойся, ветер, к счастью, восточный. Представь себе только, если бы он дул с запада, я бы уже изжарилась. Коль скоро сама я помочь ничем не могу и поскольку речь идёт всего лишь о соломе, мне можно спокойно предаваться своей любви к стихиям, шуму ветра, вольному полыханию пламени… Сейчас, успокоив тебя своим письмом, я иду принимать свой утренний кофе и буду созерцать прекрасный огонь».
– Мне, конечно, неловко дарить вам такую незначительную вещицу… – повторяла Элен Клеман уже во второй раз.
Незначительная вещица, которую она мне вчера принесла, была этюдом моря в обрамлении двух кактусов-опунций: голубой кобальт на химической голубизне моря – этюд удачно построенный и всё же несколько тяжеловатый.
– Но ты ведь пришла мне его подарить?
– Да… Просто поскольку он голубой и поскольку вы любите окружать себя голубым всех оттенков… Но ужасно неловко дарить такие незначительные вещицы вам…
Значит, она видела у меня «значительные вещицы»? Я обвела рукой, показывая, что это не так… Поблагодарила её, и она осторожно поставила своё полотно на край одной из этажерок, где маленький тугой луч цвета молнии разрезал тень между двумя пластинками жалюзи. Полотно сверкнуло всеми своими голубыми красками, обнажив все уловки художника, подобно тому как выдаёт свои секреты под огнём прожектора загримированное лицо, и Элен вздохнула.
– Видите, – сказала она, – какой он неудачный.
– Что ты ставишь в упрёк этому этюду?
– То, что он мой, вот и всё. Если бы его сделал кто-нибудь другой, он был бы лучше. Трудно рисовать.
– Трудно писать.
– Правда?
Она мне задала этот банальный вопрос голосом, в котором прозвучали тревога, недоверие и удивление.
– Уверяю тебя.
В полумраке, который после обеда я всегда устраиваю с такой же тщательностью, как если бы составляла букет, глаза девушки стали тёмно-зелёными, волосы – менее светлыми, а под ними вырисовывалась, вызывая моё восхищение, шея: живого цвета красной глины, упругая, подвижная, длинная, какая обычно бывает у людей недалёкого ума, и в то же время плотная, говорящая о силе, напористости, уверенности в себе…
– Вы работаете, мадам?
– Нет, в это время никогда, по крайней мере летом.
– Значит сейчас я вам мешаю меньше, чем если бы пришла в другое время.
– Если бы ты мне мешала, я бы тебя выпроводила.
– Конечно… Хотите, я вам сделаю стакан лимонада?
– Нет, спасибо, но, может, ты хочешь пить сама? Извини меня, я кажется, плохо тебя принимаю.
– О!..
Она сделала неопределённый жест рукой, схватила и раскрыла какую-то книгу. Белая страница зажглась в луче, рассекающем мрак, и, как зеркало, отбросила своё отражение в потолок. Могучий летний свет овладевает для подобных игр любым предметом, вплоть до самого неподходящего, выхватывает его и либо возносит, либо губит. Полуденное солнце окрашивает в чёрный цвет красные герани и сбрасывает на нас совершенно отвесно печальный пепел. Бывает, что в полдень короткие тени у стен и под деревьями оказываются единственной чистой лазурью пейзажа… Я терпеливо ждала, когда Элен Клеман уйдёт. А она только подняла руку, чтобы пригладить ладонью волосы. Даже если бы я её не видела, по одному этому жесту я бы её себе представила блондинкой, блондинкой правильной и немного резковатой… При этом блондинкой взволнованной, нервничающей – в этом я не могла сомневаться. Она быстро опустила в замешательстве свою открытую руку, изящную, как ручка вазы, хотя и немного плосковатую между плечом и локтем.
– Элен, у тебя очень красивые руки.
Она улыбнулась, впервые с тех пор как вошла, и оказала мне милость, показав своё смущение. Дело в том, что, принимая невозмутимо от мужчин комплименты, касающиеся конкретных прелестей своего тела, женщины и девушки оказываются более чувствительными к женской похвале, которая их украшает одновременно и замешательством, и удовольствием, порой довольно сильным. Элен улыбнулась, потом пожала плечом.
– И что это мне даёт, при моей-то удачливости?
– Значит, это могло бы тебе что-то дать без твоей удачливости?
Я здесь использовала втихую тот самый приём вопросительного ответа, который порицала у Вьяля…
Она посмотрела на меня с откровенностью, которой благоприятствовал полумрак, превращавший её в молодую шатенку с тёмно-зелёными глазами.
– Госпожа Колетт, – начала она без большого усилия, – вы пожелали обращаться со мной и прошлым летом и сейчас, как с… действительно, как с…
– Подружкой? – подсказала я.
– Два дня назад я бы именно так и сказала – как с подружкой. Я, вероятно, ещё бы добавила, что мне осточертели все эти миляги или что-нибудь в этом роде. Только сегодня меня на жаргон не тянет. С вами, госпожа Колетт, меня никогда не тянет на жаргон.
– Элен, я вполне обойдусь и без него.
Этот ребёнок нагревал мою прохладную комнату, а её взволнованность сгущала воздух. Сначала я сердилась на неё только за это и за то, что она укорачивает мой день. К тому же секрет Элен мне был уже известен и я боялась заскучать. Слушая воскрешённую моим вниманием саранчу, которая распиливала летний зной на мельчайшие кусочки, я в мыслях ускользала на раскалённый глинобитный пол террасы… Резким движением я распахнула свои органы чувств навстречу всему тому, что сияло по ту сторону жалюзи, и тут же без промедления выразила своё нетерпение, воскликнув: «Элен, ну и..?», что сформировавшаяся женщина восприняла бы как едва замаскированное прощание. Однако Элен – это девица в полном смысле этого слова, что она тут же мне и доказала. Она набросилась на это «ну и..?» с доверчивостью животного, на которого ещё никогда не ставили капкан, и начала:
– Ну и вот, мадам, я хочу вам показать, что я достойна доверия… в общем, того приёма, который вы мне оказали. Я не хочу, чтобы вы считали меня вруньей или… В общем, госпожа Колетт, это верно, что я живу совершенно независимо и что я работаю… Но всё-таки вы достаточно знаете жизнь, чтобы понять, что бывают такие не слишком весёлые часы… что я тоже женщина, как и другие… что нельзя избежать каких-то симпатий… каких-то надежд, и вот как раз эта-то надежда меня и обманула, поскольку у меня были основания верить… В прошлом году, здесь же, он мне говорил, и совершенно недвусмысленно…
Не столько из хитрости, сколько чтобы дать ей передохнуть, я спросила:
– Кто?
Она его назвала как-то очень музыкально:
– Вьяль, мадам.
Упрёк, который можно было прочитать в её глазах, относился не к моему любопытству, а к тому лукавству, которое, по её мнению, было ниже нашего достоинства. Поэтому я запротестовала:
– Я, милая моя, хорошо понимаю, что это Вьяль. Только… что же нам с этим делать?
Она замолчала, приоткрыв рот, прикусила свои пересохшие губы. Пока мы говорили, упругое древко солнца, усеянное пылинками, приближалось к ней и стало ей жечь плечо, а она шевелила рукой, отгоняя ладонью, как муху, печать света. То, что ей оставалось сказать, не выходило из её губ. Ей оставалось сказать мне: «Мадам, я полагаю, что вы являетесь… подругой Вьяля и что поэтому Вьяль не может меня любить»
Я бы охотно ей это подсказала, но секунды шли, и ни я, ни она не решались говорить. Элен немного отодвинула своё кресло, и лезвие света скользнуло по её липу. Я была уверена, что через мгновение вся эта юная планета – открытые, закруглённые, лунообразные лоб и щёки – растрескается, оказавшись во власти подземных толчков рыданий. Белый пушок, обычно лишь слегка заметный, увлажнился вокруг рта росой волнения. Элен вытирала виски концом своего разноцветного шарфа. Бешенство искренности, дух отчаявшейся блондинки исходил от неё, хотя она и сдерживалась изо всех своих сил. Она меня умоляла понять, не заставлять её говорить; но я внезапно перестала заниматься ею как Элен Клеман. Я ей нашла место во вселенной, посреди тех белых зрелищ, коих анонимным зрителем либо горделивым дирижёром я была. Эта честная жертва одержимости никогда не узнает, что в моей памяти она оказалась достойной встретиться со слезами наслаждения подростка, – с первым ударом тёмного огня, на заре, по вершине голубого железа и фиолетового снега, – с цветовидным разжатием сморщенной руки новорождённого, – с эхом единственной, долгой ноты, вырвавшейся из птичьей гортани, сначала низкой, а потом такой высокой, что в момент, когда она оборвалась, она уже казалась мне скольжением падающей звезды, – и с теми языками пламени, моя самая дорогая, с теми растрёпанными пионами пламени, которые пожар развевал над твоим садом… Довольная, Ты сидела за столом счастливая, с чайной ложечкой в руке, «поскольку речь шла всего лишь о соломе»…
Впрочем, я охотно вернулась к Элен. Она лепетала, вся запутавшаяся в своей неуютной любви и в своём почтительном подозрении. «А, ты здесь!» – чуть было не сказала я ей. Видение с трудом превращалось в плоть. Она говорила о стыде, который испытывала, о своём долге отойти «в сторону», упрекала себя в том, что нанесла мне сегодня визит, обещала «никогда больше не возвращаться, потому что…». Она с жалким видом крутилась вокруг окончательного вывода, натыкаясь на четыре или пять колючих, ужасных, непреодолимых слова: «Потому что вы… подруга Вьяля». Ведь сказать «любовница» она не осмеливалась.
Момент, который её всю осветил, прошёл у неё быстро, и я теперь смотрела, как мои воспоминания съёживаются, гаснут, чернеют…
– Если бы, мадам, вы сказали мне хотя бы одно слово, только одно слово, хотя бы чтобы выставить меня за дверь… Я не имею ничего против вас, мадам, я вам клянусь…
– Но ведь и я, Элен, ничего не имею против тебя…
И вот тебе пожалуйста, слёзы. Ах уж эти мне большие девы-лошади, которые без колебания отправляются одни в дорогу, водят машину, курят грубый табак и почём зря рычат на родителей.
– Ну, Элен, Элен…
Ещё и сейчас, описывая это, я испытываю страшное отвращение к тому, что сегодня – полночь ещё не наступила – произошло. Только теперь я отваживаюсь назвать причину своего смущения, своей краски, той неловкости, с которой я произнесла несколько простых слов: она называется робостью. Неужели можно ощутить её вновь, отказавшись от любви и от практики любви? Значит, это так трудно – произносить то, что в результате я всё-таки сказала этой залитой слезами просительнице: «Да нет же, милая, вы вообразили просто большую глупость… Никто здесь уже больше ни у кого ничего не берёт… Я вам охотно прощаю, и если я могу вам помочь…»
Славная девушка об этом даже и не мечтала. Она мне говорила: «Спасибо, спасибо», запинающимися губами славила мою «доброту», увлажняя мне руки своими поцелуями… «Не говорите мне «вы», мадам, не говорите мне "вы"»… Когда я открыла ей дверь, на пороге её всю обняло спустившееся солнце: её белое помятое платье, её опухшие глаза, её самоё, чуть-чуть смеющуюся, вспотевшую, снова попудрившуюся, может быть, трогательную… Однако, стоя лицом к лицу с этой юной полной смятения Элен, я пребывала во власти своей злополучной робости. Смятение не является робостью. Напротив, это своего рода бесцеремонность, сладострастие самоуничтожения…
Этот день мой не стал для меня приятным днём. Я надеюсь, у меня ещё есть впереди много-много дней, но я уже не хочу тратить их понапрасну. Несвоевременная робость, слегка увядшая и горькая, как всё то, что остаётся нерешённым, двусмысленным, бесполезным… Ни украшение, ни хлеб насущный…
Слабый, молчаливый сирокко прогуливается из одного конца комнаты в другой. Он так же мало способен освежить комнату, как какая-нибудь сидящая в клетке сова. Как только я расстанусь с этими страницами цвета светлого дня в ночи, я пойду спать во двор, на матрасе из рафии. Над головой тех, кто спит под открытым небом, вращается весь небосвод, и когда, проснувшись раз-другой до рассвета, я обнаруживаю бег крупных звёзд, не оказавшихся на прежнем месте, то испытываю лёгкое головокружение… Иногда конец ночи столь холоден, что роса в три часа прокладывает себе на листьях дорожку из слёз, а длинная шерсть ангорского одеяла серебрится как луг… Робость, у меня был приступ робости. А всего-то и нужно было – поговорить о любви, снять с себя подозрение… Ведь боязнь смешного – даже моя собственная – имеет пределы. Можете ли вы меня представить кричащей, с румянцем невинности на лице, что Вьяль…
А кстати, какова же его собственная роль во всём этом? Героиня добивается, чтобы весь свет прожектора маленькой истории был направлен на неё. Она выскакивает на первый план, выворачивает себя наизнанку, обнаруживает своё дурное пристрастие к неприступной добропорядочности… А мужчина, что же он? Он молчит, он скрывается. Какое преимущество!..
Что касается мужчины, то молчал он недолго. Я не в силах выразить своё изумление перед той стремительностью, с которой мысль Элен, ловко маневрирующая на трёхстах метрах побережья, повторяя, подобно ослабевшей птице, береговые извилины, ворвалась в дом, в спокойное существование Вьяля. Я припоминаю, что в то утро, вместо того чтобы открыть решётку и идти в сопровождении собачьих приветствий, Вьяль, прислонившись в решётке, закричал ещё издалека:
– Это мы вдвоём: Люк-Альбер Моро!
А рукой он мне показывал на Люка-Альбера Моро, представшего в странном чёрном одеянии, со скрещёнными руками, влажными, как у лани, глазами и вооружённого терпением и кротостью не хуже, чем какой-нибудь деревенский святой.
– Ты, значит, нуждаешься в рекомендациях? – кричала я Вьялю. – Входите, вы-вдвоём-Люк-Альбер!
Однако Люк-Альбер тут же стал прощаться, потому что у него была назначена встреча с чистыми холстами и со своей женой – она должна была ему их принести.
– Вы извините меня… Ни одного холста в доме… Ни одного холста в городе. Гектары и гектары истраченных холстов, раскрашенных американцами и чехословаками… Я рисую на донышках шляпных коробок… Они говорят, что это по вине станции… О! уж эта мне станция! Вы знаете, что это за станция…
При этом казалось, что его рука, сложенная раковиной, прощает и благословляет всё то, что осуждает его речь.
Освещаемый десятичасовым солнцем день всё ещё сохранял свою юность благодаря сильному бризу, дувшему с залива. Какая-то весёлость в освещении, плеск листьев шелковицы, свежесть изнанки очень сильной жары – всё напоминало июнь. Помолодевшие животные бродили как весной, словно огромная ночная рука стёрла с лица земли два месяца… Теперь, после того как меня поставили в глупое положение, я с лёгким сердцем, без натуги, обкладывала соломой мандариновые деревья. В выкопанную вокруг их ствола кольцевидную яму диаметром в два метра я набрасывала обессоленные водоросли, потом закрывала их землёй и утаптывала обеими ногами как при сборе винограда, а весенний ветер тем временем сушил мой пот…
Приподнять, разорвать землю, проникнуть в неё – это одновременно и труд, и удовольствие, порождающее такую экзальтацию, которую никакая бесплодная гимнастика дать неспособна. Нутро земли, которое удаётся увидеть тем, кто на ней живёт, делает их внимательными и жадными. За мной следовали зяблики и с криком набрасывались на червей; кошки принюхивались к скудной влаге, окрашивающей рыхлые комки в тёмный цвет; моя захмелевшая собака всеми лапами рыла себе нору… Когда вскрываешь землю, пусть всего лишь для одного капустного кочна, всегда ощущаешь себя первопроходцем, хозяином, не имеющим соперников супругом. У раскрытой земли нет больше прошлого – она вся вверяется будущему. С обожжённой спиной, с навощённым носом, с глухо, как шаги за стеной, стучащим сердцем я так увлеклась, что на какое-то мгновение забыла о присутствии Вьяля. Садовничество приковывает глаза и дух к земле, и я чувствую, как во мне пробуждается любовь к ставшей вдруг счастливой, по-буржуазному степенной внешности деревца, которое поддержали, укрепили, накормили и одели в солому, прикрытую новой землёй…
– А всё-таки, Вьяль, насколько земля была бы душистее, будь сейчас весна!
– Будь сейчас весна… – повторил Вьяль. – Но ведь тогда мы были бы не здесь и всё равно были бы лишены аромата этой земли.
– Ничего, Вьяль, скоро я буду приезжать сюда весной… и осенью… да и в те месяцы, что заполняют интервалы между двумя сезонами… Февраль, например, или вторая половина ноября… Вторая половина ноября и голые виноградники… Вот у этого мандаринового деревца, похожего на шар, у него уже есть свой найденный им стиль, ведь правда? Круглое, как яблоко! Я постараюсь у него сохранить эту форму… Через десять лет…
Надо полагать, в конце этого срока меня ожидает нечто невидимое, несказуемое, поскольку я споткнулась об эти десять лет и остановилась.
– Через десять лет?.. – повторил Вьяль как эхо.
Я подняла голову, чтобы ответить, и обратила внимание, что в моём дворике на фоне розовой стены, гераней, георгинов и высоких стеблей этот втиснутый в свою прекрасную коричневую кожу, хорошо сложённый юноша смотрится тёмным пятном, несмотря на свою белую одежду…
– Через десять лет, Вьяль, с этого маленького дерева будут собирать прекрасные мандарины.
– Их будете собирать вы, – сказал Вьяль.
– Я или кто-нибудь другой, это не имеет значения.
– Имеет, – сказал Вьяль.
Он опустил свой нос, который у него несколько великоват, и дал мне самой поднять полную лейку, не поспешив на помощь.
– Не перетрудись, Вьяль!
– Извините…
Он протянул свою бронзовую руку, свою кисть с изящными подкрашенными солнцем пальцами. Было заметное несоответствие между мощью всей руки и кистью с длинными пальцами, и я пожала плечами, пренебрегая помощью этой кисти.
– Пф!..
– Да, я, конечно, понимаю…
Вьяль восполнил пропущенные в фразе слова, передавая интонацией точный смысл восклицания.
– Я не… хотела тебя обидеть. Это достаточно красиво – тонкая рука у мужчины.
– Это достаточно красиво, но вам это не нравится.
– У землекопа, естественно, нет… естественно… О! я сейчас свалюсь замертво от кровоизлияния, сейчас же в море! Кожа на спине трескается, плечи облезают, а что касается носа… Подумай только! с самого утра, с полвосьмого! Я выгляжу ужасно, правда?
Вьяль посмотрел на моё лицо, на руки; солнце заставляло его щурить глаза, из-за чего верхняя губа у него приподнималась над зубами. Его гримаса сменилась маленькой обречённой конвульсией, и он ответил:
– Правда.
Признаться, это был единственный ответ, которого я не ожидала. И интонация Вьяля не позволяла мне отшутиться. Я всё же попыталась рассмеяться, вытирая шею и лоб:
– Что ж, хорошо хоть ты, старина, не кривишь душой…
И я снова издала неловкий женский смешок, продолжая настаивать:
– Так, значит, я тебе кажусь ужасной, и ты мне об этом говоришь?
Вьяль по-прежнему смотрел на меня и по-прежнему с выражением нестерпимого страдания, медля с ответом:
– Да… Вот уже три часа вы бьётесь с этой дурацкой… ну, скажем, бесполезной работой… и так почти все дни… Целых три часа вы жаритесь на солнце, ваши руки стали похожи на руки подёнщика-мужчины, ваш казакин с оторванными полами совсем полинял, и вы с самого утра не соизволили даже попудрить лицо. Зачем, зачем вы это делаете?.. Конечно, я знаю, вы находите в этом удовольствие, тратите свою неистовую энергию… Но есть ведь и другие удовольствия подобного рода… Я не знаю, скажем… Собирать цветы, гулять у моря… Надеть свою большую белую шляпу, повязать голубой шарф вокруг шеи… У вас такие красивые глаза, когда вы этого хотите… И подумайте хоть немного о нас, о тех, кто вас любит, мы вполне, мне кажется, стоим этих мелких пустяковых деревьев…
Он почувствовал, что его смелость подходит к концу, и, пошевеливая носком землю, добавил уже как-то совсем капризно:
– В этом всё, всё дело!
Солнце сверху омывало его бронзовую, гладко выбритую щёку. По-видимому, молодость на этом лице никогда не была слишком яркой. Карие глаза в сочетании с загорелой кожей обрели своеобразную глубину. Рот хорошо смотрится благодаря красивым зубам и бороздке, которая разделяет верхнюю губу. Вьяль доживёт до благопристойной старости, до того зрелого возраста, когда, глядя на его длинный нос с умеренной горбинкой, на крепкий подбородок, на выступающие брови, о нём будут говорить: «Как, вероятно, он был красив в молодости!» А он со вздохом ответит: «Ах! если бы вы меня видели, когда мне было тридцать лет! Не хвалясь, я…» И это будет неправдой…
Вот о чём я думала, вытирая затылок и поправляя волосы, стоя перед мужчиной, который, впервые с тех пор как мы знакомы, обратился ко мне со словами, наполненными тайным смыслом. Так-то! О чём же ещё можем мы думать при виде чужой молодости, когда, отгородившись ото всех чем-то вроде не очень надёжного барьера, смотрим на мужчин, да, впрочем, и на женщин тоже? Конечно же, мы безжалостны в наших суждениях, а что касается меня, то когда я пытаюсь обрести безмятежность, то опираюсь на что-нибудь прочное: «Ты уже больше мне совершенно не нужен…», чтобы затем дойти до: «Что ж, тогда я хочу быть в чём-то полезной тебе…» Неужели я всё ещё способна на самозабвение? Да, коль скоро я не могу без этого обойтись. Ради того, ради той… Надо бы меньше. Однако я чувствую себя всё ещё слишком хрупкой для абсолютного гармоничного одиночества, такого одиночества, которое отвечает звоном на малейшее прикосновение, но при этом сохраняет свою форму, обратив свою раскрытую чашечку к живому миру…
Я думала всё-таки о Вьяле, когда смотрела на Вьяля, стряхивая со своих ног лёгкую песчаную, солёную землю. Ничто не торопило меня с ответом, и я скорее всего сознательно растягивала молчание, в котором я чувствовала себя как в своей стихии, «поскольку речь шла всего лишь о соломе…» и потому что робость, вчерашняя робость умерла. О мужчина! прирождённый собеседник, противник или друг, надёжный фронтон, отсылающий обратно, отражающий всё то, что мы тебе бросаем… Я уверенно перешагнула через последний насыпанный мною холм:
– Ну пошли, мой маленький Вьяль. Сейчас пойдём искупаемся, а потом мне надо с тобой поговорить. Если ты согласен со мной пообедать, могу предложить фаршированные сардины.
Купание оказалось неудачным из-за страха перед акулами (это месяц, когда им случается забредать в устья рек и заливы; как-то на днях мой сосед упёрся на своей барке прямо в бок одной из этих тварей, правда, на мелководье, где её движения были стеснены) и не принесло нам ни мирного покоя, ни душевной близости. Соседи-туристы и мои друзья по летнему отдыху, всего человек двенадцать, наслаждались контрастом между лёгким ветерком и тёплой водой. Мы вполне благоразумны и потому опасаемся ежегодно наведывающихся в эти места акул. Когда мы с открытыми глазами ныряем в тусклую кристальную массу цвета медузы, то малейшая неожиданная тень облака на белом песке уже выбрасывает нас на поверхность, со сбившимся дыханием и не слишком уверенных в себе. Голые, мокрые, безоружные, мы в это утро чувствовали себя столь же сплочёнными, как занесённые на край земли жертвы кораблекрушения, а матери то и дело подзывали своих плескавшихся в воде детей, как если бы хотели их уберечь от летящих дротиков и щупалец осьминогов.
– Уверяют, – говорил Жеральди, высунув из воды полкорпуса наподобие сирены, – что в Тихом океане детишки играют с акулами и, плавая под водой, бьют их пятками по морде. Поэтому…
– Неправда! – орал Вьяль. – Вас обманули! Никаких детишек в Тихом океане! Мы вам запрещаем всякий показ! Сейчас же вернитесь на берег!
И мы смеёмся, потому что смеяться приятно и потому что так легко смеяться в этом климате, где нашли пристанище жара, настоящее лето, бризы, возможность утверждать: «И завтра, и послезавтра у нас ещё будет день, подобный этому, наполненный до краёв голубыми и золотистыми мгновениями, день "остановившегося времени", милосердный день, когда тень создаётся задёрнутой шторой, закрытой дверью, листвой, а не печалью неба…»
Сегодня я обратила внимание на то, как мои друзья и мои соседи по заливу покидают меня после купания в одиннадцать часов, которое мы заканчиваем в половине первого. Ни один из присутствующих мужчин не спросил у Вьяля: «Вы идёте?» Ни один ему не предложил: «Я вас подброшу до вашего дома, мне по пути». Они знали, что Вьяль обедает со мной. Даже в те дни, когда мне не известно, обедает ли Вьяль со мной или нет, им это уже известно. Ни один из них, расходящихся в разные стороны к конечным точкам изогнутого полумесяцем пляжа, не подумал остановиться, обернуться, чтобы посмотреть, идёт ли Вьяль… Точно так же никто из них не стал бы, рискуя вызвать у меня досаду или раздражение, обращаться к Вьялю: «Ах да, верно, вы ведь остаётесь…»
Вьяль угрюмо смотрел, как они удаляются. В другие дни его настроение омрачалось только их присутствием… Тайна, хорошо оберегаемая её владельцами, вынашиваемая в герметической оболочке, сохраняется невредимой и бесплодной. Но вот Элен Клеман нарушила молчание, и почтительной безмятежности пришёл конец. Тайна, подчинившаяся силе, разбрасывает свои семена обнаруженной тайны. У Вьяля теперь вид человека, которого разбудили посреди ночи, украв у него одежду, и вытолкнули наружу. А я себя чувствую не оскорблённой, не раздражённой, но немного разочарованной своим собственным одиночеством… Двадцать четыре часа, несколько слов: нужно только ещё четыре часа, несколько других слов, и поток времени снова станет прозрачным… Есть такие счастливые реки, безмолвное течение которых нарушает лишь один всплеск, лишь одно всхлипывание, указывая местонахождение погружённого в воду камня…
– Вьяль, когда будем пить кофе, я тебе скажу кое-что.
Ибо трапеза принадлежит рассеянному солнечному свету, умиротворённости, порождённой и поддерживаемой освежающим купанием, животным-попрошайкам. На скатерти слабо шевелились блики солнца, а самая молодая кошка, встав на задние лапы перед кувшином, исследовала лапой его выпуклую, украшенную гирляндами поверхность из розовой глины…
Однако случилось так, что, когда кофе был готов, зашёл садовник, занимающийся выращиванием саженцев, и мы пили вместе с ним.
Затем я проводила садовника через виноградник до изгороди из кустов с обломанными, поредевшими ветками, которые нужно усилить новыми саженцами, чтобы защитить от мистраля виноградник и молодые персиковые деревья… А потом заявил о себе мой послеполуденный, получивший отсрочку сон. Пусть тот бросит в меня камень, кто в долгий, жаркий провансальский день не испытывал желания уснуть! Оно проникает через лоб, через глаза, которые оно обесцвечивает, и ему повинуется всё тело, вздрагивая, как увлечённое сновидением животное. А Вьяль!.. Ушёл, растворившись в пылающем оцепенении, поглощённый на пути тенью сосны или шпалеры…
Уже половина четвёртого… Какая забота, какой долг способны сопротивляться в этом климате потребности поспать, потребности открыть прохладную пучину в пылающей середине дня?
Вьяль вернулся как получивший отсрочку платёж. Он вернулся, не возвращаясь, и ограничился тем, что высадил у дома моих соседей, моих спокойных соседей, особняком живущих на своём прекрасном, широко раскинувшемся винограднике, от которого на почтительном расстоянии держится торговец мелкими участками. Наступил вечер, и Вьяль был одет в белое. Когда он притворился, что заводит свою машину, чтобы уехать, я сурово окликнула его:
– Ну что, Вьяль?.. Стакан ореховой воды?
Он устремился в аллею, не говоря ни слова, и, пока он рассекал голубой вечерний воздух, мне начали казаться ужасно грустными и этот человек с опущенной головой, и внезапно остывшее время, и маленький простой домик, на пороге которого стояла женщина с неразличимыми чертами лица, и красная лампа на перилах… Ужасно, ужасно грустными… Напишем, повторим эти слова; пусть их примет золотистая ночь…
Ужасно грустными, покинутыми, ещё тёплыми, едва живыми, онемевшими от неведомо какого стыда… Золотистая ночь сейчас закончится; между спрессованными звёздами проскальзывает какая-то бледность, и это уже не та абсолютная синева августовской полночи. Но ещё пока всё вокруг – сплошной бархат, ночное тепло, вновь обретённое удовольствием проснуться посреди сна и жить… Это самое глубокое время ночи, и расположившиеся, как обычно, недалеко от меня мои животные кажутся, если бы не лёгкие движения их боков, неодушевлёнными.
Ужасно грустными, грустными до невыносимого, до спазм в горле, до пересыхания слюны, до появления самого примитивного инстинкта страха и защиты, – разве не было такого мгновения, когда этого идущего сейчас ко мне человека я бы забросала камнями, толкнула бы ему навстречу свою пустую тачку, бросила бы грабли и лопату? Моя сука, которая никогда не рычит, вдруг зарычала, словно уловив мои мысли, и Вьяль ей крикнул: «Это же Вьяль!», как крикнул бы: «Друг!», оказавшись в опасности.
Мы вошли в низкую розово-голубую гостиную, и всё стало на свои места. Драма, феерия страха, эмоциональные иллюзии – с какого-то момента уже больше не в соей власти давать всему этому пишу. Вьяль улыбался, приподнимая верхнюю губу над зубами, ослеплённый светом двух ламп, зажжённых, потому что дни уменьшались, и в окне в это время оставался только большой садок зелёного неба с двумя-тремя беспорядочно пульсирующими звёздочками просветов.
– О! это хорошо, эти лампы!.. – вздохнул Вьяль. Он тянулся к ним руками, как к очагу.
– Сигареты в голубой кружке… Ты сегодня газеты получил?
– Да… Хотите взглянуть?
– Ах! ты же знаешь, газеты для меня… Я просто, чтобы узнать новости о лесных пожарах.
– А что, были лесные пожары?
– В августе они всегда бывают.
Он присел как посетитель, зажёг сигарету как в театре, а я достала из-под стола плоский кирпич, на котором с помощью свинцового молоточка – память о типографии газеты «Матэн» – колю орешки сосновых шишек.
Все работы, которые я не люблю, – это те, что требуют терпения. Для того чтобы написать книгу, нужно терпение, равно как и для того, чтобы приручить мужчину, находящегося в состоянии дикарства, или чтобы штопать старое бельё, или перебирать коринку для кекса с изюмом. Мне, очевидно, просто не дано стать ни хорошей кухаркой, ни хорошей супругой – я почти всегда рву верёвочки, вместо того чтобы развязывать узелки.
У Вьяля, сидевшего наискосок, был вид человека, попавшего в ловушку, и я принялась терпеливо развязывать конец верёвочки…
– Тебя не раздражает, что я колю орешки? Если хочешь пить, кувшин вон там, снаружи, лимоны тоже.
– Я знаю, спасибо.
Он сердился на меня за мою необычайную предупредительность. Про себя он отметил, что у меня на ногах новые каталонские туфли на верёвочной подошве и что я торжественно облачилась в чистейшее хлопчатобумажное платье, одно из тех негритянских платьев, которые бывают белыми, жёлтыми, красными и расцвечивают побережье, подчиняясь не столько моде, столько законам солнечного света. Занимаясь своими орешками, я раскрыла иллюстрированный журнал, а Вьяль тем временем беспрестанно курил и старательно наблюдал, как за окном, на фоне постепенно темнеющего неба, снуют летучие мыши. Ниже неба пока ещё можно было отличить от земли окаменевшую, чёрную массу моря. Появился и провёл свой красный сигнальный огонь посреди более бледных огней вечерний гидросамолёт, опережаемый низким, вырванным у ветра, «фа». Снаружи замяукала кошка, просясь, чтобы её впустили, встала на задние лапы перед опущенной решёткой и начала деликатно, как арфистка, её скрести. Однако Вьяль, увидев её, засмеялся, и она исчезла, задержав на нём свой холодный взгляд.
– Она меня не любит, – вздохнул Вьяль. – А ведь я пошёл бы на любые унижения, чтобы завоевать её симпатию. Как думаете, если бы она это знала, стала бы она относиться ко мне чуть благосклоннее?
– Она это знает, будь уверен.
На несколько минут он удовлетворился этим ответом, а потом принялся добиваться каких-либо других успокоительных слов, ещё какого-то ответа:
– А супруги Люк-Альбер, или Восхитительный, или, может быть, ещё кто-нибудь не собирались заглянуть к вам вечером на обратном пути после ужина в «Коммерсе»? А то мне показалось… А может быть, это вы должны были туда пойти… А Карко с женой… Я не очень хорошо помню…
Я косо посмотрела на него.
– В такой час художники спят. С каких это пор я устраиваю приёмы по вечерам? А Карко с женой сейчас в Тулоне.
– Ах да…
Он втайне уже чувствовал себя усталым и решил принять полулежачую позу. Он прислонился щекой к диванной подушке, закрыл глаза и судорожно сжатой рукой невольно уцепился за угол другой подушки, словно повиснув на рифе… Что делать с этим обломком кораблекрушения? Вот досада… А ещё вы ведь, конечно, думаете про возраст, про неловкость из-за разницы в возрасте? Как же вы далеки от того, что происходит в таких случаях… Мы, мы даже об этом и не думаем. Мы думаем об этом, я уверена, меньше, чем зрелый мужчина, которому, казалось бы, ничто не мешает афишировать свою любовь к нежной девичьей юности. Если бы вы знали, с каким лёгким сердцем мы принимаем, мы забываем наш «долг старшинства»! Мы вспоминаем о нём лишь только для того, чтобы вооружиться кокетством, внести больше изобретательности в гигиену и туалет, в любезное лукавство, необходимые, кстати, и молодым женщинам тоже. Нет, нет, когда я пишу «вот досада», я не хочу, чтобы читатель впоследствии на этот счёт заблуждался. Не нужно представлять себе нас, женщин, в моей ситуации, дрожащими и испуганными, освещёнными светом недолгого будущего, попрошайничающими у любимого человека, удручёнными сознанием собственного положения. Мы, слава Богу, несём в себе больше неосознанности, бесстрашия и чистоты. Что такое для нас разница в пятнадцать лет? Когда для нас приходит время рассуждать об этом с мудростью или безумием, достойными другого пола, то уж этим-то пустяком нас запугать невозможно. Для того чтобы это утверждать, я не могла бы выбрать более подходящую пору, чем та, которую я переживаю сейчас, исполненная рассудительности, почти вдовая, нежная к своим воспоминаниям, настроенная таковой и оставаться…
Когда я пишу «мы», я не включаю в это число её, ту, которой я обязана способностью стряхивать свои годы, как яблоня стряхивает цветы. Послушайте, как она мне рассказывала об одном свадебном обеде:
«Вечером – большой обед на восемьдесят шесть персон, что уже само по себе говорит о том, что он был отвратительным. Если бы я умерла в тот день, то это бы произошло от тех четырёх с половиной часов принятия дурной пищи, к которой я почти не притронулась. Я там услышала массу комплиментов. По поводу моего туалета? О! вовсе нет, по поводу моей молодости. Семьдесят пять лет… Невероятно, скажи? Неужели и вправду скоро придётся отказаться быть молодой?» Конечно, нет, конечно, нет, не надо пока от этого отказываться, – я тебя знала только молодой, а теперь тебя, мою проводницу, от старения и даже от гибели оберегает смерть… Твоя последняя молодость, молодость твоих семидесяти пяти лет всё ещё продолжается: её увенчивает большая соломенная шляпа, что в любой сезон ночевала снаружи. Под этим колоколом тонко сплетённой полбы резвятся твои серые, подвижные, меняющиеся, ненасытные глаза, которым озабоченность, бдительность странным образом придают форму ромба. Бровей не больше, чем у Джоконды, а нос, Боже мой, нос… «У нас скверный нос», – говорила ты, глядя на меня, приблизительно таким же тоном, как если бы произнесла: «У нас есть одна чудесная собственность». А голос, а походка… Когда посторонние люди слышали на лестнице твои мелкие девичьи шажки и твою шальную манеру открывать дверь, они оборачивались и замирали в растерянности, увидев тебя переодетой в маленькую старую даму… «Неужели и вправду придётся отказаться быть молодой?» Я в этом не вижу ни пользы, ни даже приличия. Посмотри, моя дорогая, каким этот растерявшийся юноша, витающий вокруг мертворождённой надежды, которую он вертит так и сяк, посмотри, каким он нам кажется старомодным, традиционным и тяжеловесным! Что бы ты с ним сделала, что нужно было с ним сделать?
Да, вот досада… Это тело, уцепившееся за угол подушки, его скромность в печали, его старательное притворство – всё то, что покоилось на моём диване, вот досада!.. Ещё один вампир, сомнений в этом у меня больше не оставалось. Так я называю тех, кто нацеливается на мою жалость. Они ничего не просят. «Только оставьте меня здесь, в тени!..»
Время, протекавшее в молчании, тянулось долго. Я читала, потом переставала читать, в другой раз я могла бы предположить, что Вьяль спит. Ведь случается же моим друзьям спать на моём диване после целого дня рыбной ловли, вождения автомобиля, купания, даже работы, которая их лишает дара речи и околдовывает сном прямо на месте. Но этот не спал. Этот был несчастен. Страдание, первая маскировка, первое нападение вампира… Вьяль, далёкий от того, чтобы чувствовать себя счастливым, притворился, что отдыхает, и я почувствовала, как где-то внутри зашевелилась та, которая теперь во мне живёт, более лёгкая для моего сердца, чем я когда-то была для её чрева… Я хорошо знаю, что они идут от неё, эти порывы жалости, которые я так не люблю. Правда, она их тоже не любила: «Племяннице папаши Шампьона стало лучше. Твоему брату будет тяжело вытащить её из этого. Я ей послала дров и ещё раз собирала для неё пожертвования, поскольку сделать что-либо ещё я сейчас не в состоянии. Только просить – это такая вещь, которую делать любезно я не умею, потому что, как только я вижу тех, которые ничего не дают и живут как сыр в масле, в лицо мне сразу ударяет краска, и вместо того чтоб говорить им любезности, мне хочется их обругать…
Что касается твоей кошки, то каждый день после полудня я прихожу в Маленький Домик, чтобы дать ей немного тёплого молока и стопить немного дров. Когда у меня ничего нет, я варю ей яйцо. Не то чтобы это было мне так уж приятно, Бог свидетель, но я никогда не чувствую себя спокойной, когда мне кажется, что какой-то ребёнок или какое-то животное голодает. Тогда я поступаю так, чтобы вернуть себе покой: тебе ведь известен мой эгоизм».
Вот так слово! Разве не подыскивала она свои слова лучше, чем кто-либо другой? Эгоизм. Этот эгоизм водил её от двери к двери и заставлял кричать, что она не может переносить холода, от которого зимой коченеют в нетопленой комнате дети бедняков. Она не могла вынести, когда собака, которую ошпарил кипятком хозяин-колбасник, не находила иного спасения, кроме как выть и крутиться у крыльца запертого и бесстрастного дома…
Видны ли тебе, моя самая дорогая, мои заботы с высоты этой располагающей к бдению ночи, более тёплой и более разукрашенной золотом, чем любой бархатный шатёр? Что бы ты сделала на моём месте? Тебе известно, куда меня заводили приступы эгоизма, который я унаследовала от тебя? Тебя они довели до материального разорения, ставшего твоим уделом, когда ты отдавала всё. Но ведь не иметь денег – это всего лишь один из этапов лишений. Стойкая в своей бесповоротной бедности, ты становилась всё более чистой от примесей и сверкала всё ярче, по мере того как тебя обирали. Всё же я не совсем уверена, не обошла ли бы ты стороной это полулежащее тело, подобрав край своей юбки, как ты делала, когда переходила через лужу… И вот в твою честь я захотела наконец показать свою силу тому, кто, оцепенев от опасений, притворялся спящим.
– Вьяль, ты спишь?
Он бодрствовал и поэтому не вздрогнул.
– Немного измотался, – сказал он, выпрямляясь.
Он пригладил волосы, оправил свою открытую рубашку и фланелевый пиджак, завязал шнурок своей туфли на веревочной подошве. Его нос мне казался длинным, а лицо – как бы сжатым между двумя створками дверей, как у людей, которые полагают, что им удаётся скрывать свои неприятности. Я его не торопила, хорошо понимая, что человека, который не уверен, все ли у него на рубашке пуговицы и завязаны ли шнурки на ботинках, вовлекать в психологию неуместно.
– Вьяль, я тебе сказала сегодня утром, что мне нужно с тобой поговорить.
Он наклонил голову с немного негритянской величавостью.
– Так вот. Мой маленький Вьяль, какая прекрасная погода! Послушай, как гидросамолёт тянет своё «фа», как поёт где-то очень высоко мягкий северо-восточный ветер, вдохни сосну и мяту солёного болотца, запах которого скребётся о решётку, как кошка!
Вьяль поднял глаза, которые до этого держал опущенными, его удивлённое лицо стало открытым, на нём отпечаталось всё его мужское чистосердечие, и при виде этого полного наивности, восприимчивого к уловкам слова существа я почувствовала, что мои намерения ещё больше окрепли.
– Вьяль, ты видел, какие на винограднике ягоды? Видел, что грозди уже налились соком, окрасились в голубой цвет и стали такими плотными, что туда не пролезла бы даже оса? Думал ли ты, что сбор винограда придётся начать ещё до пятнадцатого сентября? Хочешь, побьёмся об заклад, что раньше чем закончится сезон, громам не удастся преодолеть Моры, где их, как шары на кончике нити, собирает горная цепь? Вьяль, в Париже идёт дождь. Дождь идёт также в Биаррице и в Довиле. Бретань покрывается плесенью, а в Дофине полно грибов… И только Прованс…
Пока я говорила, его глаза уменьшались, а всё его лицо закрывалось. Живым существом заниматься можно бесконечно. Теперь тот, кто находился передо мной, был осторожен и лишь едва-едва себя приоткрывал. Это мужчина, он опасается иронии. Несмотря на всю свою меланхолию, он был теперь весь недоумение и натянутость.
– Ты понимаешь, Вьяль? Я здесь провожу самое лучшее время года. Это также, я тебя уверяю, и самое лучшее время моей жизни. Тебе нравятся эти месяцы, которые ты проводишь здесь?
С помощью неуловимых движений черты Вьяля восстановили лицо мужественного человека, которому вернули его способность пользоваться своим мужеством.
– Нет, – ответил он, – я их не люблю. Я бы не променял их ни на что иное, но я их не люблю. В течение этого времени я не только не работаю, но к тому же и не чувствую себя счастливым.
– Мне казалось, что ты делал какой-то ансамбль для…
– Да верно, для «Катр-Картье». Макеты у меня уже готовы. Это большая работа. Жилая комната, спальни, столовая, весь дом… Я трачу все мои незначительные средства и даже немного больше, чтобы изготовить модели из дерева и металла. Однако если у меня получится, то для меня это будет означать руководство мастерскими современной мебели в «Катр-Картье»…
– Ты мне никогда не говорил об этом так подробно.
– Тоже верно. Ведь вы очень мало интересуетесь современной мебелью.
– По крайней мере, я интересуюсь тем, что касается моих друзей.
Вьяль изменил позу на диване, сделав движение всадника, который укрепился в седле.
– Мадам, у меня не возникает ни на минуту иллюзий относительно вашей дружбы. Таким друзьям, как я, которых вы одариваете обращением на «ты», рукопожатием и вашим хорошим летним настроением, вы не знаете числа.
– Ты скромен.
– Я просто трезво мыслю. Это не так уж трудно. Он говорил почтительно, ровным голосом, лицо было снова открытым, а взгляд его больших и, честное слово, красивых глаз непринуждённо останавливался на моих глазах и вообще везде на моей персоне.
– Это верно, Вьяль, что я скорее приветлива, чем привязчива. Но что касается дружбы, то разве время так уж поджимает? Мы бы стали друзьями… попозже. Я тебя мало знаю…
Он резко провёл рукой в воздухе, как бы стирая мои слова:
– Я вас умоляю, мадам! Я вас умоляю!
– Вчера ты меня называл Колетт!
– При всех, да, чтобы затеряться в безымянной толпе. Но если бы вы уделили мне немного внимания, вы бы заметили, что за всю свою жизнь я ни разу не назвал вас по имени, когда мы были наедине. А наедине с первого июля мы оказывались очень часто.
– Я это знаю.
– По тону этих вот трёх слов, мадам, я вижу, что мы приближаемся к тому, что нас волнует.
– К тому, что волнует тебя.
– То, что вам просто докучает, мадам, меня действительно волнует больше, чем всё остальное.
На этом мы позволили себе сделать небольшую передышку, потому что неожиданно быстрый темп наших реплик рисковал внести в нашу беседу интонации ссоры.
– Тише, Вьяль, тише! Сначала зябко ёжился, а потом сразу вдруг…
Он улыбнулся, отвечая на улыбку.
– Иногда «раскалываться» обвиняемых заставляет уверенность, что их всё равно осудят. Тогда они принимаются рассказывать и о своём преступлении, и о своей первой любви, и о крестинах своей маленькой сестрёнки… О чём угодно…
Он хрустнул суставами своих зажатых между коленями пальцев и спросил скороговоркой:
– Мадам, чего вы от меня хотите? Или, точнее, чего вы не хотите? Я уже сейчас уверен, что то, что вы от меня потребуете, будет для меня самым мучительным, и что я выполню всё, что вы захотите.
Как всё же мужское благородство, даже будучи сведённым к своему словесному выражению, вдруг внушает нам тревогу, создаёт препятствия у нас на пути. Во мне, как прежде, всё ещё живуча женская склонность облачать в доспехи героя мужчину, когда тот говорит о готовности пожертвовать своим душевным спокойствием…
– Так. Ну тогда всё пойдёт прекрасно. Элен Клеман…
– Нет, мадам, только не Элен Клеман.
– Как это – только не Элен Клеман?
– Как я это говорю, мадам. Никакой Элен Клеман. Хватит об Элен Клеман. Что-нибудь другое.
– Да полно, пойми же меня! Подожди! Ты ведь даже не знаешь… Она приходила вчера, и мне нетрудно было убедиться…
– Браво, мадам! Это делает честь вашей проницательности. Вы, стало быть, убедились? Я просто в восторге. Но не будем больше об этом говорить.
Маленький пронзительный огонёк сверкал в глазах Вьяля, который дерзко смотрел мне в лицо. Когда он увидел, что я собираюсь рассердиться, он положил свои руки на мои.
– Нет, мадам, не будем больше об этом говорить. Вы ведь хотите мне сообщить, что Элен Клеман меня любит, что моё безразличие повергает её в отчаяние, что я должен сжалиться и даже полюбить эту «красивую неиспорченную девушку» – я цитирую Жеральди – и на ней жениться? Так. Я это знаю. С этим покончено. И не будем больше об этом говорить.
Я высвободила свои руки.
– О! если, Вьяль, ты это так воспринимаешь…
– Да, мадам, я это воспринимаю именно так, более того, я виню вас в том, что вы вообще употребили имя этой девушки в нашей беседе. У вас была причина это сделать? Какая? Назовите её. Назовите же её. Вы принимаете участие в судьбе этой девушки? Вы её хорошо знаете? На вас лежит обязанность обеспечить будущее и даже счастье хрупкого создания, которому едва исполнилось двадцать шесть лет? Вы испытываете к ней чувство привязанности? Вы её подруга?.. Ответьте, мадам, быстро ответьте! Почему вы не отвечаете быстро? Чтобы честно ответить «да», на все мои вопросы, не нужно, мадам, много времени, а реакция у вас обычно скорая… Вы не любите Элен Клеман, и, простите мне выражение, вам в высшей степени наплевать на её счастье, которое к тому же никоим образом вас не касается. Не сердитесь, я высказал всё, и с этим покончено. Уф! Я охотно бы выпил немного лимонада, и вам тоже сейчас сделаю. Не двигайтесь!
Он налил нам обоим по стакану и добавил:
– Если не считать этого, то я сделаю всё, что вы пожелаете, я вам это повторяю. Я вас слушаю…
– Извини! Это ведь ты собирался «раскалываться».
– Мне, мадам, не было бы прощения, если бы из-за меня мы не услышали продолжения милой песенки про прекрасный сезон.
Ах! если бы хоть, по крайней мере, я вдруг ощутила в сердце биение, в ладонях – озноб предзнаменования, а во всём теле – праздник томления. Именно в тот момент, а не позже – насколько я себя знаю – я пожалела, что с нами нет сиятельнейшего самозванца – желания. Будь он здесь, мне кажется, в нём я бы без труда обнаружила смысл нашего вечернего свидания, ту пряность и ту опасность, которой так не хватало нашей встрече. Мне показалось также слишком очевидным, что Вьяль хотел подчеркнуть разницу между молодым вчерашним компаньоном, «моим маленьким Вьялем», включённым в команду летних друзей, и абсолютно самостоятельным любовником…
– Вьяль, нам не нужно много слов, чтобы понять друг друга, я это уже заметила.
То была двусмысленная вежливость, которая имела более далёкие последствия, чем мне хотелось.
– Это правда? – сказал Вьяль. – Это правда? Вы так считаете? Скольким мужчинам в своей жизни вы говорили эти слова? Может быть, вы их сказали только мне одному? Я, кстати, не обнаруживаю их следа ни в одной из ваших книг… ни в одной, нет… То, что вы только что сказали, не похоже на презрение к любви, которое, когда вас читаешь, всегда немного угадывается в вашей любви к любви… Это совсем не то слово, которое вы бы сказали одному из тех мужчин, которые…
– Вьяль, книги мои здесь совершенно ни при чём.
Я не могла скрыть от него моего ревнивого разочарования, моей несправедливой враждебности, которые овладевают мной всегда, когда я осознаю, что меня, живую, ищут меж страниц моих романов.
– Оставь мне право в них прятаться, пусть хотя бы как в «Украденной букве…». И вернёмся к тому, что нас интересует.
– Нас вместе, мадам, ничто не интересует, и мне от этого очень грустно. Вам было угодно между собой и мной поместить третьего человека. Отошлите его, и мы останемся одни.
– Но дело ведь в том, что я ей обещала… Вьяль поднял свои чёрные руки, выглядывающие из белых рукавов.
– А! вот оно что! Вы ей обещали! И что же обещали? Честное слово, мадам, что вам по всём этом надо?
– Не так громко, Вьяль, Дивина спит в хижине на винограднике… Малышка Клеман мне сказала, что в прошлом году, здесь же, вы обменялись словами, которые позволяли ей верить…
– Вполне возможно, – сказал Вьяль. – А в этом году всё изменилось, вот и всё.
– Это некрасиво.
Вьяль резко ко мне повернулся.
– Почему же? Было бы некрасиво, если бы, переменившись, я не поставил бы её об этом в известность. Я не похитил несовершеннолетнего ребёнка, не соблазнил добродетельную девушку. Это всё, в чём вы можете меня упрекнуть? Это вот ради этого-то пустячка вы и приготовили свою песенку про прекрасный сезон? Для того чтобы обеспечить счастье Элен Клеман, вы решили – а ведь вы это решили – прогнать меня? Почему вы хотите отдалить от себя именно того, кто больше всех вами дорожит и лучше всех вас понимает? В этом, значит, и состоит обещание, которое вы дали Элен Клеман? Во имя чего она от вас его добилась? Во имя «морали»? Или же во имя нашей разницы в возрасте? Она на это вполне способна! – вскрикнул он голосом, весёлость которого не обманывала.
Я ему подарила, вместе с опровергающим кивком, свой самый ласковый взгляд. Бедный Вьяль, какое признание… Так, значит, он об этом думал, о нашей разнице в возрасте? Какое признание своих терзаний, немых дебатов…
– Нужно ли, Вьяль, тебе об этом говорить? Я никогда не думаю о разнице в возрасте.
– Никогда? как, никогда?
– Я хочу сказать… я не обращаю на это внимания. Так же как и на мнение дураков. А Элен я обещала совсем не это. Вьяль, – я положила, как не раз прежде, свою руку плашмя на его выпирающую грудную клетку, – так ты, значит, и вправду испытываешь ко мне привязанность?
Он опустил веки и сжал губы.
– Ты испытываешь привязанность ко мне несмотря, как ты говоришь, на разницу в возрасте… Если бы между нами не было другого барьера, уверяю тебя, этот барьер в моих глазах значил бы не слишком много.
Он сделал подбородком в направлении моей раскрытой на его груди руки совсем лёгкое ретивое движение и порывисто ответил:
– Я у вас ни о чём не спрашиваю. Я даже не спрошу у вас, что вы имеете в виду, говоря о каком-то другом барьере. Я даже с удивлением вижу, что об… об этих затрагивающих вас вещах вы говорите так… так просто.
– Но ведь, Вьяль, о них же нужно говорить. А в разговоре с Элен Клеман я утверждала лишь то, – впрочем, достаточно неопределённо, – что не являюсь препятствием между тобой и ею и что никогда таковым не стану.
Вьяль переменился в лице, отбросил тыльной стороной руки мою лежавшую на его груди руку.
– Это, это уже предел, – воскликнул он, приглушая свой голос. – Какая нелепость… Вам смешивать себя… Поставить себя на один уровень с ней! Предстать в роли великодушной соперницы! Соперницы кого? Тогда почему не соперницей какой-нибудь мидинетки? Это же невероятно! Чтобы вы, мадам, вы! Воспринимать себя, вести себя как совсем обыкновенная женщина, когда я хотел бы вас видеть, не знаю, я…
Своей вскинутой рукой он очень высоко очертил передо мной в воздухе нечто вроде цоколя, но я его прервала с иронией, болезненно отозвавшейся во мне самой.
– О! мадам…
– Вьяль, оставь меня ещё на некоторое время среди живых. Мне здесь не так уж плохо.
Вьяль смотрел на меня, задохнувшись от укоризны и огорчения. Он резко прижался своей щекой к моей обнажённой руке около плеча и закрыл глаза.
– Среди живых?.. – повторил он. – Ведь сам пепел, даже пепел от этих рук и тот был бы более горячим, чем любая живая плоть, и у него осталась бы их форма ожерелья…
Мне не пришлось нарушать прикосновенье, которое он тотчас же прервал, чтобы я осталась им довольна. Я была довольна и сделала головой знак «да, да», продолжая на него смотреть. Усталость, иссиня-чёрный налёт на щеках, проступивший из-за поздней ночи… Тридцать пять—тридцать шесть лет, ни некрасив, ни испорчен, ни зол… Я погружалась в эту абсолютно безветренную ночь, достигшую момента всеобщего сна, а от этого взволнованного, не слишком обременённого одеждами юноши исходил запах любовной полночи, который тихо навевал на меня грусть.
– Вьяль, ну а как ты вообще живёшь, помимо меня? Ты меня понимаешь?
– Немногим, мадам… Немногим… и вами.
– Не слишком богатый у тебя удел.
– Это уж мне оценивать.
Я рассердилась:
– Так куда же ты, упрямый грубиян, исчезаешь, куда ты исчезал, не говоря ни слова, при этой завладевшей тобой привычке ко мне?
– Это мне абсолютно неизвестно, честное слово, – сказал он небрежно. – Знаю только, что я старался думать об этом как можно меньше. Иногда в Париже, когда у вас не было времени меня принять, я себе говорил…
Он улыбнулся самому себе, уже весь во власти желания порисоваться, представить себя рельефнее:
– Я себе говорил: «О! тем лучше, желание её видеть у меня пройдёт быстрее, если её не будет в поле моего зрения. Нужно только потерпеть, а когда я вернусь, ей сразу будет шестьдесят или семьдесят лет, и тогда жизнь снова станет возможной и даже приятной…»
– Да… А потом?
– А потом? А потом, когда я вновь приходил к вам, оказывалось, что это как раз один из тех дней, когда просыпаются все ваши бесы, и я заставал вас напудренной, с удлинёнными глазами, в новом платье, и разговор шёл только о путешествиях, о театре, об инсценировке «Ангела» на гастролях, о посадке виноградных лоз и персиков, о покупке маленького автомобиля… И всё начиналось опять… Здесь, впрочем, то же самое, – закончил он, замедляя темп.
Во время молчания, которое последовало за его словами, ничто снаружи не нарушало неподвижности всех вещей. Кошка, лежащая на террасе, во впадине шезлонга, освещённая падающим на неё лучом лампы, свернулась, поменяв позу, калачиком – признак, что скоро выпадет роса, – и раздался гулкий, как под сводом, треск ивовых прутьев.
Вьяль вопрошал меня взглядом, как если бы наступила моя очередь высказаться. Но что ещё могла бы я добавить к владевшему им чувству меланхолической удовлетворённости. Он, очевидно, полагал, что я взволнована. И я была взволнованной. Я сделала всего лишь один жест, который он истолковал в смысле: «продолжай…», и по его чертам скользнуло почти женское полное соблазна выражение, словно вся смуглая мужская оболочка должна была вот-вот рассыпаться и открыть какое-то ослепительное лицо; но это длилось совсем недолго. Это был блеск только некоего подобия торжества, сверкание лишь частицы счастья… Ладно, немного скорости, немного строгости, выведем этого порядочного человека из заблуждения… Но он опередил меня, устремляясь всё дальше.
– Мадам, – продолжал он, стараясь не горячиться, – мне осталось сказать вам совсем немного. Мне и всегда нужно было сказать вам совсем немного. Никто не лишён намерений, задних мыслей – я мог бы почти даже добавить: и желаний – в большей степени, чем я.
– Неправда, например, я.
– Простите меня, я не могу вам поверить. Вы меня позвали сегодня вечером…
– Вчера вечером.
Он провёл рукой по щеке и смутился, почувствовав её шероховатость.
– О… как уже поздно… Вы меня позвали вчера вечером, а вчера утром вы меня… вызвали. Неужели только для того, чтобы поговорить со мной о малышке Клеман? И о вашем долге отделаться от меня?
– Да…
Я колебалась, и он взбунтовался:
– А что ещё, мадам? Я вас умоляю, только не подумайте, что со мной нужно обращаться осторожно или заботливо. Я даже могу вам признаться, что я совсем не считаю себя несчастным. Отнюдь. До сегодняшнего дня я себе казался человеком, который несёт что-то очень хрупкое. Каждый день я вздыхал; «Ничего не разбилось и сегодня!» И никогда, мадам, ничего бы не разбилось, если бы не чужая рука, достаточно тяжёлая, может быть, с не очень добрыми намерениями…
– Не надо, оставь её, эту малышку…
Как только я их услышала, эти свои слова, мне стало за них стыдно. Мне стыдно за них и сейчас, когда я их пишу. Слова, тон слащавой соперницы, коварной свекрови… То была исконная дань уважения, постыдное признание, которое вырывается у нас, когда мужчина его добивается, мужчина, роскошь, отборная дичь, редчайшая мужская особь. Вьяль, утратив осторожность, заблестел от радости, как осколок стекла в лунном свете.
– Да я её и оставляю, мадам, я ничего другого и не желал! Я же ведь ничего и ни у кого не прошу! Я ведь такой милый, такой удобный… Послушайте, мадам, а что, если бы вы, вы сами, мне предложили изменить… улучшить мою судьбу, чтобы я мог кричать самому себе: «Вон!» и даже «Изыди!»
И он разразился смехом – один, без меня. Здесь он не рассчитал своих возможностей. Когда уже сложившийся человек вдруг пытается ребячиться, это никогда не остаётся безнаказанным. К тому же для того, чтобы преуспеть в любезной наглости, он должен располагать атавистическим величием злого умысла, даром импровизации или хотя бы лёгкостью, доступной некоторым Мефистофелям средней руки, – всеми теми свойствами, которые небрежно восполняются задором ранней юности…
Возможно, что «изображая блудницу», подобно бросающейся от отчаяния на улицу девушке из буржуазного семейства, порядочный Вьяль пытался, в надежде мне понравиться, имитировать одного персонажа, о котором ему поведали те подписанные моим именем триста страниц, где я воспеваю некоторые достаточно постыдные мужские привилегии? Я могла бы этому только улыбнуться. Однако одновременно с самой ночью я стряхивала с себя истому, перед тем как стряхнуть мрак. Через дверь входила прохлада, которая вносила раздор между юным дуновением и вчерашним, согретым нашими двумя телами воздухом. Плита порога заблестела, как под дождём, и клочковатый призрак высокого эвкалипта постепенно вновь занял своё место на небе.
Вьяль, заблуждаясь, сильно надеялся на свою пассивность. Эта тактика для мужчины отнюдь не необычна, скорее напротив. Вьяль принадлежит к той категории любовников, которую на протяжении моей любовной жизни я лишь мельком замечала в отдалении, за что несу ответственность. Он выглядит несколько сероватым днём, но становится ярко фосфоресцирующим с наступлением темноты, одарённым в любви, грациозным во время любви, как молодые крестьяне, рабочие в цвету, – я. честное слово, видела его так, как будто сама в этом участвовала…
Вьяль живо набросил на меня шерстяной шарф, хотя я и не думала дрожать.
– Этого вам достаточно? Вам так будет тепло? Вот уже и почти что день. Пусть он будет мне свидетелем, что я никогда не надеялся увидеть его наступление наедине с вами, в вашем доме. Позвольте же мне найти в этом для себя если не источник счастья, то хотя бы повод для гордости. Я часто грешу гордыней, как это случается с людьми скромного происхождения, которые с брезгливостью относятся к среде, в которой они родились. Брезгливый… вот в чём всё дело, я уродился брезгливым. Мои друзья по армии подшучивали над тем, что я брезговал случайными женщинами, банальными интрижками. Иногда принц не столь брезглив, как я… Смешно, не правда ли?
– Нет, – сказала я рассеянно.
– Если бы вы знали, – продолжал он тише, – я только здесь познал такие длинные дни… Из всех проявлений оказанной вами мне помощи нет ни одного, которое стоило бы той особой окраски, которую ваша безмятежность придаёт дням, того особого привкуса, который они обретают, коснувшись вас в своём движении. И это несмотря на что-то вроде стиля эмансипированности, благоэмансипированности, который у вас явно не ваш собственный…
Я его не прерывала. Голубой неотчётливый свет льнул к его лбу и к изгибам его щёк: от вкрадчивого нарастания голубого цвета оранжевые лампы стали более красными. Какая-то птица в саду освободилась от оков ночи с помощью такого долгого, настолько немелодичного крика, что у меня возникло ощущение, будто он вырвал меня из сна. Тёмный в своём белом одеянии, Вьяль сидел, вжавшись в углубление дивана, всё ещё находясь во власти ночи, а я, чтобы лучше его разглядеть, воспользовалась тайным воскрешением моего прежнего «двойника», который пробуждался во мне с наступлением дня, двойника, жадного до физических контактов, научившегося форму тела переводить на язык обещаний. Повседневная обнажённость этого тела во время купаний сделала для меня привычными его контуры, – плечо, как на египетском барельефе, цилиндрическая и сильная шея и особенно этот глянец, – эти разрозненные и таинственные свойства, по которым в иерархии сладострастия, в животной аристократии некоторым мужчинам присваивается нечто вроде степени… И вот, чувствуя, что у меня остаётся не слишком много времени, я торопилась вдыхать всеми своими порами жар, который рождало запретное зрелище, «поскольку речь шла всего лишь о соломе…»
– …Когда так удачно, я бы даже сказал, так банально, всего с двумя шрамами на руке, выпутываются из войны, то после этого хочется только одного: долго жить, много работать. Но мой отец…
Чего же ему не хватает? Что за хаос! Что за драма зарождения, роста? У него нет ничего общего с теми людьми, которых я знала, чьё заразительное удушье я держала в своих руках, в своём взгляде…
– …Всего хотеть, всё угадывать и в глубине души на всё претендовать – это большое несчастье для молодого человека, который вынужден жалко прозябать и который не знал, что когда-нибудь ему будет дано разговаривать с вами…
Да. Только нет никакой надежды, что его вид, его направленное на соединение со мной усилие и даже само его страдание напомнят мне мучение ростка под землёй, терзание растения, которое в поспешном стремлении выполнить свой долг и расцвести готово рвать собственную плоть… Я их узнавала, потому теряла, тех, что клялись – так они подтверждали мою силу – погибнуть, если я не освобожу их от них самих, никогда не распуститься, если я откажусь дать им их единственный климат: моё присутствие… Но вот этот, он-то уже расцветал и отцветал не один раз…
– …и мне не стыдно предстать перед вами более удивлённым, более нищим воспоминаниями, чем в случае, если бы моя жизнь только начиналась…
Да… Но ведь она у тебя не только начинается. Это не больше чем сравнение. Тут тебе меня не обмануть, даже с помощью своей невинности. Ведь в самом конце наших последних доблестных битв мы обычно имеем дело только с тем, что есть самого худшего либо самого лучшего; и нет большой заслуги в том, чтобы разобраться, что ты не принадлежишь ни к первым, ни ко вторым… Я опираюсь на будущее, в котором можно сосчитать часы. Если бы я и вступила в борьбу, то всё своё будущее отдала бы без остатка жгучим истинам и таким огорчениям, с которыми ничто не сравнимо, или таким дуэлям, где обе стороны жаждут превзойти друг друга в гордыне. Вьяль, тебе назначена более лёгкая судьба, чем превосходить меня в гордыне…
– Дорогой Валер Вьяль!
Я помогла себе криком, чтобы вырваться из защищённого места, с высоты которого я могла выбирать, когда наносить удары, а когда приходить на помощь…
– Мадам! Я здесь, мадам! И в этом как раз и состоит моё самое большое преступление.
Он встал, одеревенелый от своего долгого бдения, и. потянувшись, сломал все свои углы. Коричневый глянец его прекрасной летней оболочки казался испачканным пробивающейся сквозь кожу жёсткой щетиной. Не так отчётливо, как вчера, блестел белок его глаз. А что выражало моё лицо, лишённое обычного ухода и ночного отдыха?.. Я думаю об этом сегодня, а вчера не думала. Я думала только о том, чтобы скрепить закончившуюся наконец ночь печатью ушиба или объятия. Занятой собой паре неведомы краткие беседы. Как же они длинны, эти разговоры, в которых мечутся непрошеные бастарды любви…
Своим уже слегка кисловатым запахом напомнили о себе забытые в вазе персики; я надкусила один из них, и он вместе с голодом и жаждой вернул мне материальный, сферический, переполненный ощущениями мир: пройдёт ещё немного мгновений, и кипящее молоко, чёрный кофе, выдерживаемое в глубине колодца масло сослужат свою службу панацеи…
– Дорогой Валер Вьяль, ты меня отвлёк от того, что я тебе начала говорить, всего… – я, шутя, показала ему на одну из последних звёзд, окрашенную в бледно-жёлтый цвет и уже прекратившую свой мерцающий танец, – всего минуту назад.
– Вам стоит лишь продолжить, мадам. Или начать сначала. Я всё ещё здесь.
Искренняя дружба, дружба мнимая?.. По тому удовольствию, которое мне доставил звук его голоса, я поняла, сколько сил забрала у меня эта ночь без сна.
– Вьяль, я хотела бы поговорить с тобой как с человеком сердечным, если люди сердечные вообще существуют…
Моя оговорка попала в цель: Вьяль споткнулся об это ненавистное для всех любовников слово, и его взгляд взял своё доверие назад.
– Я тебе сказала, что здесь я нашла прекрасное время года и, что ещё важнее, прекрасную пору своей жизни… Эта истина ещё не слишком давняя… Мои друзья это знают…
Он продолжал молчать, словно иссякнув.
– …так что я ещё не всегда чувствую себя очень уверенно в моём новом состоянии. Иногда, например, когда развиваю внезапную бурную деятельность – уборки, бессмысленные садовые работы, переезды, – я вынуждена себя спрашивать, что это у меня: новое веселье или остаток прежней лихорадки. Ты понимаешь?
Он ответил «да» кивком головы, но всё лицо его выражало отчуждённость, и мне не пришло в голову тогда, что он, возможно, страдает.
– Изменить образ жизни, всё перестроить, возродиться – это никогда не было для меня непосильной задачей. Но сейчас речь идёт не о том, чтобы сменить оболочку, речь идёт о том, чтобы начать нечто такое, чего раньше я никогда не делала. Пойми же. Вьяль, в первый раз с тех пор, как мне исполнилось шестнадцать лет, мне нужно будет жить – или даже умереть – так, чтобы моя жизнь или моя смерть не зависели от любви. Это настолько необычно… Ты этого знать не можешь… У тебя есть время.
Вьяль, весь облик которого с ног до головы выражал упрямство и сухость, безмолвно отказывался от какого бы то ни было понимания, от любого утешения. Я чувствовала себя очень усталой, готовой отступить перед овладевающей небом ярко-красной лавиной, но в то же время мне хотелось завершить эту ночь – слово пришло мне на ум и больше меня не покидало – достойно.
– Ты понимаешь, отныне необходимо, чтобы моя грусть, когда я грустна, моя весёлость, когда я весела, обходились без одного мотива, которого им хватало на протяжении тридцати лет: без любви. И мне это удаётся. Это чудесно. Это так чудесно… Иногда у рожениц при пробуждении от первого после родов сна опять возникает рефлекс крика… Представь себе, у меня всё ещё сохраняется рефлекс любви, я забываю, что уже избавилась от своего плода. Я от него не защищаюсь, Вьяль. Иногда я внутренне себе кричу: «Ах! боже мой, пусть Он будет ещё!», а иногда: «Ах! Боже мой, пусть Его больше не будет!»
– Кого? – наивно спросил Вьяль.
Я принялась смеяться, глядя под расстёгнутой рубашкой на его могучую грудь, доступную утреннему ветру и моей руке, моей руке, которая кажется старше меня, но в этот час и я сама, должно быть, выглядела не моложе…
– Никогда, Вьяль. никогда… Больше никого. Но я ещё не умерла отнюдь и не стала бесчувственной. Мне можно причинить боль… И ты мог бы причинить мне боль. Но ведь ты же не такой человек, чтобы получить от этого удовлетворение?
Длинная ладонь с тонкими пальцами быстро, как лапа, схватила мою руку.
– А мог бы и получить, – глухо сказал Вьяль. Это была всего лишь мимолётная угроза. Я была благодарна Вьялю за такое признание и наслаждалась его несколько оскорбительной формой, его прямым и ясным источником. Я осторожно высвободила руку, пожала плечами, и мне захотелось пристыдить его, как ребёнка:
– О! Вьяль… Какой же конец ты бы нам уготовил, если бы я тебя послушала?
– Какой конец? – повторил он. – Ах! да… Ваш, очевидно, или свой собственный. Я признаюсь, – добавил он охотно, – да, я признаюсь, что в некоторые мгновения ваша смерть мне не была бы неприятна.
Мне нечего было возразить на это столь традиционное признание. Лёгкое подёргивание зрачков, какой-то неопределённый смех говорили мне о том, что Вьяль ещё не совсем отказался от искушения вести себя как одержимый, и у меня появилось мелочное опасение, как бы этого расстроенного юношу не заметили на моём пороге. Нужно было спешить, день вот-вот мог застать нас врасплох – первые ласточки уже кружились со свистом над домом. Одна только длинная джонка из облаков, выкрашенная в густой фиолетовый и кроваво-красный цвет и причаленная к самому горизонту, пока ещё сдерживала первый огонь зари. Какая-то тележка на дороге, идущей вдоль побережья, громким рокотом глухого, раскатистого грома возвестила, что везёт пустые бочки. Вьяль поднял воротник своего белого пиджака вокруг выросшей со вчерашнего дня щетины и коричневого лица, которое от бдения и голодания приобрело зелёный оттенок. Он переступал с одной ноги на другую, как если бы утаптывал снег, и долго рассматривал море, мой дом и два пустых стула на террасе.
– Что ж… до свидания, мадам.
– До свидания, дорогой Вьяль. Ты… В обед тебя не будет?
Он заподозрил в этих словах враждебную предосторожность и оскорбился.
– Нет. И завтра тоже. Я должен съездить в Мустье-Сент-Мари, а оттуда в несколько разных местечек, это километров двести по побережью. Купить провансальские стёганые одеяла для моего магазина в Париже… Варанские блюда, мне о них сообщили…
– А-а… Ну это не «прощание навеки»! Ещё увидимся, Вьяль?
– Как только я смогу, мадам.
Он показался удовлетворённым тем, что ответил так удачно, так немногословно, и я позволила ему уйти. Его маленькая машина осторожно тронулась в глубокой белой пыли иссохшей дороги. Тогда, подобно фее, появилась кошка, а я, не дожидаясь Дивины, пошла на кухню разжигать огонь, потому что вся дрожала от холода и испытывала жгучую потребность окунуться в очень горячую воду, в кисловатую ароматическую ванну, как те ванны, в которых в Париже спасаешься чёрными зимними утрами.
Мы, рассеянные по побережью поселенцы, любим импровизированные ужины, потому что они нас объединяют на час-другой и потому что они не нарушают покоя наших жилищ, секрета нашей летней жизни, в которой совсем нет ни послеполуденных собраний, ни полдников в пять часов. Воля сезонного протокола такова, что наши отношения регулируются скорее единодушным капризом, чем дружеской преднамеренностью. Приглашение прийти часов в восемь наткнётся на наши колебания, уклончивость: «Ах! не знаю, буду ли я свободна… Этот парнишка Гинью как раз должен отвести нас в Ласейн…» Или мы работаем, или «как раз» собирались пойти в лес есть добытую браконьерами дичь…
Случай обычно препоручает объявить наше желание немного пообщаться одному из голосов, причём заранее не известно какому. Это может быть голос Большого Деде, слабенькая, с носовым акцентом флейта Дорни или булимический зевок Дараньеса, который вдруг вздохнёт: «Что-то сосёт под ложечкой…» Нужно так же, чтобы на похожей на луковицу колокольне пробило полседьмого, чтобы последняя вспышка заката, танцующая на выпуклостях сифонов, отразилась в зелёных, колдовских глазах Сегонзака и чтобы от розовых фасадов набережной, более тёплых, чем остывший воздух, донёсся не совсем отчётливый запах хлеба. Тогда раздаётся беззаботный голос:
– А что бы такого можно было поесть «У лионки»?
Никто не пошевелился, однако ответ приходит, и с совершенно захватывающими подробностями:
– Ничего. Ветчины по-провансальски с помидорами.
– У нас есть большой кусок болонской колбасы и прекрасная горгонзола, – шепчет ещё один мягкий голос, принадлежащий скрипачке Моранж. – Только на всех этого не хватит…
– А мой суп из моего лука с тёртым сыром, это вам что, козий помёт? – кричит Тереза Дорни или Сюзанна Вильбёф.
Тогда встаёт Сегонзак и снимает с головы свою старомодную фетровую шляпу:
– Мои добрые господа, мои добрые дамы, разве вираж до меняж вас напугаш? Я лишь есть простой крестьян, я имем, что имем, но, мать честна, имем серьце на ладони, а ладонь везде…
Наш Восхитительный ещё продолжает свою любимую игру подражания, а бесшумные ноги, обутые в туфли на верёвочной подошве, уже бегут, а местная ветчина, помидоры и персики, сыры, миндальные пироги, похожая на дубину колбаса, длинный хлеб, который сжимают в объятиях, как украденных детей, горячая завязанная в салфетку супница уже отправляются с нами на двух-трёх машинах по изрытой дороге, ведущей на холм. Манёвр этот нам привычен – через двадцать минут нас радостно приветствует воздвигнутый под плетёной крышей стол, и зелёный «лунный свет» из бывших огней правого борта, подвешенных высоко на ветках, маслянистой струёй стекает на выпуклые листья магнолии.
Вот и вчера вечером точно таким же образом мы расположились вверху на холме. Внизу выемка моря удерживала молочный свет, источник которого теперь уже находился не в небе. Мы различали неподвижные огни порта и их дрожащее отражение. Над нашими головами, между двумя факелами, качалась длинная гроздь созревающего винограда, и кто-то из нас отделил светлую ягоду:
– Сбор винограда будет ранний, но плохой.
– Мой арендатор говорит, что мы всё-таки получим десять гектолитров, – с гордостью заявил Сегонзак. – А у вас, Колетт?
– Я рассчитываю получить треть от обычного урожая, дождей было мало, а к тому же виноградник очень старый: что-нибудь от тысячи восьмисот до двух тысяч.
– Двух тысяч чего?
– Литров; но мне из этого останется только половина.
– Громы небесные, милая моя, вы собираетесь попробовать себя в торговле!
– Тысяча литров! – тяжело вздохнула Сюзанна Вильбёф, как если бы её заставляли их все выпить.
На ней было платье с цветными узорами на чёрном фоне, из итальянской деревенской ткани, которую она раскроила по старинной провансальской моде, и никто не мог объяснить, почему она казалась переодетой в цыганку.
Воздух приятно пах эвкалиптом и перезрелыми персиками. Шелкопряды и нежные бабочки, живущие в кустах смородины, потрескивали, сгорая в чашах рефлекторов. Элен Клеман терпеливо спасала наименее повреждённых из них концом вилки для пикулей, а потом из жалости отдавала их коту.
– Ой! падающая звезда…
– Она упала на Сен-Рафаэль…
Мы закончили есть и почти перестали говорить. Большой кувшин из простого зеленоватого стекла с выступом в середине лениво бродил вокруг стола и кланялся, не запрокидываясь, чтобы ещё наполнить наши стаканы добрым вином из Кавалера, молодым, с привкусом кедрового дерева, которое своими знойными парами разбудило нескольких ос. Наша удовлетворённая общительность была уже совсем готова уступить место – в соответствии с законом чередования прилива и отлива – нашей необщительности. Художники, измочаленные солнцем, готовы были по-детски поддаться охватившему их оцепенению, но их жёны, отдохнувшие после обеда в гаремном покое, то и дело обращали свои взоры в сторону залива и тихонько напевали.
– Ведь сейчас, – рискнула одна из них, – ещё только без четверти десять.
– «Танцуйте вальс, прелестные девчушки!» – затянуло было робкое сопрано и смолкло.
– Если бы был Карко… – произнёс другой голос.
– Карко не танцует. Кто нам был бы нужен, так это Вьяль.
После этого возникло очень краткое затишье, и Люк-Альбер Моро, побуждаемый опасением, как бы кто-нибудь не сказал что-то обидное для меня, закричал:
– Конечно, конечно, нам нужен был бы Вьяль! Но раз уж его нет, не так ли… Ну нет его, и всё тут!
– Он готовит свою выставку белья и распродажу домашней утвари, – сказала неприязненно Тереза, которая, разыскивая для аренды «маленькую забавную лавчонку», с вожделением посматривает на парижский магазин Вьяля.
– Он в Везоне, под Авиньоном, – сказала Элен Клеман.
Мои друзья посмотрели на неё сурово.
Опустив глаза вниз, она кормила обгорелыми пяденицами похожего на морского угря кота, который сидел у неё на коленях.
– С такой пищи он вполне может околеть, – мстительно заметила ей Моранж. – Разве нет, Колетт?
– Нет, почему же? Они и жирные, и жареные. Я. естественно, не стала бы специально жарить бабочек для кошек, но ведь шелкопрядам не запретишь лететь на рефлекторы.
– А женщинам – ходить на танцы, – вздохнул, вставая, долговязый пейзажист. – Пошли прогуляемся до Пастекки. Но только вернёмся пораньше, а?
Одна из молодых женщин издала пронзительное, как ржание кобылицы, «да!», фары повернулись в сторону виноградника, посылая молнии то в ртутную лозу, то в соляную собаку, то в мертвенно-бледный куст шиповника. Проходя мимо Люка-Альбера, просительно распростёртого перед старым и упрямым автомобильчиком, Тереза Дорни бросила:
– Что, сегодня твой «Мирюс» не тянет? – и наши смешки спустились по косогору, цепочкой, уносимые бесшумными машинами с выключенными скоростями.
По мере того как мы приближались к морю, залив всё больше и больше искрился огнями. Своей голой рукой я чувствовала прикосновение голой руки Элен Клеман. После отъезда Вьяля я её встречала только на набережной, в книжном магазине, в часы походов на рынок, в часы лимонада, и всегда не одну. Первые дни недели, встречая меня, она выражала предупредительность, почтительность, в духе: «Ну и?.. Ну и?.. Что вам удалось сделать? Что нового?..», на которые я ничего не отвечала. Она (мне так показалось) смирилась и думала (и как это я в это поверила) о других вещах… Её голая рука в темноте соскользнула под мою.
– Знаете, госпожа Колетт, – прошептала Элен, – я знаю об этом только из почтовой открытки.
– О чём это, милая?
– А открытка пришла от моей матери, которая сейчас с папой в Везоне у моей бабушки Клеман, – продолжала она, перескочив через мой вопрос. – Они знакомы с моей семьёй. Но я подумала, что мне не обязательно было рассказывать об этом, только что… Что так лучше… Я не смогла с вами посоветоваться об этом до ужина.
Я сжала её голую руку, которая была прохладной как вечером:
– Так лучше.
И я восхитилась тем, что она так хорошо знает, что лучше, что хуже, я восхищалась её лицом, полным проектов, повёрнутым к событиям, к приездам, к пристаням…
Когда ночь закрывает всё, сводя море к его языку всплесков, неясному шамканью между утробами стоящих на якоре кораблей, морскую необъятность – к маленькой стене, черной, низкой, отвесно поднимающейся к небу, битву голубого с золотым – к огням мола, коммерцию – к двум кафе и маленькому, плохо освещённому базару, то мы обнаруживаем, что наш порт – это совсем маленький порт. Когда мы проезжали, какая-то иностранная яхта, пришвартовавшаяся в хорошем месте, вровень с пристанью, беззастенчиво выставила напоказ свою медь, своё электричество, свою облицованную заморским деревом палубу, свой ужин на столе, окруженном голыми по пояс мужчинами и женщинами в открытых платьях, с жемчугом в несколько рядов, своих непорочно чистых официантов, которые все казались девственниками. Мы остановились посозерцать этот великолепный ковчег, принесённый морем, которое должно было забрать его вновь, как только эти люди выкинут за борт свою последнюю кожуру от фрукта и украсят воду своими плавающими газетами.
– Гля, эй, дай сигарету, – крикнул им с набережной мальчишка в стоптанных башмаках.
Один из стоявших на виду пассажиров повернулся, чтобы внимательно рассмотреть парнишку, взобравшегося на сходни, и ничего не ответил.
– Гля, а скажите, в котором часу у вас начнётся любовь? Если поздно, то я ведь могу и не дождаться…
И он улетел, награждённый нашим дружным смехом.
В ста метрах отсюда, в изгибе пирса, содержит танцплощадку и торгует напитками Пастекки. Угол хороший, защищённый от ветра. Здесь красиво, потому что вид открывается и на кусок закрытого моря с разноцветными полосатыми одномачтовиками, которые здесь называются тартанами, и на плоские, с приплюснутым основанием дома цвета нежной сирени и розовой горлицы. Хозяин – маленький изнурённый человечек, который редко отдыхает, но при этом сохраняет на лице ленивое выражение – зорко следит за наготой четырёхугольного зала, как если бы ему поручили устранять из него любое украшение. Здесь нет ни гирлянды на стенах, ни какого-нибудь букета в углу стойки, ни новой краски, ни бумажных юбочек вокруг электрических лампочек. Как в приделе, где идут заупокойные службы для бедных, здесь роскошь цветов и излишества все собраны на катафалке. Катафалком я называю древнее, испытанное временем механическое пианино цвета старого чёрного фрака. И при этом нет на нём такой панели, на которой бы не были изображены во всей их красе Венеция, Тироль, озеро в лунном свете, Кадис, глицинии с голубыми лентами. Через узкое отверстие, окаймлённое медью, оно глотает двадцатисантимовые жетоны и сторицей возвращает их в виде металлических полек и тускло-жестяных мелодий явы, перемежаемых большими провалами чахоточной тишины. Эта глухая музыка обладала такой похоронной серьёзностью, что без танцоров мы бы её просто не вынесли. Едва раздаются первые такты и в ящике начинается ритмическое падение старых монет, битого стекла и свинцовых расчёсок, как уже одна пара, две пары, десять пар танцоров послушно кружатся, и если не слышно скольжения пеньковых подошв, то шелковистый шелест голых ног слышится отчётливо.
Я пишу «танцоров», а не «танцорок». Эти последние на Молу составляют не принимаемое в расчёт меньшинство. Миловидные, смелые, с подбритой по моде шеей, они учатся у туристок шику загорелых ног и бесподобных шейных платков. Но при этом «приезжие» приходят на вечерний бал обычно в обуви на верёвочной подошве, а местные девушки надевают лакированные туфли на босу ногу.
Мы тесно прижались друг к другу на деревянных расшатанных скамейках, стоящих вокруг расколотого мраморного стола. И всё равно для этого понадобилось, чтобы несколько молодых заводских рабочих и два моряка отодвинули, освобождая для нас место, свои котовьи ягодицы и свои наполненные анисовой настойкой стаканы. Элен Клеман прижала своё голое плечо, бедро и длинную ногу к отполированному, как ценное дерево, молодому морскому животному, сделав это со спокойствием девушки, которой никогда не доводилось оказаться на пустынной дороге в овраге, в трёх шагах от совершенно незнакомого человека, безмолвного, неподвижного, раскачивающего руками. Некоторые мужчины принимают у Элен за бесстыдство то, что является всего лишь устойчивой невинностью. Она проворно встала и пошла танцевать с синим матросом, который танцевал, как танцуют здесь все парни, то есть без слов, высоко подняв лицо, на котором ничего нельзя прочитать, и держа свою партнёршу в тесном, лишённом эмоций объятии.
Вокруг этой прекрасной пары крутились, перенося все неудобства отвратительного освещения, несколько старожилов этого побережья: двое шведов – муж и жена, брат и сестра? – выдержанных от лодыжек до волос в едином бледно-румяном цвете, массивные, выполненные по принципу минимума телесной отделки чехословаки, две или три немки нового образца, худые, полуголые, смуглые и горячие на вид. Все эти цветные пятна выделялись на тёмном фоне подростков без белья с шеей, схваченной тонким чёрным трико, синих, как ночь, матросов и героев танца – грузчиков с тартан, плотных, лёгких, отливающих красноватой медью… Они вальсировали друг с другом, привлекая нездоровое внимание публики, пришедшей издалека, чтобы на них посмотреть. Два друга, близнецы по росту, по лёгкости ног, по сходству улыбок, которые за всё лето не удостоили приглашением ни одну из «парижских шлюх», присели отдохнуть рядом с нами, приняли от Большого Деде, который ими восхищался, бутылку газированной воды, ответили на нескромный вопрос: «Мы танцуем друг с другом, потому что девушки танцуют недостаточно хорошо» и пошли снова выделывать фигуры, сплетая руки и колени.
Исступлённая брюнетка с прямыми волосами, в жёлтой косынке на шее, прикатившая на автомобиле прямо с соседнего пляжа, чокалась животом с каким-то сдержанным рабочим, который, держа её за талию, казалось, не видел её. Обольстительный чёрный молодой негр в серой разорванной рубашке из бумазеи, словно прикреплённый к другому, тоже чёрному молодому человеку с тонким, пустым, нематериальным лицом, выглядевшим более белым из-за красного платка, высоко, под самым ухом затянутого на шее, оказываясь поблизости, бросал нам вызывающие взгляды, а мулат в форме молота – безмерные плечи, способная пройти в подвязку талия – нёс на своей груди, приподняв над полом, почти уснувшего от вращения мальчишку, голова которого болталась, а руки висели…
Никакого другого гама, кроме шума мелкой монеты, посуды и домино, сливающегося со звуками механического пианино. На Мол приходят не для того, чтобы беседовать, и даже не для того, чтобы напиваться. На Молу танцуют.
Открытые окна впускали запах дынных корок, плавающих в водах порта; между двумя половинками танго долгий вздох означал, что какая-то волна, родившись в открытом море, заканчивала своё существование в нескольких шагах от нас.
Мои молодые спутницы смотрели, как кружатся мужские пары. В их слишком пристальном внимании я могла прочитать одновременно и недоверчивость, и свойственную им тягу к загадкам. Большой Деде, прищуривая свой зелёный глаз, спокойно наслаждался зрелищем, наклонял голову в сторону, время от времени приговаривая:
– Прелестно… Прелестно. В этом уже есть что-то гнилое, но это прелестно. Следующим летом они будут танцевать, потому что Вольтерра будет смотреть, как они танцуют.
А маленькая цыганка Вильбёф вертелась, как венчик цветка. Мы воздерживались от разговоров, одурманенные кружением и неприятным освещением. Ветер танца приклеивал к потолку вуаль дыма, который при каждой паузе пытался опуститься вниз, и я припоминаю, что была довольна почти полным отсутствием мыслей, своей готовностью слушать эту дроблёную музыку, белым местным вином этого года, согревающимся сразу, как только его наливали в стакан, усиливающейся жарой, которая всё больше наполнялась запахами… Сначала преобладал грубый табак, потом он отступил перед зелёной мятой, которая посторонилась, давая дорогу шероховатому духу смоченных в рассоле одежд; когда же рядом оказывался затянутый в маленький трикотажный полукафтан без рукавов коричневый торс, то распространялся аромат сандаловых стружек, а хлопающая дверь погреба выпускала пар капающего на песок вина… Меня поддерживало сильное дружеское плечо, и я дожидалась, когда пресыщение вернёт мне силу и желание подняться, вернуться в своё тесное царство, К моим обеспокоенным кошкам, к винограднику, к чёрным шелковицам… Я дожидалась только этого… ещё минуту, и я ухожу… только этого, право же…
– Нет, – произнесла молодая женщина цвета корицы, – сегодня вечером нам был бы нужен Вьяль.
– Отвези меня домой, Элен, – сказала я, вставая, – ты ведь знаешь, что я не могу водить ночью.
Я помню, что она везла меня очень медленно, объезжая столь привычные нам камни и ямы, и что, приехав, она направила фары так, чтобы они освещали аллею. По дороге она мне говорила о танцах, о температуре и о просёлочных дорогах таким сдержанным, таким полным внимания и предупредительности тоном, что, когда она рискнула обеспокоенным голосом у меня спросить: «Разве эти две ямы не засыпали ещё три года назад?», то у меня было искушение ей ответить: «Нет, Элен, спасибо, сегодня вечером банки мне не нужны, и я обойдусь без бромовой микстуры».
Я угадывала, что она была преисполнена рвения и заботливости настолько, как если бы трогала на мне какой-то безболезненный ушиб, какое-то не замечаемое мною самой кровотечение. Желая её поблагодарить, я ей сказала, когда она выскочила, чтобы открыть мою решётку, у которой нет замка, а я опускала на землю свою одряхлевшую брабантскую суку:
– Сегодня вечером, Элен, ты была великолепна, лучше даже, чем в прошлом месяце.
Она вся так и выпрямилась в свете фар от гордости:
– Правда? Я чувствую, госпожа Колетт, что это так и есть. И это ещё не всё! Это ещё только начало. Я думаю…
Она подняла палец вверх, как какой-то большой ангел войны, стоящий в центре белого ореола. Таинство рассеялось, когда она повернула голову в сторону «кубика»…
– Да?.. – сказала я неопределённо, уже торопясь по аллее, обуреваемая каким-то отвращением ко всему, что не было моим пристанищем, встречей с животными, свежим бельём, пещерой тишины… Однако Элен рванулась вперёд, схватила меня за локоть, и я не видела перед собой больше ничего, кроме двух необъятных синих, словно из чернила, теней, которые, лёжа и ползая по земле, ломались у основания фасада, вертикально взбирались по нему и жестикулировали на крыше:
– Мадам, это безумие, это глупо, и всё же без всякого на то основания… у меня предчувствие… что-то вроде большой надежды… Мадам, я вам очень признательна, вы знаете… Мадам, вы всё понимаете…
Её длинная тень дала моей более короткой тени какой-то нелепый поцелуй, который упал где-то в воздухе, и она убежала.
«Я разбирала сейчас бумаги в секретере нашего дорогого папы. И я обнаружила все письма, написанные мной из Дома Дюбуа после моей операции, и все телеграммы, которые ты ему посылала в течение этого периода, когда я писать ему не могла. Он всё сберёг, это меня так взволновало! Но ведь, скажешь ты мне, это же так естественно, что он их сохранил. И вовсе не так уж естественно, отнюдь, ты сейчас увидишь… После тех двух-трёх коротких поездок в Париж, которые я совершила незадолго до его смерти, чтобы повидаться с тобой, я находила моего дорогого Колетта похудевшим, с ввалившимися щеками, едва притрагивавшимся к пище… Ах! Что за ребёнок! Как жаль, что он меня так любил! Это его любовь ко мне одну за другой погасила все его прекрасные способности, которые он бы мог направить на занятия литературой и науками. А он предпочёл думать только обо мне, страдать только ради меня, и именно это я считала непростительным. Такая великая любовь! Какое легкомыслие! А что касается меня, то как же ты хочешь, чтобы я утешилась, когда я потеряла такого нежного друга?..»
Два часа идёт тёплый дождь, скоро он прекратится. Уже все небесные знаки взялись оспаривать друг у друга конец дня. Попыталась пересечь залив радуга; сломавшись на полпути о крепкую груду грозовых облаков, она потрясает в воздухе остатком великолепной арки, цвета которой умирают все разом. Напротив неё спускается к морю на ободьях, скреплённых расходящимися спицами, солнце. Растущая, белая среди дня луна колышется меж хлопьями освободившихся от своего груза облаков. Это первый за всё лето дождь. Что от него выиграет сбор винограда? Ничего. Виноград уже почти созрел. Ранняя заря предлагает его мне холодным, эластичным, покрытым каплями росы и полным сахара, который скоро брызнет на зубах…
Сосны фильтруют затихающий ливень; несмотря на их бальзам, несмотря на бальзам мокрых апельсиновых деревьев и дымящихся у кромки моря сернистых водорослей, падающая с неба вода придаёт Провансу запах тумана, подлеска, сентября, запах какой-нибудь центральной провинции. Это такая редкость – мглистый горизонт за моим окном! Я вижу, как пейзаж дрожит словно сквозь пелену слёз. Во всём – новизна и мягкое нарушение правил, даже в движении моей пишущей руки, в движении, которое так давно было только ночным. Но мне же надо было отпраздновать на свой лад приход дождя, и потом, на этой неделе у меня прихоть делать только то, что мне не нравится.
Ливень уходит к Морам. Все обитатели моего дома славят конец ненастья. Из кухни возносится благодарственный молебен, расцвеченный выражениями вроде «Ах ты Боже мой!», «Боже, помилуй!» и «Не могу, Иисусе!» На краю лужи Кошка собирает капли воды в свою маленькую кошачью ладонь и смотрит, как они струятся: так могла бы играть со своими бусами девушка… А вот Кот, который, успев забыть, что такое дождь, пока ещё его не узнаёт. Он изучает его, сидя па пороге, и по шерсти у него пробегает дрожь. На его чистом и глупом лице начинает появляться неопределённая улыбка. Если бы ненастье ещё продлилось, он бы непременно воскликнул, сияя от самодовольства: «Я понял! Я вспоминаю! Дождь идёт». А его дочь, эта бескостная дылда, которую в память о времени, когда ей было шесть недель, зовут Крошечкой, охотится независимо от того, идёт ли дождь или светит солнце. Она отягощена убийствами и по характеру не слишком общительна. Её шерсть, более светлая, чем то позволительно при её голубых кровях, напоминает белоснежное желе на черепичной крыше. За ней тянется хмельной запах птичьей крови, мятой травы, нагретого чердака, и собственная мать отстраняется от неё, как от лисы.
Достаточно мне перестать писать всего на одну неделю, как моя рука от письма отвыкает. Вот уже дней восемь или десять – как раз со времени отъезда Вьяля – у меня много работы… правильнее будет написать: я много работала. Я углубила, вычистила проходящую посредине канаву, которая отводит лишние зимние воды. «Гля, сейчас же не сезон!» – упрекала меня Дивина. Надо упомянуть и об утомительной прополке в твёрдой земле, и о мытье оплетённых стеклянных бутылей. Кроме того, я смазала маслом, начистила наждаком ножницы для сбора винограда. Три дня сильной жары продержали нас у моря и в море, позволив насладиться счастьем в его короткой, тяжёлой, свежей зыби. Едва высохнув, наши руки и ноги покрывались инеем мелкой соли. Однако, испытывая уколы солнца и покоряясь ему, мы чувствуем, что целится оно в нас уже из других точек неба. На заре теперь уже не эвкалипт, стоящий перед моим окном, делит надвое первый сегмент выходящего из моря солнца, а соседняя с эвкалиптом сосна. Сколько нас таких, наблюдающих за появлением дня? Это старение светила, которое каждое утро укорачивает свой ход, по-прежнему несёт в себе тайну. А моим парижским друзьям и тем парижанам, которые моими друзьями не являются, хватает и того, что закат надолго заполняет небо, занимает и увенчивает вторую половину дня…
Нужно ли здесь говорить о двух экскурсиях, в которые мы веселой оравой с удовольствием отправлялись и откуда с ещё большим удовольствием возвращались? Я люблю старые провансальские деревни, которые облегают вершины своих холмов. Развалины там сухие, здоровые, лишённые травы и зелёной плесени, и только плющевидная герань с розовыми цветами свешивается из чёрного зияющего уха какой-нибудь башни. Однако летом я быстро устаю, когда углубляюсь в сушу; очень скоро я начинаю тосковать по морю, по негибкому горизонтальному шву, соединяющему голубое с голубым…
Вот, мне кажется, и всё. Вы находите, что этого мало? Возможно, вы не ошибаетесь. Возможно, я не в состоянии нарисовать вам то, что и сама не различаю отчётливо. Иногда я смешиваю тишину и громкий внутренний шорох, усталость и блаженство, а сожаление почти всегда вырывает у меня улыбку. Со времени отъезда Вьяля я старательно упражняюсь в безмятежности и поставляю для неё, естественно, только материалы благородного происхождения, одни из которых беру в совсем недавнем прошлом, другие – в моём настоящем, которое просветляет, а лучшие – я их выпрашиваю у тебя, моя самая дорогая. Так что у моей безмятежности, сооружённой без участия стихийного гения, выражение лица получается не то чтобы неестественное, но оно выдаёт усилие, как те произведения, куда вкладывают слишком много рассудка. Я закричала бы ей: «Ну же! Напейся! Спотыкайся!», если бы была уверена, что опьянение будет весёлым. Когда Вьяль был здесь, два лета подряд, его присутствие… Нет, разговор о нём у меня не получится. Заботу похвалить Вьяля. которого ты не знала, я поручаю тебе, моя деликатная спутница.
«Я с тобой расстаюсь, чтобы пойти поиграть в шахматы с моим маленьким торговцем шерстью.
Ты его знаешь. Это тот маленький, толстый, жалкий человек, который весь день уныло торгует пуговицами и шерстью для штопки и не говорит ни слова. Но – о удивление – он искусно играет в шахматы! Мы играем в задней комнате его лавчонки, где есть печка, кресло, которое он пододвигает ко мне, а на окне, которое выходит во дворик, два горшка очень красивой герани, той непостижимой герани, которая встречается в бедных жилищах и у дежурных по переезду. Мне никогда не удавалось вырастить такие же, хотя я даю им и воздух, и чистую воду, выполняю все их капризы. Так вот, я очень часто хожу играть к моему маленькому торговцу шерстью. А он преданно меня ждёт. Он каждый раз меня спрашивает, хочу ли я чашку чая, потому что я «дама», а чай является напитком изысканным. Мы играем, а я думаю о том, что живёт в заточении в нём, маленьком толстом человеке. Кто и когда узнает это? Я становлюсь любопытной. Однако смиряюсь с тем, что никогда этого не узнаю, и нахожу своё утешение в том, что оно есть и знаю о нём лишь я одна».
Вкус, способность находить спрятанное сокровище… Будучи искательницей подземных родников, она сразу направлялась к тому, что обладает лишь потаённым блеском, к дремлющим рудным жилам, к сердцам, у которых отняли все шансы расцвести. Она прислушивалась к всхлипыванию струи, к долгому подземному приливу, к вздоху…
Уж она бы не спросила так прямолинейно: «Вьяль, так ты, значит, испытываешь ко мне привязанность?» Подобные слова портят всё… Это что, раскаяние? Этот заурядный юноша?.. В любви нет никаких каст. Разве спрашивают какого-нибудь героя: «Маленький торговец шерстью, вы меня любите?» Кто же подгоняет ход всех событий, с такой поспешностью добиваясь их свершения? Когда маленькой девочкой я вставала часов в семь, восхищаясь тем, что солнце находится низко, что ласточки ещё сидят рядочком на кровельном жёлобе и что ореховое дерево подобрало под себя свою ледяную тень, то слышала, как моя мать кричит: «Семь часов! Боже мой, как уже поздно!» Неужели я так никогда и не стану вровень с ней? Она парит свободно и высоко, говорит о постоянной, редкостной любви: «Какое легкомыслие!», а потом не изволит объясниться поподробнее. А я – понимай. Я делаю что могу. Уже давно бы пора подступиться к ней иначе, чем через мою привязанность к трудам, лишённым и срочности, и величия, пора бы преодолеть то, что мы, непочтительные дети, когда-то называли «культом голубой кастрюльки». Ей было бы недостаточно – и мне тоже – осознавать, что иначе я созерцаю и ласкаю всё, что проходит через мои руки. Бывают дни, когда что-то выталкивает меня прочь из самой себя, чтобы я могла радушно принять тех, кто, уступив мне своё место на земле, казалось бы, навсегда погрузились в смерть. Накатывает волна ярости, вздымающаяся во мне и управляющая мной подобно чувственному наслаждению: вот мой отец, его протянутая к клинкам белая рука итальянца, сжимающая кинжал с пружиной, который его никогда не покидал. И опять мой отец, и ревность, которая делала меня когда-то такой несносной… След в след я послушно повторяю те навеки остановившиеся шаги, которыми отмечен путь из сада в погреб, из погреба к насосу, от насоса к большому креслу, заваленному подушками, растрёпанными книгами, газетами. На этом истоптанном пути, освещённом косым и низким лучом, первым дневным лучом, я надеюсь понять, почему маленькому торговцу шерстью – я хочу сказать: Вьялю, но ведь это всё тот же идеальный любовник – никогда не следует задавать одного вопроса и почему истинное имя любви, которая раздвигает и преодолевает всё на своём пути, звучит как «легкомыслие».
Я вспоминаю, как однажды вечером – почти неделю назад, это был вечер, когда Элен привезла меня с танцев, – мне показалось, что я оставила на дороге, в руках тени Элен, обхватившей плечи моей тени, остаток некоего долга, который предназначался не совсем ей, но от которого мне нужно было избавиться: прежние рефлексы, рабские привычки, безобидные заблуждения…
Как только Элен уехала, я открыла калитку, соединяющую двор с виноградником, и позвала своих: «Эй, вы!» Они прибежали, омываемые лунным светом, насыщенные бальзамами, которые они берут у жемчужин смолы, у мохнатых листьев мяты, обожествлённые ночью, и я снова, в который раз, удивилась, что они, такие свободные и такие прекрасные, принадлежащие самим себе и этому ночному часу, считают нужным прибежать на мой голос…
Потом я устроила суку в её ящик открытого комода, установила перед собой, на кровати, столик для игры в бассет с резиновыми наконечниками на ножках, поправила фарфоровый абажур, чей зелёный свет издалека отвечал красной лампе, которую Вьяль зажигал в «кубике».
– Вы, – шутил Вьяль, – это огонь правого борта, а я – левого.
– Да, – отвечала я, – мы никогда не смотрим друг на друга.
Потом я сняла колпачок с золотого, отшлифованного пера одной из моих авторучек, самой быстрой, и ничего не написала. Я ждала, чтобы ночь, теперь уже более длинная, принесла мне покой. Ещё длиннее будет следующая ночь и та, что наступит после неё. По ночам тела становятся менее напряжёнными, их покидает летняя лихорадка. И я себе говорила, что, вверяя себя своему обрамлению, – тёмной ночи, одиночеству, друзьям-животным, большому кругу полей и моря, простирающихся во все стороны, – я отныне становлюсь похожей на ту, кого я описывала много раз, вы знаете, на ту одинокую женщину, прямую, как печальная роза, которая, теряя лепестки, выглядит ещё более гордой. Однако я больше уже не полагаюсь на создаваемое мной самой правдоподобие, поскольку было время, когда, рисуя портрет этой отшельницы, я показывала свою ложь – страницу за страницей – мужчине и спрашивала его: «Ну как, хорошо соврала?» И смеялась, отыскивала лбом плечо мужчины под его ухом, покусывала ухо, поскольку неистребимо верила, что соврала… Кусала упругий, прохладный кончик уха, упиралась лбом в плечо, тихо-тихо смеялась. «Ты ведь здесь, правда, ты ведь здесь?» Уже тогда я владела лишь обманчивой реальностью. Зачем ему было оставаться? Я ему внушала доверие. Он знал, что меня можно оставить одну со спичками, газом и огнестрельным оружием.
Пропела свою мелодию решётка. По аллее, где дымится, соприкасаясь с горячей землёй, упавшая с неба влага, к моему дому идёт молодая женщина, встряхивая на пути большие плакучие перья мимозы.
Это Элен. После отъезда Вьяля она больше не присоединяется к нам во время утреннего купания, где, несмотря на моё покровительство, она встречает холодные взгляды, так как среди моих друзей есть люди, наделённые опасным чистосердечием, которые, обладая способностью улавливать движение мыслей, плохо воспринимают звуки слов.
Элен скоро уезжает в Париж. Когда я сообщила эту новость, мне ответил один только слабый голосок Моранж:
– А! тем лучше, эта дылда!.. Я её не люблю, она нехорошая.
Я стала настаивать, чтобы узнать о причине столь живой антипатии.
– Нет, она нехорошая, – сказала Моранж. – А доказательство в том, что я её не люблю.
К вечеру поднялся сильный ветер. Он высушил оставленную дождём воду, унёс толстые рыхлые бурдюки раздувшихся облаков с благотворной влагой. Он дует с севера, рассказывает о засухе, о дальних снегах, о суровом времени года, пока невидимом, но уже обосновавшемся там, наверху, в Альпах.
Животные сидят и с важным видом наблюдают, как он дует и дует непрестанно за чёрным окном… Может быть, они размышляют о зиме. Это первый вечер, когда мы собрались в таком узком кругу. Когда я возвратилась, кошки ждали меня под навесом из тростника. Я ужинала у соседей напротив – молодой пары, которая строит своё гнездо с религиозной серьёзностью. Они пока ещё столь взволнованы своим новым достоянием, что я тороплюсь оставить их одних, чтобы, проводив меня, они могли вновь заняться подсчётом своих приобретённых сокровищ и пытать своё счастье в трепетных вожделениях. После ужина к ним в низкий зал с потолком из толстых балок приносят пустую колыбель, которую наполняют сделанным по её размерам круглым и розовым, как редиска, младенцем. Так я узнаю, что уже десять часов, и возвращаюсь к себе.
Сегодня днём Элен оставалась недолго. Она пришла сообщить мне, что отправляется в путь, как она сказала, в своей сорокасильной машине, вместе с подругой, которая может сменить её за рулём и поставить новое колесо.
– Вьяль, госпожа Колетт, не выезжает из Парижа. Он работает как лошадь над своим большим делом для «Катр Картье»… У меня собственная полиция, – добавила она.
– Не слишком с полицией, Элен, не слишком…
– Не беспокойтесь! Моя полиция – это папа, он помогает Вьялю на некоторых непроторённых дорожках… Этой зимой, если правительство не сменится, папа понадобится Вьялю, потому что папа приятель министра ещё по коллежу… Главное только, чтобы правительство не сменилось раньше, чем «Катр Картье» назначит Вьяля управляющим своими мастерскими…
Она мне сжала руки, и у неё вырвалась страстная фраза:
– Ах! мадам, я так бы хотела ему помочь!
Она получит Вьяля. В эти последние дни я попыталась посоветовать ей осторожность в преследовании – думала я при этом о «достоинстве», а вовсе не об «осторожности» – и иной стратегический стиль. Однако она отмела мои советы широким жестом своей обнажённой руки, уверенно, энергично кивая головой. Тогда я увидела, что до этого я ничего не понимала. У неё такая манера говорить мне: «Не беспокойтесь!», где присутствуют и нежность, и чувство превосходства. Ещё немного, и она бы добавила: «Поскольку теперь вас уже по соседству с Вьялем нет, я займусь этим делом сама».
Последние две-три недели я иногда тешила свою гордыню мыслью о том, что если бы захотела, то могла бы ей навредить. «А мог бы и получить», – глухо говорил Вьяль. Оба мы только хвастались. А Элен получит Вьяля, и это будет справедливо – разве не собиралась моя рука написать: и это будет умело сделано?..
Снаружи дует ветер без единой капли влаги. Из-за этого я потеряю остаток своих груш, а вот налившимся гроздьям винограда до мистраля нет дела. «Не унаследовала ли ты мою любовь к бурям и всем катаклизмам природы?» – писала мне моя мать. Нет. Ветер обычно охлаждает мои мысли, отвращает меня от настоящего и всегда без исключения обращает мой взгляд к прошлому. Однако сегодня вечером настоящее не соединяется полюбовно с моим прошлым. После отъезда Вьяля мне необходимо снова запасаться терпением, идти вперёд не оглядываясь, а обернуться назад можно будет лишь по здравому размышлению месяцев через шесть, недели через три… Как, столько предосторожностей? Да, столько предосторожностей, и страх перед любой спешкой, и медленный химический процесс – позаботимся о почвах, где выросли мои воспоминания.
Когда-нибудь, глядя со стороны, я увижу, как вдыхаю где-то в прошлом воздух любви, и буду восхищаться великими смутами, войнами, праздниками, моментами одиночества… Терпкий апрель, его лихорадочный ветер, его пчела, завязшая в клею коричневой почки, его запах цветущего абрикоса, и вот передо мной стоит коленопреклонённая сама весна, какой она вторглась в мою жизнь: танцующая, плачущая, безрассудная, колющаяся о собственные шипы… Но, может быть, я подумаю: «У меня было нечто лучшее. У меня был Вьяль».
Вы удивитесь: «Как, этот маленький человек, который произнёс три слова и ушёл? Право же, осмелиться сравнить этого маленького человека с…» Об этом не спорят. Когда вы расхваливаете матери красоту одной из её дочерей, она внутренне улыбается, потому что думает, что самая некрасивая как раз и есть самая миловидная. Я не воспеваю Вьяля в лирическом стиле, я о нём сожалею. Да, я о нём сожалею. У меня появится желание его возвеличить, когда я буду меньше о нём сожалеть. Он спустится – моя память тогда уже завершит свой причудливый труд, который зачастую отнимает у чудовища его горб, его рог, стирает гору, оказывает честь соломинке, усику, отблеску – он спустится и займёт своё место в тех глубинах, куда любовь, эта пена на поверхности, по-прежнему не имеет доступа.
Тогда я подумаю о нём, повторяя себе, что я от него отказалась, что отдала Вьяля одной молодой женщине, сделав, честное слово, красивый жест, в котором были и блеск, и расточительность. Уже сейчас, перечитывая то, что написала почти три недели назад, я нахожу, что Вьяль там нарисован плохо, с той точностью, которая обедняет его облик. На протяжении последних дней я много думала о Вьяле. Сегодня я думаю гораздо больше о себе, потому что я о нём сожалею… О, дорогой мужчина, наша трудная дружба всё ещё неустойчива, какое счастье!..
Позволь мне, моя самая дорогая, ещё раз издать свой крик… Какое счастье! Исполнено, я умолкаю. И ты должна призвать меня к молчанию. Говори, уже готовая умереть, говори во имя твоих непреклонных правил, во имя той единственной добродетели, которую ты называла «настоящим комильфо».
«И вправду, я тебя обманула, чтобы иметь возможность пожить спокойно. Старая Жозефина не ночует в маленьком домике. Я там сплю одна. Пощадите меня, все вы! Ни ты, ни твой брат не рассказывайте мне больше всяких историй про взломщиков и злонамеренных прохожих. Что касается ночных визитов, то есть лишь одна посетительница, которая должна переступить мой порог, и вы это прекрасно знаете. Подарите мне собаку, если вам так хочется. Да, собака, это ещё куда ни шло. Но только не заставляйте меня запираться на ночь с кем-то ещё! Я дожила до того, что больше не переношу, чтобы в моём доме спал кто-либо из людей, если это человеческое существо не создано мной самой. Мне это запрещает моя мораль. Это уж последний из разводов, когда приходится гнать из своего дома, особенно из маленького жилья со смятой постелью, с туалетным, ведром, чью-то тень – мужчины ли, женщины – в ночной рубашке. Тьфу! Нет, нет, больше никакого общества на ночь, никакого чужого дыхания, никакого унизительного одновременного пробуждения! Я предпочитаю умереть, это более достойно.
А сделав этот выбор, я всецело предаюсь кокетству. Ты припоминаешь, что в ту пору, когда мне делали операцию, я попросила сделать два больших постельных халата из белой фланели? А сейчас из этих двух я только что сделала один. А зачем? Да чтобы быть в нём похороненной. У него есть капюшон, украшенный вокруг кружевом настоящим кружевом из нити, – ты же знаешь, что я терпеть не могу прикасаться к хлопчатобумажному кружеву. Такое же кружево на рукавах и вокруг воротника (здесь есть и воротник). Этот вид предусмотрительности входит в моё представление о строгом комильфо. У меня и так уже было немало причин для сожалений, когда Виктор Консидеран счёл нужным отдать моей свояченице Каро великолепный гроб из чёрного дерева с серебряными ручками, который он заказывал по меркам для своей собственной жены. А та распухла и в нём не поместилась. И моя дурёха Каро, испугавшись такого подарка, отдала его своей домашней работнице. И почему только она не отдала его мне? Я люблю роскошь, и ты представляешь, как бы хорошо я в нём расположилась? Пусть тебя не слишком впечатляет это письмо, оно написано в своё время, и оно именно такое, каким и должно быть.
Сколько у меня ещё осталось шахматных партий? Я ведь всё ещё играю время от времени с моим маленьким торговцем шерстью. Ничего не изменилось, если не считать, что теперь хуже играю я, а не он, и проигрываю. Когда я стану совсем уж немощной и неуклюжей, я откажусь от этого, как отказываюсь от остального, просто из благопристойности».
Это полезно – получить подобный урок выправки. Какой тон! Мне кажется, что он звучит у меня в ушах, и я выпрямляюсь. Беги же, мой фаворит! И появляйся вновь лишь неузнаваемым. Прыгай в окно и, касаясь земли, меняй форму, цвети, лети, звени… Тебе сто раз удалось бы ввести в заблуждение меня, прежде чем обмануть её, и всё же отбывай своё наказание, отбрасывай свою кожу. Когда ты ко мне вернёшься, нужно, чтобы, по примеру моей матери, я могла тебя тоже назвать твоим именем «Розового кактуса» или не знаю какого другого с трудом расцветающего цветка в форме пламени, твоим будущим именем существа, освобождённого от злых чар.
Письмо, которое я только что скопировала, она написала, ещё свободно владея рукой. Её острые перья царапали бумагу, и при письме она производила много шума. Шум этого письма, где она защищалась – где она нас защищала – против тюрьмы, болезни и бесстыдства, – должен был наполнять её комнату царапаньем разъярённых лап насекомого. И всё же в конце строчек последние слова спускаются, притягиваемые невидимым склоном. Такая отважная, она всё же боится. Она думает об ужасной зависимости, о всех видах зависимости; она берёт на себя труд меня предостеречь… На следующий день другое письмо от неё мне деликатно подсказывает какие-то компенсации, какие-то размены: но нотацией следует очаровательная история про овсюг, у которого устремлённая направо и налево ось предсказывает погоду. Она воодушевляется, вспоминая о визите, который ей нанесла во время одного из приступов нездоровой, отравленной дигиталисом дремоты её внучка Г.
«…Восемь лет, её чёрные волосы все спутаны, так как она бежала, чтобы принести розу. Она стояла на пороге моей комнаты столь же напуганная моим пробуждением, как и моим сном. До самой смерти я не увижу ничего более прекрасного, чем этот озадаченный ребёнок, которому хотелось плакать и который протягивал розу».
Кто же из нас двоих лучший писатель? Не очевидно ли, что именно она.
Наступает заря, ветер стихает. Из вчерашнего дождя в тени родился новый аромат, а может быть, это я в который уже раз вновь открываю мир и накладываю на него новые ощущения?.. Это ведь не так уж чрезмерно – рождаться и созидать каждый день. Рука цвета бронзы, вся холодная от волнения, бежит, останавливается, зачёркивает, снова начинает движение, холодная от юного волнения. Не хотела ли скупая любовь в последний раз наполнить пригоршни маленьким заскорузлым сокровищем? Теперь я буду собирать только охапки. Большие охапки ветра, раскрашенных атомов, щедрой пустоты, которые я буду с гордостью сваливать в гумно…
Наступает заря. Принято считать, что ни один демон не может выдержать её присутствия, её бледности, её голубоватого скольжения; но никогда не говорят о прозрачных демонах, которые любовно приносят её с собой. Прощальный голубой цвет, приглушённый, размытый водяными парами, проникает вместе с туманом. Мне нужно мало сна; вот уже несколько недель мне хватает послеобеденного отдыха. Когда тяга ко сну меня охватит вновь, я буду спать неистово и как пьяная. Мне надо только подождать, пока восстановится прервавшийся на некоторое время ритм. Ждать, ждать… Этому обучаются в хорошей школе, где преподают также великую элегантность нравов – высший шик умения – отклонять…
Этому обучаешь ты, к которой я беспрестанно обращаюсь… Одно письмо, последнее, пришло сразу вслед за смеющимся посланием, где ты рассказываешь про гроб из чёрного дерева… Ах! спрячем под последним письмом образ, который мне не хочется видеть: наполовину обнажённая голова, которая поворачивала на подушке так и сяк свою сухую шею и своё нетерпение коротко привязанной козы… В последнем письме моя мать, очевидно, хотела меня уверить, что она уже рассталась с необходимостью пользоваться нашей речью. На двух набросанных карандашом листках нет ничего, кроме кажущихся весёлыми знаков, стрел, отходящих от лишь намеченного слова, маленьких лучей, двух: «да, да» и одного очень отчётливого: «она танцевала». Она также написала ниже: «моя любовь» – так она называла меня, когда наши разлуки оказывались долгими и когда она по мне скучала. Однако на этот раз я не решаюсь требовать для себя одной такое пламенеющее слово. Оно занимает своё место среди линий, плетений ласточкина полёта, завитков растений, среди вестей, посланных рукой, которая пыталась мне передать новый алфавит или набросок ландшафта, мельком замеченного на заре в лучах, которым совсем не дано достигнуть мрачного зенита. Поэтому, вместо того чтобы смотреть на это письмо как на неясный бред, я читаю его как один из тех загадочных пейзажей, на которых игры ради лицо спрятано в листве, рука – между двумя ветками, торс – под грудой скал…
В мою комнату проник холодный голубой цвет, увлекая с собой искажающую его очень слабую примесь телесного цвета. Струящаяся влагой, напряжённая, вырванная у ночи, это она – заря. Завтра этот же час станет свидетелем того, как я, срезая первые грозди, начинаю уборку винограда. Послезавтра, опережая этот час, я хочу… Не так скоро, не так скоро! Пусть оно наберётся терпения, жгучее желание застать тот момент, который рождает день: выпрыгнувший из окна сомнительный друг всё ещё скитается. Коснувшись земли, он не отказался от своей формы. Ему не хватило времени, чтобы стать совершенным. Но стоит только мне прийти ему на помощь, и вот он уже – чаща, водяная пыль, метеоры, открытая безграничная книга, гроздь, корабль, оазис…
Примечания
1
По-французски «одинокий» – solitaire. Это слово обозначает также крупный бриллиант – солитер.
(обратно)

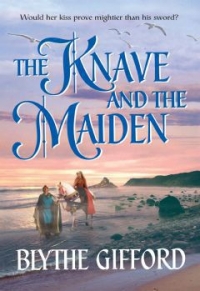

Комментарии к книге «Рождение дня», Сидони-Габриель Колетт
Всего 0 комментариев