Эптон Билл Синклер Замужество Сильвии
КНИГА ПЕРВАЯ
Я хочу рассказать историю Сильвии Кассельмен. При этом предпочла бы совсем не упоминать о себе, но в книге судеб было написано, что я сыграю решающую роль в ее жизни, и поэтому ее история неразрывно связана с моей. Представляю себе нетерпение читателя, которому вместо описания жизни героини из романтического и блестящего светского общества приходится начать с автобиографии скромной жены фермера из уединенного уголка Манитобы. Но ведь Сильвия находила меня интересной! И вот, припоминая ее нетерпеливые вопросы и восклицания, я готова сама почувствовать себя героиней романа.
Для Сильвии я была каким-то неизвестным ей существом, женщиной, которая сама пробила себе дорогу в жизни. Я, по всей вероятности, была первой простой женщиной, которую она близко узнала. До тех пор она видела таких только издали и удивлялась нашему существованию, утешая себя мыслью, что мы, должно быть, сами не сознаем всей горечи своей доли. Но тут она встретилась со мной и убедилась, что в духовном отношении мы ничем не отличаемся друг от друга. Оказалось даже, что в некоторых вопросах я более осведомлена, чем она, и как раз в тех самых вопросах, которые мучили ее страстную натуру. Поэтому вся роскошь, власть и светский престиж, которыми судьба наградила Сильвию Кассельмен, померкли перед Мэри Аббот с ее взглядами современной женщины и здравым смыслом.
Я провела свою юность на ферме в Айове. У моего отца было восемь человек детей, и он сильно пил. Иногда под пьяную руку он поколачивал меня, и поэтому, когда мне минуло семнадцать лет, я убежала с двадцатилетним юношей, который работал на соседней ферме. Мне хотелось иметь свой угол, а у Тома были кое-какие сбережения. Мы отправились в штат Манитоба и обосновались там на ферме, где я и провела последующие двадцать лет своей жизни в беспрерывной упорной борьбе за существование. Когда я рассказывала Сильвии об этом периоде моей жизни, то ей она казалась просто невероятной.
Человек, за которого я вышла замуж, оказался мелочным тираном. В течение первых же пяти лет нашей совместной жизни он убил во мне всякую любовь к себе. Но за это же время я родила ему троих детей, и мне не оставалось ничего другого, как примириться со своей участью. По внешнему виду я превратилась в забитую рабу, но в душе ни на минуту не теряла надежды на освобождение. И, когда во время четвертой беременности у меня случился выкидыш и доктор объявил, что я не смогу больше иметь детей, я увидела в этом приговоре как бы освободительную грамоту и приняла непоколебимое решение: я воспитаю своих детей, сама буду развиваться вместе с ними и вместе с ними начну новую жизнь.
Все это я обдумала, работая по восемнадцать часов в сутки при свете лампы, во мгле наших северных зим. Несчастье случилось, когда я стряпала для батраков, работавших на пшеничном поле, от которого зависело все наше благополучие. Я поскользнулась и потеряла своего ребенка. Однако, несмотря на страдания, я тихо высидела, пока мужчины съели ужин, а затем перемыла посуду. Такова была моя жизнь в те дни, и я, как сейчас, вижу ужас, написанный на лице Сильвии, когда она слушала мой рассказ. Но такие вещи часто случаются в жизни женщин, ведущих хозяйство на дальних фермах, где они тяжко трудятся с тех самых пор, как там зародилась цивилизация.
Дела наши шли хорошо, и мой муж сделал накопления. Я напрягала все свои силы, чтобы дать детям возможность посещать школу. Я не хотела, чтобы они переросли меня в умственном отношении, и просиживала сама целые ночи, перечитывая их учебники. Когда старший мальчик оказался подготовленным к высшей школе, мы перебрались в город, где мой муж начал хлебное дело. К тому времени я превратилась уже в настоящего инвалида, и список моих болезней занял бы чересчур много места, если бы я вздумала привести его. Но я по-прежнему стремилась к знаниям, и болезнь была моим спасением: благодаря ей я могла держать прислугу и посвящать свободное время чтению книг из библиотеки.
У меня никогда не было никаких суеверий или предрассудков, и потому, проникнув в мир книг, я быстро нашла в нем свою дорогу. Конечно, вначале мне пришлось немало поблуждать, я плохо разбиралась в богословии и не умела дать решительный отпор идеологам «новый мысли». У меня и по сию пору сохранились кое-какие странности, которые читатель, без сомнения, назовет «заскоками». Так, например, я и сейчас верю в некое «духовное исцеление» и не всегда решусь высказать свои задушевные мысли о теософии и спиритуализме. Но тем не менее я почти сразу отказалась от религии, в которой меня воспитали, от политических взглядов моего мужа и от лекарств, которыми меня пичкали доктора. Первое, с чем я поспешила познакомиться, были вопросы здоровья и гигиены. Мне попалась книга о лечении голодом; я отправилась погостить к знакомым и попробовала этот метод на себе. После этого я вернулась домой совершенно новым человеком, перед которым открывалась неизведанная жизнь.
Но муж на каждом шагу старался ставить мне палки в колеса. Он хотел властвовать не только над моим телом, но и над моей душой, и всякое вновь приобретенное мной знание он воспринимал чуть ли не как личное оскорбление. Не думаю, чтобы образование делало меня неприятнее, чем я была раньше; единственное, на чем я твердо настаивала, – это чтобы детям была предоставлена возможность свободно развиваться и иметь свои взгляды.
Однако в этот период мой муж был занят главным образом тем, что усиленно наживал деньги, и это целиком наполняло его жизнь. Во всех его делах сказывалась психология зажиточного человека, деятельного и неутомимого лидера той группы общественных сил, которая видит перед собой только одну цель – накопление. И когда усиленные занятия привели меня к неизбежному результату и я вступила в местную организацию социалистической партии, то это подействовало на него, как пощечина. Он никогда не мог примириться с этим «позором», и, если бы дети не оказались на моей стороне, он воспользовался бы своей привилегией английского мужчины и избил бы меня палкой. Но при сложившихся обстоятельствах ему не оставалось ничего другого, как впасть в мрачную ипохондрию, и я в конце концов научилась смотреть на него, как на человека, не вполне отвечающего за свои поступки.
Я начала посещать городской колледж вместе со своими детьми, и когда они получили ученую степень, я окончательно решила развестись с мужем, убедившись, что не могу доставить ему ничего, кроме мучений. Я помогла ему составить себе состояние, скрепив его фундамент собственной кровью, и имела полное право потребовать себе половину того, что он скопил на ферме. Но отвращение мое к женщине-паразиту было так велико, что я предпочла от всего отказаться, лишь бы только не уподобиться ей. Итак, в сорок пять лет я снова стояла перед дорогой и должна была сама зарабатывать свой хлеб. Мои дети скоро переженились, и я не желала обременять их. Поэтому я отправилась на Восток, рассчитывая побыть там совсем недолго, но совершенно неожиданно устроилась в комитете по охране детского труда.
Вам, разумеется, покажется невероятным, чтобы женщина моего положения могла встретиться с миссис Дуглас ван Тьювер, урожденной Кассельмен, и стать ее ближайшим другом; но это докажет только, что вы не совсем в курсе современных социальных течений. Нам удалось потревожить совесть богатых и знатных, они охотно приглашали нас на вечера, чтобы мы своими речами нарушали там тишину их существования. А кроме того, для Сильвии я имела особую притягательность. Когда мы встретились, я держала в руках ключ к великой тайне ее жизни. Как это произошло – само по себе целая история. Об этом я и расскажу сейчас.
Случилось так, что мой приезд в Нью-Йорк с Дальнего Запада совпал с появлением Сильвии, приехавшей с Юга. И произошли оба эти события в период, когда ни война, ни землетрясения, ни футбольные состязания не привлекали внимания читателей газет, все разговоры вертелись вокруг предстоящей светской свадьбы. Достаточно того, что красавица-южанка выходила за самого блестящего из местных молодых миллионеров, чтобы услужливые газеты наперебой старались облечь фигуру жениха в одежды пылко влюбленного рыцаря. То обстоятельство, что отец невесты был в своем округе богатейшим человеком, нисколько не влияло на них. Да и откуда было знать столичным репортерам о великолепии поместий Кассельменов? Они представить себе не могли, чтобы в Америке мог существовать такой уголок, обитательница которого не сочла бы для себя верхом счастья сделаться миссис Дуглас ван Тьювер.
Издатели, правда, затребовали по телеграфу фотографии Кассельмен Холла, а телеграфное агентство отрядило из ближайшего города человека со специальным поручением во что бы то ни стало снять никому не ведомую красавицу-невесту. Однако отец невесты прогнал дерзкого фотографа и вдребезги разнес тростью его фотографический аппарат. Зато, когда Сильвия вышла из поезда, ее поджидала на платформе целая батарея аппаратов, и на следующий день весь город любовался ее изображением.
Я заинтересовалась этой южной красавицей с того самого момента, когда, раскрыв за утренним чаем газету, увидала ее портрет, смотревший на меня широко раскрытыми по-детски невинными глазами. Она показалась мне ребенком, пришедшим к нам из какого-то иного, прекрасного и светлого мира, сохранив вокруг своего чела лучезарный ореол. Выйдя из вагона и окунувшись в сутолоку грохочущего города, она остановилась изумленная и испуганная, и я тотчас же поняла по ее взгляду, что она знает о его ужасах и пороках не больше грудного младенца. За этой ангельской внешностью скрывалась не менее прекрасная душа, и я не могла оторваться от ее изображения, обомлев от восторга. Я уверена, что даже в этом обиталище Мамоны, каким представлялся мне Нью-Йорк, тысячи людей полюбили ее с первого взгляда на этот снимок и сотворили шепотом молитву за ее счастье.
Когда я пишу эти строки, мне кажется, что я слышу, как она смеется надо мной. Она всегда утверждала, что я просто неравнодушна к ней и что лучезарное сияние, будто бы окружающее ее голову, не более чем театральная иллюзия. Она прекрасно знала, какое впечатление производили эти широко раскрытые невинные глаза. Недаром же Леди Ди, самая циничная из светских женщин, учила ее играть ими, когда Сильвия была еще маленькой девочкой с косичкой за плечами. Она, несомненно, испугалась, когда, выйдя из вагона, увидела вокруг себя толпу чужих людей, защелкавших своими аппаратами под самым ее носом. Я прекрасно понимаю, что это всякого взволновало бы не меньше, чем разбойничье нападение. Что же касается Сильвии, то, увы! Кроме близоруких мужчин и сентиментальных старых женщин, никто, пожалуй, не поверил бы, что нечто подобное может сохраниться в душе современной светской девушки.
Я считала себя эмансипированной женщиной, когда приехала в Нью-Йорк. Но тот, кто отказался от дьявольских соблазнов, будучи знаком с ними только по иллюстрированным журналам и воскресным приложениям, скоро почувствует необходимость прибегнуть к посту и молитве. Для меня лично искушение таилось в этой фотографии будущей новобрачной. Я почувствовала непреодолимое желание увидеть ее и простояла несколько часов в толпе любопытных женщин, чтобы посмотреть, как свадебный кортеж подъедет к церкви на Пятой авеню. Тут я открыла, что у моей Сильвии волосы золотые, а прекрасные глаза редкого рыжевато-коричневого цвета. В этот же момент судьба столкнула меня с Клэр Лепаж и таким образом дала мне возможность заглянуть в будущее Сильвии.
Не знаю, нужно ли мне подробно останавливаться на жизни Клэр Лепаж. Подобные истории часто встречаются на страницах романов известного сорта, а я не гонюсь за подобными дешевыми эффектами. К самой Клэр я отнеслась без всякого предубеждения, не чувствуя к ней ни презрения, ни любопытства. Для меня она была просто продуктом общественного строя, который я изучала в этой великой новой Ниневии. А позднее, узнав ее ближе, я увидела в этой женщине лишь слабую, беспомощную сестру, которой я по мере сил старалась помочь.
В дальнейшем оказалось, что благодаря одной семейной драме я больше осведомлена в некоторых вопросах, чем обыкновенная женщина. Когда мне было двадцать пять лет, мой деверь переехал со своей семьей в наши края, и я очень привязалась к одному из его сыновей. Много времени спустя с этим юношей приключилась беда, и он, скрыв это от всех, застрелился.
Таким образом, мне стало известно многое такое, что обычно держится в тайне от нас, женщин. Имея в виду благо своих собственных сыновей, я принялась изучать скрытые черты мужского характера. У меня развилась странная привычка копаться в самых сокровенных тайниках мужской души и заставлять каждого мужчину обнажать передо мной свою внутреннюю жизнь. Теперь вы понимаете, что, столкнувшись со мной, Клэр Лепаж попала в не совсем обыкновенные руки.
В самом начале я объясняла ее пороки влиянием среды, но вскоре поняла свою ошибку. Не все женщины ее круга падали так низко. Многие из них, как я убедилась потом, делались свободными, независимыми женщинами, а одна или две, которых я знала, оказались вполне интеллигентными и интересными личностями. В большинстве случаев женщины ее уровня, с точки зрения света, удачно выходили замуж и жили так же хорошо, как и те, которые с самого начала страхуют свое жизненное благополучие браком.
Если бы вы встретили Клэр в начале ее «карьеры» и если бы она захотела вам понравиться, вы нашли бы ее очаровательной. Она происходила из хорошей семьи, воспитывалась в монастыре и вообще была много образованнее большинства светских американок. По-английски она говорила так же свободно, как по-французски, была знакома с литературой и могла при случае прикинуться идеалисткой. Она не была лишена некоторой религиозности, умела поговорить о возвышенных вещах и сама глубоко верила в искренность чувств. И прошло бы, без сомнения, немало времени, прежде чем вы сумели бы обнаружить ее слабости.
Вначале я осуждала ван Тьювера, но под конец пришла к убеждению, что большую часть невзгод она навлекла на себя сама, а может быть, виноваты в этом были ее предки, передавшие ей некоторые наследственные черты характера. Она могла говорить самые благородные вещи и поступать, как самая низкая тварь. Я никогда не встречала женщины, в которой уживалось бы столько противоречий. Она жаждала приятных ощущений и ожидала, что жизнь будет постоянно доставлять ей их. Она инстинктивно постигала психологию человека, с которым имела дело, и не останавливалась ни перед чем, лишь бы произвести на него впечатление.
В то время я, разумеется, еще ничего не знала ни о Сильвии Кассельмен, ни о ее женихе, кроме того, что было известно всем. Но тут я заглянула вдруг в самую глубь их существования – и в какую глубь! В одной из газет мне попалось описание того, как Дуглас ван Тьювер встретился с несравненной красавицей, жемчужиной Юга, и, бросив Гарвардский университет, отправился следом за ней до самого ее дома. Я рисовала себе это приключение в романтическом свете и была уверена, что тут действовало большое неподдельное чувство. И вдруг я заглянула в душу этого влюбленного принца.
– Он здорово трусит, уж поверьте мне, – сказала Клэр. – Он никогда не был уверен в том, что я могу сделать через минуту.
– А видел он вас в толпе перед церковью? – осведомилась я.
– Нет, – ответила она, – но он подумал обо мне, будьте спокойны.
– Он знал, что вы придете?
– Я сказала ему, – ответила она, – что раздобыла пригласительный билет. Нарочно сказала, чтобы он все время помнил обо мне…
Мне не нужно было выслушивать до конца историю Клэр, чтобы составить себе мнение об этом молодом человеке. Я поняла, что Дуглас ван Тьювер, один из самых богатых и видных женихов Нью-Йорка, не более чем черствый эгоист. Он страстно влюбился в несравненную красавицу, и, когда та отвергла его, он обратился за утешением к другой женщине и заставил ее притворяться, будто она сочувствует его душевным мукам. А между тем он знал, что она любила его со всей силой своей ревнивой и страстной натуры.
У Клэр было свое собственное мнение о Сильвии Кассельмен, мнение, к которому я, разумеется, отнеслась с некоторым предубеждением. По ее словам, Сильвия была ловкая интриганка. Она с самого начала знала, чего она добивается, и мастерски разыграла свою роль. А тем временем она, Клэр, бродила в темноте, пытаясь победить ее своим слабым оружием. Характерно, что она нисколько не обвиняла себя за эту ошибку. Всему причиной были низость ван Тьювера, его неспособность оценить истинное чувство и то, что он не стоил ее любви. Она изложила мне это, наивно рассказав сначала о том, как пыталась настроить ван Тьювера против Сильвии, притворно восхищаясь ею. Но я в этот момент отнеслась к Клэр снисходительно, находя, что обстоятельства подвергли слишком жестокому испытанию ее женский альтруизм.
Однако все ухищрения Клэр не привели ни к чему, и между обеими соперницами разгорелась жестокая борьба. По словам Клэр, хитрая интриганка Сильвия сделала вид, что смягчилась, ван Тьювер снова помчался на Юг, окрыленный надеждами, а Клэр осталась дома и погрузилась в изучение книги об отравителях итальянского Ренессанса. Вскоре последовало объявление о помолвке, а вслед за тем доблестный завоеватель в панике примчался обратно и стал засылать к Клэр своих приятелей для дипломатических переговоров. Он то сулил ей золотые горы, то грозил полным разорением, старался возбудить в ней то страх, то ненависть и даже взывал к ее любви.
Слушая эти излияния, я все время видела перед собой широко раскрытые невинные глаза, сразу очаровавшие меня на портрете, и в душе проливала слезы. Должно быть, нечто подобное испытывают боги, взирая с небес на жизнь смертных и видя, как они губят себя по собственному невежеству и безумию, точно слепцы, смело заносящие ногу над пропастью.
Я, конечно, оценила по достоинству язвительность Клэр. Однако могло быть и так, что эта воплощенная невинность действительно расставила ловушку ван Тьюверу, поймала его и вышла за него ради денег. Но, даже допустив это, я продолжала надеяться, что она сама не знала, что творила. В то время как она торжествовала свою победу, ей, должно быть, и в голову не приходило, что рядом с ней неизменно будет находиться тень другой женщины.
Клэр не один, а по крайней мере десять раз повторила мне:
– Увидите, что он вернется к своей Клэр. Другая не сумеет сделать его счастливым.
А я думала о том, что Сильвию во время ее медового месяца будет неотступно преследовать невидимый призрак, но она никогда не услышит его голоса, никогда не узнает его имени. Все, что ван Тьювер вынес от близости с Клэр, – чувственность, пресыщение, презрение к женщине – все это будет терзать и пугать его молодую жену, отравляя ей жизнь. Я не решалась заглядывать дальше в те бездны, куда не проникло даже мое воображение и о которых француженка, несмотря на всю свою смелость, говорила лишь намеками, часто непонятными для меня.
Клэр Лепаж чувствовала себя в то время глубоко несчастной и одинокой. Убедившись в том, что мои руки, привыкшие к мужскому труду, представляют собой надежную опору, она уцепилась за них. Она умоляла меня проводить ее домой, прийти к ней в гости, наконец, поселиться с ней. До этого времени она жила с одной из своих подруг, пожилой женщиной, которую она выдавала за свою тетку. Таким образом, Клэр не нарушала приличий во время пребывания на яхте ван Тьювера и в его замке в Шотландии. Но подруга эта умерла, и у Клэр не осталось никого, с кем бы она могла поделиться своими горестями.
Имея годовой доход в восемь тысяч долларов, она занимала великолепный особняк в западной части города, недалеко от набережной. Но денег не хватало не только на шофера, но даже на то, чтобы прилично одеваться, и ей приходилось влезать в долги. Тем не менее она готова была разделить со мной все, что имела. Передо мной открылась новая профессия, и я познакомилась с новой формой паразитизма.
Я часто навещала ее в начале нашего знакомства, отчасти потому, что меня интересовала она сама и ее друзья, отчасти потому, что я искренно надеялась помочь ей. Но я очень скоро поняла, что пытаться повлиять на Клэр – все равно что толочь воду в ступе. Когда я рассказывала ей, например, о разрушительном действии алкоголя, она соглашалась со мной, обещая в будущем быть умереннее. Но уже при следующем свидании я убеждалась, что все мои доводы испарились из ее головы, как дым. В то время я готовилась к работе на Востоке и попробовала заинтересовать ее такими предметами, как социальная реформа, но все это были для нее пустые слова. Она жила жизнью праздных искателей удовольствий, каких очень много в огромной столице, и мне при каждой новой встрече казалось, что я вижу ухудшение в ее внешности и характере.
Тем временем я собирала, как могла, сведения о ван Тьюверах. В газетах иногда попадались заметки о том, что яхта «Тритон» прибыла на Азорские острова, или что она налетела на тендер в гавани Гибралтара, или что мистер и миссис ван Тьювер удостоились чести быть принятыми в Ватикане, или что они проводили сезон в Лондоне, представлялись ко двору и были гостями германского императора во время военных маневров. А в столице Соединенных Штатов Америки миллионы рабов наемного труда утром, отправляясь на работу, и вечером, возвращаясь домой в битком набитой грохочущей подземке, читали об этом и радовались триумфальным похождениям своих соотечественников.
Посещая Клэр, я научилась интересоваться светскими новостями. Она читала мне выдержки из одной еженедельной газеты, печатавшей сплетни о богатых и знатных, и разъясняла двусмысленные намеки, срывая покровы со всевозможных скандальных историй. Некоторых мужчин она сама знала довольно близко и в разговоре со мной называла их попросту – Берти, Реджи, Виви, Элджи. Она немало знала и о женщинах этого высшего круга и сообщала о них подчас чрезвычайно интимные подробности, которые, наверное, неприятно поразили бы этих важных дам.
Нечего и говорить, что знакомство с миром Клэр давало много материалов для моих отдельных выступлений в качестве социалистического оратора. Из тепличной атмосферы ее роскошного дома я отправлялась в жалкие наемные трущобы, где маленькие дети, работая по двенадцать-четырнадцать часов в день, зарабатывали немного больше цента в час за изготовление бумажных цветов. Случалось, что я, покатавшись по парку в автомобиле одного из расточительных друзей Клэр, пересаживалась в подземку и отправлялась на какое-нибудь собрание, где обсуждался вопрос о невыносимых условиях труда, ежегодно обрекающих на гибель известный процент молодых фабричных работниц.
Эти вопиющие контрасты все сильнее возмущали меня, и речи, которые я произносила на партийных собраниях, стали понемногу привлекать внимание своей горячностью. В то лето, помнится, я испытывала враждебное чувство даже к прелестной Сильвии, портрет которой висел в рамке у меня в комнате. В то время как она представлялась ко двору, я изучала положение рабочих на стекольных фабриках в штате Нью-Джерси и видела там, как десятилетние мальчики работали перед раскаленными печами, пока не падали от истощения или, нередко, совсем теряли зрение. Пока она и ее супруг гостили у германского императора, я под видом работницы-польки проникала в тщательно охраняемые тайны сахарного треста в Бруклине, где не проходит дня, чтобы кто-нибудь из рабочих не задохнулся от вредных испарений.
Но вот ранней весною Сильвия вернулась из свадебного путешествия домой. Она приехала на одном из роскошнейших новых пароходов. На следующее утро я снова увидела в газете ее портрет и прочла несколько слов, которыми ее супруг поделился с одним из ехавших с ними путешественников о гостеприимстве Европы к приезжим американцам. Затем прошло несколько месяцев, в течение которых я больше ничего не слыхала о них. Я погрузилась в свою работу по обследованию условий детского труда и, должно быть, так ни разу и не вспоминала о Сильвии вплоть до той достопамятной встречи у миссис Эллисон, когда она сама подошла ко мне и взяла меня за руки.
Миссис Роланд Эллисон была одна из тех женщин, которые, несмотря на окружающее их внешнее благополучие, постоянно испытывают некоторое душевное беспокойство. Я случайно встретилась с ней на собрании и рассказала ей о том, что видела на стекольных фабриках. После этого она решила, что мои слова должны услышать все интересующиеся общественными вопросами, и с этой целью устроила прием у себя на Мэдисон авеню.
Не помню точно, что я говорила тогда, но, по словам Сильвии, запомнившей все до мельчайших подробностей, я произвела на слушателей сильное впечатление. Я рассказала им, между прочим, историю маленького Анджело Патри. Этот итальянский мальчуган поддерживал пьяницу отца и работал, как взрослый, невзирая на законы о детском труде, действующие в штате Нью-Джерси. Его родители жили в нескольких милях от стекольной фабрики, на фруктовой ферме, которую они арендовали, и маленький Анджело ежедневно ходил на работу по полотну железной дороги. Особенность стекольных фабрик заключается в том, что дети там работают и в дневных, и в ночных сменах. Поэтому, проработав шесть часов до полуночи и шесть часов после полуночи, маленький Анджело бывал очень утомлен. Возвращаясь однажды весенним утром домой, он не слышал пения птиц и не видел цветов, поскольку глаза его слипались. Он опустился на полотно и заснул. Машинист первого утреннего поезда заметил на пути какую-то груду, но принял ее за брошенное тряпье и не остановил поезд, чтобы как следует рассмотреть, в чем дело.
Все это рассказала мать ребенка, которая работала на фабрике в качестве упаковщицы стекла. Она горячо любила маленького Анджело. Когда я повторила несвязные слова, в которых она старалась описать мне вид маленького истерзанного тела ее сынишки, некоторые дамы украдкой прослезились.
После моего сообщения несколько женщин подошли ко мне поговорить. Гости понемногу разъезжались, и зал был почти пуст, когда ко мне приблизилась еще одна дама, ожидавшая своей очереди. Прежде всего меня поразила ее необычайная привлекательность, что всегда с первого взгляда на нее изумляло и пленяло людей, сталкивавшихся с ней. Затем ее наружность показалась мне почему-то очень знакомой. Где я встречала прежде эту молодую женщину?
Она сказала то, что всегда говорят в таких случаях: все это очень интересно, она и представить себе не могла, что на свете существуют такие ужасы. Чтобы испытать ее, я ответила:
– Столько людей говорили мне это, и я начинаю верить в их искренность.
– Да, мне вы можете поверить, – поспешно ответила она. – Видите ли, я прожила всю свою жизнь на Юге, а там не существует таких тяжелых условий труда.
– Вы уверены?
– Во всяком случае, наши негры всегда могут взять достаточно, чтобы насытиться.
Я улыбнулась. Затем, помня, что я должна пользоваться каждой минутой для своей пропагандистской работы, я поспешила добавить:
– У вас есть лесопильные заводы в Луизиане и сталелитейные в Алабаме, а также табачные и бумажные фабрики, фабрики тростниковых изделий, но знаете ли вы, как живут люди, работающие на них?
Все это я произнесла совершенно машинально, ибо подобные аргументы не более как привычный шаблон для каждого мало-мальски опытного агитатора. Но в то же время мозг мой, охваченный каким-то странным смятением, работал в совершенно ином направлении. Меня волновали прелесть этой молодой женщины, порывистость и глубина чувства, отражавшегося на ее лице, и, главное, это странное сознание, что я уже встречалась с ней когда-то. Однако, если бы мы действительно столкнулись с ней раньше, я никогда не забыла бы ее лица. Это было невозможно.
Хозяйка подошла к нам и рассеяла мое недоумение.
– Вам следовало бы завербовать миссис ван Тьювер в ваш комитет по охране детского труда, – сказала она.
Я почувствовала что-то вроде испуга. Мне хотелось воскликнуть: «Так это Сильвия Кассельмен!» Но как мне было объяснить им, почему я знаю ее? Не могла же я в самом деле сказать: «У меня в комнате висит ваш портрет, который я вырезала из газеты». Еще меньше могла я сослаться на знакомство с приятельницей ее мужа.
К счастью, Сильвия не заметила моего волнения, – к тому времени она уже научилась принимать, когда нужно, соответствующий вид.
– Пожалуйста, не сочтите это за лицемерие. Я действительно ничего не знаю об этих вещах. И если бы могла, с удовольствием помогла вам чем-нибудь.
Говоря это, она смотрела мне прямо в глаза своими рыжевато-карими глазами, и во взгляде этом выражались такая чистота, ясность и честность, какие можно было бы представить себе только во взоре ангела, случайно спустившегося на землю и увидевшего, в какую ужасную сеть запутались мы, грешные.
– Берегитесь! – засмеялась наша хозяйка. – Вы попали в опасные руки.
Но Сильвия не обратила внимания на ее предостережение.
– Я хочу узнать побольше обо всем этом, – сказала она. – Вы должны сказать мне, чем я могу быть полезна в вашем деле.
– Ловите ее на слове, – обратилась ко мне миссис Эллисон. – Куйте железо, пока оно горячо!
От меня не ускользнула нотка удовлетворения, прозвучавшая в ее голосе. Если она сможет сказать, что вовлекла миссис ван Тьювер в работу нашего комитета, – это будет для нее воистину ценный трофей.
– Я с удовольствием расскажу вам все, что знаю, – сказала я. – В этом заключается моя задача здесь, на земле.
– Возьмите мисс Аббот с собой, – посоветовала Сильвии моя энергичная хозяйка.
И прежде, чем я успела что-либо толком сообразить, оказалось, что я приняла приглашение миссис ван Тьювер покататься в парке. Исполняя свою роль deus ex machina, хозяйка постаралась освободить меня от других гостей, и я вскоре очутилась в большом новом автомобиле, скользившем по Мэдисон авеню так же бесшумно и быстро, как тень облака по полям. Когда я пишу эти строки, на моем столе лежит социалистическая газета, а в ней карикатура, где талантливый Вилли Дайсон изобразил двух дам на светском приеме. Одна из них говорит: «Это социальное движение становится, право, очень интересным». «Да, – отвечает другая, – на собраниях можно увидеть такое хорошее общество».
Во всей этой истории роль Сильвии была гораздо благороднее моей. Сидя в роскошном автомобиле в обществе одной из любимиц этого мира, я должна была чувствовать глубокую уверенность в святости своей миссии, чтобы не испытывать никаких сомнений. Ведь я ничего не могла принести ей, кроме страданий. Я говорила об условиях работы на фабриках, об ужасах, скрытых за стенами сахарных заводов, и видела, как тени одна за другой набегают на ее лицо. Вы, может быть, скажете, что с моей стороны было жестоко срывать повязку с этих прелестных глаз, но в подобных случаях я чувствовала себя ангелом Господним и носителем его идей.
– Я ничего не знала об этом! – снова воскликнула она.
И я убедилась потом, что это была правда. Мне было трудно представить себе, чтобы, живя в наше время, можно было стоять так далеко от действительности. В тех мужчинах и женщинах, с которыми ей приходилось встречаться, Сильвия разбиралась с необычайной проницательностью. Но для нее существовало только два сорта людей – люди ее круга и их слуги – негры. Целый полк родичей ревниво охранял ее от знакомства с другим миром, и, если случайно какой-нибудь опасный факт проникал за семейные заграждения, у них всегда были наготове освященные традицией формулы, чтобы лишить его всякого значения.
– Но теперь, – продолжала Сильвия, – у меня есть деньги, и я могу помогать. Поэтому я не имею права оставаться в прежнем неведении. Вы должны указать нам путь, мне и моему мужу. Я уверена, что он тоже не знает, чем тут можно помочь.
Я обещала сделать все, что будет в моих силах. Ее помощь будет неоценима не только благодаря деньгам, которые она сможет дать, но главным образом благодаря блеску и влиянию ее имени. Она привлечет внимание общества ко всякому делу, за которое возьмется.
Я объяснила ей методы работы и цели нашего комитета по охране детского труда. Мы добиваемся издания новых законов, мы осаждаем всевозможных должностных лиц и настаиваем, чтобы они следили за исполнением уже существующих законов. Но главная наша задача – популяризировать этот вопрос, внушить обществу, какое негативное для общества значение имеет тот факт, что новое поколение растет без образования и тупеет от преждевременной непосильной работы. Тут-то она и могла оказать нам большую поддержку. Пусть она собственными глазами убедится в том, что все это правда, а затем пусть выступит зимой перед законодательной комиссией в защиту нашего нового законопроекта.
При этих словах она испуганно посмотрела на меня. Ее понятия о том, как делают добро в этом мире, можно было назвать по меньшей мере устарелыми. Она считала, что для этого достаточно посещать бедных и раздавать милостыню. Она знала о современных способах борьбы с социальным злом не больше, чем о современных болезнях.
– Но ведь я же не сумею произнести речь! – воскликнула она.
– Почему? – спросила я.
– Я никогда даже не помышляла об этом. Я слишком мало знаю.
– Но вы можете научиться.
– Я привыкла думать, что только мужчины способны на такую работу.
– Мы дали возможность мужчинам проявить себя, но они-то как раз и создали это зло. Кто же, если не женщины, позаботятся теперь о детях?
С минуту она молчала в нерешительности, затем сказала:
– Боюсь, что вы станете смеяться надо мной.
– Нет, нет, – пообещала я, но, взглянув на нее, я догадалась: – Вы хотите сказать мне, что место женщины – у семейного очага?
– Так думали по крайней мере у нас, в округе Кассельмен, – ответила она, невольно улыбаясь.
– Но вы видите, что детей отрывают от семейного очага, – возразила я. – Они вернутся назад только тогда, если мы, женщины, пойдем за ними и приведем их обратно.
Вдруг она засмеялась тем веселым ясным смехом, который много лет согревал меня потом, словно апрельское солнце.
– Несколько лет назад кто-то произнес в нашем штате суфражистскую речь. О, если бы вы видели, в какой ужас пришли мои родные. Тетя Ненни – она жена епископа Чайльтона – уверяла, что ничего ужаснее не случалось с тех пор, как Джеферсона Дэвиса заковали в кандалы. Она не переставала говорить об этом целыми днями и кончила тем, что поднялась к себе наверх и заперлась там. Ее младшие дети, вернувшись из школы, стали спрашивать, где их мама. Никто не знал этого. Скоро явился повар и спросил: «Что прикажете подавать к обеду, мистер Базиль? Я был наверху у миссис Ненни, но она сказала, чтобы я убирался и не надоедал ей – она занята». Приехали гости, и началось великое смятение, ибо никто не знал, что делать, а тетя Ненни продолжала сидеть взаперти. Наконец наступил час обеда, и все собрались к столу. Дворецкий отправился наверх и, вернувшись, передал ее приказ есть, что найдется, позаботиться о гостях, а затем отправиться на молитвенное собрание: ее же пусть оставят в покое – она пишет письмо в «Ведомости» Кассельменского округа об обязанностях женщины как хранительницы домашнего очага.
С этого началось мое знакомство с Кассельменским округом. Мне не скоро пришлось побывать там, но я быстро познакомилась с его обитателями по рассказам Сильвии. Ее рассказы были похожи на смешные и трагические анекдоты, дикие и невероятные, напоминавшие мне полуварварские времена. Обе мы часто смеялись, когда она поверяла мне свою семейную хронику, но иногда глаза ее вдруг становились задумчивыми, и веселье умолкало. Вскоре я убедилась, что моя Сильвия скучает по дому. В течение всего нашего знакомства она неизменно считала своим родным домом Кассельмен Холл. Все ее убеждения исходили оттуда, и туда же устремлялись ее новые мысли.
Мы поговорили немного о суфражизме, и я рассказала ей, как живут женщины на уединенных фермах, как они жертвуют своей молодостью и здоровьем, помогая мужьям бороться за существование, однако в барышах они не участвуют и не могут в случае необходимости потребовать у мужей свою долю.
– Но ведь вы не хотели бы, конечно, еще больше облегчить развод? – с ужасом спросила Сильвия.
– Я хочу только, чтобы условия развода сделались справедливее в отношении женщин.
– Но тогда женщины станут требовать его еще чаще. И так уже много разведенных женщин. Папа говорит, что развод грозит обществу еще большими бедствиями, чем социализм.
Она рассказала мне о суфражизме в Англии, где женщины в то время только что начинали бороться открыто. Ведь не стану же я оправдывать то, что они бросают свои дома ради подобных целей? Я с величайшей осторожностью указала ей, что в Англии существуют очень своеобразные условия, обостряющие борьбу. Там, например, до сих пор сохранился нелепый устаревший закон о том, что муж имеет право в некоторых случаях бить свою жену палкой. Разве американская женщина согласилась бы подчиниться подобному закону? Другой закон запрещает женщине требовать развода в случае неверности мужа, если только измена его не сопровождалась жестоким обращением или если он сам не бросил ее. Несомненно, даже отец Сильвии не найдет это справедливым. Я рассказала ей об одном решении, которое незадолго перед тем вынес высший суд в Англии. Суд нашел, что муж, приведший к себе в дом любовницу и заставивший жену прислуживать ей, по смыслу английских законов не может считаться виновным в жестоком обращении. У Сильвии вырвалось восклицание ужаса, и взор ее с недоверием устремился на меня. Тут в голове моей мелькнула мысль о Клэр, и по спине у меня пробежал холодок. Да, этот первый разговор о миссис Дуглас ван Тьювер был во многих отношениях нелегким испытанием для меня.
Я очень быстро обнаружила, что при всем своем детском неведении Сильвия не была заражена предрассудками. Когда вы приводили ей какой-нибудь факт, она не заявляла, что он слишком ужасен, чтобы соответствовать действительности, или что Библия говорит другое, или что об этом даже неприлично знать. И, встретившись с ней в следующий раз, вы тотчас же убеждались, что она ничего не забыла из того, о чем шла речь на предыдущем свидании. Напротив, оказывалось, что она рассмотрела вопрос со всех сторон, глубоко продумала его до мельчайших подробностей и только ждала вас, чтобы вы разрешили ее сомнения. Помню, как во время первой нашей совместной прогулки в автомобиле я говорила себе: «Если эта девочка начнет размышлять, она пойдет далеко. Но ей придется остановиться на полпути ради спокойствия своих близких».
– Вы должны познакомиться с моим мужем, – сказала она и добавила: – Я посмотрю в свою записную книжку. У меня так много всяких обязательств, что я никогда не могу сказать заранее, найдется ли у меня свободная минута.
– Должно быть, вас очень занимает такая жизнь? – осведомилась я.
– Да, вначале все это интересовало меня. Но я начинаю уставать от этих бесконечных выездов. Ведь большей частью я встречаю одних и тех же лиц и заранее знаю, о чем они будут говорить.
Я рассмеялась.
– Вы успели заразиться болезнью общества – скукой.
– Я давно уже познакомилась с ней и ни за что не покинула бы семью, если бы это не было необходимо ради ее блага. Вот почему я завидую такой женщине, как вы…
Я не могла удержаться от смеха. Это было чересчур забавно – миссис Дуглас ван Тьювер завидовала мне!
– В чем дело? – спросила она.
– Меня рассмешила ирония судьбы. Я, знаете ли, вырезала из газеты ваш портрет и вставила его в рамку. Глядя на него, я думала: «Вот самое прелестное личико, какое я видела когда-либо, вот женщина, которая больше всего достойна зависти».
Она улыбнулась, но сразу стала серьезной.
– Я очень рано узнала, что я красива, и мне кажется если бы я утратила свою красоту, то мне, наверно, недоставало бы ее. Однако, с другой стороны, я часто думаю, что красота большое бремя. Это ставит нас в зависимость от внешности. Большая часть красивых женщин, которых я знала, сделали из своей красоты род профессии. У них в жизни только одна цель – блистать и вызывать восхищение.
– А вам разве это не доставляет удовольствия? – спросила я.
– Это суживает жизненные рамки. Мужчины только этого и ждут от нас и бывают недовольны, когда у нас появляются другие интересы.
– Итак, – серьезно произнесла я, – несмотря на вашу красоту и богатство, вы не вполне счастливы.
– О, да! – воскликнула она, невольно выдавая себя больше, чем хотела бы. – Я говорила себе, что буду счастлива, потому что смогу делать очень много добра. Ведь деньгами, наверное, можно исправить много зла. Но теперь я уже не так уверена в этом. Столько разных осложнений вырастает на пути. Только вы соберетесь помочь кому-нибудь, как вам сейчас же укажут, что вы своим вмешательством принесете один только вред.
Она снова остановилась в нерешительности.
– Вы говорите, по-видимому, о благотворительности, – сказала я.
Она посмотрела на меня блестящими глазами.
– Как вы понимаете все с первого слова! – воскликнула она.
– Зная современное общество, легко предвидеть результаты, когда сталкиваешься с известными причинами.
– Я хотела бы, чтобы мне объяснили, почему благотворительность вредна.
– Это будет равносильно лекции о системе заработной платы, – засмеялась я. – Тема чересчур серьезная для беседы во время прогулки.
Мои слова могли показаться ей простой отговоркой. Но в этот момент я сидела закутанная в роскошные меха и каталась в автомобиле в сумерках прелестного осеннего вечера, а когда приходишь в непосредственное соприкосновение с собственностью, мысль об уничтожении ее кажется чем-то несообразным. Между прочим, этим объясняется, по-моему, оппортунизм министров-социалистов, и та же причина заставила меня принять внезапное решение – скрыть от миссис Дуглас ван Тьювер, хотя бы только на этот вечер, что я разведенная жена и митинговый агитатор, проповедующий революцию.
Во время этой первой беседы Сильвия открыла мне многое, сама того не сознавая. Я, например, вполне убедилась, что она вышла за мистера Дугласа ван Тьювера не по любви, иначе она не могла бы в первый же год страдать от скуки и не стала бы искать приложения своих сил в благотворительности.
Она с удовольствием подольше покаталась бы и поболтала со мной, но, к сожалению, была приглашена на обед. Она попросила меня навестить ее, и я обещала зайти к ней утром в назначенный день. Когда автомобиль остановился перед подъездом ее дома, я вспомнила свою первую поездку по городу в экскурсионном фургоне и как я вытаращила глаза, когда руководитель указал нам на этот дворец. Все мы, как один человек, с трепетом подумали о том, какая волшебная жизнь течет за этими массивными дверями, какие неоценимые сокровища хранятся за этими толстыми бронзовыми решетками. И вот теперь хозяйка всего этого великолепия приглашала меня зайти и осмотреть его изнутри.
Она хотела, чтобы шофер отвез меня домой, но я не согласилась на это, боясь, как бы машина не натворила бед на моей улице, кишевшей детьми и ручными тележками. Я вышла из автомобиля и пошла пешком, сердце мое учащенно билось, и вся я горела от волнения. Придя домой, я первым делом взглянула на портрет. Но, Боже, как он изменился! Теперь это не была уже серая газетная фотография, чудесные краски преобразили ее. Я видела перед собой золотые волосы, чудесные рыжевато-карие глаза и нежные щеки, алеющие румянцем юности. Но самое замечательное было то, что портрет говорил. Он говорил с восхитительным, немного тягучим южным акцентом, расспрашивал меня о работе комитета по охране детского труда. И когда я рассказывала ему что-нибудь забавное о моих соседях по квартире, евреях или итальянцах, он рассыпался серебристым смехом и восклицал: «О Господи! Какие чудаки!»
Расставаясь в это утро с портретом, я и представить себе не могла, какое чудо совершится с ним к концу дня.
Я, конечно, понимала, что происходит со мной. Симптомы были чересчур ясны. Лишь только мне удалось убедить себя, что я уже старуха и что мне не осталось в жизни ничего, кроме работы, маленький шутник вдруг прострелил мне сердце одной из своих самых острых золотых стрел. Я испытывала трепет и восхитительные муки восторженной любви. Я жила только мыслью о ней. Двадцать раз в день я подходила к портрету, восклицая вслух: «О, как она прекрасна! Как хороша!»
Не знаю, сумела ли я хоть приблизительно описать ее. Я передала наш первый разговор. Но слова так холодны, так мертвы. Мне все хочется подыскать ей подходящее сравнение в природе. Помню, я наблюдала однажды, как стрекоза освобождалась от куколки. Она была необычайно нежной, зеленой и юной и, уцепившись за ветку, сушила на солнце свои крылышки. Когда чудо превращения окончилось, она замерла на минуту, переливаясь радугой красок, вся трепеща от юного восторга. Вот такую стрекозу напомнила мне Сильвия. Она казалась мне существом из другого мира, незапятнанным грязью действительности, не опаленным ее жаром. Мне буквально становилось жутко при мысли, что здесь, в этой юдоли борьбы и зла, цветет юное существо с такой горячностью, надеждой, трепетом и наивностью стремящееся навстречу жизни. Вот какое впечатление производила Сильвия даже в те моменты, когда слова ее, казалось, говорили обратное. Она могла высказывать самые пошлые и банальные мысли, извлеченные из поучений Леди Ди, но даже тогда в словах ее прорывались горячность и заинтересованность, таившиеся в глубине ее существа.
Однако главная прелесть Сильвии заключалась в том, что она никогда не думала о себе. Даже в те моменты, когда она откровенно говорила о своей красоте и о себе самой, она на самом деле думала о других и о том, как помочь им. Я особенно подчеркиваю это. Мне не хотелось бы чтобы у читателя создалось впечатление, будто я просто подпала под обаяние красивой внешности, а также автомобиля аристократической фамилии. В Сильвии было, разумеется, много аристократизма, да иначе и быть не могло. Но она была бы так же очаровательна в простом коттедже, и это подтвердит дальнейшая история ее жизни.
Итак, я была влюблена. В то время я учила немецкий язык и просидела целый день над двумя строчками Гёте:
Тора и Одина знаешь ты верно, Фрейи ж божественный образ сокрыт от тебя.Помню, как я воскликнула в восторге: «Я знаю ее!» И после этого я про себя стала называть ее «Фрейя божественная». Только одно прозвище понравилось мне еще больше этого. Несколько времени спустя Сильвия рассказала мне о Франке Ширли, о том, как она любила его и как их радужные надежды рассыпались в прах. Он называл ее «Леди Солнышко!» в счастливые времена их любви, и, когда Сильвия повторяла: «Леди Солнышко! Леди Солнышко!» – мне казалось, что я слышу в этих словах отзвук голоса Франка.
В течение нескольких дней после нашего знакомства я поджидала почтальона, и, когда приглашение наконец пришло, я отпросилась в комитете и с трепетом поднялась по мраморным ступеням дворца ван Тьюверов. Лакей-англичанин недоверчиво осмотрел меня с головы до ног. По его чинному виду и выправке я решила, что у себя на родине он, вероятно, состоял при особе какого-нибудь епископа. У меня сохранилось смутное воспоминание о вестибюле с расписными панелями и о двойной лестнице, покрытой белоснежным ковром. Я как-то прочла в газете, что этот ковер соткан одним куском и стоит баснословные деньги. Меня провели в будуар Сильвии, который художник-декоратор, знавший ее внешность, отделал в розовых, белых и золотистых тонах. В этой комнате свободно поместилось бы полдюжины таких квартир, как моя, и солнце широкой волной заливало ее. Из боковой двери вышла Сильвия, протягивая мне обе руки.
Она была искренне рада увидеть меня и тотчас же стала извиняться, что так долго не писала мне. Она была очень занята все это время. Выйдя замуж, она попала в круг людей, чрезвычайно серьезно относившихся к своим светским обязанностям. Это были «праздные богачи», но они трудились, как настоящие рабы, на своем поприще.
– Знаете, – сказала она, когда мы уселись на розовой атласной кушетке и лакей принес нам кофе, – если вы прочтете, что миссис такая-то – «царица общества», не подумайте, что это простая фраза. Она в самом деле чувствует себя царицей, и то же самое думают о ней все остальные люди ее круга. Она с такой торжественностью выполняет все церемонии, словно действительно считает себя помазанницей Божией.
Сильвия рассказала мне несколько приключений из своей жизни. Она обладала острым чувством юмора и, очевидно, искала ему выход. Ей сразу бросались в глаза глупость и претенциозность многих людей, с которыми она сталкивалась в обществе, но все это были такие важные и величественные господа, что она ради мужа не смела обнаружить перед ними свою проницательность.
Она стала рассказывать мне о своих заграничных впечатлениях. Европа не понравилась ей. Сильвия откровенно призналась, что чувствует себя глубокой провинциалкой. В округе Кассельмен всякий иностранец считался подозрительным и темным субъектом, про которого можно было с презрением сказать, что он или скрипач, или оперный певец. Люди, с которыми Сильвию познакомил в Европе ее муж, не внушали никаких сомнений в смысле своего общественного положения, но все же это были иностранцы, и Сильвия никак не могла раскусить, что они собой представляют.
Познакомилась она там, например, с одним молодым человеком, сыном стального короля. Он отличался прекрасной репутацией, писал книги, рисовал картины и так много путешествовал, что знал даже о существовании Кассельменского округа. Он предложил однажды Сильвии показать ей достопримечательности Берлина. Они прокатились по Аллее Победы, причем молодой человек безжалостно высмеивал художественные вкусы кайзера, и наконец остановились перед огромной мраморной колонной, на верху которой высится статуя Победы.
– Обратите внимание на то, что греческая дама находится на высоте ста метров над землей, и туда нет никакой лестницы. По этому поводу в Берлине существует восхитительная острота, что она единственная целомудренная женщина в Берлине.
Я хорошо знала жизнь и поэтому легко читала между строк, когда Сильвия рассказывала мне о своих приключениях. Она казалась мне человеком, который разгуливает вблизи вулкана, не подозревая об опасности, но чует при этом в воздухе легкий запах серы. И я знала, что настанет момент, когда земля разверзнется под ее ногами. В Риме, например, она встретилась с каким-то герцогом, меланхолическим юношей, и пофлиртовала с ним немного со свойственной ей живостью, как делала это со всеми мужчинами. Выйдя замуж, она решила, что может забавляться таким образом сколько ей заблагорассудится. Но молодой итальянец отнесся к этому иначе и шепнул ей слова, имевшие серьезное значение. Это признание так испугало Сильвию, что она бросилась к мужу и рассказала ему все, умоляя его пощадить молодого человека. В ответ на это ей было сказано, что она вела себя предосудительно и одна виновата во всем. Знатные итальянки строги и чопорны, и Сильвии не следовало ожидать, что пылкий молодой герцог поймет ее природную живость.
В каждой стране с ней случалось что-нибудь такое, что приводило ее в глубокое изумление, и мистеру ван Тьюверу то и дело приходилось напоминать своей юной жене о приличиях. Одна из кузин ван Тьювера была замужем во Франции за маркизом, и Сильвия с мужем посетили их замок. Семья была строго католическая, очень древнего происхождения. Один из родственников, высокопоставленный прелат, пригласил гостей осмотреть его собор.
– Вообразите мое изумление, – рассказывала мне Сильвия. – Я думала, что встречу важного почтенного духовного сановника, а вместо этого увидела остроумного светского человека. Слыхали бы вы только, что он говорил мне! Я пришла в восторг от величия и красоты собора и сказала: «Если бы я знала, что здесь так красиво, то приехала бы сюда венчаться». «Вы американка, – возразил он, – так приезжайте в следующий раз». Когда я заметила ему, что я не католичка, он ответил: «Ваша красота – сама по себе религия». И когда я запротестовала, уверяя, что он делает мне слишком много чести, прелат возразил: «Честь будет всецело для церкви». И так как все это меня шокировало, я удостоилась звания провинциалки.
Затем молодые отправились в Лондон, туманный город, «где вы никогда не видите солнца, и если уж оно покажется, то напоминает яйцо всмятку». Там вам приходится учиться есть рыбу с помощью особых ножей, а в обществе вы можете свободно говорить о самках, но ни в коем случае не должны упоминать о своем желудке. Одно из воскресений они провели в Хазелгерсте, замке вдовствующей герцогини Дэнбюри. Ван Тьювер когда-то принимал у себя в Америке ее сына, и теперь герцогиня, ввиду отсутствия старшего сына, желала сама отплатить за оказанное ему гостеприимство. Старая леди сидела за столом, а по обеим сторонам ее восседали на детских креслицах два жирных пуделя, которые ели с золотых подносов. Около одного из пуделей сидел священник, робкий маленький человек, заехавший к ней в гости. Желая показать, что он чувствует себя вполне непринужденно, гость сунул кусочек хлеба сидевшей около него собаке.
– Не смейте кормить моих собак! – набросилась на него старая леди. – Я никому не позволяю кормить своих собак.
Там же Сильвия встретила высокочтимого Реджинальда Эннерсли, младшего сына герцогини, приехавшего домой на каникулы из привилегированной школы. Высокочтимому Реджинальду было двенадцать лет, но он был плохо развит в физическом отношении и очень худ.
– Их скверно кормят там, – объяснила его мать, – да и учат неважно, но зато из этой школы выходят настоящие джентльмены.
– Честное слово, – рассказывала Сильвия, – это был презабавный маленький человечек. Он напоминал мне тех типов, которых часто приходилось видеть в гостиницах на материке. На нем был итонский мундир. Представьте себе костюм взрослого мужчины, у которого отсутствуют полы сюртука и цилиндр. Он сидел за чайным столом и болтал с развязным видом и ужимками котильонного дирижера. Так и казалось, что, когда он снимет шляпу, на голове его окажется лысина. Он говорил о своем брате герцоге, который отправился куда-то поохотиться на морских котиков: «Этот шалопай только и знает, что сорить деньгами, а вот мы, младшие сыновья, когда вырастем, должны жить, как псы». Я спросила его, что он намерен делать в будущем. «Да, кажется, ничего не остается, кроме церкви, – ответил он, – тощища смертельная, но это дает средства к жизни».
– Это было слишком для меня, – продолжала Сильвия, – и я начала рассказывать бедному, преждевременно состарившемуся ребенку о своем детстве, о том, как мы с моей сестрой Селестой скакали по пастбищам на полудиких лошадях, тогда как были еще так малы, что наши маленькие толстые ножки торчали врозь почти горизонтально, о том, как мы объелись зелеными яблоками в фруктовом саду, и о том, как нас каждое утро приходилось наказывать, потому что мы не давали расчесывать себе волосы. Я рассказала ему, как мы, услышав однажды историю из времен войны о поезде с грузом пороха, решили устроить такой поезд на чердаке и подожгли его. Я готова была целый день посвящать этого будущего прелата в наши детские проказы, если бы взгляд мой случайно не упал на лицо мужа.
Все эти истории я услышала не сразу. Я связала их здесь воедино, чтобы дать вам некоторое представление о том, как Сильвия провела свой медовый месяц, а также чтобы показать, как она, сама того не сознавая, представила мне своего мужа.
В жизни молодого Дугласа ван Тьювера было еще меньше приключений, чем в жизни высокочтимого Реджинальда Эннерсли. Познакомившись с подробностями воспитания этого «ребенка-миллионера», можно было простить ему его эгоизм. С возрастом он превратился в человека, живущего исключительно ради исполнения своих светских обязанностей, а между тем женился на девушке отважной и пылкой, в душе которой сохранялись черты почти необузданной гордости.
Сильвия относилась ко всему остальному миру, как истая аристократка. Ей никогда не приходило в голову, что на свете могут существовать люди, стоящие выше Кассельменов из округа Кассельмен. Если вы оказывались достаточно невежественны, чтобы высказать подобное предположение, глаза ее тотчас начинали сверкать, а ноздри трепетать. Она окидывала вас полным недоумения взглядом и осыпала насмешками и презрением. Так она поступала в отношении людей, окружавших ее мужа. Беда заключалась в том, что ван Тьювер не мог понять это и положиться на ее отвагу в отношении других зверей, водившихся в этих социальных джунглях.
Странное впечатление производила на меня внутренняя жизнь этих двух любимцев богов. Я не переставала думать о них и о том, как возник этот союз. Что заставило Сильвию выйти за него замуж? Она не была счастлива с ним и при своей острой прозорливости должна была предвидеть это заранее. Уж не пожертвовала ли она собой сознательно ради блага своей семьи?
Я начинала подозревать, что дело обстояло именно так. Как ни возмущалась Сильвия снобизмом того мира, где вращались ван Тьюверы, в душе ее все же жила вера в силу денег, и глубина этой веры даже испугала меня, когда я познала ее. Все нуждаются в деньгах. Общественное положение и аристократическое достоинство немыслимы без них. Они нужны богатым и совсем не лишни для бедных. Не случилось ли так, что они понадобились и гордым Кассельменам из округа Кассельмен?
Но если я верно разгадала то, что таилось на дне ее души, то какой трагедией должна была явиться ее встреча со мной, человеком, презиравшим деньги и доказывавшим это своими смелыми поступками, да к тому же с человеком ее же пола.
Что это за новая религия, которая бросает вызов жрецам Мамоны? Так в далекой древности дочь какого-нибудь римского консула, сидя в отцовском дворце, с любопытством расспрашивала рабыню-христианку, которой предстояло не сегодня-завтра быть растерзанной львами на арене цирка.
Эта параллель не пострадает от того, что в данном случае рабыня была неверующей, а дочь патриция выросла в колыбели христианства. Сильвия давно уже начала задумываться над догматами церкви, торговавшей местами в своих храмах, и открыто заявляла, что, по ее мнению, существование церкви может быть оправдано только благотворительностью и попечением о бедных. Во время наших бесед она совершенно ясно чувствовала, что из нас двоих у меня есть религия, а у нее нет никакой. Этим и объяснялось волнение, которое неизменно охватывало ее при наших встречах.
Но я сама ни на минуту не забывала об этом. Когда она сидела предо мной в своем залитом солнцем будуаре, одетая в восхитительное вышитое платье из розового японского шелка, мне хотелось заплакать от восторга перед ее красотой. Но какой-то голос, мрачный и безжалостный, предостерегал меня: «Ведь она существо другой веры, и между твоей и ее верой не может быть компромисса». В один прекрасный день она узнает, что я думаю о богатстве ее мужа и о том, сколько зла оно приносит миру. Она узнает мое мнение о поклонении автомобилям и коврам ручной работы.
И день этот был совсем не так далек. Она сидела против меня и вдруг, слегка наклонившись вперед, взволнованно произнесла:
– Вы должны помочь мне стать человеком. Я не успокоюсь, пока не смогу принести хоть какой-нибудь пользы в мире.
– С чего же вы думаете начать? – спросила я.
– Не знаю еще. У моего мужа есть тетка, которая интересуется яслями для детей женщин-работниц. Я хотела заняться этим, но мой муж говорит, что это приносит только вред, превращая бедняков в нищих. А вы как думаете?
– Я могу сказать больше, – ответила я. – Это дает женщинам возможность свободно конкурировать с мужчинами и сбивает заработную плату рабочих.
– О, какая головоломная задача! – воскликнула она. – Но неужели же не существует такого способа помогать бедным, который не вызывал бы подобных возражений?
Это снова привело нас к теме, от которой я уклонилась при нашем первом свидании. Она не забыла этого разговора и потребовала объяснения: что я подразумевала под системой заработной платы?
Я рассказываю историю жизни Сильвии Кассельмен не только для того, чтобы показать, чем она была до нашей встречи, но и чем она стала потом. Я хочу изобразить процесс роста ее души, и в этот момент поворотным пунктом для нее явилось знакомство с вопросом классовой борьбы и то, как она реагировала на это открытие. Вы, может быть, скажете мне, что вас борьба классов нисколько не интересует, но вы не станете отрицать факта, что в наш век миллионы меняют свою жизнь в зависимости от подобного открытия. Передо мной, например, была молодая женщина, которую учили держать свои обещания, и она обещала любить и почитать своего мужа и повиноваться ему; но задача эта усложнилась для нее, когда она поняла, что такое заработная плата, тогда как он не понимал этого, да и не желал понимать. Если это покажется вам немного странной канвой для развития семейной драмы, я отвечу, что вы, несомненно, упустили из виду несколько реальных факторов нашего времени.
И я прочла ей маленькую лекцию по политической экономии […]
Наслушавшись от меня рассказов о жизни трудящихся, Сильвия горела желанием навестить меня, а я, конечно, с радостью пригласила ее к себе. Я раздобыла чай какой-то фантастической марки и посуду для его приготовления. Она приехала и пришла в восторг от моих трех комнат и ванной, каждая из которых была меньше чулана в ее собственном доме. Я заподозрила в этом восторге южную noblesse oblige.[1] Но в моей комнате было несколько полок с книгами, и я знала, что для Сильвии ван Тьювер они значили в тот момент больше, чем гардеробы, набитые платьями.
Я с удовольствием убедилась, что мои усилия не пропали даром. Она много размышляла после нашего свидания и даже нашла среди своих развлечений время прочесть выдержки из книги, о которой я как-то упомянула в разговоре. Это был Веблен, и я с удивлением следила за тем, как она реагировала на то, что прочла в его труде.
Когда я говорила ей о заработной плате и условиях труда, то все это должно было казаться моей южной принцессе чем-то очень далеким, чем-то таким, что она с трудом представляла себе в реальности. Но тема, которой касался Веблен, – праздные богачи и те способы и приемы, которыми они осуществляют свою власть, – была непосредственно близка ей. Тонкости светского тщеславия, едва ощутимые различия между новоиспеченными богачами и людьми, разбогатевшими в давние времена, величественная самоуверенность последних и беспокойная робость первых – все это Сильвия знала так же хорошо, как птица ощущала направление ветра. Но для нее было неожиданностью найти в мире книг научное объяснение всех этих знакомых деталей, к тому же изложенное словами, объяснение которых ей приходилось искать в словаре. «Недопустимая праздность…», «Неправильное разделение благ…»
– О, Боже мой, как странно! – восклицала Сильвия.
Какой поток воспоминаний пробудила в ней книга знаменитого социолога! Этот поток унес ее обратно в Кассельмен Холл, всколыхнув со дна ее памяти все мельчайшие впечатления юности. Если бы только Леди Ди могла прочесть книгу Веблена, сколько очков она дала бы ему вперед! Никто не знал так хорошо технических деталей светского механизма, как двоюродная бабка Сильвии. Она вникала во все мелочи и умела по шелесту нижней юбки отличить, из дорогого или дешевого шелка она сделана. И при этом ее техника была достаточно богата, чтобы охватывать не только самого человека, но и весь окружающий его ландшафт. «Каждая девушка должна иметь свой реквизит» – это было одно из ее любимых изречений, и Сильвия должна была иметь специальную коляску для катания, специальную лошадь для верховой езды и специальные розы, которыми не разрешалось пользоваться никому, кроме нее.
Веблен считал все это «непроизводительной тратой времени».
– Странно, – рассказывала Сильвия, – но у нас все только и гордились такой непроизводительной тратой времени. Вот, например, милый дядя Базиль. Более достойного епископа никогда не существовало, но у него была слабость всегда самому разрезать за столом мясо. По его мнению, истинного джентльмена можно всегда отличить по тому, насколько ловко он умеет разрезать жаркое. И дядя горячо восставал против современной тенденции возложить эту обязанность на дворецкого. Он любил распространяться на эту тему и иллюстрировал свои высказывания изящными движениями ножа. Сильвия помнила, как ее отец и дети Чайльтона скрепили раз проволокой суставы утки, чтобы задать работу епископу. Трудясь над птицей, дядя Базиль сохранял полное достоинство, но неожиданно уронил утку на колени своей жене. Эта высокорожденная леди, обладавшая также длинным рядом предков и традиций, не обнаружила при этом никакого замешательства и, не прерывая своей беседы с дворецким, спокойно сняла дымящуюся утку со своих колен.
Так жили в Кассельмен Холле. Необузданные, беспечные люди, точно малые дети, наполняли жизнь шалостями и пустяками. Для них не существовало ничего чересчур сумасбродного, и всякая самая нелепая фантазия тотчас же приводилась в исполнение. Однажды какая-то кузина, гостившая в Кассельмен Холле, заявила, что она не понимает, почему люди не едят полевых крыс. Крыса, питающаяся зерном, – животное вполне чистое и гораздо более разборчивое в еде, чем свинья. Тогда «мисс Маргарет» потихоньку приказала поймать на гумне крысу, зажарить ее и подать на одном блюде с жареными белками, а сама наблюдала, как ничего не подозревавшая гостья с удовольствием уплетала крысу. И ведь это была миссис Кассельмен из Кассельмен Холла, мать пятерых детей, представительная дама, так величественно выступавшая в паре с губернатором, открывая бал. «Майор Кассельмен, – говорила она обычно своему супругу, – вы можете отвести меня в спальню и, когда дверь будет плотно заперта, можете плюнуть в меня, если хотите, но не пробуйте даже вообразить про меня что-нибудь недостойное на людях».
С течением времени мы с Сильвией сделались добрыми друзьями. Несмотря на всю свою гордость, она очень страдала от одиночества и нуждалась в человеке, которому она могла бы открывать свою мятущуюся душу. А кому же ей было довериться, как не мне, простой женщине, уроженке Запада, которая была так далека от ее мира, далека не только в смысле общественного положения, но и в смысле идеологии.
Прежде чем проститься со мной, она сочла нужным затронуть вопрос о моих отношениях с этим миром. Сильвия обладала очень остро развитым чувством общественности. Она точно знала свои обязанности в отношении каждого члена общества, она знала, когда ей следует сделать визит, сколько времени пробыть, и чего, в свою очередь, она вправе ожидать в этом отношении от другого лица; она предполагала, что и другое лицо знает это так же хорошо, как она, и, совершив малейший промах, сама страдала от этого. Поэтому теперь, затрагивая подобный вопрос, она рассчитывала на мою снисходительность.
– Видите ли, – объяснила она, – мой муж не поймет этого. Мне, может быть, удастся постепенно изменить его взгляды, но если я сразу напугаю его…
– Дорогая миссис ван Тьювер… – начала я с улыбкой.
– Вы, право, не представляете себе, как это сложно, – настаивала она. – Дело в том, что он необычайно серьезно относится к своему общественному положению. И вот, если я начну действовать чересчур решительно, если все станут говорить о том, что я делаю, и каждый пустяк, нарушающий общепринятые правила, будет преувеличиваться…
– Моя дорогая девочка! – перебила я ее снова. – Помолчите минуту и дайте мне сказать.
– Но мне неприятно думать, что…
– Не беспокойтесь о моем мнении. Я вполне довольна. Вы должны понять, что социалист не может относиться к подобным вещам так, как вы. Мы оцениваем их с точки зрения экономики и после этого считаемся с ними не больше как с простыми данными. Я могу встретиться с одной из ваших лучших приятельниц, и она может отнестись ко мне свысока, но я не подумаю при этом, что она хотела оскорбить меня как личность. Я пойму, что тут сыграли роль мой западный акцент, моя шляпа в сорок центов и тому подобные мелочи, по которым она определяет, к какому классу я принадлежу. Моего настоящего я никто не может осудить, пока не проникнет в него.
– Ах! – воскликнула Сильвия, и глаза се заблестели. – Я вижу, что и вам не чужд своего рода аристократизм.
– Я хочу только одного, – продолжала я, – приблизить вас. Я старая наседка, а цыплята мои выросли и покинули свою мать. Вот мне и хочется понянчить кого-нибудь. Ваше великолепное общество в моих глазах одна только помеха, потому что оно мешает мне заключить вас в объятия так, как бы я этого хотела. Вам надо будет придумать для меня какую-нибудь роль, которая давала бы мне возможность видеть вас. Выдайте меня за кого хотите: за специалистку по вопросу о яслях, которыми вы интересуетесь, за преподавательницу или симпатичную почтенную швею, штопающую ваши шелковые чулки.
Она рассмеялась.
– Неужели вы воображаете, что мне разрешается донашивать свои чулки до дыр? Будьте уверены, что они много раньше поступают в собственность моих горничных. – Она подумала минуту и добавила: – Вы могли бы заняться отделкой моих шляп.
Из этих слов я заключила, что мы уже стали настоящими друзьями. Если вам не кажется смелой ее шутка насчет моей шляпы, то это происходит только потому, что вы еще не знаете Сильвии. Я уже говорила о ее отношении к деньгам и светским обязанностям. Но я согрешу против истины, если не упомяну об одной черте ее, которая вначале даже меня испугала, – о ее любви к нарядам. Она знала каждую разновидность тканей, каждый оттенок цвета, каждый рисунок, – словом, все, что когда-либо создавала безудержная фантазия ткачей и портных. Ее приучили с детства разбираться в бесконечных тонкостях, которыми настоящее изящество отличается от «почти» настоящего. Она с первого взгляда оценивала человека и, основываясь только на его внешности, давала ему характеристику. Впоследствии, отдав себе отчет в том, насколько рискованны подобные заключения, она сказала мне, что в девяносто девяти случаях из ста этот метод оценки человека оказывается вполне пригодным для целей, которые преследует светское общество. Как характерно для нашей цивилизации, что люди, предъявляя требования друг к другу, основываются целиком на впечатлении от одежды.
Я задалась целью просветить миссис ван Тьювер насчет того, что ей, по моему мнению, надлежало знать. В мою задачу входило найти людей, сочувствующих современным идеям, но в то же время занимающих известное общественное положение, чтобы Сильвия могла встречаться с ними, не нарушая традиций своего круга. Прежде всего я вспомнила о миссис Джесси Фросингэм, начальнице привилегированной школы для девочек. Заведение миссис Фросингэм находилось по соседству с пансионом мисс Аберкромби, где закончила свое образование сама Сильвия. Школа эта отличалась такой исключительной дороговизной и была так мало доступна, что даже самый требовательный светский человек не мог желать в этом отношении ничего лучшего. Представьте же себе изумление Сильвии, когда я сказала ей, что начальница этого аристократического заведения – член социалистической партии и без стеснения поднимает публично свой голос в нашу пользу.
– Как же ей удается совмещать такие крайности?
– С одной стороны, – ответила я, – школа ее очень хороша, и никто никогда не пробовал оспаривать это. С другой же, она обладает такой безмятежной ясностью духа и независимостью, что, не стесняясь, высказывает в глаза миллионерам-папашам всю правду. При этом случалось не раз, что у кого-нибудь из великих мира сего возникало желание, чтобы дочь его сделалась такой же умной и дельной женщиной, как эта начальница, а там уж все равно, пусть ее голосует, за кого хочет.
Это опять-таки могло послужить доказательством того, как сильно мы шагнули вперед. Передовые женщины перестали быть жупелом и приобрели в глазах общества несомненный интерес…
Я протелефонировала от Сильвии миссис Фросингэм, и та ответила:
– Не хочет ли миссис ван Тьювер послушать мою речь? Я буду говорить на следующей неделе на митинге на Уолл-стрите.
Я передала вопрос Сильвии, и та с восторгом согласилась.
– Разве спрашивают маленького мальчика, хочет ли он пойти в цирк?
Мы условились, что Сильвия отвезет нас в своем автомобиле. Вообразите себе меня с моими знатными друзьями – старую рябую курицу в обществе двух золотистых фазанов. Я держалась в стороне, представляя им познакомиться самим. Я знала, что мое дело находится в руках такой женщины, как миссис Фросингэм.
Сильвия была в восторге от того, что она услышит социалистическую речь, и выражала удивление перед мужеством миссис Фросингэм. Тем временем мы проскользнули между вереницей автомобилей, омнибусов и трамваев, заполнявших Бродвэй, и наконец остановились на углу Уолл-стрита. Здесь миссис Фросингэм выразила желание выйти из автомобиля и дойти до места пешком. Миссис ван Тьювер легко могли заметить и узнать, а ей, пожалуй, не следовало открыто показываться на улице с митинговым агитатором. Сильвия попробовала было протестовать, но миссис Фросингэм, добродушно рассмеявшись, уверила ее, что миссис ван Тьювер еще успеет скомпрометировать себя, когда познакомится с ее убеждениями.
Митинг должен был состояться у подножия лестницы Казначейства. Мы обогнули этот квартал по Брод-стриту и остановились за углом. Подобные митинги на открытом воздухе устраивались в городе в течение всего лета и осени, так что публика успела привыкнуть к ним. Поэтому, хотя до двенадцати часов оставалось еще несколько минут, на улице толпилось уже порядочное количество людей. На широких ступенях лестницы стояла группа мужчин. Один из них держал в руках красное знамя, а остальные – пачки брошюр и книг. Среди них была и наша приятельница. Она посмотрела в нашу сторону и улыбнулась, но не подала вида, что знает нас.
Сильвия откинула воротник своего собольего пальто и сидела, напряженно выпрямившись. Ее карие глаза возбужденно блестели, а золотистые волосы выбились из-под маленьких полей мягкой бархатной шляпы светлым ореолом. Она с жадным любопытством разглядывала группы озабоченных людей, спешивших к этому углу.
Я не испытывала такого волнения со дня своего первого бала, – шепнула она мне.
Толпа так возросла, что пробраться через Уолл-стрит стало почти невозможно. На башне старой церкви Святой Троицы часы пробили полдень, и митинг должен был начаться с минуты на минуту. Вдруг я услышала восклицание Сильвии и, обернувшись, увидела прекрасно одетого господина, который, выйдя из конторы «Морган и компания», пробирался к нам сквозь толпу. Сильвия схватила меня за руку, лежавшую на сиденье автомобиля, и еле слышно прошептала:
– Мой муж!
Мне, конечно, интересно было взглянуть на Дугласа ван Тьювера. Я слышала о нем от Клэр Лепаж и самой Сильвии, видела его портреты в газетах и тщательно всматривалась в них, стараясь разгадать, что это за человек.
Я знала, что ему двадцать четыре года, но господину, приближавшемуся к нам, я смело дала бы все сорок. У него было усталое лицо с крупными чертами и резко очерченными линиями в углах рта. Он был высок ростом и худощав. В движениях его сквозила решительность и не было заметно ни малейших признаков волнения, хотя он несомненно был очень удивлен в этот момент.
– Что вы здесь делаете? – были его первые слова.
Должна сознаться, что такой неожиданный оборот событий порядком ошеломил меня, и по судорожному пожатию Сильвии, не выпускавшей мою руку, я понимала, что она испытывает то же самое. Но тут я получила наглядный урок светской выдержки. Лицо ее чуточку побледнело, но голос звучал вполне спокойно, и слова лились естественно и просто, когда она ответила:
– Мы не можем пробраться сквозь толпу.
При этом она обвела вокруг себя взглядом, как бы желая сказать: «Убедитесь сами».
Одно из правил Леди Ди гласило, что всякая леди имеет право прибегать ко лжи в том случае, когда другого выхода нет.
Муж Сильвии оглянулся кругом.
– Почему же вы не обратились к полицейскому? – сказал он, делая движение, чтобы тут же сделать это.
Я решила, что моей приятельнице так и не суждено услышать митинг. Но она оказалась тверже, чем я ожидала.
– Нет, – сказала Сильвия, – пожалуйста, не делай этого.
– Почему же? – В его холодных серых глазах по-прежнему не отражалось и тени волнения.
– Потому что… здесь, кажется, происходит что-то интересное.
– Что же из этого?
– Я не тороплюсь и хотела бы посмотреть. Он постоял минуту, глядя на толпу.
Миссис Фросингэм как раз выступила вперед, собираясь, по-видимому, заговорить.
– В чем тут дело, Феррис? – спросил ван Тьювер у шофера.
– Право, не знаю, сэр, – ответил тот. – Кажется, социалистический митинг.
Он, конечно, прекрасно понимал смысл той маленькой комедии, которая разыгралась за его спиной. Меня интересует только, что он думал об этом?
– Социалистический митинг? – переспросил ван Тьювер, затем, обернувшись к жене, он спросил: – Не собираетесь же вы оставаться здесь ради этого? Снова Сильвия удивила меня.
– Мне очень хотелось бы послушать, – просто ответила она.
Он ничего не возразил. Я увидела, как он поглядел на нее и затем на меня. Я сидела в углу, стараясь быть как можно менее заметной. В эту минуту я ломала себе голову над тем, кого я изображаю здесь: наставницу или швею, и принято ли представлять столь незначительных особ и подавать им руку. Миссис Фросингэм заняла свое место у подножия статуи Вашингтона. Не узнала ли она случайно высокого безукоризненного господина, стоявшего у автомобиля? Но не успела она произнести три первые фразы, как я уже убедилась в том, что мое предположение верно, и дерзость ее поразила меня.
– Товарищи и граждане! – начала она. Товарищи разбойники с Уолл-стрита! – И когда взрыв смеха стих, она продолжала: – То, что я хочу сказать, относится к американским миллионерам. Полагаю, что хотя бы один из них находится здесь, а кроме него найдется, несомненно, несколько человек, которым предназначено стать миллионерами, и не менее тысячи питающих надежду стать таковыми. Итак, я обращаюсь к вам, господин миллионер, – продолжала она с улыбкой, за которой чувствовался неисчерпаемый запас силы и юмора.
Симпатии толпы сразу перешли на сторону оратора, симпатии всех, кроме одного. Я украдкой взглянула на миллионера и увидела, что лицо его хмуро и неподвижно.
– Не хотите ли сесть в автомобиль! – спросила его жена, но он холодно ответил ей:
– Нет, я подожду, пока вы наслушаетесь вдоволь.
– Прошлым летом я испытала странное впечатление, – продолжала миссис Фросингэм. – Я была приглашена на состязание в теннис, происходившее на площадке государственной лечебницы для душевнобольных. Игроками были доктора этого заведения. В прекрасный солнечный день дамы и мужчины в праздничных светлых нарядах развлекались игрой, забыв о мрачном здании с железными решетками, откуда изредка долетали до нас крики безумцев. Несколько из этих несчастных, меньше других обиженных судьбой, находились на свободе и подбирали мячи. Весь этот день, попивая чай, болтая и следя за игрой, я говорила себе: «Вот самое совершенное подобие нашей цивилизации, какое мне когда-либо приходилось видеть.
Одни одеваются в белое и играют целыми днями в теннис, а другие подбирают мячи или воют в отделении для душевнобольных за решетками тюрем». Вот в этом и заключается проблема, которую я хочу предложить моему американскому миллионеру, проблема, которую я назову стадией цивилизации в сумасшедшем доме. Заметьте, что такие условия могут существовать только до тех пор, пока мы утверждаем, что больные неизлечимы, что нам не остается ничего другого, как заткнуть себе уши, чтобы не слышать их криков, и продолжать игру. Но представьте себе, что у нас мелькнет мысль: «Не оттого ли сумасшедшие дома так переполнены, что мы целыми днями играем в теннис?» – и тогда вопли их станут невыносимо терзать наш слух, а игра утратит всю свою прелесть.
Бросая украдкой взгляды на толпу, я заметила, что многие наблюдали за миллионером. Они, по-видимому, узнали его и забавлялись этой игрой.
– Не довольно ли с вас? – спросил он вдруг жену, она простодушно ответила:
– Нет, подождем еще. Мне очень интересно.
– Так вот, послушайте меня, господин американский миллионер, – продолжал оратор. – Вы играете в теннис, а мы, подбирающие для вас мячи, мы – сумасшедшие. Моя цель – доказать вам сегодня, что нам приходится целый день бегать за мячами только потому, что вам угодно целыми днями играть в теннис, и что скоро настанет время, когда мы из душевнобольных превратимся в таких же здоровых людей, как вы, а тогда придется уж вам самому побегать за мячами. Однако не забавляйтесь чересчур моим примером и не забывайте о серьезности вопроса, который я ставлю перед вами, вопроса об ужасном экономическом безумии, имя которому – нищета. Не забывайте, что ему мы обязаны большинством зол, которые терзают сейчас мир, – преступлениям и проституции, самоубийствам, душевным болезням и войной. Моя цель показать вам – не с помощью собственных предположений или обращения к вашей вере, а холодными деловыми фактами, которые могут быть поняты и на Уолл-стрите, – что это экономическое сумасшествие вполне излечимо, что лекарство находится в наших руках, и не хватает только разумения и желания, чтобы применить его.
Я не стану утомлять вас цитированием социалистической речи…
Мне хотелось бы только хоть отчасти передать вам впечатление, произведенное оратором. Она изумительно овладела положением и заразила своим добродушным юмором аудиторию. По толпе то и дело пробегала рябь смеха, на всех лицах было написано живое любопытство, каждое слово ловилось на лету. Все были заинтересованы ее речью, все, кроме одного, – Дугласа ван Тьювера. Лицо его оставалось таким же непроницаемым, на нем ни разу не мелькнуло тени улыбки или какого-нибудь чувства. Однако, наблюдая за ним вблизи, я заметила, что суровые линии около рта углубились еще сильнее, а длинное худое лицо стало еще более неподвижным.
Оратор указал на средство борьбы с этим злом – изменение системы производства ради прибыли на систему производства ради пользы. Она объяснила, что перемена эта надвигается, умалишенные начинают сомневаться в божественном происхождении правил сумасшедшего дома и готовы каждую минуту возмутиться и взять в свои руки власть над этим жестоким заведением.
В этот момент я заметила, что терпение мужа Сильвии лопнуло. Он повернулся к ней:
– Что же, с вас еще недостаточно?
– Нет, право, – начала она, – если вы не имеете ничего против…
– Имею и даже очень много. Мне кажется, что вы нарушаете приличия, оставаясь здесь, и я буду вам чрезвычайно признателен, если вы уедете.
Затем, не дожидаясь ответа Сильвии, он приказал:
– Поезжайте назад, Феррис.
Шофер пустил в ход машину и затрубил в рог, что, разумеется, нарушило порядок митинга. Люди решили, что мы собираемся пробираться вперед сквозь толпу, а там податься было некуда. Но ван Тьювер обошел автомобиль и сказал спокойным властным тоном: «Немного места, пожалуйста!» Подвигаясь шаг за шагом задним ходом, мы покинули митинг. Когда мы выбрались из толпы, хозяин сел в автомобиль, мы повернули и помчались по Брод-стриту.
Тут я познакомилась с тем, что считается высшим аристократизмом. Ван Тьювер был, несомненно, рассержен. Мне казалось даже, что он подозревает свою жену в том, что она приехала ради митинга. Я думала, что он станет расспрашивать ее, что он, по крайней мере, выразит свое мнение о речи оратора и негодование по поводу того, как светская женщина может позорить себя таким образом. Мужья, которых я знала до сих пор, никогда не стеснялись выражать свое неудовольствие при подобных обстоятельствах. Но Дуглас ван Тьювер не произнес ни единого слова. Он сидел, выпрямившись, неподвижный, словно сфинкс, глядя прямо перед собой. И Сильвия, раза два взглянув на него, принялась весело болтать о своих планах насчет яслей для детей женщин-работниц.
Мы проехали таким образом несколько кварталов, как вдруг Сильвия наклонилась вперед.
– Остановитесь здесь, Феррис, – сказала она и обратилась ко мне: – Вот Банк Америки.
– Банк? – переспросила я в немом изумлении.
– Ну да, здесь вы можете разменять свой чек, – сказала Сильвия, ущипнув меня.
Я поняла в чем дело, собрала свои вещи и вышла. Она горячо пожала мне руку, муж ее очень официально приподнял шляпу, и автомобиль покатил дальше. Я стояла на тротуаре, глядя им вслед, и чувствовала себя жалкой деревенщиной, которой было бы как раз в пору жить в те времена, когда Илья-Пророк носился по небу в огненной колеснице.
Сильвия поступила со мной не совсем вежливо, а потому не успела я вернуться домой, как посланец принес мне от нее записку. Чтобы успокоить ее, я обещала зайти к ней на следующее утро. Увидя на другой день ее прелестное расстроенное личико, я совсем забыла о ее светскости и сделала то, о чем мечтала с самого начала нашего знакомства, то есть обняла ее и поцеловала.
– Дорогая моя девочка, – сказала я, – я не хочу быть для вас обузой. У меня одно желание – помочь вам.
– Но, – воскликнула она, – что вы должны были подумать…
– Я подумала, что счастливо отделалась, – засмеялась я. Она была горда, горда, как индеец, ей тяжело было говорить о своем муже. Но в этом случае мы, действительно, были очень похожи на двух школьниц, которых поймали на какой-нибудь проделке.
– Не знаю, что мне предпринять, – сказала она с легкой усмешкой. – Он просто не желает ничего слушать, я не могу повлиять на него.
– Догадывается ли он, что вы поехали туда не случайно? – спросила я.
– Я сама сказала ему, – ответила она.
– Вы сказали ему!
– Я не собиралась выдавать ему свою тайну. Но я не хотела лгать по такому пустяковому поводу. Он отнесся к этому так серьезно.
По ее тону я поняла, что он отнесся очень и очень серьезно. Однако я не стала расспрашивать ее и подождала, чтобы она сама рассказала мне то, что найдет нужным.
– Оказывается, что одна из кузин моего мужа – воспитанница миссис Фросингэм. Представьте себе!
– Я представляю себе, что миссис Фросингэм может потерять одну ученицу.
– Нет! Мой муж говорит, что его дядя Арчибальд всегда отличался глупостью. Но как можно быть таким ограниченным человеком! Он принял речь миссис Фросингэм за личное оскорбление.
Она в первый раз упрекнула мужа в моем присутствии. Я решила обратить это в шутку.
– Миссис Фросингэм будет очень приятно узнать, что ее поняли, – сказала я.
– Нет, серьезно, почему люди не могут без предубеждения подходить к политике и деньгам? – продолжала она взволнованным голосом. – Я сразу поняла, что он такой, когда встретилась с ним в Гарварде. Он жил в собственном доме и держался в стороне от бедных студентов, которые казались мне достойными всяческого уважения. И когда я заметила ему, как дурно это должно отражаться на них и на нем самом, он заявил, что сделает все, что я захочу. Он даже отказался от своей квартиры и перебрался в общежитие. Из этого я заключила, что могу иметь на него некоторое влияние. Теперь я столкнулась с той же чертой его характера, но вижу, что на собственного мужа влиять невозможно. По крайней мере, он не признает за мной этого права. – Она заколебалась. – Пожалуй, это не совсем хорошо, что я говорю так.
– Дорогая детка, – сказала я в приливе нежности. – Вы не сказали мне ничего нового. Мое собственное счастье разбилось вдребезги об эту скалу.
На лице ее отразилось удивление.
– Я еще не рассказывала вам о себе, – продолжала я. – Я сделаю это в тот день, когда почувствую, что мы стали достаточно близкими друг другу, чтобы быть вполне откровенными.
В этих словах заключался ясный намек. Помолчав немного, Сильвия сказала:
– Каждый человек инстинктивно скрывает свои неприятности.
– Сильвия, – ответила я, – я хочу поговорить с вами о наших отношениях. Вы должны понять, что для меня вы были диковинкой. Вы принадлежите к миру, с которым я никогда не имела ничего общего. Я даже никогда не представляла себе, что загляну в него. В этом и заключается зло нашего классового общества. Человеческие существа лишены возможности просто, по-человечески подходить друг к другу. Король едва ли может иметь друга. Даже поборов к себе невольное благоговение, которое вызывает во мне окружающая вас роскошь и пышность, я не могу отделаться от сознания, что все остальные люди падают ниц перед ними. Стоит мне только упомянуть о том, что я знакома с вами, как все тотчас же с изумлением раскрывают глаза, и я в один миг превращаюсь для них в важную особу.
Сильвия молча смотрела на меня.
– Я никогда не представляла себе, – продолжала я, – чтобы человек, находящийся в вашем положении, мог остаться правдивым, искренним и человечным. Однако теперь я вижу, что вы воплощаете все это. Поэтому сердце мое полно любви к вам и желания помочь вам всем, что только будет в моих силах. Но вы должны понять, что я не жду от вас откровенности, как от всякой другой женщины, да и не требую ее. Богатые и знатные всегда возбуждают вокруг себя пошлое любопытство, и я, конечно, понимаю, до какой степени оно должно быть ненавистно вам. Во мне самой при одной мысли об этом поднимается отвращение. Поэтому я скажу вам только следующее: «Если я нужна вам, если вы когда-либо нуждались в настоящем друге, я тут, подле вас. Вы можете быть спокойны, что я пойму вас и никому не открою ваших тайн».
Глаза Сильвии были влажны, когда она протянула мне руку. Мы вошли вместе в комнату и забыли на некоторое время о холодном, недоверчивом мире, простиравшемся за этими стенами.
Теперь мы достаточно хорошо знали друг друга, чтобы обсуждать вопрос, интересовавший женщин еще в те времена, когда они сидели на порогах своих пещер и толкли семена диких растений в каменной ступке. Это был вечный вопрос о наших властелинах, которые отправились на охоту и, быть может, вернувшись, пожелают побить нас. Сильвия рассказала все, что она знала о мужчинах со слов людей, воспитавших ее. Таким образом, я познакомилась с единственным в своем роде сборником женских традиций – с заповедями Леди Ди Лайль.
Леди Ди – двоюродная бабушка Сильвии со стороны матери – была важная дама великого века и при этом, как ни странно, – суровым седым ветераном в борьбе женщин против мужчин. Ее философия базировалась на признании полного физического и экономического подчинения женщины, и ни одна воинственная суфражистка, разбивающая оконные стекла, не сумела бы лучше сформулировать этот принцип. Но средство борьбы, которое предлагала Леди Ди, носило чисто индивидуальную окраску. Единственным орудием женщины, принадлежавшей к классу собственников, является ее пол. Леди Ди, конечно, не употребляла этого слова, ведь это было почти то же самое, что заговорить об несварении желудка. Она пользовалась другим термином – «очарование» и внушала Сильвии, что в этом «очаровании» – весь смысл жизни женщины. Сохраняя «очарование», она оставалась настоящей «леди», а утратив его, становилась презреннее всякого животного.
Все это Леди Ди доказывала Сильвии не только собственным примером и случайными фактами, но наставлениями и изречениями, которые она произносила с такой же торжественностью, как если бы это были библейские тексты.
– Помни, дорогая моя, что женщина, имеющая мужа, подобна укротителю льва с кнутом в руке, – говорила старая леди и начинала объяснять, как опасна и тяжела жизнь укротителей львов; как само существование их может считаться безопасным лишь до тех пор, пока они исполнены недоверия к тварям, которыми управляют.
Она рассказывала о жалкой участи тех, кто, хотя бы на короткий миг, забывал, что имеет дело со зверями.
– Да, дорогая моя, – заключила она, – верь в любовь, но раньше заставь поверить в нее мужчину.
Ее заповеди никогда не страдали многословием.
Целью этой борьбы являлись не только стол, кров и дети, но и первенство и торжество пола, дававшие женщине возможность устраивать жизнь по своему желанию. С помощью магического «очарования» женщина обращала свои слабости в преимущества и свои цепи в украшения. Она окружала себя ореолом чего-то редкого и чудесного, и мужчина с благоговением взирал на нее. Это была «романтическая любовь», но, вместо того чтобы окончиться браком, она продолжалась всю жизнь.
Все женщины из рода Кассельменов были знакомы с этим искусством и широко пользовались им. Вот, например, тетя Ненни: когда она щелкала своим бичом, милый старый лев, епископ, подпрыгивал, точно от выстрела. Весь свет знал историю о том, как однажды на званом банкете он поднялся и сказал:
– Леди и джентльмены, я собирался произнести сегодня речь перед вами, но так как среди приглашенных я вижу свою жену, то прошу извинить меня.
Все захохотали, а тетя Ненни пришла в ярость. Но бедный славный епископ Чайльтон сказал святую правду – он не мог расправить крылья своего красноречия в присутствии своей «лучшей половины».
Но и с майором Кассельменом дело обстояло не лучше, хотя внешне носило несколько иной характер. Мать Сильвии позволила себе растолстеть, что являлось, с точки зрения Леди Ди, опасным признаком доверия к мужчине-животному. Но майор был на пятнадцать лет старше своей жены, а у нее было слабое сердце, чем она держала его в страхе. Время от времени своеволие юного отпрыска семьи Кассельмен становилось просто нестерпимым, и тогда отец хватал мальчика за шиворот, перекидывал его через колено и устраивал маленькую экзекуцию. Крики сына долетали до «мисс Маргарет», и она тотчас же устремлялась к нему на выручку.
– Майор Кассельмен, как вы смеете бить одного из моих детей?!
Она вырывала мальчика из рук отца и, приняв грозный и высокомерный вид, удалялась в свои апартаменты, где и запиралась вместе с ребенком. После этого бедный майор целыми часами бродил по дому, как неприкаянный, страдая от одиночества. Иногда он робко стучал в двери своей повелительницы.
– Душечка! Душечка! Ты еще сердишься на меня?
– Майор Кассельмен, – доносился оттуда полный достоинства ответ, – не будете ли вы добры предоставить мне в доме одну комнату, где бы я могла уединиться?
Но я боюсь, как бы у читателя не создалось превратного представления о Сильвии, и потому спешу оговориться. Дело в том, что моя юная приятельница, несмотря на такую осведомленность в теоретических вопросах пола, обнаруживала наряду с этим поразительное неведение относительно той роли, которую женщина играет в повседневной жизни. Я попробовала заговорить с ней о том виде экономического рабства, который еще сильнее, чем эксплуатация детского труда, возмущает нравственное чувство всякой женщины. Но, к моему величайшему удивлению, эта женщина после целого года замужества не знала, что такое проституция. Впрочем, на этот счет у нее имелись кое-какие подозрения, и она робко спросила меня:
– Неужели правда, что близость, составляющая сущность брака, становится предметом торга?
Узнав от меня правду, она пришла в такой ужас, что разговаривать дальше об экономической стороне вопроса стало невозможным. Как могла я утверждать, что женщину толкала на этот шаг нищета? Женщина с чистым сердцем скорее согласится умереть с голоду, нежели продаст мужчине свое тело. Быть может, мне следовало быть терпеливее, но я не могу спокойно говорить об этих вещах.
– Дорогая моя миссис ван Тьювер, – сказала я, – об этих вещах говорится много ерунды. Но лишь в редких случаях женщина имеет возможность свободного выбора. Большей частью цена ее бывает определена уже заранее.
– Я не понимаю, – сказала она.
– Не знаю, как обстояло дело с вами, – ответила я, – но относительно себя скажу, что я вышла замуж, потому что была несчастна и желала иметь свой угол. И если говорить правду, то большинство женщин выходит замуж только поэтому.
– Но какое же это может иметь отношение к тому?.. – воскликнула она, искренно отказываясь понять меня.
– А в чем же вы видите разницу? Разве только в том, что порядочные женщины выходят замуж, получают постоянное содержание, а проститутка отдается за разовую плату?
Я заметила, что мои слова неприятно поразили ее, и сказала:
– Вы не можете понять этого, потому что никогда не знали нужды, а поэтому не имеете права судить тех, кто испытал ее. Однако вы, несомненно, встречали светских женщин, которые выходили замуж ради денег, и, конечно, согласитесь со мной, что это та же проституция.
Она вдруг как-то притихла, и я поняла, что я наделала. Вы, пожалуй, найдете, что мне следовало устыдиться. Но когда видишь столько горя и несправедливостей, сколько видела их я, поневоле перестанешь считаться с утонченной чувствительностью и щепетильностью праздных богачей. Я рассказала ей несколько случаев из жизни, по которым она могла судить, что значит в наше время нищета для женщины.
Сильвия продолжала молчать, и я спросила ее, как она ухитрилась сохранить подобное неведение. Ведь попадалось же ей, несомненно, в книгах слово «проституция», и она не могла не слышать намеков на «полусвет».
– Конечно, – сказала она, – мне приходилось встречать на скачках в Новом Орлеане подозрительного вида женщин. Я сидела неподалеку от них в ресторанах и догадывалась по возбуждению моей матери и по взглядам, которые она бросала на них, что это дурные женщины. Но, видите ли, я совсем не понимала, что это значит. У меня было только смутное чувство, что под этим кроется что-то ужасное.
Я улыбнулась.
– Значит, Леди Ди не раскрыла перед вами всех возможностей ее системы «очарования»?
– Да, – ответила Сильвия, – очевидно, она не все сказала мне.
Она молча смотрела на меня, стараясь собраться с духом, чтобы продолжать этот разговор. Наконец, набравшись мужества, она воскликнула:
– По-моему, это очень неправильно. Девушек не следует воспитывать в таком неведении. Они должны знать, что означают подобные вещи. Подумайте, ведь я понятия не имела, в чем состоит суть брака!
– Неужели? – спросила я.
– Всю свою жизнь я думала о браке. Меня приучили думать об этом при встрече с каждым подходящим мужчиной. Но в моем представлении это означало, что я буду иметь свой дом, то есть такое место, где я смогу принимать гостей. Я рисовала себе, как буду кататься со своим мужем и устраивать обеды для его друзей. Я знала, что должна буду позволять ему целовать себя, но ничего больше… У меня мелькали какие-то смутные мысли, но я не останавливалась на них. Меня учили ни над чем не задумываться и отгонять все фривольные мысли, которые могли возникнуть в моей голове. И я продолжала мечтать о том, какие платья я стану носить и как я стану встречать своего мужа, когда он будет возвращаться домой по вечерам.
– Но разве вам не приходила в голову мысль о детях?
– Да… но я думала о детях вообще. О том, каковы они будут, как будут говорить и как я буду любить их. Не знаю, все ли молодые девушки нашего круга так же умственно ограниченны?
В голосе Сильвии слышалось волнение, и я читала в ее глазах гораздо больше, чем она могла думать. Я была близка к разрешению загадки, так долго смущавшей меня. И мне хотелось взять ее руки в свои и сказать ей: «Ведь вы никогда не вышли бы за него, если бы понимали, что это значит».
Сильвия держалась того мнения, что ее должны были просветить насчет этих вопросов. Задумавшись над тем, кто бы мог это сделать, она не могла ни на ком остановится.
– А ваша мать? – спросила я.
Но Сильвия только рассмеялась, несмотря на серьезное настроение.
– Бедная милая мама! Когда меня собирали в пансион, она отвела меня в сторону и принялась внушать мне, чтобы я не слушала пошлой болтовни девочек. Она дала мне понять, что я должна избегать подобных разговоров, и я добросовестно старалась избегать их. Я уверена, что даже теперь она охотнее дала бы отрезать себе язык, чем заговорила бы со мной о подобных вещах.
– Я беседовала об этом с моими детьми, – вставила я.
– И вы не чувствовали смущения?
– Вначале немного. Мне приходилось преодолевать некоторую неловкость. Но воспоминание о трагедии, разыгравшейся однажды на моих глазах, придавало мне мужество.
Я рассказала ей случай с моим племянником, робким впечатлительным юношей, который часто приходил искать у меня утешения. Я любила его не меньше своих родных детей. Когда ему минуло семнадцать лет, он сделался вдруг угрюмым и раздражительным. Однажды он убежал из дома и пропадал больше шести месяцев, но потом вернулся и был прощен. Однако это не изменило к лучшему его настроение. Однажды вечером он явился ко мне, и я сделала все, чтобы вызвать его на откровенность. Но он молчал. Через несколько часов после его ухода я нашла письмо, которое он засунул под скатерть. Пробежав его глазами, я стремительно выбежала из дома, вскочила на лошадь и помчалась, как безумная, к моему деверю. Но было уже поздно. Бедный мальчик застрелился. Он взял в свою комнату ружье, вставил дуло в рот, а на курок нажал ногой. В письме он объяснил мне, в чем было дело. Он сошелся в городе с одной женщиной и заразился от нее сифилисом. Он попробовал лечиться, но попал в руки шарлатана, который вытянул из него все деньги и только сильнее расшатал его здоровье. Тогда несчастный юноша с отчаяния и стыда прострелил себе голову.
Я остановилась, неуверенная в том, что Сильвия поняла мой рассказ.
– А вы знаете, что такое сифилис? – спросила я.
– Кажется… я слышала о какой-то дурной болезни, – ответила она.
– Это очень дурная болезнь. Но если вы подразумеваете под этим словом, что только дурные люди болеют ею, то я должна сказать вам, что почти все мужчины подвергают себя риску получить ее. Однако они достаточно жестоки, чтобы презирать тех, кого настигла эта беда. Мой бедный племянник был совершенно несведущим юношей. Я, к сожалению слишком поздно узнала об этом от его отца. В мальчике пробудился инстинкт, о котором он абсолютно ничего не знал. Приятели растолковали ему, в чем дело, и он последовал их указаниям. А затем наступил ужас и стыд. Тяжелым душевным состоянием юноши воспользовался невежественный негодяй, который выгнал его, как только тот остался без гроша. И вот он вернулся домой, затаив в сердце ужасную тайну. Я представила себе, как он бродил вокруг моего дома, стараясь набраться мужества, чтобы довериться мне, как он колебался и, наконец, остановился на своем страшном решении.
Я умолкла, потому что до сих пор не могу вспоминать об этой драме без слез. Я не могу даже держать у себя в комнате его портрет, ибо при взгляде на это милое лицо меня начинают преследовать упреки совести.
– Вы поймите, – сказала я Сильвии, – что я никогда не могла забыть этого урока. Я поклялась над трупом несчастного мальчика, что, коль скоро это будет зависеть от меня, ни один юноша и ни одна девушка не выйдут в свет такими несведущими, как мой бедный племянник. Я стала читать книги по этому вопросу, и одно время бала настоящим фанатиком своей идеи. Я разговаривала об этом со стариками и с молодыми; всюду, где я показывалась, я нарушала установленные запреты; правда, многих это шокировало, но зато я знала, что многим и многим я приношу пользу.
Все это, разумеется, было непостижимо для Сильвии. Какой характерный контраст по сравнению с рассказанной мною драмой представлял собой единственный случай из области венерических болезней, который был известен ей. Она рассказала мне, как познакомила свою приятельницу Гарриет Аткинсон с молодым отпрыском одной старинной и знатной семьи в Чарльстоне. После свадьбы здоровье ее подруги сразу сильно пошатнулось. Теперь она была уже настоящим инвалидом, жила в одиночестве в старой полуразрушенной усадьбе, не видя никого, кроме черных слуг, и призывала смерть, которая одна могла принести ей избавление.
– Конечно, я не знаю, но, может быть… может быть, это была та болезнь, о которой вы говорите. Никто из моих близких не решился бы сказать мне это. Впрочем, я не поручусь вам, что они сами знали что-нибудь. Случилось это перед самой моей свадьбой, и вы поймете, конечно, какое тяжелое впечатление произвело на меня такое несчастье. В это же время я случайно прочла кое-что в одном журнале, и мне пришло в голову, что… что, может быть, мой жених… что, пожалуй, кому-нибудь следовало бы расспросить его, вы понимаете…
Она умолкла, щеки ее запылали при воспоминании о бывшем волнении, к которому теперь присоединилось новое чувство. Существуют ведь болезни души, точно так же как болезни тела, и одна из них называется ложная стыдливость.
– Я понимаю, – успокоила я ее. – Вы, безусловно, имели полное право побеспокоиться об этом.
– Я попробовала заговорить об этом с тетей Вариной, затем написала дяде Базилю и попросила его написать, в свою очередь, Дугласу. Сначала он ответил отказом и решился исполнить мою просьбу лишь после того, как я пригрозила ему, что обращусь к отцу.
– Что же вы узнали?
– Что? Мой дядя написал, и Дуглас очень любезно ответил ему, что он прекрасно понимает мою тревогу, но что все в порядке, и мне нечего беспокоиться. Я никогда не думала, что стану рассказывать кому-нибудь об этом инциденте.
– Множество людей рассказывали мне подобные вещи, – ответила я, чтобы успокоить ее, затем после паузы добавила: – Но объясните мне, как вы могли связывать мысль об этой болезни с замужеством, не зная, в чем состоит суть брака?
Сильвия ответила, глядя на меня широко раскрытыми невинными глазами:
– Я понятия не имела о том, каким образом эта болезнь передается. Я думала, что ею можно заразиться через поцелуи…
Меня снова поразила мысль о том, как ужасен этот предрассудок, называемый ложной стыдливостью. Разве можно представить себе что-либо губительнее запрета, налагаемого на подобные вопросы? Здесь ставится на карту все будущее: здоровье – умственное и физическое – и само существование нации. Какой злой враг мог внушить нам, что мы чувствовали себя преступниками, когда заговариваем на эту тему?
Наша близость все увеличивалась, и наконец настал день, когда Сильвия рассказала мне о своем замужестве. Она согласилась выйти за Дугласа, потому что потеряла Франка Ширли, и сердце ее было разбито. Она не представляла себе, что сможет когда-нибудь полюбить другого человека.
Не зная, что такое брак, она без большой борьбы подчинилась уговорам семьи, имея в виду лишь ее благо. Родные говорили ей, что любовь придет потом, а Дуглас умолял дать ему возможность заслужить эту любовь. Сильвия представила себе, сколько добра она сможет сделать на деньги мужа как для своих близких, так и для тех, кого она очень неопределенно называла «бедные». И вот теперь она все больше убеждалась, что способна сделать для них лишь очень немногое.
– Я не могу назвать своего мужа скупым, – сказала она. – Напротив, стоит мне только намекнуть ему, и я немедленно получаю все, что захочу. У меня есть дома в самых разнообразных углах Америки: он дал мне carte blanche открывать счета в любом городе обоих полушарий. Если кому-нибудь из моих родных нужны деньги, я получаю их без всяких затруднений. Но если я прошу у него деньги для личных расходов, то он сейчас же спрашивает, что я буду с ними делать, и тут я натыкаюсь на каменную стену его убеждений.
Вначале столкновение с этой стеной только изумляло и огорчало Сильвию. Но с помощью Веблена и моей особы она поняла, в чем дело. Дуглас ван Тьювер тратил деньги по определенной системе: траты, которые шли на поддержание его общественного положения или усиливали престиж, мощь и славу имени ван Тьювера, делались легко и охотно. Деньги же, истраченные на всякие другие цели, считались выброшенными на ветер, а к таким расходам относилось все то, что носило идейный характер. И когда глава дома узнавал, что деньги его выбрасываются зря, он бывал недоволен.
– Только выйдя за него замуж, я поняла, какую праздную жизнь он ведет, – рассказывала она. – У нас дома все мужчины несут какие-нибудь обязанности. Одни управляют своими плантациями, другие занимают выборные должности. Но Дуглас никогда не делает ничего такого, что можно было бы назвать полезным.
Его состояние было вложено в недвижимое имущество нью-йоркского городского управления, как объяснила мне Сильвия. Там у него была небольшая контора, которую обслуживала целая армия клерков и агентов. Этот аппарат создали и наладили его предки, и от них он по наследству перешел к Дугласу. Все его обязанности сводились к тому, чтобы заходить туда на часок-другой раз в неделю, когда он бывал в городе, или подписывать пачку документов, когда он находился в отсутствии. Жизнь свою он проводил в обществе людей, которых общественный строй освободил от всяких обязанностей точно так же, как и его. И все они выработав себе в целом ряде поколений новые своеобразные обязательства, жили вне всякой связи с действительностью. В такую-то жизнь вступила благодаря замужеству Сильвия. Словно поток подхватил ее и унес от берегов. Пока она плыла, не размышляя, все шло хорошо, но стоило ей только почувствовать желание уцепиться за что-нибудь и остановиться, как течение с силой отрывало ее и мчало дальше, грозя утопить.
Постепенно мне удалось благодаря Сильвии заглянуть в тот странный мир, где протекала ее жизнь. Муж ее, по-видимому, находил мало удовольствия в этом существовании.
– Он считает обязательным для себя делать все то, что принято делать в его кругу, – говорила Сильвия. – Он больше всего боится выделиться. Я указала ему, что поступая так, как принято поступать в его кругу, он больше обращает на себя внимания, но он ответил мне, что всем еще более бросится в глаза, если она станет поступать иначе.
Мне понадобилось немало времени, чтобы как следует познакомиться с Сильвией, потому что мир, в котором она жила, постоянно заявлял на нее претензии. Как только она сообщала мне по телефону, что у нее есть свободные полчаса, я тотчас же спешила к ней. Обычно я заставала ее за переодеванием, она отсылала свою горничную, и мы беседовали до тех пор, пока она не опаздывала на какой-нибудь званый обед или вечер. А это было далеко не безразлично, потому что кто-нибудь мог почувствовать себя обиженным. Она всегда была, что называется, на иголках из страха совершить какой-нибудь промах. Впечатление получалось такое, точно в светском кругу все только и следят друг за другом. Существовала целая, точно разработанная наука о том, как следует обходиться с людьми, с которыми приходится встречаться, чтобы они не почувствовали себя оскорбленными, или, наоборот, обиделись бы, смотря по обстоятельствам.
Чтобы наслаждаться подобной жизнью, необходимо было верить в то, что она имеет смысл. Дуглас ван Тьювер верил; это была его религия, единственная, которую он исповедовал. Как верующий он был безупречен, но церковь являлась для него частью общественной рутины. Он гордился Сильвией и, по-видимому, с удовольствием показывался с ней. И Сильвия покорно бывала с ним повсюду, потому что она была его женой, а жены светских людей только для этого и существуют.
Она старалась, как могла, быть счастливой и убеждала себя, что она в самом деле счастлива. Однако она сознавала, что женщина, которая счастлива по-настоящему, не станет убеждать себя в этом.
С ранней юности она познала опьянение успехом и насладилась им. Я живо припоминаю рассказы о том, как сильно действовало на нее сознание собственной прелести. Это было самое страшное искушение, какое только может испытывать женщина.
– Входя в блестящую залу, я чувствовала, как по толпе пробегает трепет восторга. Во мне пробуждалось вдруг сознание собственного физического совершенства, оно окружало меня, точно сияние. Я вздыхала всей грудью и чувствовала, как волна ликующей радости пробегает по моим жилам. Я говорила себе: «Ты победительница! Приказывай, повелевай. Чело твое украшает венец женственности и красоты. Ты всемогуща, и весь мир принадлежит тебе».
Когда она произносила эти слова, голос ее трепетал от восторга. Я глядела на нее – о да, она была прекрасна! Па челе ее действительно сиял чудеснейший из всех венцов.
– Я видела других прекрасных женщин, – продолжала она и в голосе ее зазвучали гневные нотки. – Я видела, как они употребляют власть, которую дает им красота. Они удовлетворяют свое тщеславие тем, что обращают мужчин в рабов своих прихотей. Они швыряют деньги на пустые капризы, а кругом них распространяется ужасная язва нищеты. Я обращалась к отцу: «Папа, почему на свете так много бедняков? Почему у нас есть слуги, почему они должны работать на меня, а я ничего не делаю для них?» Он пытался втолковать мне, что таков закон общества. Мама говорила мне, что это воля Божья: «Бедные да будут с вами», «Слуги да повинуются своим господам» и так далее. Но библейские тексты не могли успокоить моих сомнений, и я по-прежнему продолжала чувствовать на себе какую-то вину. А теперь, когда я обращаюсь с теми же вопросами к Дугласу, он раздражается. Он учился в университете и имеет в запасе кучу ученых фраз, поэтому он говорит мне, что это «борьба за существование», «устранение непригодных» и т. д. Я возражаю ему, что мы сами сперва делаем людей непригодными, а потом устраняем их. Он не может понять, почему я не хочу соглашаться с тем, что говорят ученые люди, почему я продолжаю допытываться и терзаюсь этими вопросами.
Она замолкла и прибавила немного погодя:
– Мне кажется, он боится, как бы я не узнала чего-то, что он хотел бы скрыть от меня. Он заставил меня обещать, что я не увижусь больше с миссис Фросингэм. – Она засмеялась. – О вас я ничего не сказала ему.
Я, разумеется, выразила надежду, что она сохранит нашу тайну.
Все это время я усиленно работала в нашем комитете по охране детского труда. Мы готовились вынести на текущую сессию парламента чрезвычайно важный билль по этому вопросу, и я употребляла все силы на то, чтобы подготовить для него почву в обществе. Я произносила речи всюду, где могла найти слушателей, писала письма в газеты и рассылала по спискам соответствующую литературу. Я ломала себе голову, отыскивая новые пути для агитации, и в такие минуты невольно обращалась мыслью к Сильвии. Как много она могла бы сделать для нас, если бы захотела!
Я никому не давала пощады в этом отношении и меньше всего самой себе. Вы поймете поэтому, что мне нелегко было устранить ее от этой работы. Мое знакомство с Сильвией ни для кого не было тайной, и все в нашем комитете ждали от него каких-нибудь результатов.
– А как насчет миссис ван Тьювер? – справлялось время от времени мое «начальство».
– Ах, если бы она только согласилась помочь нашему комитету печати! – вздыхала моя стенографистка.
Наконец наш законопроект был внесен в законодательную комиссию, место чрезвычайно опасное для всякого рода биллей. Я отправилась в Албани, чтобы прозондировать почву. Там я встретила полсотни законодателей, из которых не больше полдюжины по-человечески интересовались нашим вопросом. От остальных же легко было впасть в полное уныние. Где была та сила, которая могла расшевелить их, заставить их забыть о своих личных маленьких выгодах и ради общего блага подняться над частными интересами. Где была эта сила? Я вернулась в Нью-Йорк с твердым намерением во что бы то ни стало отыскать эту силу и, поговорив с членами нашего комитета, решилась пожертвовать моей Сильвией, чтобы как-нибудь спасти положение.
Я знала, как мне поступить, чтобы заставить ее принять участие в нашем деле. До сих пор она только слышала речи о социально несправедливости и читала о ней в книгах, но никогда не сталкивалась с этим злом непосредственно лицом к лицу. И вот я убедила ее пожертвовать одним утром и осмотреть самой место труда. Мы отвергли автомобиль вместе с царственными мехами и бархатом. Сильвия надела простой темно-синий костюм и отправилась со мной по подземке, как обыкновенная смертная. Мы осмотрели картонажные фабрики, фабрики искусственных цветов, дома с дешевыми квартирами, где целые семьи по пятнадцать – шестнадцать часов в сутки работают над изготовлением игрушек и все же зарабатывают слишком мало, чтобы вырастить из своих детей здоровых, хорошо развитых мужчин и женщин.
Она была Дантом, а я – Виргилием, и ад, по которому мы блуждали, открывал бесконечную вереницу измученных, мрачных, изможденных лиц женщин, истощенных, отупевших голодных детских лиц. Несколько раз мы останавливались, чтобы побеседовать с кем-нибудь их этих людей. Я знала там одну еврейскую девочку, у которой три сестры заживо сгорели во время пожара мастерской. Сама она выпрыгнула из окна четвертого этажа и каким-то чудом была спасена пожарным, который подхватил ее на руки. Она сказала, что видела человека, который поджигал здание; преступника задержали, но полиция почему-то упустила его. Тут мне пришлось объяснить Сильвии суть той замечательной системы извлечения добавочных доходов, которая известна под названием «Арсон-Траст». По сведениям правительства, пожары ежегодно уничтожают имущество на четверть миллиарда долларов, а владельцы получают огромные страховые суммы. Таким образом, организация пожаров может считаться делом доходным, а поджигатели составляют необходимую составную часть этой организации. Отсюда ясно, почему человеку, по вине которого сгорели три сестры этой девочки, дали возможность сбежать.
Девочка случайно расслышала мои слова, и я увидела, как ее печальные глаза устремились на Сильвию. Быть может, эта прекрасная женщина с нежным голосом казалась ей доброй волшебницей, которая явилась освободить ее бедных сестер от злых чар и наказать злодея. Сильвия отвернулась, и я заметила, что она ищет свой носовой платок. Когда мы ощупью спускались по темной лестнице, она схватила меня за руку и прошептала:
– Какой ужас! Какой ужас!
Впечатление оказалось гораздо сильнее, чем я ожидала. Когда мы возвращались домой, она не только обещала мне сделать все, что сможет, но и заявила, что положит предел безрассудным тратам мужа. Он собирался устроить месяца через два грандиозный костюмированный бал, который должен был явиться настоящим событием сезона, поддержать славу имени ван Тьюверов и дать возможность другим людям выбросить сотни тысяч долларов.
Когда мы возвращались домой в грохочущей подземке, Сильвия сидела возле меня, напряженно выпрямившись. Она была очень взволнованна и уверяла, что если этот бал состоится, то он будет происходить в отсутствие хозяйки.
Я старалась ковать железо, пока оно было горячо, и получила от нее разрешение внести ее имя в наш комитетский список. Затем она обещала мне выкроить свободное время, чтобы принять активное участие в нашей работе.
– В чем заключаются обязанности члена вашего комитета?
– Во-первых, – сказала я, – он должен знакомиться с условиями, в которых работают дети, как мы сделали это сегодня, а затем как можно шире распространять эти сведения.
– А как это делается?
– Да вот, например, сейчас наш билль будет разбираться в законодательной комиссии. Помните, я уже говорила вам, что было бы хорошо, если бы вы выступили там.
– Да, – тихо произнесла она, и я догадалась, что она подумала в эту минуту: «А что скажет он?»
Лишь только имя Сильвии появилось в наших списках и в некоторых изданиях комитета, как события начали быстро развертываться. Дня через два к нам явился репортер. Неужели правда, осведомился он, что миссис ван Тьювер заинтересовалась нашей работой? Не буду ли я так любезна сообщить ему кое-какие подробности, которые публика, разумеется, пожелает знать.
Я подтвердила, что миссис ван Тьювер действительно вступила в наш комитет. Она сочувствовала нашей работе и охотно шла нам навстречу. Вот и все. Согласится ли она дать интервью? Я ответила, что она, наверное, не согласится. В таком случае, быть может, я расскажу ему, как это вышло, что она заинтересовалась вопросом о детском труде?
– Ведь этим вы содействуете агитации в прессе, – дипломатически добавил репортер.
Я вышла в другую комнату и вызвала Сильвию по телефону.
– Настало время для вас принять боевое крещение, – сказала я.
– Но я не хочу, чтобы мое имя появилось в газетах! – воскликнула она. – Ведь не станете же вы советовать мне что-либо подобное.
– Я не вижу возможности избежать этого. Ваше имя уже известно, и если репортер ничего не узнает от нас, то он возьмет нашу литературу, призовет на помощь собственное воображение и опишет ваши подвиги.
– И поместит мой портрет? – в ужасе воскликнула она.
Я не могла сдержать смеха.
– Это вполне возможно.
– О, но как отнесется к этому мой муж? Он, несомненно, скажет: «Говорил я вам, что этим кончится».
Я по собственному горькому опыту знала, как неприятно слышать от мужа подобные вещи. Но это не казалось мне достаточной причиной, чтобы складывать оружие.
– Дайте мне время обдумать это, – сказала Сильвия. – Уговорите его подождать до завтра, а я тем временем успею поговорить с вами.
– Итак, дело было решено. Я, кажется, не солгала Сильвии, сказав ей, что ни один член комитета не станет протестовать, если цели, к которым он стремится, привлекут внимание печати. Все комитеты ставят целью главным образом оказывать влияние на прессу. И она не может ожидать, чтобы издатели и читатели изменили вдруг свою точку зрения на этот предмет.
– Позвольте мне рассказать репортеру о вашей поездке по городу, – посоветовала я. – С этой темы мне легко будет перевести разговор на законопроект, который как раз стремится искоренить все эти ужасы. Вам, разумеется, это не может повредить.
Она согласилась, но с тем условием, чтобы разговор шел не от ее лица.
– И, пожалуйста, не позволяйте им делать из меня романтическую героиню! – воскликнула она. – Мой муж ненавидит это больше всего.
Неужели, подумала я, он сам не находит ее романтичной, когда она, сидя в великолепном экипаже, катается в центральном парке под восторженными взглядами толпы?
Но я не сказала этого и, простившись с ней, вернулась к своему репортеру. Я взяла с него клятву, что он не станет употреблять чересчур ярких красок, описывая Сильвию, и должна сказать, что он сдержал свое слово. Заметка появилась на следующее утро; в очень сдержанном тоне в ней сообщалось, что миссис Дуглас ван Тьювер заинтересовалась реформой детского труда. Автор заметки описал с моих слов несколько мест, которые она посетила, и привел кое-какие факты, особенно поразившие ее. Затем он упомянул о нашем комитете и его работе, о нашем проекте билля и о необходимости употребить всю энергию на то, чтобы добиться голосования билля в текущей сессии. Это был великолепный «бум» для нашего дела, и весь комитет ликовал по поводу этого успеха.
Но неудобство гласности заключается в том, что, как бы энергично вы не сдерживали вашего интервьюера, вам все равно не удастся обуздать тех, кто будет пользоваться его материалом. Репортеры вечерних газет явились за более детальными сведениями и ясно дали понять, что желают узнать подробности относительно самой миссис ван Тьювер. Я отвечала им очень сдержанно и дипломатично обошла многие вопросы, но они сами придумали на них ответы и поместили портрет Сильвии наряду с изображениями других деятелей нашего комитета.
Я позвонила Сильвии по телефону в то время, когда она переодевалась к обеду. Я хотела объяснить ей, что не виновата в том, что произошло.
– Кажется, я сама во всем виновата! – воскликнула она. – Я подозреваю, что беседовала с репортером.
– Что вы хотите сказать?
– Какая-то женщина послала мне свою визитную карточку и сказала при этом лакею, что знакома со мной. И я подумала… я не помнила наверное, встречалась ли я с ней когда-нибудь… поэтому я приняла ее. Она сказала, что познакомилась со мной у миссис Гаральд Клайвден, и завела разговор о детском труде. Она изложила свои планы и спросила, какого я о них мнения. Вдруг меня, точно молния, озарила мысль, уж не репортерский ли это фокус? На следующее утро еще до завтрака я вышла из дома и купила все газеты, чтобы посмотреть, как изобразила меня эта предприимчивая особа. Но нигде не было ни слова обо мне, и я решила, что она, по всей вероятности, сотрудничает в воскресных журналах.
Не успела я пройти в комитет, как зазвонил телефон, и я услышала голос Сильвии:
– Мэри, случилось нечто ужасное.
– Что? – воскликнула я.
– Я не могу рассказать вам по телефону. Но известный вам человек страшно взбешен. Могу ли я повидаться с вами, если приду сейчас.
Поскольку я жила в неизвестности, мне и в голову не приходило, что можно испытывать такой страх из-за гласности. Нелегко живется человеку, носящему корону, нелегко живется и жене этого человека, и лучшему другу его жены. Я отпустила свою стенографистку и провела несколько очень тревожных минут, поджидая Сильвию.
Рассказ ее был недолог. Несколько часов назад управляющий конторой мистера ван Тьювера спросил по телефону, не может ли тот принять его по очень важному делу. Затем он явился. Разумеется, он говорил очень сдержанно и не позволял себе критиковать действия супруги мистера ван Тьювера, но тем не менее он считал своим долгом обратить внимание ее мужа на сообщения, появившиеся в газетах. В статьях упоминаются имена и названия некоторых фирм, мастерские которых миссис ван Тьювер нашла неудовлетворительными по условиям труда. При этом оказалось, что две из перечисленных фирм помещаются в зданиях, принадлежащих ван Тьюверу.
Эта история сильно смахивала на мелодраму, и я была в отчаянии от того, что заварила такую кашу.
– Дорогая девочка, – сказала я наконец, – вы не сомневаетесь, конечно, что я понятия не имела, кому принадлежат эти здания?
– Ах, не говорите! – воскликнула Сильвия. – Кому же, как не мне, следовало знать об этом?
Я сидела молча, чтобы дать ей время успокоиться.
– Выжимание пота… Маленькие дети на фабриках… – шептала она.
Я ласково погладила ее руку.
– Я старалась отсрочить это на некоторое время, – сказала я. – Но я знала, что правда когда-нибудь выплывет наружу.
– Подумайте обо мне! – воскликнула она. – Я осуждала других людей за то, что они наживают деньги такими путями. Когда я думала о нашем состоянии, я представляла себе великолепные дворцы и помещения для контор… Все это мне казалось так красиво и чисто.
– Ну, дорогая моя, теперь вы узнали правду и сможете помочь чем-нибудь.
Она вдруг повернулась ко мне, и я в первый раз увидела на ее лице трагически-страстное выражение.
– Вы думаете, что я смогу чем-нибудь помочь вам? Нет, не заблуждайтесь насчет этого.
Я была поражена. Она встала и заходила по комнате.
– О, не обманывайте себя! В последние два часа я заплатила за свой блестящий брак. Подумать только, что его пугает одно: как бы не очутиться в смешном положении и не быть осмеянным. Всех его приятелей время от времени обдавали грязью, а он, стоя в отдалении, посмеивался над их неудачами. Он был безукоризненный джентльмен, истинный аристократ, которого не могли коснуться неприятности, выпадающие на долю торговцев и биржевиков. А теперь, может быть, его подденут, и имя ван Тьюверов станут волочить по грязи благодаря моему легкомыслию и отсутствию здравого смысла.
– Ну, из-за этого не стоит терзаться, – заметила я. – Вы не могли знать…
– Дело не в этом, а в том, что у меня не нашлось ни одного мужественного слова, чтобы возразить ему. Я не сделала ему и тени намека на то, что он должен был бы отказаться от этих денег, политых кровью и потом рабочих. Но я ушла, так и не сказав ему ни слова, потому что у меня не хватило слов отразить его гнев, потому что я знала, что это приведет к ссоре.
– Дорогая моя, – сказала я мягко, – ссору не так уж трудно пережить.
– Нет, вы не понимаете. Мы никогда не могли бы уже наладить отношений. Я знаю, я поняла это из его слов и по его лицу. Он никогда не изменится в угоду мне, не изменит даже такой мелочи, как способы, которыми извлекаются доходы из его владений.
Я не могла сдержать улыбки.
– Дорогая моя Сильвия, это не мелочь. Она подошла и села возле меня.
– Вот об этом-то я и хотела поговорить с вами. Наступило время для меня перестать быть ребенком. Я должна узнать обо всех этих вещах. Расскажите мне.
– О чем, дорогая?
– О способах, которыми извлекаются доходы из владений ван Тьювера и которые нельзя изменить так, как мне этого хотелось бы. Я узнала недавно, что мы заплатили штраф за то, что нарушили в отношении одного из этих зданий какое-то обязательное постановление. И мой муж сказал, что нас оштрафовали, потому что мы отказались заплатить инспектору домов с дешевыми квартирами. Я спросила его: «А почему мы должны платить этому инспектору? Разве это не будет взятка?» Он ответил: «Таков обычай. Это все равно что дать на чай лакею в гостинице». Скажите мне, правда это? Я невольно улыбнулась.
– Ваш муж, несомненно, должен знать это, дорогая, – сказала я.
Она сжала губы.
– За что же дают эти чаевые?
– Я думаю, для того чтобы он не наделал каких-нибудь неприятностей.
– Но почему же нельзя просто исполнять законы и не бояться никаких инспекторов?
– Дорогая моя, иногда закон бывает не совсем удобен, а подчас он чересчур сложен и неясен. Его часто можно нарушить, даже не сознавая этого. Бывает трудно установить, действительно ли вы нарушили его или нет, и для решения этого вопроса приходится тратить уйму денег и прибегать к гласности. Бывает еще и так, что закон невозможно выполнить, что он издан совсем не для того, чтобы его исполняли.
– Что вы хотите этим сказать?
– А то, что его издали с целью отдать вас во власть политиканов.
– Но, – возразила она, – ведь это же шантаж.
– Официально, – ответила я, – это называется «Закон о стачках».
– Но ведь тут не может быть нашей вины!
– Да, если только вы сами не содействовали его изданию. Обычно землевладелец заинтересован иметь на своей стороне какую-нибудь политическую группу. Представьте себе, что он не прочь снизить свои налоги или хочет знать, где будут проведены новые трамвайные линии, чтобы своевременно приобрести участки. Может быть, он хочет, чтобы город благоустроил участки, лежащие по соседству с его владениями или не прочь оказать давление на суд, где у него есть серьезная тяжба.
– Так, значит, мы только и делаем, что раздаем взятки?
– Нет, это не обязательно. Вы можете просто дождаться выборной кампании и тогда внести свою лепту, чтобы придать ей желательное направление. В этом и заключается основа всей системы.
– Системы?
– Системы коррумпированной власти и всех, кто платит ей дань, то есть владельцев игорных домов, салонов, рынков белых рабынь, «Арсон-Траст».
В глазах ее появилось выражение полной растерянности.
– Скажите, вы уверены, что все это правда? Или это только ваши предположения?
– Дорогая моя Сильвия, – ответила я, – вы сами сказали, что хотите сделаться взрослым человеком. Пока и скажу вам следующее: за несколько месяцев до нашего знакомства я произнесла речь, в которой назвала несколько организованных темных сил, действующих в нашем городе. Это «Тамман Холл», «Тракшен-Траст», корпорация церкви Святой Троицы и, наконец, владения ван Тьювера.
В следующее воскресенье в одном из журналов появилась статься, в которой описывалась беседа с прекрасной молодой женой миллионера Дугласа ван Тьювера. В ней излагались взгляды миссис ван Тьювер на детский труд, щедро пересыпанные описаниями ее гостиной и утреннего туалета. Но к тому времени эти мелочи перестали уже трогать нас. Лишь бы в статье не касались владельцев тех помещений, где работали дети и жены бедняков.
После этого я не видела Сильвию несколько недель. Я понимала, что должна дать ей некоторое время, чтобы собраться с силами и принять решение насчет будущего. Я не беспокоилась за нее. Семя принялось, и я была уверена, что оно даст ростки.
И вот однажды она вызвала меня к телефону и спросила, не могу ли я повидаться с ней. Я предложила устроить свидание днем. Она ответила, что условилась пить чай в отеле «Палас», и попросила меня прийти туда после чая. Я хорошо запомнила час и место благодаря одной забавной истории. Часто приходится слышать при неожиданных встречах восклицание: «Как мир тесен!» И я в самом деле подумала, что мир становится чересчур тесен, когда, войдя в ресторан отеля, чтобы подождать там Сильвию, столкнулась лицом к лицу с Клэр Лепаж.
Свидание было назначено в оранжевой комнате. Я остановилась на пороге и, обведя взглядом зал, увидела миссис ван Тьювер в тот же момент, как она заметила меня. Сильвия сидела за столиком с несколькими знакомыми. Она знаком попросила меня подождать. Я заняла столик с таким расчетом, чтобы видеть ее. Сильвия оживленно беседовала со своими друзьями и время от времени посылала мне улыбки. Вдруг я вздрогнула, услышав над собой знакомый голос.
– Ну, как поживаете?
Подняв голову, я увидела Клэр, которая протягивала мне руку.
– Что за чудо? – воскликнула я.
– Почему вы больше не заходите ко мне? – сказала она.
– Дело в том, что… что я была очень занята последнее время, – проговорила я, стараясь побороть смущение.
– Вы, кажется, очень удивлены, что встретили меня здесь, – заметила она со своей обычной наблюдательностью и чувствительностью к отношению других людей.
– Вполне естественно, – ответила я и, вспомнив тут же, что это никак не могло показаться естественным, ибо она проводила большую часть времени именно в таких местах, добавила: – Я искала тут одну знакомую.
– Но пока ее нет, можно мне посидеть с вами? – спросила она, усаживаясь рядом. – Чем это вы так заняты?
– Я работаю в комитете по охране детского труда, – ответила я.
Через минуту, однако, я пожалела о своих словах, сообразив, что она могла прочесть в газетах о вступлении в комитет Сильвии. Я не хотела, чтобы она знала о нашем знакомстве, так как это вызвало бы целый поток вопросов, на которые мне было бы неприятно и отвечать и отказаться от ответа.
Но страх мой был напрасен.
– Я уезжаю из города, – сказала она.
– Куда же? – спросила я, чтобы поддержать разговор.
– Маленькое путешествие на Бермуды.
Я старалась придумать способ, как бы избавиться от нее. Мне невыносима была мысль, что Сильвия может подойти к нам, и еще невыносимее сознание, что они могут увидеть друг друга.
Но не успело это предположение мелькнуть у меня в голове, как Клэр вздрогнула.
– Посмотрите! – воскликнула она.
– Что такое?
– Вон на ту женщину, там, в зеленом бархатном платье.
– Я вижу.
– Знаете, кто это?
– Кто же? – Я вспомнила изречение Леди Ди по поводу лжи.
– Сильвия Кассельмен, – прошептала Клэр.
Она всегда так называла ее, словно желая сказать этим: я такая же ван Тьювер, как и она.
– Вы уверены? – спросила я, чтобы только сказать что-нибудь.
– Я видела ее двадцать раз. Мне удивительно везет на этот счет. Сейчас она разговаривает с Фредди Аткинсом.
– Скажите! – только и произнесла я.
– Я знаю почти всех мужчин, с которыми она бывает в обществе. Но мне приходится делать вид, будто я никогда не встречалась с ними. В каком странном мире мы живем, не правда ли?
Я от всего сердца согласилась с ней.
– Послушайте, – быстро перебила я ее. – Вы свободны сейчас? Если да, то пойдемте выпьем чаю в «Роялти».
– А почему нам не выпить здесь?
– Я ждала оттуда одного человека, и мне надо оставить ему записку. После этого я буду считать себя свободной.
К великому моему облегчению, она встала, и мы вышли. Я чувствовала, что Сильвия провожает меня взглядом, но не осмелилась сделать ей знака и решила, что объяснение я придумаю потом. «Кто была ваша элегантная знакомая?» – спросит она меня, наверное.
Но в эту минуту меня занимало только одно – какой получился бы эффект, если бы Сильвия на глазах у мистера Фредди Аткинса подошла ко мне и Клэр?
Мы уселись в пальмовой комнате другого отеля, и я с удовольствием выпила чай, считая, что вполне заслужила его. Клэр потребовала себе рюмку какого-то ликера фантастического цвета, излюбленного напитка дам в этих местах. Комната напоминала сад с тропическими растениями, брызжущими фонтанами и множеством прелестных птиц в образе женщин. Я любовалась прекрасными созданиями и размышляла о том, сколько их расплачивается за свое оперение той же монетой, что и моя спутница. Ведь если бы я не знала Клэр, то, наверное, приняла бы эту элегантную даму за жену дипломата. Ее костюм стоил не меньше тысячи долларов, и фасон ясно указывал, что она не сберегла его с прошлого сезона. Она была очень красива и умела носить вещи. Ее дерзкие черные глаза ясно говорили, что она знает себе цену, и, глядя в них, можно было поверить в мягкость характера их обладательницы. Я была недовольна, что мое свидание с Сильвией расстроилось, и рассеянно прислушивалась к болтовне Клэр. Но вдруг слова ее привлекли мое внимание.
– Ну вот, я все-таки встретилась с ним!
– С кем?
– С Дугласом.
– С Дугласом ван Тьювером? – спросила я в изумлении.
Она утвердительно кивнула головой, а я с трудом подавила восклицание.
– Говорила я вам, что он вернется ко мне, – со смехом добавила она.
– Вы хотите сказать, что он был у вас?
Я не могла скрыть своего интереса, но в этом, собственно, не было особенной надобности. Тщеславие Клэр было польщено, и она охотно поделилась со мной своим успехом.
– Нет, пока еще не был. Но он придет. Я встретилась с ним у Джека Тэйлора на званом ужине.
– А он знал, что вы будете там?
– Нет. Но, когда он меня увидел, он больше не отходил от меня.
Наступила пауза. Я молчала, боясь выдать себя чем-нибудь. Но Клэр не собиралась мучить меня любопытством.
– Не думаю, чтобы он был счастлив с ней, – заметила она.
– Почему вы так думаете?
– О, я заметила кое-что. Ведь я хорошо знаю его. Он и не пробовал уверять меня, что счастлив.
– Быть может, он просто не хотел говорить об этом с вами.
– О, нет, не потому. Он не стесняется со мной.
– Но мне кажется, что говорить о своей жене при подобных обстоятельствах не совсем удобно, – засмеялась я.
Клэр тоже рассмеялась.
– Слышали бы вы, что Джек рассказывал о своей половине! Она находится сейчас в Пальм-Биче.
– Лучше бы ей было вернуться домой, – заметила я.
– Джек рассказывал, в какой строгости она держит его. Стоит только какой-нибудь женщине взглянуть на него, чтобы она тотчас же закатила ему дикую сцену. Он говорит, что брак этот сущий ад. А Реджи Чаннинг заявил, что семейная жизнь не что иное, как пара стоптанных ночных туфель, к которым вы давно привыкли. На это Джек рассмеялся и сказал: «Вы находитесь в той стадии, когда мужьям кажется, что они разрешают проблему брака, изменяя своим женам».
Я молчала. Клэр на несколько минут погрузилась в размышления. Затем она повторила:
– Он не сказал мне, что он счастлив. Когда мы прощались, я задержала его руку и спросила: «Ну, Дуглас, как же ты живешь?»
– А он что? – спросила я.
Но она не хотела больше говорить. Я подождала еще минутку.
– Клэр, оставьте вы его, – заговорила я. – Не разбивайте их счастья.
– А чего ради? – спросила она враждебным тоном.
– Ведь она не сделала вам ничего дурного. – Я знала, что поступаю глупо, но все же не могла удержаться и не сказать этого.
– Разве она не отняла его у меня? – Глаза Клэр вдруг загорелись ненавистью, часто встречающейся у таких отверженных. – А зачем она женила его на себе? Почему она миссис ван Тьювер, а не я? Потому что отец ее был богат, потому что у нее были положение и власть, в то время как мне приходилось пробиваться в жизни собственными силами? Так, что ли?
Я не могла отрицать, что в этом есть доля правды.
Но ведь теперь они женаты, – сказала я, – и он любит ее.
– Меня он тоже любит. И я до сих пор люблю его, несмотря на то что он так дурно поступил со мной. Он единственный человек, которого я любила по-настоящему. Что же вы думаете, что я запрячусь в нору, пока она будет сорить его деньгами и строить из себя принцессу? Извините…
Я молчала. Попытаться разве еще раз «потолочь воду?» Побранить Клэр, сказать ей, пожалуй, как дурнеет и грубеет ее лицо, отражая такие чувства? Не напомнить ли ей, какую благородную и великодушную особу она старалась изобразить из себя в день нашей первой встречи? Я могла попробовать повлиять на нее, но что-то удержало меня. В конце концов все зависело только от Дугласа ван Тьювера.
Я встала.
– Ну, мне пора. Но я буду наведываться к вам, чтобы узнать, как подвигаются ваши дела.
Она вдруг напустила на себя важность.
– Я, может быть, не захочу рассказывать вам об этом.
– Что же, – равнодушно ответила я, – дело ваше. Но об этом я ничуть не беспокоилась. Клэр нуждалась в человеке, которому она могла бы поверять все свои огорчения или восторги, смотря по обстоятельствам.
С Сильвией я увиделась два дня спустя и извинилась перед ней. Я сказала ей, что встретила приятельницу с Запада, которая уезжала часа через два обратно.
Я убедилась, что семя не заглохло. Со времени нашего последнего свидания она только и делала, что отговаривала своего мужа от костюмированного бала, который он задумал. Она решительно отказалась быть хозяйкой на этом празднестве.
– В одном он, разумеется, прав, – заметила она. – Мы не можем оставаться в Нью-Йорке, не устроив какого-нибудь пышного приема. Все ждут от нас этого. Мы могли бы привести в свое оправдание только одно объяснение, но его-то Дуглас и не хочет приводить.
– Я испортила вам жизнь, Сильвия, – сказала я.
– Не вы одна тут виноваты. Все это назревало во мне, как нарыв, а вы сыграли лишь роль припарки.
У Сильвии было четверо младших братьев и сестер, поэтому у нее, естественно, возникали в голове такие домашние сравнения.
– Нарывы в области головы, – заметила я, – часто обезображивают человека.
Наступила пауза.
– Как обстоит дело с вашим биллем о детском труде? – спросила она вдруг.
– Все благополучно.
– Но я прочла в газетах письмо, в котором сообщалось, что он передан в подкомиссию и что это лишь уловка, чтобы задержать его до следующей сессии.
Я не могла ничего возразить ей. До этой минуты я надеялась, что она не видела этого письма.
– Как вы думаете, – сказала она, – если бы я выступила теперь, удалось бы мне чем-нибудь помочь вам?
Я снова промолчала.
– Если бы я набралась мужества и произнесла речь на митинге и разоблачила бы этот маневр, удалось бы мне добиться цели?
– Мне кажется, что да, – ответила я. Она долго молчала, опустив голову.
– Детям придется подождать, – сказала она наконец как бы про себя.
– Дорогая моя, – ответила я (что я могла ответить ей другое?), – дети уже привыкли ждать.
– Мне противно идти на попятный, – воскликнула она. – Я не хочу, чтобы вы говорили, что я трусиха.
– Я не стану говорить этого, Сильвия.
– Я знаю, что вы слишком добры, чтобы сказать так, но ведь это же правда.
Я постаралась успокоить ее. Но кислоты, которыми я обычно пользовалась, были рассчитаны на более толстую кожу. Они прожгли ее до самых костей и остановить их действие было уже невозможно.
– Вы должны понять, – сказала она, – насколько я считаю серьезным то, что жена выступает против мужа. Мне с детства внушали, что это самая ужасная вещь, которую может совершить женщина.
Сильвия остановилась, и, когда она заговорила снова, лицо ее выражало глубокое страдание.
– Вот к какому решению я пришла. Если я сделаю теперь что-нибудь носящее публичный характер, то муж мой окончательно отшатнется от меня. С другой стороны, если я пережду немного, то мне, может быть, удастся найти выход из этого положения. Мне нужно заняться своим образованием, и я надеюсь попутно перевоспитать и его. Если мне удастся заставить его почитать что-нибудь, хотя бы несколько страниц в день, я смогу постепенно изменить его точку зрения и приучить его относиться терпимее к моим собственным убеждениям. Во всяком случае, я должна попытаться. Я уверена, что это единственный разумный, хороший и справедливый способ выйти из создавшегося положения.
– А как же вы поступите относительно бала?
– Я увезу мужа подальше от этого шума и суеты, одеваний и переодеваний, от бесконечных встреч и пустой болтовни.
– А он согласен?
– Да. Собственно говоря, он сам и предложил мне это. Он думает, что книги, которые я читала, и знакомство с миссис Эллисон и миссис Фросингэм выбили меня из колеи. Он надеется, что вдали от них я успокоюсь и снова обрету здравый смысл. У нас есть теперь хороший предлог. Мне нужно позаботиться о своем здоровье.
Она запнулась и отвела глаза. Я увидела, как краска медленной волной залила ее щеки. Этот румянец напоминал очаровательные тона ранней зари, которыми всегда так восхищались поэты.
– Через четыре или пять месяцев… – и она снова запнулась.
Я ласково положила свою большую руку на ее маленькую ручку.
– У меня тоже было трое детей, – сказала я.
– Таким образом, – продолжала она, – это покажется вполне естественным. Некоторые из наших знакомых знают об этом, а остальные догадаются сами. Никаких разговоров не будет, я хочу сказать, таких разговоров, какие пошли бы, если бы распространился слух, что миссис ван Тьювер из сочувствия к социалистическим идеям отказалась тратить деньги мужа.
– Понимаю, – ответила я, – это, конечно, самое разумное, и я очень рада, что вы нашли такой удачный выход. Мне, само собой, будет тоскливо без вас, но мы можем писать друг другу длинные письма. Куда вы отправляетесь?
– Еще не знаю наверное. Дуглас предлагает морское путешествие в Вест-Индию, но я предпочту сидеть на одном месте. У него есть прелестный дом в горах Северной Каролины, и он хотел бы отвезти меня туда. Но это слишком людное и шумное место, и кругом расположены богатые поместья. Я уверена, что меня снова втянут там в светский водоворот. Я подумывала о лагере в Адирондаке. Там чудесно было бы увидеть среди зимы настоящие леса. Но меня пугает холод, ведь я выросла в теплых краях.
– «Лагерь» – это что-то примитивное и, пожалуй, не годится для вас, – заметила я.
– Вы думаете так, потому что никогда не бывали там. На самом деле это большой дом в двадцать пять комнат, с паровым отоплением и электричеством. Полдюжины слуг находятся там постоянно, чтобы содержать его в порядке, когда никто не живет в нем, а пустует он уже несколько лет.
Я улыбнулась, угадав ее мысль.
– Вы, кажется, готовы чувствовать себя несчастной оттого, что не можете жить сразу во всех домах вашего мужа.
– Я предпочитаю другой дом, – сказала она, не желая отвечать на мою шутку. – Он носит название «Рыбачья хижина» и находится на одном маленьком острове близ Флориды. Туда прокладывают теперь железную дорогу, но пока в «Рыбачью хижину» можно попадать только на баркасе. Судя по фотографиям, это очаровательнейший уголок на земном шаре. Представьте себе, какое наслаждение кататься в моторной лодке по этим зеленым водам…
– Да, все это звучит соблазнительно, – ответила я. – Но не слишком ли это уединенное место для вас?
– Мы будем недалеко от Ки-Уэста, и муж хочет, чтобы с нами поехал врач. Это местечко обладает тем преимуществом, что там мы, при всем желании, не сможем принимать много гостей. Я приглашу к себе тетю Варину – милое, ласковое существо, горячо привязанное ко мне. А затем, если мне понадобятся какие-нибудь новые впечатления, может быть, и вы согласитесь приехать?..
– Не думаю, чтобы это понравилось вашему мужу, – сказала я.
Она быстрым движением протянула мне руку.
– Я совсем не собираюсь отказываться от нашей дружбы. Вы должны понять, что я намерена учиться и развиваться. Сейчас я подчиняюсь его желанию. Я, разумеется, должна считаться с ним и заботиться о здоровье моего ребенка. Но ребенок вырастет, и мужу рано или поздно придется предоставить мне право думать по-своему и жить собственной жизнью. Вы должны быть около меня и помогать мне, что бы ни случилось.
Я протянула ей руку, и мы расстались, как оказалось, на довольно значительное время. Я еще раз побывала в Албани, чтобы сделать последнюю тщетную попытку спасти наш драгоценный билль. Когда я находилась там, от Сильвии пришла записка, в которой она сообщала мне, что уезжает во Флориду.
КНИГА ВТОРАЯ
В течение трех месяцев после этого я имела сведения о Сильвии только из писем. Она оказалась прекрасной корреспонденткой, и письма ее были на редкость живыми и красочными. Не могу сказать, чтобы она изливала передо мной свою душу, но эти исписанные листки давали мне достаточно яркое представление о ее душевном состоянии и о развитии ее семейной драмы.
Прежде всего она описала мне местность, в которой поселилась: очаровательный уголок, где каждая женщина должна была бы чувствовать себя счастливой. Это был маленький островок, окаймленный рощами кокосовых пальм, которые шептались день и ночь под дыханием морского ветерка. Весь остров был покрыт тропической растительностью. Недалеко от моря стоял длинный уединенный бунгало с крытыми террасами, а перед ним расстилалась полоса белого прибрежного песка. Вода была ярко-синяя; она ослепительно сверкала на солнце, а вдали зеленели чуть заметные точки островов. И все это – воздух, вода и остров – было пронизано горячим южным солнцем.
«Я сама не сознавала, – писала она, – пока не попала сюда, что для меня не может быть настоящего счастья на севере. Там я словно обороняюсь от жестокого врага, а здесь я у себя дома. Я сбрасываю свои меха, расправляю руки, расцветаю. Боюсь, что на некоторое время я совсем перестану думать, забуду обо всех огорчениях и тревогах и буду только греться на песке, как ящерица.
А вода! Мэри, вы представить себе не можете эту воду. Сверху она голубая, а когда заглянешь в глубину – совсем зеленая. Почему это? У меня есть свой собственный ялик, на котором я пускаюсь в плавание, и я провожу в нем много счастливых часов, изучая морское дно. Передо мной все цвета радуги, и я вижу все, что творится в глубине, так же отчетливо, как в аквариуме. Я занимаюсь рыбной ловлей. Однажды поймала тарпуна, это было настоящее событие. И правда, я испытала необычайно волнующее ощущение. Если бы вы видели, как это чудовище извивалось и корчилось, пока я вытаскивала его из воды! Разумеется, руки мои очень быстро отказались от борьбы с ним, и я передала леску мужу.
Это одно из самых замечательных мест в мире по обилию и разнообразию рыбы, и я очень рада этому, потому что мужчины, по крайней мере, не будут скучать, пока я греюсь на солнышке».
«Я нашла для себя восхитительное развлечение, – писала она во втором письме. – Мы переправляемся в баркасе на самый уединенный из островков, мужчины уходят ловить рыбу, а меня предоставляют самой себе на целый день, и я радуюсь, точно дитя на пикнике. Я брожу по берегу, сняв туфли и чулки, – ведь здесь нет поблизости газетных репортеров с фотографическими аппаратами. Я не решаюсь заходить далеко в глубь острова, потому что там водятся какие-то огромные черные твари с ужасными жалящими хвостами. Правда, при моем приближении они убегают, поднимая за собой целые тучи песка, но одна мысль о том, что я могу нечаянно наступить на одну из них, приводит меня в ужас. Мягкие волны омывают мне ноги, и я выуживаю руками мелкую рыбешку и собираю прелестные раковины. Иду дальше и вдруг вижу в воде большую черепаху; я бегу к ней, но не решаюсь схватить ее. Затем я нахожу ее яйца. Вот так приключение!
У меня появились какие-то странные вкусы и желания. Со мной прекрасный завтрак, но я чувствую вдруг, что единственное кушанье в мире, которое могло бы соблазнить меня, – это черепаховые яйца. Спичек нет, и я не умею разводить костер по способу индейцев. Остается закопать яйца до завтра обратно в песок. Надеюсь, что черепаха не тронет их и что я не утрачу за это время желания отведать такое лакомство.
Затем я отправляюсь исследовать сушу. Эти острова служили когда-то убежищем для морских пиратов, и этого достаточно, чтобы мне на каждом шагу чудились всякие романтические события. Но нахожу я только лимонные деревья. Не знаю, дикие ли они, – возможно, что остров когда-то обрабатывался. Лимоны очень велики и состоят почти из одной кожуры, но вкус у них замечательный. Черепаховые яйца под соусом из дикого лимона! Я иду дальше и натыкаюсь на мангровый лес – темное, отвратительное и зловещее место. Деревья точно скорчились в муках; ветки и корни переплетаются, как змеи. Я пробираюсь по узенькой тропинке и вдруг, испугавшись, стремглав бегу обратно к берегу.
На песке я нахожу какое-то загадочное маленькое существо, которое носится с быстротою ветра. Я делаю прыжок и становлюсь между ним и его норой. Оно останавливается, насторожившись, и мы начинаем разглядывать друг друга. Это существо похоже на краба, но оно держится на двух кривых ножках, точно карикатура на человека. Две большие клешни – его оружие – подняты для боя, а черные выпуклые глаза вылезают из орбит. Препротивный вид у этой твари! Но тут у меня мелькает вдруг странная мысль: а чем я кажусь ей? Я сознаю, что она живая, что она жаждет жить, что она испытывает страх и обладает решимостью. Как она сейчас должна быть одинока! И мне хочется сказать ей, что я люблю ее и ни за что не причиню ей зла. Но как же объяснить ей это? Единственное, что я могу сделать, это уйти и оставить ее в покое. Я ухожу, размышляя о том, что за странный мир, где живет столько разнообразных существ, замкнутых в себе и лишенных возможности понять друг друга. Это, кажется, называется философией, не правда ли? Укажите мне какие-нибудь книги, где говорилось бы о таких вещах.
Я читаю все, что вы мне присылаете. Когда я устаю от моих странствий по островку, я ложусь под пальмой и читаю, угадайте-ка что? «Джон Стрит», номер пятый! Тотчас же вся окружающая меня прелесть исчезает, и я снова погружаюсь в кошмар. Какая замечательная книга! Я решила, что она должна произвести впечатление на моего мужа, и прочла ему несколько глав. Но он только рассердился и сказал, что мне надо отдыхать и что незачем было приезжать на эти острова, чтобы читать о лондонских трущобах.
Моя попытка оказать на него некоторое влияние привела меня к довольно неприятному открытию: он имеет такие же намерения по отношению ко мне. Он также привез с собой кучу книг и читает мне оттуда ежедневно по нескольку страниц, объясняя смысл прочитанного. Это он называет отдыхом! Я, конечно, не могу с ним спорить. Никогда я не ощущала так остро, как сейчас, пробелов своего образования. Но все же я ясно вижу, к чему клонятся все его аргументы: жизнь есть продукт естественного развития, и люди не в силах ничего изменить в существующем порядке. Но, если бы даже ему удалось убедить меня в своей правоте, я не нашла бы в этом источника радости. Мне всегда кажется, что, будь вы тут, у вас нашлось бы, что возразить ему.
Должна сознаться, что каждый конфликт между нами так тяжело действует на меня, что я просто не решаюсь возражать. Я часто ловлю себя на мысли, во что вылился бы наш брак, если бы мы обнаружили друг в друге полную общность идей и интересов. По временам я стараюсь внушить себе, что должна веровать в то, во что верует мой муж, что я никогда не должна позволять себе думать иначе, чем думает он. Но это отнюдь не устраивает меня в качестве жизненной программы. Я попробовала уже сделать нечто подобное несколько лет тому назад в отношении моих дорогих матери и отца. Не помню, говорила ли я вам о том, сколько беспокойства я доставляла своей матери? Мать моя глубоко убеждена, что я буду вечно гореть в адском огне за то, что не верю некоторым постулатам Библии. Она и сейчас горюет об этом, хотя с тех пор, как она передала меня на попечение мужа, терзания ее несколько уменьшились.
Теперь настал черед моего мужа беспокоиться о моих убеждениях. Он читает сейчас книгу Бюрке, известного писателя. Эта книга историческая, а в английской истории я не очень сильна. Но все же я вижу, что автор – противник не только современных реформ, но и самого духа реформы вообще.
О Мери, почему я не могу думать так же, как думают они? Мне, в сущности, следовало бы любить все эти старые почтенные устои и с благоговением чтить прошлое. Ведь меня воспитали в этом духе…
Подчас я сама прихожу в ужас от собственной дерзости и скептицизма. Я, кажется, способна видеть во всем только дурное и поэтому не могу ни во что верить, даже если бы захотела».
Ее письма были полны описаниями чудес природы, которые окружали ее. Белоснежная цапля поселилась на острове. Сильвия наблюдала за тем, как она ловит рыбу, и старалась отыскать ее гнездо, чтобы взглянуть на птенцов. Мужчины совершили экскурсию в Эверглэдс и рассказывали потом чудеса о стаях фламинго, покрывавших небо алыми облаками, и о птичьих колониях, напоминавших целый город. Они принесли с собой одного птенца, который пищал целыми днями, прося, чтобы его накормили.
Двоюродный брат Сильвии, Гарри Чайльтон, навестил ее. Он охотился с ван Тьювером, когда тот был еще женихом, и теперь составлял ему компанию в рыбной ловле. Его не посвятили, разумеется, в недоразумения, возникшие между Сильвией и ее мужем. Однако он заметил, что кузина его читает серьезные книги, и припугнул ее.
– У тебя скоро появятся морщины на лице, – сказал он, – а ноги вырастут и станут такими же длинными, как у дам Новой Англии.
Так Гарри Чайльтон реагировал на новые интересы своей кузины.
Кроме них на острове был еще молодой врач, следивший за состоянием здоровья Сильвии. Это был маленький живой человек с румяным белым лицом и каштановыми усиками, которые он вечно теребил и подкручивал. Ему был отведен отдельный бунгало, но он обычно принимал участие в прогулках на баркасе.
Сильвия писала мне, что всякий раз, когда между ней и мужем начинается спор о книге Бюрке, она замечает у доктора насмешливые морщинки около глаз. Она подозревала, что этот молодой человек скрывает свои убеждения от своих пациентов-миллионеров, и задалась целью позондировать его.
Затем появилась миссис Варина Тьюис. Трагически лишившись собственной семьи, она посвятила всю свою жизнь служению более счастливым представителям рода Кассельмен.
Теперь она должна была сделаться компаньонкой и советчицей Сильвии. И в первый же день своего приезда тетя Варина обнаружила пропасть, разверзшуюся в жизни ее племянницы.
«Интуиция у женщин из рода Кассельмен, – писала мне Сильвия, – поистине изумительна. Мы проезжали в баркасе мимо одного из виадуков новой железной дороги, и тетя Варина воскликнула: «Какой замечательный виадук!» «Да, – заметил мой муж, – но не говорите этого громко при Сильвии». «Почему же?» – спросила она, и Дуглас ответил: «Она сейчас же изложит вам, по скольку часов в день работают здесь несчастные труженики».
Это было все, но я заметила быстрый взгляд, который тетя Варина бросила на меня, и поняла, что мои старания поддержать разговор не обманули ее. Было очень дурно со стороны Дугласа: ведь он знает, что я люблю своих стариков и не хочу, чтобы они догадывались о моих неприятностях. Однако это очень характерно для него: если у него какие-нибудь неприятности, он всегда старается разделить их с другими.
Как только мы остались одни, тетя Варина обратилась ко мне: «Сильвия, голубка, что это значит? Чем ты огорчила своего мужа?»
Вас, несомненно, позабавит, если я в точности передам вам наш разговор. Я попробовала вывернуться, ответив небрежно: «Дуглас съел за завтраком слишком много черепаховых яиц».
Это было так похоже на мужчину, что любая старая леди без труда поверила бы такому объяснению. Но тетя Варина была слишком проницательна. Мне пришлось объяснить ей, что я хочу научиться думать, отчего она пришла в настоящий ужас. «Ты хочешь сказать, дитя мое, что ты думаешь о таких вещах, которые совсем не нравятся твоему мужу, и отказываешься повиноваться ему, когда он просит тебя перестать думать о них? Ведь ты должна понимать, что у него, несомненно, есть серьезные основания, чтобы запрещать тебе это». «Я тоже так думаю, – сказала я, – но, к сожалению, он не объяснил мне, в чем они заключаются, и я, разумеется, имею право…»
Дальше она и слушать не захотела. «Право, Сильвия, право? Ты добиваешься права отталкивать от себя мужа?» «Но не могу же я регулировать все свои мысли страхом оттолкнуть от себя мужа», – возмутилась я. «Сильвия, ты просто ужасаешь меня! Откуда у тебя такие мысли?» «Но отвечайте мне, тетя Варина, могу я это сделать или нет?» «Для женщины важнее всего думать о том, как угодить хорошему ласковому мужу. Во что превратится ее семейная жизнь, если она перестанет заботиться об этом?» – заключила тетя Варина.
Как видите, мы затронули важный вопрос. Я знаю, что вы считаете меня отсталой, и вам, пожалуй, будет забавно узнать, что некоторым я кажусь страшной мятежницей. Вообразите себе тетю Варину, ее расстроенное старое лицо и взволнованные восклицания: «Дитя мое, дитя мое, надеюсь, что я приехала во время! Не презирай совета женщины, которая горько расплачивается за свои ошибки. У тебя хороший муж, и он горячо любит тебя. Ты одна из счастливейших женщин на земле, так не отталкивай же своего счастья».
«Тетя Варина, – сказала я (не помню, говорила ли я вам, что муж ее был картежник и пьяница и покончил жизнь самоубийством), – а вы убеждены, что каждый муж так стремится убежать от своей жены, что ей необходимо напрягать всю свою энергию и дипломатическое искусство, чтобы удержать его около себя?» «Сильвия, – ответила она, – ты так странно ставишь вопрос, у тебя такие грубые выражения, что я не знаю, как с тобой разговаривать (это, должно быть, ваша вина, Мэри, меня никогда не упрекали в этом раньше)».
«Я могу сказать тебе только одно, что жена, позволяющая себе думать о чем-либо, кроме своих обязанностей по отношению к мужу и детям, рискует потерять все свое счастье, – заметила тетя Варина. – Она играет с огнем, Сильвия! Она поймет слишком поздно, что значит пренебрегать мудростью своего пола и опытом, который другие женщины приобретали целыми веками.
Итак, Мэри, теперь я изучаю новую, неписаную книгу: «Заповеди тети Варины».
Она нашла лекарство от моих терзаний, исцеление для моей болезни – я должна заняться шитьем. Я возражаю ей, что у меня платьев больше, чем нужно для десяти сезонов, но она отвечает благоговейным голосом: «А маленький незнакомец?»
И когда я указываю ей, что маленькому незнакомцу готовится приданое, которое будет стоить много тысяч долларов, она говорит: «Ему, наверно, позволят носить то, что мать сделала для него собственными руками».
Вот, полюбуйтесь теперь, как я сижу на террасе, изучая тонкое шитье, а на дне моей рабочей корзинки спрятана книжка Каутского о социальной революции».
Проходили недели. Законодательная комиссия в Албани вопреки нашим желаниям отложила рассмотрение билля о детском труде, и мы, подобно упорному пауку, паутина которого разорвалась, снова принялись за работу. Как много нужно было собрать денег, сколько написать статей, сколько произнести речей, сколько людей привлечь к своему делу и довести до такого состояния ума, чтобы они могли сделаться серьезной угрозой для наших законодателей. Таков процесс созревания социальных реформ в странах, где общественный строй опирается на частную собственность, процесс, который, по мнению простодушных реформаторов, будет продолжаться вечно, от чего упаси нас Боже!
Сильвия в письмах спрашивала, как идут дела, и я сообщила ей, как мы потерпели неудачу и что предпринимаем дальше. И вот спустя немного времени я получила по почте маленькую коробочку, в которой оказалось бриллиантовое кольцо. «Я не могу просить у мужа сейчас денег, но эта вещь принадлежит мне еще со времен моего девичества. Она стоит около четырех сот долларов – продайте ее. Не проходит дня, чтобы подобные суммы не тратились на моих глазах на пустяки. Употребите их для вашей цели».
Так писала Сильвия. «Королева Изабелла и ее драгоценности», – подумала я.
В этом письме она передавала мне свой разговор с мужем на тему о женском положении. Вначале ей казалось, что эта беседа могла привести к хорошим результатам, так как он находится в лучшем настроении, чем обыкновенно.
«Он уклонился от некоторых вопросов, которые я задала ему, но я не думаю, чтобы он сделал это нарочно. Это просто недостаток внимания, которым страдает весь мир. Он сказал, что не считает женщин низшими существами по сравнению с мужчинами, но между ними есть существенные различия. Ошибка женщин, по его мнению, заключается в том, что они стремятся стать наравне с мужчинами. Как видите, это все та же старая теория «женского очарования». Я указала ему на это, и он признался, что ему нравится быть «очарованным».
«Вы вряд ли нашли бы в этом удовольствие, – возразила я, – если бы знали так же хорошо, как я, чем это достигается». «Почему же нет?» – спросил он. «Потому что это нечестные приемы. Он рассчитаны на самые низменные половые инстинкты».
Он спросил, что я хочу сказать этим, но тут я вспомнила наставления моей двоюродной бабки и рассмеялась: «Если вам нравится, чтобы я прибегала к этим приемам, то как же вы хотите, чтобы я выдала вам их секрет». «Тогда нам не о чем говорить», – сказал он. «Напротив! – воскликнула я. – Вы признаете, что у меня есть «очарование». Многие мужчины признавали это. Значит, вы должны считаться с моим мнением, если я говорю вам, что все это нечестная игра, построенная на плутовстве и рассчитанная на худшие стороны мужской натуры. Например, на тщеславие. Леди Ди говорила: льсти ему, он все проглотит. И, действительно, я не встречала еще мужчины, который отказался бы от комплимента. Затем на его властолюбие: если хочешь добиться от него чего-нибудь – убеди его, что это его желание. На его эгоизм у нее было одно ядовитое изречение – я как сейчас слышу голос Леди Ди: в сомнительных случаях заводи разговор о нем с большой буквы. Вот что вы, мужчины, называете «очарованием».
«Я не чувствую этого», – сказал он. «Да, потому что теперь вы по ту сторону сцены. Но когда вы сами участвовали в игре, вы прекрасно чувствовали это, не отрицайте, пожалуйста, и почувствуете снова, лишь только я вздумаю прибегнуть к этому средству. Но я хочу знать, не может ли женщина заинтересовать мужчину другим, более честным путем? Вопрос, в сущности, сводится к следующему: может ли мужчина любить женщину такой, какова она есть на самом деле?» «Я бы сказал, – ответил он, – что это зависит от самой женщины».
Этот ответ показался мне разумным, и я сказала: «Но ведь вы любили меня, когда я старалась казаться вам загадкой. А теперь, когда я хочу быть с вами честной, вы ясно даете мне понять, что вам это не нравится, что вы не желаете этого. Вот с этой-то проблемой и сталкивается женщина. В нашей семье женщины всегда правили мужчинами. Но они проделывали это так ловко, что в Кассельменском округе никому и в голову не приходило задумываться над «женскими правами». Однако есть же у женщины свои права, и так или иначе они будут дурачить мужчин, пока те не перестанут считать себя сильной половиной рода человеческого, призванной управлять нами».
Тут я убедилась, как мало он понимает меня. «Каждая семья должна иметь одного главу, – заметил он». «Но ведь в истории известны случаи, – возразила я, – когда король и королева правили совместно, и все шло хорошо. Почему же не может быть того же и в семье». «Все это допустимо, пока дело касается семьи. Но политика и деловая жизнь должны быть всецело предоставлены мужчинам, и женщины, вмешиваясь в них, неизбежно утрачивают лучшие свойства своей натуры».
Итак, вот к чему мы пришли. Я не стану повторять вам его аргументов, так как вы, несомненно, достаточно знакомы с антисуфражистской литературой. Мне казалось, что при известном такте и терпении я смогу увлечь его за собой. Но всякий раз, как мы возвращались к этой теме, я убеждалась, что он снова стоит на своей исходной точке зрения: женщина должна подчиняться руководству мужчины; она должна смотреть на мир его глазами.
Я не могла заставить его признаться, что мужчина может ошибаться. И на этом мы остановились и, боюсь, будем останавливаться всегда. Я соглашаюсь с ним, что женщина должна повиноваться мужчине, но только пока он прав».
Ее письма не всегда касались этих вопросов. Несмотря на свои занятия рукоделием, она находила время для чтения и делилась со мной своими впечатлениями. Кроме того, она привела в исполнение свой план относительно молодого доктора и сделала любопытные открытия.
Он благоговел перед ней, а ее пробуждающийся ум находил в нем много материала для размышлений.
«Вот, например, этот молодой доктор, – писала она, – он считает себя человеком науки и даже гордится своим хладнокровием и выдержкой. Однако хитрая женщина могла бы без особого труда обвести его вокруг пальца. У него был в юности неудачный роман (он проговорился мне об этом), и теперь от одиночества и неудовлетворенности он готов видеть в каждой красивой женщине нечто сверхъестественное. Воображение помогает ему превращать ее в радужный мыльный пузырь, который он выдувает собственным дыханием. Я знаю, что никогда не могла бы раскрыться перед ним. Если бы я сказала ему, что сама дала поймать себя в золотую сеть, он только выразил бы восторг перед возвышенностью моих мыслей. О, мало ли я видела женщин, игравших на доверчивости мужчин! А сколько раз я сама злоупотребляла ею. Если бы мужчины были благоразумны, они предоставили бы нам избирательные права и долю участия в общественной работе, словом, вывели бы нас на дневной свет и рассеяли бы ту загадочность, которой мы окружили себя».
«Кстати, – писала она в другом письме, – если вы приедете сюда, могут выйти неприятности. Я рассказала доктору Перрину о вас и ваших теориях относительно лечения голодом, духовного исцеления и т. д. Это очень взволновало его. Он, кажется, чрезвычайно серьезно относится к своему диплому и не желает, чтобы его перещеголял какой-нибудь любитель. Он прописал мне пилюли, я отказалась принимать их и думаю, что теперь он обвиняет за это вас. У него оказалось много общего с моим мужем, который выражает свое уважение к науке тем, что принимает все, что ему советуют. Доктор Перрин получил свое медицинское образование здесь, на Юге, и я думаю, что он, по крайней мере, лет на двадцать отстал от современного медицинского мира. Дуглас остановил на нем свой выбор, потому что они встречались с ним в обществе. Мне это, в общем, безразлично, ибо я никому не намерена позволять лечить себя».
И вдруг среди этой болтовни прорывался искренний крик сердца.
«Мэри, что вы сделаете, если в один прекрасный день я признаюсь вам, что я несчастлива? Я не смею заикнуться об этом кому-нибудь из моих близких. Все убеждены, что я достигла пределов человеческого торжества, и мне приходится играть эту роль, чтобы не огорчить их. Я знаю, что если бы мой дорогой старый отец узнал хотя бы крупицу правды, это убило бы его. Меня поддерживает только одна мысль, что я помогала ему и устранила из его жизни бремя денежных забот. Но иногда мне кажется, что я только отдалила час расплаты. Я дала другим его детям пример швыряния деньгами и светскости, в которых они не чувствовали раньше потребности.
Возьмите мою сестру Селесту. Я, кажется, никогда не говорила вам о ней. Она дебютировала в свете прошлой осенью и собиралась приехать в Нью-Йорк, чтобы провести со мной зиму. Она мечтает о том, чтобы выйти замуж за богатого человека; я должна была ввести ее в общество, но оказалась настолько эгоистичной, что уехала сама. Разве могу я сказать ей – берегись! Я сделала блестящую партию, но это не принесло мне счастья! Она все равно не поймет и скажет, что я просто взбалмошная женщина. Она ответит мне: «Если бы мне подвернулось такое счастье, я сумела бы стать счастливой». И весь ужас в том, что это правда.
Видите, какое положение я заняла в семье. Я не могу сказать сестрам: «Вы тратите слишком много папиных денег, нехорошо подписывать чеки и пользоваться его беспечностью». Ведь я сама также пользовалась этими деньгами, пока не свила собственного гнезда. И теперь мне остается только покупать Селесте платья и шляпы, хоть я знаю, что они наполнят завистью сердца ее подруг и вынудят десятки других семей жить выше своих средств».
Беременность Сильвии приближалась к концу. Она писала мне по этому поводу чудесные письма, передавая свои настроения и мысли с такой простотой и откровенностью, которые я вряд ли могла ожидать от нее при беседе с глазу на глаз. Читая ее письма, я вспоминала свои собственные давно прошедшие радости и огорчения.
«Мэри! Мэри! Сегодня я почувствовала ребенка! Какое удивительное ощущение! Я никогда не поверила бы, если бы кто-нибудь попробовал описать мне его раньше. Я чуть не лишилась сознания. Что-то во мне хочет вернуться к прежнему и боится этих новых, неизведанных переживаний. Я не хочу быть застигнутой врасплох и испытывать ощущения, которые не поддаются моей воле. Я ухожу на берег, прячусь там от всех и плачу, плачу без конца. Мне кажется, что я снова могла бы молиться».
И в другом письме: «Я в восторге от того, что ношу в себе ребенка, своего собственного ребенка! О, как это чудесно! Но мой экстаз вдруг сменяется ужасом, потому что я не люблю отца моего ребенка. Напрасно обманывать себя… и вас. Мне нужно знать, что есть на свете хоть одна человеческая душа, которой я могла бы доверить всю правду, какова она есть. Я не люблю его, никогда не любила и никогда не полюблю.
О, как могли они все так ошибаться? Вот здесь со мной тетя Варина, одна из тех, кто убеждали меня согласиться на это брак. Она говорила мне, что любовь придет. Кажется, это была именно ее мысль; моя мать, однако, тоже держалась того взгляда, что достаточно женщине подчиняться мужу, повиноваться ему и следовать за ним, чтобы любовь овладела ее сердцем. Я доверчиво испробовала это, но предсказания их не сбылись. А теперь я должна родить ему ребенка, и это свяжет нас навсегда.
О, как ужасно, что я не люблю отца своего ребенка! Я говорю себе: ребенок будет отчасти его, даже, может, быть, больше его, чем мой. Он будет похож на него, унаследует от него те или иные свойства, может быть, как раз те самые, которые отталкивают меня в его отце. И тогда я буду иметь их перед собой день и ночь до конца жизни. Я увижу, как эти черты будут развиваться и крепнуть, это будет вечная, постоянная Голгофа моего материнства. Я стараюсь утешить себя тем, что многое зависит от воспитания и что черты эти, возможно, удастся искоренить в ребенке. Но затем я думаю: нет, тебе не удастся воспитать его по-своему; твой муж будет иметь на него права более сильные, чем твои. И тут я предвижу смертельную борьбу между нами.
Одна умная приятельница говорила мне, что мне следовало быть хуже или лучше, чем я есть: или мне надо поменьше замечать недостатки в других людях, или поменьше любить людей. И я вижу теперь, что мне надо было быть слишком хорошей, чтобы пойти на этот брак, или недостаточно хорошей, чтобы использовать его преимущества. Я знаю, что могла бы быть счастлива в качестве жены Дугласа ван Тьювера, если бы я думала только о выгодах своего положения и о том, что мой ребенок унаследует их. Но вместо этого я вижу капкан, в который попали не только мы, но и наш ребенок, и из которого я не могу высвободить ни себя, ни их. О, какую ошибку делает женщина, когда она выходит замуж в надежде перевоспитать своего мужа! Он не желает меняться, не желает даже слышать намека на необходимость какой-либо перемены. В своем доме он хочет только тишины и покоя, а это значит, что он хочет быть самим собой.
Иногда мне удается разобраться в создавшемся положении с таким хладнокровием, словно лично меня оно совсем не касается. Он требует от меня, чтобы я подчинила ему свой разум. Но я знаю, что общая капитуляция все равно не удовлетворит его, каждый солдат, каждый мятежник, скрывшийся в горах, должен будет принести ему повинную отдельно. Он выслеживает их (мои бедные, блуждающие, неокрепшие мысли) и, настигнув, заставляет тотчас принести клятву верности или погибнуть на месте. Точь-в-точь избалованный ребенок: чем больше даешь ему, тем больше он требует, и, если вы откажете ему в какой-нибудь пустячной прихоти, он поднимает против вас настоящую войну, лишь бы сломить ваше сопротивление и добиться желаемого».
Месяц спустя она писала мне:
«Бедный Дуглас потерял покой. Он переловил почти все виды рыб, которые можно здесь найти, и вдоволь поохотился за всеми породами зверей и птиц, не считаясь с сезонами. Гарри уехал домой, и все остальные гости также покинули нас. Мне было бы тяжело теперь переносить общество. Таким образом, около Дугласа не осталось никого, кроме доктора, меня и моей бедной тетки. Он уже несколько раз заговаривал об отъезде. Но я не хочу уезжать, и мне кажется, что в это критическое время я должна заботиться о себе. Здесь жарко, но я только расцветаю от этого и никогда не чувствовала себя здоровее и крепче. Я попросила его уехать в Нью-Йорк и оставить меня здесь одну, пока мой ребенок не появится на свет. Разве это очень неблагоразумно? Мне кажется, что нет, но бедная тетя Варина пришла в ужас от этого проекта – как можно отпускать от себя мужа!
Я размышляю над своим жребием женщины. Я вижу горечь и страдания моего пола на протяжении долгих веков. Я очень изменилась и утратила для своего мужа свою привлекательность. Я с трудом двигаюсь, быстро устаю и не могу больше составлять ему компанию, вернее даже, я стала для него обузой, а он принадлежит к числу людей, не выносящих никакого бремени. В результате я утратила в его глазах очарование своего пола.
Как женщина, я была обязана употреблять всю свою энергию на то, чтобы поддержать это очарование. Впрочем, я прекрасно знаю, чем я могла бы восстановить свое влияние. Здесь есть доктор Перрин. Он не сочтет меня обузой и примирится со всеми моими недостатками, и я на одно мгновение представляю себе, как встревожился бы мой муж, если бы я слишком углубилась в обсуждение ваших медицинских теорий с моим красивым молодым телохранителем.
Это один из испытаннейших способов удержать своего мужа, а Леди Ди посвятила меня во все тонкости этого искусства. Но теперь я ни за что не прибегла бы к таким приемам, если бы даже все мое счастье заключалось в любви мужа. Я подумала бы о правах моего друга, маленького доктора. Мне кажется, что это очень характерно для «новой женщины», не правда ли? Вы можете упомянуть об этом в вашей ближайшей суфражистской речи.
Существуют, разумеется, еще другие способы. У меня есть ум, и я могла бы обратить все его силы на то, чтобы удержать мужа, вместо того чтобы пытаться разрешать мировые проблемы. Но для этого мне нужно было бы верить, что в муже заключен весь смысл моей жизни, а я позволила сомнению закрасться в мою душу! Моя бедная тетка изо всех сил старается воскресить во мне веру моих прабабок, но я просто не способна проникнуться ею. Она сидит возле меня, и в глазах ее отражается ужас женщин всех веков – ведь я теряю мужа!
Не знаю, старались ли вы когда-нибудь удерживать мужчину, я хочу сказать, удерживать сознательно. Думаю, что нет. Ядовитое изречение Леди Ди – святая истина: в сомнительных случаях заводи речь о нем с большой буквы. Если вы сумеете тактично и ловко заставить мужчину разговориться о себе, о своих вкусах, идеях, работе и значительности всего этого, можете быть спокойны, что вы никогда не наскучите ему. Вы не должны, конечно, во всем соглашаться с ним, если вы отметите разницу в ваших взглядах на тот или иной вопрос и позволите ему убедить себя, он увидит в этом поощрение, а если вы сумеете показать, что вы не вполне убеждены, но готовы убедиться, он, несомненно, вернется к этому разговору. «Не давай ему ни минуты покоя, – говорила Леди Ди. – Уносись с ним время от времени, как лошадь, закусившая удила, но не допускай, чтобы он выпустил вожжи».
Вы понятия не имеете, сколько женщин сознательно ведут эту игру. Некоторые откровенно сознаются в этом, другие же просто делают то, что кажется им легче остального, и умерли бы от ужаса, если бы кто-нибудь раскрыл им глаза. В этом заключается весь смысл жизни светской женщины, безразлично, молода она или стара. Нравиться мужчине! Подстерегать его настроения, подзадоривать его, льстить ему, поощрять его тщеславие – одним словом, «очаровывать» его. Вот этого-то и добивается от меня тетя Варина. Если я не употребляю слишком резких выражений, описывая этот процесс, она без колебаний признает, что все это так. Но ведь то же самое делала она и делает почти каждая женщина, старающаяся сохранить семью и поддержать огонь в своем очаге. На днях я читала роман «Джейн Эйр». Там изображен женский идеал властного и пылкого любовника. Послушайте, что он говорит, когда «в настроении»: «Сегодня вечером я в разговорчивом и общительном настроении, вот почему я послал за вами. Камин и канделябры – недостаточно занятные товарищи, точно так же как Пилот, ибо никто из них не владеет даром речи. Сегодня я решил провести время в свое удовольствие, забыть все огорчения и насладиться тем, что мне нравится. Мне хочется заглянуть в вашу душу, лучше узнать вас, так говорите же!»
Был май, и до родов оставалось немного больше месяца. Сильвия требовала, чтобы я приехала к ней, но я отказывалась, зная, что мое присутствие будет неприятно ее мужу и тетке. Но тут она сообщила мне, что муж ее возвращается в Нью-Йорк.
«Его удерживало здесь чувство долга по отношению ко мне, – писала она, – но он так явно скучал, что мне пришлось указать ему на вред, который он причиняет этим и себе, и мне.
Сомневаюсь, чтобы вы захотели теперь приехать сюда. Последние зимние гости разъехались. Становится так жарко, что даже вода перестает освежать нас. Но я блаженствую в этой температуре. Костюм мой дошел до минимума, да и то, что я ношу, всегда белого цвета. Доктор Перрин не может, однако, отрицать, что здоровье мое не оставляет желать лучшего. Свои пилюли он прописывает мне исключительно для формы.
В последнее время я не позволяю себе много думать о моих отношениях с мужем. Я не могу винить его, но не могу винить и себя и стараюсь только сохранить свое спокойствие, пока не родится мой ребенок. Я заметила, что почти инстинктивно проделываю ту процедуру, о которой вы говорил мне. Я внушаю себе и будущему ребенку здоровье и спокойствие. Я нашептываю слова, которые сильно напоминают молитвы, но боюсь, что моя бедная милая мама не поняла бы их в этой новой научной оболочке.
Однако по временам я не могу удержаться от того, чтобы не думать о ребенке и его будущем. И тогда мое сердце внезапно наполняется бесконечной жалостью к его отцу. Я сознаю, что не люблю его и что он всегда знал это. Мысль об этом вызывает во мне угрызения совести. Но я сказала ему правду, прежде чем стала его женой, и он обещал быть терпеливым со мной, пока я не научусь любить его. И тут во мне просыпается неудержимое желание зарыдать и громко крикнуть: «О, зачем ты сделала это! Зачем ты позволила убедить себя выйти за него замуж».
Вчера вечером я сделала попытку поговорить с ним. Это произошло после того, как он окончательно решил уехать. Я была полна жалости и желания помочь ему. Я сказала ему, что, несмотря на все наши разногласия по некоторым вопросам, я хочу научиться жить с ним счастливо. Мы должны найти какой-нибудь компромисс, хотя бы ради нашего ребенка, если не ради нас самих. Мы не должны допустить, чтобы ребенок страдал от этого. Он холодно ответил, что ребенку не придется страдать, ибо ему будет предоставлено все, что есть лучшего в мире. Я заметила, что может возникнуть вопрос о том, что считать лучшим. Но на это он ничего мне не ответил, а начал упрекать меня за вечное недовольство. Разве он не предоставил мне все, что только может желать женщина? Мой муж слишком корректен, чтобы упомянуть о деньгах, но он сказал, что я пользуюсь неограниченным досугом и освобождена от всяких забот. Я настаивала на том, что у меня все же есть свои заботы, хотя он и старается по возможности предотвратить их.
Дальше этого наш разговор не пошел. Я прекратила его, не желая повторять старые споры.
Дуглас перенял у моего кузена его любимую поговорку: «Нельзя горевать о том, чего не знаешь». Мне кажется, что Гарри перед отъездом заподозрил что-то неладное между мной и моим мужем и нашел нужным дать мне маленький дружеский совет. Он очень тактично вел разговор и ограничился туманными намеками, но я прекрасно поняла своего умудренного в светских делах кузена. Мне кажется, что в это изречение он вложил всю философию, которой он хотел бы научить женщин: нельзя горевать о том, чего не знаешь!»
Приблизительно через неделю Сильвия написала мне, что ее муж в Нью-Йорке. Через неделю, в одно прекрасное утро я отправилась навестить Клэр Лепаж.
Вы спросите, зачем я это сделала? У меня не было никакой определенной цели, ничего, кроме принципиального протеста против философии кузена Гарри.
Меня ввели в будуар Клэр, где царил беспорядок после вчерашнего вечера. Она сидела перед зеркалом в розовом пеньюаре, к которому были приколоты великолепные красные розы; увидев меня, она отбросила волосы, падавшие ей на глаза, и извинилась, что не совсем готова для приема гостей.
– Я только что разговаривала по телефону с Ларри, – объяснила она.
– Ларри? – удивленно повторила я, ибо Клэр всегда уверяла меня, что ван Тьювер был и останется ее единственным отклонением с пути истины.
По-видимому, решила я, она достигла в своей карьере той стадии, когда внешние приличия утрачивают всякое значение.
– Я пришла к выводу, что не умею управлять мужчинами, – сказала она. – Никак не могу долго ладить с ними.
Я заметила про себя, что опыт привел меня к такому же заключению, хотя, по правде говоря, я только один раз в жизни имела с этим дело.
– Скажите мне, – спросила я, – кто этот Ларри?
– Вот его портрет.
Она достала карточку из ящика своего туалета. Я увидела красивого пожилого блондина.
– С виду у него довольно приятная внешность, – заметила я.
– В том-то и беда, что о мужчинах никогда нельзя судить по внешности.
Я обратила внимание на число, проставленное на карточке.
– Это, по-видимому, ваш старый знакомый? Вы никогда не говорили мне о нем.
– Он не любит, когда о нем говорят. У него беспокойная жена.
Я внутренне усмехнулась, но кивнула с пониманием.
– Он биржевой маклер. Его «прижало», как он выражается, и от этого он сделался раздражителен и скуп. В биржевике эти качества, как вы понимаете, особенно неприятны.
Она рассмеялась и продолжала:
– А между тем он очень требователен, хочет, чтобы все делалось ему в угоду, и вечно указывает мне, с кем я могу поддерживать знакомство и где могу бывать. Я всегда говорю, что испытываю на себе все неудобства брака, не пользуясь ни одним из его преимуществ.
Я заговорила об эмансипации женщин, и Клэр, откинувшись на спинку стула и расчесывая свои длинные чудесные волосы, улыбалась мне из-под полуопущенных ресниц.
– Угадайте, к кому он ревнует меня?! – сказала она. И когда я отказалась от такой непосильной задачи, она бросила на меня многозначительный взгляд.
– В море попадаются рыбы покрупнее Ларри.
– И вам удалось поймать одну из них? – спросила я с наивным видом.
– Не стану же я отказываться от своих прежних друзей.
Я перевела разговор, как бы случайно, на свои летние планы, и через несколько минут Клэр сама прервала меня.
– Кстати, Дуглас ван Тьювер в городе.
– Откуда вы знаете это?
– Я видела его.
– В самом деле? Где же?
– Я добилась приглашения Джека Тэйлора. Видите ли, когда Дуглас влюбился в свою прославленную южную красавицу, Джек предсказал, что она очень быстро надоест ему. И теперь он заинтересован в том, чтобы предсказание его оправдалось.
– И что же, есть у него шансы на успех?
– Я сказала ему: «Дуглас, почему вы не зайдете навестить меня?» Он был в шутливом настроении и спросил: «Что вы хотите? Новый автомобиль?» «У меня нет ни старого, ни нового автомобиля, Дуглас, и вы это знаете, – ответила я. – Мне нужны только вы сами. Я всегда любила вас и, кажется, доказала вам это». «Вы доказали мне только, что вы нечто вроде дикой кошки, – сказал он. – Я боюсь вас. А кроме того, я устал от женщин и не доверюсь больше ни одной».
– К такому же заключению относительно мужчин пришли, кажется, и вы, – заметила я.
– В ответ я сказала: «Дуглас, приходите ко мне, и мы вспомним старое. Можете довериться мне. Клянусь вам, что ни одна живая душа не узнает об этом». «Вы утешились без меня с кем-то другим», – возразил он. Но я знала, что это только догадка с его стороны. Он искал, чем бы досадить мне, и сказал: «Вы слишком много пьете. Нельзя доверять людям, которые пьют». «Ведь вы же знаете, – ответила я, – что я не пила так много, когда была с вами. Да и сейчас я пью гораздо меньше, чем вы». «Я провел Бог знает сколько времени на пустынном острове и праздную теперь свое освобождение», – возразил он. «Что же, – сказала я, – позвольте мне помочь вам отпраздновать эту радость».
– Что же он ответил на это?
Клэр кончила расчесывать свои шелковистые волосы и многозначительно улыбнулась мне.
– Я сказала: «Дуглас, вы можете довериться мне. Клянусь, что ни одна живая душа не узнает об этом от меня».
– Это значит, разумеется, что он обещал к вам прийти, – заметила я.
– Я не сказала вам этого, – последовал ответ.
Я знала, что Клэр сама расскажет мне все до конца. Но в эту минуту ее отвлекла другая тема.
– У Сильвии скоро будет ребенок, – заметила она вдруг.
– Ее муж, должно быть, очень рад этому? – сказала я.
– Он просто раздувается от отцовской гордости, как говорит Джек. Он послал за бутылкой какого-то замечательного шампанского, чтобы отпраздновать скорое появление «бэби-миллионера» (так называли в своем время маленького Дугласа). И они выпили три бутылки, чтобы достойно отметить такое событие. Джек говорит, что Дуглас единственный человек в Нью-Йорке, у которого есть такое вино.
– Ваш друг Джек, кажется, большой весельчак, – вставила я.
– Дуглас не всякому позволяет разговаривать с собой. Он держится обычно с большим достоинством, а к своему будущему ребенку относится очень серьезно.
– Дети обыкновенно теснее привязывают мужа к жене, не правда ли?
Я внимательно наблюдала за ней и увидела, как она усмехнулась моей наивности.
– Нет, – сказала она, – по-моему, это не так. Дети в общем только надоедают.
Я не стала оспаривать ее авторитетного заявления. Кому же, как не Клэр, было знать мужчин?
Она не отрывалась от зеркала, укладывая в прическу свои волосы, и вдруг рассмеялась.
– А Ларри весь вечер ждал здесь, пока мы веселились у Джека Тейлора.
– В таком случае неудивительно, что он устроил вам сцену, – сказала я.
– Но он не предупредил меня, что хочет прийти. Неужели же мне сидеть весь вечер одной? Вечно одна и та же история. Я никогда не встречала мужчины, который искренно хотел бы, чтобы у вас были друзья и чтобы вы весело проводили время без него.
– Быть может, – возразила я, – он боится, как бы вы не изменили ему?
Я сказала это в шутку, считая, что такого рода остроты должны нравиться людям типа Клэр и ее друзей. Мне и в голову не приходило, к чему приведет это замечание. Помню, как однажды мой муж привез на ферму много динамита для выкорчевывания пней; представьте себе мой ужас, когда я увидела, что дети беззаботно играют смертоносными палочками! И вот теперь, оглядываясь назад, я нахожу, что обе мы во время этого разговора напоминали моих ребятишек.
– Знаете, – заметила она с серьезным видом, – у Ларри есть один пунктик. Я встречала и прежде ревнивых мужчин, которые дрожали над женщинами, но такого одержимого, как Ларри, никогда.
– А в чем же дело?
– Он начитался каких-то книг о разных болезнях и теперь рассказывает мне всякие ужасы о том, что может случиться со мной и с ним. Как послушаешь его, право, начинает мерещиться, будто все эти микробы ползают по стенам комнаты.
– Но… – начала я.
– Мне надоело слушать его лекции, и я заявила ему: «Ларри, поступайте, как я: старайтесь получить все, что можно получить, и примиритесь с этим. Тогда вам нечего будет беспокоиться».
Я сидела неподвижно, затаив дыхание. Минута показалась мне вечностью. Наконец я сказала:
– Но ведь вы же не хворали ни одной из этих болезней, Клэр?
– У кого их нет, – ответила она. Снова наступила пауза.
– Но вы же знаете, – заметила я, – что некоторые из них опасны.
– Разумеется, – беспечным тоном ответила она. – Есть, например, одна, от которой проваливается нос и выпадают волосы, но со мной ничего подобного не случится.
– Но есть еще другая болезнь, – намекнула я, – и гораздо более распространенная.
И так как она не подхватила намека, я продолжала:
– А между тем она гораздо серьезнее, чем это думают обычно.
Она пожала плечами.
– Что же поделаешь. Мужчины неизбежно награждают нас чем-нибудь; это входит в игру. Так стоит ли терзаться?
Наступило долгое молчание. Мне нужно было время, чтобы сообразить, как действовать дальше. Мне хотелось так много выведать от нее и при этом нужно было так много скрыть!
– Я не хочу докучать вам, Клэр, – начала я, наконец, – но это, право, имеет очень серьезное значение для вас. Видите ли, я тоже кое-что читала об этом. Медицина сделала новые открытия. Раньше думали, что это лишь местное заболевание, вроде насморка, но теперь оказывается, что это болезнь крови и что она может вызвать очень тяжкие последствия. Большинство хирургических операций, которым подвергаются женщины, обусловлено этой причиной.
– Может быть, и так, – сказала она тем же равнодушным тоном. – Меня тоже оперировали два раза. Но все это теперь давно забыто.
– Однако вы не можете быть уверены, что дело на этом и кончится, – настаивала я. – Люди часто думают, что вылечились от гонорреи, когда на самом деле болезнь только притаилась и может в любое время снова дать вспышку.
– Да, я знаю. Это одно из тех сведений, которое Ларри принес мне вместе со своей любовью.
– Болезнь может проникнуть в суставы и вызвать ревматизм; она бывает причиной невралгии и сердечных болезней и двух третей всех случаев слепоты новорожденных детей…
Клэр вдруг расхохоталась:
– Ну, об этом пусть беспокоится Сильвия Кассельмен!
– О! О! – прошептала я, теряя самообладание.
– В чем дело? – спросила она, и в голосе ее прозвучала жесткая нота.
– Вы говорите это серьезно?
– Что миссис Дуглас ван Тьювер придется кое-чем заплатить мне за то зло, которое она причинила мне? Ну, так что же?
И Клэр разгорячилась, как это случалось с ней всякий раз, лишь только разговор касался ее соперницы.
– Почему она не может рисковать тем же, чем рискуем мы? Почему я должна страдать от этого, а она нет?
Я напрягала все силы, чтобы сохранить спокойствие, и после минутной паузы заметила:
– Разве можно желать этого кому-нибудь, Клэр? Девушку надо было предупредить…
– Предупредить? Й вы воображаете, что она выпустила бы свою великолепную добычу?
– Может быть. Ведь вы не знаете. Во всяком случае, она понимала бы тогда, на что идет…
Наступило долгое молчание. Я была так потрясена, что с трудом подыскивала подходящие слова.
– Я и сама подумывала о том, чтобы предупредить ее, – мрачно сказала Клэр. – По крайней мере, вышел бы маленький скандал. Помните, когда они выходили из церкви? Вы же сами удержали меня.
– Тогда было уже поздно, – услышала я свой собственный голос.
– Что же, – воскликнула она, вновь приходя в возбуждение. – Теперь пришел черед миссис Сильвии. Посмотрим, может ли такая знатная дама заразиться моей болезнью!
Я не могла больше сдерживаться.
– Клэр, это бесчеловечно.
Она взяла пуховку и начала с особой тщательностью пудрить лицо.
– Я все понимаю, – сказала она, и я увидела в зеркале, как сверкают ее глаза. – Вам не удастся одурачить меня. Вы старались быть ласковой, но я знаю, что в глубине души вы презираете меня. Вы думаете, что я не лучше всякой уличной женщины. Что же, прекрасно, я отвечу вам от лица всех подобных женщин: этим мы доказываем, что и мы тоже люди. Нас выбрасывают вон, но, как видите, мы возвращаемся обратно.
– Дорогая моя, – сказала я, – вы не понимаете, о чем говорите. Неужели вы могли бы так злорадствовать, зная, что расплачиваться за все это будет ни в чем не повинный маленький ребенок?
– Их ребенок! Конечно, будет очень печально, если с маленьким принцем приключится такая неприятность. Но, признаюсь вам откровенно, я все время думала об этом.
Я не знала в точности, что может случиться и как, да никто, по-моему, не может знать этого. Если доктора уверяют обратное, то они попросту водят нас за нос. Но я знала, что Дуглас прогнил, а значит, и дети у него могут быть гнилые, и все они будут страдать от этого. Вот одна из причин, которая удержала меня от того, чтобы вмешаться и разоблачить его.
Я совсем потеряла способность говорить, и Клэр, глядя на меня, расхохоталась.
– У вас такой вид, словно вы ничего не знали. Разве вы не поняли, когда я сказала вам об этом тогда?
– Вы сказали мне тогда?
– Вы, кажется, действительно не поняли. Я часто говорю по-французски, когда волнуюсь. У нас есть поговорка о свадебном подарке, который любовница кладет в корзину невесты. Кажется, достаточно прозрачно, разве нет?
– Да, произнесла я упавшим голосом, а Клэр, окинув меня пытливым взглядом, продолжала:
– Вы считаете меня мстительной, не так ли? Что же, я и сама упрекала себя в этом и старалась побороть в себе это чувство, но приходит время, когда начинаешь желать, чтобы люди расплатились за то, что они отняли у тебя. Я скажу вам то, чего я никогда еще никому не говорила, да и не собиралась говорить. Вы видите, что я пьянствую и иду прямой дорогой к гибели; вы слышите, как беспечно я говорю обо всем этом. Но было время, когда я любила Дугласа ван Тьювера по-настоящему и хотела иметь от него ребенка. Я мечтала об этом до боли, до муки. Но разве я могла надеяться на такое счастье? Я навсегда сделалась бы посмешищем для всей его компании, если бы только заикнулась о чем-либо подобном. Меня так засмеяли бы, что пришлось бы удрать из города. Несколько раз я пыталась поймать его, чтобы иметь от него ребенка, хотя бы против его воли. Но оказалось, что врачи лишили меня навсегда этой возможности. Мне оставалось только согласиться с моими друзьями, что так лучше, это избавляет меня от забот. Но тут является она и получает все, чего я так сильно желала. Весь мир находит это прекрасным и трогательным. Какая прелестная молодая мать! Что она сделала такого в жизни, чтобы иметь все, чего я лишена? Можете, сколько угодно, проливать слезы над ней, что касается меня, то я скажу прямо: пусть она получит свое. Пусть она разделит участь других женщин, – ведь она слишком хороша и чиста, чтобы знать даже об их существовании.
Я вышла от Клэр совершенно подавленная. Ни разу я не испытывала такого потрясения с тех пор, как прочла письмо моего несчастного племянника. Почему мне раньше не пришло в голову расспросить Клэр об этом? Как могла я так долго оставлять Сильвию под угрозой этой опасности? Самая большая опасность угрожает ее ребенку во время родов. Я сделала быстрый подсчет согласно ее последнему письму и вздохнула с облегчением – оставалось еще около десяти дней. Прежде всего я подумала о том, чтобы послать телеграмму, но затем оставила эту мысль: в телеграмме трудно будет указать ей, что нужно сделать, и еще труднее объяснить потом, почему я избрала такой необычайный способ переписки. Я вспомнила, что в своем последнем письме Сильвия называла имя врача, который должен был приехать из Нью-Йорка, чтобы присутствовать при родах. Самое лучшее – повидать этого врача, решила я.
– Чем могу служить? – спросил он, когда я вошла в его кабинет.
Это был высокий пожилой человек, безукоризненно одетый, корректный и выдержанный.
– Доктор Овертон, – начала я. – Моя приятельница миссис Дуглас ван Тьювер написала мне, что вы в скором времени выезжаете во Флориду.
– Совершенно верно, – ответил он.
– Я пришла переговорить с вами по одному очень щекотливому делу. Мне, разумеется, едва ли нужно указывать вам, что я полагаюсь на соблюдение профессиональной тайны.
Я заметила, что взгляд его стал вдруг очень пристальным.
– Разумеется, – ответил он.
– Я решилась на это потому, что миссис ван Тьювер – мой близкий друг и мне очень дорого ее благополучие. Я только случайно узнала, что она подвергалась опасности заражения венерической болезнью.
– Я едва ли поразила бы его сильнее, если бы ударила по лицу.
– Что? – крикнул он, забывая свою выдержку.
– Было бы совершенно бесполезно пускаться в подробности, – продолжала я, – достаточно, если я скажу вам, что мои сведения вполне достоверны и точны; источник, откуда я получила их, не допускает сомнений.
Наступило долгое молчание. Глаза его не отрывались от моего лица.
– Что это за болезнь? – промолвил он наконец.
Я назвала ее, и мы снова замолкли.
– А сколько времени существует эта… эта возможность заражения?
– С момента ее замужества. Около восемнадцати месяцев.
Это многое объяснило ему. Я чувствовала, как взгляд его насквозь пронизывает меня. Кто я такая? Сумасшедшая или новый тип шантажистки? А может быть, своего рода «Клэр»? В эту минуту я с благодарностью вспомнила о своей дешевенькой шляпке и почтенном возрасте.
– Это сообщение, – сказал он наконец, – разумеется, очень поразило меня.
– Когда вы подумаете над этим, вы убедитесь, что единственным мотивом, который мог заставить меня прийти сюда, было беспокойство за здоровье моего друга.
Он размышлял несколько минут.
– Все это, может быть, и правда, но разрешите мне добавить, что, когда вы утверждаете, будто знаете это…
Он остановился.
– …то это значит, что я знаю, – ответила я и тоже остановилась.
– Имеет ли миссис ван Тьювер какое-нибудь представление об этом?
– Ни малейшего. Напротив, перед свадьбой ее заверили, что такой возможности не существует.
Снова я почувствовала на себе его пристальный взгляд, но не сочла нужным пускаться в какие-либо объяснения.
– Доктор, – продолжала я, – мне, конечно, незачем напоминать вам о серьезности положения как для матери, так и для ребенка.
– Конечно, нет.
– Вы, несомненно, знаете, какие предосторожности следует принять, чтобы сохранить ребенку зрение.
– Конечно! На этот раз в тоне его прозвучала нотка высокомерия. – Скажите, вы не сестра милосердия?
– Нет, – ответила я. – Но много лет назад в моей семье разыгралась одна трагедия, раскрывшая мне все ужасное значение этих болезней. Поэтому, когда я узнала, что нечто подобное угрожает моей приятельнице, моей первой мыслью было предупредить вас. Надеюсь, вы поймете мои побуждения?
– Разумеется, разумеется, – поспешно ответила он. – Вы поступили совершенно правильно. Можете быть спокойны, я приму все нужные меры. Жаль только, что эти сведения не дошли до меня раньше.
– Я сама узнала об этом час тому назад, – сказала я, поднимаясь, чтобы уйти. – Вина, таким образом, всецело ложится на другое лицо.
Больше мне нечего было добавить. Он вежливо проводил меня до дверей, и я вышла на улицу, чувствуя себя расстроенной и несчастной. Несколько времени я бесцельно бродила по городу, обдумывая, что бы еще предпринять, хотя бы для своего собственного успокоения, если не для здоровья Сильвии. Я рисовала себе всякие ужасы.
Доктор Овертон не сказал мне точно, когда он собирается выехать. А что если помощь понадобится ей неожиданно? Или что-нибудь случится с ним самим во время долгого переезда по железной дороге? Нечто подобное испытывает мать, которая видит во сне, что ребенку ее грозит опасность, и рвется к нему. Я чувствовала, что мне необходимо самой быть около Сильвии.
Она просила меня приехать. Я была очень переутомлена, и комитет предложил отпуск. Я зашла в первый попавшийся магазин и по телефону узнала о поездах, отправляющихся во Флориду. Затем я взяла такси, заехала домой, чтобы взять кое-какие вещи, и помчалась на вокзал. Прошло немного более двух часов с того момента, как Клэр раскрыла предо мной ужасную опасность, а я была уже на пути к Сильвии.
Мне пришлось уже однажды пересечь Соединенные Штаты с запада на восток, теперь я пересекала их с севера на юг. Днем мимо проносились фермы и загородные дома Нью-Джерси, а на утро я увидела безграничный простор степей и волнующиеся поля молодой пшеницы и табака. Местами попадались леса терпентиновых деревьев, где работали полуобнаженные негры, и длинные вереницы бараков, перед которыми сидели какие-то тощие люди, жевавшие табак, и жарились на палящем солнце чернокожие. Прошла еще одна ночь, и передо мной открылась прекрасная Флорида. Пальмы и другие южные деревья, изображение которых я видела до этих пор только в учебниках географии, болота, поросшие вьющимися растениями, в которых глаз невольно искал аллигаторов, апельсиновые рощи в цвету и сады, как роскошные корзины прекрасных цветов. С каждым часом становилось все жарче и жарче. Я не умела переносить жару, как Сильвия, и, несмотря на открытые окна, обливалась потом.
Мы должны были прибыть в Майами днем. Но впереди нас сошел с рельсов товарный поезд, и я три часа металась в нетерпении, надоедая кондуктору бесполезными вопросами. В Майами я должна была пересесть на другую ветку, доходившую до самого края материка, где начиналась постройка виадука. Если бы я опоздала на этот поезд, мне пришлось бы ждать в Майами до утра. Кондуктор убеждал меня переночевать там, но я сказала ему, что протелеграфировала своим друзьям два дня назад и что они выедут встречать меня на баркасе и в тот же вечер отвезут на остров.
Мы опоздали на полчаса, но тут я убедилась, что на Юге все идет по-иному, ибо поезд дожидался нас. Я стремительно переметнулась через платформу вместе со своим чемоданом, и мы благополучно тронулись в путь. Но тут возникло новое затруднение. Мы двигались навстречу буре. Она налетела совершенно неожиданно – за минуту перед тем все было спокойно, и ясный закат золотил наш путь. Но вдруг картина переменилась: в мгновение ока стало так темно, что я едва могла различить очертания пальм, неистово раскачивавшихся под дыханием бури; они напоминали мне людей, с криком отчаяния простирающих руки. Вой ветра заглушал шум бегущего поезда, и я в ужасе спросила кондуктора, не ураган ли это? Он ответил мне, что сейчас не время для ураганов, но что буря самая настоящая, и, пока она не стихнет, ни один лодочник не согласится перевезти меня на остров.
Я твердила себе, что глупо так нервничать, но какой-то внутренний голос не переставал кричать во мне: «Скорее туда, скорее туда!» Я вышла из вагона и увидела то, что я не посмею назвать ураганом только из уважения к авторитету здешнего жителя. Ветер сшибал меня с ног, пена обдавала с головы до пят, а рев волн, бившихся о пристань, оглушал меня. Войдя в станционное здание, я принялась расспрашивать железнодорожного агента. Баркас ван Тьюверов не показывался в этот день, если он и вышел, то, по всей вероятности, вынужден был искать убежища где-нибудь в пути. Моя телеграмма на имя миссис ван Тьювер пришла два дня назад и была доставлена на остров лодочником, который обычно используется для этой цели. Таким образом, меня должны были встретить. Я спросила, сколько времени может длиться буря, ответ гласил – от одного до трех дней.
Тогда я осведомилась насчет ночлега. Этот поселок вырос, как гриб, объясняли мне, и состоит из одних только бараков и хижин для рабочих. Там есть, правда, салун и нечто, носящее название гостиницы, но все это не подойдет для дамы. Я заметила, что не отличаюсь привередливостью, и попробовала разрушить впечатление, которое произвело магическое имя ван Тьюверов. Но агент настаивал на том, что гостиница эта не подходит даже для жены фермера с Запада. И так как я не стремилась быть сброшенной в море, пробираясь туда в темноте, то провела ночь на станции. Лежа на скамье и прислушиваясь к реву ветра и волн, я чувствовала, как дрожало все здание, готовое, казалось, в любую минуту рухнуть под напором бури.
К утру ветер немного стих. Я вышла на пристань и увидела перед собой разъяренные, вспененные волны, на которых не было заметно даже признака какого-нибудь суденышка. Поздним утром пришел большой пароход, который направлялся в Ки-Вест и обслуживал железную дорогу. Ему с трудом удалось пристать к берегу. Я тотчас же вступила в переговоры с капитаном, рассчитывая с помощью мзды уговорить его доставить меня к месту назначения.
Но у него был свой курс, которого не могли изменить ни буря, ни имя ван Тьюверов. К тому же, сказал он, все равно не сможет высадить меня на их острове, потому что судно его слишком глубоко сидит в воде, чтобы подойти к берегу, а если он высадит меня в другом месте, то я ничего не выиграю от этого.
– Если ваши друзья предупреждены, они приедут сюда за вами, – сказал он. – Будьте спокойны, баркас может выдержать то, чего не выдержит никакое другое судно.
Чтобы как-нибудь сократить время, я отправилась осматривать виадук будущей железной дороги. Первый участок был уже закончен, и бесконечный ряд соединенных между собой арок убегал, казалось, в самое море. Это было одно из чудес инженерного искусства, но боюсь, что в тот момент я недостаточно оценила его.
Среди дня я заметила на волнах маленькое пятнышко, а мой новый приятель, железнодорожный агент, сказал мне:
– Вот и ваш баркас.
Я выразила удивление по поводу того, что они решились выйти в такую погоду. Я представляла себе этот баркас чем-то вроде тех небольших открытых суденышек, которые день и ночь отравляют своими гудками и дымом жизнь на летних курортах. Но когда «Мерман» подошел ближе, я снова почувствовала, что значит быть гостьей миллионера. Баркас имел около пятидесяти футов длины и весь сверкал медью и полированным кедровым деревом. Он рассекал носом волны, пренебрежительно отбрасывая их в стороны. Каюта его была не менее суха и надежна, чем салон на каком-нибудь линейном корабле.
Три человека вошли на палубу, чтобы выполнить нелегкую задачу – причалить в такую бурю к берегу. Один из них спрыгнул на пристань и, подойдя ко мне, спросил, не я ли миссис Аббот. Он объяснил, что они вышли в море еще накануне днем, но вынуждены были укрыться на одном из островов.
– Как здоровье миссис ван Тьювер? – поспешно осведомилась я.
– Хорошо.
– Я думаю… ребенок?.. – намекнула я.
– Нет еще, миссис Аббот, – ответил он.
После этого я обрела способность заинтересоваться тем, что он рассказывал о шторме и о произведенных им разрушениях. Он сказал мне, что мы можем сейчас же отправиться в обратный путь, если только я не боюсь качки.
– Сколько времени займет переезд? – спросила я.
– Три часа в такую погоду. Около пятидесяти миль.
– Но ведь будет уже темно? – возразила я.
– Это неважно, у нас достаточно своего света. Все будет в порядке, если только ветер не усилится. По пути у нас лежит целая сеть островов, где можем укрыться, если погода снова ухудшится. На худой конец, вам придется провести только ночь на борту.
Я рассудила, что это едва ли будет неприятнее той ночи, которую я провела на станции, и решила отправиться немедленно.
Баркас должен был захватить с собой почту и кое-какую провизию. Когда сборы были окончены, я перепрыгнула на палубу, которую набежавшая волна подняла мне навстречу, и в следующую минуту очутилась в уютной теплой каюте, отделанной кожей и красным деревом и ярко освещенной электричеством. Сквозь толстые двойные окна я увидела, как пристань быстро удалялась от нас, а зеленые потоки пены перекатывались через палубу. Я вцепилась в кресло, чтобы удержаться на месте и не летать то вперед, то назад. У меня было такое ощущение, словно я сижу в лифте, который поминутно останавливается на полном ходу, и тут я задернула занавески каюты «Мермана» и предлагаю читателю не заглядывать туда. Я пишу историю Сильвии, а не свою, и то, что произошло со мной в дороге, не может представлять никакого интереса. Я только напомню, что провела свою жизнь на Дальнем Западе и не могла предвидеть, какие ощущения вызывает путешествие по бурному морю.
– Приехали, миссис Аббот, – услышала я голос одного из матросов и смутно ощутила, что качка прекратилась. Он помог мне сесть, и я увидела при свете нашего прожектора берег острова.
– Это проходит почти так же быстро, как начинается, – прибавил матрос, поддерживавший меня, и я слабо поблагодарила его за это утешение.
Баркас вошел в маленькую бухту, мотор выключили, и мы заскользили к берегу. Там находился лодочный сарай – нечто вроде дока в миниатюре, с воротами, которые закрылись за нами. Я думала, что Сильвия встретит меня, но никто, по-видимому, не заметил нашего прибытия, и я очень обрадовалась этому. В лодочном сарае стояло несколько кресел, и я опустилась в одно из них и попросила лодочника подождать несколько минут, пока я немного приду в себя. Когда мы подошли к дому, известие, ожидавшее нас там, быстро заставило меня забыть о том, что у меня вообще есть тело.
Я помню яркий свет луны и длинный низкий силуэт дома, окна которого сверкали огнями сквозь листву пальм. Из дома вышла женская фигура и направилась мне навстречу по усыпанной белыми раковинами дорожке. Сердце мое забилось. Это она, моя любимая!
Но тут я увидела, что это англичанка-горничная, которую я видела в Нью-Йорке. Лицо ее пылало от возбуждения.
– О, мадам, – крикнула она. – Ребенок родился!
Это известие подействовало на меня как удар по голове.
– Что? – задохнулась я.
– Сегодня рано утром… Девочка…
– Но… мне казалось, что это должно быть не раньше будущей недели!
– Да, я знаю, но это случилось во время ужасной бури, когда мы думали, что волны снесут дом в море! О, это прелестный ребенок!
У меня хватило присутствия духа, чтобы скрыть свое отчаяние. Царившая вокруг полутьма помогла мне в этом.
– А как чувствует себя мать? – спросила я.
– Превосходно. Сейчас она спит.
– А ребенок?
– О, такого прелестного ребенка вы, наверное, никогда еще не видели.
– И здоровый?
– Да. Вы увидите.
Пока мы медленно приближались к дому, я собиралась с мыслями.
– Доктор Перрин здесь? – спросила я.
– Да. Он отправился к себе отдохнуть.
– А сиделка?
– Она при ребенке. Сюда, пожалуйста.
Мы поднялись по ступенькам веранды, на которую открывались все комнаты, и вошли в одну из них. При слабом свете затененной лампы я увидела женщину в белом, которая стояла, склонившись над колыбелью.
– Мисс Лиман, это миссис Аббот, – сказала горничная.
Сиделка выпрямилась.
– О, вы здесь! Как раз вовремя!
«Дай Боже, чтобы это было так!» – подумала я.
– Так вот ребенок, – сказала я, нагибаясь над колыбелью.
Сиделка повернула свет в мою сторону.
Ни в чем так явно не проявляется чудо жизни, как в появлении нового человека, и воистину бесчувственным должен быть тот, кого подобное зрелище не взволнует до глубины души. Ведь тут перед нами не просто новая жизнь, а жизнь, сотворенная нами самими или теми, кого мы любим, – жизнь, которая является зеркалом или копией чего-то бесконечно дорогого нам. Этот крошечный комочек теплой живой плоти был Сильвией. Я узнавала милые знакомые черты, столь схожие и в то же время столь отличные от черт матери, полупортрет, полукарикатуру, трогательные и смешные в одно и то же время. Передо мной была забавная миниатюрная копия ее носа с теми же изгибами и даже с намеком на крошечный желобок под кончиком, и та же крошечная ямочка на подбородке. Нежный шелковистый пух должен был со временем превратиться в роскошные золотистые волосы Сильвии, мягко очерченные губки когда-нибудь задрожат от чувства. Я увидела, как они движутся, и как дышит маленькая грудь. Волнение сдавило мне горло, и слезы заволокли мне глаза, когда я опустилась на колени возле колыбели.
Но я не могла забыть о том, что заставило меня так спешить. Этого еще мало, что ребенок жив и здоров с виду. Мы имели дело не с сифилисом, который разрушает и обезображивает плод еще в утробе матери. Девочка спала, но я направила свет на ее веки.
– Мисс Лиман, – обратилась я к сиделке. – Не кажется ли вам, что веки чуточку воспалены?
– Нет, я не заметила, – ответила она.
– Вы промывали глаза?
– Разумеется, я обмывала ребенка.
– Нет, я хочу знать, промывали ли вы глаза особо? Доктор ничего не впускал в них?
– Нет, он, кажется, не нашел это нужным.
– Это необходимая предосторожность, – ответила я. – Всегда существует опасность заражения.
– Возможно, – сказала она, – но все это произошло так неожиданно. Доктор Овертон должен был приехать через три-четыре дня.
– Доктор Перрин спит? – спросила я.
– Да. Он не ложился всю ночь.
– Мне придется, кажется, попросить вас разбудить его, – сказала я.
– Это так серьезно? – с тревогой спросила она, почувствовав в моем голосе плохо скрытое волнение.
– Да, может быть очень серьезно, – ответила я. – Мне необходимо переговорить с доктором.
Сиделка вышла, я придвинула стул к колыбели и стала наблюдать, как засыпает ребенок. Я была рада побыть одной, чтобы немного прийти в себя. Но вдруг я услышала на пороге шорох платья и, обернувшись, увидела одетую в белое фигуру. Это была пожилая женщина, тонкая и хрупкая, с седыми волосами и бледным лицом. На ней был изящный пеньюар из какой-то мягкой ткани. Тетя Варина!
Я встала.
– Миссис Аббот, если не ошибаюсь? – сказала она.
– О, эти мягкие, ласкающие тоны южного голоса, которые льнут к каждому слогу, точно влюблённый к руке любимой женщины.
Это была очень изысканная и величавая маленькая женщина, и мне показалось, что она не намерена поздороваться со мной за руку. Однако я не сомневалась, что под этой броней светскости таится горячее желание излить свои чувства.
– Что за прелестный ребенок! – воскликнула я, и она тотчас же растаяла.
– Вы уже видели нашу малютку? – спросила она, и я невольно улыбнулась: всего несколько месяцев назад – «маленький незнакомец», а теперь «наша малютка».
Когда она нагнулась над колыбелью, в глазах ее сияла вся ее милая чувствительная романтическая душа. На несколько минут она совершенно забыла о моем присутствии. Затем, взглянув на меня, она пробормотала:
– У меня такое чувство, словно это мой собственный ребенок.
– Все, кто любит Сильвию, испытывают то же самое, – ответила я.
Она встала и, вспомнив вдруг о гостеприимстве, спросила, не хочу ли я чего-нибудь. Потом сказала:
– Я должна пойти и распорядиться о телеграммах.
– Телеграммах? – спросила я.
– Да. Подумайте, как обрадуется милый Дуглас! А майор Кассельмен!
– Вы еще не уведомили их?
– Мы не могли послать лодку из-за бури. Нужно протелеграфировать также доктору Овертону, вы понимаете?
– Чтобы отменить его визит? – осведомилась я. – Но не думаете ли вы, миссис Тьюис, что ему все же захочется приехать осмотреть мать и ребенка?
– Зачем же?
– Я не уверена в этом… но так мне кажется.
Как я нуждалась в эту минуту в светском искусстве лгать, которым так совершенно владела Сильвия!
– Каждый новорожденный ребенок должен быть осмотрен специалистом. Всегда могут понадобиться специальный режим, диета для матери, мало ли что…
– Доктор Перрин не находит в этом необходимости.
– Я собираюсь переговорить сейчас с доктором Перрином, – сказала я.
В глазах миссис Тьюис мелькнула тревога.
– Разве вы считаете, что что-нибудь неблагополучно?
– Нет, нет, – солгала я. – Я нахожу только, что вам следует подождать с отправкой баркаса. Я прошу вас об этом.
– Если вы настаиваете… – сказала она.
Я заметила, что она озадачена и чуточку недовольна моим вмешательством. Разве это не показалось бы всякому немного дерзким со стороны чужой особы, к тому же, весьма возможно, даже «не леди?» Она искала каких-нибудь возражений, но единственное, что она нашла, было:
– Нельзя заставлять ждать нашего милого Дугласа. Я была слишком воспитанна, чтобы намекнуть, что «милый Дуглас» находит в это время достаточно развлечений. Через минуту я услышала шаги, приближающиеся к веранде, и, обернувшись, увидела сиделку и доктора.
– Здравствуйте, миссис Аббот, – сказал доктор Перрин.
Он был в халате и имел заспанный вид. Я начала извиняться, но он ответил:
– Так приятно увидеть новое лицо в нашей глуши. А тут сразу два новых лица!
Это звучало недурно в устах человека, которого только что оторвали от сна. Я постаралась ответить ему в тон:
– Мистер Перрин, миссис ван Тьювер писала мне, что вы недолюбливаете доморощенных врачей. Но, быть может, вы не будете протестовать, если я выступлю в качестве повивальной бабки? У меня было трое детей, и я не раз помогала другим производить на свет младенцев.
– Отлично, – улыбнулся он. – Будем считать, что вы дипломированная акушерка. В чем же дело?
– Я хотела спросить вас насчет глаз ребенка. Чтобы предотвратить возможность заражения, рекомендуется впускать несколько капель раствора ляписа.
Я ждала ответа.
– В этом случае не было никаких признаков заражения, – сказал он наконец.
– Очень возможно. Но ведь не нужно ждать, чтобы они появились. Вы не приняли этой предосторожности?
– Нет, миссис Аббот.
– У вас есть, конечно, раствор ляписа?
– Снова наступила пауза.
– Нет, боюсь, что нет.
Я невольно нахмурилась, будучи не в силах скрыть свое беспокойство.
– Доктор Перрин! – воскликнула я. – Вас приглашают, чтобы оказать помощь роженице, а вы забываете о такой необходимой вещи!
Вся любезность маленького человечка мгновенно улетучилась.
– Во-первых, – сказал он, – я должен напомнить вам, что я был приглашен вовсе не для того, чтобы принимать ребенка. На моей обязанности лежало наблюдать за состоянием здоровья миссис ван Тьювер до момента родов.
– Но ведь вы знали, что всегда можно ожидать случайности?
– Да, конечно.
– И не запаслись раствором ляписа?
– Сударыня, – сказал он сухо, – этим средством пользуются только в одном случае.
– Я знаю, – воскликнула я. – Но это необходимая предосторожность, которая применяется во всех родовспомогательных заведениях.
– Позвольте вам заметить, что я сам бывал в таких заведениях и немного знаком с их практикой.
Наступило молчание.
– Вы не возражаете против того, чтобы послать за ляписом? – спросила я наконец.
– Я полагаю, – ответил он с некоторым высокомерием, – что нам не помешает иметь его под рукой.
Я вспомнила о пожилой даме, которая в полном смущении следила за нами.
– Доктор Перрин, – сказала я, – если миссис Тьюис не будет иметь ничего против, я бы хотела поговорить с вами наедине.
Сиделка быстро удалилась, а миниатюрная леди выпрямилась с видом оскорбленного достоинства, но вдруг как-то сжалась и последовала за ней.
Я сообщила маленькому доктору все, что знала. Оправившись от первого впечатления, он заметил, что, к счастью, не видит никаких угрожающих признаков.
– А мне кажется… – возразила я. – Быть может, это только мое воображение, но мне кажется, что веки воспалены.
Я подержала ребенка на руках, пока он осматривал его. Он должен был согласиться, что некоторое основание для беспокойства налицо. Теперь от его профессионального достоинства не осталось и следа.
– Доктор Перрин, – сказала я. – Единственное, что нам остается, – это как можно скорее раздобыть раствор ляписа. К счастью, баркас здесь.
– Нужно немедленно послать его в Ки-Вест, – сказал он.
– А сколько времени это займет?
– Зависит от моря. В хорошую погоду нужно восемь часов для переезда туда и обратно.
Я содрогнулась. За восемь часов ребенок может ослепнуть!
Но нельзя было терять время на сетования.
– Кстати, о докторе Овертоне, – сказала я. – Не находите ли вы, что ему следует приехать?
Я намекнула даже, что мистер ван Тьювер вряд ли остановится перед расходами при таких обстоятельствах. В результате я не только убедила молодого эскулапа отправить доктору Овертону телеграмму, требуя его приезда, но и попросить госпиталь в Атланте прислать с первым поездом ближайшего специалиста по глазным болезням.
Мы пригласили обратно миссис Тьюис, и я смиренно извинилась перед ней за свое вмешательство. Доктор Перрин заявил, что он считает необходимым посоветоваться с доктором Овертоном и еще с другим специалистом.
В глазах тети Варины отразился испуг.
– Что это значит? – воскликнула она. – Что с нашей малюткой?
Я помогла доктору отделаться от всех ее вопросов вежливыми пустяками.
Бедная милая тетя Варина! Бедная старая леди! Сколько покровов и сентиментальных повязок сорвала с ее глаз судьба в эту ночь!
Я с трепетом продолжаю свой рассказ. Всю ночь мы провели над колыбелью ребенка. Через два-три часа маленькие веки настолько воспалились, что сомневаться дальше стало невозможно. Мы прикладывали попеременно то горячие, то холодные примочки, промывали глаза раствором борной и даже, придя в полное отчаяние, прижгли их медным купоросом. Но мы знали, что имеем дело с ядовитым гонококком, и не ждали больших результатов от этих мер. Через несколько часов из глаз начал выделяться гной, и бедный ребенок, не переставая, кричал от боли.
– О, что это? Объясните мне, в чем дело? – воскликнула миссис Тьюис.
Она хотела взять ребенка на руки, и, когда я быстро помешала ей сделать это, старая леди гневно обрушилась па меня.
– Как вы смеете?
– Ребенку нужен полный покой, – сказала я.
– Но я и хочу успокоить его!
И так как я продолжала противиться ее желанию, она разразилась бурей негодования.
– Да какое вы имеете право?
– Миссис Тьюис, – мягко сказала я. – Возможно, что у ребенка очень серьезная заразная болезнь. В этом случае вы сами можете заразиться ею.
На это она ответила истерическим криком:
– Мое бедное сокровище! И вы думаете, что я побоюсь заразиться чем-нибудь от него!
– Вы, может быть, и не боитесь, но мы боимся за вас. Если вы заболеете, нам придется ухаживать за вами, но одного больного больше чем достаточно.
Вдруг она схватила меня за руку.
– Скажите мне, что это? Я требую, чтобы вы сказали мне правду.
– Миссис Тьюис, – вмешался доктор. – Мы сами не знаем еще, в чем дело, и только принимаем меры предосторожности. Необходимо, чтобы вы не трогали ребенка и даже не подходили к нему близко. Вы ничем не можете помочь ему.
Его распоряжениям она подчинилась беспрекословно. Они говорили на одном языке и с той же изысканной вежливостью. Что за очаровательный южанин, подумала я, настоящий джентльмен, недаром Дуглас ван Тьювер так оценил его светские достоинства. Из устарелого южного колледжа, где он получил свое медицинское образование, доктор Перрин вынес столь же устарелое представление о гоноррее. И теперь ему приходилось знакомиться с новейшими открытиями в суровой школе опыта.
Необходимо было предупредить сиделку об опасности заражения, которой подвергались все окружающие. По-настоящему нам следовало иметь очки для защиты глаз, и мы то и дело обмывали руки раствором борной.
– Миссис Аббот, что это? – шепотом спросила няня.
– Эта болезнь имеет длинное название, – ответила я, – ophtalmia neonatorum.
– А чем она вызывается?
– Обычно виновником является мужчина, – сказала я. Может быть, это противоречило правилам этики, но слова вырвались у меня сами собой.
Спустя немного времени зараженные глаза превратились в две красновато-желтые воспаленные опухоли, и ребенок надрывался от крика. Пришлось наложить на глаза повязку, и я попросила доктора дать малютке немного опия, чтобы у нее не сделались от крика судороги. Бедная миссис Тьюис ходила по комнате, ломая руки и истерически всхлипывая. Доктор Перрин отвел меня в сторону.
– Мне кажется, что следовало бы объяснить ей, в чем дело.
Бедная, бедная тетя Варина!
– Все равно она рано или поздно поймет все сама, – продолжал он. – А так, по крайней мере, она поможет нам скрыть это несчастье от матери.
– Вы правы, – сказала я. – Но кто же скажет ей?
– Мне кажется, – заметил доктор, – что ей будет легче услышать это от женщины.
Итак, я стиснула зубы и, мягко взяв бедную женщину под руку, увлекла ее к двери. Мы, словно два заговорщика, тихо спустились с веранды и направились по дорожке к берегу. Дойдя до лодочного сарая, мы остановились, и я приступила к выполнению своей тяжелой задачи.
– Миссис Тьюис, вы помните, может быть, одно обстоятельство, о котором рассказывала мне ваша племянница. Перед самой свадьбой она просила вас разузнать некоторые подробности о состоянии здоровья мистера ван Тьювера?
Никогда не забуду выражения ее лица в этот момент.
– Сильвия рассказывала вам!
– Справки были наведены, – продолжала я, – но, по-видимому, недостаточно тщательно. Теперь вы видите перед собой последствия этой небрежности.
Глаза ее расширились.
– И расплачиваться за это будет ребенок.
– Вы… вы хотите сказать… – она запнулась, голос ее превратился в едва слышный шепот. – О, это невозможно! – И вдруг она разразилась негодованием: – Да понимаете ли вы, в чем вы обвиняете мистера ван Тьювера?
– Речь идет не об обвинении, – спокойно возразила я. – Теперь нужно считаться с фактами, и вы должны помочь нам как можно успешнее справиться с ними.
Тетя Варина вся как-то съежилась и согнулась передо мной, закрыв лицо руками. Я слышала, как она всхлипывала, бормоча бессвязные молитвы. Я взяла бедную женщину за руку и принялась утешать ее. Когда же, наконец, терпение мое истощилось от этого потока наивности, сентиментальности и всех прочих атрибутов южного романтизма, я сказала ей:
– Миссис Тьюис, вам необходимо взять себя в руки. Вспомните свой долг по отношению к Сильвии и ее ребенку.
– О чем вы говорите? – прошептала она.
Слово «долг» произвело на нее магическое действие.
– Что бы ни случилось, Сильвия до поры до времени не должна ничего знать. Если она узнает, то это может вызвать у нее лихорадку и стоить жизни ей или ребенку. Вы не должны даже приближаться к ней, пока окончательно не овладеете своим волнением.
– Хорошо, – пробормотала она.
В сущности, это была прекрасная женщина, но я мало знала ее и, думая только об опасности, грозившей Сильвии, с беспощадной жестокостью старалась возвратить ей благоразумие. Наконец я оставила ее одну на ступеньках лодочного сарая и направилась к дому. Как сейчас вижу эту маленькую фигурку, раскачивающуюся взад и вперед и тихо всхлипывающую. Никогда не встречала я ничего более жалкого и трогательного существа, странствующего по миру сентиментальности и неведения.
Я вернулась в дом. Мы боялись, чтобы ребенок не разбудил своим криком Сильвию, и завесили окна и двери комнаты одеялами. Затем уселись в этой жаркой клетке, молчаливые, дрожащие, посеревшие от ужаса. Часа через два к нам присоединилась миссис Тьюис. Она тихонько проскользнула в комнату и села у стены, не сводя своих испуганных глаз с меня и доктора.
К утру ребенок до того обессилел, что перестал кричать и только жалобно пищал. Первые проблески зари озарили наши измученные лица, склонившиеся над колыбелью. Я падала с ног от усталости, а между тем необходимо было собраться с силами, чтобы встретить самое худшее. Раздался стук в дверь. Горничная пришла сказать, что Сильвия проснулась и желает меня видеть. Я могла отложить на время наше свидание под предлогом усталости, но предпочла поскорее пройти через это испытание. Итак, я подтянулась и медленно направились в комнату Сильвии.
На пороге я остановилась, чтобы взглянуть на нее. Она была восхитительна. На лице ее играл легкий румянец после только что прерванного сна, и в глазах светился восторг от сознания величия своего подвига.
Я бросилась к ней, и мы заключили друг друга в объятия.
– О Мэри, Мэри! Я так рада, что вы приехали! – воскликнула она и продолжала: – О Мэри, не правда ли, что за прелестное дитя!
– Изумительный ребенок! – поддержала я.
– О, я так счастлива, я даже не мечтала никогда о таком счастье! У меня не хватает слов, чтобы передать вам, что я чувствую.
– Слов и не нужно. Я сама это переживала, – ответила я.
– Но ведь, правда, она прелестна? Скажите мне откровенно, разве это не так?
– Дорогая моя, – сказала я, – она до смешного похожа на вас.
– Мэри, – продолжала она, понизив голос, – мне кажется, что это разрешает все мои недоумения – все, о чем я вам писала. Я никогда больше не буду чувствовать себя несчастной. Мне просто не верится, что это правда, что я могла дать жизнь такому сокровищу. Ведь она моя! Я буду следить за тем, как станет расти ее маленькое тельце, буду заботиться о том, чтобы оно крепло и развивалось. Я буду помогать ее маленькому уму формироваться, буду наблюдать, как он распускается, разворачивая один за другим свои нежные лепестки. Я научу ее всему, что с таким трудом, бродя в темноте, узнала сама.
– Да, – сказала я, стараясь придать как можно больше уверенности своему голосу. Затем торопливо добавила: – Я очень рада, что материнство не разочаровало вас.
– О, это такое чудо! – воскликнула она. – Женщина, которая может чувствовать себя неудовлетворенной после этого, просто неблагодарное существо! – Она умолкла и через минуту добавила: – Мэри, теперь, когда она здесь, когда я вижу ее маленькое тельце, мне кажется, что она будет звеном между мной и Дугласом. Он должен будет признать ее право на жизнь, ее потребности, если до сих пор не хотел признавать моих.
Я согласилась. Так вот о чем она думала – звено между ней и мужем! Через минуту, когда няня показалась на пороге, Сильвия закричала.
– Дайте сюда ребенка! Где мой ребенок? Я хочу видеть своего ребенка!
– Сильвия, дорогая! – сказала я. – Вам нужно кое-что объяснить относительно вашего ребенка.
Она тотчас насторожилась.
– В чем дело?
Я с усилием рассмеялась.
– Ничего, дорогая, о чем стоило бы беспокоиться. Но у малютки воспалились глазки, то есть веки. Это часто бывает с новорожденными.
– Ну, и что же? – спросила она.
– Да, ничего. Только доктору пришлось положить на них немного мази, и у нее теперь не особенно привлекательный вид.
– Мне все равно, лишь бы это не было серьезно.
– Как я говорю, нам пришлось наложить повязку, и это придает малютке довольно непривлекательный вид. Кроме того, она плачет.
– Я должна сейчас же увидеть ее! – воскликнула Сильвия.
– Она только что заснула, лучше не беспокоить ее.
– Но сколько это будет длиться?
– Не слишком долго. А пока вы должны быть благоразумны и не тревожиться понапрасну. Это я попросила доктора наложить повязку, надеюсь, вы не станете бранить меня за это, а то я начну жалеть, что приехала сюда.
– Ах, вы моя милая! – сказала она, кладя свою руку на мою. – И как это вам пришло в голову приехать так неожиданно?
– Не спрашивайте, – сказала я улыбаясь. – Я и сама не могу объяснить. Так просто, соскучилась по вас.
– Но как удивительно, что вы попали сюда в такой момент, – заявила она. – Однако у вас скверный вид. Вы устали?
– Да, дорогая, – ответила я (как трудно было обмануть ее!). – Сказать вам правду, я просто ног под собой не чувствую. Видите ли, я попала в самую бурю и ужасно страдала от морской болезни.
– О, бедняжка! Почему же вы не легли отдохнуть?
– Мне не хотелось спать. Я была слишком взволнована всем, что нашла здесь. Я ехала повидать одну Сильвию, а застала двух.
– Ну, не смешно ли, до чего она похожа на меня? О, я хочу поскорее снова увидеть ее. Когда же мне принесут мою девочку?
– Дорогая моя, – сказала я, – вам нельзя волноваться.
– О, не беспокойтесь обо мне, я просто забавляюсь. Я так счастлива! Мне хочется все время держать ее в своих руках. Подумайте только, Мэри, мне не дают покормить ее вот уже целый день. Разве это правильно?
– Природа позаботится об этом, – сказала я.
– Да, но как вы можете с уверенностью сказать, что говорит природа? Быть может, ребенок из-за этого и плачет, а от слез у него распухли веки.
Сердце мое судорожно сжалось.
– Нет, дорогая, нет, – поспешно сказала я. – Вы должны всецело положиться на доктора Перрина в этих вещах. Я уже имела несчастье вмешаться в его распоряжения, и он скоро окончательно выйдет из себя.
– О! – воскликнула она, смеясь до слез, – у вас вышла с ним стычка? Я была уверена, что без этого не обойдется. Он такой вылощенный и чопорный.
– Да, – ответила я. – И говорит он точь-в-точь, как ваша тетушка.
– Ах, вы и с ней уже познакомились! О, сколько развлечений пропало для меня.
На меня снизошло вдруг вдохновение, которым я горжусь и поныне.
– Дорогая моя девочка, – сказала я, – вы называете это развлечением…
И я сделала вид, что очень возбуждена.
– Что случилось? – воскликнула она.
– Чего же вы могли ожидать? – спросила я. – Боюсь, дорогая моя Сильвия, что я окончательно шокировала вашу тетю.
– Что же вы наделали?
– Я вмешалась в дела, которые меня не касались, я сделала указание ученому доктору, а самое главное, – тетя Варина, по-видимому, догадалась, что я не «леди».
– О, расскажите мне подробнее об этом! – воскликнула Сильвия, заранее предвкушая развлечение.
Но у меня не хватило сил продолжать игру.
– Не сейчас, дорогая, – сказала я. – Это длинная история, а я, в самом деле, измучена вконец. Мне необходимо отдохнуть.
Я встала, а она схватила мою руку, шепча:
– Я буду счастлива, Мэри. Теперь я буду счастлива по-настоящему.
Тут я отвернулась и быстро вышла из комнаты, а когда дверь закрылась за мной, я буквально бросилась бежать. Добежав до другого края веранды, я опустилась на ступеньки и тихо заплакала.
Баркас приехал и привез ляпис. Приготовив раствор, доктор впустил капли в глаза ребенка. Теперь нам не оставалось ничего другого, как ждать результатов. Я только собралась прилечь, чтобы немного отдохнуть, как вдруг явилась горничная и доложила, что Сильвия хочет видеть свою тетку. Всякие отговорки только возбудили бы в ней подозрения. Итак, бедная миссис Тьюис в свою очередь должна была подвергнуться испытанию, и никто, кроме меня, не мог подготовить ее к этому. Я с ужасом представила себе, как испуганная тетя Варина входит к своей племяннице и вдруг теряет самообладание. Вслед за этим начался бы перекрестный допрос, Сильвия докопалась бы до правды, и тогда нам пришлось бы спасать ее от родильной горячки.
Все это я снова объяснила миссис Тьюис, запершись с ней в ее комнате. Она уцепилась за меня своими дрожащими руками и прошептала:
– О миссис Аббот, обещайте мне, что вы никогда не откроете Сильвии причину этого несчастья!
Я призвала последние остатки терпения и сказала:
– Не знаю, что я открою Сильвии когда-нибудь. Это будет зависеть от обстоятельств. Сейчас не время говорить об этом. Нам нужно убедиться в том, что вы можете войти туда и побыть с ней, не дав ей ни малейшего повода заподозрить что-нибудь дурное.
– Но разве вы не знаете, что Сильвия умеет читать человеческие мысли! – воскликнула она в полном отчаянии.
– Я уже подготовила для вас почву, – сказала я. – У вас есть прекрасный предлог, которым вы сможете легко объяснить ваше возбуждение.
– Что именно?
– Это я. – И, видя ее недоумевающий взгляд, пояснила:
– Вы должны сказать ей, что я оскорбила вас, миссис Тьюис, что я нарушила приличие. Вы негодуете на меня и не представляете себе, как вы можете оставаться со мной под одной кровлей.
– Но, миссис Аббот! – воскликнула она в ужасе.
– Ведь вы же знаете, что это до известной степени правда, – ответила я.
Добрая леди гордо выпрямилась.
– Миссис Аббот, не говорите мне, что я была так резка…
– Дорогая миссис Тьюис, – сказала я, – пожалуйста, не оправдывайтесь. Вы были вполне корректны, но я прекрасно понимаю, какое впечатление я должна была произвести на вас. Я социалистка, у меня западный акцент и грубые руки, я прожила всю свою жизнь на ферме, трудилась, как простая работница, и даже иногда сама пахала, наконец, я не имею понятия о тонкостях и прелестях светской жизни, в которой для вас заключается весь смысл существования. Больше того, я женщина, которая имеет дурную привычку навязывать свои убеждения другим людям…
Она просто не могла больше слушать меня и вся дрожала от волнения. Такая откровенная беседа с гостьей ужасала ее больше ophtalmia neonatorum.
– Миссис Аббот, вы унижаете меня!
Тогда я заговорила с еще большей резкостью, видя, что мне придется по-настоящему шокировать ее, чтобы добиться желанных результатов.
– Уверяю вас, миссис Тьюис, что если вы относитесь ко мне иначе, то только потому, что вы еще не знаете, кто я. Немыслимо, чтобы вы считали меня подходящей подругой для Сильвии. Я отвергаю вашу религию, я вообще не верю ни во что из того, что вы называете религией, и борюсь с этим при всякой возможности. Я произношу дерзкие речи на митингах и была арестована во время одной из забастовок. Я верю в суфражистское движение и даже одобряю битье стекол. Я считаю, что женщина должна сама зарабатывать свой хлеб, должна быть независимой и свободной от власти мужчины, кто бы он ни был. Я разведенная жена, я бросила своего мужа, потому что не была счастлива с ним. Больше того, я считаю, что всякая женщина имеет право сделать то же самое. И я намерена внушить эти идеи Сильвии и даже заставить ее следовать им.
Широко раскрытые глаза бедной тети Варины с ужасом глядели на меня.
– Теперь вы сами видите, – воскликнула я, – что не можете иначе относиться ко мне. Вот так и скажите ей. Для нее все это не ново, но она придет в ужас от того, что я дала возможность вам и доктору обнаружить это.
Миссис Тьюис сделала последнюю попытку удержаться на пьедестале своего величия.
– Миссис Аббот, может быть, по-вашему, это называется шуткой…
– Ну, идите же, – воскликнула я, – позвольте мне помочь вам привести в порядок волосы и немного припудрить лицо, чуть-чуть, не настолько, чтобы это было заметно, понимаете…
Я подвела ее к умывальнику, налила в чашку немного холодной воды. Тетя Варина освежила лицо и руки, пригладила свои жиденькие седые волосы. И когда я, вооружившись пуховкой, принялась тщательно стирать с ее лица следы слез, старая леди повернулась ко мне и прошептала дрожащим голосом:
– Миссис Аббот, ведь вы не думаете в самом деле сделать эту ужасную вещь, о которой вы только что говорили?
– Какую, миссис Тьюис?
– Сказать Сильвии, что ей, может быть, следует оставить своего мужа.
Днем мы получили известие, что доктор Джибсон, специалист по глазным болезням, которого мы вызвали по телеграфу, уже выехал. Доктор Перрин отправил письмо Дугласу ван Тьювер, где сообщалось о случившемся несчастье. Мы решили, что такой способ безопаснее телеграфа, так как он исключает возможность, чтобы сведения о болезни ребенка проникли в газеты.
Я не хотела бы быть на месте этого человека в тот час, когда он получит это письмо, хотя доктор, как я знала, заверял ван Тьювера, что жертва его преступления останется в полном неведении. Маленький человечек уже неоднократно делал мне прозрачные намеки по этому поводу. Бывают, мол, несчастные случайности, в которых не всегда можно винить мужа, да и вообще к этому вопросу следует подходить очень осторожно, чтобы не разрушить семью. Я отделалась ничего не значащими ответами и переменила тему, попросив доктора не упоминать в письме о моем присутствии. Ван Тьюверу могло прийти в голову поделиться своим горем с Клэр, а я совсем не хотела, чтобы мое имя фигурировало в их беседе.
Мы ухитрились не показывать Сильвии ребенка в течение дня и ночи, а на следующее утро приехал специалист. Он не оставил нам никакой надежды на то, что у ребенка сохранится зрение, однако обычного обезображивания может не последовать, сказал он, глазные яблоки, по-видимому, не разрушены, как это часто бывает при подобном заболевании. Это ничтожное утешение я имею и поныне. У маленькой Илэн, которая сидит возле меня, когда я пишу эти строки, сохранился в зрачках легкий оттенок мягкого красновато-коричневого цвета, достаточно определенный, чтобы напоминать нам о нашей потере и освежать в нашей памяти горечь пережитого. Когда я хочу представить себе, чем могли бы быть ее глаза, я поднимаю голову и гляжу на портрет благородной прабабки Сильвии. Это копия, сделанная каким-то бродячим художником с портрета, находящегося в Кассельменхолле, и оставленная мне Сильвией.
Перед нами стоял вопрос об уходе за матерью, о том, чтобы помешать болезни произвести разрушения в тканях, ослабленных процессом родов. Нам пришлось выдумывать всевозможные оправдания, чтобы как-нибудь объяснить присутствие нового доктора, а также доктора Овертона, который приехал на следующий день. Затем нужно было решить вопрос о кормлении ребенка. Перевести его на искусственное вскармливание значило вызвать большую тревогу, но, с другой стороны, требовались бесконечные предосторожности, чтобы помешать инфекции распространиться.
Я живо помню, как Сильвия первый раз кормила ребенка. Все мы собрались вокруг с видом озабоченных специалистов. Можно было подумать, что все эти изощренные гигиенические предосторожности были твердо установленным обычаем, который применяется всякий раз, как новорожденный в первый раз берет грудь матери. Стоя поодаль, я заметила, что Сильвия испуганно вздрогнула, увидев, как осунулась и побледнела ее крошка.
– Она плачет от голода, – заявила няня, старательно следя за тем, чтобы крошечные ручки не коснулись лица матери.
Сильвия закрыла глаза и откинулась назад, ничто, казалось, не могло смутить в ней восторга, вызванного этим новым чудесным ощущением. Но когда процедура кормления кончилась, она попросила меня остаться, и, лишь только мы очутились наедине, она обрушилась на меня со своими подозрениями.
– Мэри! Ради бога, что случилось с моим ребенком?
– Пустяки, – ответила я, начиная новую серию лжи. – Маленькая инфекция. Это случается сплошь и рядом.
– Но чем она вызвана?
– Нельзя сказать наверное. Тут может быть множество причин. Во время родов открывается столько источников инфекции. Вся эта процедура не особенно гигиенична, видите ли.
– Мэри! Посмотрите мне в глаза!
– Да, дорогая?
– Вы не обманываете меня?
– То есть, как?
– Я хочу сказать, не скрывается ли тут чего-нибудь серьезного? Все эти доктора… эта таинственность… неопределенность!..
– Докторов послал ваш муж, моя дорогая. Это просто глупый мужской способ проявлять свое внимание. (Это придумала тетя Варина; деликатная леди и тут осталась верна себе.)
– Мэри, я очень беспокоюсь. У моей девочки такой скверный вид. Я чувствую, что за всем этим скрывается что-то.
– Дорогая моя Сильвия, если вы будете беспокоиться, то этим принесете только вред ребенку. У вас может испортиться молоко.
– Вот, вот в этом все дело! Потому-то вы и не хотите сказать мне правду!
Мы часто убеждаем себя, что ложь при некоторых обстоятельствах необходима, но всякий раз, как нам приходится прибегать к ней, в душе невольно поднимается отвращение. Я чувствовала, что с каждым днем все сильнее увязаю в болоте лжи, а тетя Варина и доктор только и делали, что подталкивали меня еще глубже.
На имя доктора Перрина пришла телеграмма от Дугласа ван Тьювера, ясно показывавшая, о чем беспокоился главным образом этот джентльмен. «Надеюсь, что вы проявили должный такт» – туманность этой фразы говорила о том, что и он не особенно стремился доверять свои тайны телеграфистам. Однако для нас она была понятна и полна значения. Она напомнила мне тот спокойный и авторитетный тон, которым он разговаривал со своим шофером, и это заставило меня мысленно погрозить кулаком всем мужьям на свете.
Миссис Тьюис, конечно, не нуждалась в подобных предупреждениях от главы дома. Голос предков безошибочно руководил ею во всех случаях жизни. Добрая леди достаточно близко узнала меня во время наших более или менее драматических объяснений, и ее дрожащие пальцы время от времени делали попытку сковать меня цепями благопристойности.
– Подумайте, миссис Аббот, какой выйдет скандал, если миссис Дуглас ван Тьювер разойдется со своим мужем!
– Да, дорогая миссис Тьюис, но, с другой стороны, подумайте, что может произойти, если она останется в неведении. Ведь у нее может быть другой ребенок.
Тут я снова убедилась, какая непроходимая пропасть лежала между нами.
– Кто мы такие, – прошептала она, – чтобы вмешиваться в эту священную область? Царствие небесное, миссис Аббот, не в плоти, а в душах наших.
Я промолчала минуту, чтобы перевести дух.
– Обычно в таких случаях, – сказала я наконец, – Бог поражает женщину бесплодием.
Миссис Тьюис опустила голову, и я увидела, как слезы закапали на ее колени.
– Моя бедная Сильвия! – простонала она вполголоса. Наступило молчание. Я тоже готова была заплакать.
Наконец тетя Варина с мольбой подняла на меня свои выцветшие глаза.
– Мне трудно понять ваши взгляды. Но неужели вы действительно думаете, что будет лучше, если Сильвия узнает нашу ужасную тайну?
– Это во многих отношениях послужит ей на благо, – сказала я. – Она станет больше заботиться о своем здоровье, будет слушаться доктора…
– Я останусь при ней, я буду смотреть за ней день и ночь! – поспешно ответила тетя Варина.
– Но разве вы имеете право скрывать правду от тех, кто будет прислуживать ей. От ее горничной, няни, от всякого, кто может случайно воспользоваться тем же полотенцем, той же ванной или стаканом.
– Вы несомненно преувеличиваете опасность. Если бы все было так, как вы говорите, гораздо больше людей хворали бы этой болезнью.
– Доктора утверждают, – возразила я, – что около десяти процентов больных заражаются самым невинным путем.
– О, эти современные доктора! – воскликнула она. – Я никогда не слыхала ни о чем подобном.
Я невольно улыбнулась.
– Дорогая миссис Тьюис, а много ли вы вообще знаете о распространении гонорреи? Я приведу только один факт, о котором один профессор колледжа заявил публично, а именно что восемьдесят пять процентов студентов его университета заражены какой-нибудь венерической болезнью. А ведь это цвет нашего молодого поколения.
– О, этого не может быть! – воскликнула она. – Все знали бы об этом.
– Кто это «все»? Юноши в ваших семьях знают. Вы убедитесь в этом, если сумеете вызвать их на откровенность. Мои два сына учились в государственном университете и приносили мне домой все, что слышали – сплетни, жаргон, отвратительные непристойности. Четырнадцать юношей в одном дортуаре пользовались одной ванной, и на стене ее вы увидели бы четырнадцать шприцев. Они сами рассказывали об этом, и все общежитие очень забавлялось на этот счет. Они называли болезнь «насморком» и считали, что юноша, не получивший своей порции «насморка», недостоин уважения товарищей. Самое похвальное дело было получить несколько подобных «насморков», так чтобы больше нечего было опасаться. Они считали, что эта болезнь не хуже сильного насморка. Подобные представления внушают им шарлатаны-врачи и уличные женщины, которые просвещают в этих вопросах наших сыновей.
– О, замолчите, замолчите! – крикнула миссис Тьюис. – Умоляю вас, избавьте меня от этих подробностей!
– Вот что происходит с нашими мальчиками, – сказала я. – С сыновьями Кассельменов и Чайльтонов! То же самое вы встретите в каждом общежитии, в любом дортуаре любого закрытого учебного заведения Соединенных Штатов. А родители только затыкают уши, точь-в-точь, как вы.
– Но чем же я могу помочь тут, миссис Аббот?
– Не знаю, миссис Тьюис. Я со своей стороны намерена заняться тем, чтобы открыть на этот счет глаза молодым девушкам.
– Вы покушаетесь на невинность молодых девушек? – в ужасе прошептала она. – Могу себе представить, как огрубеют их лица, если головы их наполнятся такими мыслями! Вы ужасаете меня!
– У моей дочери совсем не грубое и не жесткое лицо, – возразила я. – А между тем я все объяснила ей. Подумайте минутку, миссис Тьюис, ведь у нас ежегодно рождается десять тысяч слепых детей. Сто тысяч женщин ложатся под нож хирургов. Миллионы женских организмов медленно разрушаются болезнями, названий которых не знают сами больные. Мы должны кричать об этом со всех крыш, пока каждая женщина не поймет, в чем зло, и пока каждый мужчина не будет уверен, что она знает это и что он потеряет ее, если не докажет своей чистоты. Вот единственное средство борьбы, миссис Тьюис.
Бедная, милая тетя Варина! Я вышла, оставив ее в полной растерянности, со стиснутыми руками и дрожащими губами. Должно быть, я казалась ей одной из тех сумасшедших женщин, которые как раз в это время приводили в ужас благопристойную Англию, явлением, слишком оскорбительным для деликатных чувств старой аристократки!
Вскоре после этого пришли два письма от Дугласа ван Тьювера. Одно, адресованное тете Варине, показали мне. Оно было очень туманно и осторожно, как будто писавший его был неуверен, насколько осведомлена почтенная леди. Он только вскользь упоминал о том, что Сильвию следует оградить от всех волнений, связанных с этим «прискорбным фактом». Он с тревогой будет ждать известий, но не приедет сам, потому что всякое изменение его планов может встревожить Сильвию.
Письмо, которое получил доктор Перрин, мне не показали, из чего я заключила, что оно должно содержать более решительные инструкции. Или, может быть, тетя Варина, набравшись мужества, успела вооружить молодого доктора против меня? Как бы то ни было, намеки его сделались гораздо прозрачнее. Он старался дать мне понять, что окажется в очень неловком положении, если Сильвия узнает правду. Невозможно будет убедить мистера ван Тьювера в том, что эти сведения она получила не от врача, пользовавшего ее.
– Но ведь это я доставила вам все сведения, доктор Перрин, – возразила я. – Мистер ван Тьювер знает, что я общественная деятельница, и, конечно, не сомневается в том, что я отлично разбираюсь в подобных вещах.
– Миссис Аббот, – ответил он, – это очень серьезный вопрос, от которого зависит счастье молодой супружеской четы.
Но как бы я ни оспаривала его взгляды в теории, на практике я все-таки делала то, о чем он просил меня. С каждым днем задача эта становилась все труднее, и Сильвия все больше и больше утрачивала ко мне доверие. Наконец я с ужасом убедилась, что она подозревает всех нас в заговоре. И так как она знала меня и знала, что я не способна идти на ложь из-за пустяков, то мысль о том, что я обманываю ее, приводила ее в ужас. Она подолгу не спускала с меня расширенных глаз, в которых отражался слепой страх, а я продолжала безудержно нестись дальше, как провалившийся актер, доигрывающий роль под свистки публики.
Много раз она старалась прорваться через баррикады лжи, и всякий раз я отбивала ее нападение, едва удерживаясь, чтобы не крикнуть просто: Нет, нет, не спрашивайте меня!
Наконец однажды, когда я засиделась у нее до поздней ночи, она схватила меня за руку и сжала ее изо всех сил.
– Мэри! Мэри! Вы должны сказать мне правду!
– Дорогая девочка… – начала я.
– Послушайте! – воскликнула она. – Я знаю, что вы обманываете меня и знаю почему, – чтобы я не захворала от огорчения. Но я не могу больше выдержать. Что-то ужасное повисло надо мной, я рисую себе самые страшные вещи. Вы должны сказать мне правду.
Я сидела совсем убитая, стараясь избегать ее взгляда.
– Что это, Мэри! Мой ребенок умирает?
– Нет, нет, дорогая, не то! – крикнула я.
– Так что же?
– Сильвия, – начала я, стараясь говорить как можно спокойнее, – правда не так ужасна, как вы воображаете…
– Скажите мне ее!
– Но она тяжела, Сильвия, и вы должны набраться мужества, должны ради своего ребенка.
– Скорее! – крикнула она.
– Ребенок, – сказала я, – может ослепнуть.
– Ослепнуть!
Мы сидели неподвижно, глядя друг другу в глаза, точно два изваяния. Но пожатие ее руки усилилось до такой степени, что даже моим грубым пальцам стало больно.
– Ослепнуть! – снова прошептала она.
– Сильвия, ведь это еще не так ужасно, подумайте, если бы вы совсем потеряли ее.
– Слепая!
– Она будет всегда с вами, и вы сможете так много сделать для нее… заботиться о ней. Теперь со слепыми делают чудеса, а в вашем распоряжении неограниченные средства. Право, слепые дети совсем не так несчастны, а некоторые из них даже счастливее других детей. Их ожидает меньше разочарований. Подумайте…
– Подождите, подождите, – прошептала она.
Снова наступило молчание. Теперь я, в свою очередь, сжала ее ослабевшие холодные пальцы.
– Сильвия, – сказала я наконец, – вспомните, что вы должны кормить новорожденную. Ее жизнь зависит теперь от вашего здоровья. Вы не имеете права предаваться отчаянию.
– Нет, – ответила она, – нет, Мэри, почему это случилось?
И тут должен был наступить конец моей правдивости.
– Не знаю, дорогая. Никто не может знать этого. Тут возможны тысячи причин…
– Она родилась слепая?
– Нет.
– Так, значит, вина врача?
– Здесь нет виноватых. Вспомните, сколько тысяч, десятков тысяч детей слепнет. Это ужасная случайность…
И я продолжала говорить, терзаясь одной страшной мыслью, которая не покидала меня ни днем, ни ночью: не упоминала ли я как-нибудь, разговаривая с Сильвией о венерических болезнях, что последствием одной из них является слепота новорожденных. Мне не удавалось вспомнить этого до сих пор, но теперь настало время убедиться.
Она лежала неподвижно, точно все в ней умерло от горя. Наконец, не выдержав этой муки, я обхватила ее руками и прошептала:
– Сильвия, Сильвия! Заплачьте, прошу вас!
– Я не могу плакать! – глухо прошептала она.
– Тогда, дорогая, я думаю, что заставлю вас смеяться, – сказала я после паузы.
– Смеяться, Мэри?
– Да, я расскажу вам о моей стычке с тетей Вариной. Ведь вы знаете, что произошло между нами и как я шокировала бедную леди?
Она смотрела на меня невидящими глазами.
– Да, Мэри, – произнесла она тем же мертвым голосом.
– Так вот, это была комедия, которую мы разыграли для вас. Это было очень забавно!
– Забавно?
– Ну, да! Потому что я, действительно, до смерти шокировала ее, хотя затеяли мы все это для того, чтобы отвлечь ваше внимание!
И тут я увидела вдруг на ее глазах спасительные слезы. Она не могла плакать о своем горе, – но заплакала при мысли о том, как много мы обе должны были выстрадать за нее.
Выйдя из комнаты Сильвии, я рассказала остальным о том, что сделала. Миссис Тьюис бросилась к племяннице; они рыдали в объятиях друг друга, и тетя Варина выразила все тайны жизни своей неизменной формулой: Божья воля.
Немного погодя пришел доктор Перрин, и трогательно было наблюдать, как отнеслась к нему Сильвия. У нее, по-видимому, создалось представление, что несчастье произошло по его вине, но при этом она рассудила, что он еще молод и что судьба возложила на него ответственность, которой он не искал. Он, наверно, горько упрекает себя теперь, и поэтому она должна постараться убедить его, что все это далеко не так ужасно, как кажется нам, что слепое дитя все-таки великая радость для материнского сердца, пожалуй, даже в некоторых отношениях еще большая радость, чем дитя здоровое, так как оно сильнее взывает к ее материнскому инстинкту. Я назвала Сильвию бессовестной притворщицей, а потом убежала к себе и выплакалась вволю.
Однако это было до известной степени верно. Надо было видеть, с какой нежностью она прижимала к себе ребенка, когда его принесли к ней для кормления. В этот момент Сильвия являлась настоящим воплощением Материнства. Теперь она знала самое худшее, и ее душа, освободившись от тяготевшего над ней ужаса, жадно впитывала ту долю счастья, которая была доступна ей. Ребенок принадлежал ей, она могла любить его, заботиться о нем и стараться смягчить для него жестокость судьбы.
Так мало-помалу наше существование снова вошло в колею. Мы зажили рутинной жизнью под музыку кокосовых пальм, которыми играли теплые ветры, беспрерывно дувшие с Мексиканского залива.
Тетя Варина заняла на время свое никем не оспариваемое положение хранительницы семейных традиций. Ее племянница лежала на веранде, как подобает настоящей южноамериканской аристократке, а миссис Тьюис читала ей вслух книги безупречно благопристойного содержания. Я помню, что она выбрала «Королевские идиллии», и обе они проливали слезы над этими печальными вымыслами. Вот каким образом вышло, что малютку окрестили именем бедной и глубоко несчастной героини А. Теннисона.
Помню длинные споры на эту тему и блестящее знакомство с родословной, которое обнаружила при этом тетя Варина. Ей казалось не совсем удобным назвать слепое дитя по имени кого-либо из членов семьи. Нужно было найти что-нибудь необычное, романтическое, мечтательное. Илэн – вот подходящее имя! Миссис Тьюис, как выяснилось, успела уже выбрать ребенку имя, несмотря на все тревоги и огорчения, вызванные его болезнью. Она назвала девочку Сильвией и теперь переживала мучительные сомнения, не зная, может ли иметь силу такое мысленное крещение и пожелают ли высшие силы изменить свои записи на небесах. Священник, приехавший из Ки-Веста, разрешил все ее сомнения. Он выслушал исповедь тети Варины и с торжественным видом заявил, что ошибку можно будет исправить формальным обрядом. Все это казалось мне странным и непонятным, точно история мира повернулась вспять на двести-триста лет! Но я ничем не обнаружила тех чувств, которые бушевали в моей бунтарской душе.
Доктор Овертон, вернувшись в Нью-Йорк, выслал оттуда специальную сиделку для ухода за Сильвией. С ней вместе приехала няня для ребенка, и обе они сделались доверенными лицами доктора Перрина. Таким образом составилась целая группа заговорщиков – пять женщин и двое мужчин, занятых тем, чтобы скрыть тайну от Сильвии. Все это так противоречило моим убеждениям и взглядам, что я хронически находилась в состоянии какой-то подавленности. Не должна ли я открыть ей правду?
Доктор Перрин больше не возвращался к этому вопросу, и я поняла, что он и доктор Джибсон считают его бесповоротно решенным. Разве можно было представить себе, чтобы какой-нибудь человек, находясь в здравом уме и твердой памяти, сознательно выдал такую тайну? Но я-то, я, всю жизнь защищавшая право женщины на то, чтобы знать правду, неужели же я, столкнувшись с первым испытанием, изменю своим убеждениям?
Когда Дугласу ван Тьюверу сообщили, что Сильвия знает о слепоте ребенка, он известил телеграммой о своем приезде. Это вызвало, конечно, сильное волнение в доме, и тетя Варина явилась ко мне, чтобы окончательно добиться от меня обещания молчать. Когда я отказалась исполнить ее просьбу, старую леди сменил доктор Перрин, и мы весь остаток дня и добрую часть ночи сражались с ним по этому поводу.
Он был слишком хорошо воспитан, чтобы назвать меня фанатичкой, но деликатно заметил, что женщины не могут правильно разбираться в подобных вопросах, ибо они органически не способны понять природу мужчины и не знают, каким соблазнам он подвержен. Я возразила, что считаю себя достаточно компетентной в этих вопросах, и тут же очень просто и ясно доказала ему это, так что под конец мой маленький, рыцарски настроенный оппонент согласился со всеми моими тезисами. Да, согласился он, совершенно верно, все это ужасно, зло распространяется с невероятной быстротой, и грехи мужчин падают главным образом на женщин. Он, пожалуй, даже согласен со мной, что пожилые женщины должны были бы взяться за это, сделаться как бы матерями нации, чтобы защищать и охранять будущее поколение не только у своих очагов, но и в школах, церквах. Однако все это дело будущего, а сейчас перед нами такой случай, когда «луч света» может испортить жизнь двум существам, ибо молодая мать не захочет больше знать отца своего ребенка. Я указала ему, что Сильвия совсем не истеричка, но он остался при своем: никогда нельзя предсказать, как отнесется к подобному вопросу женщина. В доказательство он вспомнил одну из своих пациенток, которая сказала ему: «Доктор, я знаю, чем вызвана моя болезнь, но только, ради Бога, скройте от моего мужа, что я это знаю. Иначе чувство собственного достоинства заставит меня разойтись с ним».
Глава дома возвращался. В самом воздухе чувствовался трепет ожидания. Команда баркаса тщательно натирала медные части, дворник сгребал сухую кору из-под кокосовых деревьев; тетя Варина пополняла запасы кладовой и вступала в таинственные совещания с поваром. Сиделка робко спрашивала меня, какой он из себя, и даже доктор Джибсон, брюзгливый старик, яростно сразившийся со мной однажды по вопросу о женском равноправии и с тех пор избегавший меня, как подозрительную личность, теперь поделился со мной своими тревогами. Он распорядился, чтобы ему выслали из дома сундук, а безответственная железнодорожная компания завезла его в какое-то другое место. Вот он и не знает, как ему быть, – не прокатиться ли в Ки-Вест, чтобы срочно заказать там фрачную пару? Я сказала ему, что не выписала никаких туалетов и собираюсь явиться к обеденному столу в простом полотняном платье. Старик был поражен моим ответом и решил, как я заподозрила, что я собираюсь на кухне встречать главу дома.
Я ушла к себе, пылая негодованием. Кто был этот человек, которому оказывались такие почести? Кто он: вдохновенный поэт, законодатель или искатель истины? Нет, всего-навсего владелец бесконечных миллионов долларов, а между тем от меня ждали, чтобы я из страха и почтения перед ним отказалась от самых дорогих мне убеждений. Кровь кипела во мне. Наступил час доказать на деле, что принцип и долг для меня – не пустые слова.
Утром того дня, когда ожидали приезда ван Тьювера, я отправилась в комнату к тете Варине. Она собиралась ехать встречать его в баркасе и в лихорадочном возбуждении приглаживала на голове свои самые лучшие фальшивые локоны.
– Миссис Тьюис, – сказала я, – я хочу, чтобы вы позволили мне встретить мистера ван Тьювера вместо вас.
Не стану приводить здесь патетических возгласов старой леди. Я сказала ей, что мне безразлично, принято ли так делать или нет, а также будет ли это приятно мистеру ван Тьюверу. Я очень сожалею, что должна буду навязать ему свое общество, но я твердо решила встретить его и ни за что не откажусь от этого намерения. Она как-то вдруг согласилась, немного удивив меня такой уступчивостью. По всей вероятности, тетя Варина решила, что ван Тьювер единственный человек, который сумеет справиться со мной, и, чем скорее он это сделает, тем лучше.
Что за испытание иметь дело с богатыми и знатными! Если вы обращаетесь с ними, как весь остальной мир, – вы подлипала, прихвостень; если вы относитесь к ним так, как остальной мир делает вид, что относится, – вы лицемер, если вы подойдете к ним просто и открыто, то вы даже самой себе непременно покажетесь неискренной и дерзкой особой. Помню, как во время перехода на баркасе я старалась убедить себя, что я нисколько не волнуюсь, но, очутившись на станции железной дороги, я убедилась, что не могу оставаться спокойной, когда даже железная дорога волнуется.
– Что, поезд мистера ван Тьювера не опоздает? – спросила я железнодорожного служащего.
– Специальные поезда редко опаздывают, ответил он, – особенно когда это поезд ван Тьювера.
Паровоз и два вагона подкатили к специальной платформе, и знатный пассажир вышел оттуда в сопровождении своего секретаря и лакея. Я подошла к нему.
– Здравствуйте, мистер ван Тьювер.
Я сразу увидела, что он не узнает меня.
– Миссис Аббот, поспешила я представиться, – я приехала встретить вас.
– А! – только произнес он.
Он никогда не представлял себе ясно, кто я такая: швея, учительница или еще что-нибудь в этом роде, и потому всегда очень осторожно обходил это в разговоре со мной.
Он не помог мне перейти на баркас, но я, простая женщина с Запада, сумела обойтись без этой любезности. Мы уселись в кожаные кресла на корме, и, как только багаж подняли на борт, маленькое судно отвалило от пристани.
– Если вы ничего не имеете против, мистер ван Тьювер, я хотела бы поговорить с вами наедине, – сказала я.
Он посмотрел на меня и резко произнес:
– Прошу вас. Секретарь встал и вышел.
Шум машины и сильный бриз, вызываемый движением судна, успокоили меня насчет того, что никто не сможет услышать нас, и я начала военные действия.
Мистер ван Тьювер, я друг вашей жены. Я приехала сюда, чтобы помочь ей в эту критическую минуту, и сегодня я встретила вас, потому что считала необходимым переговорить с вами откровенно по поводу создавшегося положения. Вы, я полагаю, понимаете, что миссис Тьюис недостаточно хорошо осведомлена в тех вопросах, которые нам придется затронуть.
Он пристально посмотрел на меня, но не произнес ни слова. После недолгой паузы я продолжала:
– Может быть, вас удивляет, почему доктор, пользующий вашу жену, не может сделать это вместо меня. Но беда в том, что здесь страдающей стороной является женщина, и мужчины не всегда достаточно проникаются этим. Если бы Сильвия знала правду, она могла бы говорить сама за себя, но, покуда она находится в полном неведении, я беру на себя смелость говорить за нее.
Снова наступило молчание. Он по-прежнему ограничивался тем, что наблюдал за мной, однако я чувствовала, что задела в нем мужское самолюбие, и нарочно молчала, чтобы заставить его высказаться.
– Разрешите мне спросить, – начал он наконец, – что вы подразумеваете под «правдой», о которой вы только что упомянули?
– Я подразумеваю причину болезни ребенка, – ответила я.
Его выдержка поразила меня. Ни малейшего движения век, никакого признака смущения не появилось на этом каменном лице.
– Позвольте объяснить вам в интересах доктора Перрина, – сказала я, – что я узнала эту тайну не от него.
Напротив, я узнала о ней гораздо раньше его. Он, несомненно, сам подтвердит вам это. Быть может, мне вы обязаны тем, что ваш ребенок не обезображен, хотя и ослеп. Я снова умолкла.
– Если это действительно так, – сказал он с невозмутимой учтивостью, – я весьма признателен вам.
Что за человек!
– Моим единственным желанием и намерением, – продолжала я, – было помочь моему другу. До сих пор мы скрывали от нее правду, потому что на карту была поставлена ее собственная жизнь. Но теперь она достаточно окрепла, чтобы узнать эту тайну, и весь вопрос в том – должна ли она вообще знать это или нет? Мне едва ли нужно говорить вам, что доктор Перрин находит это излишним и употребил все свое влияние, чтобы убедить меня в том же; точно так же и миссис Тьюис…
Тут я заметила в его глазах первые признаки беспокойства.
– Был такой критический момент, – объяснила я, – когда нам пришлось посвятить в это миссис Тьюис. Однако вы можете быть совершенно спокойны на этот счет: с ее стороны не будет сделано никакой попытки открыть глаза вашей жене. Единственный человек, который заботится о защите ее интересов, это я.
Я снова замолкла.
– Позвольте указать вам, миссис… миссис Аббот, что защиту интересов миссис ван Тьювер вы можете спокойно предоставить ее врачам и ее мужу.
– Я охотно сделала бы это, мистер ван Тьювер, но медицинские книги говорят нам, что интересы женщин часто нуждаются в другой защите.
Я заметила, что он начинает терять терпение.
– Мне трудно разговаривать с вами, – сказал он, – я не привык, чтобы посторонние люди вмешивались в мои личные дела.
– Мистер ван Тьювер, – возразила я, – при таких критических обстоятельствах необходимо говорить без обиняков. Перед своей свадьбой Сильвия сделала попытку оградить себя в этом отношении, но с ней поступили не совсем порядочно.
Наконец-то мне удалось пробить брешь в этой маске! Лицо его побагровело.
– Миссис Аббот, ваша осведомленность в области моих личных дел просто изумительна. Могу ли я спросить вас, откуда вы это знаете?
Я не сразу ответила ему, и он снова повторил свой вопрос. Я поняла, что больше всего задела его за живое несдержанность жены.
– Сейчас нас должен занимать только один вопрос, – сказала я, – намерены ли вы исправить вашу ошибку. Согласны ли вы пойти к вашей жене и чистосердечно признать свою ответственность…
Он сердито перебил меня:
– Я не могу разрешить вам разговаривать со мной таким образом.
– Мистер ван Тьювер, я надеялась, что вы изберете другой способ защиты. Должна признаться, что я была слишком наивна.
– В самом деле? – сказал он, с явным желанием оскорбить меня, – вы совсем не производите такого впечатления.
Но я продолжала как ни в чем не бывало.
– Вам необходимо признать перед женой свою ответственность за болезнь ребенка.
– В таком случае, – произнес он надменным тоном, – я отказываюсь продолжать этот разговор и прошу вас сейчас же прекратить его.
Я могла поймать его на слове и подождать, пока он сам решит предложить мне условия. Но это казалось мне ребячеством, принимая во внимание серьезность вопроса, который нам надо было решить. Через несколько минут я спокойно заговорила снова.
– Мистер ван Тьювер, вы хотите, чтобы я поверила, будто до вашей женитьбы вы вели целомудренную жизнь?
Он изумительно владел собой. Его холодные серые глаза не отрывались от меня; должно быть, я казалась ему таким же необычайным чудовищем, как и он мне.
Наконец, видя, что он не желает отвечать, я холодно сказала:
– Мы гораздо быстрее продвинем дело, если вы оставите мысль о том, что сможете отстранить меня или уклониться от создавшегося положения.
– Миссис Аббот, – воскликнул он вдруг, – договоримся до конца. Что вам от меня нужно? Денег?
До этой минуты мне казалось, что я подготовлена ко всему, но ничего подобного я никак не ожидала. Я вытаращила на него глаза, затем отвернулась.
– И подумать, что этот человек – муж Сильвии! – прошептала я едва слышно.
– Миссис Аббот, – воскликнул он, – кто же поймет, какой цели вы добиваетесь?
Но я отвернулась от него и долгое время сидела молча, глядя на воду. Какой смысл спорить с таким человеком, изливать ему свою душу? Не лучше ли прямо открыть все Сильвии и предоставить ей действовать самой? Наконец он заговорил снова, обращаясь на этот раз к моей спине, и голос его звучал чуточку менее надменно.
– Миссис Аббот, вы должны понять, что я ничего не знаю о вас. Кто вы, каковы ваши намерения и отношения с моей женой? Как же прикажете мне судить обо всем этом? Вы угрожаете мне чем-то, на мой взгляд, совершенно несообразным. Как же мне отнестись к вашим словам? Если вы хотите, чтобы я понял вас, скажите мне ясно и просто, чего вы от меня хотите.
Я рассудила, что, живя в мире, нужно принимать его таким, каков он есть.
– Я сказала вам, чего я хочу, – ответила я. – Но если это нужно, я могу повторить еще раз. Я надеялась убедить вас в том, что ваш долг – пойти к жене и рассказать ей правду.
Он промолчал несколько минут, чтобы вполне овладеть собой.
– А не объясните ли вы мне, что хорошего можно ожидать от этого?
– Ваша жена, – сказала я, – должна знать, в чем дело, чтобы оградить себя на будущее время. Для этого существует только один способ – сказать ей правду. Вы любите ее и вы человек, не привыкший обходиться без того, что ему нравится…
– Великий Боже! – воскликнул он. – Не думаете ли вы, что мне мало одного слепого ребенка!
Это было первое человеческое восклицание, которое я услышала от него.
– Я уже думала об этом. К сожалению, медицинские книги говорят нам, что в семьях нередко бывает и по нескольку слепых детей. Другого выхода нет: Сильвия должна все узнать. Весь вопрос заключается в том, кто скажет ей об этом. Вы должны понять, что, убеждая вас сделать это, я забочусь не только о ее благе, но и о вашем. Само собой разумеется, что я не заикнусь ей о том, что мне пришлось уговаривать вас. Тогда все это предстанет ей в благоприятном свете. Она подумает, что вы сознаете свою вину перед ней, стремитесь загладить этот грех и намерены в будущем поступать по отношению к ней всегда честно и прямо. Как только она поймет, что вы виноваты не больше других мужчин вашего класса, что вы не сделали ничего более дурного, чем они…
– Вы думаете, что ее можно будет убедить в этом? – нетерпеливо оборвал он меня.
– Я постараюсь, чтобы она поверила, – ответила я.
– Вы, по-видимому, очень уверены в своем умении управлять моей женой.
– Если вы не измените вашего враждебного тона, – ответила я сурово, – я буду лишена возможности помочь вам.
– Простите, – сказал он, но в тоне его не было искренности.
Я продолжала:
– Тут можно многое сказать в вашу защиту. Я понимаю, что вас нельзя строго осуждать за тот ответ, который вы дали епископу Чайльтону. Вы могли искренне верить в то, что написали, могли даже найти врачей, которые подтвердили бы вам, что вы можете спокойно вступить в брак. По поводу этой болезни существует общераспространенное заблуждение. Мужчины считают, что в хронической форме она не передается женщине, а между тем новейшие исследования говорят как раз обратное. Вы можете объяснить все это Сильвии, и я поддержу вас. Вы были влюблены в нее, вы хотели, чтобы она стала вашей женой. Пойдите же к ней теперь и признайтесь чистосердечно, что причинили ей зло. Попросите простить вас и дать вам возможность по мере сил облегчить ей этот тяжелый крест.
Я еще долго изливала перед ним свою душу. Когда я кончила, он сказал:
– Миссис Аббот, я терпеливо выслушал все ваши остроумные предложения. В ответ я попрошу вас только не вмешиваться больше в эту интимную область, которая касается только моей жены и меня.
Он снова вернулся к исходному пункту нашего разговора и старался спрятаться от суровой и грозной действительности за ширмы условности. Не так же ли он отвечал обычно на доводы Сильвии? Я почувствовала желание высказать ему откровенно, что я о нем думаю.
– Вы гордый человек, мистер ван Тьювер, и очень упрямый к тому же. Вам трудно унизить себя перед вашей женой и попросить прощения. Скажите, не это ли заставляет вас колебаться? Не боитесь ли вы, что после такого признания вам придется занять в семье второстепенное положение, что вы не сможете больше повелевать Сильвией? Вас, может быть, пугает то, что вы вложите ей в руки орудие самозащиты?
Он молчал.
– Прекрасно, – сказала я наконец. – В таком случае позвольте сказать вам, что я не допущу, чтобы мужчина занял такое положение в жизни женщины. Женщинам и так приходится выносить на себе большую часть жизненных тягот, они выполняют половину или даже больше половины повинностей, связанных с ним, а потому я считаю необходимым, чтобы они пользовались правом голоса в семейных делах.
Разумеется, я могла с таким же успехом прочитать эту маленькую лекцию по женскому вопросу перед сфинксом.
– Как вы недальновидны! – воскликнула я наконец. – Неужели вы не понимаете, что Сильвия рано или поздно сама докопается до истины?
Это происходило в те дни, когда газеты и журналы еще только начинали интересоваться вопросами гигиены брака и половых отношений. Но все же в них уже попадались заметки и статьи на эту тему. У меня в сумочке как раз находилась газетная статья по поводу циркуляра, изданного одним из городских комитетов здравоохранения. В этом циркуляре говорилось о том, как уберечь новорожденных детей от слепоты, и обсуждались причины этого несчастья. Но почтовое ведомство Соединенных Штатов запретило распространять его по почте.
– Представьте себе, – сказала я, вынимая газету, – что эта статья попалась бы на глаза Сильвии. Разве она не навела бы ее на правильный след? Она появилась в газете третьего дня, и я только по чистой случайности заметила ее раньше Сильвии. Неужели вы думаете, что так может продолжаться всегда?
– Теперь, когда я здесь, – ответил он, – я с удовольствием избавлю вас от этой ответственности.
Такое заявление, разумеется, взбесило меня, и я выпустила из своего лука стрелу, которая должна была пробить его шкуру.
– Мистер ван Тьювер, – сказала я, – человек, занимающий такое видное положение, легко может сделаться предметом сплетен и скандала. Представьте себе, что кто-нибудь из ваших врагов пошлет вашей жене анонимное письмо. Или предположите, что это сделает какая-нибудь женщина, которая считает себя обиженной вами.
Я приостановилась. Он бросил на меня испытующий взгляд и снова надел свою непроницаемую маску.
– Моя жена поступит так, как поступают другие женщины в ее положении. Она оставит без внимания выпады всяких шантажистов и сплетников.
С минуту длилось молчание.
– Я верю в брак, – снова начала я. – Я уважаю его как нечто священное и сделала бы все возможное, чтобы сохранить и уберечь всякий брак. Но я считаю, что он должен основываться на полном равенстве сторон. Я готова бороться за то, чтоб это было так, и всякое супружество, где отсутствует подобное равенство, я называю не браком, а рабством и буду так же ожесточенно стараться разрушить его. Неужели вам непонятно такое отношение к супружеству со стороны женщины?
Он продолжал молчать. Но я все еще не хотела складывать оружие.
– Мистер ван Тьювер, – взмолилась я, – я много старше вас. Я много испытала в жизни и видела страдания много глубже ваших. И я совершенно искренно стараюсь помочь вам. Неужели вы не можете заставить себя высказаться откровенно? Может быть, вам никогда не приходилось разговаривать с женщиной о подобных вещах, я хочу сказать, с порядочной женщиной. Но я могу вас уверить, что многие мужчины находили это вполне возможным и никогда не раскаивались в том, что доверились мне.
Я начала рассказывать ему о своих сыновьях и о том, что я сделала для них, рассказала о множестве других юношей, их одноклассниках, которые приходили ко мне делиться своими сомнениями и горестями. Меня не обмануло собственное красноречие, были, несомненно, два-три мгновения, когда он действительно заколебался. Но затем привычки, выработанные в течение целой жизни, снова вступили в свои права. Он сжал губы и сказал себе, что он Дуглас ван Тьювер. Такие вещи были возможны в простых западных колледжах, но они шли вразрез с обычаями Гарвардского университета и традициями клубов, расположенных на Пятой авеню.
Он не мог превратиться в мальчика, он вообще никогда не был мальчиком и не знал, что такое детство. С той поры, как Дуглас ван Тьювер помнил себя, он всегда был значительной персоной. Я вспомнила вдруг о старом стряпчем семьи ван Тьювера, сухом педанте с тонкими губами, который принимал деятельное участие в воспитании Дугласа. Сильвия описывала мне, как он, сидя у них за обедом, сетовал на безрассудство людей, допускающих «неприятные вещи». Только это и беспокоило таких старых семейных стряпчих – не то, что люди вызывают неприятности, а то, что они «допускают» их. Ведь так легко игнорировать дерзкие вопросы! И как мало людей достаточно благоразумных, чтобы понять это! Мне казалось в этот момент, что рядом с Дугласом ван Тьювером я вижу тень старого стряпчего с сухими тонкими губами.
Поддавшись последнему порыву отчаяния, я воскликнула:
– Представьте себе даже, что я исполню ваше требование и соглашусь скрыть от Сильвии правду, но ведь все равно придет день, когда она прямо задаст вам вопрос: «Не эта ли болезнь вызвала слепоту моего ребенка?» Что вы ответите ей тогда?
– Я отвечу ей, – произнес он своим холодным ровным голосом, – что существуют тысячи самых невинных способов заразиться этой болезнью.
Наступило долгое молчание. Наконец он заговорил снова, и голос его звучал так бесстрастно, как будто мы только что в первый раз встретились с ним.
– Верно ли я понял вас, миссис Аббот: в случае, если я отвергну ваш совет и откажусь сказать жене то, что вы называете правдой, вы сделаете это сами?
– Вы совершенно правильно поняли меня, – ответила я.
– А разрешите спросить вас, когда вы намерены привести эту угрозу в исполнение?
– Я подожду, – сказала я, – я дам вам возможность обдумать это и посоветоваться с врачами, если у вас будет такое желание. Я не предприму ни одного шага, не предупредив вас об этом.
– Чрезвычайно вам признателен, – сказал он с легким оттенком иронии. И на этом наш разговор кончился.
Наш остров уже виднелся вдали, и я горела нетерпением поскорее избавиться от общества этого человека. Но когда мы подошли ближе, я заметила маленькую моторную лодку, направлявшуюся прямо к нам. Ни я, ни ван Тьювер не произнесли ни слова, оба мы следили за лодкой, и он, должно быть, так же как и я, удивлялся, зачем ее послали нам навстречу. Когда лодка достаточно приблизилась, я увидела в ней доктора Перрина и доктора Джибсона.
Мы замедлили ход, лодка сделала то же самое и наконец остановилась на расстоянии нескольких футов от нас. Доктор Перрин поздоровался с ван Тьювером и, представив ему своему коллегу, сказал:
– Мы выехали навстречу, чтобы поговорить с вами. Не будете ли вы так добры перейти в эту лодку?
– Разумеется, – ответил ван Тьювер.
Оба судна подошли совсем близко друг к другу, и пересадка совершилась. Человек, управляющий моторной лодкой, перешел на баркас, повинуясь, очевидно, заранее полученной инструкции.
– Вы, надеюсь, извините нас, – обратился ко мне доктор Перрин.
Человек, пересевший на баркас, сказал несколько слов капитану, машина дала ход, и мы отошли на порядочное расстояние, с которого нельзя было ничего расслышать. Мне все это показалось немного странным, но я решила, что доктора, пожалуй, беспокоятся относительно того, что я могла сказать ван Тьюверу. Придя к такому выводу, я забыла об этом маленьком инциденте и стала перебирать в уме подробности только что пережитой сцены. Произвела ли я на него впечатление? Об этом мне трудно было судить. Он, несомненно, притворялся более равнодушным, чем был в действительности. Но как бы там ни было, а ему все же придется понять, что он находится в моей власти, и рано или поздно пойти на уступки.
С моторной лодки раздался оклик, и мы снова подошли к ней.
– Не будете ли вы так любезны перейти к нам, миссис Аббот? – обратился ко мне доктор Перрин, и когда я исполнила его просьбу, он снова приказал баркасу отъехать. Ван Тьювер не произнес ни слова, но я заметила на его лице напряженное выражение, да и все остальные тоже, как мне показалось, были чем-то взволнованы.
Как только мы оказались достаточно далеко от баркаса, доктор Перрин обернулся ко мне и сказал:
– Миссис Аббот, мы выехали навстречу мистеру ван Тьюверу, чтобы предупредить его о неприятной случайности, которая только что произошла. Миссис ван Тьювер спала у себя в комнате, а мисс Лиман и няня находились в соседней комнате. Они позволили себе сделать несколько неосторожных замечаний насчет того, о чем мы уже не раз беседовали, а именно: следует ли сообщить жене мистера ван Тьювера о некоторых обстоятельствах, как вдруг увидели, что миссис ван Тьювер стоит на пороге…
Я взглянула на Дугласа ван Тьювера.
– Теперь она знает! – воскликнула я.
– Мы не думаем, чтобы она знала, но у нее зародились подозрения, и она старается узнать правду. Она выразила желание видеть вас.
– Да, конечно, – сказала я.
– Она заявила, что хочет видеть вас, как только вы вернетесь, и просила не допускать к ней никого, даже мистера ван Тьювера, пока она не переговорит с вами. Вы понимаете, что все это грозит нам большими осложнениями, и поэтому мы нашли нужным обсудить совместно этот вопрос.
– Итак, миссис Аббот, – начал маленький доктор, – теперь перед нами уже не отвлеченный теоретический вопрос, а непосредственная действительность. Мы, как врачи, пользующие больную, считаем себя вправе иметь в этом деле решающий голос. Мы не находим…
– Доктор Перрин, – перебила я его, – перейдем к сути дела. Вы хотите, чтобы я начала ткать новую паутину лжи?
– Мы держимся того мнения, миссис Аббот, что в таких вопросах врачи, пользующие…
– Простите меня, – быстро перебила я. – Все это мы уже обсуждали с вами и, как вы знаете, кардинально разошлись во взглядах. Мистер ван Тьювер сказал вам, какое предложение я только что сделала ему?
– Что бы он пошел к жене…
– Да.
– Он говорил нам об этом и предложил сделать так, как вы советовали. Но нам кажется, что это будет большой ошибкой.
– Прошло уже три недели после родов, – сказала я, – всякая опасность родильной горячки несомненно миновала. Если бы вопрос шел об осторожности, то я, конечно, согласилась бы отложить на время это объяснение. Я охотно подождала бы несколько месяцев, но мне кажется, что такая отсрочка только ухудшит дело. Раз это случилось, нам следует воспользоваться тем, что мы все сейчас в сборе, и убедить ее снисходительно отнестись к мужу…
– Миссис Аббот, – прервал меня доктор Джибсон (он с трудом сдерживал свое возбуждение), – вы требуете, чтобы мы перешли границы нашего профессионального долга. Не дело врача решать, как жена должна отнестись к мужу.
– Доктор Джибсон, – ответила я, – но ведь это именно вы и собираетесь сделать, только вы стараетесь замаскировать этот факт. Ведь вы же хотите заставить миссис ван Тьювер принять вашу точку зрения на обязанности жены.
Доктор Перрин снова вмешался:
– Наша пациентка желает видеть вас, она ждет от вас указаний и совета. Вы должны отложить в сторону ваши убеждения и подумать о ее здоровье. Вы единственный человек, который может успокоить ее, и сделать это – ваш долг.
– Я знаю, что, по-вашему, я должна пойти к ней и снова обмануть ее, моего друга. Но она слишком много знает, чтобы долго поддаваться обману. Ведь вы знаете, как она умна. У нее голова юриста. Как я смогу убедить ее, что сиделки… да ведь я даже не знаю, что, собственно, они сказали?
– Мы все это записали для вас, – поспешно вставил доктор Перрин.
– Вы записали, конечно, с их слов. Но представьте себе, что они забыли что-нибудь из сказанного? Вы можете быть уверены, что Сильвия этого не забыла. Каждое слово выжжено у нее в мозгу. Она сопоставила с этим все, что слышала когда-нибудь: и болезнь своей подруги Гарриет Аткинсон, и то, что я рассказывала ей раньше о подобных вещах…
– А! – прорычал доктор Джибсон. – Я так и знал. Если бы вы не вмешивались с самого начала…
– Ну, ну, – постарался успокоить его доктор Перрин. – Ведь вы просили меня избавить вас от переговоров по этому поводу. Я вполне согласен с миссис Аббот, что общество напрасно игнорирует эти вопросы, но она, я уверен, тоже согласится со мной, что сейчас не время просвещать в этом направлении миссис ван Тьювер.
– Напротив, я ни за что не соглашусь с этим, – возразила я. – Если ее муж пойдет к ней и чистосердечно, искренно…
– Вы говорите вздор! – крикнул старый доктор, снова теряя самообладание. – С ней сделается истерика, она будет смотреть на своего мужа, как на какое-то гнусное существо, что-то вроде преступника.
– Конечно, она будет потрясена, – сказала я, – но у нее на редкость рассудительная и ясная голова. Я не знаю ни одного мужчины, который умел бы так разумно подходить к самым сложным вопросам, как она. Мы можем указать ей на все смягчающие обстоятельства, и она, несомненно, примет их во внимание. Она увидит, что мы защищаем ее права…
– Ее права!.. – Старик чуть не задохнулся от ярости.
– Ну, ну, доктор Джибсон, – вмешался его младший коллега. – Ведь вы же просили меня…
– Знаю, знаю. Но в качестве старшего из врачей, пользующих больную…
Доктор Перрин кое-как успокоил своего коллегу и снова принялся уговаривать меня. Но между его доводами я все время слышала голос доктора Джибсона, бормотавшего себе в бороду:
– Суфражистка!.. Фанатичка!.. Истерия!.. Женское равноправие!
Ветер дул слабо, и солнце пекло нас немилосердно, но я все же заставила себя спокойно выслушать их доводы. Все это было мне уже давно знакомо, но доктор Перрин желал, по-видимому, высказаться еще раз именно в присутствии Дугласа ван Тьювера.
– Доктор Перрин, – воскликнула я, – предположим даже, что я сделаю попытку обмануть ее, но ведь мы не сможем привести ей ни одного правдоподобного объяснения.
– Вы ошибаетесь, миссис Аббот, – возразил он, – давно установлен факт, что эта болезнь часто передается самым невинным путем, не заслуживающим никакого морального осуждения. И в данном случае я, кажется, могу объяснить, как произошел этот несчастный случай.
– Что вы хотите сказать?
– Не знаю, говорил ли я вам, что как раз перед родами миссис ван Тьювер меня позвали на другой остров к одной негритянке. И вот теперь я пришел к заключению, что, по всей вероятности, недостаточно тщательно простерилизовал свои инструменты. Это сознание, конечно, ужасно тяжело для врача; думать…
Он запнулся. Наступило долгое молчание. Я переводила глаза с одного мужского лица на другое. Двое из них твердо встретили мой взгляд, но третий отвернулся.
– Неужели он допустит, чтобы вы сказали это? – прошептала я наконец.
– Честь и справедливость приказывают мне сознаться в своей ошибке, миссис Аббот. Мне кажется…
Но я перебила его.
– Послушайте меня, доктор Перрин. Вы повинуетесь рыцарскому чувству и думаете, что помогаете человеку выпутаться из беды. Но я говорю, что всякий, кто позволит вам возвести на себя эти небылицы, презренный трус!
– Миссис Аббот, – свирепо рявкнул доктор Джибсон, – есть предел даже для женщины…
Наступила пауза.
– У вас, господа, свой кодекс нравственности, – заговорила я наконец тихим голосом. – Вы поддерживаете мужа и защищаете его вопреки всему. Я поняла бы это, если бы он был неповинен в том, что случилось, если бы могло существовать малейшее сомнение в его виновности. Но как же вы решаетесь защищать его, зная, что он виновен?
– Ни о каком знании тут не может быть и речи! – крикнул старый доктор.
– Я не знаю, – сказала я, – насколько он был откровенен с вами, но позвольте мне напомнить об одном обстоятельстве, которое хорошо известно доктору Перрину. Когда я приехала сюда, у меня были вполне определенные сведения насчет того, что нам следует опасаться появления симптомов этой болезни. Доктор Перрин знает, что я предупредила доктора Овертона еще в Нью-Йорке. Он сообщил вам об этом.
Наступило неловкое молчание.
Я посмотрела на ван Тьювера и увидела, что он весь подался вперед, пронизывал меня взглядом. Мне показалось, что он сейчас заговорит, но доктор Джибсон резко прервал молчание.
– Все это не имеет никакого отношения к делу. Нам нужно решить серьезный вопрос, а мы только и делаем, что уклоняемся в сторону. В качестве старшего из врачей, пользующих больную…
И он принялся читать мне лекцию об авторитете врача. Он говорил пять минут, десять минут, пока я не потеряла счет времени. В то время как он говорил, я думала о том, что я сделаю и что скажу, когда войду в комнату Сильвии. Что переживает сейчас моя бедная Сильвия, пока мы сидим здесь под палящим полуденным солнцем и спорим о ее праве на свободу и знание?
– Я всегда был положительным человеком, – между тем говорил доктор Джибсон, – но сегодняшний спор заставляет меня высказаться еще более положительно, чем когда-либо. В качестве старшего из врачей, пользующих больную, я решительно заявляю, что пациентке не следует ничего говорить.
Я не могла дольше выдержать.
– Я намерена сказать пациентке всю правду, – сказала я.
– Вы ничего не скажете ей.
– Но как же вы можете помешать мне?
– Вы не увидите ее.
– Но она желает видеть меня.
– Ей скажут, что вас здесь нет.
– И вы думаете, что это надолго удовлетворит ее?
Наступила пауза. Доктора смотрели на ван Тьювера, ожидая, чтобы он заговорил. И вот я снова услышала его холодный ровный голос.
– Мы сделали все, что могли. Никакого вопроса больше быть не может. Миссис Аббот не вернется в мой дом.
– Что? – воскликнула я в изумлении. – Что вы хотите сказать?
– Я хочу сказать, что вас не возьмут назад на остров.
– Но куда же меня повезут в таком случае?
– Вас повезут на материк.
Я посмотрела на врачей. Никто из них не шевельнулся.
– И вы осмелитесь?.. – произнесла я наконец сдавленным голосом.
– Вы не оставляете мне выбора, – ответил ван Тьювер.
– Значит, вы хотите просто учинить надо мной насилие, – крикнула я, чувствуя, что мой голос дрожит от негодования.
– Вы покинули мой дом по собственной воле. Надеюсь, мне не нужно указывать вам, что я вовсе не обязан приглашать вас обратно.
– А что же Сильвия?.. – начала я и запнулась, испугавшись перспективы, которая открылась передо мной при этой мысли.
– Моей жене, – сказал ван Тьювер, – придется сделать окончательный выбор между своим мужем и самой замечательной из ее знакомых.
– А вы, господа? – обратилась я к докторам. – Вы одобряете такой оскорбительный поступок?
– Я в качестве старшего из врачей, пользующих больную… – начал доктор Джибсон.
Я снова обратилась к ван Тьюверу.
– Что вы ответите вашей жене, когда она узнает, как вы поступили со мной?
– Мы поступим так, как найдем это нужным.
– Ведь вы, разумеется, понимаете, что рано или поздно мне удастся снестись с ней.
– Мы будем считать вас с этой минуты сумасшедшей, – ответил ван Тьювер, – и примем соответствующие меры.
Снова наступило молчание.
– Баркас вернется к материку, – произнес наконец ван Тьювер, – и останется там до тех пор, пока миссис Аббот не будет в состоянии спуститься на берег. Могу ли осведомиться, достаточно ли у нее денег в кошельке, чтобы доехать до Нью-Йорка?
Я невольно расхохоталась. Все это казалось мне невероятно диким, но я тем не менее должна была признать, что, с их точки зрения, это был единственный выход.
– Миссис Аббот не уверена, что она вернется обратно в Нью-Йорк, – ответила я. – Но если и сделает это, то не на деньги мистера ван Тьювера.
– Еще одно, – сказал доктор Перрин, не произнесший ни слова с того момента, как ван Тьювер сделал свое невероятное заявление. – Надеюсь, миссис Аббот, что это печальное обстоятельство останется между нами и будет скрыто от слуг и вообще от широкой публики.
Из этих слов я поняла, до какой степени я напугала их всех. Они боялись, как бы я не оказала физического сопротивления.
– Доктор Перрин, – ответила я, – я действую исключительно в интересах моего друга. Что же касается вас, то мне кажется, что вы проявляете чрезмерную податливость и когда-нибудь пожалеете об этом.
Он ничего не ответил. Дуглас ван Тьювер положил конец пререканиям. Он встал и подал сигнал баркасу. Когда тот подошел, ван Тьювер сказал капитану:
– Миссис Аббот возвращается на берег. Вы немедленно отвезете ее туда.
Он стоял и ждал, а я доставила себе удовольствие помучить его немного и не сразу поднялась со своего места. Доктор Перрин любезно предложил мне руку, а доктор Джибсон с улыбкой произнес:
– До свиданья, миссис Аббот. Очень жаль, что вы не можете оставаться с нами дольше.
Я уверена, что заслуживаю похвалы за то, как разыграла свою роль перед командой.
– Мне также очень жаль, – ответила я, – но я надеюсь, что мне удастся вернуться.
Затем наступил момент настоящего испытания.
– До свиданья, миссис Аббот, – произнес Дуглас ван Тьювер с величавым поклоном, и я, сделав над собой невероятное усилие, ответила ему.
Когда я заняла свое место на корме баркаса, он подозвал своего секретаря. Они пошептались о чем-то, и Дуглас ван Тьювер вернулся в моторную лодку. Он отдал приказание, и оба судна двинулись: лодка направилась к острову, а баркас – к материку. Секретарь остался со мной.
На этом оканчивается часть моей истории. Я описала Сильвию такой, какой она была, когда я познакомилась с ней, и высказала о ней свое мнение. И если читатель по этим описаниям решил, что я грубая, навязчивая особа, любящая вмешиваться в чужие дела, то теперь он получит полное удовлетворение, ибо меня вышвырнули со сцены, как негодную марионетку или как надоевшего оратора. Я не знаю, стоит ли описывать, как я шагала взад и вперед по пристани под бдительным оком секретаря и какие мелодраматические планы приходили мне в голову. То я собиралась добраться до моей Сильвии в лодке, обвязав весла, чтобы они не шумели, то придумывала способы проникнуть к ней ночью. Чувство юмора не позволяет мне распространяться на эту тему. Временно я отойду на задний план и передам только то, что сама Сильвия рассказала мне много времени спустя. О себе я не скажу больше ни слова, кроме того, что я проглотила это оскорбление и со следующим же поездом отправилась домой. В Нью-Йорк я вернулась куда более пессимистичным и трезвым социальным реформатором, чем была раньше.
КНИГА ТРЕТЬЯ
Прошло много времени, прежде чем Сильвия рассказала мне о том, что произошло между нею и мужем. Она отчаянно старалась избежать с ним объяснения, просто из чувства сострадания к нему. Но, несмотря на ее протесты, он сам пришел к ней в комнату и благодаря своей неумолимой настойчивости заставил ее выслушать себя. Если Дуглас ван Тьювер принимал какое-нибудь решение, то противиться ему было невозможно.
– Сильвия, – сказал он, – я знаю, что вы очень расстроены тем, что произошло. Я вполне понимаю ваше состояние. Но я должен кое о чем поговорить с вами. Спорить против этого бесполезно. Вы должны взять себя в руки и выслушать меня.
– Я хочу повидаться раньше с Мэри Аббот, – настойчиво повторяла она. – Быть может, вам это не нравится, но я требую чтобы ее допустили ко мне.
Тогда он сказал:
– Вы не можете увидеться с миссис Аббот. Она уехала в Нью-Йорк.
Заметив ее огорченный взгляд, ван Тьювер добавил:
– Об этом я тоже хотел поговорить с вами.
– Почему она уехала? – воскликнула Сильвия.
– Потому что я не хотел, чтобы она оставалась здесь.
– Вы хотите сказать, что выгнали ее?
– Я хочу сказать только одно – она поняла, что ее присутствие больше нежелательно.
Сильвия взволнованно отвернулась к окну. Он воспользовался этим и, подойдя ближе, пододвинул ей кресло.
– Сядьте, пожалуйста, – настойчиво повторил он несколько раз.
В конце концов она круто повернулась и села.
– Настало время, – торжественно начал он, – решить вопрос относительно этой миссис Аббот и влияния, которое она оказывает на вашу жизнь. Я пробовал убедить вас разумными доводами, но то, что произошло теперь, исключает всякую возможность каких-либо пререканий по этому поводу. Вы выросли в кругу людей изысканных и утонченных, и мне просто казалось невероятным, чтобы вы могли избрать себе в приятельницы такую женщину, как эта миссис Аббот, – женщину не только низкого происхождения, но, сверх того, лишенную всякого намека на утонченность и благородство, к которым вы привыкли. И вот теперь вы видите, к каким результатам привело нас то, что вы ввели ее в свой дом.
Он умолк. Сильвия не издала ни звука, и взгляд ее оставался прикованным к занавеске.
– Она оказалась здесь, – продолжал он, – когда на нас обрушилось тяжелое горе, когда мы больше чем когда-либо нуждаемся в сочувствии и внимании. Перед нами загадочная, ужасная болезнь, которая поставила в тупик лучших специалистов нашей страны. Но эта невежественная фермерша вообразила, что она одна знает, в чем дело. Она вступала по этому поводу в разговоры с каждым встречным, довела вашу бедную тетку почти до истерики и дала прислуге богатый материал для сплетен. Мы не знаем еще, что она тут наделала и что еще может наделать, прежде чем добьется своего. Я не могу указать, конечно, какую цель она преследует, но, по всей вероятности, шантаж…
– О, как вы можете! – невольно вырвалось у Сильвии. – Как вы можете говорить так о моем друге?
– Я могу ответить вам вопросом: как можете вы иметь такого друга? Ведь эта женщина утратила всякое представление о женской скромности и благопристойности. Как могла она сделаться близким другом дочери Кассельменов! Впрочем, я готов допустить, что она просто фанатичка. Доктор Перрин рассказывал мне, что муж ее был грубый фермер, дурно обращавшийся с ней. Вероятно, это и вызвало в ней ожесточение против всех мужчин, ожесточение, принявшее со временем характер мании. Вы видите, что она тотчас же нашла для постигшего нас несчастья самое гнусное и отвратительное объяснение, какое только можно себе представить. Она остановилась на нем, потому что оно могло запятнать честь мужчины.
Он снова умолк. Взгляд Сильвии опять приковался к занавеске.
– Я не собираюсь осквернять ваш слух, – продолжал он, – обсуждением ее предположений. Единственный компетентный судья в этих вопросах – врач, и, если вы хотите, доктор Перрин изложит вам все, что ему известно по этому поводу. Но я хочу, чтобы вы поняли, какое значение это имеет для меня.
Он заметил, что губы ее сжались плотнее.
– Доктора говорят мне, что вам нельзя волноваться. Но постарайтесь же и вы понять мое положение. Я приезжаю домой, подавленный горем за вас и ребенка, а эта сумасшедшая женщина выскакивает вперед, отталкивает в сторону вашу тетку и вашего врача и отправляется в баркасе встречать меня на станцию. А затем она обвиняет меня в том, что я причина слепоты ребенка, что я сознательно обманул свою жену. Подумайте же, какой прием я встретил дома!
– Дуглас! – горячо воскликнула она. – Мэри Аббот никогда не сделала бы этого, не имея оснований…
– Я не намерен защищаться, – холодно сказал он. – Если вас так интересуют эти вопросы, обратитесь к доктору Перрину. Он, как врач, скажет вам, что обвинение, возведенное на меня, не выдерживает критики. Он скажет вам, что даже в том случае, если предположение миссис Аббот правильно, все же заражение этой болезнью могло произойти самыми различными путями, без всякой вины с чьей-либо стороны. Всякий доктор знает, что чашки для питья, умывальные тазы, полотенца, даже пища могут служить передатчиками болезни. Он знает, что инфекцию может занести в дом любой человек – прислуга, няни, даже сами врачи. Объяснила ли вам это ваша сумасшедшая приятельница?
– Она ничего не говорила мне об этом. Ведь вы же знаете, что мне не удалось повидаться с ней. Я знаю только, что говорят няни…
– Они говорили то, что сказала им миссис Аббот. Никаких других оснований у них нет.
Она отнеслась к этому не совсем так, как он ожидал.
– Значит, Мэри Аббот сказала им это? – воскликнула она.
Он поспешил исправить свою ошибку.
– Все это не больше чем ядовитая выдумка вашей вульгарной социалистки. И на ней вы строите обвинения против мужа?
– О, – едва слышно прошептала она. – Мэри Аббот сказала это.
– Ну, что же из того?
– О Дуглас, Мэри никогда не сказала бы такой вещи, если бы она не была в этом уверена.
– Уверена! – воскликнул он. – Вся ее уверенность могла основываться только на испорченном воображении. Она просто ожесточенная сумасбродная женщина – разведенная жена. Она выбрала то объяснение, которое больше всего понравилось ей, потому что оно могло унизить богатого человека.
Его голос дрожал от сдержанного гнева, когда он заговорил снова.
– Когда я узнал, что здесь происходило, мне это показалось просто каким-то кошмаром. Вы, слабая женщина, лежите в совершенно беспомощном состоянии, вы сделались жертвой ужасного несчастья, а между тем от спокойствия вашей души зависит жизнь больного ребенка. Доктора, чтобы сохранить ваше спокойствие, всеми силами стараются скрыть от вас ужасную, жестокую истину…
– О, скажите же мне, что это за истина? Ведь это такой ужас – знать, что от тебя что-то скрывают… Что они скрыли от меня?
– Во-первых, то, что ребенок ослеп, а во-вторых, причину этого несчастья.
– Значит, они знают ее?
– Они не утверждают ничего определенного; это и вообще невозможно. Но у бедного доктора Перрина явилось страшное подозрение, которое он скрыл от вас, потому что иначе ему пришлось бы оставить ваш дом…
– Что, Дуглас? Что он сказал?..
– За несколько дней до ваших родов его позвали к одной негритянке… Ведь вы знаете об этом, не правда ли?
– Дальше, дальше…
– И вот у него возникло теперь мучительное подозрение, что он, по всей вероятности, недостаточно тщательно простерилизовал свои инструменты. Таким образом, он, ваш друг и хранитель, весьма возможно, виновен в том, что произошло.
– О!.. О!.. – прошептала она в ужасе.
– Это одна из тайн, которую доктора старались скрыть от вас.
Наступила пауза, во время которой глаза ее не отрывались от лица мужа.
Вдруг она протянула к нему руки и с отчаянием воскликнула:
– О, правда ли это?
Он не взял ее протянутых рук.
– Раз я нахожусь здесь на положении обвиняемого, мне нужно быть осторожным в своих ответах. Так сказал мне доктор Перрин. Правильно ли его объяснение, и кто внес инфекцию, он или няня, которую не рекомендовал…
– Нет, за няню я спокойна, – быстро перебила Сильвия, – она была так внимательна…
Он не дал ей докончить.
– Вы решили, по-видимому, щадить всех, кроме вашего мужа.
– Нет, – запротестовала она, – я старалась быть справедливой и к вам, и к моему другу. Конечно, если Мэри Аббот ошиблась, я очень виновата перед вами…
Он заметил, что она начинает смягчаться, и принял оскорбленный вид.
– Мне стоило большого труда сохранить спокойствие во время этого испытания, – сказал он, поднимаясь на ноги. – Если вы позволите, мы прекратим этот разговор, потому что мне слишком тяжело слушать, как вы защищаете эту женщину. Я просто скажу вам, какое решение я принял. Я никогда не пользовался прежде своим правом мужа и надеялся, что мне и в будущем не придется прибегнуть к нему, но настало время для вас выбрать между Мэри Аббот и вашим мужем. Я решительно протестую против того, чтобы вы переписывались с нею или продолжали вообще иметь с ней дело. Мое решение твердо, и ничто не заставит меня изменить его. Я не допущу даже никаких пререканий по этому поводу. А теперь, надеюсь, вы извините меня. Доктор Перрин просил передать вам, что он или доктор Джибсон готовы во всякое время помочь вам разобраться в этих вопросах, которыми смутили ваш душевный покой другие, не считаясь с их мнением и несмотря на их протесты.
Вы видите, что Сильвии нелегко было добраться до правды. Няням, уже достаточно напуганным собственной неосторожностью, сделали прежде всего строжайшее внушение, а затем научили их, как отвечать на вопросы, если Сильвия вздумала бы расспрашивать их. Но им не пришлось прибегать ко лжи, так как Сильвия тщательно скрывала от всех свое недоверие к мужу.
Одно из двух: или муж причинил ей ужасное зло, или теперь она сама причиняет ему зло своими несправедливыми подозрениями. Где правда? Возможно ли было, чтобы Мэри Аббот допустила такую ужасную ошибку? Она знала, как страстно, почти фанатически я отношусь к этому вопросу, она видела, как сильно я была взволнована все это время. Неужели я стала бы делиться с няньками пустыми подозрениями?
Сильвия не могла быть ни в чем уверена, ибо многие из моих взглядов казались ей не менее чуждыми, чем мой западный акцент. Она знала, что я без стеснения говорю на эти темы решительно со всеми и могла выбрать в собеседники нянек, также свободно, как и хозяйку дома. С другой стороны, откуда я могла знать об этом так достоверно? Может быть, мне легко было распознать болезнь, но установить ее причину было не в моей власти.
Ее старались не оставлять подолгу в одиночестве. Вскоре после Дугласа явилась миссис Тьюис и обрушилась на племянницу со своими женскими тревогами.
– Сильвия, ты ужасно обращаешься со своим мужем. Он пошел один к берегу и даже не взглянул на ребенка.
– Тетя Варина, – начала Сильвия, – уйдите, пожалуйста.
Но та продолжала волноваться.
– Твой муж приехал сюда в глубоком горе от постигшего вас несчастья, а ты осыпаешь его самыми жестокими и несправедливыми упреками, обвинениями, которые ты не в состоянии доказать.
И старая леди схватила свою племянницу за руку:
– Дитя мое, вспомни свой долг!
– Мой долг?
– Возьми себя в руки и поведи твоего мужа поглядеть на ребенка.
– Нет, нет… Я не могу! – крикнула Сильвия. – Я не хочу быть там, когда он увидит его. Если бы я любила его…
Но, увидев выражение ужаса на лице тетки, она почувствовала вдруг прилив жалости к ней и заключила ее в объятия.
– Тетя Варина, я знаю, что я заставляю вас страдать. Я причиняю всем одни только страдания. Но, если бы вы знали, как я страдаю сама. Что мне делать?.. Что делать?
Миссис Тьюис заплакала, но, быстро овладев собой, ответила твердым голосом:
– Твоя старая тетка скажет тебе, что надо делать. Ты должна стать рассудительной, дитя мое, должна больше прислушиваться к голосу благоразумия. Освежи свое лицо, принарядись и приведи своего мужа, чтобы он взглянул на ребенка. Удел женщин – страдание, дорогая! Мы не имеем права уклоняться от бремени, которое налагает на нас жизнь.
– В этом отношении вы можете быть спокойны, я не собираюсь уклоняться, – с горечью ответила Сильвия.
– Пойдем, дорогая, пойдем, – молила миссис Тьюис, стараясь подвести Сильвию к зеркалу. – Обрати внимание на то, как небрежны твой туалет и прическа!.. Позволь мне одеть тебя, дорогая, ведь ты всегда лучше чувствовала себя, когда бывала одета, как следует.
Сильвия как-то странно рассмеялась, но тетя Варина не раз имела дело с истериками.
– Что ты наденешь? – спросила она и, не дожидаясь ответа, добавила: – Позволь мне самой выбрать какое-нибудь из твоих прелестных платьев.
– Прелестное платье сверху – и кипящий вулкан внутри. Так вы представляете себе жизнь женщины!
– Красивое платье, дорогая, – с серьезным видом ответила тетя Варина, – и улыбка вместо вульгарной сцены, которая влечет за собой полное крушение и отчаяние…
Сильвия не ответила. Да, такова жизнь женщины! Старая тетка хорошо знала это, так же хорошо, как и психологию своего пола. Она не стала углубляться в теоретические споры о значении одежды, а прямо подошла к шкафу и начала раскладывать на постели очаровательные туалеты Сильвии.
Сильвия вышла на веранду в нарядном платье из розового муслина. Ее прекрасные сияющие волосы были собраны под тюлевым чепчиком того же цвета. Лицо ее было бледно, а большие рыжевато-карие глаза ввалились, но она была спокойна и, по-видимому, вполне владела собой. Она даже доставила удовольствие тете Варине и слегка облокотилась на ее слабую руку, пока горничная поспешно отодвигала для нее кресло в тень.
Вскоре пришел и Дуглас ван Тьювер вместе с докторами. Подали чай, и тетя Варина, вся трепеща от удовольствия, начала разливать его. Разговор шел о погоде, о разнице температуры между Нью-Йорком и Флоридой и о кустах жасмина, которые защищали веранду от лучей закатного солнца.
Спустя немного времени тетя Варина встала и заявила, что она идет приготовить маленькую Илэн к посещению отца. На пороге она остановилась на минуту, любуясь красивой картиной. Теперь все в порядке, внешние формы соблюдены, и все кончится так, как обычно кончается между мужем и женой: слезы, несколько упреков и… поцелуи.
Ребенка одели в новое платье и положили свежую шелковую повязку на его бедные потухшие глазки. Тете Варине доставляло удовольствие делать эти повязки. Они выходили у нее очень нежными и красивыми; может быть, они были недостаточно гигиеничны, но зато совсем не напоминали больницу.
Когда Сильвия и ее муж вошли в детскую, лица у обоих были белее полотна.
Сильвия остановилась на пороге, а бедная тетя Варина засуетилась в беспокойстве вокруг них. Когда ван Тьювер подошел к колыбели, она поспешила стать возле него и принялась будить ребенка ласковыми похлопываниями. Но ван Тьювер совершенно неожиданно для нее захотел взять ребенка на руки. Она помогла ему, и он замер, неловко держа малютку с таким видом, точно боялся, что она вот-вот разлетится вдребезги от его прикосновения.
Почти все мужчины имеют одинаково растерянный вид, когда берут на руки своего первого ребенка, но Сильвии это показалось самым трагическим зрелищем на свете. Она тихо вскрикнула:
– Дуглас!
Он обернулся, и она увидела, что мускулы его лица боролись с выражением, которое ему хотелось скрыть от всех.
– О, Дуглас! – прошептала она, – как мне жаль вас! Из этого тетя Варина заключила, что ей пора удалиться из комнаты.
Но разлад между ними был не из тех, которые могут исчезнуть под влиянием взрыва чувств. На следующий день они снова поспорили, так как он потребовал от нее честного слова, что она никогда больше не увидится со мной и будет возвращать все мои письма не распечатанными. Она уже согласилась раз на подобную вещь, когда по просьбе отца порвала отношения с Франком Ширли, и поняла потом, что не имела права поступать так.
Но Дуглас настаивал на своем требовании.
– Она должна понять, – говорил он, – что я не буду знать ни минуты покоя, пока будет продолжаться ее влияние на мою жену.
– Но должна же я услышать объяснение Мэри Аббот, – запротестовала Сильвия.
– Всякое объяснение, которое она приведет вам, будет прежде всего оскорбительно для вашего мужа и для всех тех, кто печется о вас. Я говорю в данном случае не только за себя, но и за врачей, которые знают, что эта за женщина, слышали ее угрозы и убедились в ее вульгарности. Это они настаивают на том, чтобы оградить вас от всяких сношений с нею.
– Дуглас, – возразила она, – вы должны понять, что мне трудно решиться на это. Я в ужасном состоянии…
– Я понимаю, конечно…
– И если вас беспокоит мое здоровье, то вы должны были бы прежде всего позаботиться о том, чтобы успокоить меня. Но когда вы являетесь ко мне и требуете, чтобы я даже не раскрывала писем от моего друга, у меня невольно возникает мысль, что вы боитесь, как бы я не узнала чего-то ужасного. Неужели вы сами не понимаете этого?
– Я не отрицаю, что я боюсь этой женщины. Я уже видел, как она сумела отравить вашу душу подозрениями…
– Да, Дуглас, но ведь теперь это уже сделано. Чего же вы можете опасаться с ее стороны?
– Разве я знаю? Она злая, завистливая женщина, с душой, полной ненависти. А вы невинный ребенок, который не может судить об этих вещах. Что вы знаете о том мире, где вы живете, о том злословии и клевете, которым подвергается человек, занимающий такое положение, как ваш муж.
– Я совсем не такой уже ребенок, как…
– Говорю вам, что вы понятия не имеете обо всем этом. Я помню ваш ужас, когда мы только что познакомились, и я рассказал вам про одну женщину, которая написала мне просительное письмо. Она добилась свидания со мной, а потом подняла у меня в кабинете крик и шум и ни за что не соглашалась оставить мой дом, пока я не заплатил ей кучу денег. Ведь вам никогда не приходилось слышать о чем-либо подобном? А между тем эти вещи бывают сплошь и рядом в жизни богатых людей. Мне с юности внушали правило никогда не оставаться наедине с посторонней женщиной, какого бы она ни была возраста и каковы бы ни были обстоятельства.
– Но уверяю вас, что я не стала бы слушать таких людей…
– Но ведь именно теперь вы добиваетесь права слушать их. Ведь не может быть вопроса о том, что вы снова подпадете под ее влияние. Бороться с ней для вас также невозможно, как невозможно сейчас не страдать от того зла, которое она уже успела причинить вам. Она сказала доктору Перрину, что я, по ее сведениям, вел до брака распутную жизнь и что моя жена и ребенок теперь расплачиваются за это. Кто знает, какие гнусности она могла слышать про меня? Так как же вы хотите, чтобы я был спокоен, пока она имеет возможность передавать все это вам?
Сильвия сидела молча, не решаясь задать вопросы, которые вертелись у нее на языке.
Он принял ее молчание за согласие и поспешно заговорил дальше.
– Позвольте мне привести вам пример. Один из моих друзей, которого вы хорошо знаете, – я могу, впрочем, назвать вам его, это Фредди Аткинс – ужинал как-то раз с несколькими актрисами. И вот какая-то из них, не имея понятия о том, что Фредди знаком со мной, заговорила обо мне. Она рассказывала о том, как она познакомилась со мной и где мы с нею были вместе, о моей яхте, о моем замке в Шотландии и, Бог знает, еще о чем. Ничего не стоило поверить, что эта женщина несколько лет была моей любовницей – она до мелочей знала все, что касалось меня и моих привычек. Фредди раздобыл фотографию этой особы и показал ее мне. Оказалось, что я никогда в жизни не видел ее. Фредди не хотел этому верить и, чтобы убедить его, я предложил ему представить меня этой женщине под другим именем. Так он и сделал. Мы встретились в ресторане и навели ее на эту тему. Она повторила перед нами обоими свой рассказ, пока Фредди не расхохотался наконец и не сказал ей, кто я.
Он умолк, чтобы дать улечься впечатлению.
– Теперь представьте себе, что ваш друг Мэри Аббот встретилась с этой женщиной. (Не думаю, чтобы она была чересчур разборчива в своих знакомствах.) И представьте себе дальше, что она пришла к вам и рассказала все, что слышала от нее. Что бы вы ответили ей? Станете ли вы отрицать, что такой рассказ произвел бы на вас впечатление? А между тем я ни минуты не сомневаюсь, что существуют десятки женщин, распространяющих про меня подобные небылицы, просто чтобы набить себе цену. И уверяю вас, что тысячи женщин были бы обеспечены на всю жизнь, если бы им удалось заставить других поверить в эти сказки. Вот и подумайте, какую осведомленность они проявят, если кто-нибудь начнет расспрашивать их о моей нравственности и о том, почему наш ребенок слеп. Клянусь вам, что, когда слух об этом несчастье распространится в Нью-Йорке, найдутся тысячи людей, которые будут знать из первых рук самым достоверным образом, как это произошло, как вы отнеслись к этому и все, что я говорил вам по этому поводу. Во всех газетах, интересующихся светской жизнью, от Нью-Йорка до Сан-Франциско, появятся ядовитые намеки, и какие-нибудь медоточивые джентльмены дадут мне понять, что это издевательство тотчас же прекратится, если я приобрету роскошное издание истории наших предков стоимостью в шесть тысяч долларов. Найдутся благожелательные и возвышенные люди, которые постараются втереться в ваше доверие и потом воспользуются нашим семейным горем, чтобы шантажировать вас. Будут даже угрозы судебного преследования со стороны людей, будто бы заразившихся этой болезнью от вас или вашего ребенка. Это может сделать, например, ваша прачка, ваша горничная или какая-нибудь из нянек…
– О, замолчите, замолчите, – взмолилась Сильвия.
– Я прекрасно понимаю, – спокойно сказал он, – что такие вещи не могут способствовать душевному покою молодой матери. Вы приходите в ужас от моих слов, а между тем требуете, чтобы я предоставил миссис Аббот право говорить вам об этом. Предупреждаю вас, Сильвия! Вы вышли замуж за богатого человека, который должен быть всегда готов к нападению хитрых и беззастенчивых врагов. Вы, как моя жена, можете подвергнуться этому еще скорее, чем я. Поэтому, когда я вижу, что вы вступаете в опасную дружбу, я считаю своим долгом сказать вам: это должно прекратиться! Еще раз повторяю: до тех пор, пока вы будете оспаривать мое право на подобное вмешательство, наша безопасность и наше душевное спокойствие будут находиться под угрозой.
Через три или четыре дня после этого уехал доктор Джибсон. Перед самым отъездом он явился к Сильвии, чтобы поговорить с ней по душам, «как старый дядюшка».
– Поймите, ведь я так стар, что мог бы быть даже вашим дедушкой, – сказал он, – у меня четыре сына, из которых каждый мог бы быть вашим мужем, если бы он имел счастье находиться в округе Кассельмен в нужный момент.
Сильвия кивнула головой в знак согласия.
– Мы обыкновенно не говорим с женщинами о таких вещах, потому что у них нет критерия, чтобы судить об этих вопросах. Они с места в карьер начинают возмущаться, и дело неизменно кончается истерикой. Каждая считает себя единственной жертвой, а несчастье, приключившееся с ней, чем-то исключительным и небывалым. Муж не превращается в ее глазах в самого гнусного злодея, какой когда-либо существовал на земле.
Он замолк на секунду.
– Так вот, миссис ван Тьювер, болезнь, которая, по всей вероятности, вызвала слепоту вашего ребенка, называется гонорреей. Иногда ее последствия бывают ужасны. Но это случается редко, и мы считаем это заболевание пустяком, о котором не стоит беспокоиться. Я знаю, что на этот счет существуют какие-то новые теории, но я человек старый, у меня есть свой собственный опыт, и мне нужны доказательства. Нам, врачам, приходится сталкиваться с этой болезнью на каждом шагу, и если бы она действительно была смертельна, как нас пытаются убедить, то на всем свете, пожалуй, не осталось бы в живых ни одного человека. Как я уже сказал, не в моих правилась толковать об этом с женщинами, и не я привлек к этому вопросу ваше внимание.
– Прошу вас, доктор Джибсон, говорите, – сказала Сильвия, – я очень хочу знать все, что вы можете сказать мне по этому поводу.
– У вас возник вопрос о том, каким образом инфекция попала к вашему ребенку? Доктор Перрин высказал предположение, что, может быть, он… вы понимаете его опасения? Весьма возможно, что так оно и было. Мне все это только лишний раз доказало, как неразумно поступает врач, уклоняясь от своей прямой обязанности – лечить больного. Если вы хотите установить, кто именно занес болезнь, то вам следует обратиться не к врачу, а к сыщику. Я знаю, конечно, что есть люди, которые могут совмещать обязанности врача и сыщика, и притом, заметьте, без всякой предварительной подготовки и изучения той или другой профессии.
Он остановился, чтобы подчеркнуть иронию этого последнего замечания. Сильвия терпеливо ждала.
– Вам внушили мысль, – заговорил он снова, – что всему виною ваш муж, и мысль эта, несомненно, крепко засела в вашем мозгу. Поэтому необходимо, чтобы кто-нибудь поговорил с вами откровенно. Позвольте мне сказать вам, что из десяти мужчин восемь хворали этой болезнью в какой-нибудь период своей жизни. Лишь немногие из них излечились вполне, у других же эта болезнь осталась, хотя они и уверены, что совершенно здоровы. Представьте себе, что у вас насморк. Через месяц вы заявляете, что он прошел. С практической точки зрения это так и есть. Но если я возьму микроскоп, то найду, что зародыши болезни все еще сохранились на вашей слизистой оболочке, и я знаю, что вы можете передать свой насморк – и в очень тяжелой форме – какому-нибудь другому человеку с повышенной восприимчивостью. Вы можете прожить всю свою жизнь, так и не избавившись окончательно от этой болезни. Вы понимаете меня?
– Да, – тихо сказала Сильвия.
– Я говорю восемь из десяти, но в этом отношении могут быть кое-какие разногласия. Некоторые врачи скажут семь из десяти, последние же исследования показали девять из десяти. Поймите, что я говорю не о каких-нибудь кутилах и шалопаях, я имею в виду ваших братьев, если они у вас есть, ваших кузенов, ваших лучших друзей-мужчин, которые ухаживали за вами и за которых вы готовы были выйти замуж. Если бы вы узнали это о ком-нибудь из них, то, конечно, прекратили бы с ним всякое знакомство и поступили бы несправедливо, потому что, если бы вы решили отнестись так ко всем, кто когда-либо хворал этой болезнью, вам пришлось бы попросту пойти в монахини.
Старик снова сделал паузу. Затем, хмуро взглянув на нее из-под своих косматых бровей, он воскликнул:
– Говорю вам, миссис ван Тьювер, что вы несправедливы к вашему мужу. Он любит вас, и он хороший человек. Я говорил с ним и знаю, что на его совести лежит гораздо меньше грехов, чем на совести большинства мужей. Я уроженец Юга и хорошо знаю ту веселую, пылкую молодежь, с которой вы танцевали и флиртовали всю свою юность. Если бы вы узнали их секретные дела, если бы вы проникли в их тайны, вам вряд ли доставило бы удовольствие общество этих молодых людей. Я повторяю вам снова, что вы несправедливы к вашему мужу. Лишь очень немногие мужчины перенесли бы это так терпеливо, как переносит он до сих пор.
Сильвия слушала все это молча, без малейшего движения, так что старик-доктор начал даже чувствовать некоторую неловкость.
– Заметьте, – сказал он, – я не говорю, что мужчины должны быть такими. Они заслуживают хорошей взбучки, большинство из них. Лишь очень немногие достойны соединиться с хорошей женщиной. Я всегда говорил, что нет такого мужчины, который был бы достаточно хорошо для хорошей женщины. Но я держусь того мнения, что, когда вы выбираете одного из них, чтобы наказать, он обычно бывает не самый виновный, а просто тот, который имел несчастье навлечь на себя подозрение. И он знает, что это несправедливо. Он должен быть сверхчеловеком, чтобы горько не сетовать в душе на такую несправедливость. Вы понимаете меня?
– Понимаю, – ответила Сильвия все тем же подавленным голосом.
Доктор встал и положил руку на ее плечо.
– Я уезжаю домой, – сказал он, – весьма возможно, что мы никогда больше не встретимся. Я вижу, что вы делаете большую ошибку и навлекаете на себя в будущем много бед. Я хотел бы предупредить это, если бы только смог. Мне хочется научить вас более трезво относиться к жизненным фактам. Поэтому я скажу вам то, чего я никогда не предполагал говорить какой-нибудь даме.
Он смотрел ей прямо в глаза.
– Вы видите, я старик и кажусь вам вполне почтенным человеком. Я знаю, что вы посмеивались надо мной, но все же не чувствовали ко мне особого отвращения. Так вот, я должен сказать вам, что у меня была эта болезнь. Да, я хворал ею, и тем не менее у меня родилось шесть прекрасных здоровых детей. Более того, я, конечно, не могу называть имен, но знаю наверное, что среди людей, нанятых вашим мужем на этом острове, двое имеют эту болезнь. Принимая у себя в доме какого-нибудь очаровательного, прекрасного воспитанного джентльмена, вы должны помнить, что из десяти шансов восемь за то, что он хворал этой болезнью, и три или четыре из десяти за то, что он болен ею в ту минуту, когда пожимает вам руку. Ну, а теперь поразмыслите над этим и перестаньте мучить своего бедного мужа.
Приехав в Нью-Йорк, я первым делом послала Сильвии маленькое письмецо с изъявлениями моей любви к ней. Я не написала ей ничего такого, что могло бы расстроить ее, а просто напомнила, что мысленно я постоянно с ней и мечтаю о том времени, когда мы увидимся с ней в Нью-Йорке и поговорим по душам. Я вложила это письмо в простой конверт, написала адрес на машинке и отправила его по почте от имени моей стенографистки. Квитанция пришла обратно, подписанная чьей-то незнакомой рукой, должно было секретарем. Я узнала потом, что письмо это не дошло до Сильвии.
Ее муж, без сомнения, возобновил свои настойчивые требования прекратить всякие сношения со мной. Наконец он добился от нее обещания, что она напишет мне письмо, в котором сообщит свое решение. В этом письме она говорила мне, что будет избегать всякого волнения и напряжения нервов, пока кормит своего ребенка. Муж ее вызвал свою яхту, и они отправляются в Шотландию, а зиму собираются провести на Средиземном море и на Ниле. В течение этого времени она не будет переписываться со мной, но все же хочет, чтобы я знала о ее планах и верила в ее дружбу. Как только она вернется в Нью-Йорк, мы непременно увидимся.
«Случилось очень многое, чего я еще не могу уяснить себе, – прибавила она в письме. – Но в настоящее время я постараюсь не думать об этом. Вы, без сомнения, согласитесь со мной, что в течение этого года я должна быть только матерью. Я хочу, чтобы вы были совершенно спокойны за меня в течение этого времени, и еще раз повторяю: я буду только матерью, а не женой. Я покажу это письмо своему мужу перед отправкой, чтобы он в точности знал, что я делаю и как решила поступать в будущем».
– Разумеется, – сказал он, прочтя письмо, – можете послать его, если вы настаиваете на этом. Но вы должны понять, что таким образом вы только откладываете решение.
Она ничего не ответила и он в конце концов спросил:
– Вы хотите сказать этим, что не намерены принять во внимание мои требования?
– Я только хочу сказать, – спокойно ответила она, – что ради моего ребенка я откладываю на целый год все споры по этому поводу.
Я была уверена, что скоро услышу о Клэр Лепаж. И действительно, дня через два она вызвала меня по телефону.
– Я должна сейчас же увидеться с вами, – заявила она. И в голосе ее чувствовалось сильное волнение.
– Прекрасно, – сказала я, – приходите сейчас же. Она явилась в мою маленькую квартиру. Это был ее первый визит ко мне, но она даже не оглянулась кругом, даже не присела и, едва переступив через порог, воскликнула:
– Почему вы не сказали мне, что знакомы с Сильвией Кассельмен?
– Дорогая моя, – ответила я, – я совсем не считала себя обязанной говорить вам об этом.
– Вы обманули меня! – с жаром воскликнула она.
– Послушайте, Клэр, – сказала я, глядя ей в глаза, чтобы немного успокоить ее. – Вы хорошо знаете, что я не была связана тайной, и притом я ведь не причинила вам никакого вреда.
– Зачем вы это сделали? – спросила она, и, к сожалению, у нее вырвалось при этом проклятие.
– Я никогда не упоминала вашего имени, Клэр.
– А что мне толку от этого? Они все равно разузнали все. Мне расставили ловушку.
Я вспомнила в эту минуту, что мне не следует выказывать ей сожаления.
– Сядьте, Клэр, – сказала я, – и расскажите мне все по порядку.
– Я не желаю разговаривать с вами! – воскликнула она.
Но это была последняя вспышка гнева.
– Прекрасно, – ответила я. – Но зачем же вы пришли ко мне в таком случае?
Она ничего не ответила и села.
– Они перехитрили меня! – жаловалась она. – Если б я могла подозревать, в чем дело, то, конечно, сумела бы придержать язык за зубами. А так им удалось одурачить меня.
– Вы говорите какими-то загадками. Кто это «они»?
– Дуглас и эта старая лисица Росситер Торренс.
– Росситер Торренс?
Я несколько раз повторила про себя это имя и вдруг вспомнила: старый стряпчий семьи ван Тьюверов.
– Он послал мне свою карточку и сказал, что его направила ко мне Мэри Аббот. У меня, разумеется, не было никаких подозрений, и я прямо попала в ловушку. Мы поговорили немного о вас, и он даже узнал от меня, где вы живете. Но в конце концов он признался мне, что пришел вовсе не от вас, а просто ему надо было узнать, знаю ли я вас и насколько я близка с вами. Его послал ко мне Дуглас. Затем он стал требовать, чтобы я сказал ему, что я говорила вам о Дугласе и зачем я сделала это. Разумеется, я отрицала, что говорила вам о нем. Если б вы только знали, как он измучил меня!
Клэр на минуту умолкла.
– Мэри, как вы смогли сыграть со мной такую штуку?
– Мне и в голову не приходило, что я могу повредить вам, – возразила я. – Я просто старалась помочь Сильвии.
– Помочь ей за мой счет!
– Скажите мне, что вам угрожает? Вы боитесь, что они отнимут у вас пенсию?
– Они грозят сделать это.
– И приведут свою угрозу в исполнение? Клэр сердито посмотрела на меня.
– Я не знаю, могу ли я доверять вам теперь? – сказала она.
– На этот счет можете поступать, как вам угодно, – ответила я. – Я не хочу принуждать вас.
Но она поколебалась еще немного и решила наконец положиться на мое великодушие.
Полагая, что они не осмелятся сделать этого, пока Сильвия не узнает всей правды, она и явилась ко мне. Она просила меня не прибавлять больше ни слова к тому, что я уже сказала, что было низостью с моей стороны. Я сделала вид, что дружески отношусь к ней, старалась завоевать ее доверие и выслушивала ее признания. Неужели я могу желать ее окончательного разорения, желать, чтобы ее просто выбросили на улицу!
Бедная Клэр! Я говорила как-то вначале, что ей был присущ идеализм, но не знаю, подтвердилось ли это чем-нибудь в моем рассказе. Впрочем, она так быстро опускалась на дно жизни, что казалась теперь мне совсем другим человеком. А страх, внушенный ей старым адвокатом, совершенно лишил ее способности владеть собой.
– Клэр, – сказала я, – вам совершенно незачем так волноваться. У меня нет ни малейшего намерения говорить что-нибудь о вас. Я даже представить себе не могу, чтобы какие-нибудь обстоятельства побудили меня сделать это. Но если бы я и решилась на такой шаг, то рассказала бы ей о вас только при условии, чтобы она ничего не говорила своему мужу…
При этих словах Клэр снова впала в бешенство. Как я могу воображать, что какая-нибудь женщина будет в состоянии сохранить такую тайну? Да она бросит это мужу в лицо при первой ссоре. Кроме того, если только Сильвия узнает правду, она еще чего доброго захочет разойтись с ним. А если она бросит его, тогда и Клэр лишится своих доходов.
Она долго и слезливо говорила со мной о деньгах. В конце концов она умолкла, вперив взор в пространство, растерянная и изумленная. Что я, в сущности, за человек? Как я могла сделаться другом Сильвии ван Тьювер? Что Сильвия нашла во мне, и что я надеялась извлечь из Сильвии? Я коротко отвечала на все вопросы Клэр, и вдруг ее охватило жгучее любопытство, простое человеческое любопытство: что представляет собой Сильвия? Правда ли, что она так умна, как об этом говорят? На кого похож ребенок, и как Сильвия отнеслась к своему несчастью? Неужели правда, что я гостила у ван Тьюверов во Флориде, как сказал ей Росситер Торренс?
Само собой разумеется, что я не особенно пространно отвечала на эти вопросы, и думаю, что мою посетительницу еще больше огорчила моя скрытность, нежели измена, в которой она обвиняла меня. Интересно было также наблюдать некоторую неуловимую перемену в ее обращении со мной. Исчезли легкий оттенок снисходительности и прежняя фамильярность! Я сделалась в ее глазах персоной, хранительницей семейных тайн, доверенным лицом великих мира сего. Должно быть, во мне есть что-то, чего Клэр не замечала раньше.
Бедная Клэр! Теперь она исчезнет со страниц моего рассказа. На протяжении долгих лет мне случалось иногда видеть ее мельком среди ярких птиц в блестящем оперении. Но я никогда больше не разговаривала с ней, и она с тех пор уже не являлась ко мне. Поэтому я не знаю, продолжает ли Дуглас ван Тьювер выплачивать ей по восьми тысяч в год. Могу только сказать, что, когда я встречаю ее, она всегда так же нарядно одета, как и раньше, и платья ее по-прежнему не носят на себе следов прошлого сезона. Раза два мне показалось, что она слишком много пьет, но затем я увидела, что то же самое делали и другие дамы, перед которыми стояли рюмки с ярко окрашенными напитками.
До конца года я ничего не слыхала о Сильвии, за исключением того, что проскальзывало иногда в светской хронике моей газеты. Так, я узнала, например, что она провела конец лета в Шотландии, в замке своего мужа. Я сама была сильно переутомлена в то время и взяла себе отпуск. Я уехала на Запад и, вернувшись осенью, снова погрузилась с головой в работу. В это время я прочла, что ван Тьюверы плавают по Средиземному морю на своей яхте «Тритон» и собираются провести зиму в Японии.
И вот однажды, в январе, пришла телеграмма от Сильвии из Каира:
«Еду в Нью-Йорк на пароходе «Атлантик». Отвечайте, где вы?»
Я, разумеется, ответила. Затем справилась с расписанием пароходных рейсов и стала с нетерпением ждать «Атлантика».
Через два дня Сильвия прислала мне известие по беспроволочному телеграфу, и, когда огромный пароход подошел к пристани, я была в толпе ожидающих. Да, вот она, моя Сильвия, машет мне платком, а рядом с ней стоит ее муж.
Как мучительно было ждать, пока пароход медленно подходил к причалу. Было холодно, и мы могли только издали смотреть друг на друга и топать ногами, чтобы согреться. Я заметила в толпе несколько друзей ван Тьюверов, приехавших встретить их, и потому держалась в стороне. Я терялась в догадках и не знала, чем объяснить все это. Мне казалось просто невероятным, что Сильвия, пребывая вместе со своим мужем, могла пожелать, чтобы я встретила ее. Наконец спустили сходни, и поток пассажиров устремился на берег. Вместе с другими спустились и ван Тьюверы, друзья окружили их тесным кольцом. Я ждала в стороне. Наконец Сильвия сама подошла ко мне. Внешне она казалось очень спокойной, но я почувствовала по пожатию ее рук, что она глубоко взволнована.
– О, Мэри, Мэри! – прошептала она. – Я так рада видеть вас, так рада!
– Что случилось? – спросила я. Она ответила шепотом.
– Я расстаюсь со своим мужем.
– Расстаетесь со своим мужем! – воскликнула я пораженная.
– Расстаюсь с ним навсегда, Мэри.
– Но… но… – я не могла окончить фразы; глаза мои невольно обратились в ту сторону, где он стоял, спокойно разговаривая со своими друзьями.
– Он настоял на том, чтобы мы вернулись вместе для сохранения приличий. Его больше всего пугают сплетни и толки. Он поедет со мной к моим родителям и затем оставит меня…
– Сильвия! Что это значит? – прошептала я.
– Я не могу рассказывать вам здесь. Я приеду к вам. Вы живете на прежней квартире?
Я ответила утвердительно.
– Это длинная история, – прибавила она. – Я должна извиниться перед вами, что заставила вас прийти сюда, где мы не можем поговорить. Но у меня была для этого важная причина. Я никак не могу внушить моему мужу, что я говорю серьезно и вы, так сказать, моя «Декларация независимости».
Она рассмеялась немного странным смехом, и я, взглянув на нее, поняла вдруг, что моя милая Сильвия дошла до последнего предела.
– Бедняжка! – пробормотала я.
– Я хотела показать ему, что это не пустые слова. Я хотела, чтобы он видел, как мы встретимся. Дело в том, что он рассчитывает на помощь моих родителей, чтобы заставить меня изменить решение.
– Но зачем же вы едете домой? Отчего вам не остаться со мной? Рядом со мной есть как раз свободная квартира.
– А ребенок?
– В нашем доме куча ребят, – сказала я.
Но, по правде говоря, в эту минуту от волнения я почти совсем забыла о ребенке.
– А как малютка? – спросила я.
– Пойдемте. Вы можете взглянуть не нее, – сказала Сильвия.
И когда я бросила неуверенный взгляд на ее мужа, разговаривавшего со своими друзьями, Сильвия поспешила прибавить:
– Это мой ребенок, и я имею право показывать его, кому захочу.
Няня, краснощекая английская девушка в синем платье и чепчике с длинными лентами, стояла поодаль, держа на руках сверток белого шелка и кружев. Сильвия откинула покрывало, и я снова увидела то, что так взволновало меня год тому назад. Я увидела ее собственное миниатюрное изображение, ее нос, ее губы, ее золотистые волосы, но бедные маленькие глазки были безжизненны. Я в замешательстве взглянула на Сильвию, не находя слов, но лицо ее так и сияло материнской гордостью.
– Ну, не прелесть ли она! – прошептала Сильвия. – И знаете ли, Мэри, она так быстро развивается и растет! Вы просто не поверите!
«О, чудо материнской любви, – подумала я, – эта любовь еще более слепа, чем слепорожденный ребенок». Мы отошли, и Сильвия сказала мне:
– Я приеду к вам, как только устрою свою девочку. Наш поезд отправляется на юг сегодня ночью, так что я не могу терять времени.
– Благослови вас Бог, дорогая, – прошептала я.
Она пожала мне руку и подошла к своему мужу. Я стояла несколько минут и наблюдала, как она обменялась с ним несколькими приветственными словами в присутствии окружавших их друзей. И, зная глубокую муку, таившуюся в сердцах этой молодой четы, я снова изумилась силе их кастовой дисциплины.
Сильвия приехала ко мне, как обещала. Она сидела в моем большом кресле, а я любовалась ею, гордилась ее мужеством и преклонялась перед ее страданиями. Но, сознаюсь откровенно, больше всего мучило меня любопытство.
– Расскажите мне! – воскликнула я.
– Столько придется рассказывать, – ответила она.
– Скажите мне, почему вы оставляете его?
– Потому что я не люблю его, Мэри. Это главная причина. Я долго думала об этом. Я ни о чем другом не думала весь последний год и пришла к убеждению, что женщина не должна жить с мужчиной, которого она не любит. Это величайшее преступление, которое может только совершить женщина.
– О, да! – сказала я. – Если вы зашли уже так далеко…
– Да, я дошла до этого убеждения. Другие обстоятельства тоже содействовали моему решению, но они имели лишь второстепенное значение, с ними можно было примириться. Тот факт, что он хворал этой болезнью и был причиной слепоты моего ребенка…
– О! Вы узнали это?
– Да, узнала.
– Как?
– Я открыла это постепенно. В конец концов ему самому надоело, кажется, отрицать это.
Она замолкла на минуту, затем продолжала:
– Главные затруднения возникли по вопросу о моих обязанностях жены. Видите ли, я сказала ему с самого начала, что я хочу жить только для моего ребенка, только для него одного. И лишь на этом основании ему удалось убедить меня не видеть вас и не читать ваших писем. От меня требовалось только, чтобы я не задавала вопросов, была мила и приветлива, и я согласилась на это. Но затем, несколько месяцев назад, мой муж явился ко мне со своими требованиями. Он сказал, что доктора дали свою санкцию на наши половые отношения. Я, разумеется, была поражена. Ведь я думала, что он прекрасно понял, чего я хочу, перед тем как мы уехали из Флориды.
Она снова остановилась.
– Так, так, дорогая, – сказала я ласково.
– И вот теперь он начал говорить, что доктора разрешают нам спать вместе, так как всякая опасность уже миновала. Мы можем принять меры, чтобы не иметь детей. Я могла только просить, чтобы он прекратил этот разговор, который был мне крайне неприятен. Ведь он же сам убеждал меня не принимать никаких решений, пока я не кончу кормить мою девочку. Теперь я, в свою очередь, попросила его оставить меня в покое. Но Дуглас не соглашался на это. Он начал доказывать мне, что такая жизнь неестественна и что он не в силах выносить ее. Я женщина и поэтому не могу понять его. Но я убедилась, что и он никак не мог понять того, что я чувствую. Видите ли, он всегда получал все, чего хотел, и просто не знает, что значит встретить отказ. Мне кажется, что для него это было не только физическим лишением. Он видел в моем упорстве желание оскорбить его и нанести ущерб его авторитету.
Сильвия вздрогнула под влиянием этих воспоминаний и замолчала.
– Я прошла через все это, – сказала я.
– Он хотел знать, долго ли я намерена еще отказывать ему. Я отвечала, что это будет продолжаться до тех пор, пока мысль об этой болезни перестанет терзать мое сердце, пока я не буду уверена в том, что мы оба вполне здоровы и не можем передать ее друг другу. Однако спустя некоторое время я поразмыслила над этим и сказала ему прямо: «Дуглас, я должна честно сказать вам всю правду. Я никогда больше не смогу быть вашей женой. Тут дело идет уже не о ваших и моих желаниях, а о том, честно это или нет. Я не люблю вас. Я знаю теперь, что никогда, ни при каких обстоятельствах женщина не должна отдаваться мужчине, если она не любит его. Делая это, она совершает насилие над своим телом и над божественной природой своей души». «Разве вы не знали этого до своего замужества?» – спросил он. Я заметила: «Я не знала, что такое брак, и потому позволила другим убедить себя». «А ваша мать?» – воскликнул он. «Мать, позволяющая своей дочери совершить такое преступление против природы, – или рабовладелица, или сама раба», – отвечала я. Конечно, он подумал, что я сошла с ума. Он начал говорить мне о супружеских обязанностях, о сохранении домашнего очага, о том, что жена должна повиноваться мужу и так далее. Он не давал мне покоя.
Она вдруг вскочила и забегала по комнате. Я увидела в ее глазах отражение прежних баталий.
– О, какой это был ужас! – воскликнула она. – Мне казалось, что я переживаю муки всех женщин, испытавших замужество без любви. Я чувствовала себя так, как будто меня преследуют со своим желанием не один, а множество мужчин. Он начал казаться мне каким-то чудовищем. Я вздрагивала при встрече с ним, я запретила ему касаться этой темы, и он довольно долго исполнял мое требование. Но несколько недель назад он снова заговорил об этом. Тогда я окончательно вышла из себя: «Дуглас! Я не могу больше выносить этого. Я страдаю не только оттого, что мой ребенок слеп. Вы внушили мне ненависть к отцу моей дочери. Вы, точно страшная черная туча, постоянно давите на мою душу. Вы бродите вокруг меня, точно зловещий призрак, и стараетесь замкнуть меня в тесный круг ваших желаний, но я не могу больше выносить этого. Я была гордая, пылкая девушка, а вы превратили меня в бездушный автомат, в рабыню ваших глупых светских традиций. Я сделалась безвольной, вечно жалующейся, недовольной женой. Я отказываюсь быть такой. Я вернусь домой, где у людей все же сохранилось еще немного самобытности. Я поеду к отцу!» И, сказав это, я тотчас же справилась, когда идет следующий пароход.
Она замолчала и остановилась передо мной. Глаза ее сверкали, пылкая южная кровь заливала щеки.
Я молча ждала, пока она успокоится.
– Я не стану повторять всех его протестов – продолжала она. – Когда он увидел, что я действительно решила уехать, он предложил отвезти меня на яхте, но я отказалась. Я просто боялась оставаться с ним так долго вдвоем. Подчас его упорство производит на меня впечатление чего-то ненормального, почти безумного. Тогда он решил, что поедет со мной на пароходе для соблюдения приличия. Отец писал мне, что он не совсем здоров, и Дуглас заявил, что это письмо может послужить хорошим предлогом. Он пробудет там около недели, а затем отправится на охоту и больше не вернется.
– А сделает ли он это?
– Нет, я думаю, что сейчас он рассчитывает на другой исход. Он надеется привлечь на свою сторону маму, чтобы она явилась ко мне и постаралась подействовать на меня библейскими цитатами и слезами. Но я всячески стараюсь убедить его, что все это будет напрасно и не изменит моего решения. Я сказала ему, что не пророню дома ни слова о своих намерениях, пока он не уедет, и надеюсь, что он также будет молчать. Но, разумеется…
Она оборвала свою речь и через минуту спросила:
– Ну, что вы скажете, Мэри?
Я нагнулась к ней и, взяв ее за руки, сказала:
– Я радуюсь, что вы одна выдержали эту битву. Я знала, что она неизбежна, но не хотела влиять на ваше решение.
Сильвия погрузилась в раздумье. Я хорошо знала своего друга и понимала, какие чувства волнуют ее и какую жестокую борьбу она должна была вынести, чтобы принять такое решение.
– Дорогой друг, – вдруг обратилась она ко мне. – Не подумайте, что я совсем не хотела считаться с ним.
Я стараюсь уверить себя, что всегда поступала с ним честно. И все-таки у меня возникает вопрос, был ли вообще когда-нибудь мужчина, с которым я поступала вполне честно и искренно. Ведь я всегда была кокеткой до мозга костей. И вот теперь, когда мы связаны с ним и он меня любит, я не могу решить, в чем заключается мой долг? Я не могу уважать его чувство ко мне. Эта любовь отчасти объясняется тем, что я красива и нравлюсь ему, но главным образом тут играет роль уязвленное тщеславие. Я была единственной женщиной, осмелившейся посмеяться над ним, а он не лишен снобизма и поэтому решил, что я, должно быть, действительно замечательная девушка, если осмеливаюсь поступать так. Я все это высказала ему. Да! Я заставила его пройти через это унижение. Я хотела доказать ему, что он вовсе не любит меня по-настоящему, а только хочет подчинить меня себе, заставить меня восхищаться им и повиноваться его воле. Я же хочу оставаться сама собой, как и он хочет быть тем, что он есть. Вот отсюда и возникали все наши несогласия.
– Это служит причиной раздора в большинстве несчастных браков.
– Я много думала в этот последний год, – продолжала она, – о разных вещах. Мы, американские женщины, привыкли считать, что мы свободны, потому что наши мужья балуют нас, дают нам деньги и позволяют развлекаться. Но лишь только дело коснется истинной свободы ума и сердца, мы тотчас же убеждаемся, какая глубокая разница существует между нами и англичанками. Я, например, познакомилась с женой одного английского министра. Он убежденный консерватор во всех отношениях, а она горячая суфражистка. Она не только дает деньги на пропаганду, но и произносит публичные речи, и имя ее пользуется популярностью, тем не менее они живут очень дружно и счастливо. Представляете вы себе, чтобы это было с моим мужем?
– Мне казалось, что он одобряет английские устои, – сказала я.
– Там, в Англии, мы встретились с досточтимой Бетти Энверсли, сестрой его товарища. Она состоит в дружбе с воинствующими суфражистками, и мне хотелось поговорить с ней, чтобы познакомиться с образом мыслей этих женщин. Однако мой муж помешал мне увидеться с нею. И так повторялось всегда, лишь только я пробовала сделать что-нибудь такое, что могло угрожать его власти надо мной. Он желал, чтобы я подчинилась авторитету докторов по вопросу об опасности заражения венерическими болезнями. Но когда я достала книги и показала ему, что на самом деле говорят врачи по этому поводу и как велика, по их мнению, опасность заражения, то он снова рассердился на меня.
Прочтя удивление в моих глазах, Сильвия прибавила.
– Я много читала по этому вопросу, – объяснила она, – и знаю теперь все то, что должна была бы знать до своего замужества.
– Как же вам удалось достать такие книги?
– Я попробовала сначала попросить у докторов, чтобы они дали мне что-нибудь почитать, но они и слышать не хотели. Они уверяли, что это чтение не для женского ума и что, начитавшись об этих вещах, я стану только воображать разные ужасы. Тогда я решила действовать самостоятельно. Я отыскала склад медицинских книг и отправилась туда. «Я американский врач, – объяснила я книгопродавцу, – и мне нужно просмотреть последние труды по венерическим болезням». Тогда он подвел меня к полкам, и я сама достала оттуда несколько томов.
– Бедное дитя! – воскликнула я.
– Когда Дуглас увидел, что я читаю такие книги, он пригрозил, что сожжет их. Я ответила ему, что в магазине найдется еще много экземпляров, а я твердо решила узнать все, что нужно.
Она остановилась.
«Как это похоже на то, что пришлось пережить мне!» – подумала я.
– В этих книгах были главы, касающиеся жен. Я узнала оттуда, что многое от них скрывается, и поняла, почему это делается. Таким образом, мне сразу стало ясно все, что произошло со мной. Дуглас, должно быть, воображал, что так будет продолжаться вечно и что я никогда не выйду из состояния неведения. Но когда это все же случилось, он решился признаться мне…
– Он сознался вам?
Она горько улыбнулась.
– Нет. Он привез доктора Перрина в Лондон, чтобы тот сделал это за него. Доктор Перрин объявил мне, что находит нужным открыть мне правду. У моего мужа, действительно, были некоторые признаки этой болезни. Он как доктор хотел объяснить мне, почему мне сразу не сказали всю правду. Дуглас предлагал сделать это, но все врачи воспротивились. Я должна понять, какая ужасная проблема стояла перед ними, и не осуждать за это ни их, ни особенно моего мужа, который всецело подчинился в этом вопросе авторитету врачей.
– Как глупы мужчины! Как будто это может служить оправданием ему!
– Мне кажется, что я дала понять этому маленькому человечку, какое жалкое впечатление произвели на меня оба – и он, и его патрон. Но я выстрадала все, что только могла выстрадать, и не хотела больше притворяться. Я сказала ему, что было бы гораздо лучше для всех нас, если бы они с самого начала сказали мне правду.
– О, да! – воскликнула я. – Именно это я и старалась доказать им, но добилась только одного результата – собственного изгнания!
Когда поезд, в котором ехала Сильвия, подкатил к станции ее родного города, вся ее семья и множество друзей уже дожидались на платформе. Известие о том, что она прибыла в Нью-Йорк и едет домой навестить больного отца, было перепечатано в местных газетах. В результате почтенного майора засыпали телеграммами и письменными запросами об его здоровье. Тем не менее он все же настоял на том, чтобы поехать встречать свою дочь. Он вовсе не собирался перейти на больничный режим в угоду газетным сплетням обоих полушарий. И вот, нарядившись в свой лучший черный костюм из тонкого сукна, в широкополой черной, заново вычищенной шляпе, в сверкающих сапогах с квадратными носами, он прохаживался теперь взад и вперед по платформе, поджидая поезд. Сильвия бросилась прямо к нему в объятия, как только вышла из вагона.
Тут была и «мисс Маргарет». Она протиснула в дверцы семейного автомобиля свою грузную особу в широкой развевающейся одежде и готовилась пролить слезы над любимой дочерью. Тут же была и Селеста, сияющая, с целым запасом новостей, которыми она стремилась поделиться со старшей сестрой. Были тут и Пегги, и Мэри, превратившиеся в двух смешных неуклюжих подростков. И мистер Кассельмен Лайль, единственный сын и наследник, со своей гувернанткой, черноглазой и очень строгой француженкой. Наконец тут была тетя Варина, волнуемая самыми разнообразными чувствами, вызванными этим неожиданным приездом. Епископ Чайльтон и его жена были в отсутствии, но зато явилась целая делегация двоюродных братьев и сестер. Дядя Мандевиль Кассельмен прислал огромный букет роз, который лежал в семейном автомобиле, а дядя Барри Чайльтон – пару диких фазанов, собственноручно застреленных им.
Позади Сильвии, как всегда холодный и надменный, выступал мистер Дуглас ван Тьювер, а за ним семенила чудесная нянька в изумительном чепце с голубыми лентами и с не менее изумительным свертком белого шелка и кружев. Вся семья бросилась с жаром обнимать Сильвию и пожимать руку ее холодному и важному супругу. После этого всеобщее внимание устремилось на чудесный сверток, содержимое которого привело всех в необузданный восторг. Редко случалось, чтобы великие мира сего позволяли себе выражать публично столь горячие чувства. Неудивительно поэтому, что весь город сбежался на станцию полюбоваться на это зрелище.
Хотя в газетах не появилось никаких заметок по этому поводу, но в штате все знали, что ребенок Сильвии слепой, распространялся слух, что тут скрыта какая-то странная и ужасная тайна. Все это создавало вокруг молодой матери и драгоценного дитя атмосферу, полную таинственности и печали.
Как отнеслась Сильвия к своему несчастью? Как она относится к своим успехам при европейских дворах? Захочет ли она после этого знаться со своими земляками? У многих радостно забились сердца, когда она, ласково улыбаясь, дружески заговорила с ними. Даже старые негры ушли восхищенные и рассказывали всем, что «Ми Сильвия» пожала им руки. Толпа громкими криками проводила вереницу автомобилей, направлявшихся в Кассельмен Холл.
Вечером состоялся большой банкет, в котором пригодились и фазаны, присланные дядей Барри. Давно уже не собиралось столько гостей в огромной столовой, не толпилось в кухне столько слуг. Шум голосов и смех наполняли огромную комнату. Сильвия снова сияла прежней радостью и оживлением, а супруг ее был явно очарован этой патриархальной сценой. Он стал любезным, разговорчивым, остроумным и завоевал все сердца. Он сказал добряку-майору, что только теперь начинает понимать, почему южане так страстно любят свой край. В самой жизни здесь таится какое-то неуловимое очарование, возвышенность духа, придающие всем и вся особую привлекательность. И так как южане больше всего любят слышать похвалы своей родной земле, то все с восторгом выслушали Дугласа и нашли, что он одарен редким умом и тонкой наблюдательностью.
– Остерегайтесь Дугласа, папа! Он неисправимый льстец! – раздался голос Сильвии.
Она смеялась, говоря это. И только тетя Варина, единственная из всех присутствующих, уловила зловещую нотку в ее смехе и подметила горькую складку около рта. Тетя Варина и ее племянница были единственные люди, достаточно хорошо знавшие Дугласа ван Тьювера, чтобы понять всю иронию этого эпитета «неисправимый льстец!»
Сильвия сразу сообразила, что муж ее задался целью привлечь на свою сторону ее семью. Он объезжал с майором плантации и терпеливо выслушивал длинные лекции о борьбе с вредными насекомыми. Вернувшись домой, он угощал майора сигарами и слушал его воспоминания из времен детства. Он посетил епископа Чайльтона и провел довольно много времени в его кабинете, стены которого были уставлены выгоревшими томами богословских книг. Ван Тьювер сам имел в юности наставника англиканской церкви и пунктуально выполнял ее предписания. Но он почтительно выслушал доводы своего собеседника в пользу более простой формы церковной организации и унес с собой объемистый трактат о заблуждениях, касающихся «Апостольского наследства». Затем явилась тетя Ненни, властолюбивая и оживленная дама, какой она была и тогда, когда помогала молодому миллионеру жениться. И Дуглас ван Тьювер намекнул ей теперь, что ее третья дочь должна непременно навестить Сильвию в Нью-Йорке.
Его любезности в самом деле не было пределов. Он посадил к себе на колени мистера Кассельмена Лайля и дал ему поиграть своими дорогими часами, которые тот уронил на пол. Он вставал рано утром и ездил верхом с Пэгги и Мэри. Он катал Селесту в автомобиле и помог ей произвести соответствующее впечатление на молодого человека, в которого она была влюблена. Своим ласковым отношением к детям он завоевал сердце «мисс Маргарет», а терпение, с которым он выслушивал длинные рассказы о их болезнях в различные периоды их жизни, окончательно укрепило их дружбу. Сильвии, наблюдавшей за всеми его маневрами, казалось, что он задался целью связать себя с нею множеством новых уз.
Она приехала домой, чтобы найти там покой и отдохнуть в одиночестве, но оказалось это невозможным. Слепота ребенка вызвала толки о причине этого несчастья, и если бы она стала скрываться, то дала бы повод к самым худшим предположениям. В ее семье подготовлялся большой торжественный прием, на который должно было собраться все общество Кассельменского округа, стремившееся поглядеть на счастливую мать. А затем в местном клубе должен был состояться очередной танцевальный вечер, на который все явятся в надежде взглянуть на блестящую пару.
У Сильвии было такое ощущение, словно ее мать и тетки постоянно подталкивают ее сзади, приговаривая: «Иди, иди! Покажи себя! Не допускай, чтоб о тебе пошли толки».
Она терпеливо переносила эту пытку в течение нескольких недель, а затем обратилась к своему кузену Гарри Чайльтону:
– Гарри, – сказала она, – мой муж хочет отправиться на охоту. Не поедешь ли ты с ним?
– Когда? – спросил Гарри.
– В самое ближайшее время. Завтра или послезавтра.
– Я готов, – сказал Гарри. После этого Сильвия пошла к мужу.
– Дуглас, вам пора уехать, – сказала она ему. Он внимательно посмотрел на нее.
– Вы все еще не оставили этой мысли? – спросил он наконец.
– Нет, не оставила и не оставлю.
– Я надеялся, что здесь, среди близких вам людей, вы снова хоть отчасти обретете здравый смысл.
– Я знаю, на что вы надеетесь, Дуглас. Мне очень жаль, но я должна сказать вам, что нисколько не изменилась.
– Но разве мы не были счастливы здесь? – спросил он.
– Вы, может быть, но не я… Я чувствовала себя глубоко несчастной. Я не могу иметь покоя, пока вы будете преследовать меня. Я очень жалею, что приходится говорить вам это, но мне необходимо побыть одной, а пока вы здесь, развлечениям не будет конца.
– Но мы могли бы дать понять, что не ищем развлечений. Мы могли бы отыскать где-нибудь тихое местечко, недалеко от ваших родных и спокойно пожить там.
– Дуглас, – ответила она, – я уже переговорила с кузеном Гарри. Он готов ехать с вами на охоту. Пожалуйста, позовите его и распорядитесь, чтобы все было готово к завтрашнему утру. Если вы останетесь еще хотя бы на один день, я немедленно уеду на плантации дяди Мандевиля.
Наступило долгое молчание.
– Сильвия, – сказал он наконец, – как долго это будет продолжаться?
– Всегда. Мое решение твердо. Вам нужно примириться с этим.
Он молчал несколько минут, стараясь овладеть собой.
– Вы намерены оставить ребенка у себя? – спросил он наконец.
– Да. Пока еще ребенок не может обойтись без меня.
– Это теперь, а в будущем?
– Мы сговоримся насчет этого. Дайте мне немного времени, чтобы успокоиться. После этого я вернусь в Нью-Йорк и поселюсь где-нибудь около вас. Я постараюсь устроить так, чтобы вы могли видеть ребенка всегда, когда захотите. Я вовсе не собираюсь отнимать его у вас. Я хочу отнять у вас только себя.
– Сильвия, – сказал он, – подумали ли вы о том, какое горе причинит вашим родным этот разрыв?
– О, не говорите об этом теперь, – взмолилась она.
– Я знаю, – продолжал он, – что вы решили во что бы то ни стало наказать меня. Но я надеялся, что вы найдете возможным пощадить их.
– Дуглас, – возразила она, – я прекрасно видела, к чему вы стремились. Я заметила, как изменился ваш характер с тех пор, как вы приехали сюда. Вы способны сделать несчастными моих родных, и тогда я тоже буду несчастна. Вы знаете, как горячо я люблю их и что я принесла себя в жертву из-за любви к ним. Только ради них я согласилась выйти за вас замуж, но теперь я убедилась, что поступила дурно, и никакая сила в мире не заставит меня изменить мое теперешнее решение. Я не хочу жить с человеком, которого я не люблю. Я не хочу больше притворяться. Теперь вы поняли меня, Дуглас?
Он молчал. Подождав немного, она заговорила снова.
– Ну, что ж, уедете вы завтра? Он спокойно ответил:
– Я не вижу оснований, почему я, ваш муж, должен потакать вашим безумствам. Вы хотите бросить меня, но причина, которую вы приводите для объяснения своего поступка, такова, что на основании ее в нашей стране следовало бы разрушать две трети браков. Ваша собственная семья поможет мне спасти вас от гибели, к которой вы стремитесь.
– Что же вы хотите сделать? – спросила она подавленным голосом.
– Я должен буду признать, что моя жена сумасшедшая, и взять над вами опеку, пока вы снова не сделаетесь благоразумнее.
Сильвия сидела несколько минут молча, с удивлением глядя на него.
– Вы хотите остаться здесь, чтобы преследовать меня изо дня в день в этом единственном убежище, которое еще осталось у меня. Ну, хорошо, в таком случае я перестану считаться с вами. Я должна заняться тут одним делом. Но мне кажется, что, как только я приступлю к нему, вы сами захотите быть подальше отсюда.
– Что вы хотите сказать? – спросил он, бросая на нее такой взгляд, как будто она и в самом деле была сумасшедшая.
– Видите ли, моя сестра Селеста собирается выйти замуж. Это и была та удивительная новость, которую она хотела сообщить мне на вокзале. Я давно знаю Роджера Пейтона и знаю, какой репутацией он пользуется.
– Ну? – спросил он.
– Так вот, Дуглас, я не хочу оставлять мою сестру в таком же неведении, в каком я была сама, когда выходила замуж за вас. Я расскажу ей всю правду об Илэн, я скажу ей все, что ей нужно знать. Разумеется, возникнет спор со стариками, и в конце концов вся семья примется обсуждать это дело. Я уверена, что вы не захотите оставаться здесь при таких обстоятельствах.
– А могу я узнать, когда начнутся эти дебаты? – осведомился он с глубокой горечью в голосе.
– Сейчас же, – ответила она. – Я только ждала, чтоб вы уехали.
Он не произнес больше ни слова. Но она поняла по выражению его лица, что достигла своей цели. Он повернулся и вышел из комнаты. Это были последние слова, которыми они обменялись друг с другом. Затем они простились уже в присутствии всей семьи перед самым его отъездом.
Роджер Пейтон был сын и наследник одной из стариннейших семей в Кассельменском округе. Сильвия упоминала эту фамилию, когда рассказывала мне про пожар их великолепного дворца. Этот пожар произошел несколько лет назад. Соседи сбежались, чтоб потушить пламя, и, когда это не удалось, они закружились в последнем танце в роскошной бальной зале внизу, в то время как в верхних этажах, над их головами, уже бушевал огонь. После того дворец был снова отстроен, еще великолепнее, чем прежде, и престиж семьи ничуть не уменьшился после пожара. Один из сыновей был давним поклонником Сильвии, а другой женился на одной из дочерей епископа Чайльтона. Что же касается Селесты, то она уже два года усердно охотилась за Роджером и находилась теперь на верху блаженства.
Сильвия отправилась к отцу, чтобы поговорить с ним на щекотливую тему о венерических болезнях. Бедный майор никак не думал, что ему придется когда-нибудь вести такой разговор со своей собственной дочерью. Однако присутствие под его кровлей слепого ребенка мешало ему найти подходящие слова, чтобы остановить ее.
– Но, Сильвия, – протестовал он, – какие у тебя основания подозревать в том же Роджера Пейтона?
– Основанием мне служит жизнь, которую он ведет, – вставила Сильвия. – И ты знаешь, папа, что он пользуется репутацией кутилы и гуляки. Вы знаете, что он пьет и что я отказалась однажды разговаривать с ним, потому что он был пьян, когда пригласил меня танцевать.
– Дитя мое, все мужчины, как ты знаешь, должны перебеситься в молодости.
– Папа, ты не должен пользоваться в этом разговоре своим преимуществом опытного мужчины. Я не знаю, конечно, что ты подразумеваешь под словом «перебеситься»? Поговорим откровенно. Скажи, считаешь ли ты возможным, чтобы Роджер Пейтон оставался до сих пор целомудренным?
Майор смутился. Он откашлялся и наконец сказал:
– Он выпивает, Сильвия. Но больше этого я ничего не знаю.
– Я прочла в медицинских книгах, что употребление алкоголя лишает человека силы воли. При таких условиях воздержание становится невозможным. И если это так, то ты должен согласиться, что мы имеем полное основание беспокоиться о состоянии его здоровья. Как ты думаешь, чем занимается Роджер со своими товарищами, когда они в нетрезвом виде шатаются ночью по городу? Что они делают, например, во время карнавала? А. в колледже? Ведь ты знаешь, что кузен Клайв несколько раз помогал ему выпутываться из затруднительных обстоятельств. Так спроси же Клайва, мог ли Роджер подвергнуться опасности заражения?
– Дитя мое, – ответил майор, – Клайв сочтет себя не вправе сообщать мне подобные сведения о своем приятеле.
– Даже тогда, если этот приятель собирается жениться на его кузине?
– Но таких вопросов нельзя задавать, дочь моя!
– Папа, я хорошо обдумала все и хочу предложить тебе следующее. Я вовсе не намерена входить в обсуждение того, что Клайв Чайльтон считает или не считает вправе говорить о своем товарище. Я хочу, чтобы ты сам обратился к Роджеру с этим вопросом.
Лицо майора выразило глубочайшее изумление.
– Раз он собирается жениться на твоей дочери, ты имеешь право задать ему вопрос относительно его прошлого. Я хочу, чтобы ты сказал ему, что ты узнаешь имя какого-нибудь почтенного специалиста по этим болезням, к которому он должен будет обратиться. Скажи ему, что ты дашь свое согласие на этот брак только в том случае, если он принесет тебе от врача свидетельство, удостоверяющее, что он вполне здоров.
Бедный майор совсем растерялся.
– Дитя мое, слыханное ли дело, чтобы жениху делались подобные предложения.
– Я не знаю, – ответила Сильвия, – делалось ли так раньше, но думаю, что теперь настало время для этого, и первый шаг в этом направлении должен, разумеется, сделать ты. Никто не имеет на это большего права, ибо я, твоя дочь, дорогой ценой заплатила за то, что такая предосторожность не была своевременно принята.
Сильвия была готова к тому, чтобы выдержать долгое сопротивление. Она знала, что мужчины инстинктивно боятся выносить подобные вещи на дневной свет. Даже такие добродетельные люди и образцовые отцы семейства, как майор, предпочитают не затрагивать таких вопросов. Ведь это может напугать женщин в их семье и заставить дочерей предъявлять слишком высокие требования к своим мужьям. Но Сильвия не сдала своих позиций до тех пор, пока не добилась цели и не заставила отца уступить. Она пригрозила ему, что, если он не сделает этого, она сама пойдет к Роджеру Пейтону и поговорит с ним. Да, она, Сильвия Кассельмен, дает ему слово, что сделает это.
На следующий день майор вызвал Роджера Пейтона в свою контору и долго беседовал с ним. Когда Роджер ушел, Сильвия отправилась к отцу. Он шагал по комнате с погасшей сигарой в губах. Несколько других недокуренных и сломанных сигар валялось в камине.
– Ты спросил его, папа? – сказала Сильвия.
– Да.
– Что же он сказал?
– Что сказал, дочка… – Майор с силою швырнул свою сигару в камин. – Это было в высшей степени неприятно! Чрезвычайно неприятно!
Бледное старое лицо майора покрылось багровыми пятнами.
– Расскажи мне все по порядку, папа, – мягко, но настойчиво сказала Сильвия.
– Бедный юноша… Разумеется, он не мог не почувствовать себя обиженным оттого, что я нашел нужным обратиться к нему с подобным вопросом. Такие вещи не делаются, дитя мое! Он подумал, что я считаю его много хуже других молодых людей, если нахожу нужным осведомляться о подобных вещах.
Старик замолчал и опять взволнованно зашагал по комнате.
– Что же дальше, папа? – спросила Сильвия.
– Ну, он сказал, что в таких вопросах следует полагаться на честь мужчины, которого выбираешь своим зятем. Понимаешь, дитя мое, в каком неловком положении я очутился? Ведь я не мог даже намекнуть ему, почему меня так беспокоит этот вопрос. Я боялся сказать ему что-нибудь такое, что могло бы унизить твоего мужа.
– Дальше, дальше, папа…
– Ну вот, я говорил с ним по-отечески насчет его образа жизни.
– Но задал ли ты ему определенный вопрос по поводу его здоровья?
– Нет, Сильвия.
– И он не сказал тебе ничего положительного на этот счет?
– Нет.
– Так, значит, ты не сделал того, о чем я тебя просила?
– Нет, сделал. Я сказал ему, что он должен пойти к доктору.
– Ты ясно дал ему понять, что ты хочешь получить от него?..
– Да… я уверен, что да.
– И что же он ответил?
Сильвия подошла к отцу и, взяв его за руку, усадила рядом с собой на диван.
– Папа, давай говорить серьезно. Ты должен все рассказать мне.
Майор вздохнул, зажег новую сигару и до тех пор вертел ее между пальцами, пока не разломал. Он бросил ее и проговорил:
– Юноши неохотно откровенничают со стариками. Они не станут рассказывать нам ничего. Ты можешь мне поверить…
– Но что же он все-таки сказал, папа?
– Видишь ли, он не знал, что сказать. В сущности, он ничего не сказал.
Бедный майор окончательно запутался и умолк. Сильвия в упор смотрела на него.
– Говоря откровенно, папа, – сказала она через минуту, – ты думаешь, что у него есть, что скрывать, и что он не сможет представить тебе тех доказательств, о которых я говорила?
Майор продолжал молчать.
– Ты боишься, что дело обстоит именно так, и стараешься уверить себя в обратном.
И так как он продолжал хранить молчание, она прошептала:
– Бедная Селеста!
Несколько минут они оба молчали, потом Сильвия положила ему руки на плечи и, заглянув в глаза, проговорила.
– Папа, неужели ты не понимаешь, что Селесте давно уже надо было сказать об этом?
– К чему бы это привело? – в изумлении спросил он.
– По крайней мере, она знала бы, какого человека она выбирает, и могла бы избежать ужасного несчастья, которое грозит ей теперь.
– Сильвия! Сильвия! – возмутился майор. – Но ведь о таких вещах нельзя говорить с невинными молодыми девушками.
– Когда мы отказываемся сделать это, мы просто вступаем в заговор с мужчиной, который ведет разгульную жизнь, чтобы избавить его от заслуженного наказания. Возьми юношей из нашего круга. Почему они, нисколько не задумываясь, отправляются в большие города, чтобы «перебеситься» там? Или проделывают то же самое в злачных местах своего города? Разве не потому они решаются на это, что их сестры и подруги их сестер совершенно невежественны и беспомощны? Они знают, что, когда захотят жениться, никто не упрекнет их в этом. Вот, например, Селеста. Она знает, что Роджер вел разгульный образ жизни, но никто не пробовал разъяснить ей, что это значит. Она думает, что все это очень красиво, что он просто пылкий и смелый юноша, который, не задумываясь, тратит свои деньги.
– Но, дочь моя, – протестовал майор. – Ведь такие разъяснения произведут ужасное впечатление на молодых девушек и очень дурно отразятся на них.
Он встал и снова заходил по комнате.
– Дочь моя, ты становишься какой-то дикаркой! Если ты отнимешь у женщин их нежность, чистоту и невинность, то что же сможет тогда удержать мужчин от окончательного падения?
– Папа, – сказала Сильвия, – все это звучит очень хорошо, но не имеет никакого смысла. Я лишилась такой «невинности», но знаю, что не стала от этого хуже. Напротив, это помогло мне более трезво взглянуть на жизнь. И то же самое будет с каждой девушкой, если ее своевременно просветят серьезные и здравомыслящие люди. В настоящее время надо разъяснить все это Селесте, хотя я боюсь, что мы уже опоздали.
– Но он не желает, чтобы она знала об этом! – воскликнул майор.
– Но, дорогой папа, объясни мне, пожалуйста, как мы можем избежать этого?
– Я скажу ей, что она должна отказаться от этого молодого человека. Она добрая и послушная дочь…
– Да, – ответила Сильвия, – но представь себе, что в этом случае она не окажется ни доброй, ни послушной. Представь себе, что на следующий день после такого разговора она убежит и выйдет замуж за Роджера? Что ты будешь делать тогда?
В этот вечер Роджер должен был отправиться вместе со своей невестой на один танцевальный вечер, где собиралась молодежь. Селеста была уже готова и ждала его. На ней было ярко-красное платье и такие же розы в волосах. Она любила яркие цвета, потому что они шли к ее блестящим черным волосам и прекрасному цвету лица. Роджер был также очень красив со своим открытым юношеским лицом, и они обычно составляли прекрасную пару. Но в этот вечер Роджер не пришел. Сильвия помогла сестре одеться и с тревогой следила за тем, как она беспокойно ходила по холлу, поджидая своего жениха. Условленное время давно прошло, а он не показывался. Поздно вечером майон Кассельмен зашел к Пейтонам и узнал, что Роджера дома нет, и никто из его родных не знает, где он находится.
Следующий день не принес никаких известий о молодом человеке. Пейтоны по-прежнему не знали, что с ним сталось. Наконец наступил третий день, а тайна его исчезновения оставалась все такой же загадкой. Селеста была в полном отчаянии. Сильвии удалось узнать правду от Клайва Чайльтона, который сказал, что Роджер напился пьяным до бесчувствия, и товарищи укрыли его до тех пор, пока он не протрезвится.
Разумеется, слух об этом скоро проник и в семью Кассельменов. В конце концов пришлось сказать правду и Селесте, потому что она с ума сходила от беспокойства. Дамы в семействе Кассельменов собрались на совещание. Роджер, конечно, нанес своей невесте жестокое оскорбление, и необходимо было как можно быстрее реагировать на это. Но тут пришло известие, что Роджер убежал из-под надзора своих товарищей и напился еще больше прежнего. Его видели ночью на улице, где он разбивал уличные фонари, и городской полиции пришлось проявить много такта, чтобы избежать больших осложнений.
«Мисс Маргарет» отправилась к своей младшей дочери и, проливая потоки слез, передала ей решение семейного совета, который заявлял, что чувство собственного достоинства обязывает Селесту порвать с Роджером. С Селестой сделалась истерика. Она сказала, что не позволит навеки разрушить свое счастье! Роджер, подобно всем молодым людям, был, конечно, необузданный кутила, но он постарается загладить свой поступок. Селеста была уверена, что она сможет удержать его и подчинить своему влиянию. Чем больше настаивала мать, тем отчаянней рыдала Селеста. Она заперлась в своей комнате, отказалась выйти к обеду и бегала взад и вперед, отчаянно ломая руки.
Семья Кассельменов уже испытала это несколько лет тому назад, когда старшей дочери, Сильвии, приказали порвать с Франком Ширли. Но этот опыт ничему не научил их. Весь дом пришел в расстройство, и положение с каждым днем все ухудшалось. Известия о женихе становились все неутешительнее. Можно было подумать, что он окончательно сошел с ума; даже его собственный отец не мог больше сдерживать его, и, если верить полисменам, он с яростью набрасывался на них, когда они пытались угомонить его. Как видно, он хотел опровергнуть неписаный закон этого штата о том, что сыновья «лучших фамилий» не подлежат аресту.
Бедная Селеста с заплаканным бледным лицом обратилась к своей старшей сестре с последней надеждой. Не может ли Сильвия как-нибудь повлиять на Роджера и заставить его образумиться? Пусть она повидается с кем-нибудь из его товарищей и узнает от них, что значит его поведение?
Сильвия согласилась и отправилась к кузену Клайву. У него произошел с ней самый замечательный разговор, какой этот молодой человек вел когда-нибудь в жизни. Сильвия заявила ему, что хочет узнать всю правду относительно Роджера Пейтона, и после перекрестного допроса, который сделал бы честь любому судебному защитнику, она добилась, наконец, истины. По-видимому, все молодые люди в городе знали, как обстоит дело, и трепетали от страха с той минуты, как узнали, что майор Кассельмен призывал к себе Роджера и отказался выдать за него свою дочь, пока тот не представит ему некое медицинское свидетельство. А он не мог его представить! Да и нашелся ли бы во всем городе хоть один молодой человек, который мог бы получить такое свидетельство? Что же оставалось делать бедному Роджеру? Он напился и решил пить до тех пор, пока Селеста сама не откажется от него.
После этого Клайв, в свою очередь, решил высказаться откровенно.
– Послушай, Сильвия, – сказал он, – раз уж ты заставила меня говорить об этом…
– Ну, что же, Клайв?
– Знаешь, что говорят люди?.. Я хочу сказать, как они объясняют, почему майор поставил такое условие Роджеру?
– Я думаю, Клайв, что это имеет некоторое отношение к Илэн, – спокойно ответила Сильвия.
Вот именно! – воскликнул Клайв. – Они говорят… – он вдруг смутился и замолк, не решаясь повторить то, что слышал. – Наверно, Сильвия, тебе не доставит удовольствия говорить об этом…
– Разумеется, Клайв, я предпочла бы избегать таких разговоров, но страх перед ними не заставит меня пренебречь интересами сестры.
– Но, Сильвия! – воскликнул юноша. – Ты не можешь понять этого! Женщины вообще не могут разбираться в таких вещах…
– Ты ошибаешься, мой дорогой кузен, – возразила она, и голос ее звучал твердо и решительно. – Я прекрасно понимаю все.
– Ну, хорошо, – воскликнул Клайв, придя в отчаяние. – Так я скажу тебе следующее: Селесте будет очень трудно найти другого жениха.
– Ты хочешь сказать, Клайв, что большинство молодых людей…
– Да, если ты так ставишь вопрос.
Несколько минут длилось молчание, потом Сильвия заговорила снова:
– Попробуем подойти к этому вопросу практически, Клайв. Не кажется ли тебе, что со стороны Роджера было бы гораздо благоразумнее, если бы он, вместо того чтоб напиваться пьяным, попробовал полечиться.
Клайв взглянул на нее с глубоким изумлением.
– Ты думаешь, что тогда Селеста могла бы выйти за него замуж?
– Ведь ты говоришь, Клайв, что все молодые люди более или менее находятся в таком положении. Не можем же мы требовать, чтобы все молодые девушки стали монахинями. Отчего же кто-нибудь из товарищей не указал на это Роджеру?
– Сказать правду, – ответил Клайв, – мы пробовали говорить с ним об этом.
Он говорил теперь гораздо более дружественным тоном, почувствовав внезапное уважение к Сильвии.
– Ну? – спросила она. – И что же?
– Он не хотел ничего слушать.
– Потому что был пьян?
– О, нет, нам удалось почти совсем отрезвить его, но, видишь ли… – Клайв остановился в замешательстве. – Дело в том, что Роджер был у доктора, и тот заявил ему, что для полного излечения потребуется год, а то и два.
– Клайв! – воскликнула Сильвия. – Клайв! И, несмотря на это, он хотел жениться?!
– Видишь ли, Сильвия… – Молодой человек снова запнулся. Он весь побагровел от смущения, но наконец, собравшись с духом, выпалил.
– Видишь ли, доктор сам посоветовал ему жениться. Он сказал, что для него это единственная возможность вылечиться.
– О! О! – вскричала Сильвия, пораженная его словами. – Я не могу поверить этому!
– Именно так говорят доктора, Сильвия. Ты не понимаешь этого. Ведь я же говорил тебе, что женщина не способна понимать такие вещи. Это касается особенностей мужской природы.
– Но, Клайв… а как же жена и ее здоровье? Разве жена не пользуется в этом отношении никакими правами?
– Дело в том, Сильвия, что люди не считают эту болезнь такой серьезной. Ты понимаешь, это не та болезнь, которой все боятся. Она не причиняет большого вреда…
– Посмотри на Илэн. Разве это не ужасно?
– Да, но такие вещи случаются редко, и доктора говорят, что их можно предупредить. Во всяком случае, мы, молодежь, ничего не можем с этим поделать! Если бы это было в наших силах, то мы, конечно, постарались бы избавиться от такого «удовольствия».
Сильвия на минуту задумалась и снова вернулась к интересовавшему ее вопросу.
– Для меня ясно, что должен сделать Роджер. Он молод, а Селеста еще моложе. Они могут подождать года два, пока Роджер полечится, и все устроится к общему благополучию.
Но Клайв, по-видимому, не особенно обрадовался такой перспективе, и Сильвия, хорошо знавшая Роджера Пейтона, сейчас же догадалась, почему он так холодно отнесся к ее предложению.
– Ты думаешь, что у него не хватит силы воли воздерживаться год или два? – спросила она.
– Сказать тебе по правде, мы уже толковали с ним об этом, и он сказал, что не может связать себя никакими обещаниями.
– Хорошо, Клайв, это решает дело, – ответила Сильвия. – Ты должен помочь мне найти для Селесты человека, который любил бы ее немного больше, чем Роджер.
Днем приехала тетя Пенни, жена епископа, в шуршащем коричневом шелковом платье, соперничавшем по цвету и блеску с коричневой мастью ее лошадей. Как оказалось, многие интересовались историей Роджера Пейтона и разузнали всю правду. Тетя Ненни устроила спешное совещание, на которое вызвали Сильвию, совершенно так же, как в тот достопамятный день, когда на семейном совете разбиралось дело Франка Ширли.
«Мисс Маргарет» и тетя Варина были настроены не менее торжественно, чем тогда, и имели такой же испуганный вид. И точно так же, как тогда, тетя Ненни первая обратилась к Сильвии:
– Сильвия, знаешь ли ты, что говорят о тебе люди?
– Да, тетя Ненни, – ответила Сильвия.
– Ах, значит, ты знаешь?
– Конечно. И знала заранее, что они будут говорить. Что-то в лице Сильвии, еще больше облагороженном перенесенными страданиями, заставило миссис Чайльтон принять более сдержанный гон.
– Подумала ли ты, какое это унижение для твоих родных? – сказала она.
– Я убедилась, тетя Ненни, – ответила Сильвия, – что на свете существуют большие огорчения, чем те, которые могут доставить пустые толки.
– Я не представляю себе, – заявила тетя Ненни, – что может быть неприятнее, чем сделаться предметом таких сплетен и разговоров, какие происходят теперь вокруг нашей семьи. У нас считалось до сих пор традицией скрывать от посторонних всякие неприятности и огорчения.
– В этом случае, тетя Ненни, молчание навлекло бы еще больше горя, много больше. Я подумала о своей сестре и о других девушках из нашей семьи, которых тоже могут принести в жертву ради честолюбия их родных. Сильвия замолкла на минуту.
– Сильвия, мы не можем взять на себя задачу спасать мир от последствий его греховности! – воскликнула тетя Ненни. – Господь сам карает виновных, и пути его неисповедимы.
– Может быть. Но Господь вряд ли желает, чтобы наказание падало на невинных девушек. Подумайте хотя бы о своих собственных дочерях, тетя Ненни!
– О моих дочерях! – перебила ее миссис Чайльтон.
– Но затем, овладев своим негодованием, добавила:
– Надеюсь, ты позволишь мне самой позаботиться о моих детях.
– Я заметила, дорогая тетя, что Люси Мэй сильно покраснела, когда Том Олдрич вошел в комнату прошлый раз вечером. А вы заметили что-нибудь?
– Да… Что ж из этого?
– Это значит, что Люси Мэй неравнодушна к Тому.
– А почему бы ей не влюбиться в него? Я нахожу, что он вполне подходящая партия.
– Но ведь вы знаете, тетя Ненни, что он принадлежит к компании Роджера Пейтона. Вы знаете, что он шатается в пьяном виде по городу вместе с самыми бесшабашными друзьями? И несмотря на это, вы допускаете, чтобы ваша дочь имела на него виды? Вы не предприняли никаких шагов, чтобы разузнать, может ли он жениться, и не предостерегли свою дочь…
Миссис Чайльтон побагровела от гнева:
Предостерегать мою дочь? Слыханное ли это дело! Верю, что вы никогда не слыхали об этом, но вы скоро услышите, – спокойно возразила Сильвия. – Я говорила прошлый раз с Люси Мэй…
– Сильвия Кассельмен! – воскликнула миссис Чайльтон, но, вспомнив, должно быть, что она имеет дело с опасной сумасшедшей, заговорила более сдержанным тоном.
Сильвия, неужели ты решилась отравить своими речами душу моей юной дочери?..
– Вы хорошо воспитали ее, ответила Сильвия, когда тетка ее запнулась, не находя слов от возмущения. – Она даже не захотела слушать меня. Она сказала, что молодые девушки не должны знать о таких вещах, но я указала ей на Илэн, и это повлияло на нее, как должно повлиять и на вас, тетя Ненни.
Миссис Чайльтон в упор смотрела на свою племянницу. Грудь ее высоко вздымалась от волнения. Вдруг она с негодованием обратилась к миссис Кассельмен.
– Маргарет, неужели ты не можешь положить конец этому скандалу? Я требую, чтобы сплетни и толки, позорящие честь семьи, к которой я принадлежу, наконец прекратились. Мой муж – епископ этой епархии, и если наше древнее и незапятнанное имя не имеет значения для Сильвии ван Тьювер, то, может быть, достоинство и авторитет церкви…
– Тетя Ненни, – перебила ее Сильвия, – не нужно напрасно вмешивать в это дядю Базиля. Боюсь, что вам придется примириться с тем фактом, что ваш авторитет в нашей семье с этого времени уменьшится. Вы, более, чем кто-либо, способствовали браку, который разбил мне жизнь. А теперь вы хотите повторить то же самое по отношению к моей сестре и к своим собственным дочерям. Вы хотите выдать их замуж, не заботясь ни о чем, кроме социального положения их будущих мужей. И сыновей своих вы заставляете точно так же искать богатых невест. Вы помешали Клайву жениться на бедной девушке из этого города, а между тем ничего не имеете против того, чтобы он водил компанию с людьми, подобными Роджеру Пейтону и Тому Олдричу, и знакомился со всеми пороками, которым могут научить его женщины в публичных домах.
Бедная «мисс Маргарет» несколько раз тщетно пыталась прервать горячую речь своей дочери, но тут и она, и тетя Варина воскликнули одновременно:
– Сильвия! Сильвия! Ты не должна так говорить со своей теткой.
Но Сильвия взглянула на них своими печальными глазами и сказала:
– С этой минуты я всегда буду так говорить. Вы просто невежественные дети. Я сама была такой, но теперь я знаю все, и я говорю вам: посмотрите на Илэн, посмотрите на мою девочку, и вы увидите, к чему привело одну из ваших дочерей поклонение Мамоне.
После этой вспышки все родные стали относиться к Сильвии с некоторым страхом. Она являлась в их глазах чем-то вроде ангела-мстителя, которого Господь послал, чтобы наказать их за грехи. Разве можно упрекать в нарушении приличий ангела-мстителя? С другой стороны, разумеется, нельзя было не прийти от этого в ужас, который легко можно было прочесть на их лицах. Толки и сплетни все разрастались, как предсказывала тетя Ненни, и во всех уголках округа Кассельмен только и говорили, что о слепоте ребенка миссис Дуглас ван Тьювер и о том, что она начала из-за этого поход против приличий и женской скромности.
Общие семейные совещания прекратились, потому что дамы считали невозможным говорить о таких неприличных вещах с мужчинами, и теперь мужчины совещались с мужчинами, дамы с дамами, причем каждый «совет» посылал Сильвии свою делегацию, чтобы изложить ей свою скорбь по поводу происходящего. Бедная, беспомощная «мисс Маргарет» ломала руки и имела такой вид, как будто она похоронила всех своих детей.
– Сильвия! Сильвия! – восклицала она. – Понимаешь ли ты, что теперь все о тебе говорят?
Это было самое худшее бедствие, которое только могло постигнуть женщину в Кассельменском округе: служить предметом сплетен и разговоров.
– Они уже говорили о тебе, когда ты хотела выйти замуж за Франка Ширли! А теперь… теперь они никогда не перестанут говорить о тебе!
Потом являлся отец. Он любил свою старшую дочь больше всего на свете и был в душе справедливым человеком. Он не мог спорить с ней. Да, что говорить, она права, права! Но когда он уходил, волны скандала и позора снова приводили его в смятение.
– Дитя мое, – молил он ее, – подумала ли ты, как это отзовется на твоем муже? Подумала ли ты, что, стараясь защитить других, ты кладешь на Дугласа клеймо, от которого он не избавится всю свою жизнь?
Дядя Мандевиль приехал из Нового Орлеана, чтобы посмотреть на свою любимую племянницу. Но волна сплетен обдала его, лишь только он вышел из вагона, и от всех этих толков он пришел в такое сильное возбуждение, что отправился прямо в клуб и там напился до потери сознания.
Кузен Клайв рассказал потом Сильвии, как дядя Мандевиль отказывался верить тому, что ему говорили, и клялся, что перестреляет их всех, если они не перестанут сплетничать про его племянницу. Клайв добавил с мрачной усмешкой:
– Я сказал ему, что если Сильвии будет предоставлена полная свобода действий, то ему придется перестрелять добрую половину жителей этого города. Он же поклялся Богом, что по крайней мере эти негодяи получат по заслугам. Он решительно встал с постели и принялся искать свои брюки и револьверы, так что нам в конце концов пришлось вызвать по телефону майора, дядю Барри и двух гигантов-сыновей дяди Мандевиля.
Сильвия все же исполнила свое намерение и поговорила откровенно с Селестой, которая не находила себе места от тоски. На следующий день явилась тетя Варина и, едва сдерживая свое негодование, воскликнула:
– О Сильвия, как это ужасно! Слышать подобные вещи из невинных уст твоей юной сестры. Ее слова напомнили мне змей и жаб, которые вылетают изо рта известного героя волшебной сказки. Подумать только, и такие мысли могут гнездиться в мозгу молодой девушки! Сильвия, твоя сестра заявила, что никогда не выйдет замуж. Ты научила ее ненавидеть мужчин… Ты хочешь сделать из нее «передовую женщину».
В этом понятии заключался для членов семьи Кассельменов целый мир ужасов. Сильвия не могла припомнить такого времени, когда бы ее не подстерегали: помни, когда ты высказываешь какое-нибудь мнение, то непременно заканчивай его вопросом, «не думаете ли вы, что это так?» или чем-нибудь в этом роде, иначе мужчины вообразят, чего доброго, что ты «передовая женщина».
Сильвия не раз слышала в юности разные смутные намеки и слухи, и только теперь, приобретя жизненный опыт, она начинала уяснять их истинное значение. Когда она была молоденькой девушкой, в их доме бывал один господин, который никогда не снимал перчаток. Ей сказали тогда, что он страдает какой-то кожной болезнью. Теперь из разговора со своими замужними приятельницами она узнала, что господин этот после женитьбы уже не мог встать с инвалидного кресла, а жена его родила ребенка с чудовищной головой и умерла вследствие тяжелых родов.
О, как много таких печальных открытий сделала Сильвия в своем родном городе, в кругу своих друзей и знакомых. Целый ряд вымерших идиотов, эпилептиков, паралитиков! Невинные дети, еще в утробе матери обреченные на муки за грехи отцов. Женщины, скрывающие от света свои страдания, причем очень часто они так и не понимали до конца своих дней, от чего страдают. Вот, например, бедная миссис Валене, которая проводит все дни полулежа на веранде одного из самых роскошных домов в округе. Она показывает своим друзьям ладони рук, покрытые какими-то буграми и чешуей, восклицая:
– Что это может быть, как вы думаете?
А ведь она была красавицей в дни молодости «мисс Маргарет». Она вышла замуж за человека, который был богат, красив, остроумен и… развратен. Теперь он пил без просыпа, двое его детей умерли в лечебнице, а третий страдал какой-то сложной болезнью костей и суставов, так что его приходилось периодически на много месяцев класть в гипс. Жена же его, когда-то любимица общества, теперь проводила целые дни, неподвижно лежа на веранде и читая Книгу Иова, которую она знала уже наизусть.
Но представьте себе, когда Сильвия вернулась домой, взволнованная тем, что слышала, и рассказала родным эту печальную историю, единственное, что произвело на них впечатление, это Книга Иова! Под бременем ниспосланных ей страданий мисс Валене стала набожной: разве можно не увидеть в этом перст Божий?
– Недаром сказано, – резюмировала «мисс Маргарет», – кого любит, того и наказует. В священном писании сказано: грехи отцов взыщутся на детях до четвертого и даже до седьмого колена. Разве Господь сказал бы нам это, если бы он не знал, что такие дети будут?
Я не могу обойти молчанием в этой части своей повести миссис Армистэд, самую циничную особу в городе, которая послужила для Сильвии источником сведений в этот критический период ее жизни. Миссис Салли Армистэд имела двух сыновей, с которыми Сильвия охотно играла в детстве, несмотря на протест своей семьи.
– И чего вы водитесь с ребятами миссис Армистэд, Сильвия? – кричала ей кухарка, тетя Мэнда.
Но в то время как отец Салли собирал хлопок, она заботилась о своем цвете лица и фигуре и в конце концов вышла замуж за молодого способного купца. Теперь он был одним из самых богатых собственников «негритянских лавок», а жена его пользовалась славой самой злоязычной особы во всем округе.
Если бы миссис Армистэд родилась герцогиней, она, наверное, оставила бы свое имя в истории. Она была единственной женщиной во всем округе, которая осмеливалась иметь свое мнение и не боялась высказывать его. При этом она пользовалась всеми аксессуарами светских женщин, как, например, лорнетом, и нередко доводила людей до панического состояния, в упор рассматривая их. Разумеется, она не позволяла себе ничего подобного в отношении Кассельменов, но горе было мелкой рыбешке, которая попадалась на ее пути! От зорких глаз миссис Армистэд не могла укрыться ни одна человеческая слабость, но ее острый ум приводил в восторг даже тех, кто становился его жертвой. Про нее ходили целые легенды. Рассказывали, как однажды, узнав о смерти своего злейшего врага, молодой красивой женщины, она отправилась посмотреть на покойницу. Когда она вышла из комнаты, где лежало тело, чей-то расстроенный голос спросил ее: «А как выглядит наша бедная Руфь?» «О, – ответила миссис Армистэд, – как всегда: такая же старая и бесцветная».
Встретив как-то на улице Сильвию, она остановила ее.
– Ну, дорогая моя, как идет ваша кампания в пользу евгеники?
И так как Сильвия глядела на нее в немом изумлении, миссис Армистэд, не смущаясь, начала болтать о погоде.
– Вы представить себе не можете, в какое волнение вы привели наше маленькое лягушечье болото. Зайдите как-нибудь ко мне, я расскажу вам, что тут болтают. Знаете ли вы, что вы обогатили наш словарь?
– Во всяком случае, я заставила кое-кого заглянуть в словарь, чтобы узнать значение слова «евгеника», – ответила Сильвия, быстро овладев собой.
– О, не только это, моя дорогая. Вы создали новый медицинский термин – «вантьюверовская болезнь». Разве это не великолепно!
Сильвия содрогнулась перед этой дьявольской язвительностью, но, вспомнив, что она единственная умела когда-то обуздывать дьявола в образе миссис Армистэд, молодая женщина ответила:
– В самом деле? Надеюсь, что такое аристократическое название помешает болезни принять эпидемический характер.
Миссис Армистэд пришла в восторг.
– Сильвия Кассельмен! – воскликнула она. – Я всегда утверждала, что вы были самой интересной женщиной в мире, если бы не примесь добродетели.
И экспансивная миссис Армистэд заключила Сильвию в свои объятия.
– Дорогая моя, – продолжала она, – вы понятия не имеете о том, какое смятение вы вызвали здесь. Молодые замужние женщины собираются в своих будуарах и поверяют друг другу шепотом ужасные тайны; некоторые уверены, что они уже больны, другие же заявляют, что они вполне доверяют своим мужьям – как будто можно доверять мужчинам! Слыхали ли вы о бедной миссис Патти Пейтон? У нее была корь, но она послала за специалистом, подозревая что-то другое. Она читала об этих болезнях, знает все симптомы и требует, чтобы ей произвели анализ крови. А маленькая миссис Стэнли Пендльтон разошлась со своим мужем, и все говорят, что причина в этом. У мужчин просто поджилки трясутся, они украдкой пробираются по черному ходу в приемные докторов, и уже целый вагон молодежи отправился на горячие источники…
Так рассказывала миссис Армистэд, наслаждаясь тем, что может пройтись по главной улице с миссис Дуглас ван Тьювер.
А Сильвия, вернувшись домой, узнала новости, показавшие ей, как реагирует ее семья на эти события. Тетя Ненни обнаружила, что Базиль младший, ее пятый сын, завел в городе любовную интрижку с одной мулаткой. Она запретила ему бывать в Кассельмен Холле, опасаясь, что Сильвия выведает у него эту тайну. Кроме того, она отправила Люси Мэй погостить к подруге, а затем явилась к миссис Кассельмен и стала уговаривать ее сделать то же самое с Пэгги и Мэри, пока Сильвия не испортила этих детей.
Приехал епископ, которому приказано было вернуть на путь добродетели свою заблудшую племянницу. Бедный дядя Базиль! Он уже пробовал когда-то наставлять Сильвию, но из этого ничего не вышло. Он слишком любил ее и, несмотря на всю богословскую премудрость семнадцатого века, не мог отрицать, что у нее есть очень много шансов на спасение. Когда он вошел к ней, первое, что бросилось ему в глаза, была его маленькая слепая внучатная племянница.
Кроме того, в душе епископа еще хранились воспоминания о тех днях, когда он был богатым и жизнерадостным молодым плантатором; как легкомысленно он играл с огнем порока и как сильно обжегся тогда! Вот почему Сильвия и видела перед собой вместо авторитетного проповедника слова Божьего, только заклеванного, несчастного мужа одной из властных представительниц рода Кассельмен.
Вдруг «мисс Маргарет» пришло в голову, что в такое тревожное время Сильвии не следует быть вдали от мужа. Что если люди начнут говорить, будто они разошлись? Снова начались семейные совещания, но в это время от ван Тьювера пришло известие, что дела призывают его на Север.
К Сильвии явилась семейная делегация, настаивая, чтобы она поехала к мужу. Она ответила им, что если ее не оставят в покое и не перестанут мучить вопросами, то она поедет в Нью-Йорк и поселится там с одной приятельницей-социалисткой, которая к тому же разведена с мужем.
«Они, конечно, уступили, – писала она мне. – Спустя полчаса бедная милая мама пришла ко мне в комнату и сказала: „Сильвия, дорогая, поступай, как хочешь. Но я прошу тебя, сделай мне маленькое одолжение!" Я приготовилась к новым испытаниям, а она спросила: „Не поедешь ли ты завтра вечером с Селестой на котильонный вечер, чтобы люди не подумали чего-нибудь…"»
Роджер Пейтон уехал на горячие источники, а Дуглас ван Тьювер был в Нью-Йорке, и, таким образом, буря вокруг Кассельмен Холла мало-помалу улеглась. Сильвия была поглощена заботами о своем ребенке и начинала понемногу втягиваться в жизнь своей семьи. Она нашла, что может быть во многих отношениях полезна своим близким: она старалась удерживать дядю Мандевиля от пьянства, умеряла, как могла, расточительность Селесты и ухаживала за Кассельменом Лайлем, когда ему случалось объесться зелеными яблоками. В этом будет заключаться теперь моя жизнь, говорила себе Сильвия и начинала уже находить радость в таком существовании, как вдруг одно событие, словно удар грома с ясного неба, разрушило все се скромные надежды на душевное спокойствие.
Это произошло в марте. Солнце ярко светило, и южная весна была уже в полном расцвете. Сильвия приказала запрячь в старую семейную коляску пару столь же старых и смирных лошадей и отправилась с сестрами в город за покупками. На переднем сиденье расположилась Селеста с двумя своими подругами, а на заднем – Сильвия с Пэгги и Мэри.
Когда экипаж останавливался на улицах города, молодые люди выходили из банков и контор и окружали его, чтобы поболтать с девушками. Из кондитерской, перед которой остановилась коляска, вынесли огромный поднос с мороженым. Дамы сидели в экипаже и ели мороженое, а молодые люди стояли вокруг, не смущаясь тем, что в этот день они уже несколько раз лакомились мороженым по такому же поводу. Судя по статистике, город быстро богател и развивался, но никакие дела не могли удержать молодых людей за конторкой, когда им представлялся случай полюбезничать с дамами.
Сильвия с удовольствием смотрела на эту картину и вспоминала счастливые дни своей юности, когда заботы и горе еще не коснулись ее. Она так глубоко погрузилась в свои думы, что перестала слышать веселую болтовню и чувствовать вкус мороженого. Как она любила этот старый город с его улицами, покрытыми теперь черной весенней грязью, с грязными телегами и лошадьми, которых можно было увидеть у каждого телеграфного столба! Его банки, магазины и конторы, конечно, показались ей очень жалкими после того, как она объехала полмира, но тем не менее они оставались все так же дороги ее сердцу. Она проведет остаток своих дней в Кассельменском округе, а солнечный Юг и окружающий покой вернут ей утраченную ясность духа.
И вот, когда она думала об этом, случилось то совершенно непредвиденное событие, о котором я упомянула. Из боковой улицы выехал всадник, в костюме цвета хаки, и пересек главную улицу немного впереди экипажа. Фуражка его, тоже цвета хаки, была низко надвинута на лоб; он ехал быстро, то появляясь, то исчезая среди людей, так что Сильвия не могла как следует рассмотреть его. Правильнее будет сказать, что она лишь неосознанно скользнула по нему взглядом – так далеки были в этот момент ее мысли. Но где-то в глубине ее существа вдруг поднялась тревога, по телу пробежала дрожь, сердце застучало.
Волнение медленно возрастало. В чем дело? Что случилось? Какой-то человек проехал мимо, но почему же?.. Неужели это мог быть?.. Нет. Сотни мужчин в Кассельменском округе носят хаки, ездят верхом и обладают такой же коренастой фигурой. Но разве она могла ошибиться? Разве мог обмануть ее инстинкт? Ведь именно таким она увидела его в первый раз на охоте много лет назад! Он уехал на Запад и сказал, что никогда не вернется. Много лет о нем не было ни слуху ни духу. Но как странно, что один вид всадника, который напоминал его фигурой, одеждой и манерой ездить верхом, мог так сильно взволновать ее! Как легко разлетелись все ее мечты о душевном покое!..
Она услышала шум колес около их экипажа и, обернувшись, встретилась с острыми глазами миссис Армистэд. Сильвия сидела с краю и не участвовала в общей беседе. Миссис Армистэд тотчас же подъехала с этой стороны на своем автомобиле, боясь упустить такой прекрасный случай. Взглянув на ее лицо, полное невыразимого злорадства, Сильвия в мановение ока поняла две вещи: во-первых, что это действительно был Франк Ширли и, во-вторых, что миссис Армистэд тоже видела его.
– Еще один кандидат для вашего класса по изучению евгеники, – сказала ядовитая дама.
Сильвия бросила быстрый взгляд на молодежь и увидела, что она ничего не заметила. Можно было, конечно, завязать общий разговор и избавиться таким образом от этого дьявола в юбке, но Сильвия еще пи разу в жизни не отступала перед миссис Армистэд и не собиралась доставить ей удовольствие рассказывать потом направо и налево, что Сильвия ван Тьювер узнала Франка Ширли и это так подействовало на нее, что она поспешила укрыться за юбками своих маленьких сестриц.
– Вы видите, что моя коляска полна учениц, – ответила она улыбаясь.
– Как вы должны быть счастливы, Сильвия! Ведь так отрадно приехать домой и встретить всех своих старых друзей. Ваше сердце, должно быть, трепещет от восторга… Точно ангелы поют над вами в небесах… Золотые колокольчики звенят вокруг вас…
Сильвия тотчас же узнала свои собственные слова. Этими фразами она старалась описать когда-то своей лучшей подруге, Гарриет Аткинсон, радости первой любви. Так, значит, Гарриет пустила их по городу, и нашлись люди, которые запомнили их на много лет!..
Но она, разумеется, не могла признать себя их автором.
– Миссис Армистэд, я и не подозревала, что в вас столько поэзии! – возразила Сильвия.
– Я просто импровизирую, душечка… Импровизирую, глядя на цвет ваших щечек в данную минуту, – ответила миссис Армистэд.
У Сильвии не было другого выхода, как только смело ответить на вызов.
– Вы, конечно, понимаете, что я взволнована, ведь я и представления не имела о том, что он вернулся с Запада.
– Говорят, что он оставил там жену, – с невинным видом заметила миссис Армистэд.
– А! – произнесла Сильвия. – В таком случае он, наверно, недолго пробудет здесь.
Наступила пауза. Вдруг миссис Армистэд заговорила мягким, ласковым голосом:
– Сильвия, – сказала она, – не думайте, что я не понимаю, что происходит в вашем сердце. Я умею отличать подлинное чувство. Если бы вы знали в те времена то, что вы знаете теперь, то этот очаровательный роман не кончился бы трагедией.
Можно было подумать, что в миссис Армистэд пробудились вдруг лучшие струны ее души. Но Сильвия знала эту женщину. Она много раз наблюдала, как миссис Армистэд искусно завлекала свою жертву.
– Да, миссис Армистэд, – сказала она мягко. – Но у меня по крайней мере есть утешение, что я сделалась мученицей науки.
– Каким образом?
– Разве вы забыли новый медицинский термин, который я дала миру?
Миссис Армистэд несколько минут смотрела на нее в изумлении.
– Да, Сильвия, – прошептала она, отдавая ей должное. – Да, вы можете постоять за себя!
– Разумеется, – ответила Сильвия. – Расскажите об этом другим моим друзьям в городе.
Битва кончилась, и миссис Армистэд покатила дальше.
Сильвия долго не могла прийти в себя и отвечала невпопад детям, щебетавшим вокруг нее. Ее испугало волнение, которое она почувствовала при виде Франка Ширли. Достаточно было ей увидеть его верхом на улице, чтобы прошлое с новой силой всколыхнулось в душе. Она забыла миссис Армистэд, забыла весь мир, смущенно прислушиваясь к тому, что происходило в ее сердце. Она навсегда вычеркнула Франка Ширли из своей жизни и из своих мыслей, и ей казалось странным и неестественным, что она могла так волноваться.
Ее удивляло поведение родных. Знали ли они, что Франк Ширли вернулся? А если знали, то почему не сообщили ей об этом. На минуту у нее мелькнула мысль, что они, быть может, не считали это известие интересным для нее. Но нет, кассельменские дамы вовсе не были так наивны, они только притворялись ради приличия. Но как глупо было с их стороны не предупредить ее! Ведь она могла внезапно столкнуться с Франком в присутствии посторонних! Тогда она, наверное, выдала бы свое волнение, и как раз теперь, когда все взоры направлены на семью Кассельменов.
Сильвия решила, что в будущем постарается избегать встречи с ним. Она будет сидеть дома, пока он не уедет. Если у него осталась на Западе жена, то он, наверное, недолго пробудет здесь. По всей вероятности, он приехал только, чтобы навестить мать и сестер. Сильвия старалась убедить себя, что ей безразлично, есть у Франка Ширли жена или нет. Какое это может иметь значение, если сама она, Сильвия, замужем? Однако она не могла отрицать, что известие о женитьбе Франка Ширли причинило ей боль. Какую жену он мог найти себе на дальнем Западе, где сам был чужестранцем? И почему он не привез ее с собой к своим родным?
Когда Сильвия вышла из коляски, то решение было принято. Она никуда не выйдет, пока не узнает, что опасность миновала. Но на следующий день соседка пригласила Сильвию и Селесту поиграть вечером в карты. «Это не званый вечер, – пояснила хозяйка, миссис Уайзерспун, по телефону. Просто соберутся несколько друзей, чтобы приятно провести время». Она просила миссис Кассельман передать приглашение Сильвии и выражала надежду, что та не откажется прийти. Один только намек на то, что Сильвия может отказаться, заставил «мисс Маргарет» разволноваться. Почему бы Сильвии отказываться? Она приняла за нее приглашение, а затем пошла уговаривать дочь пойти в гости ради Селесты и ради всей семьи, чтобы показать обществу, что несчастье не сломило ее.
Были еще причины, почему трудно было отклонить это приглашение. Миссис Вирджиния Уайзерспун была дочерью генерала, имя которого можно найти в каждой книги по истории. У нее был знаменитый на всю страну дом, но дом этот грозил развалиться, а муж ее редко бывал достаточно трезв, чтобы понять это. Кроме дома у нее были три цветущие дочери, которых она старалась сбыть с рук, прежде чем потолок в ее гостиной обрушится на головы их поклонников. Настойчивость, с которой она охотилась за женихами для своих дочерей, постоянно служила предметом шуток и насмешек в штате. Естественно, что все эти обстоятельства заставляли Кассельменов относиться к разорившейся семье с подчеркнутым уважением. Можно пренебрегать богатыми янки и отворачиваться от новоиспеченных богачей, но нельзя отказывать во внимании семье, живущей в таком старом разваливающемся доме, где в ящиках из кедрового дерева хранятся вылинявшие мундиры и зазубренные в боях сабли.
Долли Уайзерспун, старшая дочь, была прежде соперницей Сильвии по красоте, но пальма первенства все же досталась последней, как самой прекрасной девушке в округе Кассельмен. Поэтому Долли и ее мать ненавидели Сильвию. Тем не менее они приглашали ее и ее сестру на свои карточные вечера, и Сильвия с сестрой должны были принимать приглашение. Этого требовали светские условности. Сильвия и Селеста были самыми красивыми из гостей миссис Уайзерспун. Селеста, похудевшая и побледневшая от горя, казалась особенно девственной и нежной в своем белом шифоновом платье. А Сильвия, величественно прекрасная, в платье изумрудного цвета напоминала сирену.
Сильвии сразу показалось, что хозяйка несколько взволнованна и старается скрыть это под маской особенной любезности. Вслед за тем к ней подошла миссис Армистэд, и Сильвия уже без всяких колебаний решила, что эта дама очень возбуждена, хотя также старается ничем не обнаружить этого. Пока она раздумывала над этой загадкой, ее увлекли в гостиную. Хозяйка объяснила ей, что уже поздно, все гости давно собрались и если Сильвия не имеет ничего против, то игра начнется сейчас же. Селесту усадили за другим столиком возле калеки-брата мистера Уайзерспуна и старого глухого мистера Пэркинса. А Сильвии хозяйка указала на другой столик в углу. Сильвия направилась туда, и Долли Уайзерспун со своей сестрой Эммой сердечно поздоровались с ней. Затем они отошли в сторону, чтобы дать ей пройти к своему месту, и Сильвия, подняв глаза, увидела перед собой Франка Ширли.
Лицо Франка густо покраснело, а Сильвия в первую минуту почувствовала такой панический ужас, что готова была повернуться и убежать. Но она вспомнила, что окружена врагами, что все эти люди, затаив от любопытства дыхание, следят за каждым ее движением, стараясь не упустить малейшего признака растерянности на ее лице или в движениях. А на следующее утро, конечно, весь город будет злорадствовать по поводу этой сцены.
– Добрый вечер, Джулия, – сказала Сильвия, обращаясь к младшей дочери миссис Уайзерспун, сидевшей тут же за столиком. – Добрый вечер, Малькольм! – обратилась она к Малькольму Мак-Каллум, своему старому поклоннику, который тотчас же вскочил и пододвинул ей стул.
– Как вы поживаете, Франк? – спросила Сильвия. Франк опустил глаза к полу.
– Благодарю вас, – пробормотал он, и его глухой, несколько дрожащий голос, полный невыразимой муки, прозвучал в ее ушах, как похоронный звон.
Кровь волной прилила к ее лицу. Ужасно! Ужасно!
На мгновение она тоже опустила глаза и почувствовала себя побежденной. Но комната была полна людей; Миссис Армистэд и все дамы из семьи Уайзерспун впивались в нее глазами. Она заставила себя улыбнуться и спросила: Во что же мы играем?
– Разве вы не знаете? сказала Джулия. – В прогрессивный вист.
– Благодарю вас, – сказала Сильвия. – Когда же мы начнем?
Она посмотрела кругом, избегая, однако, глядеть на Франка Ширли, но все же заметила, что он сильно постарел за эти четыре года.
Никто не произнес ни слова, не сделал ни одного движения. Неужели все в этой комнате сговорились погубить ее?
– Мне казалось, что мы опоздали, – сказала она в полном отчаянии и, сделав над собой усилие, обратилась к Джулии:
– Кому же снимать?
– Снимите, пожалуйста, – ответила та, но не сделала ни малейшего движения, чтобы передать ей карты. Всем своим видом она, казалось, говорила: вы можете снимать хоть до утра, но не лишите меня удовольствия наблюдать за вами.
Сильвия сделала еще более решительно усилие. Что ж, если начало игры будет затягиваться без конца, чтобы все могли наблюдать за ней, то она найдет какой-нибудь другой выход.
– Я никак не ожидала увидеть вас здесь, Франк Ширли, – сказала она.
– Да, – ответил он еле слышным голосом, не поднимая глаз.
– Вы, кажется, были на Западе?
– Да, – все так же тихо ответил он.
Сильвия решилась наконец поднять глаза до уровня его галстука и увидела там, на прежнем месте, старую булавку, которую она когда-то подняла на улице и в шутку подарила ему. Он носил ее все эти годы! Он не выбросил ее даже тогда, когда она сама бросила его!
Ее снова охватило волнение. Она, как в тумане, видела перед собой лица своих мучителей, с напряженным любопытством смотревших на нее.
– Что ж, – спросила она, – будем мы играть или нет?
– Мы ждем, чтобы вы сняли, – любезно ответила Джулия.
Бешенство, овладевшее Сильвией, помогло ей вернуть самообладание. Она сняла, и судьба оказалась к ней милостива, освободив ее и Франка от обязанностей сдавать.
Но тут возникли новые затруднения. Джулия сдала карты, но Франк Ширли, казалось, забыл о том, что их нужно взять в руки, и, когда дама, сидевшая напротив, напомнила ему об этом с преувеличенной любезностью, он почувствовал, что физически не способен собрать их со стола. Когда же ему после долгих усилий удалось зажать их в руке, то он оказался не в состоянии рассортировать их по мастям. Дама снова окликнула его, упрекая в невнимательности. Лицо Франка из пунцового сделалось темно-багровым. Игра продолжалась, но Франк безнадежно путал ходы и вызывал все более ядовитые замечания своего партнера.
Ясно было, что так продолжаться не может. Сильвия была на высоте положения, но Франк нет. Он был чересчур прямолинеен для этого и слишком мало был искушен в светских играх. Надо было предпринять что-нибудь.
– Разве на Западе не играют в вист, мистер Ширли? – с благосклонной улыбкой обратилась к нему Джулия.
Сильвия положила карты на стол.
– Вы, конечно, понимаете, дорогая, что мистер Ширли слишком взволнован, чтобы думать сейчас о картах, – мягко сказала она.
– О! – воскликнула Джулия, пораженная ее дерзостью. – L'audace, toujours L'audace![2] – вот ее лозунг.
– Видите ли, – продолжала Сильвия, – мы не виделись с Франком целых три года. А когда двое людей, любивших друг друга так, как мы, встречаются после долгой разлуки, то, естественно, они бывают взволнованы и не могут сосредоточить свое внимание на карточной игре.
Джулия просто онемела от изумления. Сильвия, как бы случайно, окинула взглядом комнату и увидела, что хозяйка и ее дочери наблюдают за этой сценой, а у противоположной стены стоял ее главный мучитель – миссис Армистэд, подготовившая эту пытку.
– Миссис Армистэд, – окликнула ее Сильвия, – вы разве не играете сегодня?
Все в комнате слышали этот вопрос и насторожились. Воцарилась мертвая тишина.
– Я веду счет, – ответила миссис Армистэд.
– Но разве для этого нужны четверо, – возразила Сильвия, поглядев на хозяйку и двух ее дочерей.
– Долли и Эмма не играют, потому что двое из наших гостей не приехали, – ответила миссис Уайзерспун.
– Вот и прекрасно! – воскликнула Сильвия. – Это всех устраивает. Пусть они сядут вместо меня и мистера Ширли. Ведь вы понимаете, мы не виделись три или четыре года и, разумеется, не можем интересоваться сейчас игрой в карты.
Все присутствующие в комнате ахнули от изумления. Послышались легкие истерические возгласы, прерванные кем-то, кто не был, по-видимому, твердо уверен, шутка это или скандал.
– Как… Сильвия! – пролепетала совсем ошеломленная миссис Уайзерспун.
Сильвия поняла, что теперь она овладела положением. Она испытывала такое же упоение торжеством, как в прежние дни, когда неизменно выходила победительницей.
– Нам так много надо рассказать друг другу, – сказала она самым любезным голосом. – Пусть Долли и Эмма займут наши места, а мы посидим на диване в другой комнате и поболтаем. – Вы же с миссис Армистэд составите нам компанию, не правда ли?
– Как?.. Что?.. – воскликнула хозяйка вне себя от изумления.
– Я уверена, что вам обеим будет интересно послушать, о чем мы будем говорить друг с другом. Потом вы можете рассказать это всем остальным. Уверяю вас, что это будет гораздо лучше, чем откладывать дальше карточную игру.
Бросив этот косвенный намек, Сильвия встала. Она постояла минуту, чтобы убедиться, способен ли ее бывший жених последовать за ней, и проводила его через лабиринт карточных столов к двери. На пороге она остановилась, дожидаясь миссис Армистэд и миссис Уайзерспун, которых она буквально заставила выйти вместе с собой.
Хотите знать подробности того наказания, которое Сильвия придумала для двух заговорщиц? Она подвела их к дивану и заставила Франка придвинуть для них кресла. Когда они уселись, она начала разговаривать с Франком. Она говорила с ним так просто, искренне и трогательно, как будто в комнате не было никого, кроме них. Она начала расспрашивать его о том, что ему пришлось пережить за эти годы, но, убедившись, что он все еще не способен говорить, она рассказала ему о себе, о своей девочке и обо всем, что она видела в Европе. Заметив, что обе старухи начинают обнаруживать беспокойство и хотят встать, она ласково, но твердо удержала их на месте, точно пригвоздив к креслам.
– Видите ли, – сказала она им. – Нам с мистером Ширли никак нельзя разговаривать наедине. Вы нарочно поставили меня в очень неловкое положение, и мои родители никогда не простили бы вам этого.
– Вы ошибаетесь, Сильвия, – воскликнула миссис Уайзерспун. – Мистер Ширли очень редко бывает где-нибудь, и он сказал, что вряд ли придет сегодня.
– Я готова принять ваше объяснение, – вежливо ответила Сильвия, – но, раз это произошло, вы должны помочь мне выйти из затруднительного положения.
Как ни старалась миссис Уайзерспун доказать, что она должна идти к гостям и вести счет, Сильвия и слышать ничего не хотела.
– Поверьте мне, что ваши гости очень довольны, что вы находитесь тут и сможете потом рассказать, как мы с Франком вели себя.
И пока миссис Уайзерспун старалась прийти в себя, Сильвия обратилась к другой заговорщице.
– Теперь мы займемся евгеникой, – сказала она и добавила, обращаясь к Франку: – Миссис Армистэд сказала мне, что вы хотите принять участие в наших занятиях.
– Я не понимаю, – пробормотал, окончательно растерявшись, Франк.
– Сейчас объясню вам, – ответила Сильвия. – Нельзя сказать, чтобы эта шутка носила очень изысканный характер. Миссис Армистэд хотела сказать этим, что она верит в ту позорную историю, которую распространили про вас, когда мы были помолвлены. Мои родители воспользовались ею, чтобы заставить меня взять назад мое слово. Я рада, что теперь мне представился случай попросить у вас прощения за то, что я могла поверить этому. Я произвела расследование и знаю теперь, что все это была ложь. Я уверена, что миссис Армистэд также с радостью извинится перед вами за то, что поверила этим басням.
– Я никогда не говорила, что верю этому! – воскликнула бывшая Салли Энн.
– Нет, конечно, миссис Армистэд. Вы слишком воспитаны, чтобы говорить это прямо. Вы только бросали намеки, из которых становилось ясно, что вы этому верите.
Сильвия замолчала, чтобы дать почувствовать этой злой женщине всю язвительность своего замечания, но, прежде чем миссис Армистэд сумела подыскать ответ, она продолжала: – Когда вы будете рассказывать своим друзьям об этой сцене, то, пожалуйста, объясните им, что я не делала никаких намеков. Я прямо заявляю, что считаю ложью все рассказы, приписывающие мистеру Ширли такие позорные поступки, и мне стыдно, что я когда-либо могла поверить этому. Теперь все это в прошлом. Я замужем, и мы, вероятно, больше никогда не встретимся. Но эта маленькая беседа будет для нас утешением в будущем. Не правда ли, Франк?
Миссис Армистэд наконец овладела собой, и к ней отчасти вернулось ее боевое настроение. Она вдруг встала и произнесла, обращаясь к хозяйке:
– Вирджиния! Вы забываете своих гостей!
– Мне кажется, что вам не следует уходить, пока Франк не оправится окончательно, – сказала Сильвия. – Франк, вы не будете больше путать масти?
– Вирджиния! – властно приказала Салли Энн. – Идемте.
Миссис Уайзерспун поднялась, и Сильвия сделала то же самое.
– Мы не можем оставаться здесь одни, – сказала она. – Франк, предложите руку миссис Уайзерспун.
Сильвия мягко, но решительно взяла под руку миссис Армистэд, и они вместе двинулись в гостиную.
Долли и Эмма случайно уселись за разные столы, и пытка Франка и Сильвии кончилась. Весь остаток вечера Сильвия была весела, болтала и играла в карты, затем ужинала, сидя с Малькольмом Мак-Каллумом и слегка поддразнивая этого безутешного холостяка, как в прежние дни. Время от времени она бросала украдкой взгляд на Франка Ширли и видела, что он старается мужественно выдержать до конца это испытание. Но он держался вдали от нее, и она ни разу не встретилась с ним взглядом. Наконец гости стали расходиться, и Сильвия поблагодарила хозяйку за чрезвычайно приятный вечер. Она села в автомобиль вместе с Селестой и, крепко стиснув зубы, почти не отвечала на вопросы, которыми засыпала ее младшая сестра.
– О Сильвия, воображаю, как ужасно ты себя чувствовала! – восклицала Селеста. – У меня просто мурашки бегали по спине. Что ты говорила ему, сестренка? Знаешь, старый мистер Пэркинс все время наклонялся ко мне и спрашивал, – что случилось. Не могла же я кричать ему в ухо, что все прекратили игру, чтобы послушать, о чем ты разговариваешь с Франком Ширли.
Дома их, по обыкновению, дожидалась тетя Варина, которая вспоминала свою молодость, слушая рассказы своих племянниц о вечерах. Ей нужно было знать все подробности: как кто был одет и что говорил. Но Сильвия предоставила сестре рассказывать об этом, а сама убежала в свою комнату, заперлась на ключ, бросилась на постель и залилась слезами.
Через полчаса пришла наверх Селеста. Увидев, что дверь, соединяющая ее комнату с комнатой Сильвии, не заперта, она тихонько приоткрыла ее и остановилась, прислушиваясь. Затем, подойдя к кровати, она обняла сестру и прошептала:
– Что делать, дорогая сестренка! Я знаю, как это тяжело. Всем женщинам приходится страдать.
Примечания
1
Noblesse oblige (англ.) – положение обязывает.
(обратно)2
L'audace, toujours L'audace (франц.) – Дерзость, всегда дерзость!
(обратно)



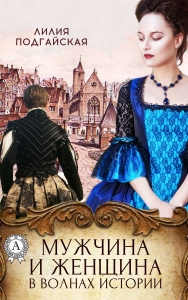
Комментарии к книге «Замужество Сильвии», Эптон Синклер
Всего 0 комментариев